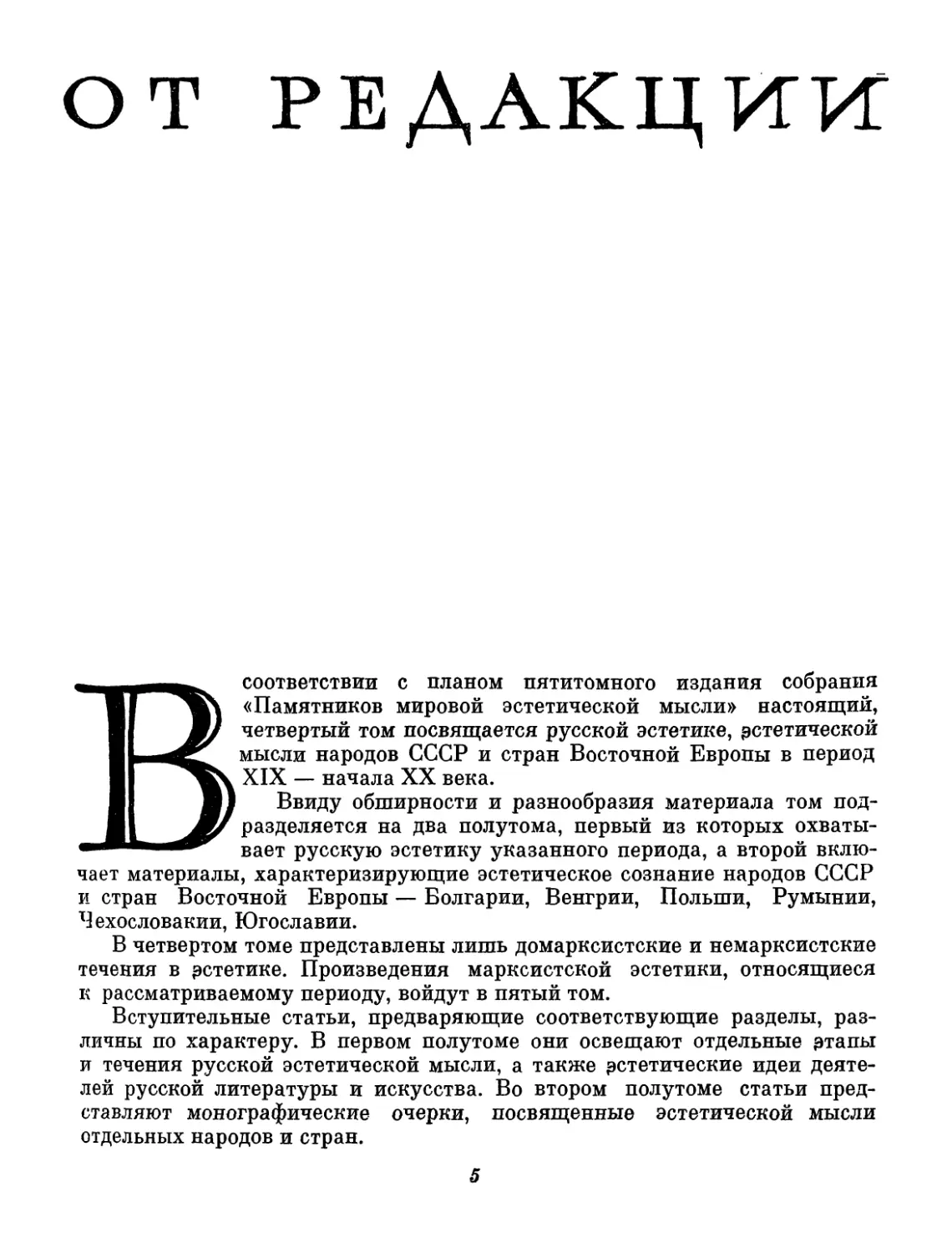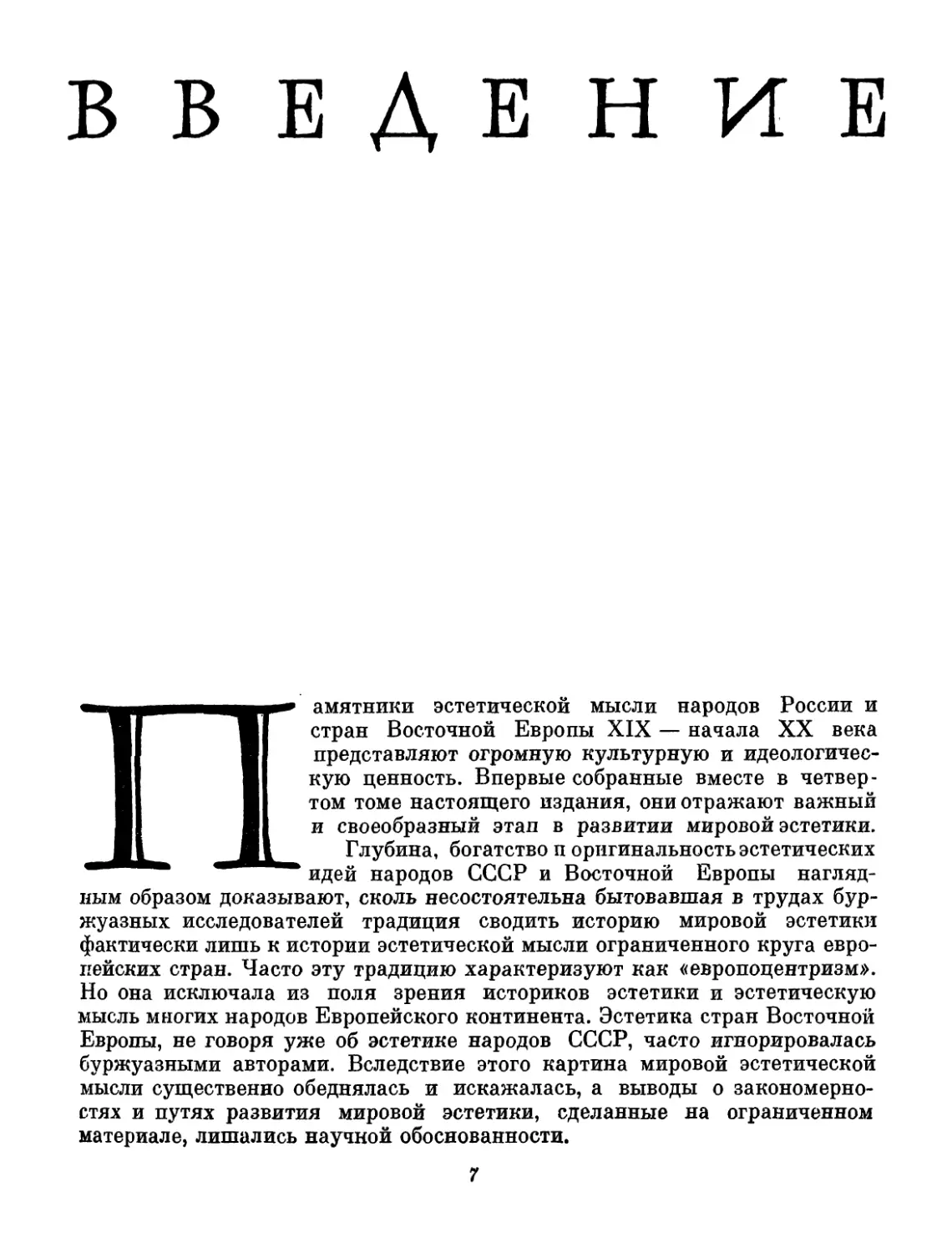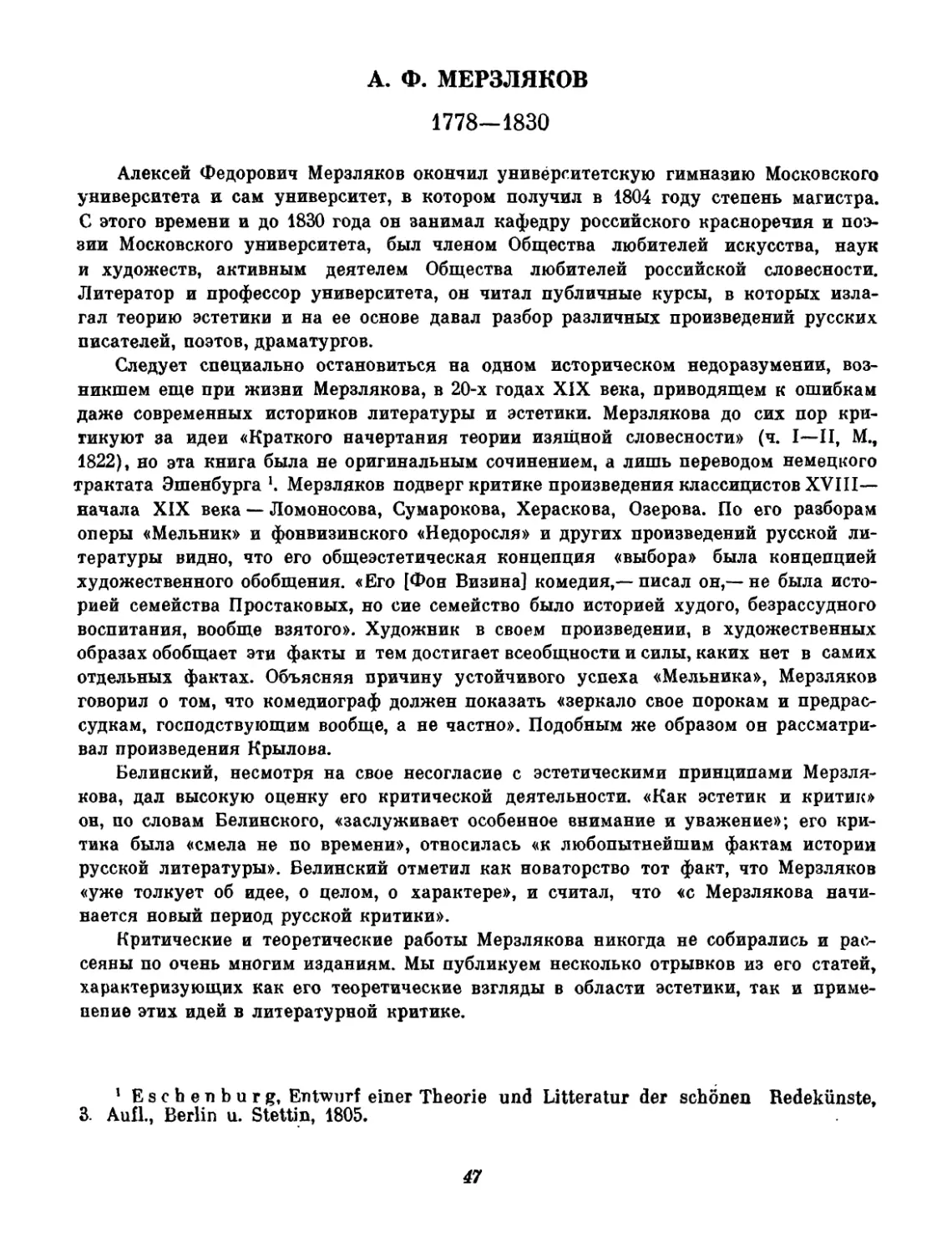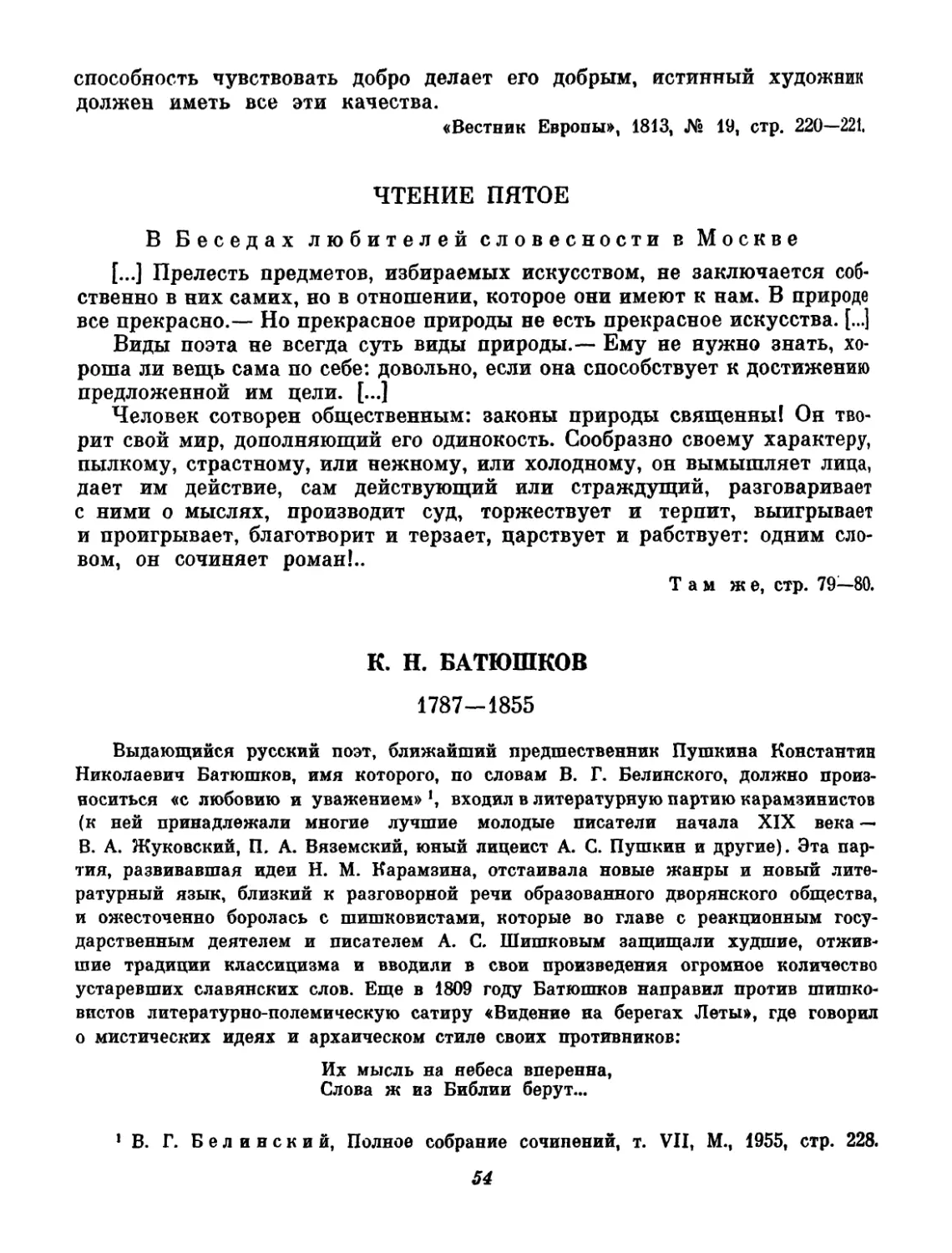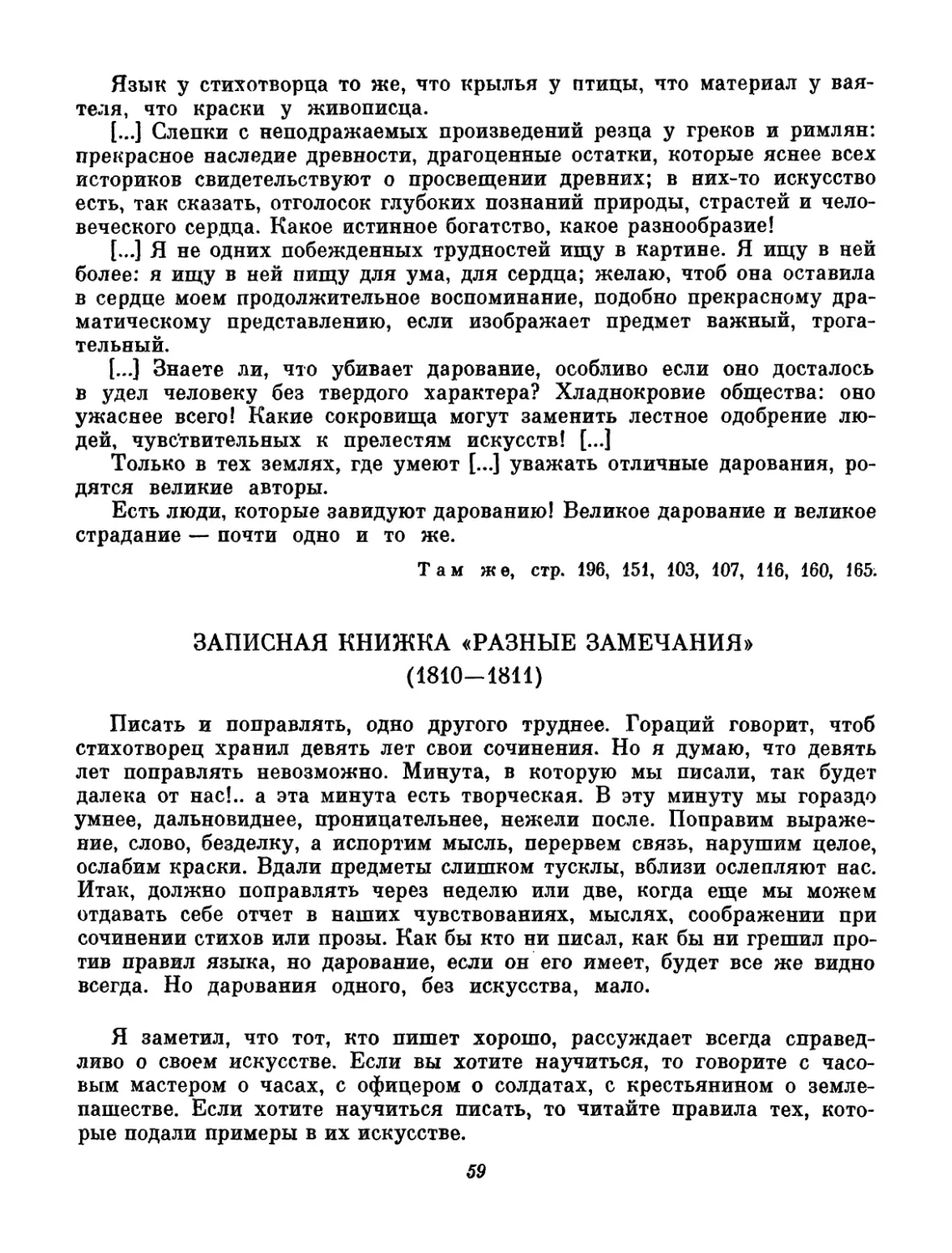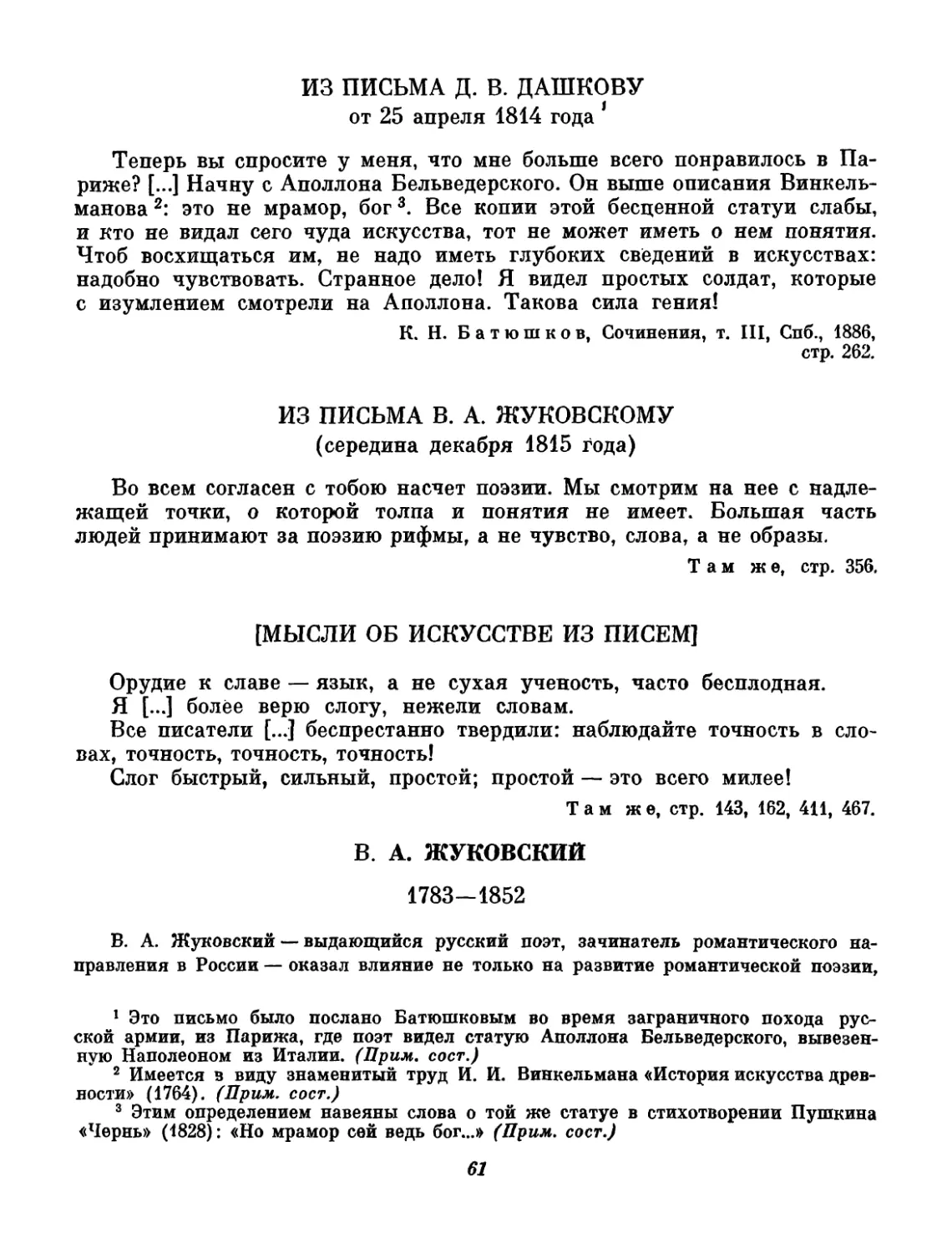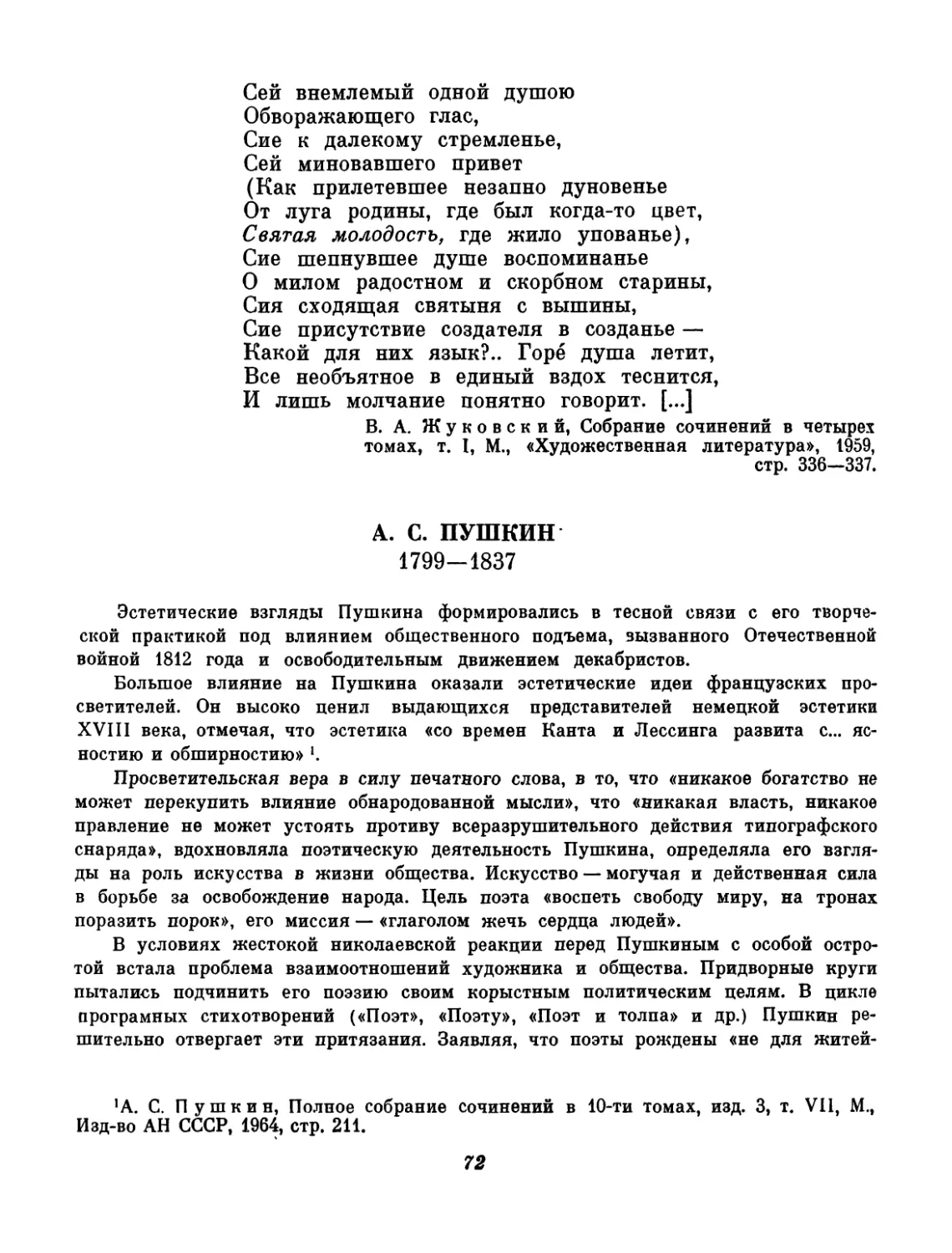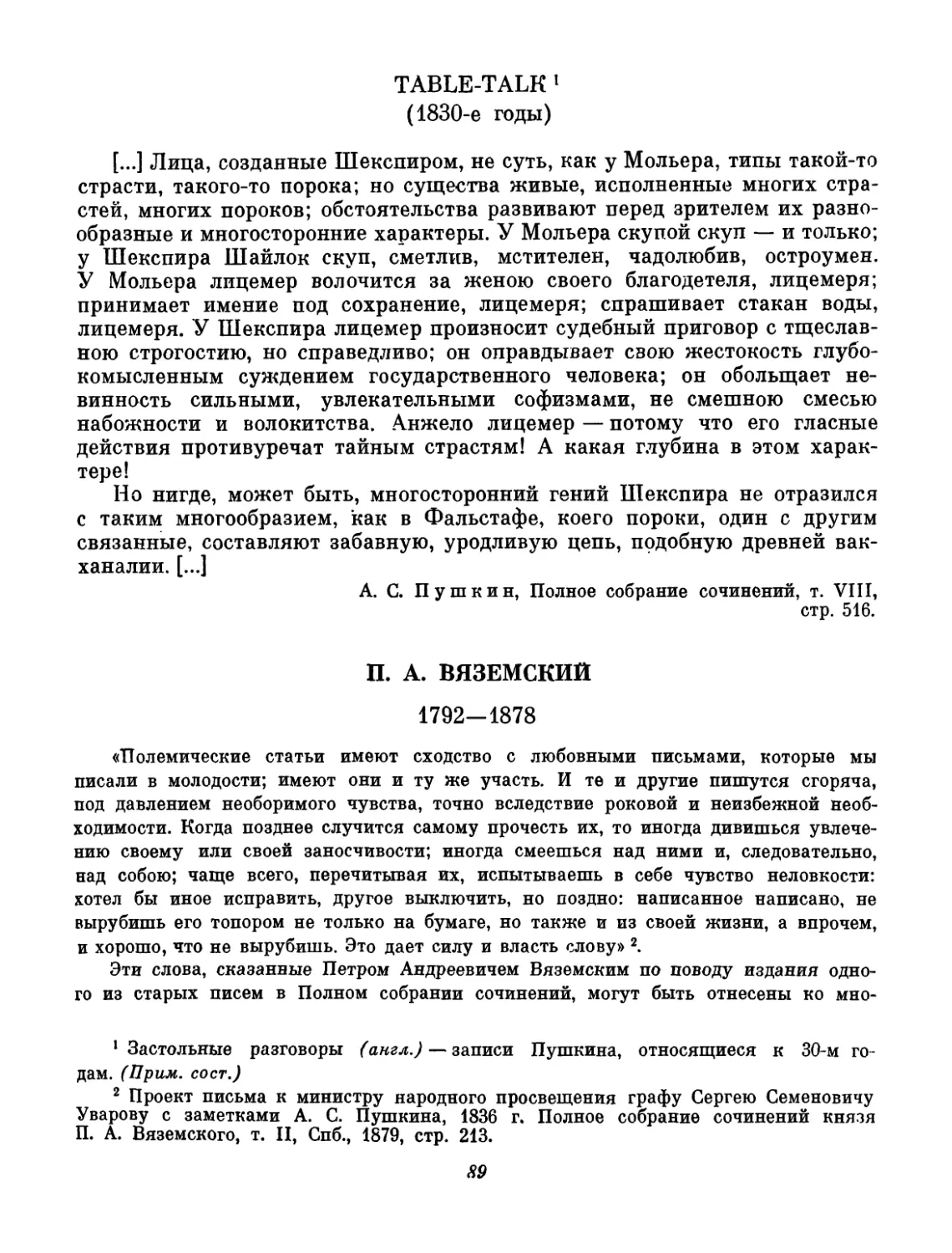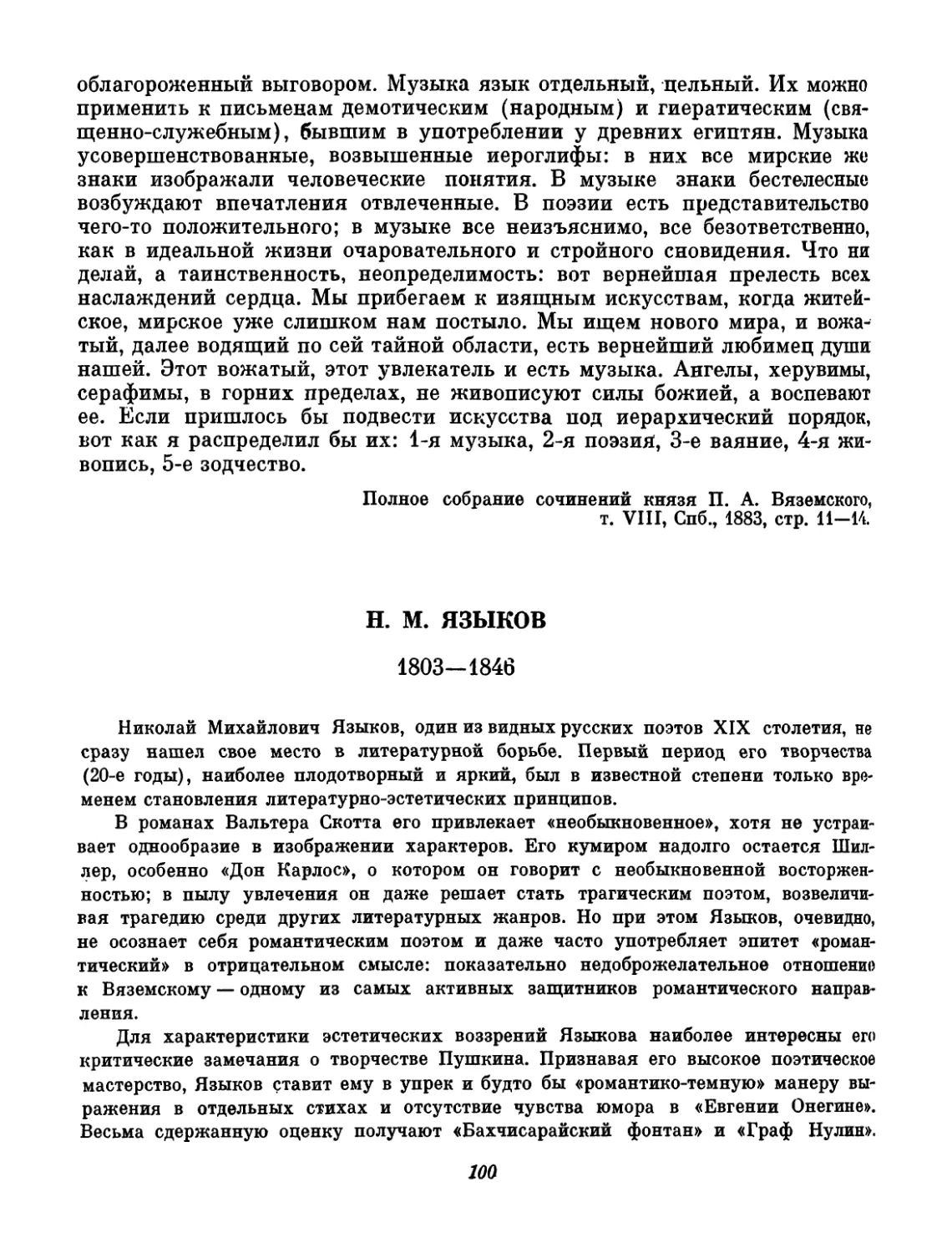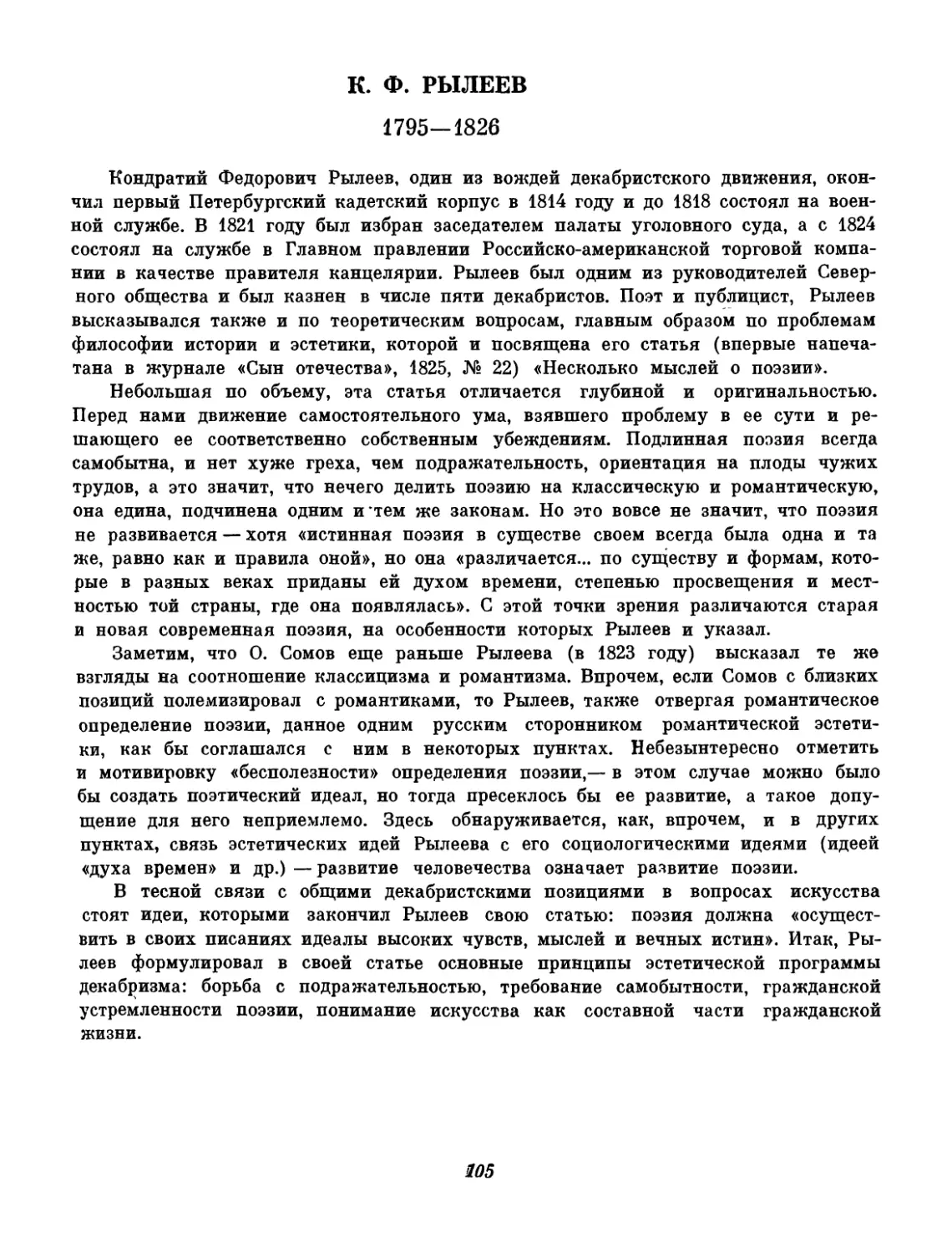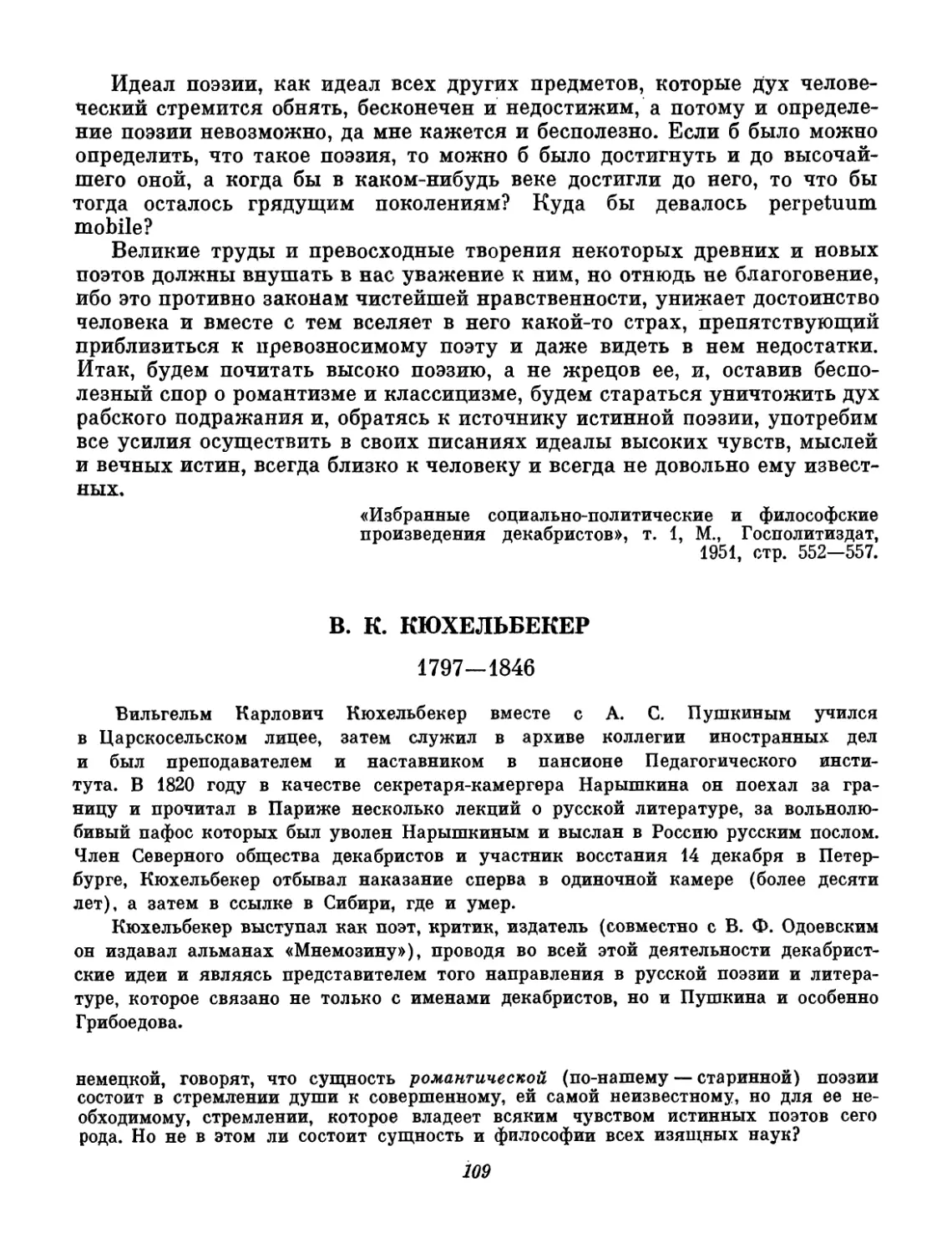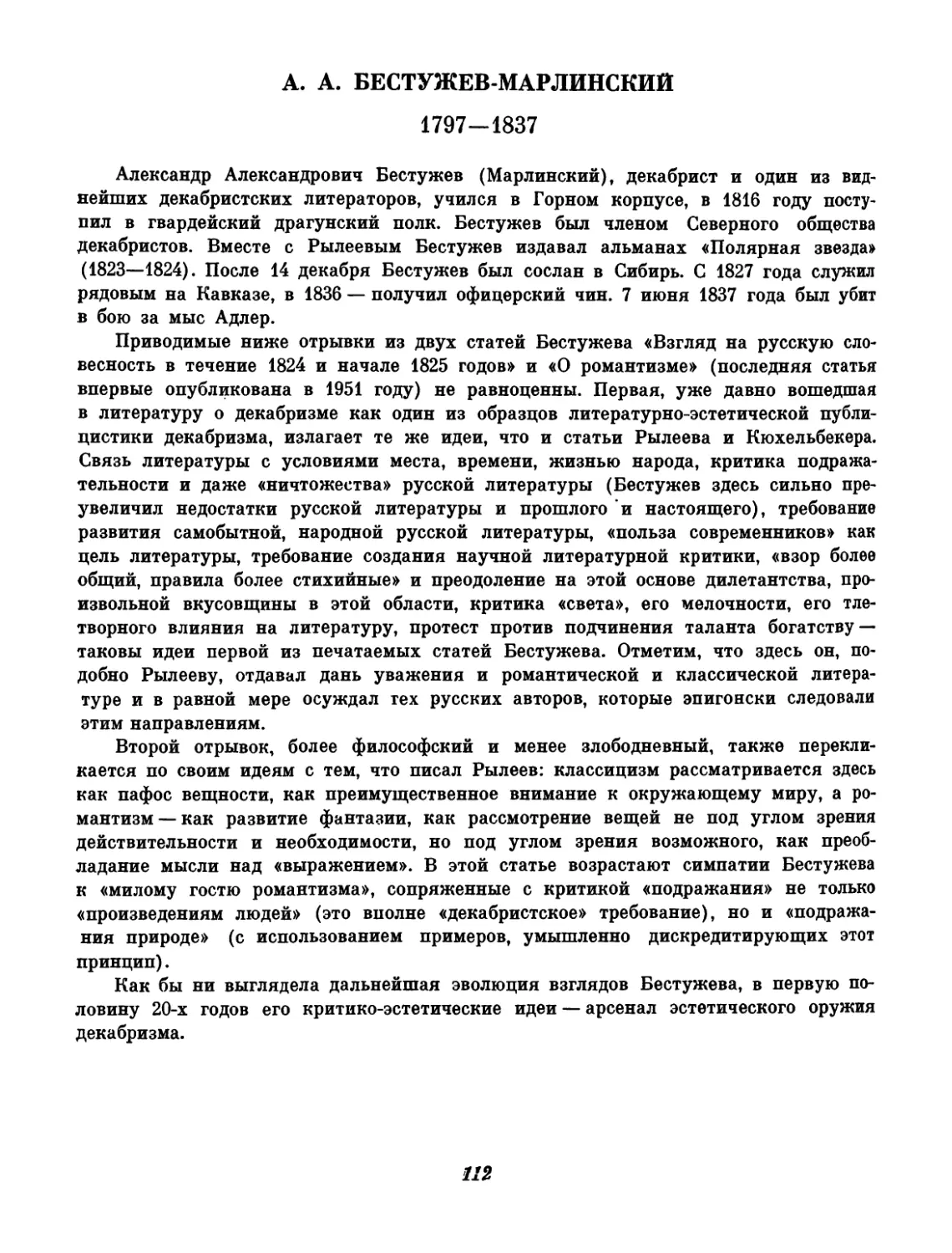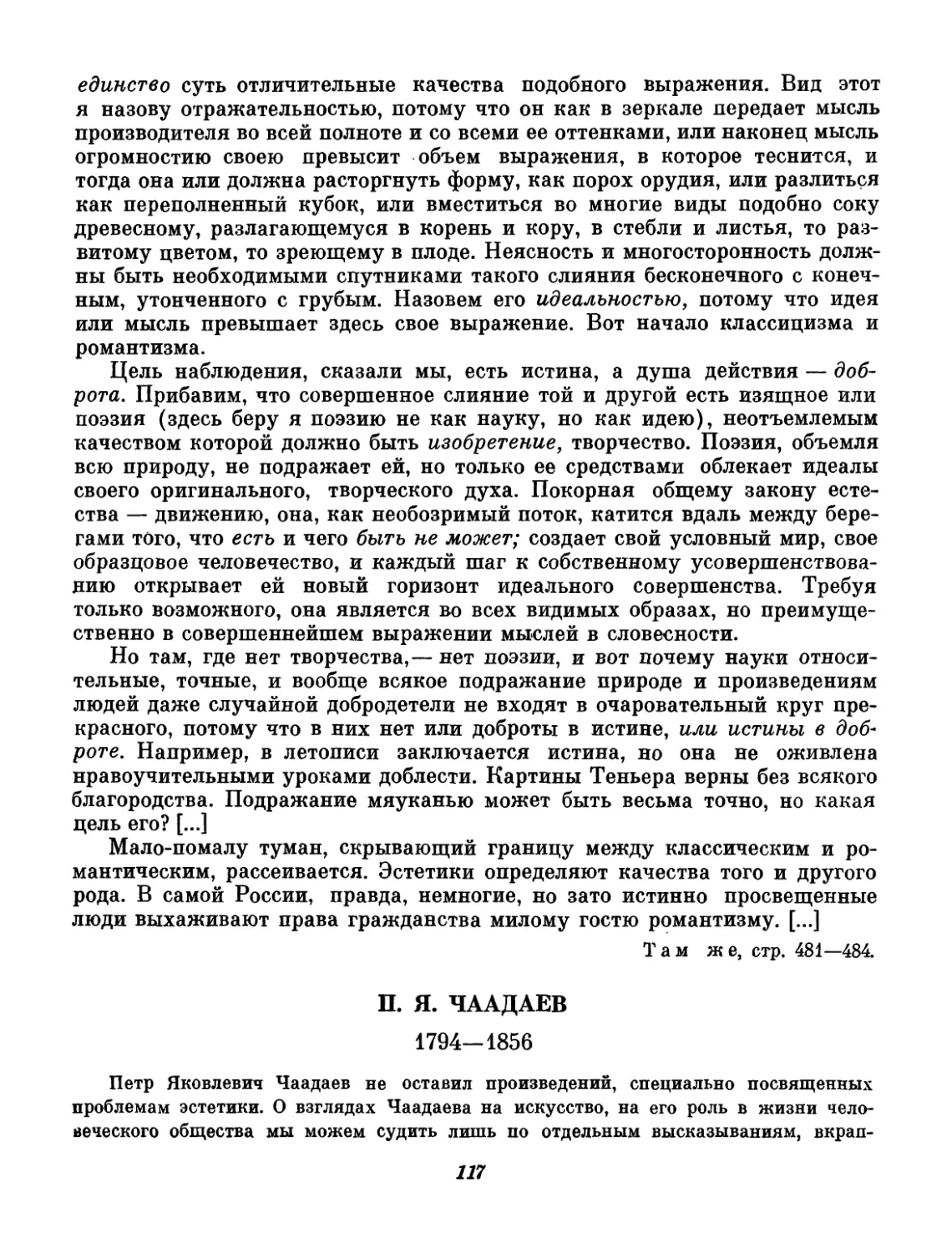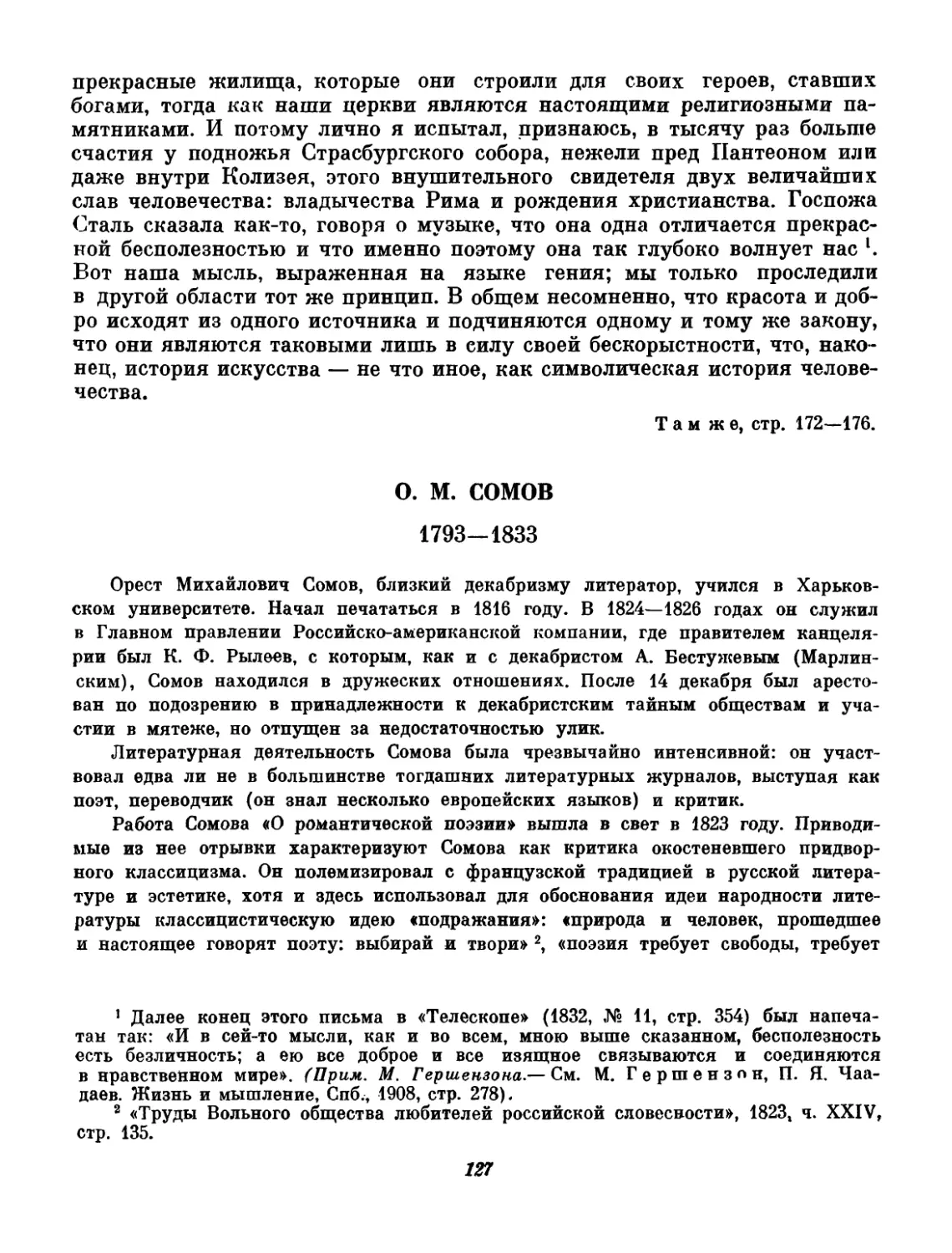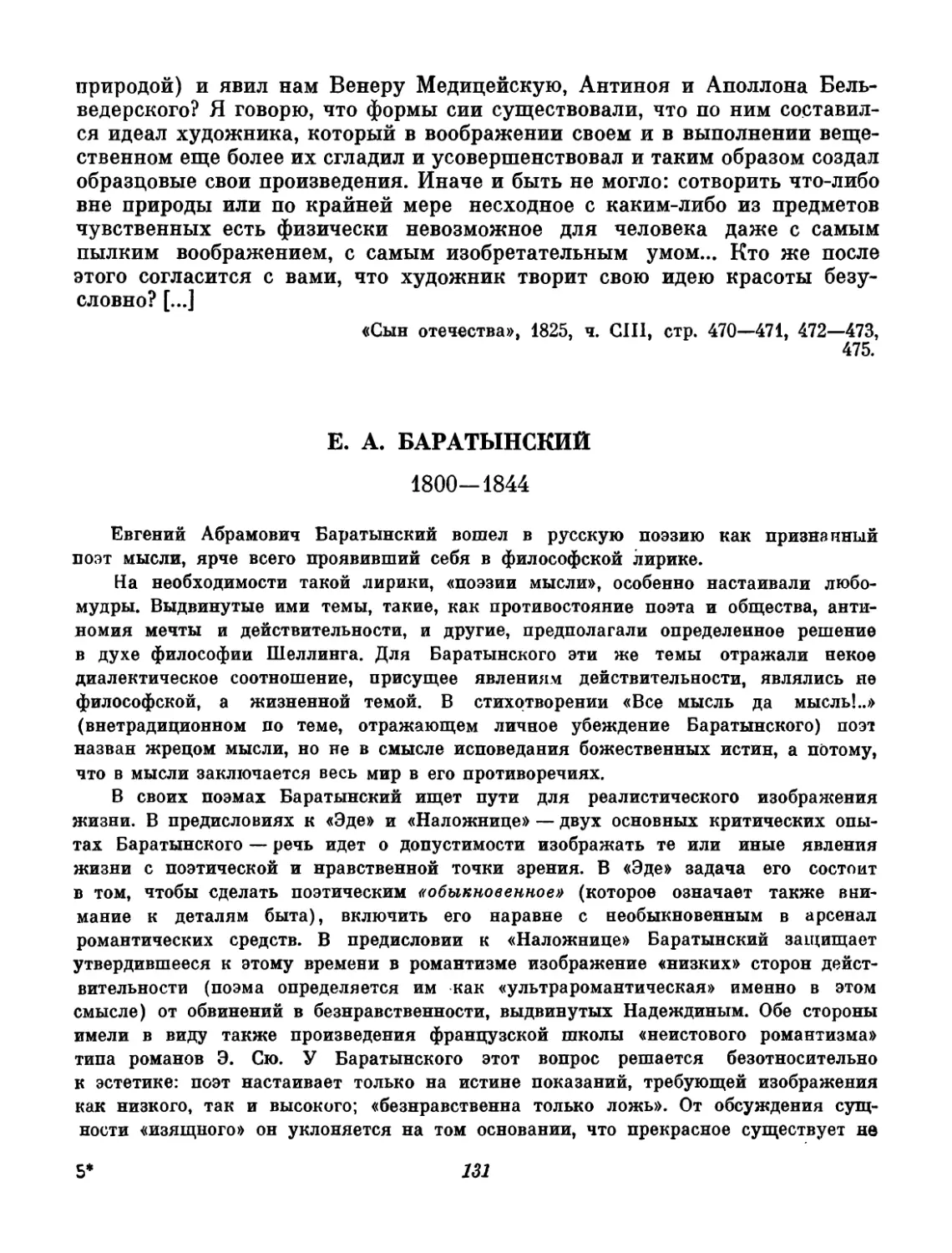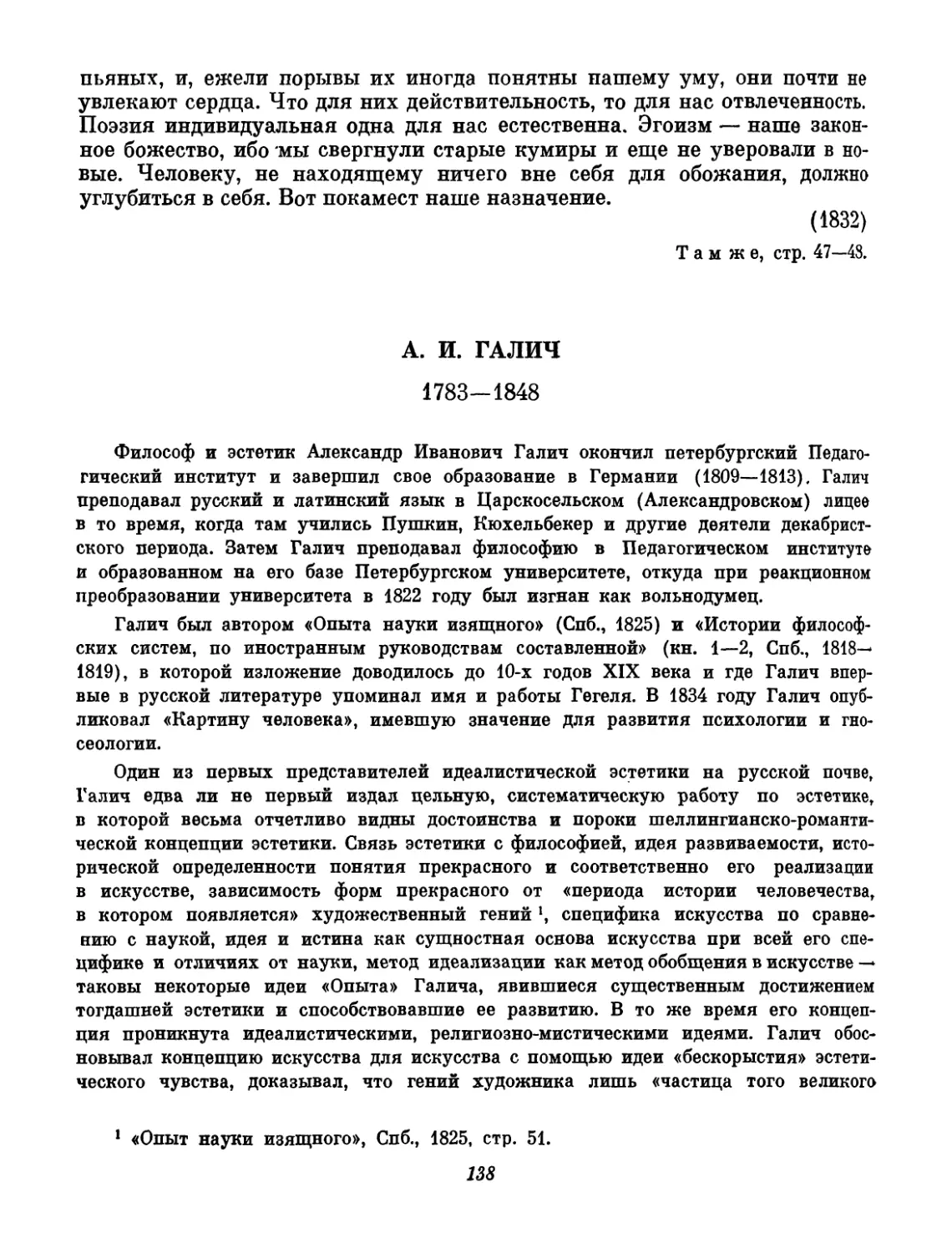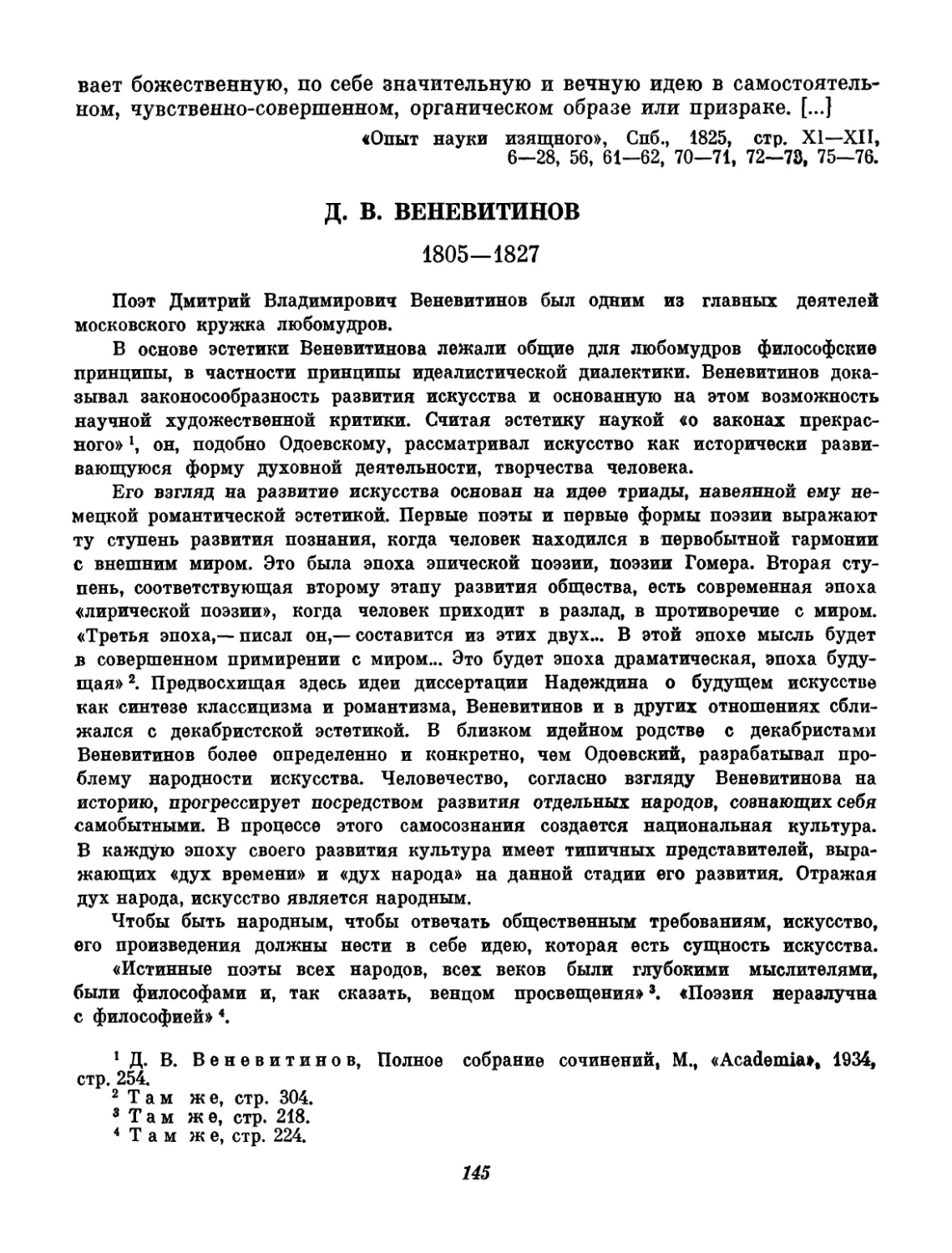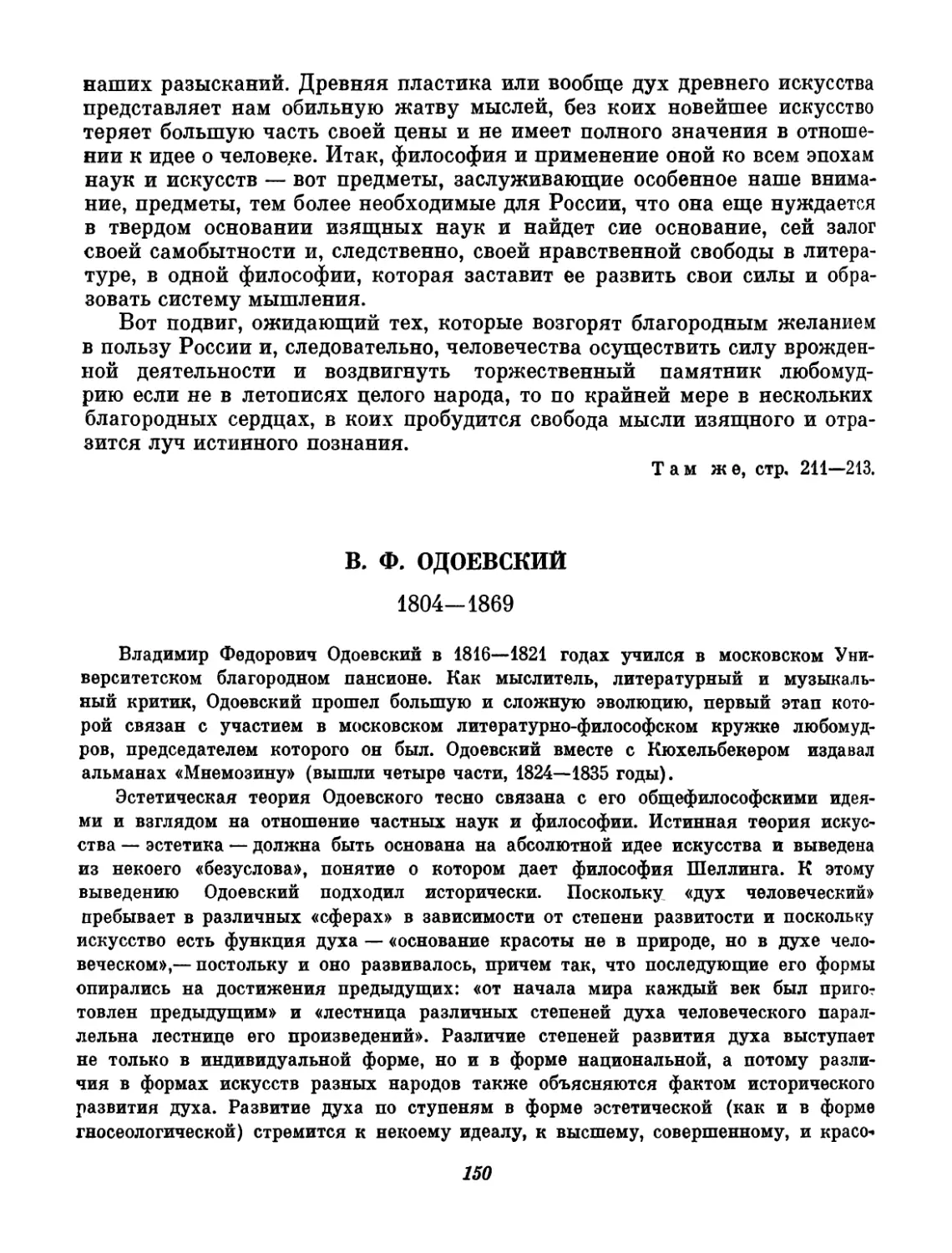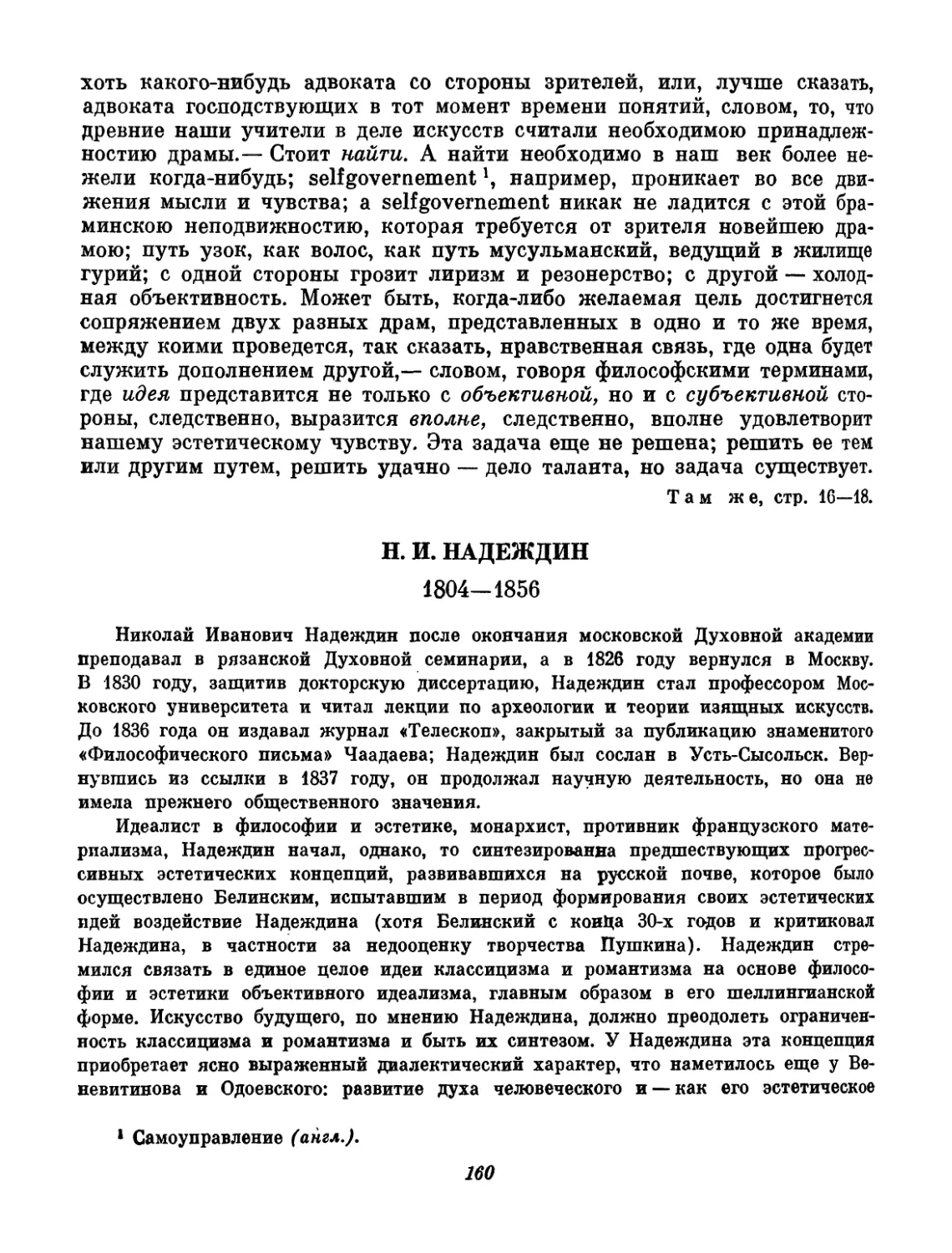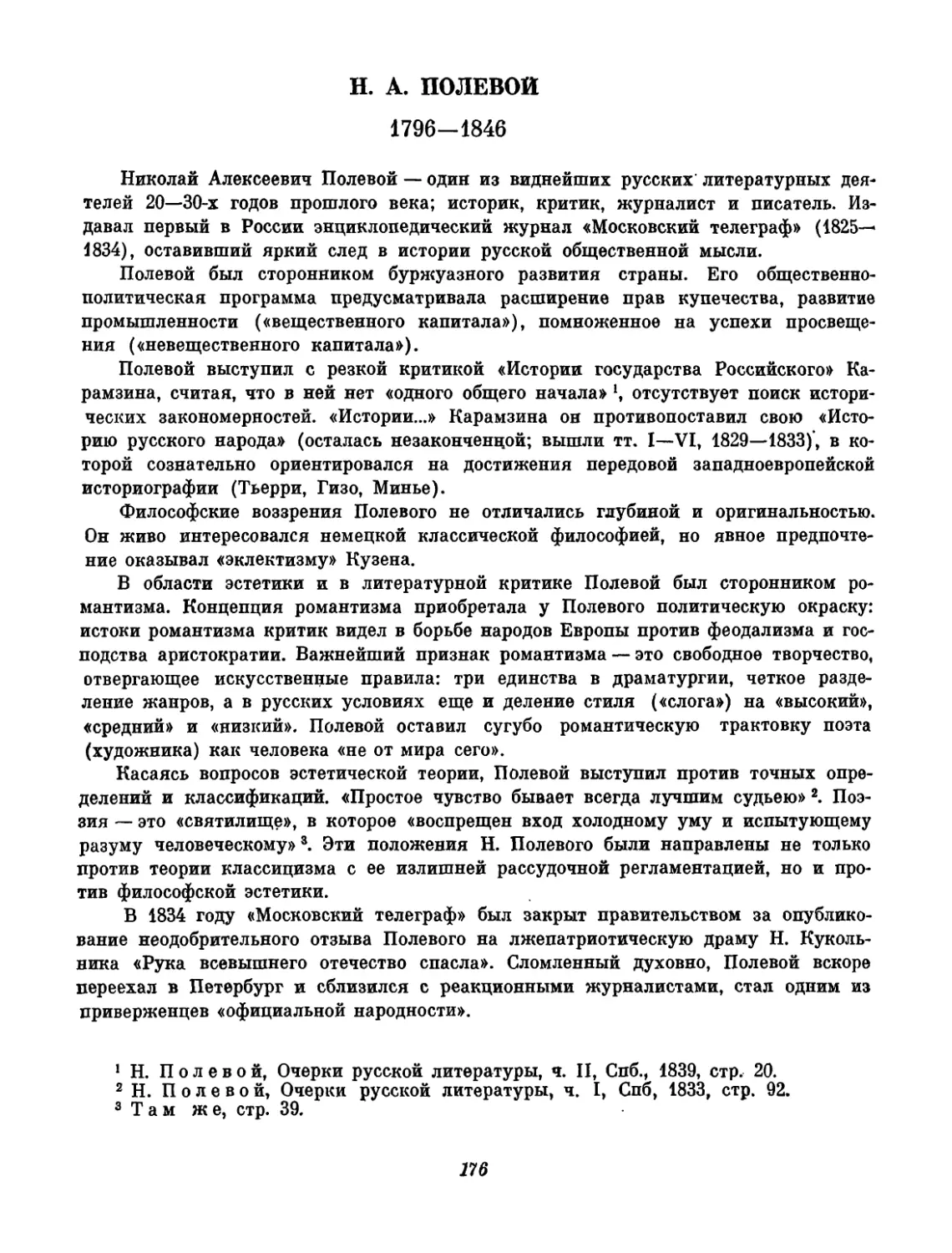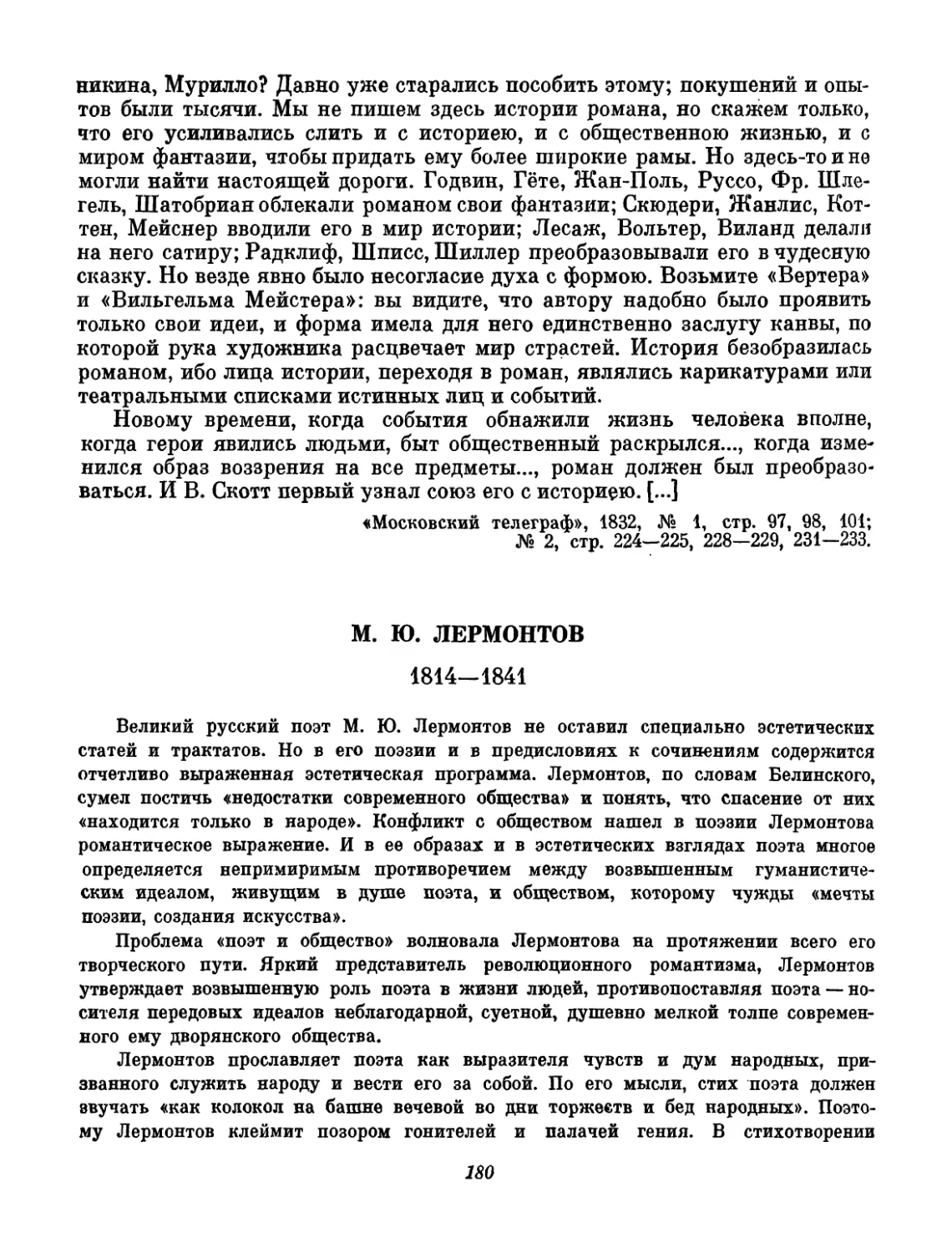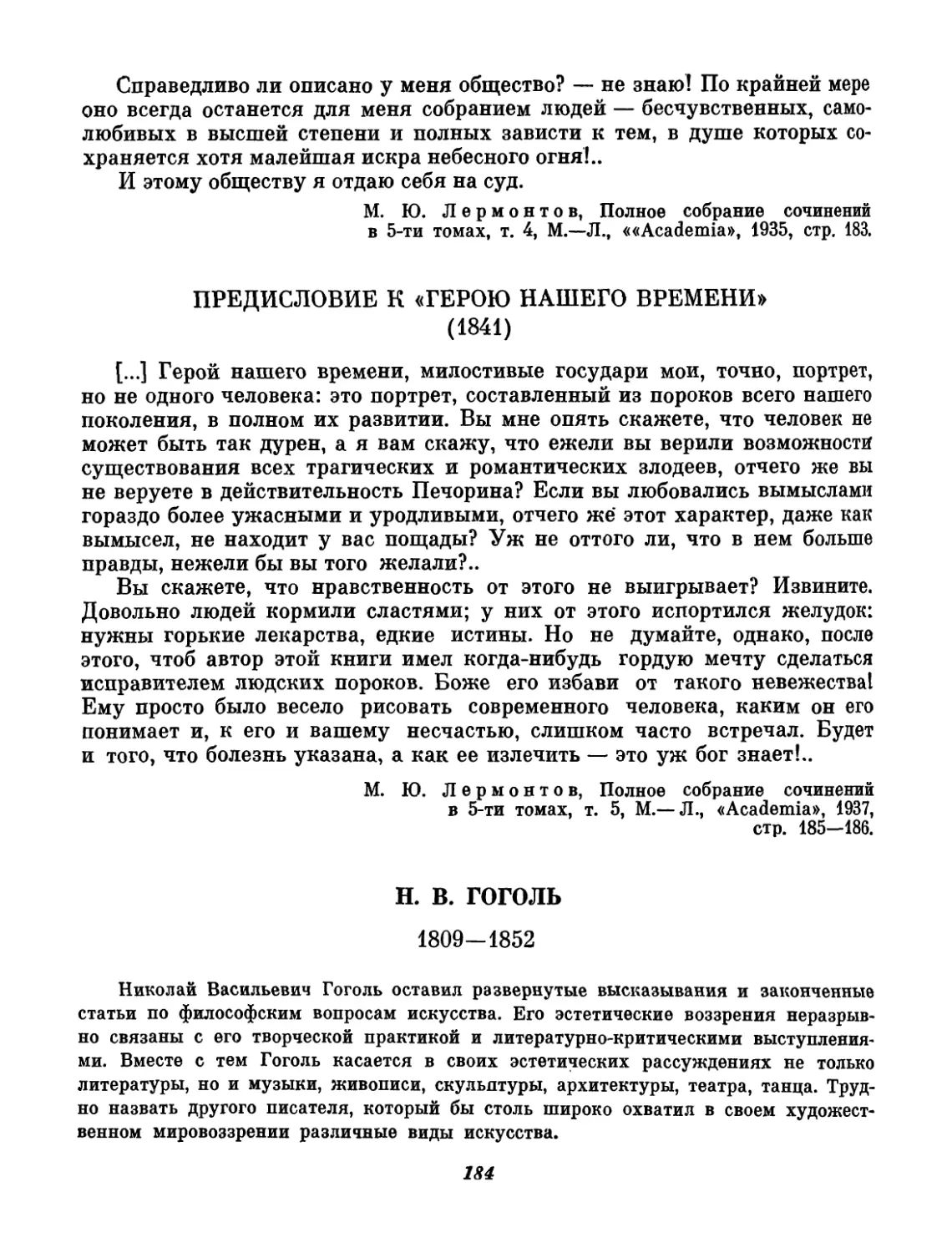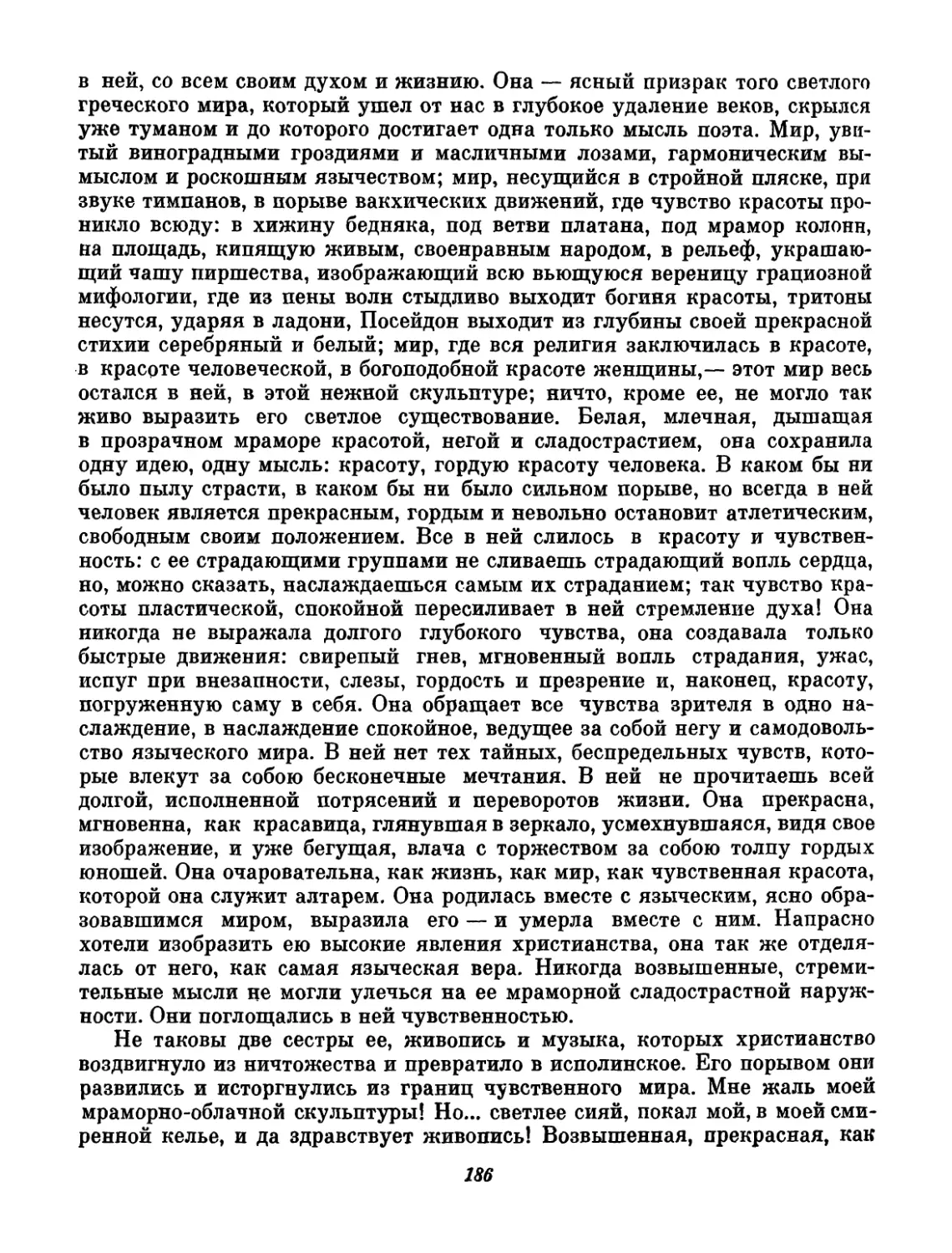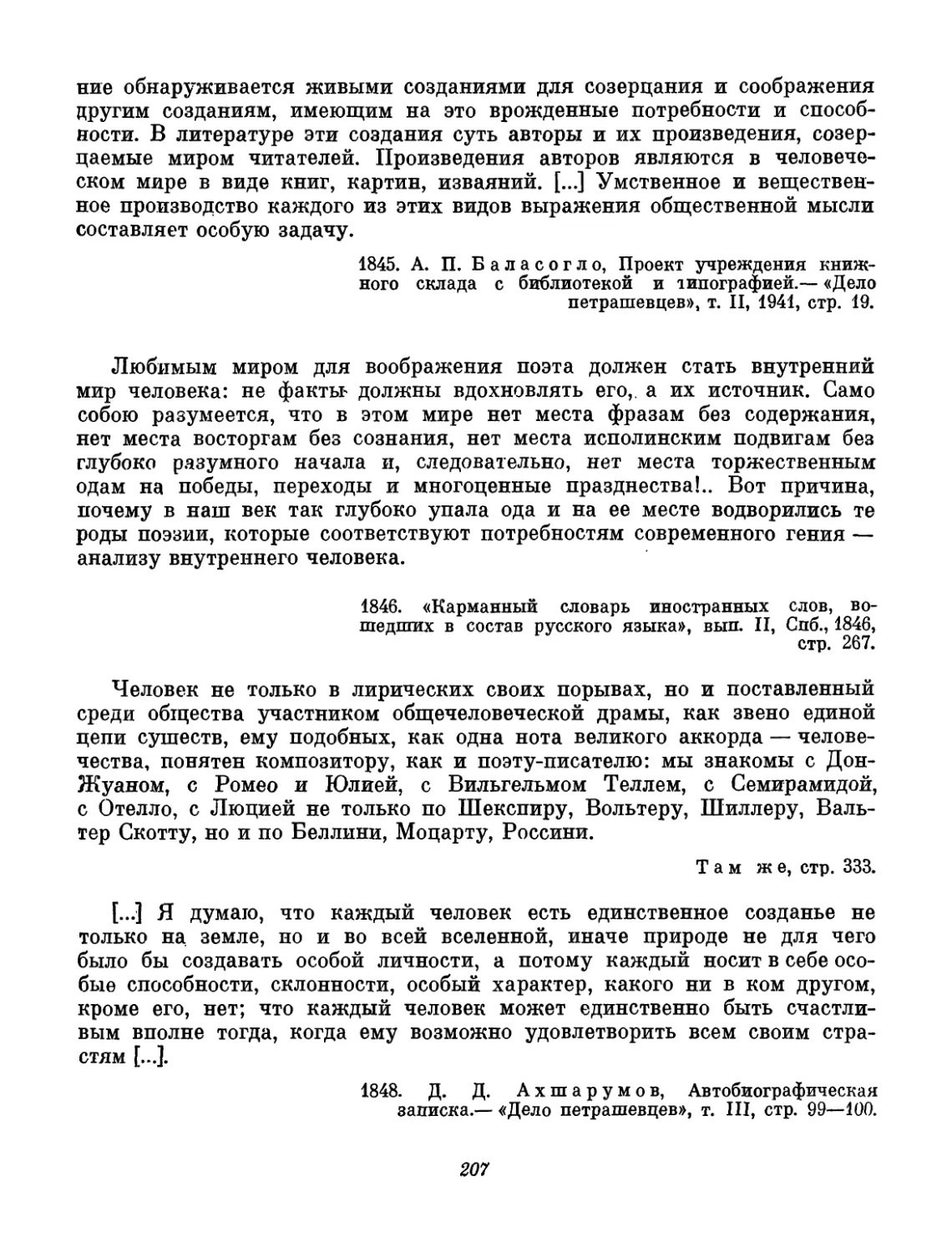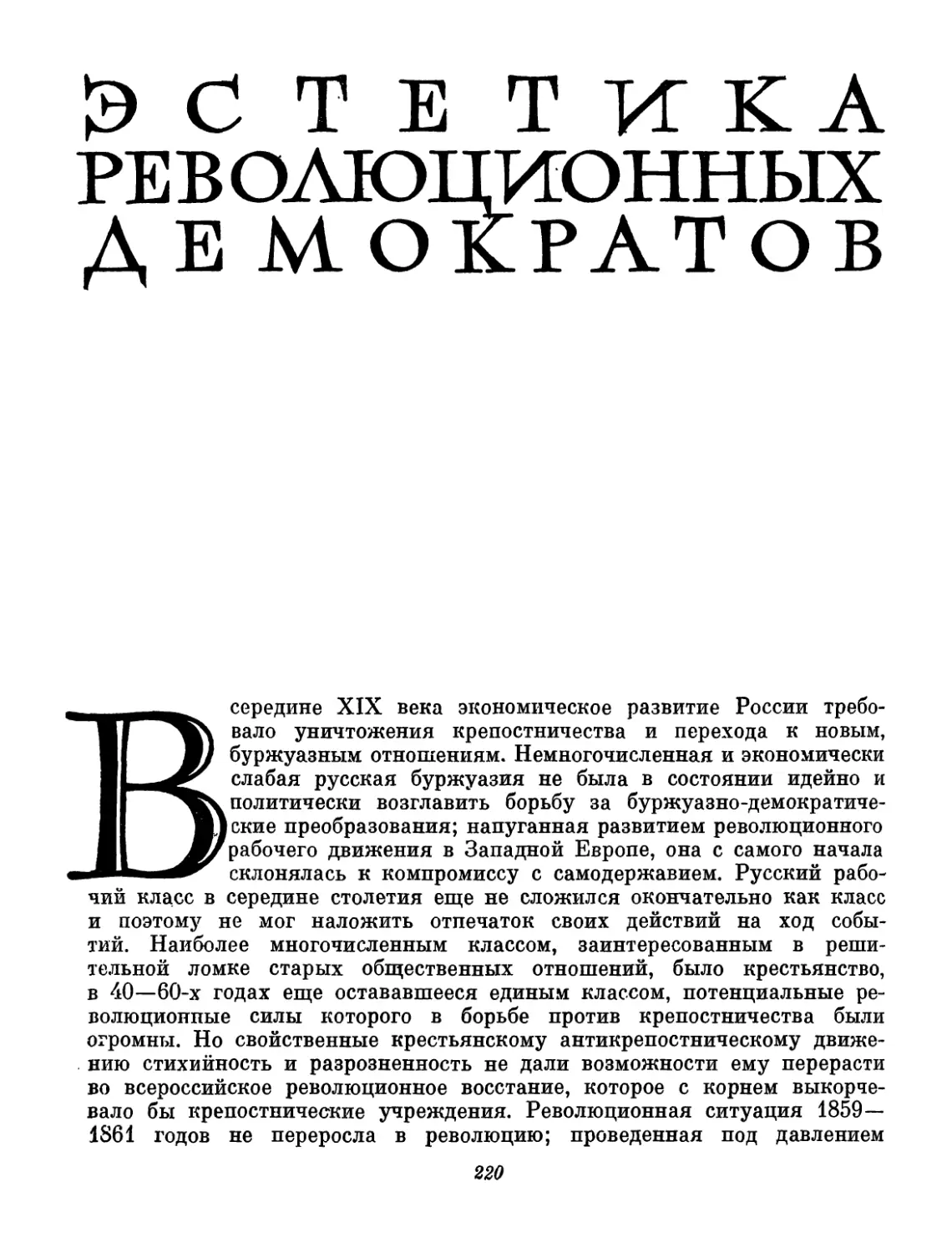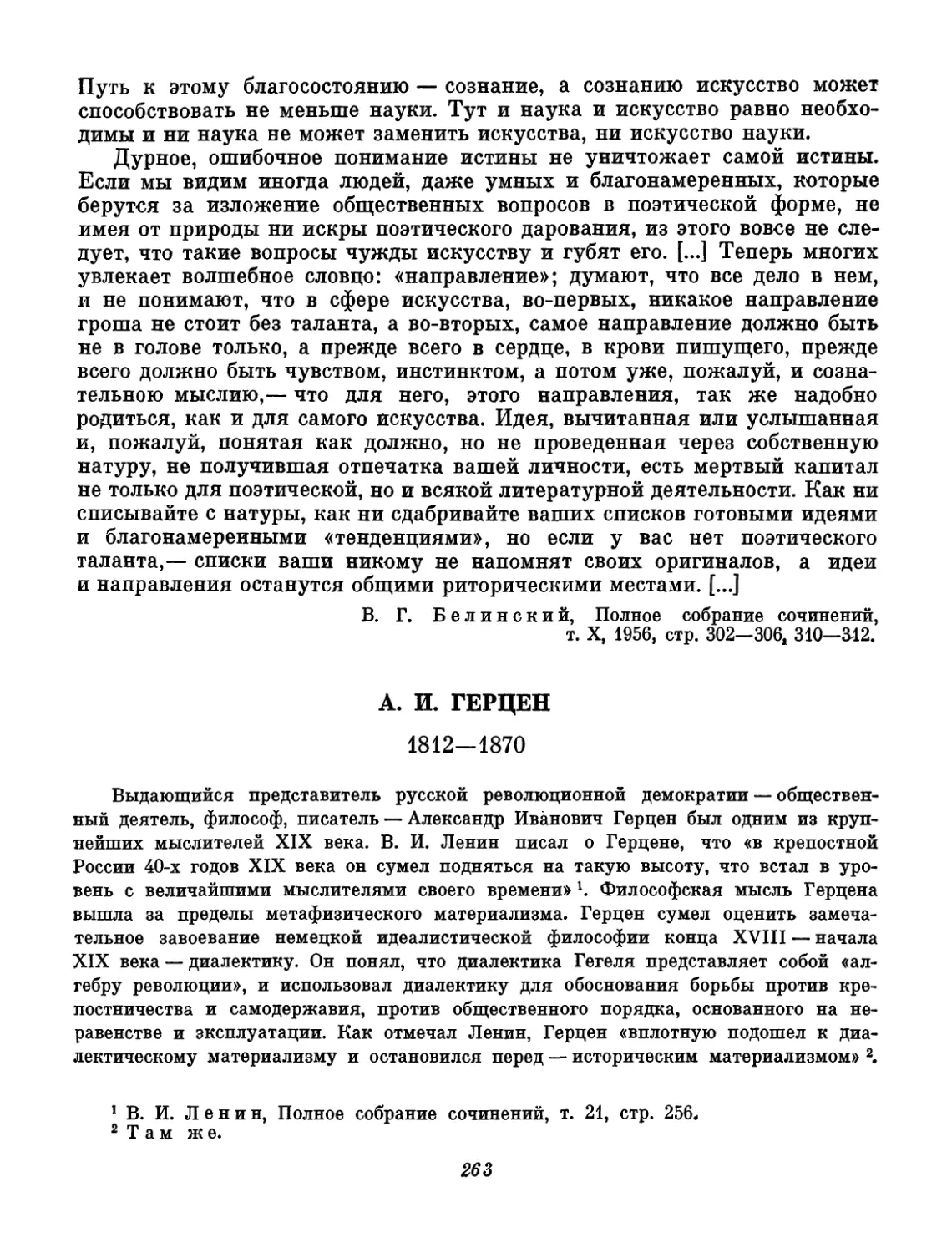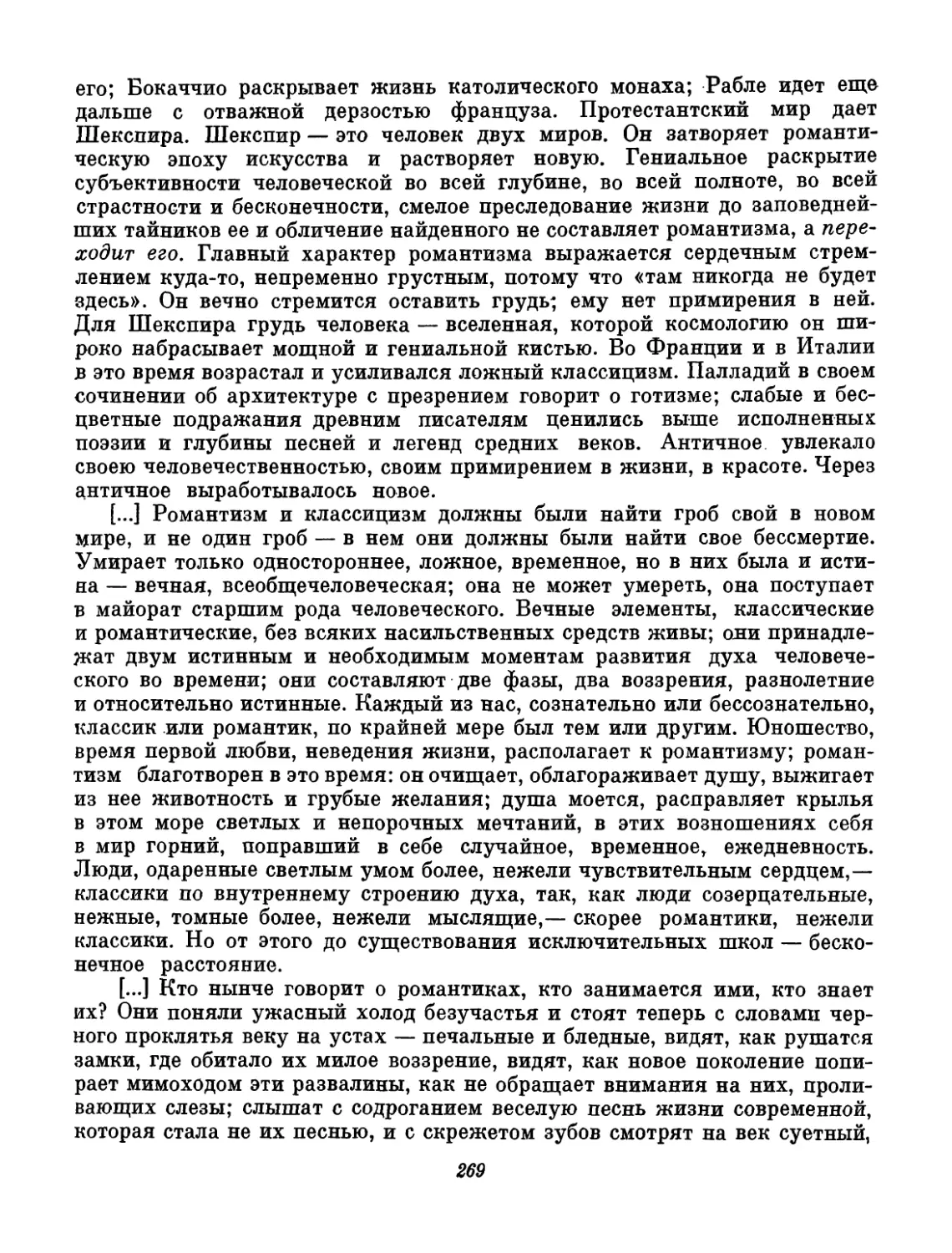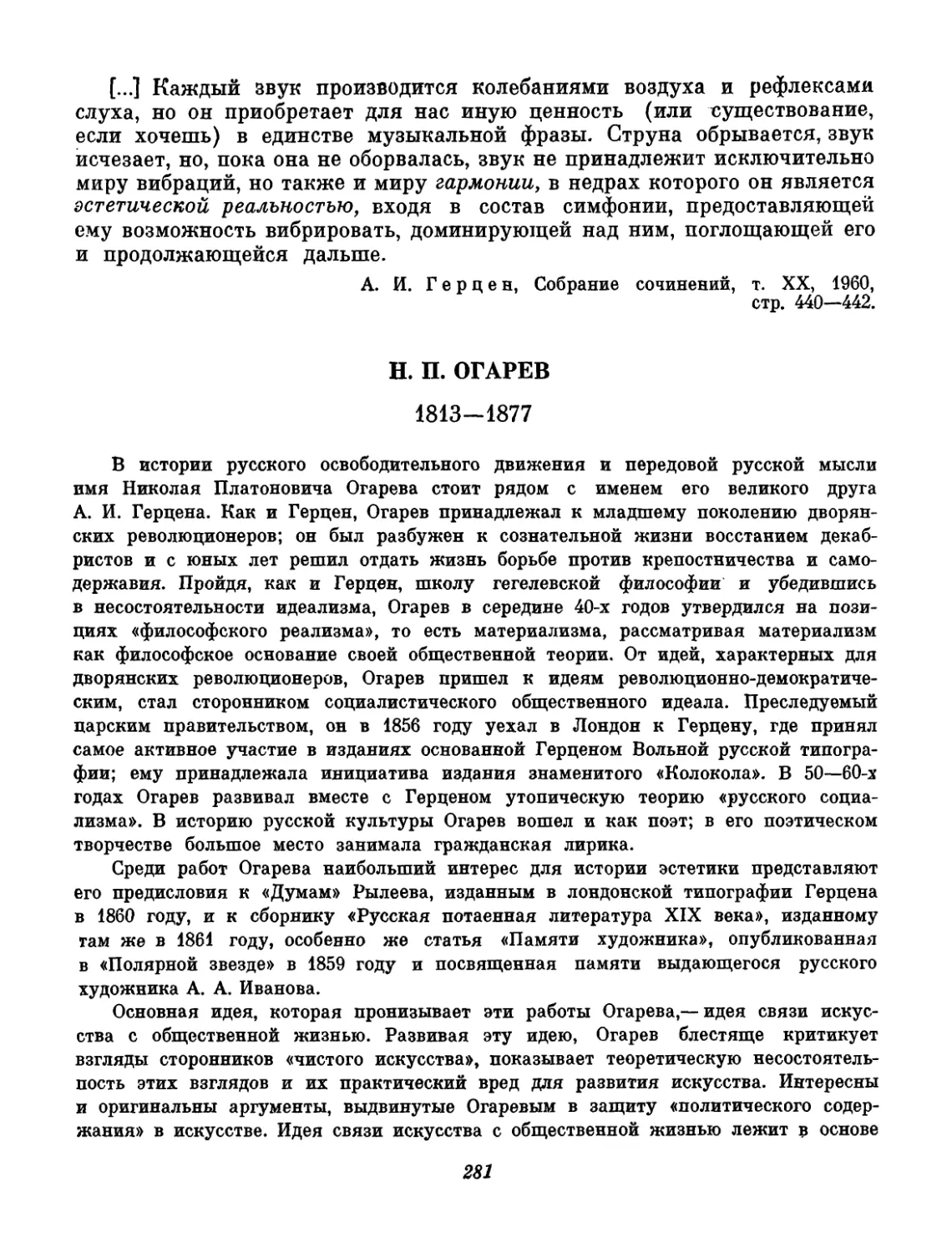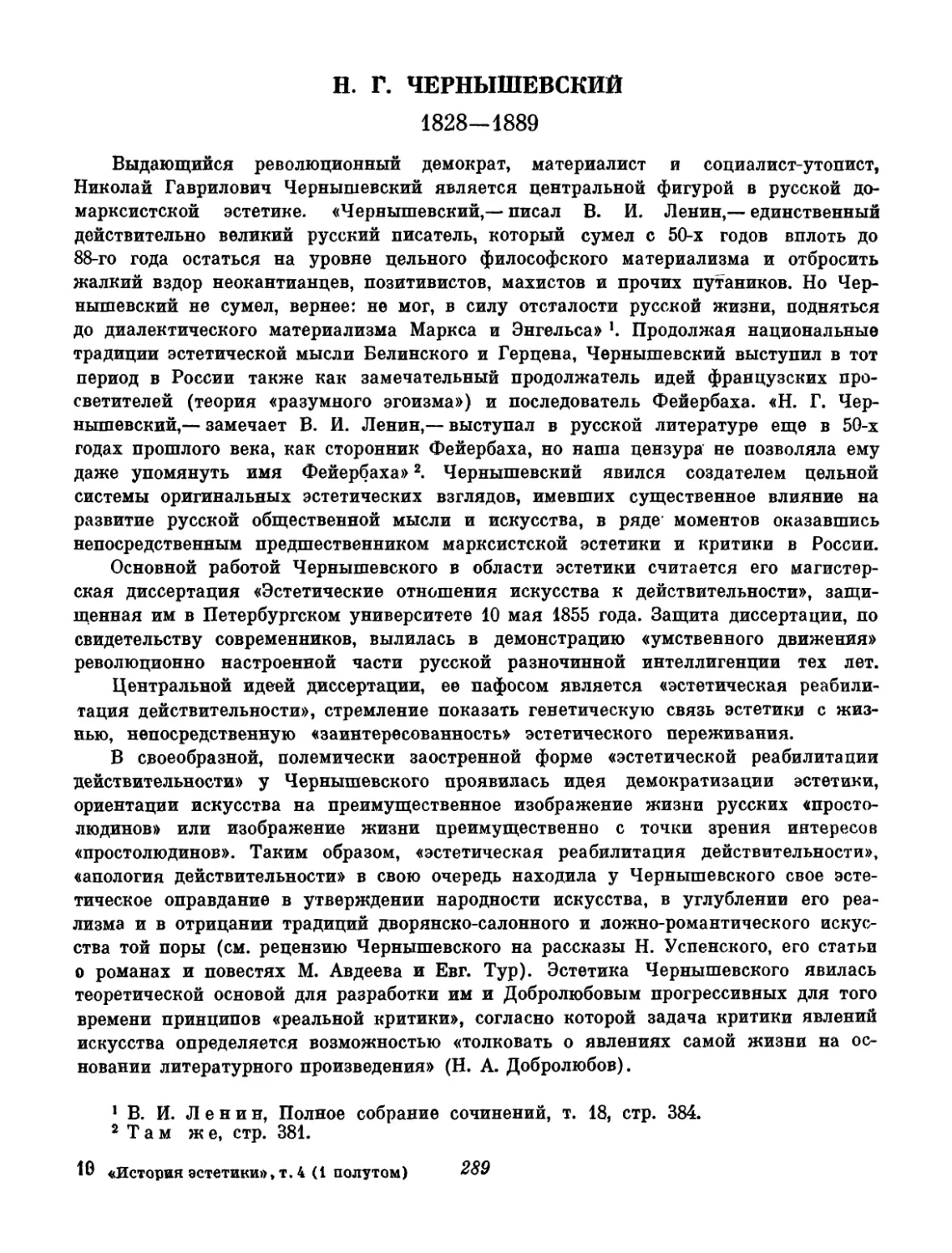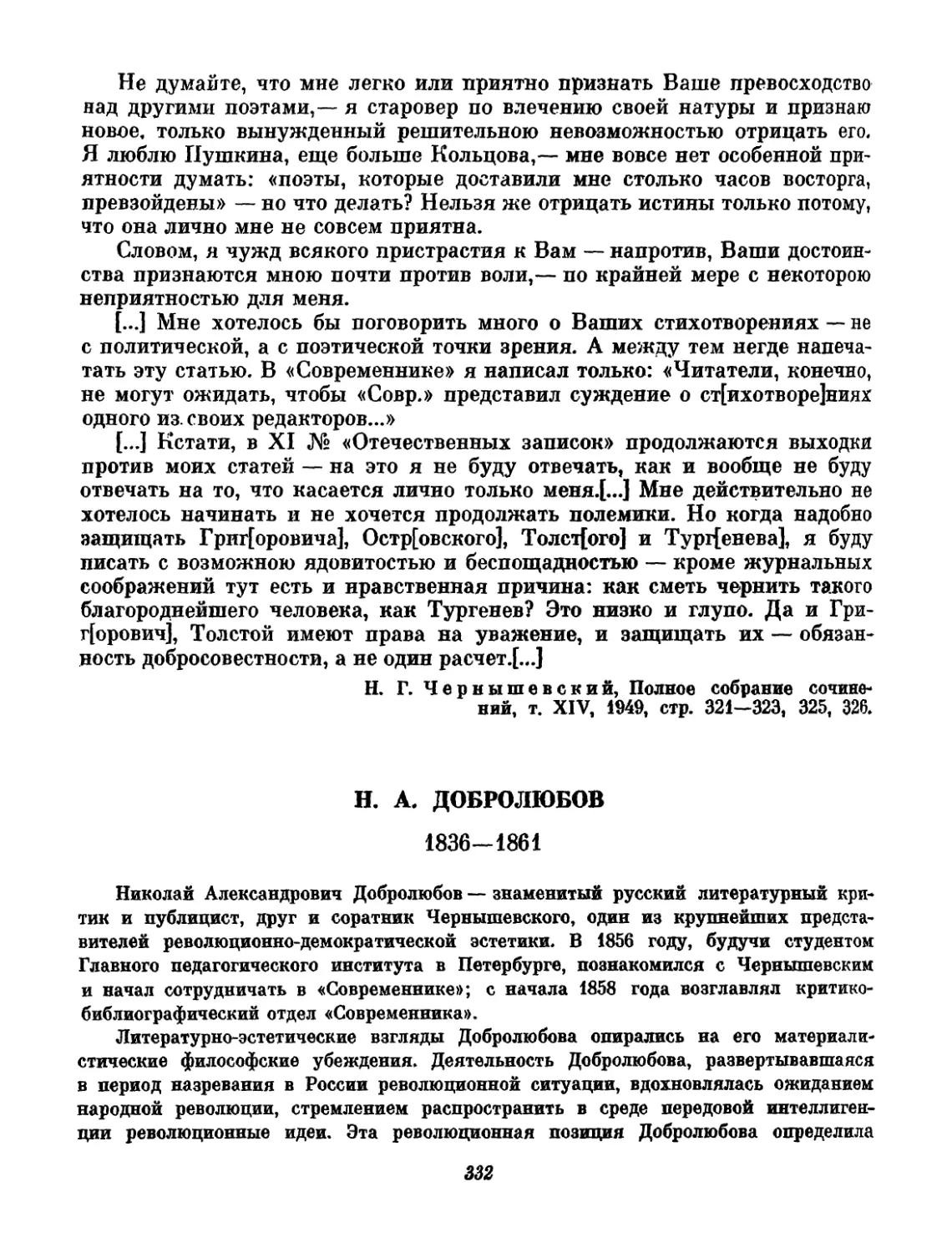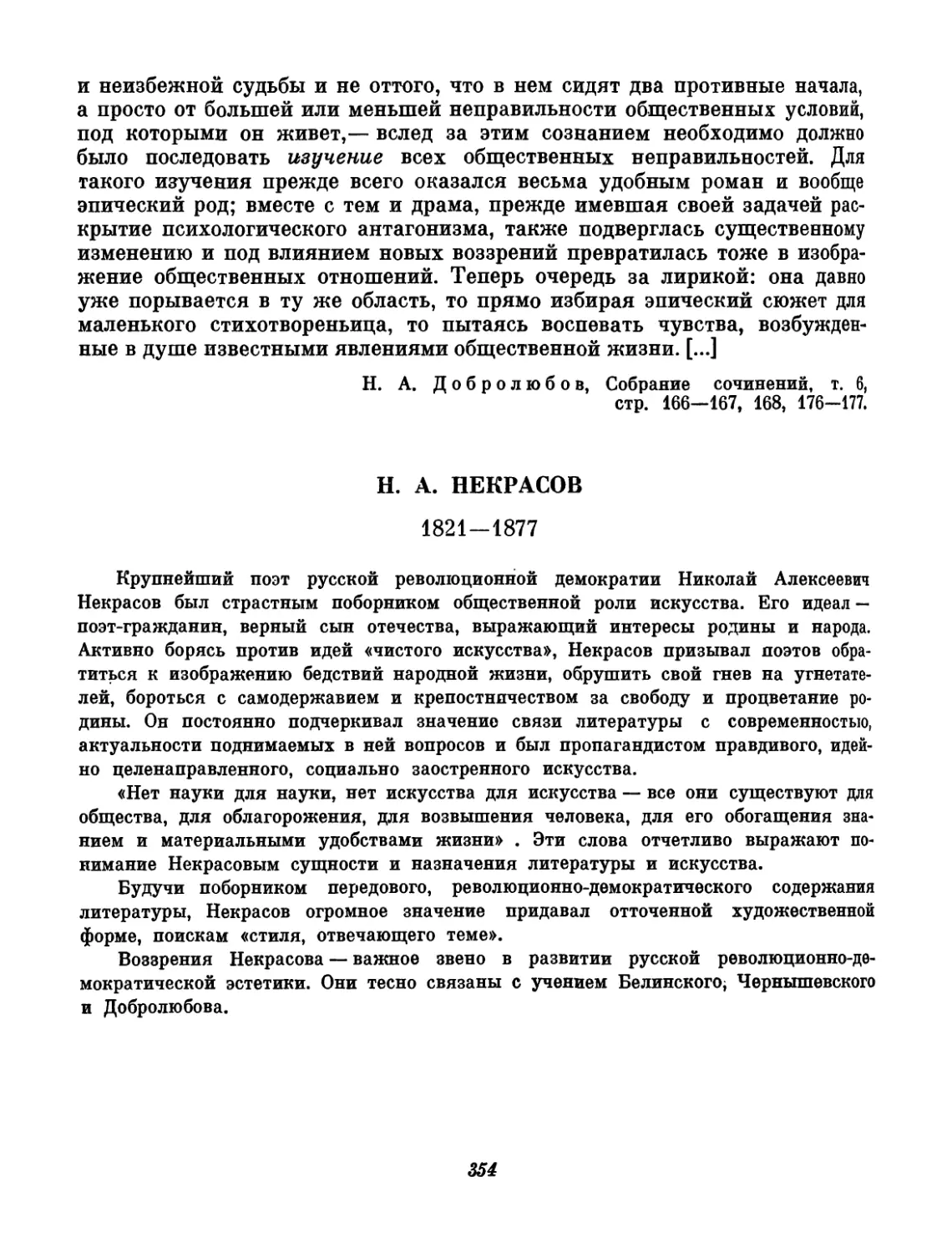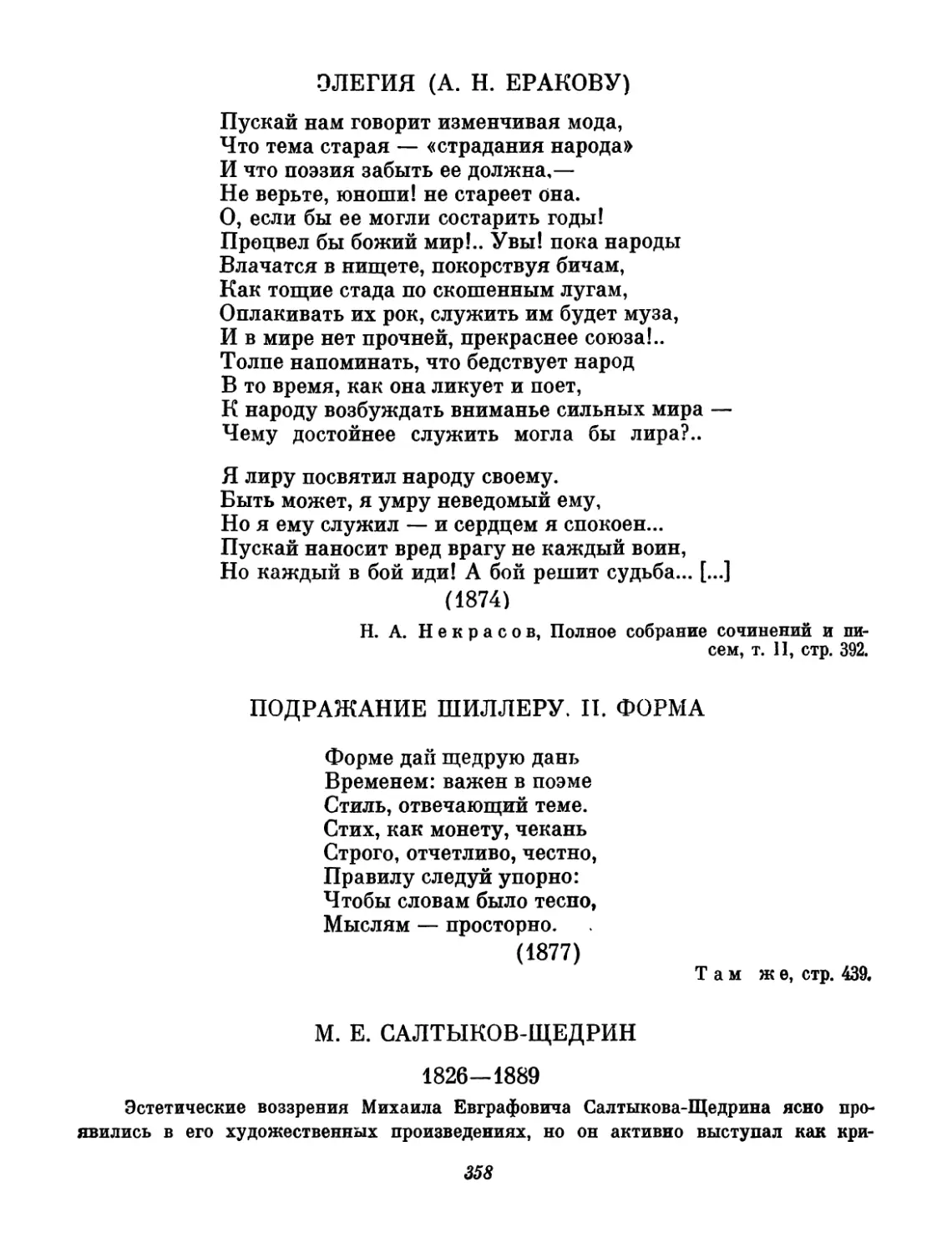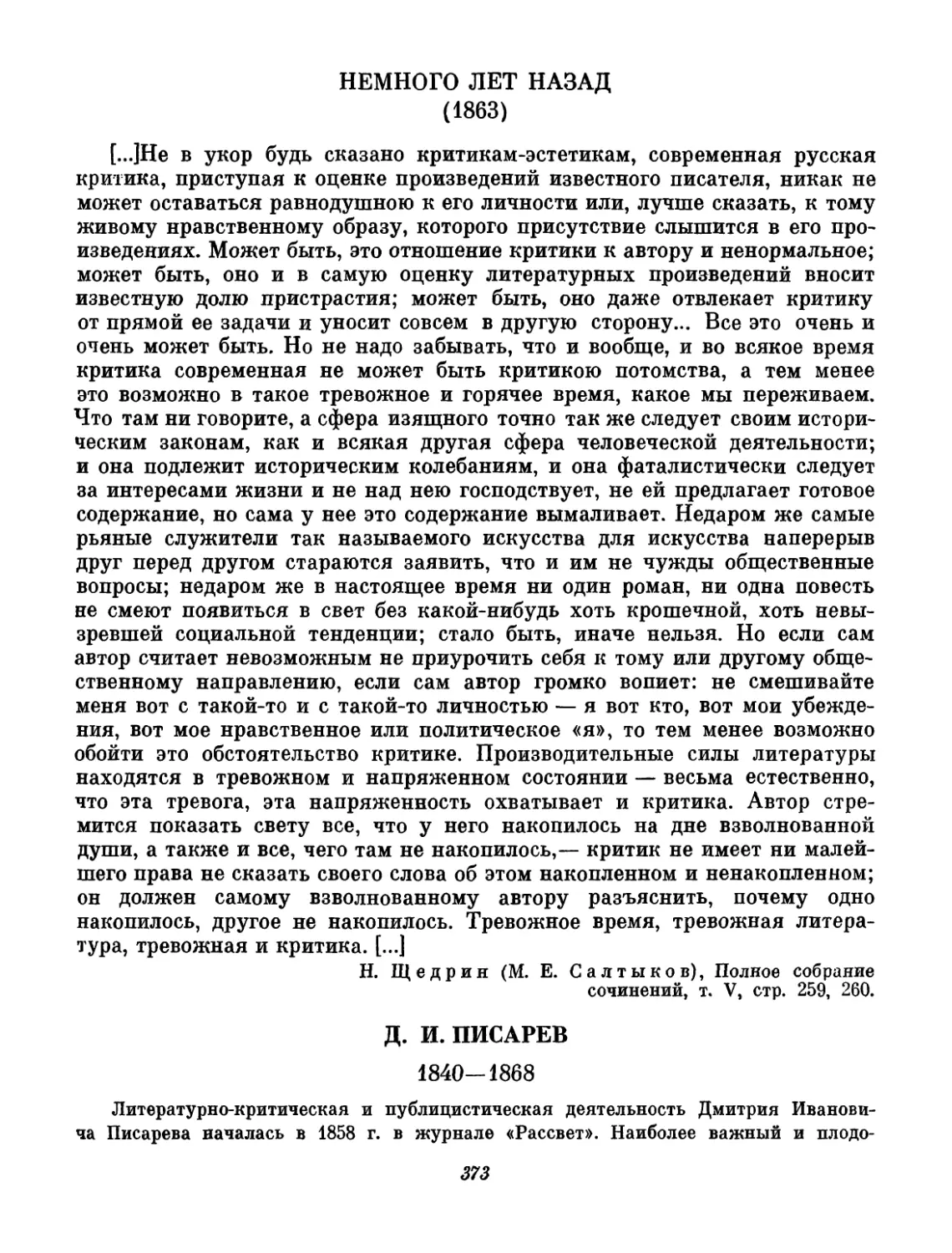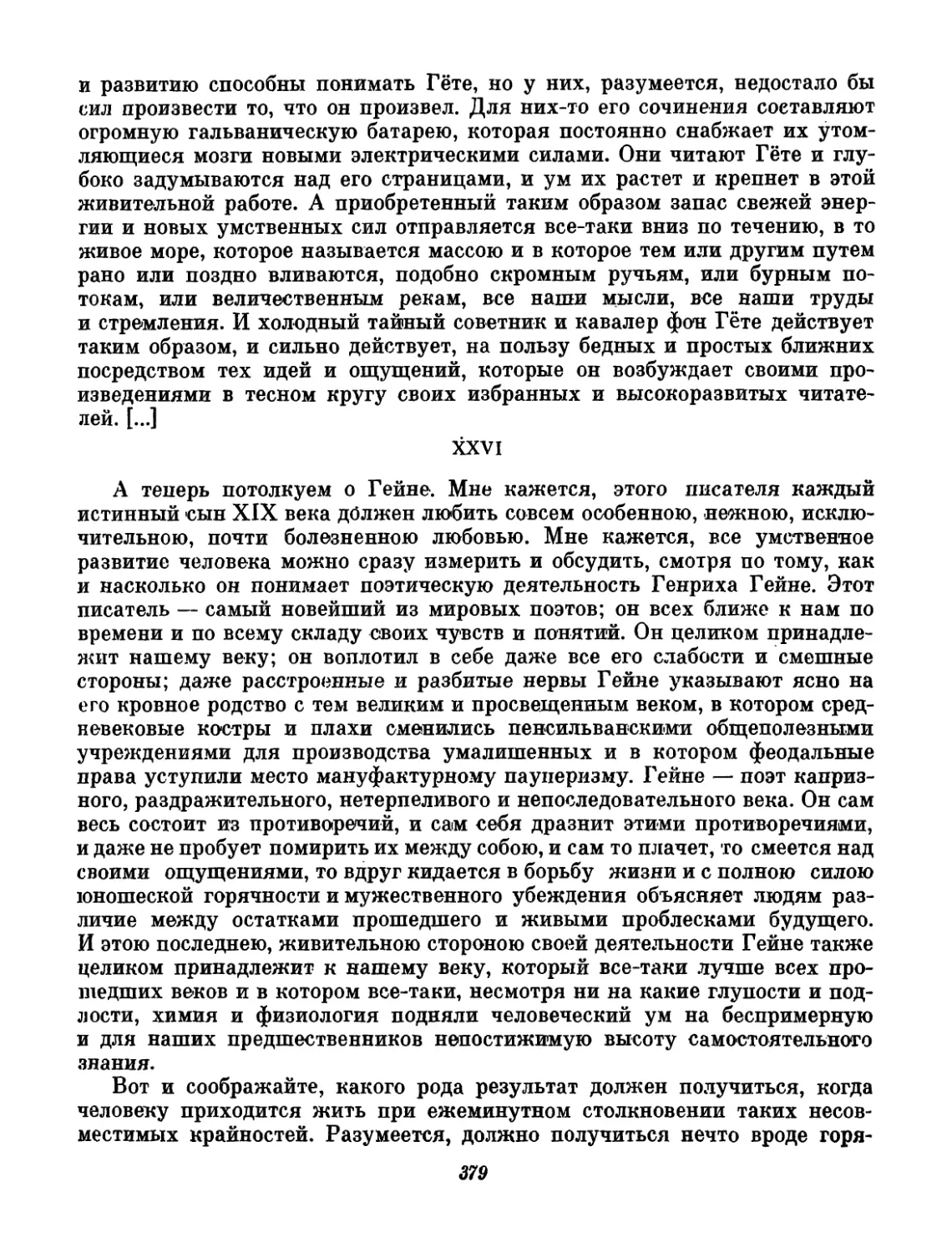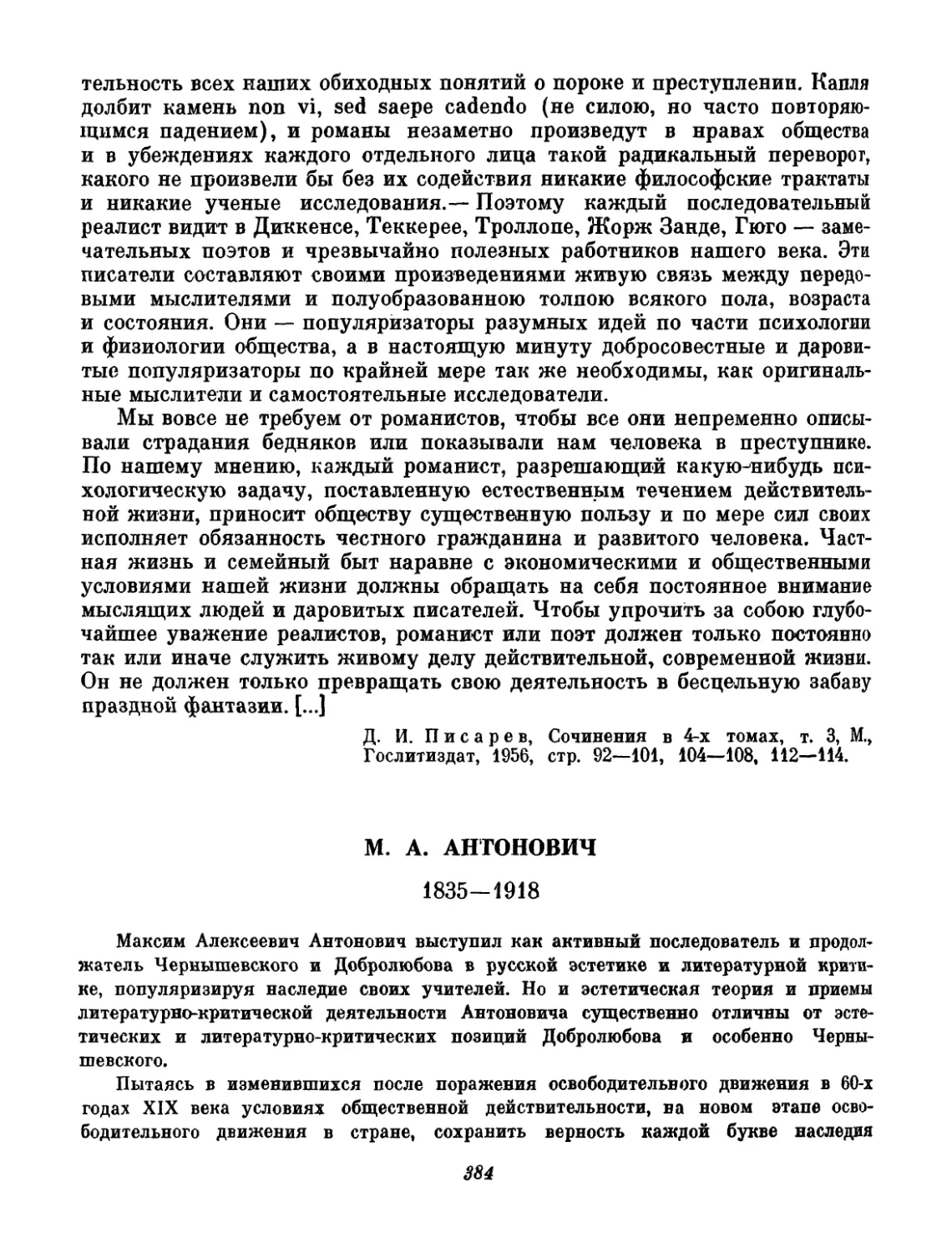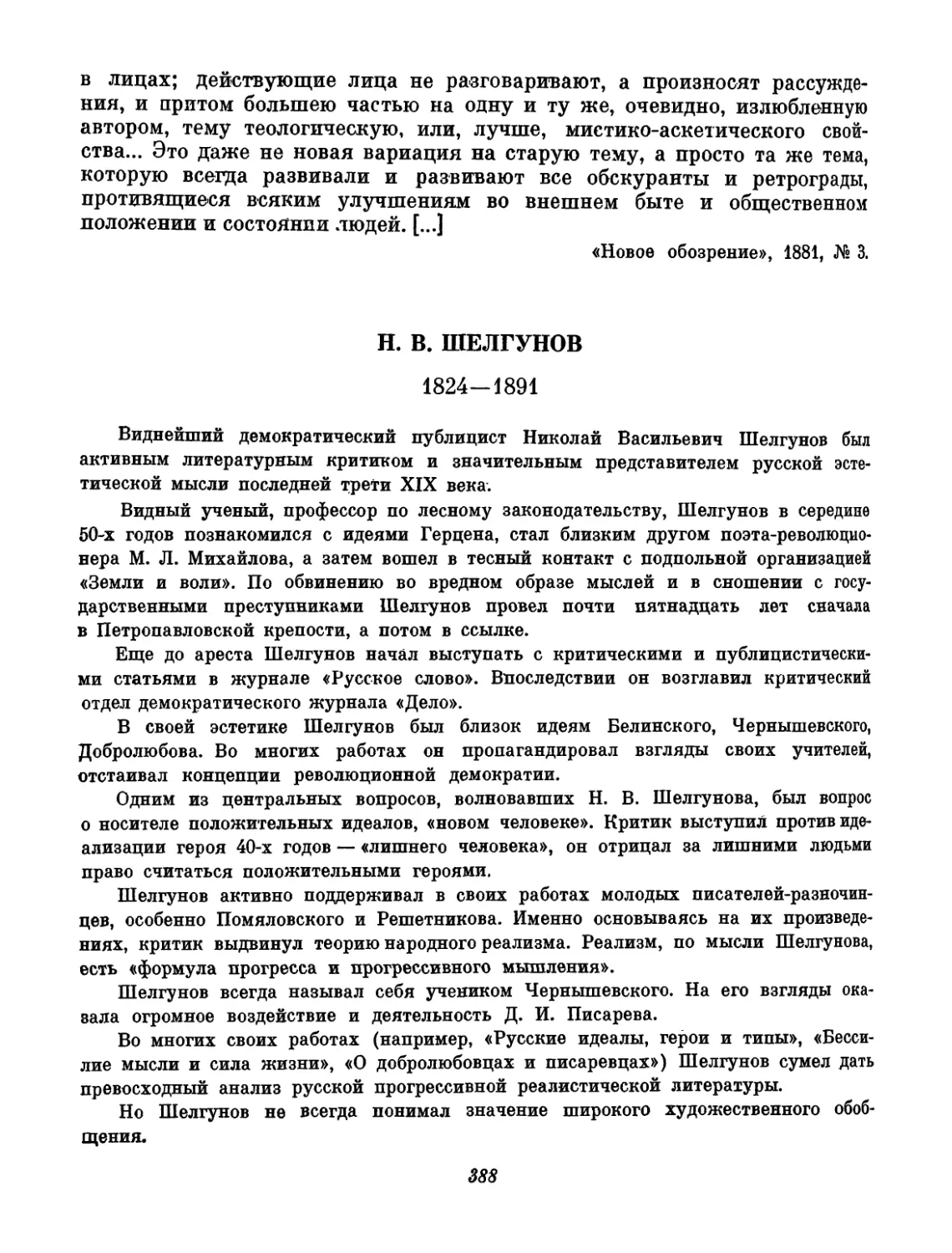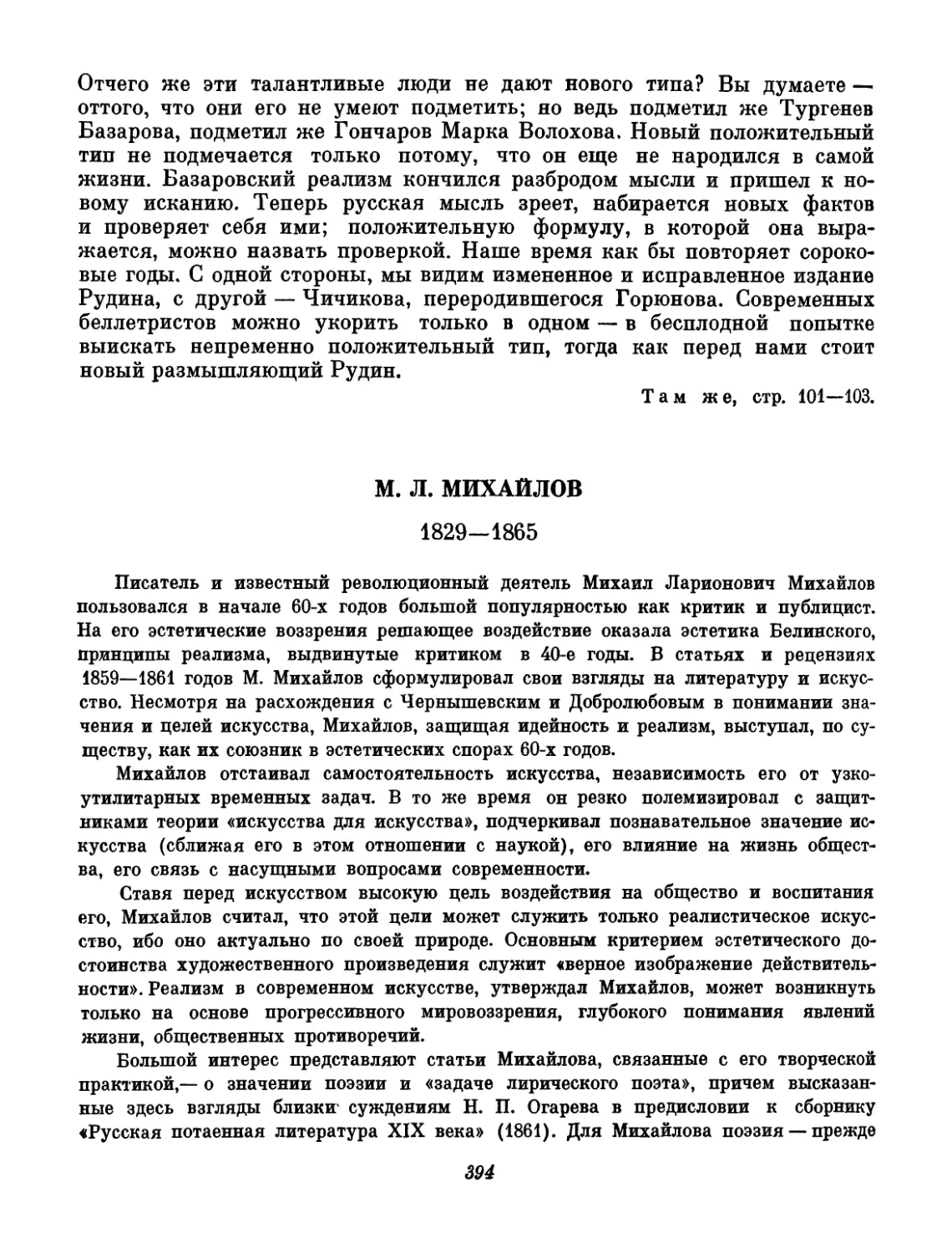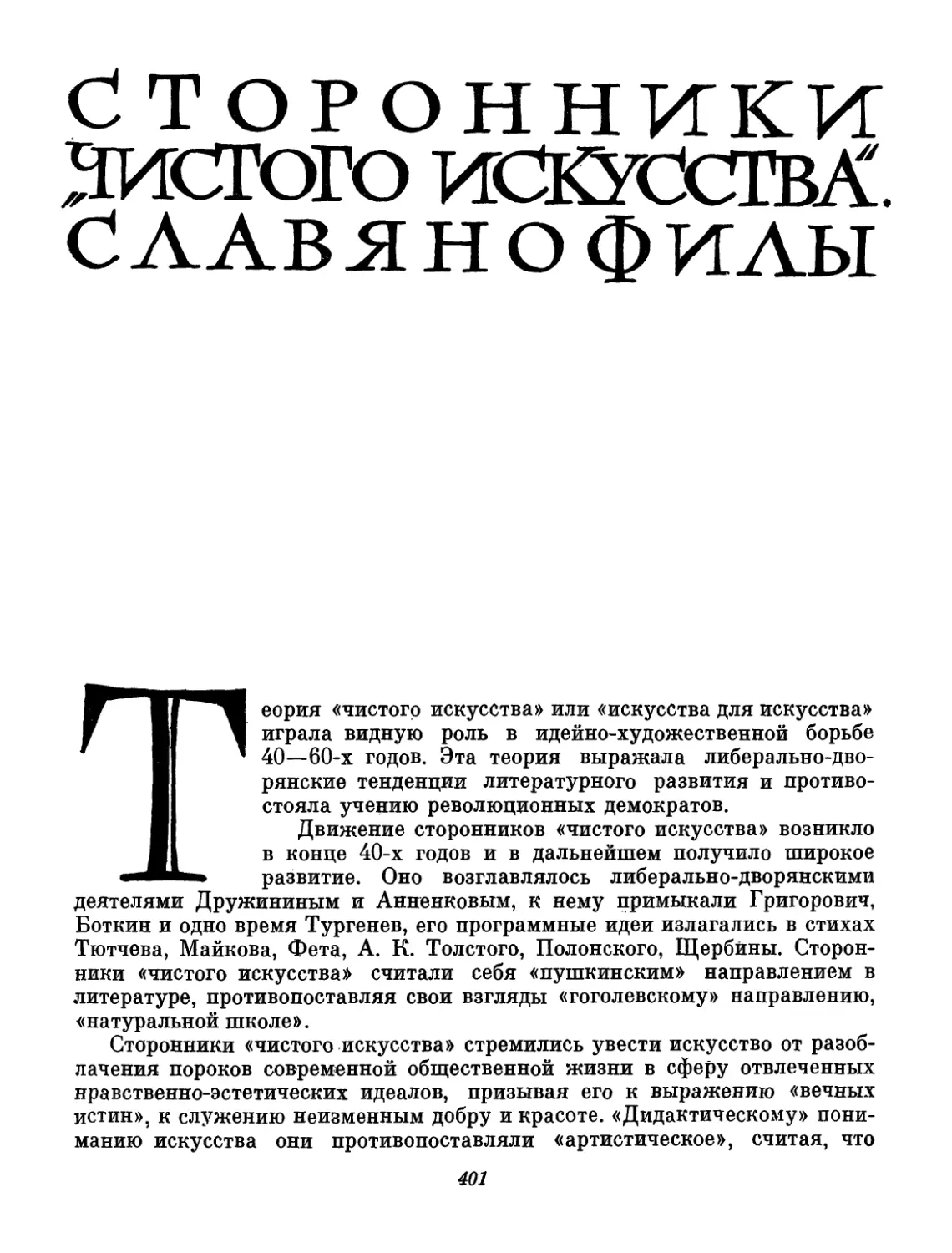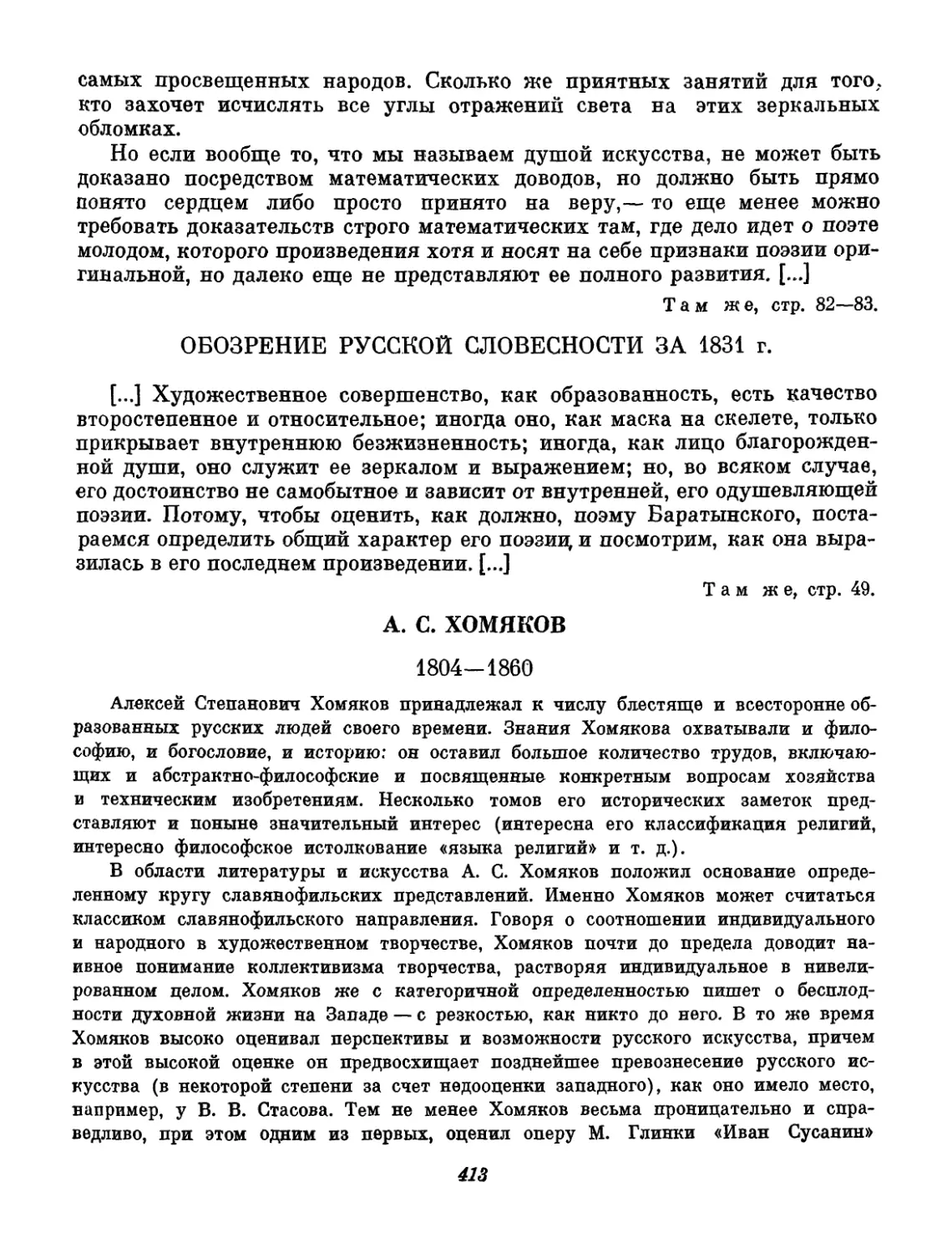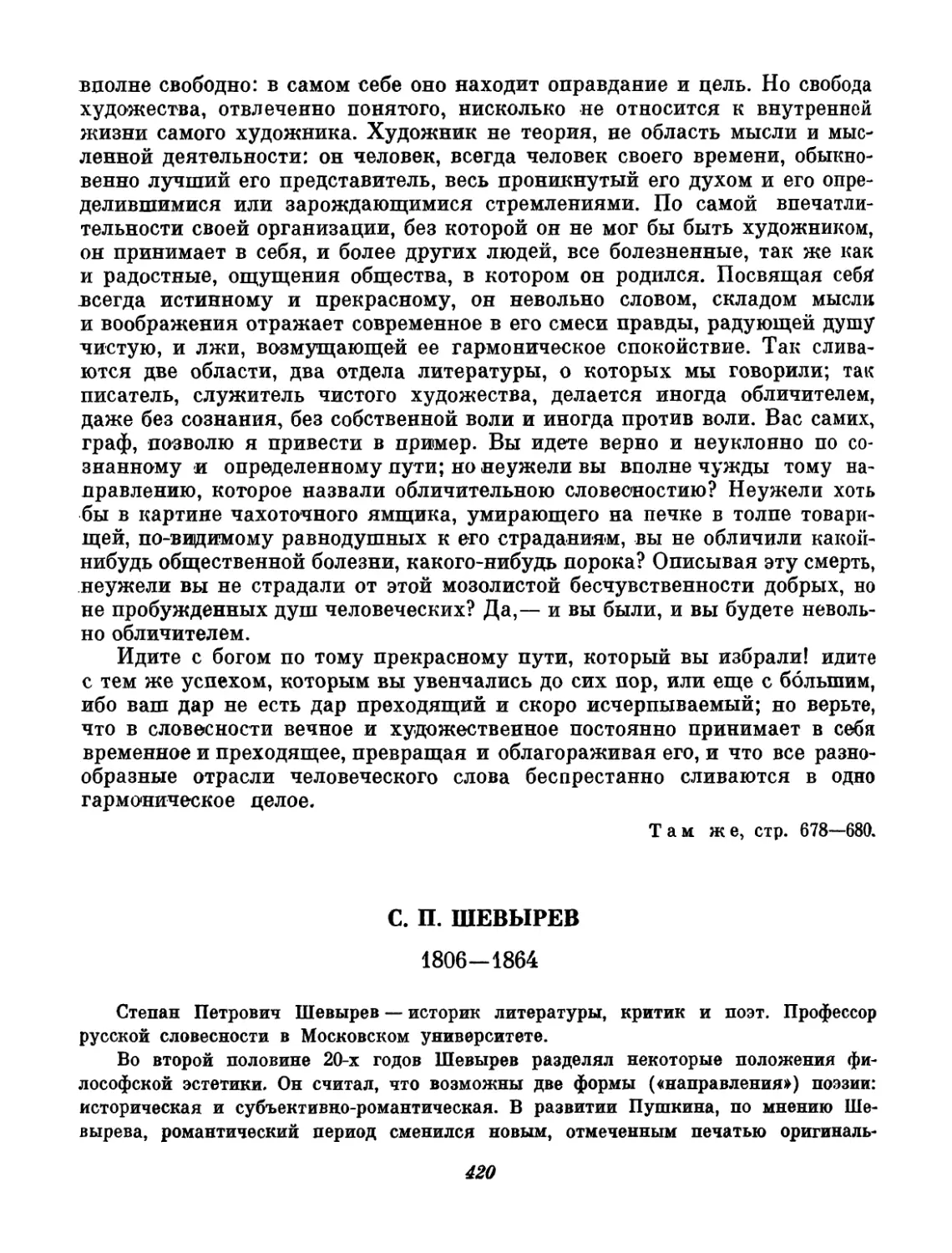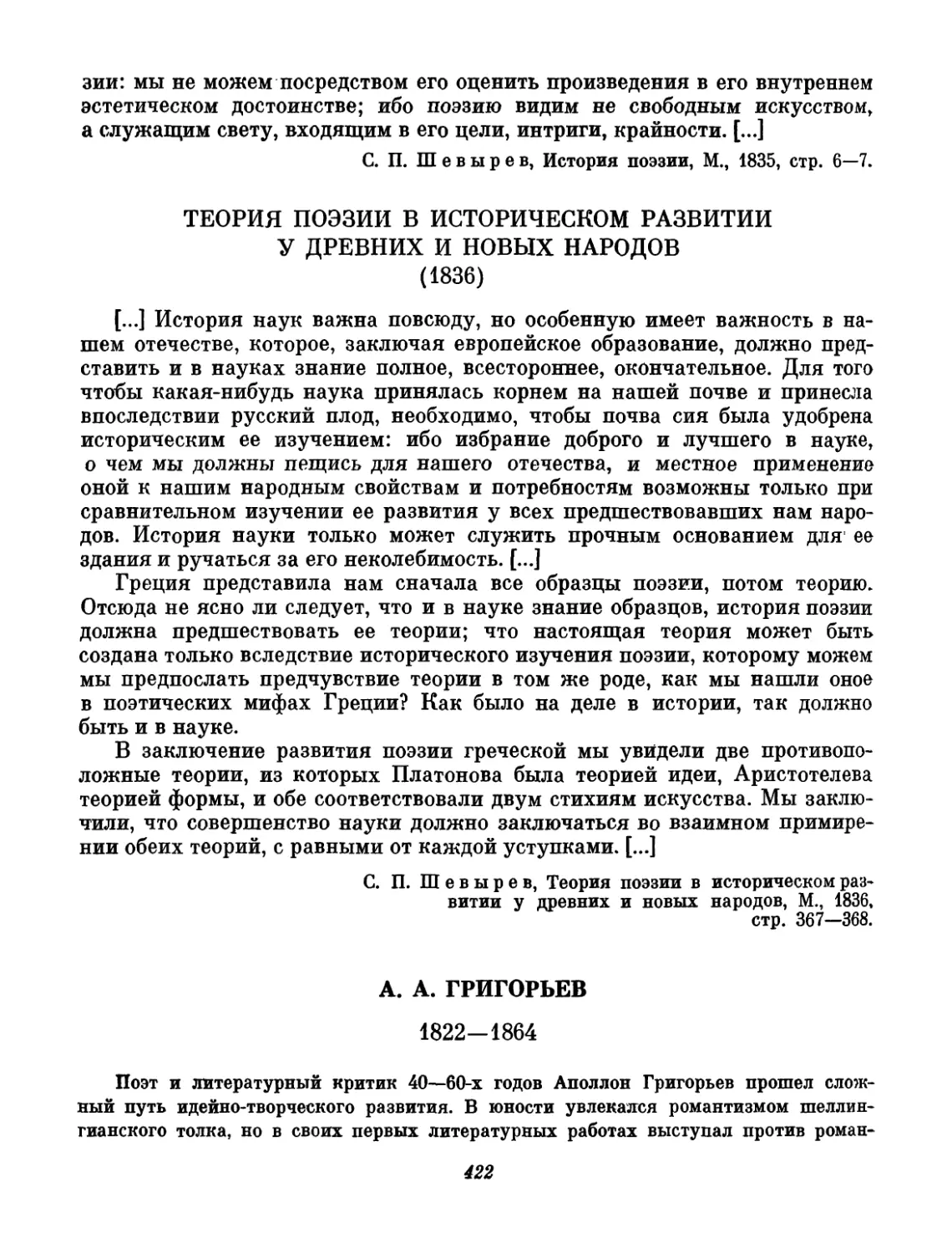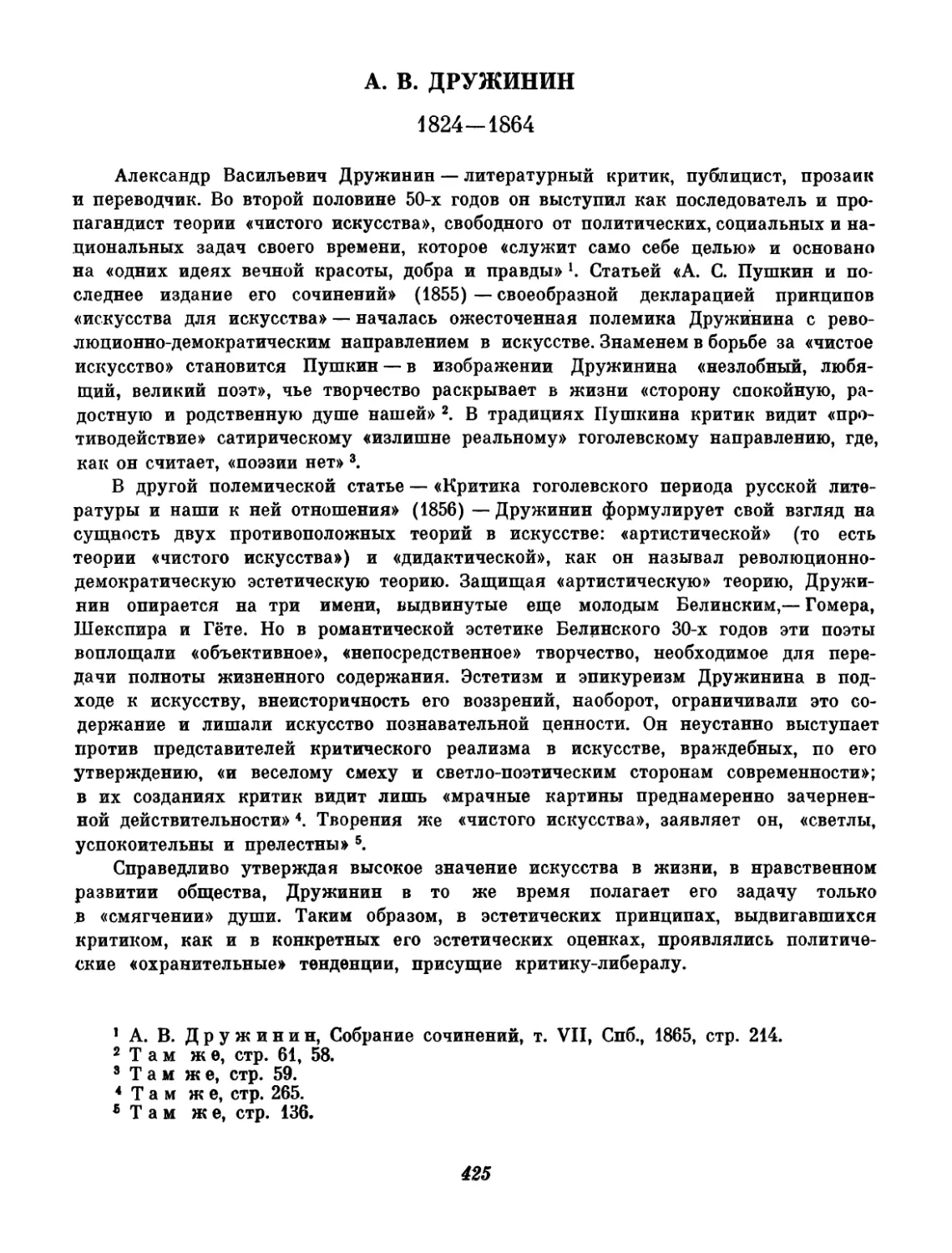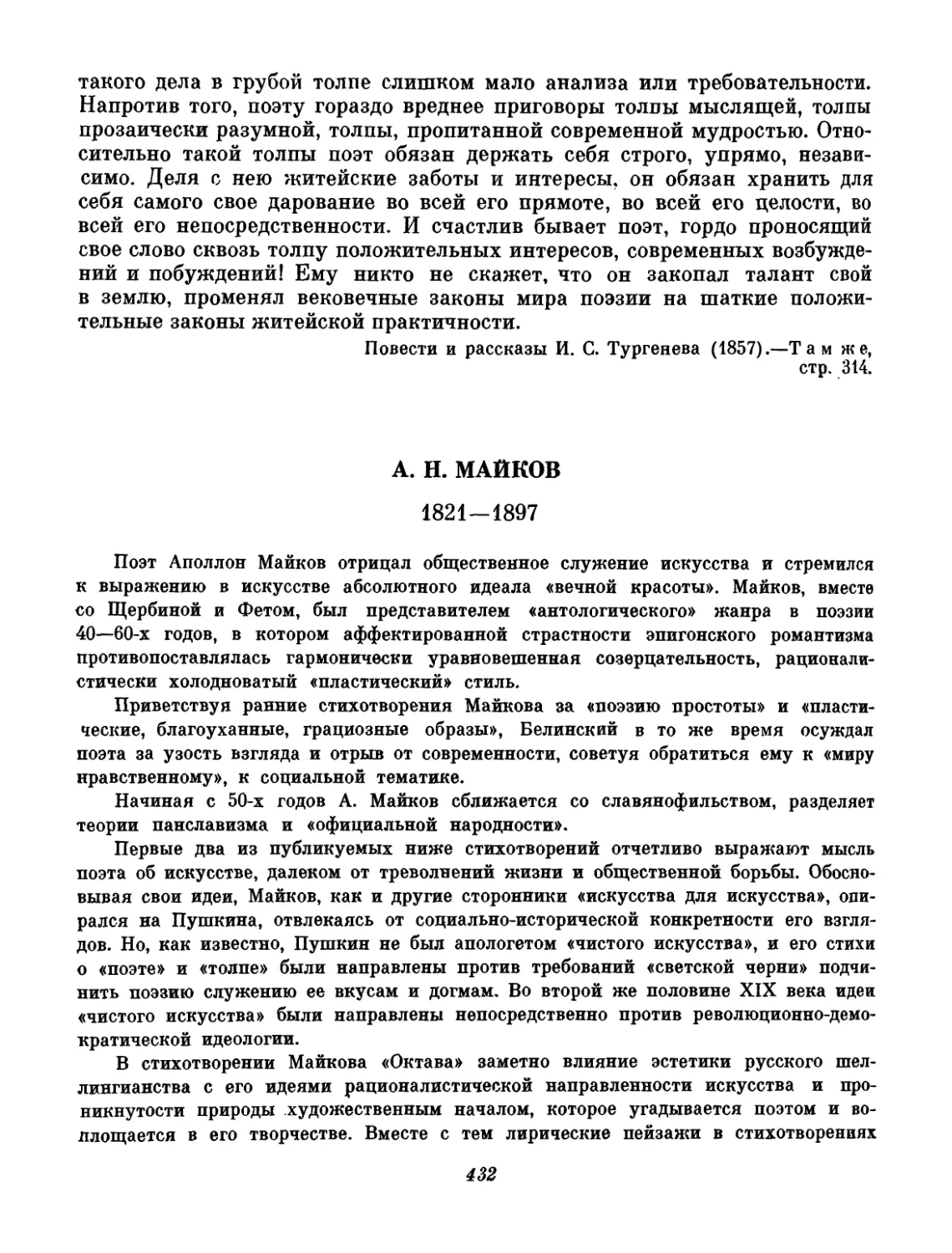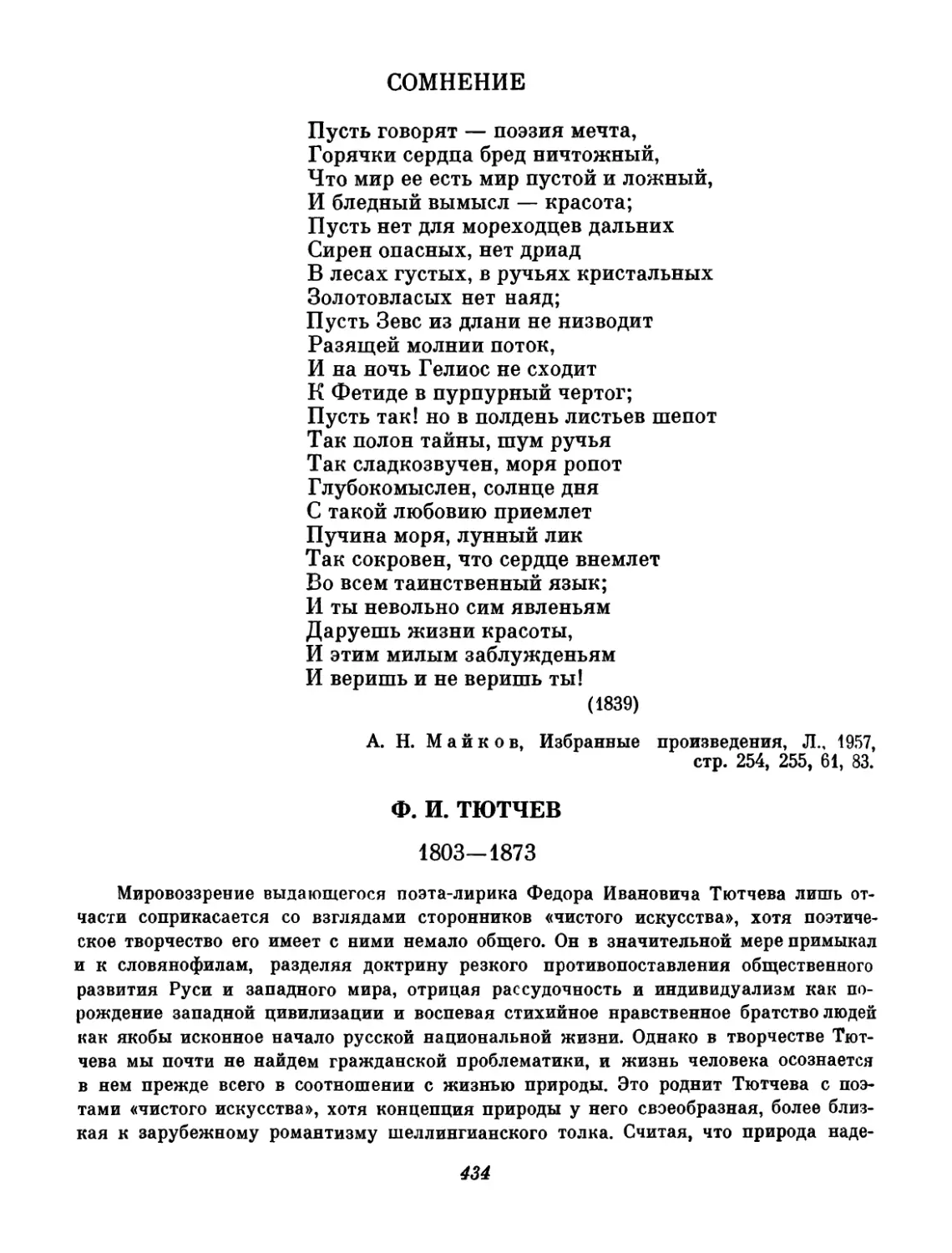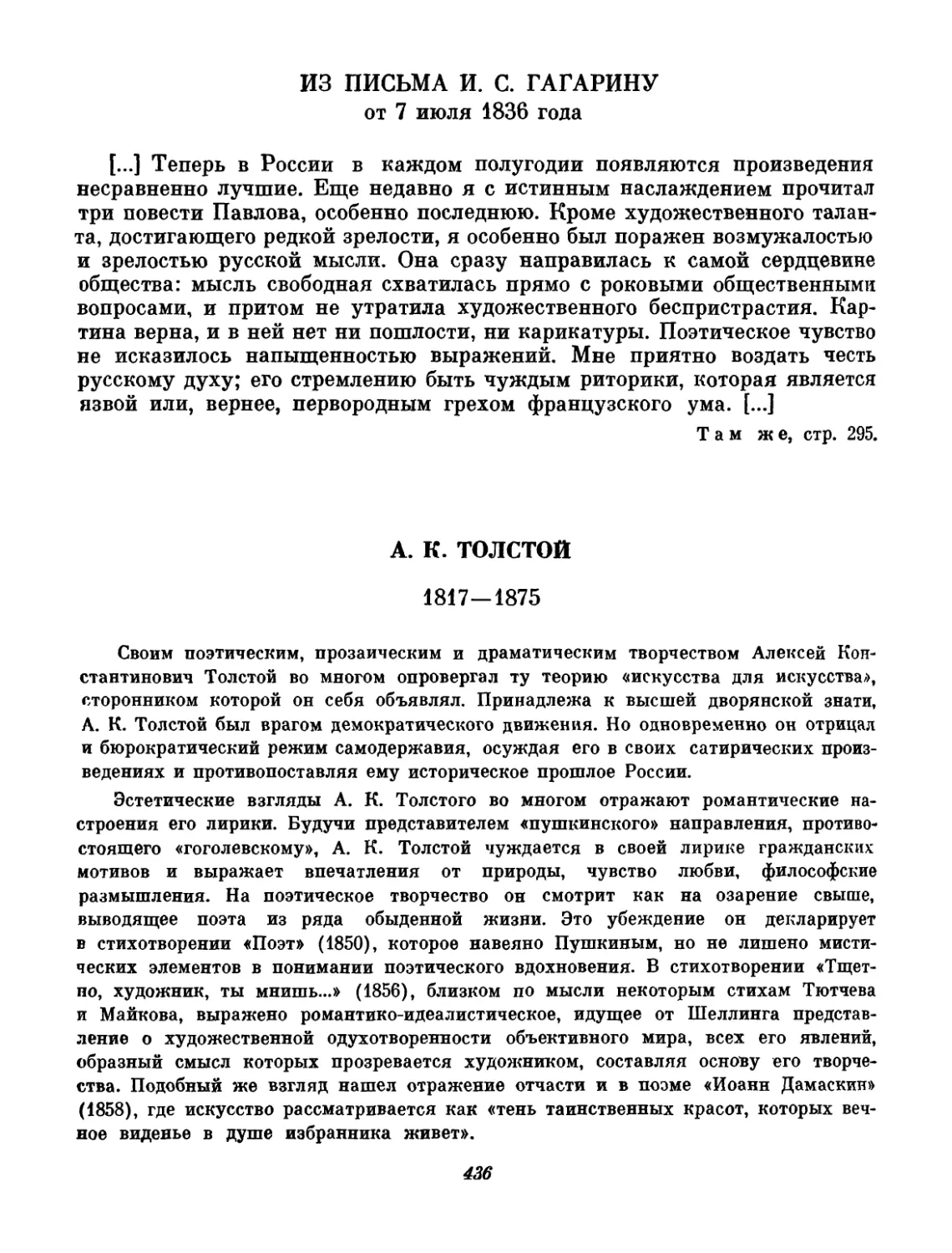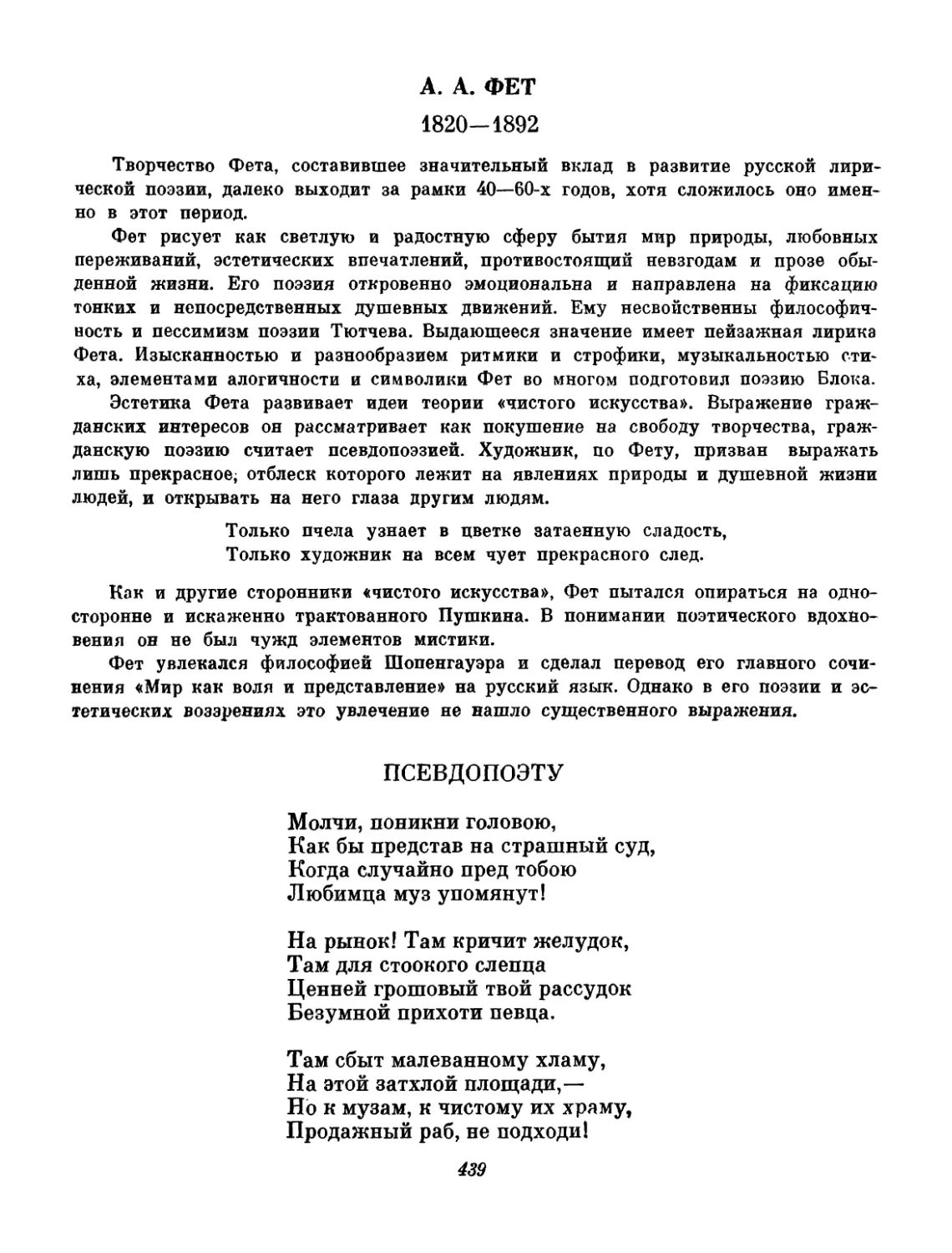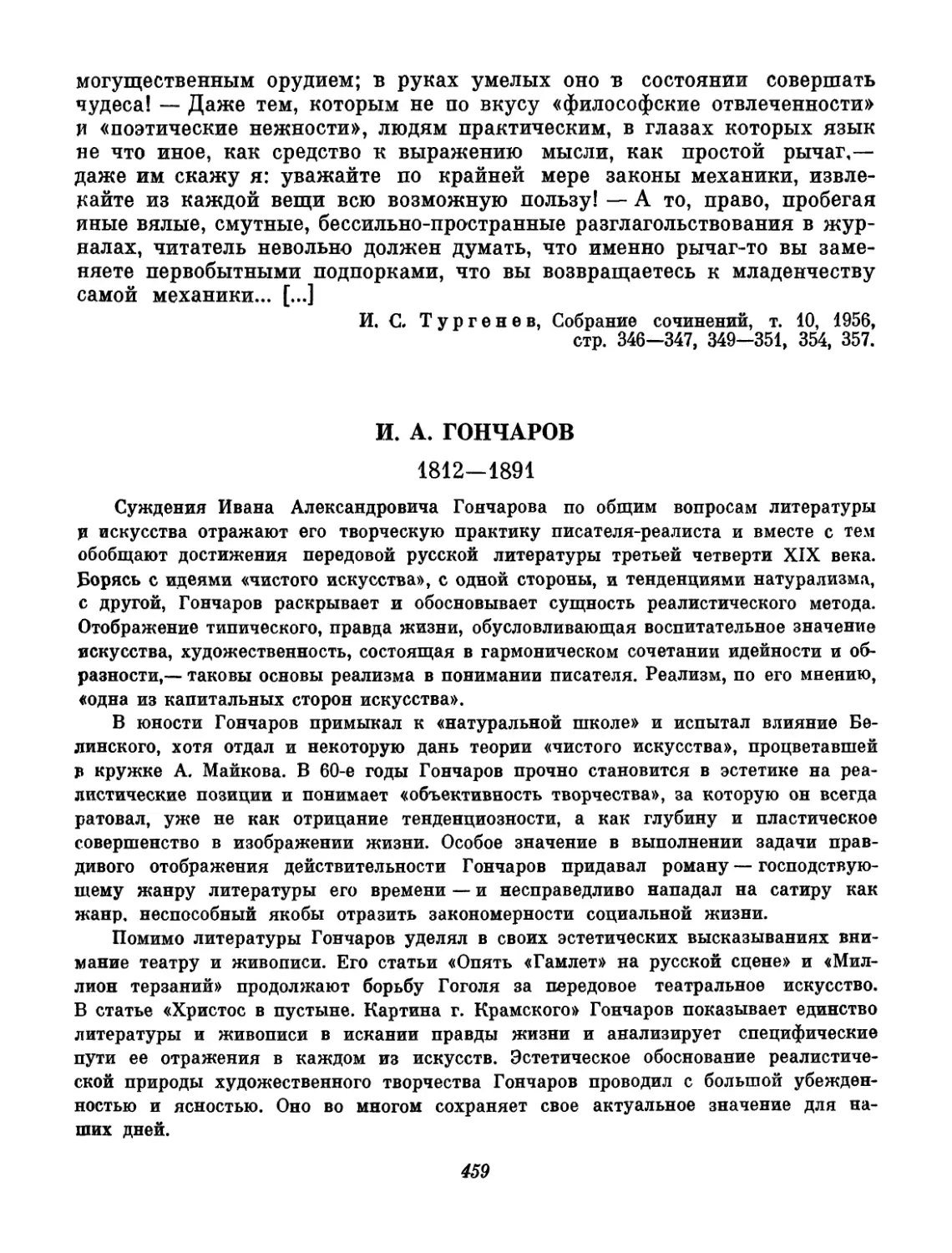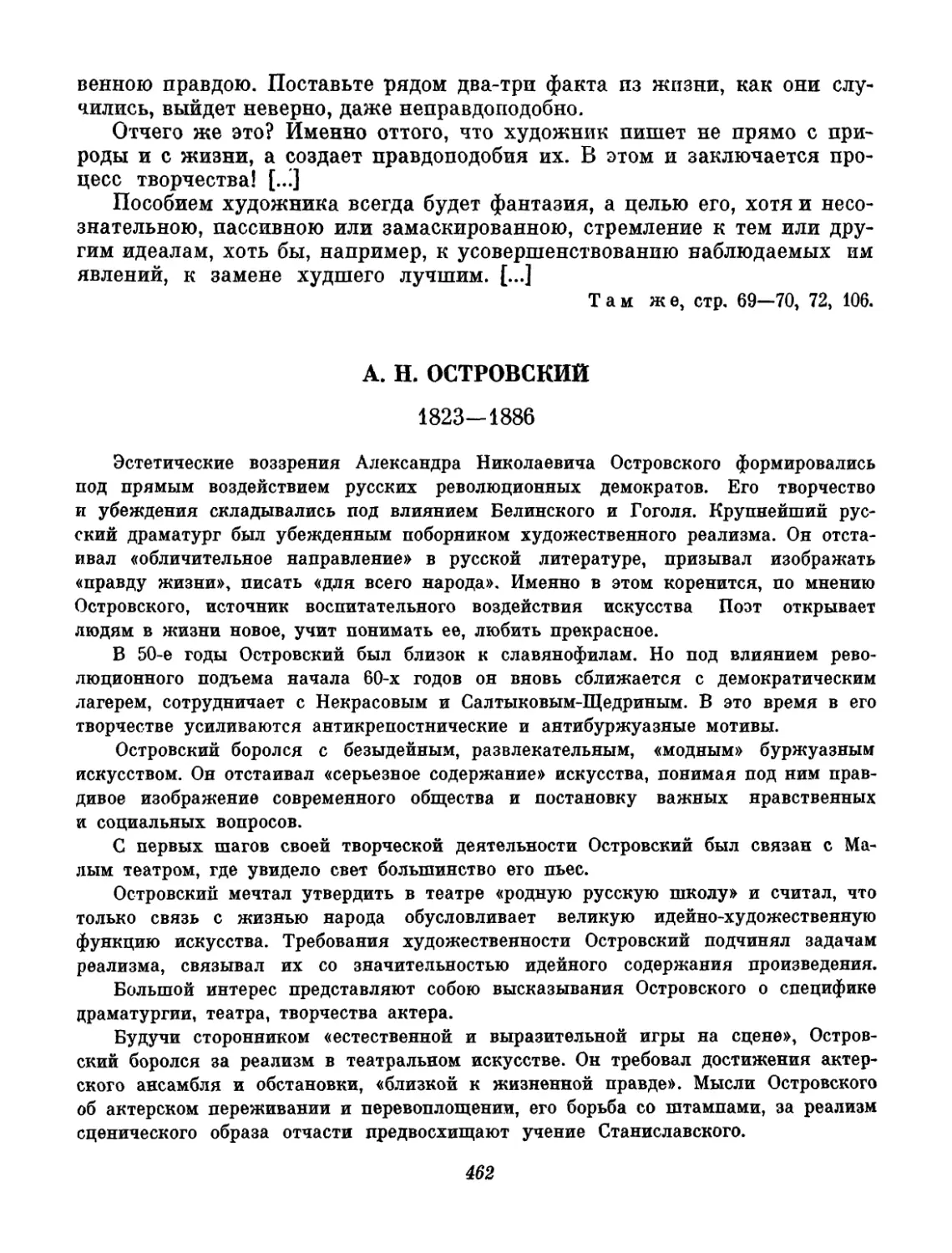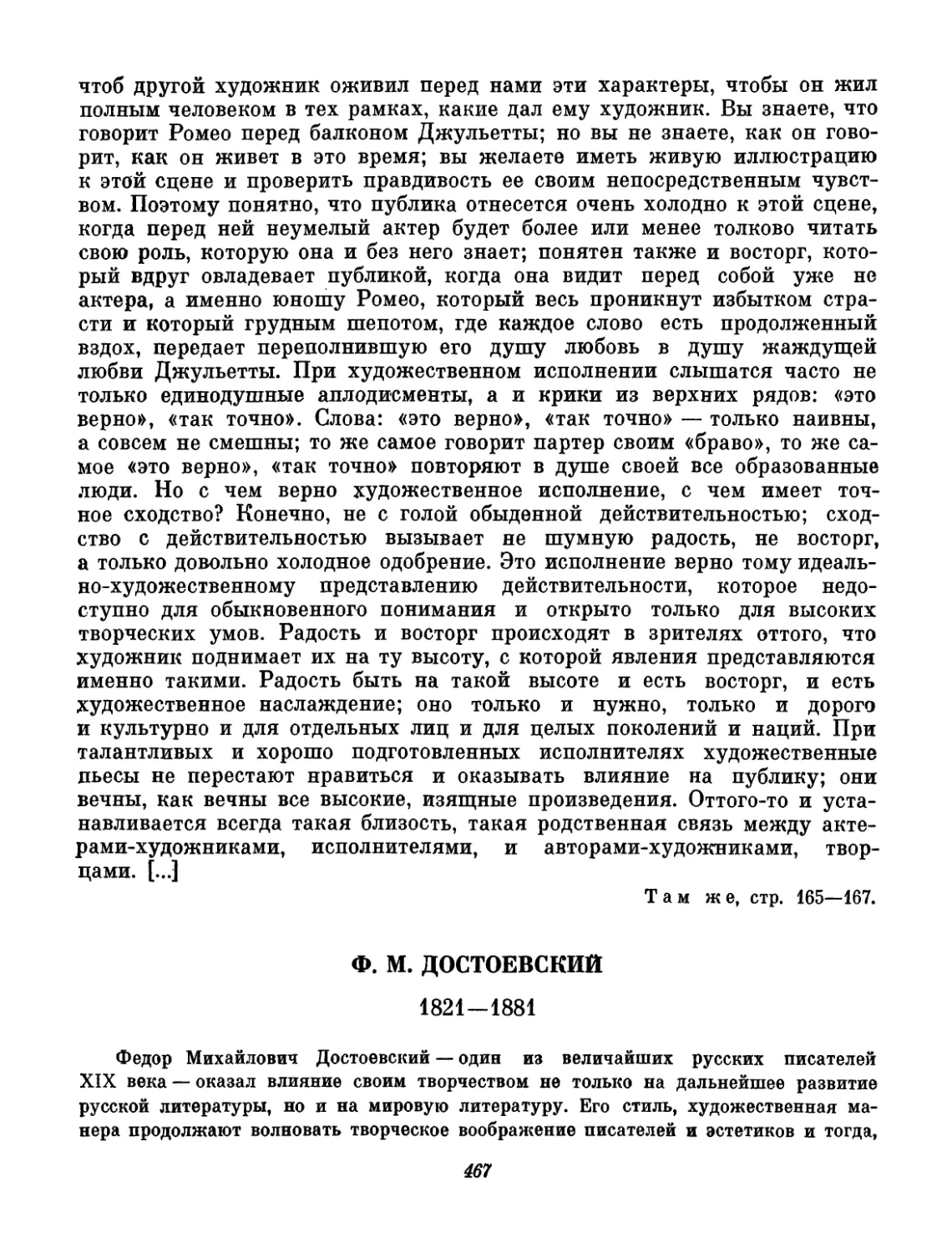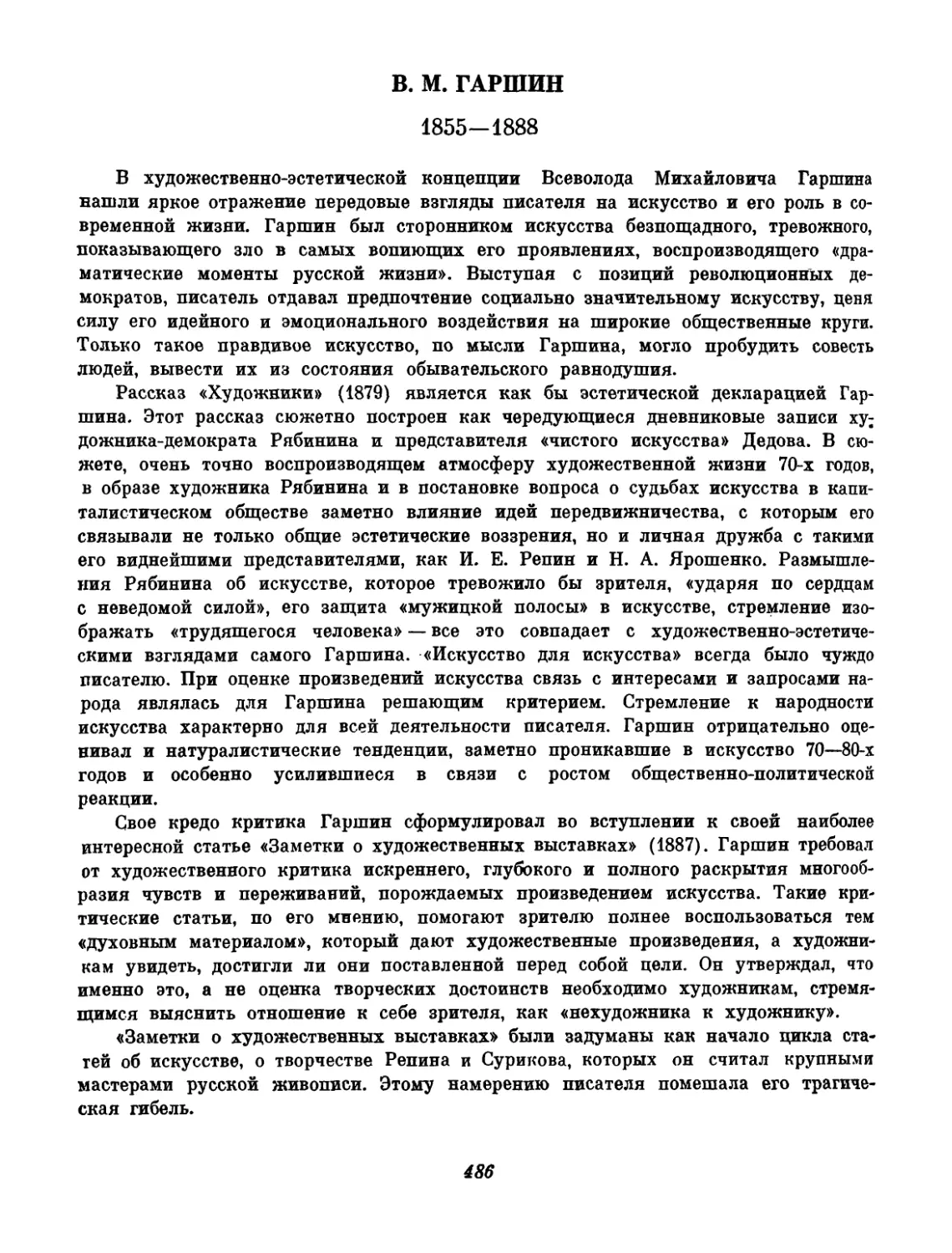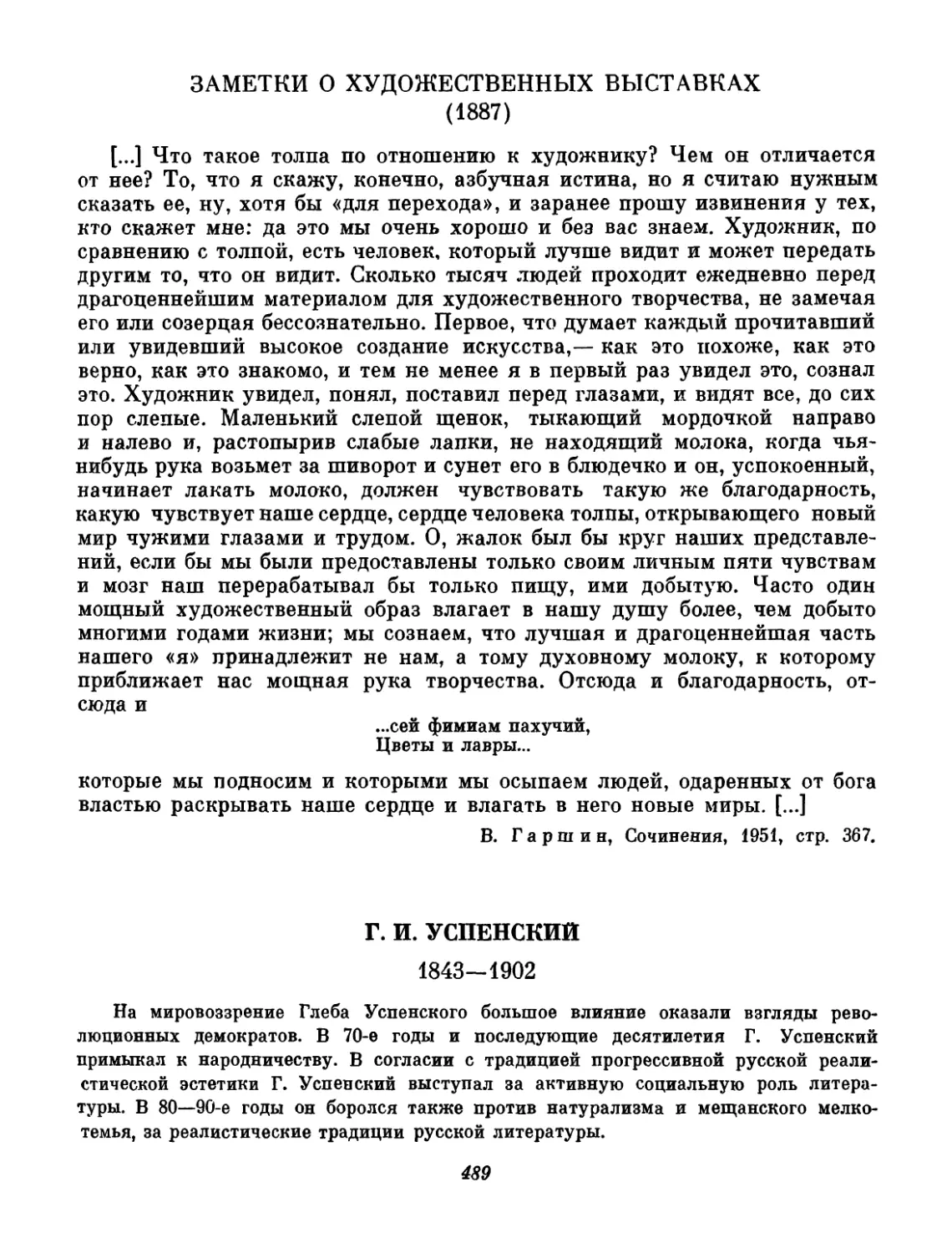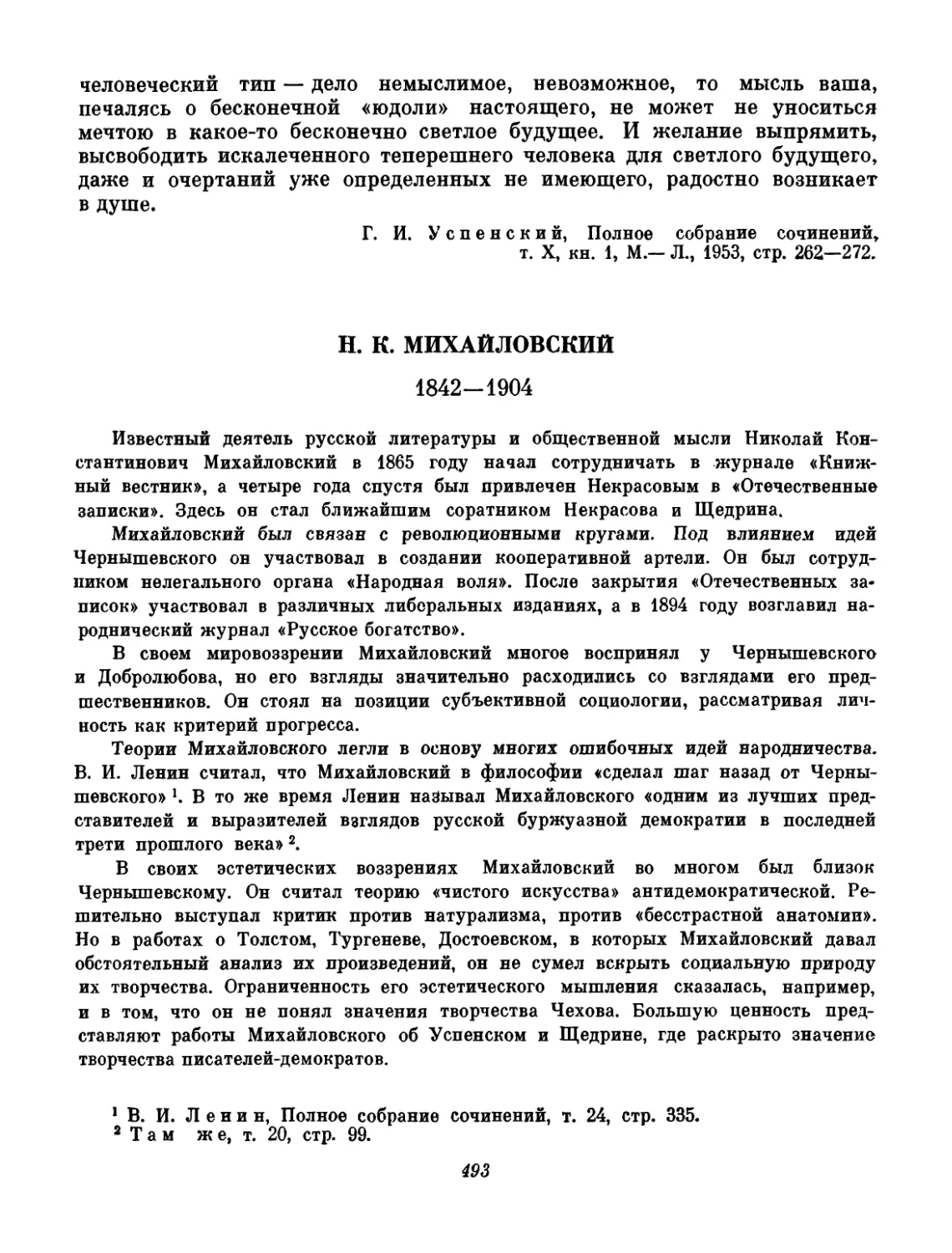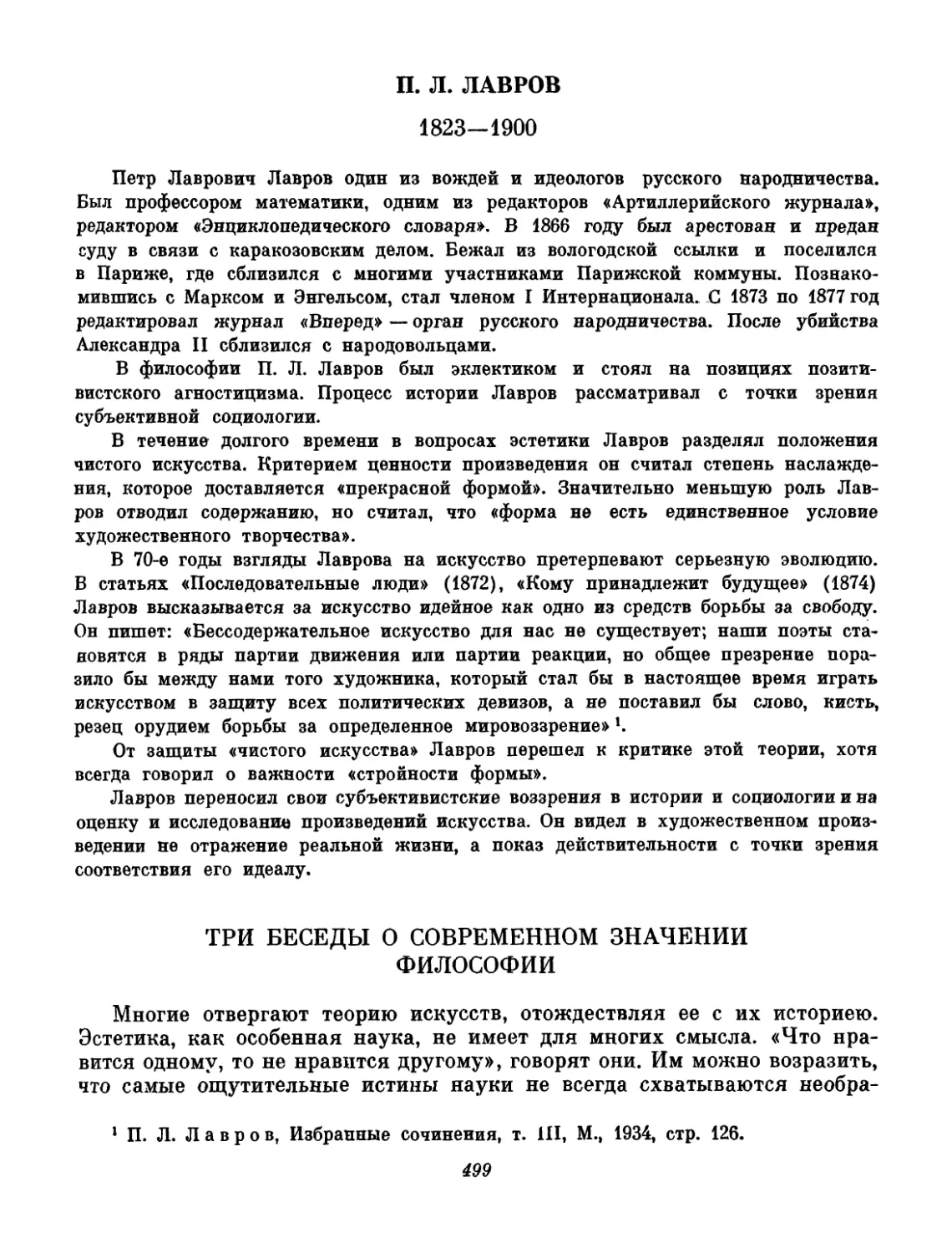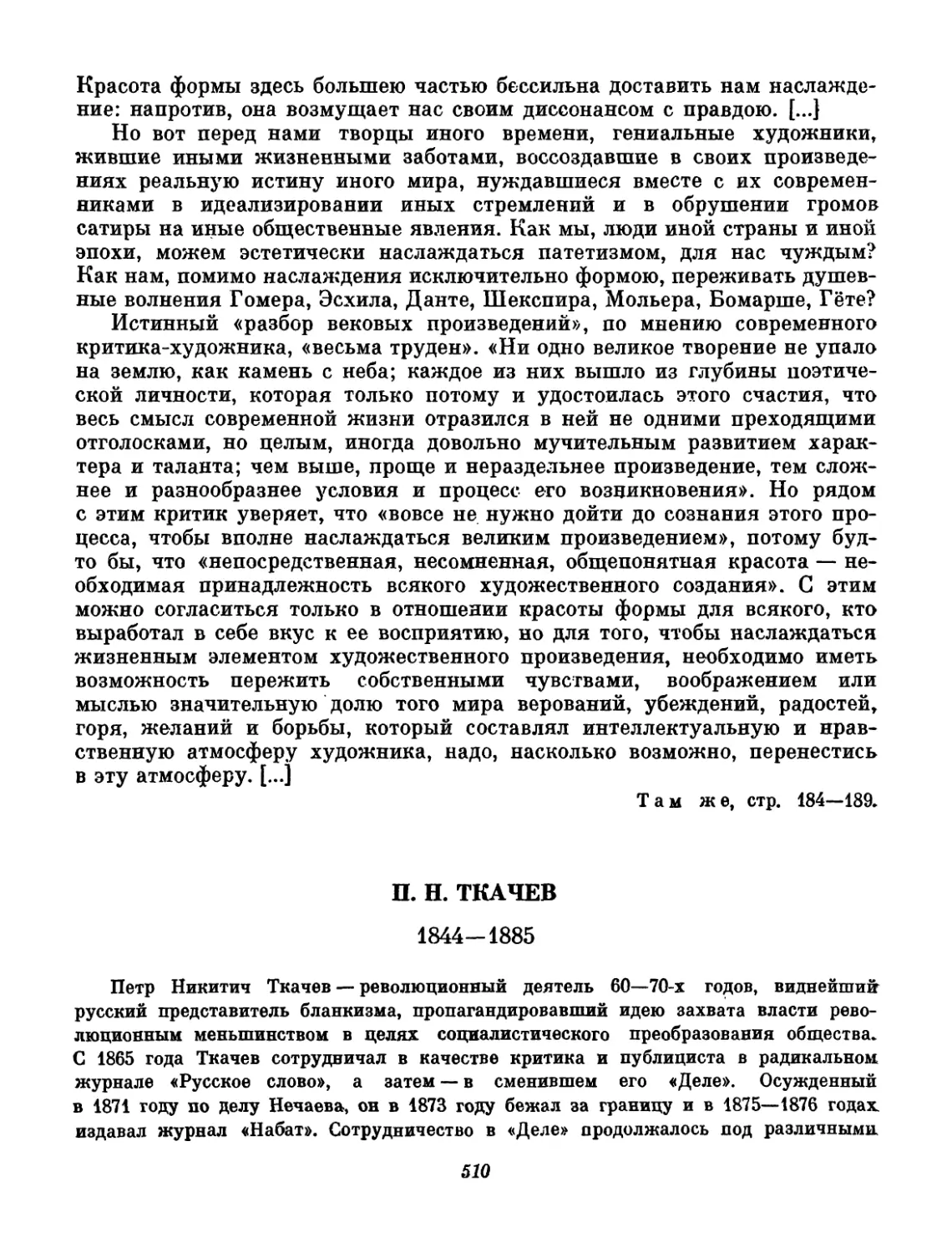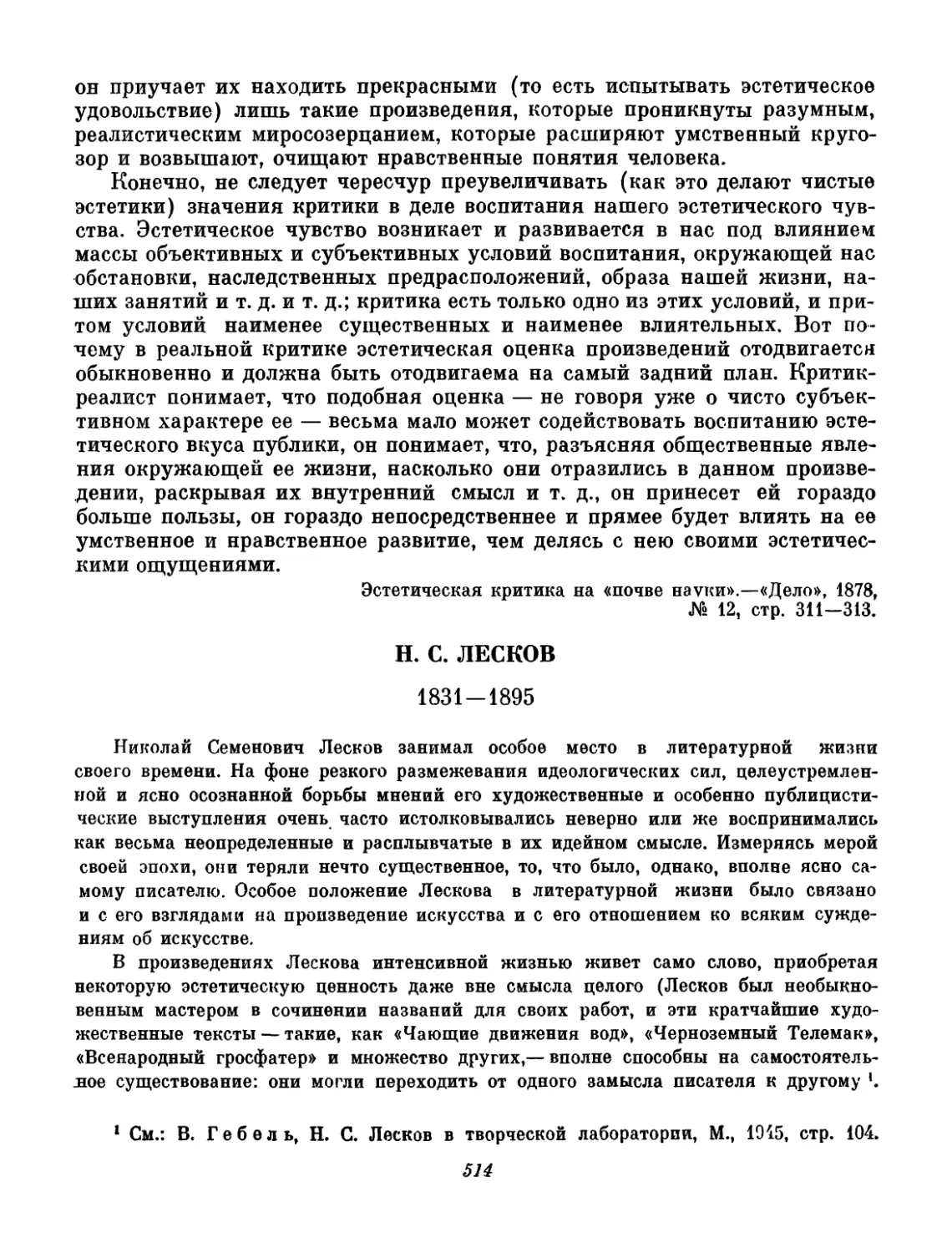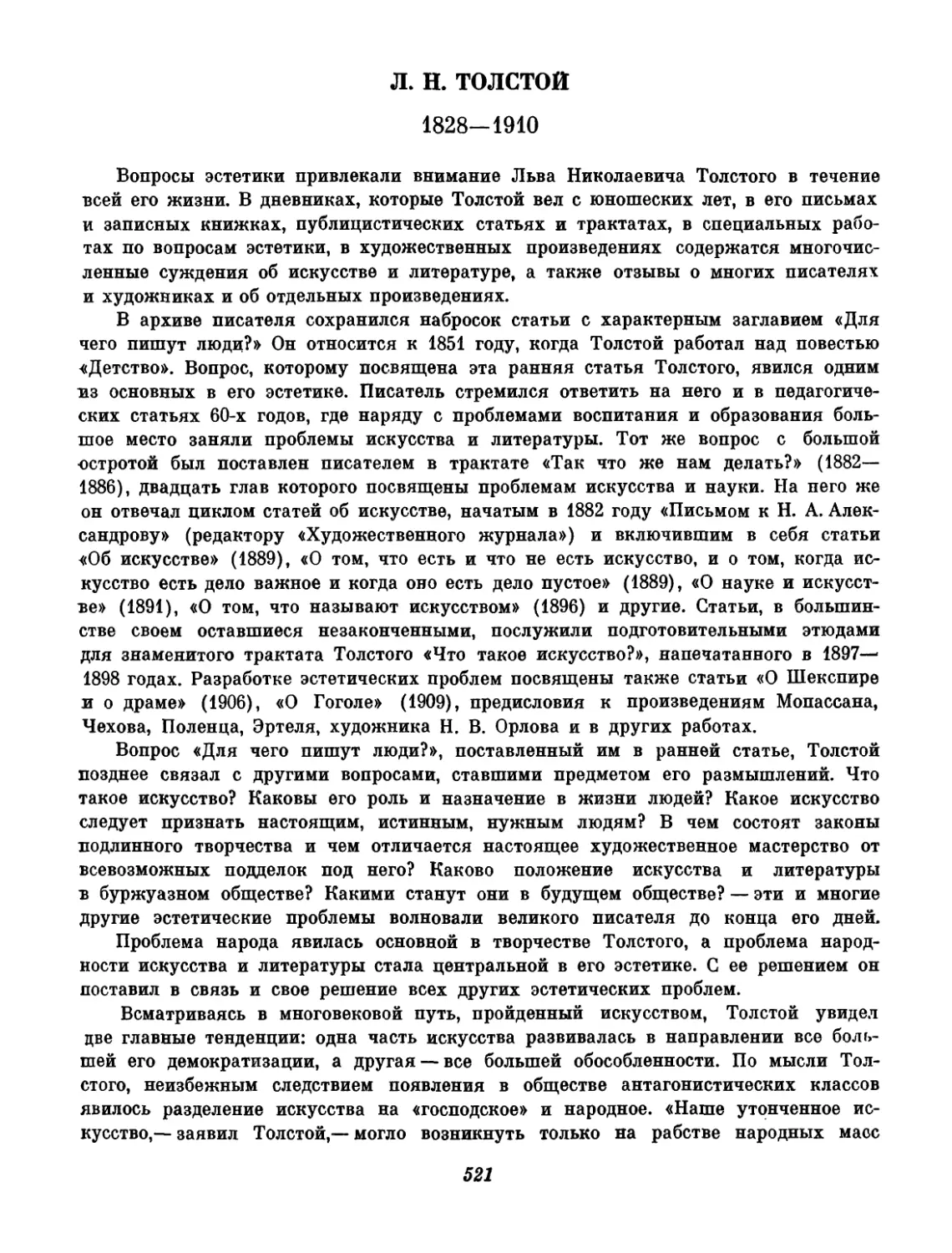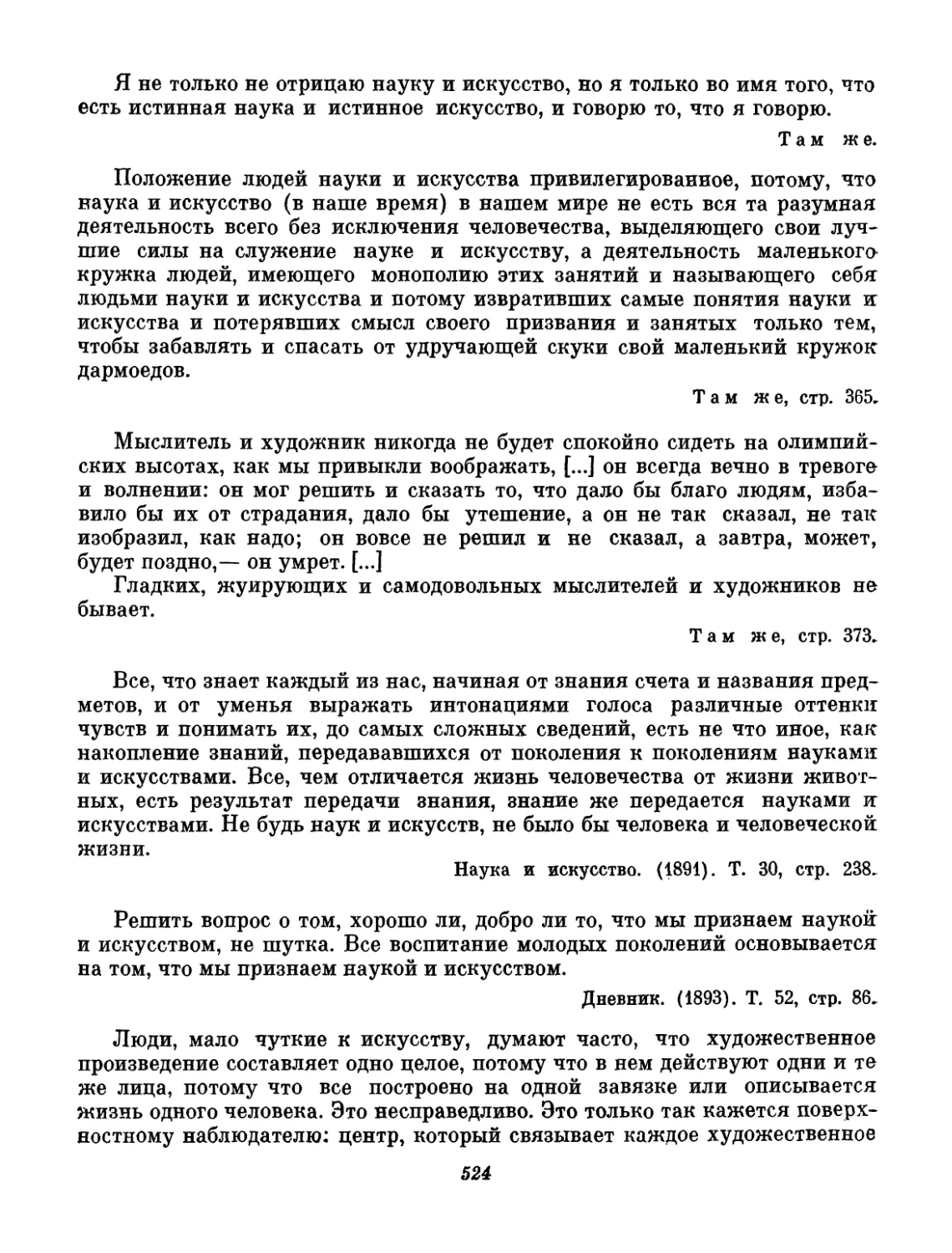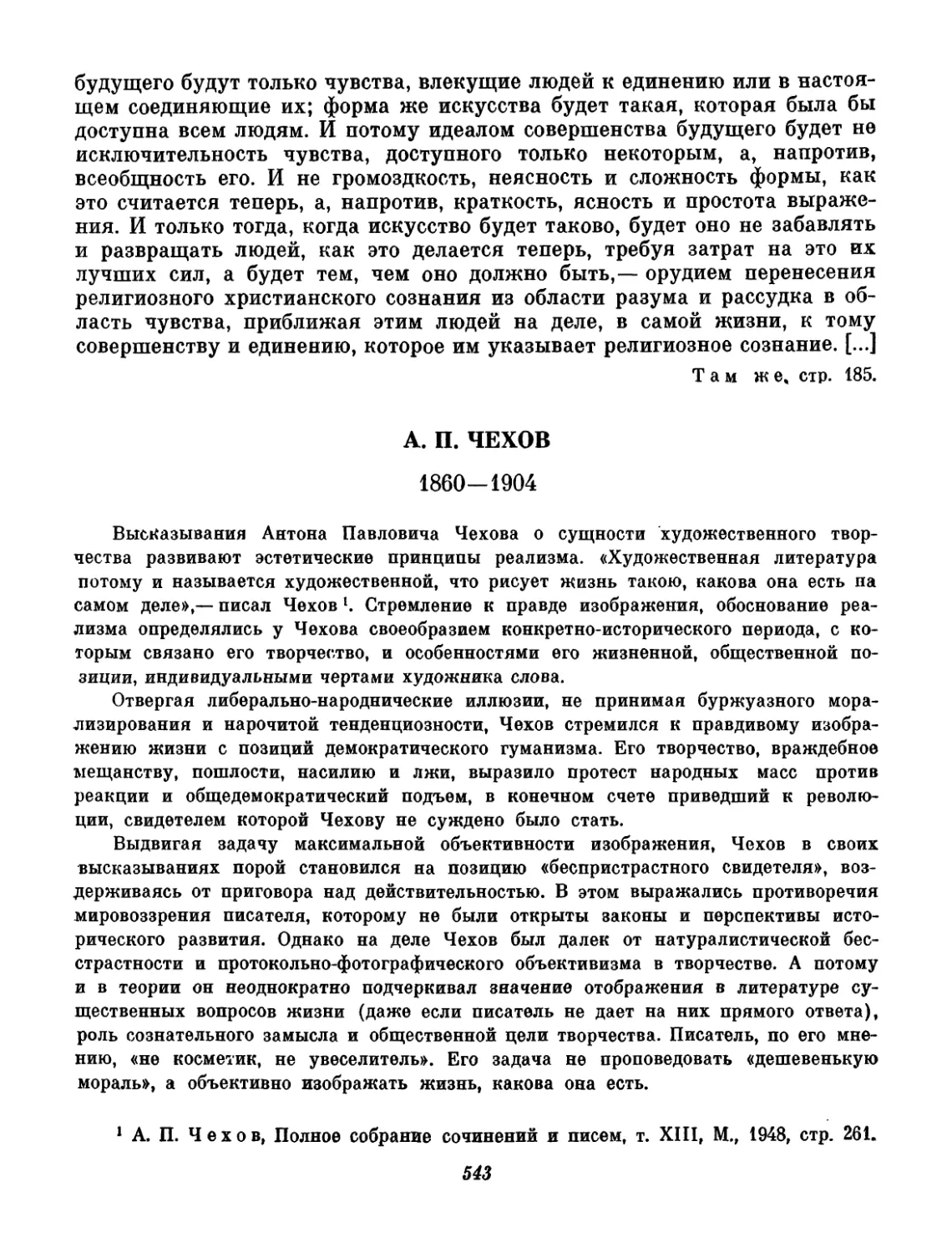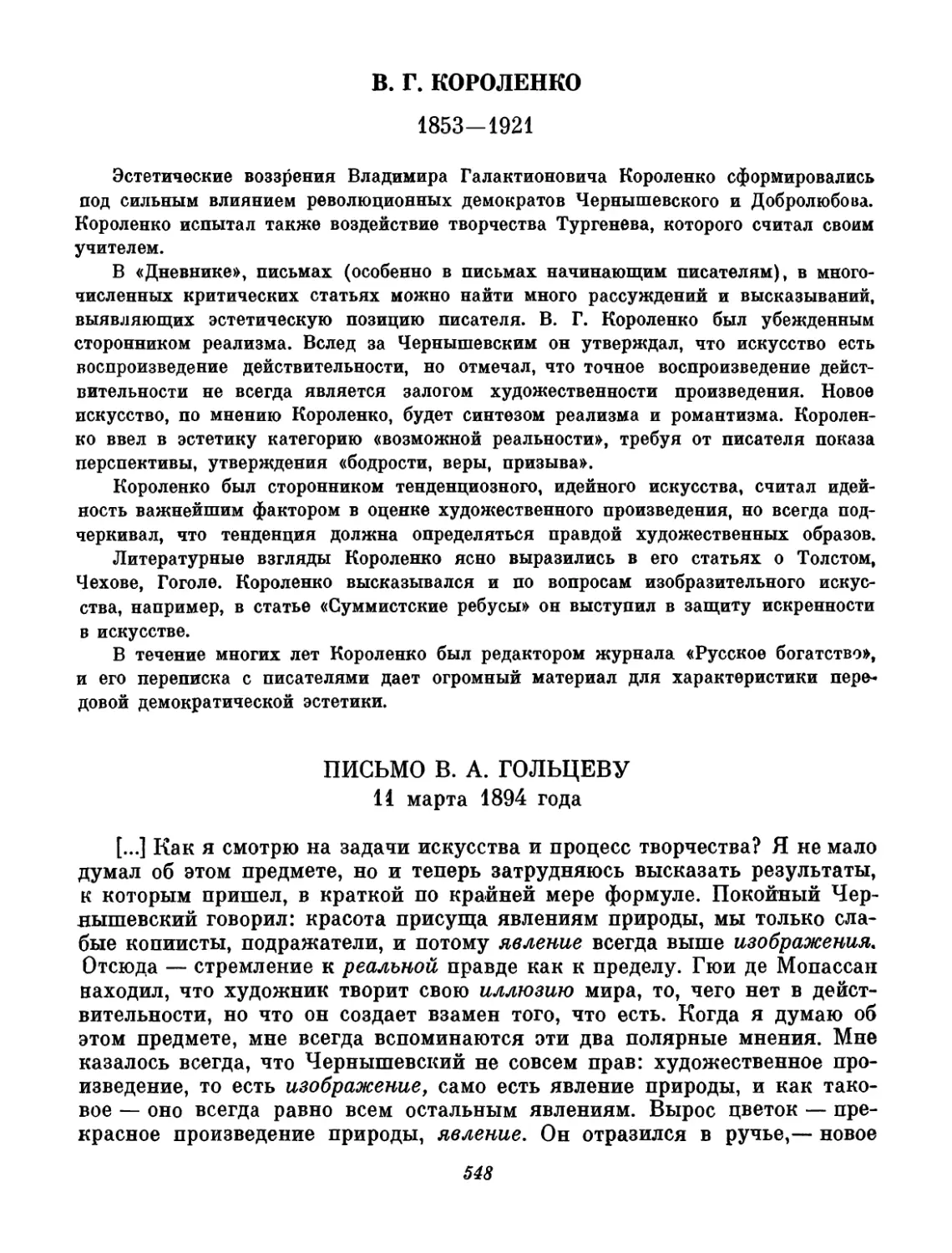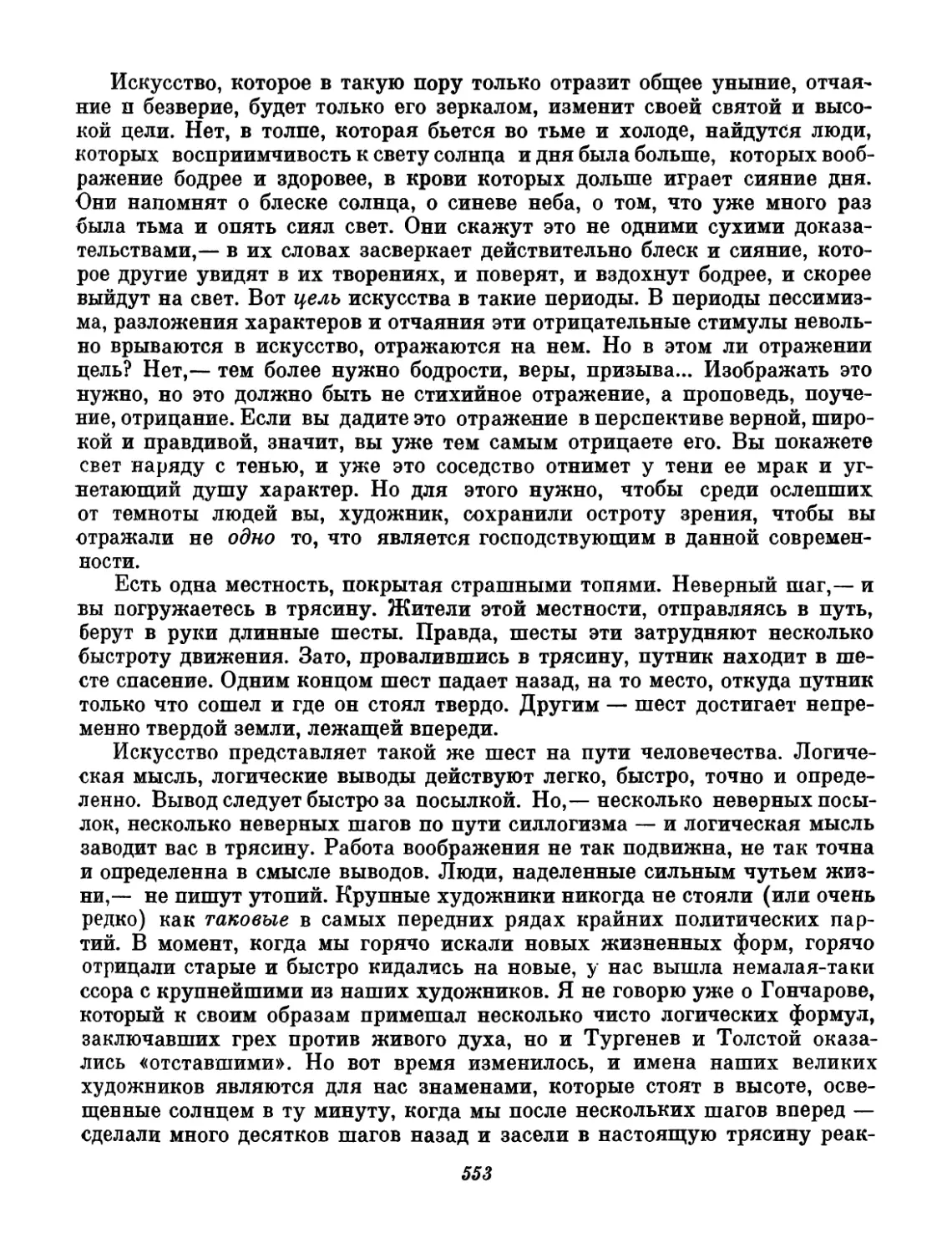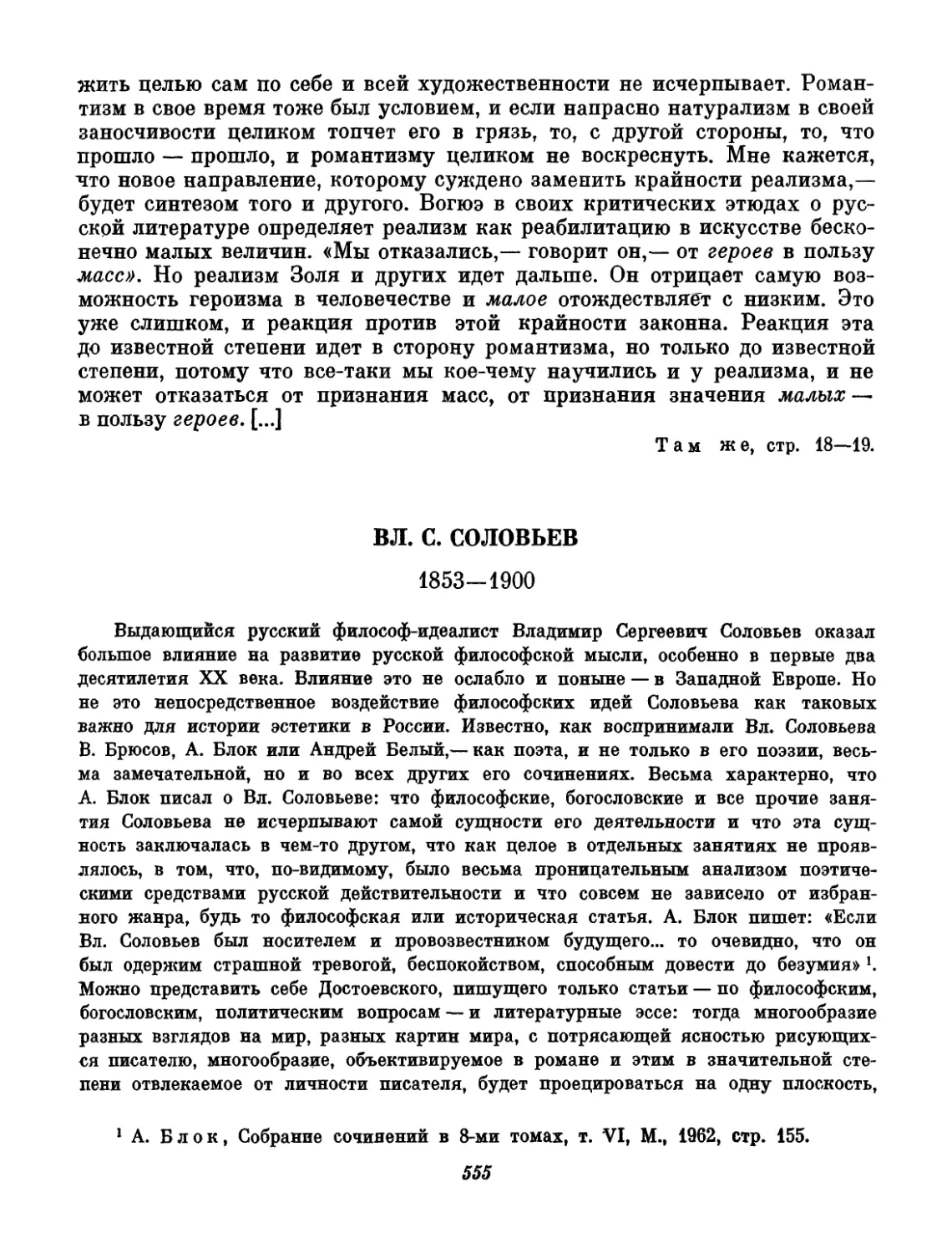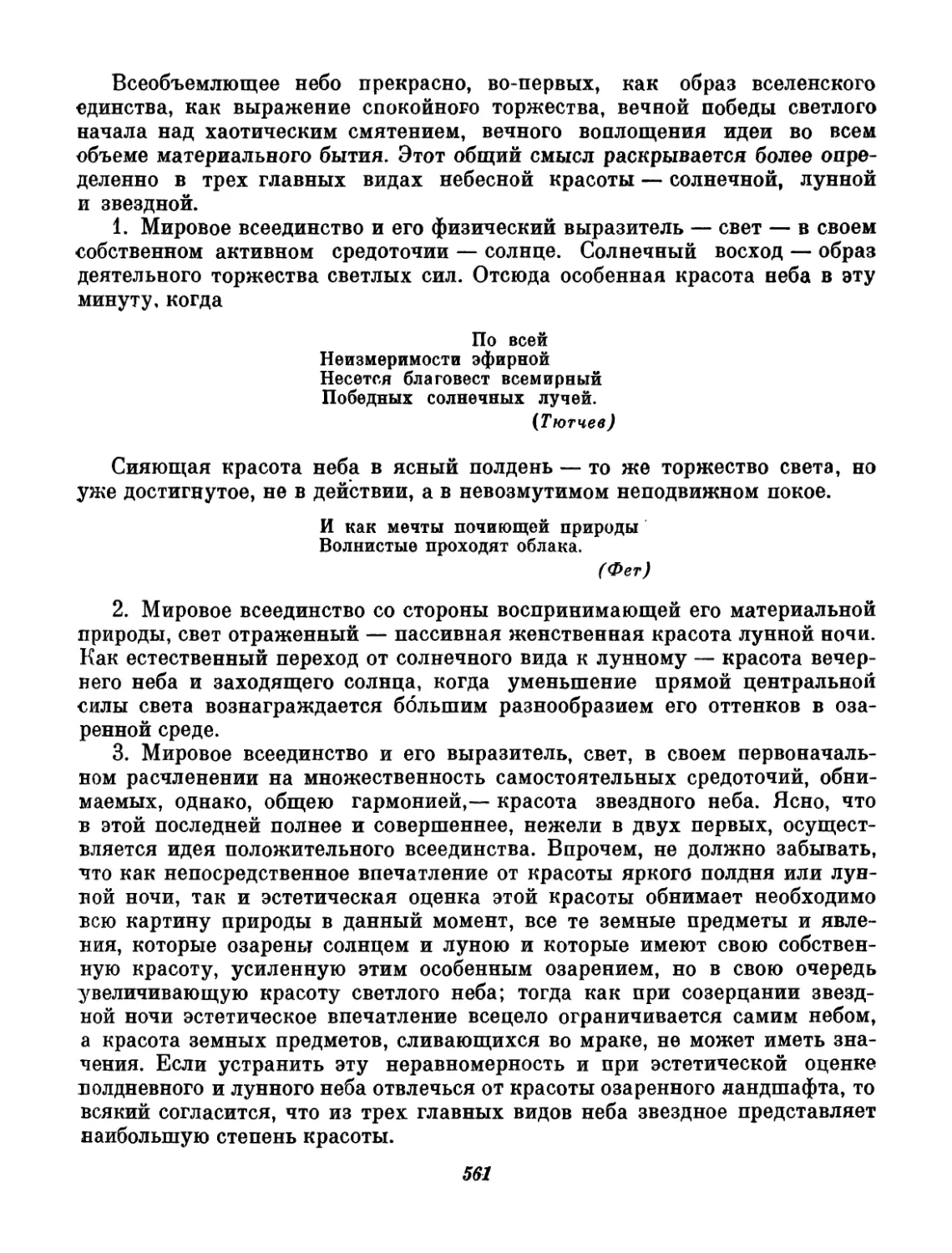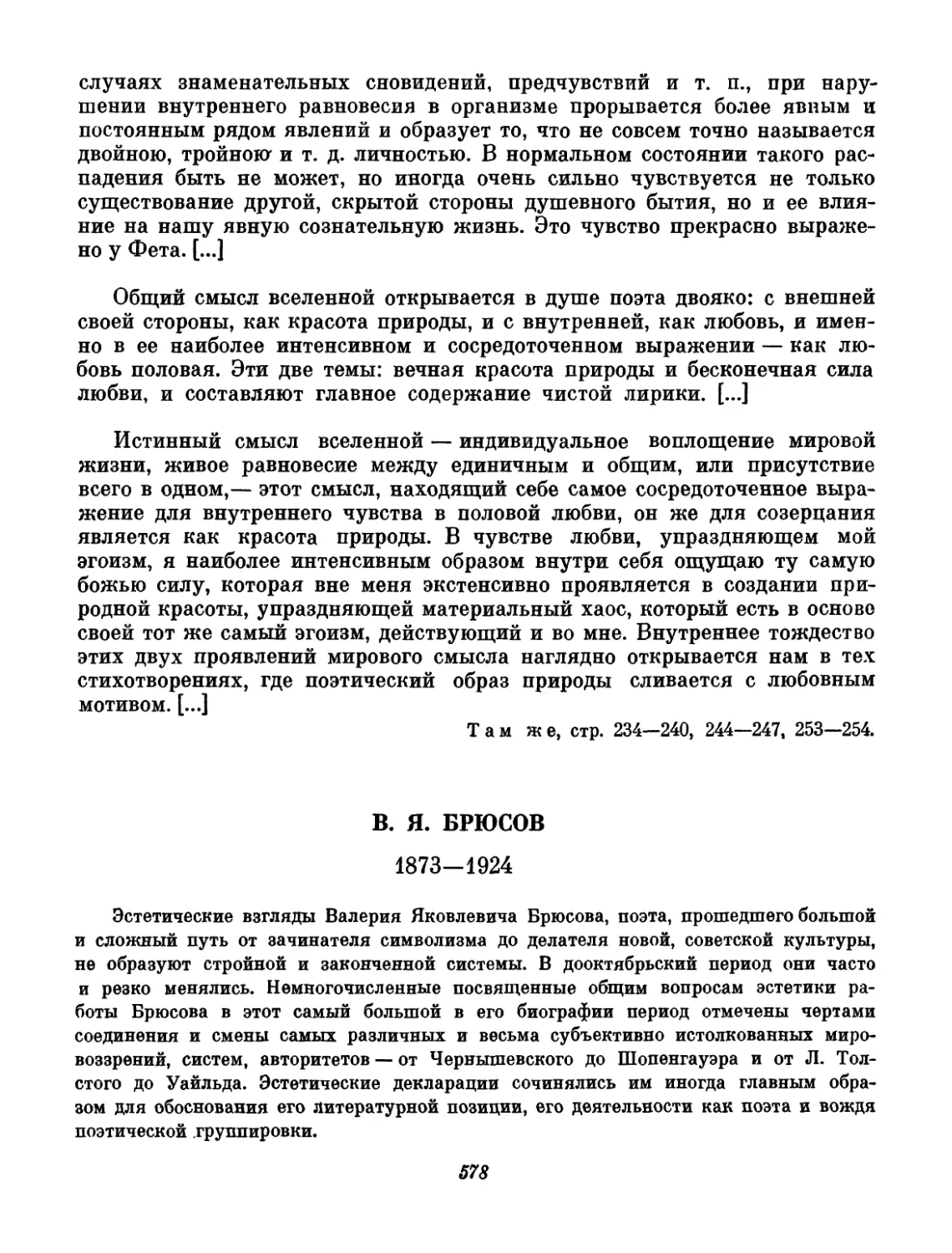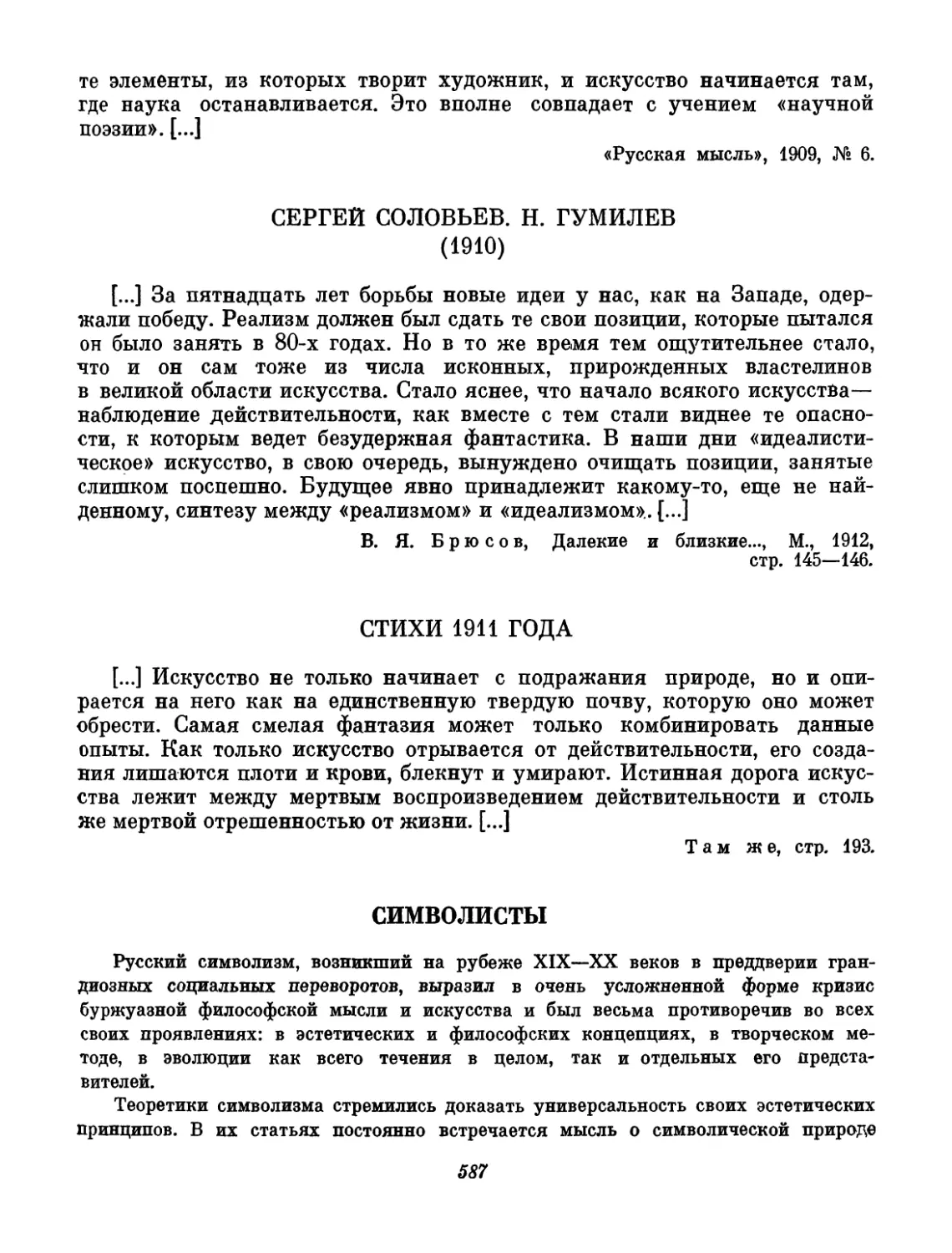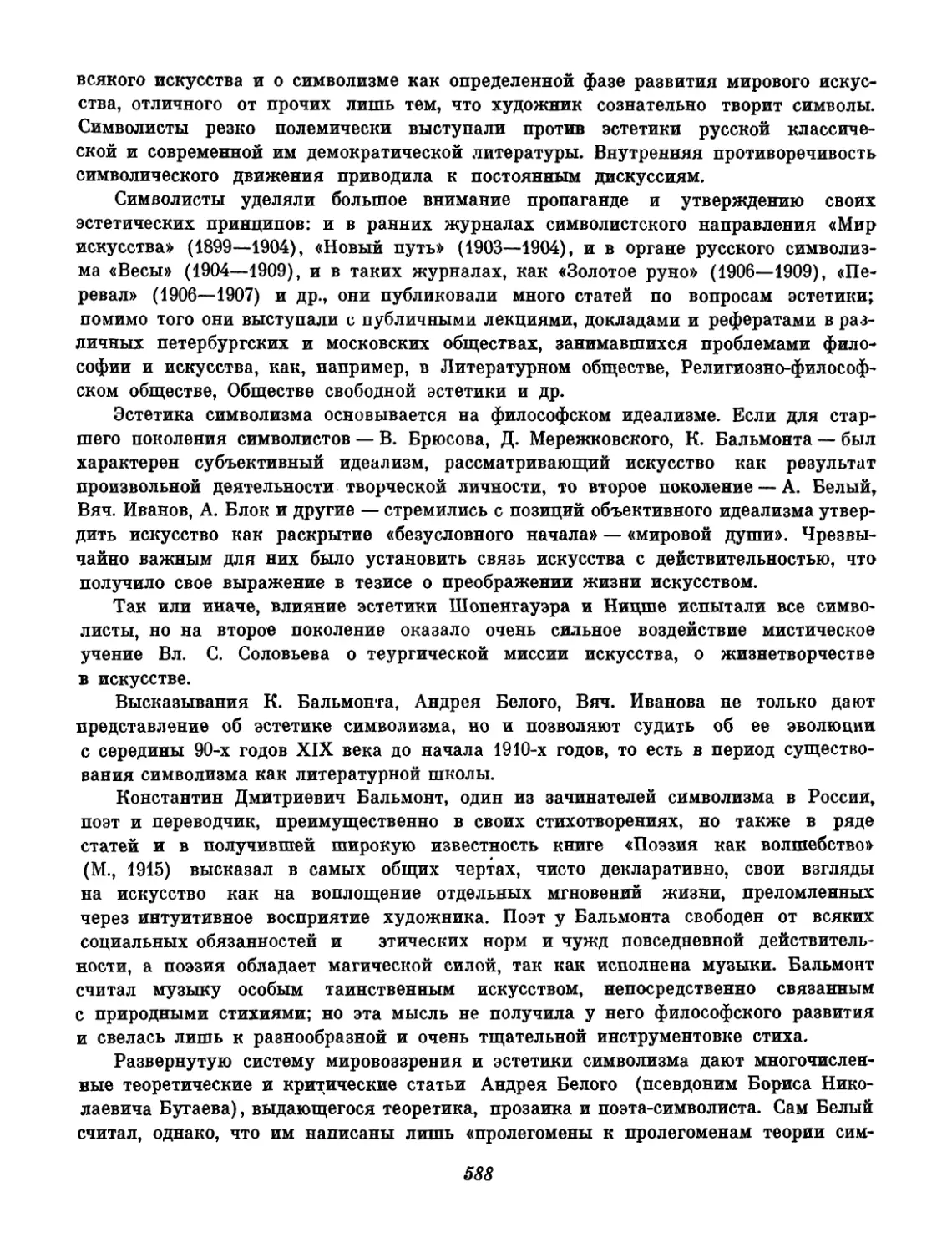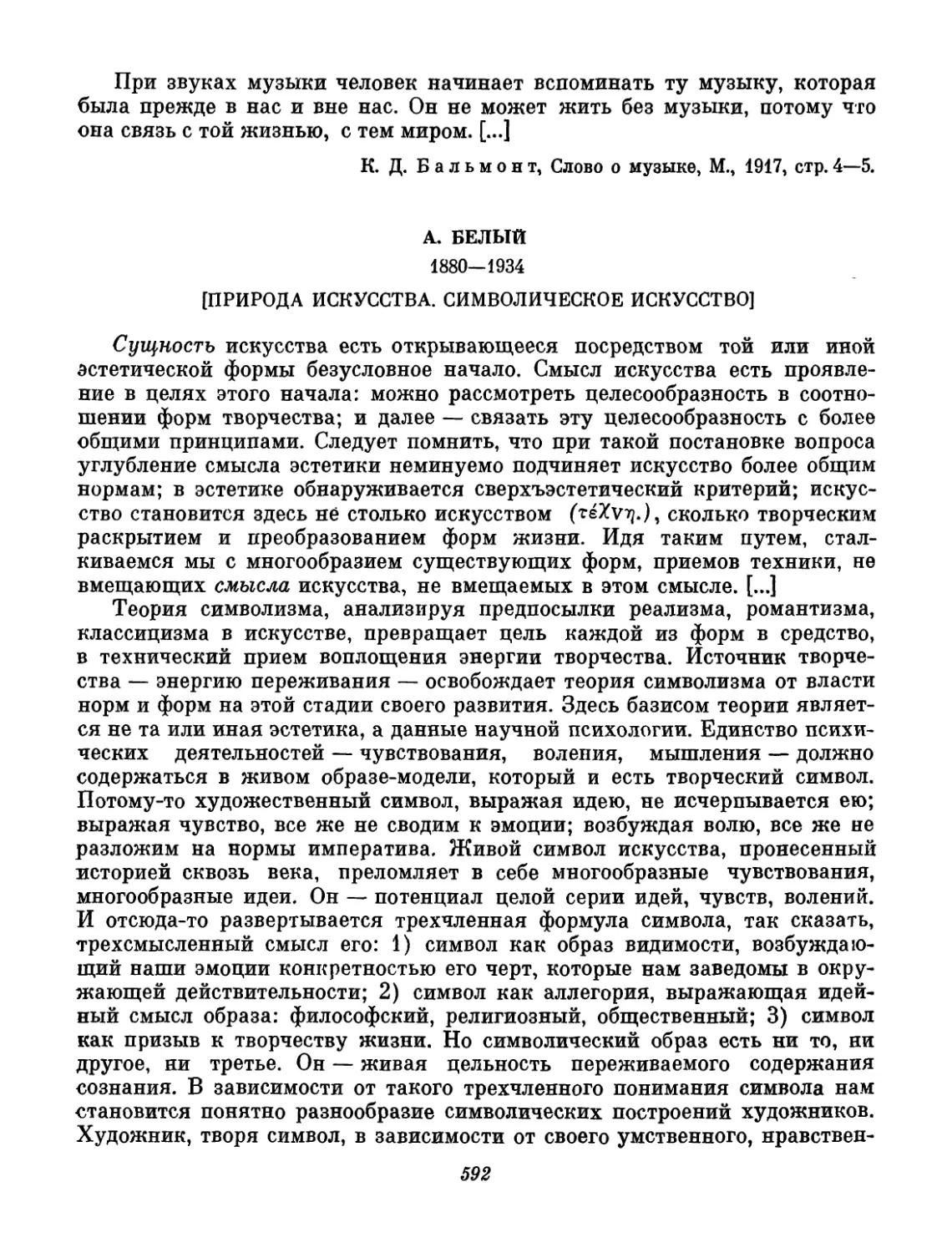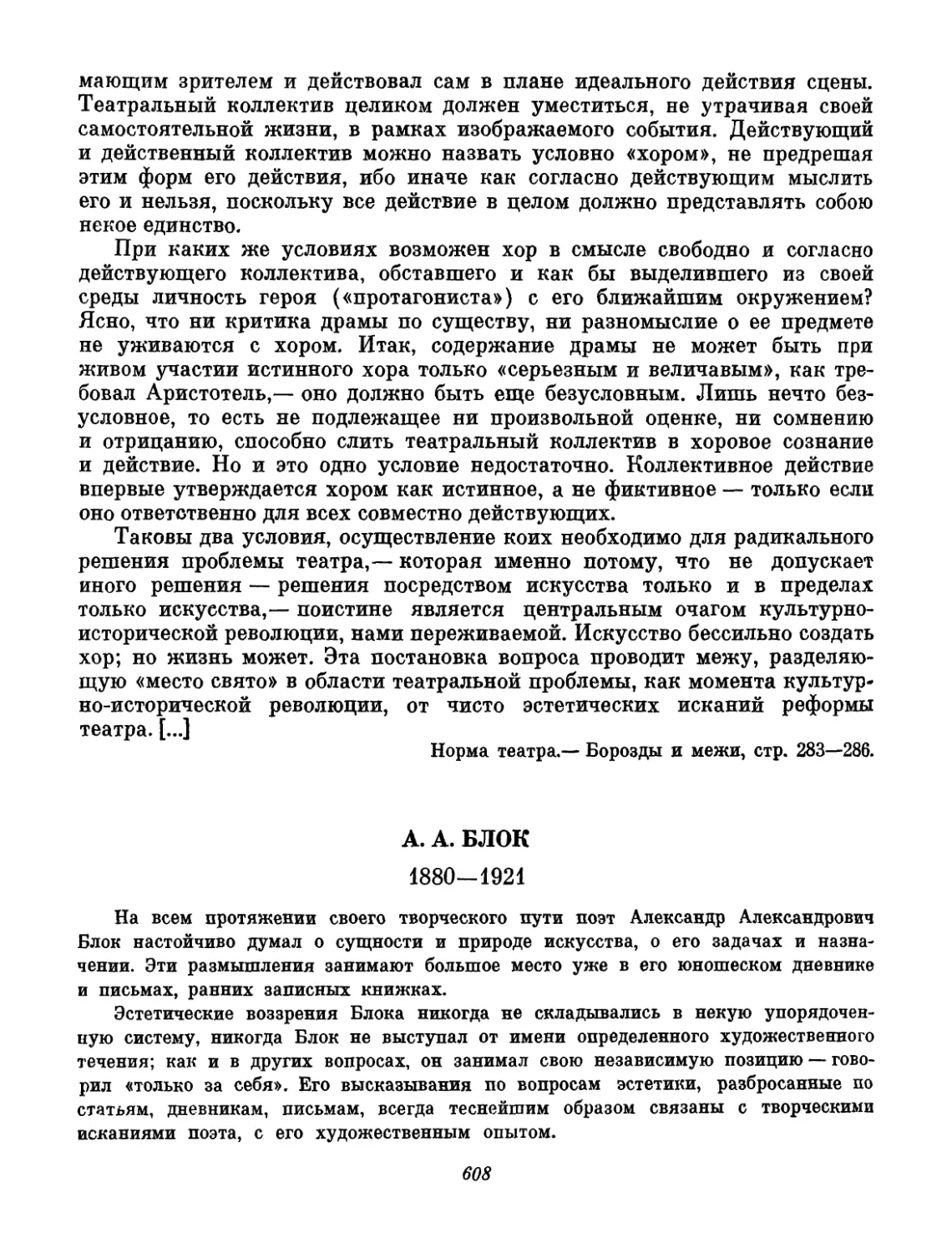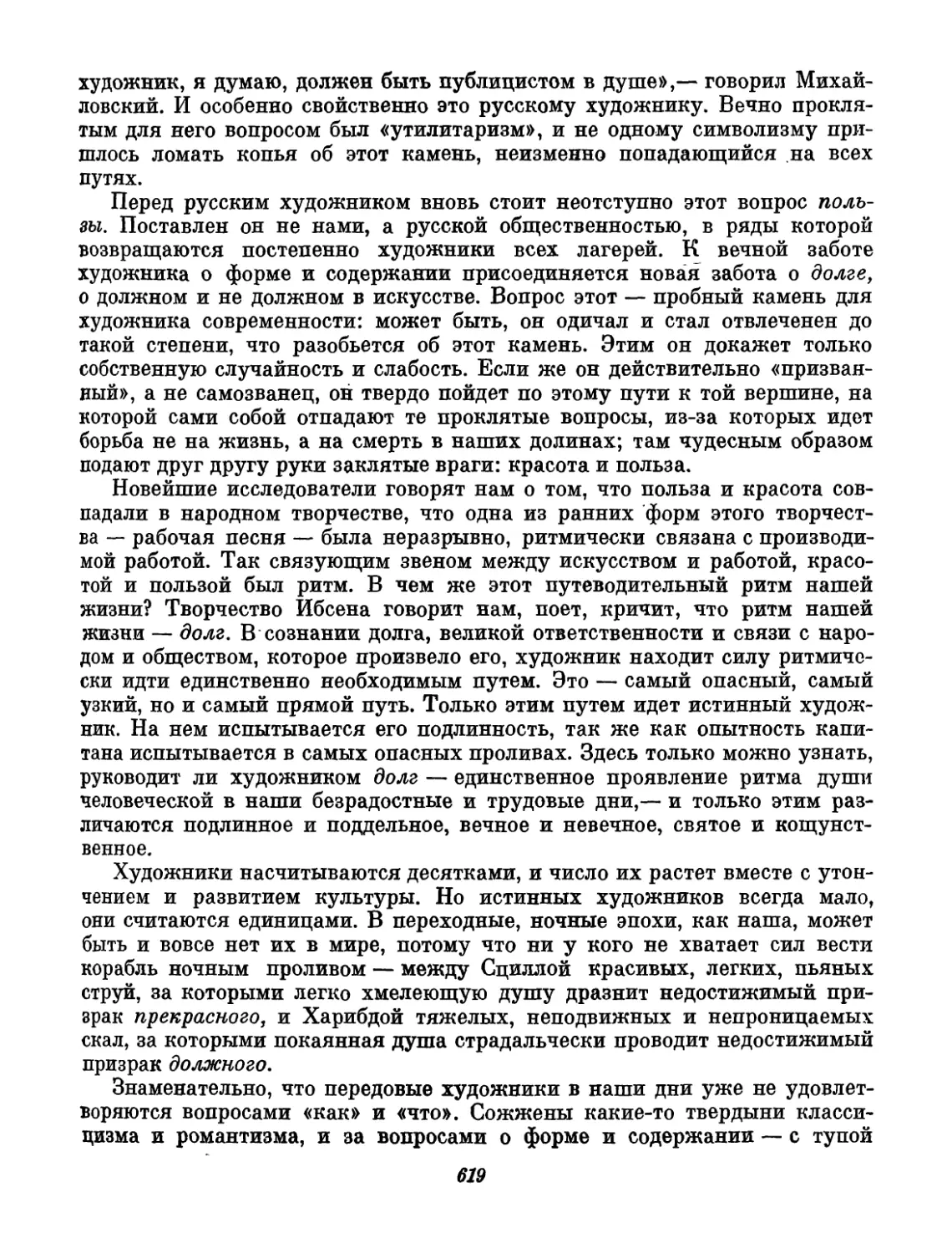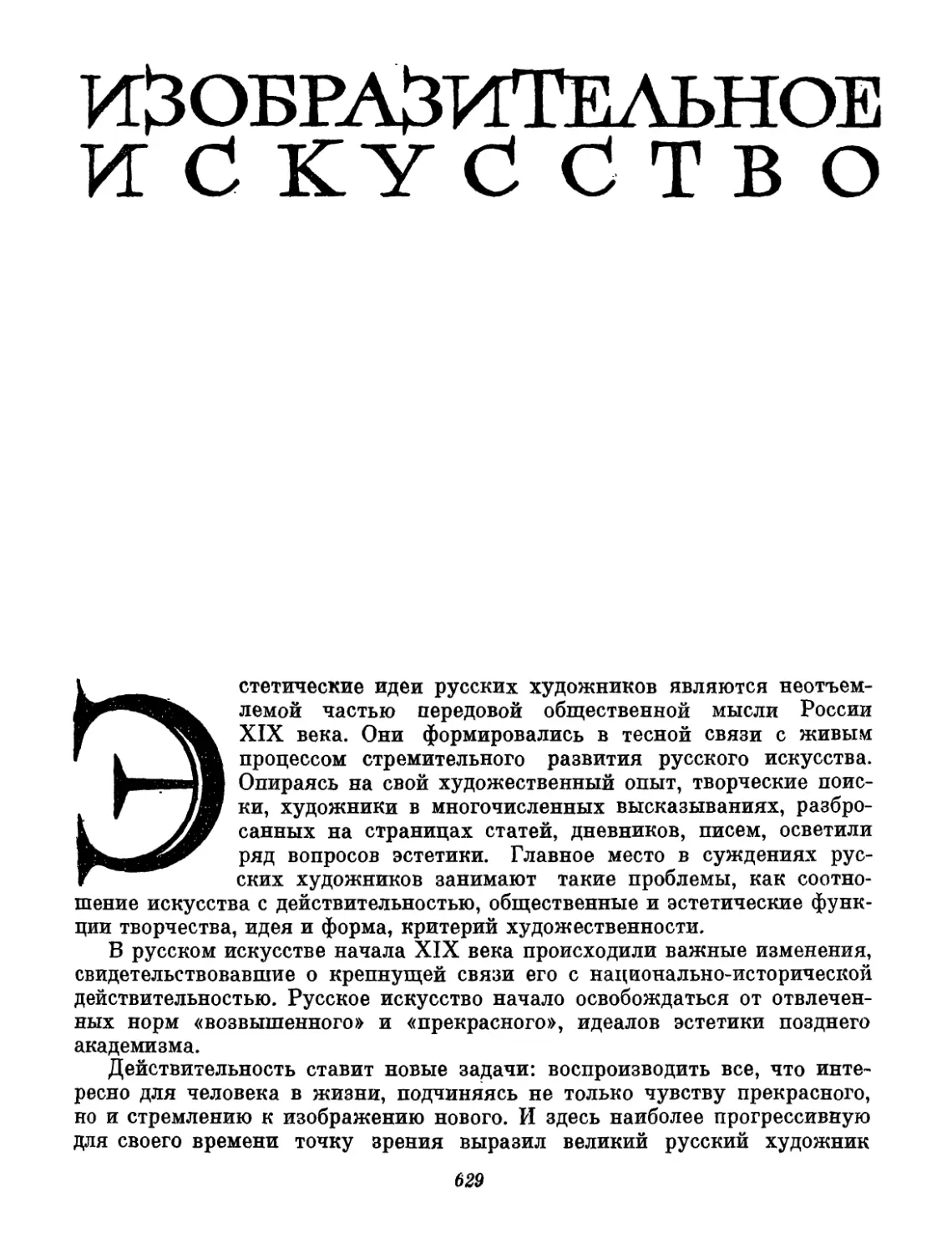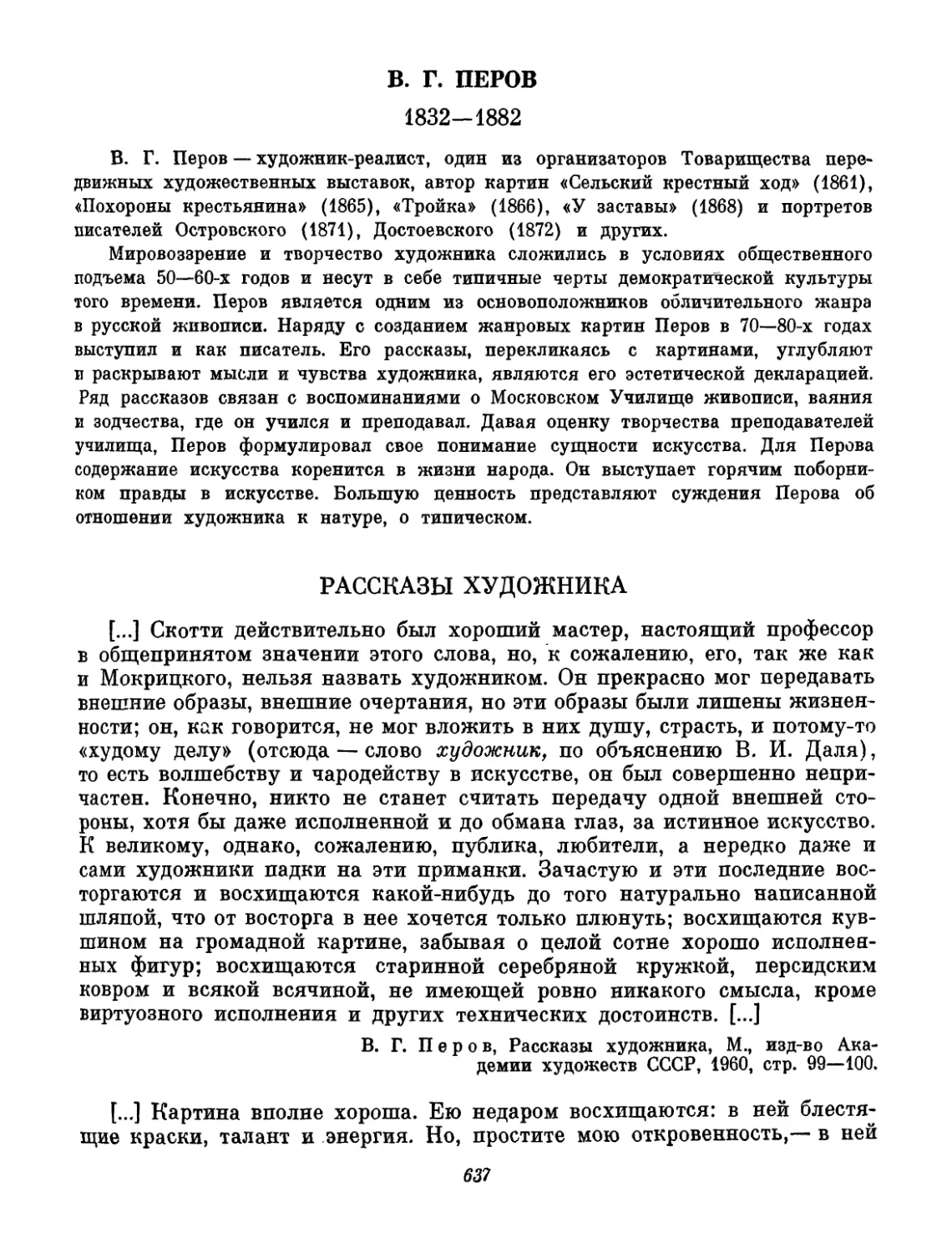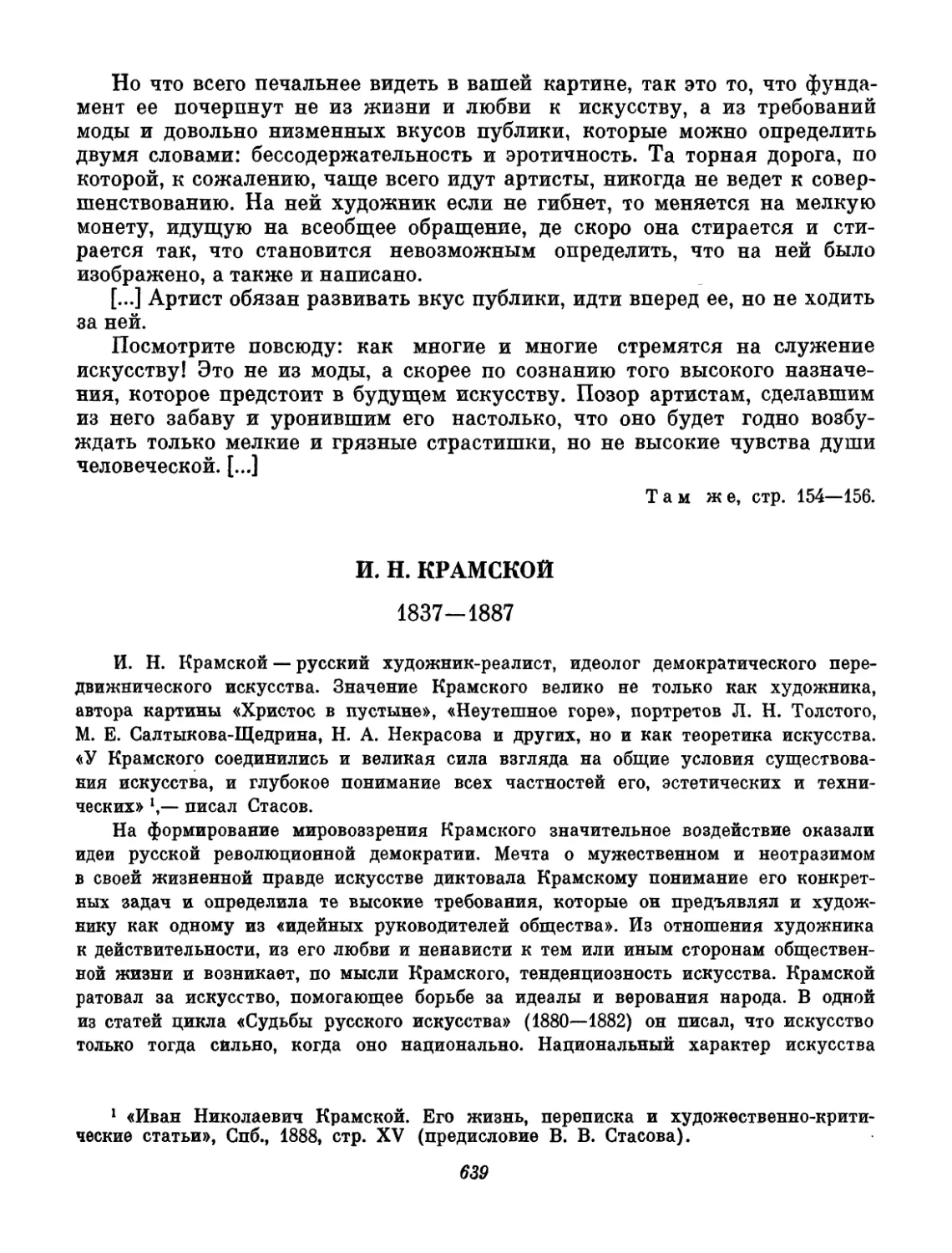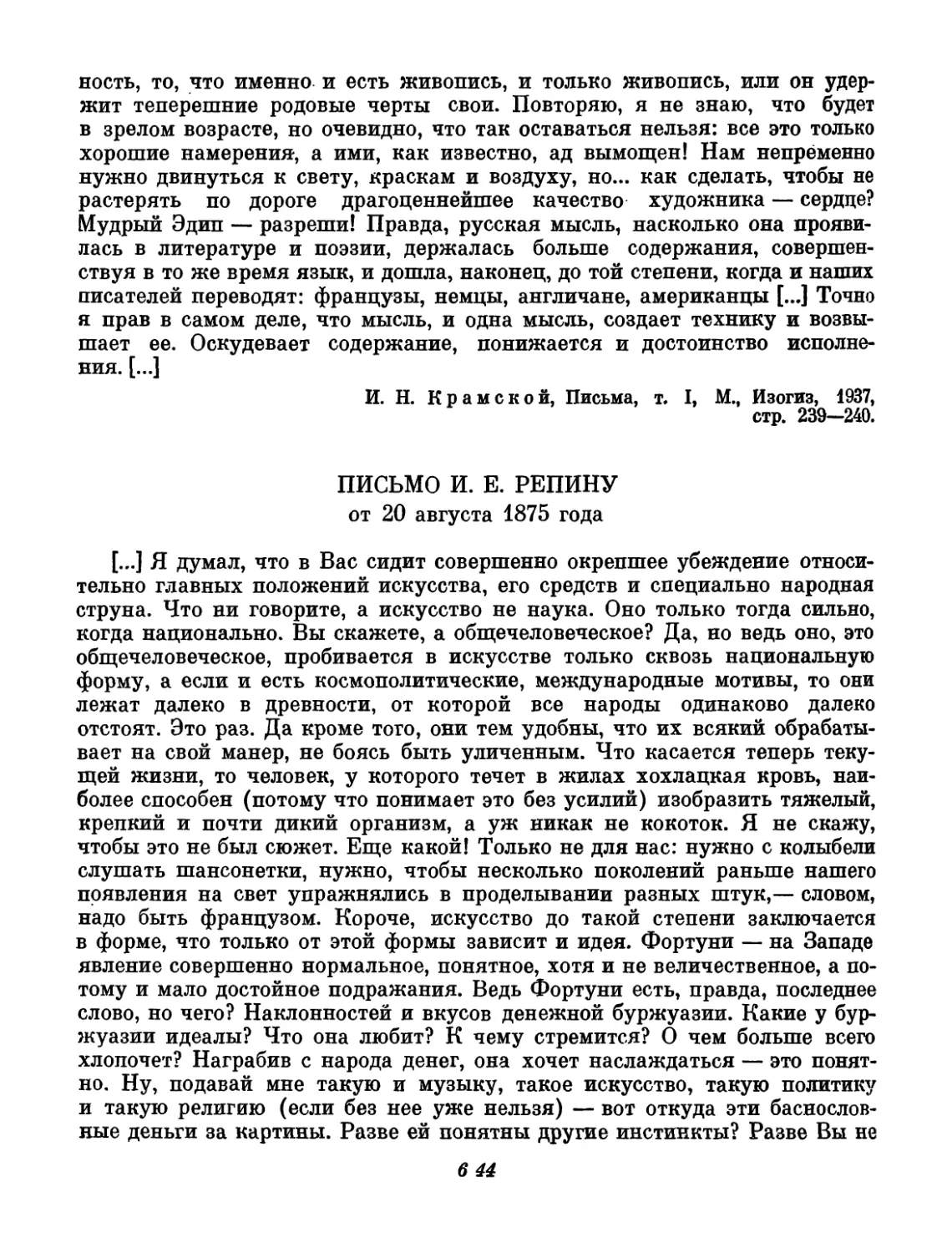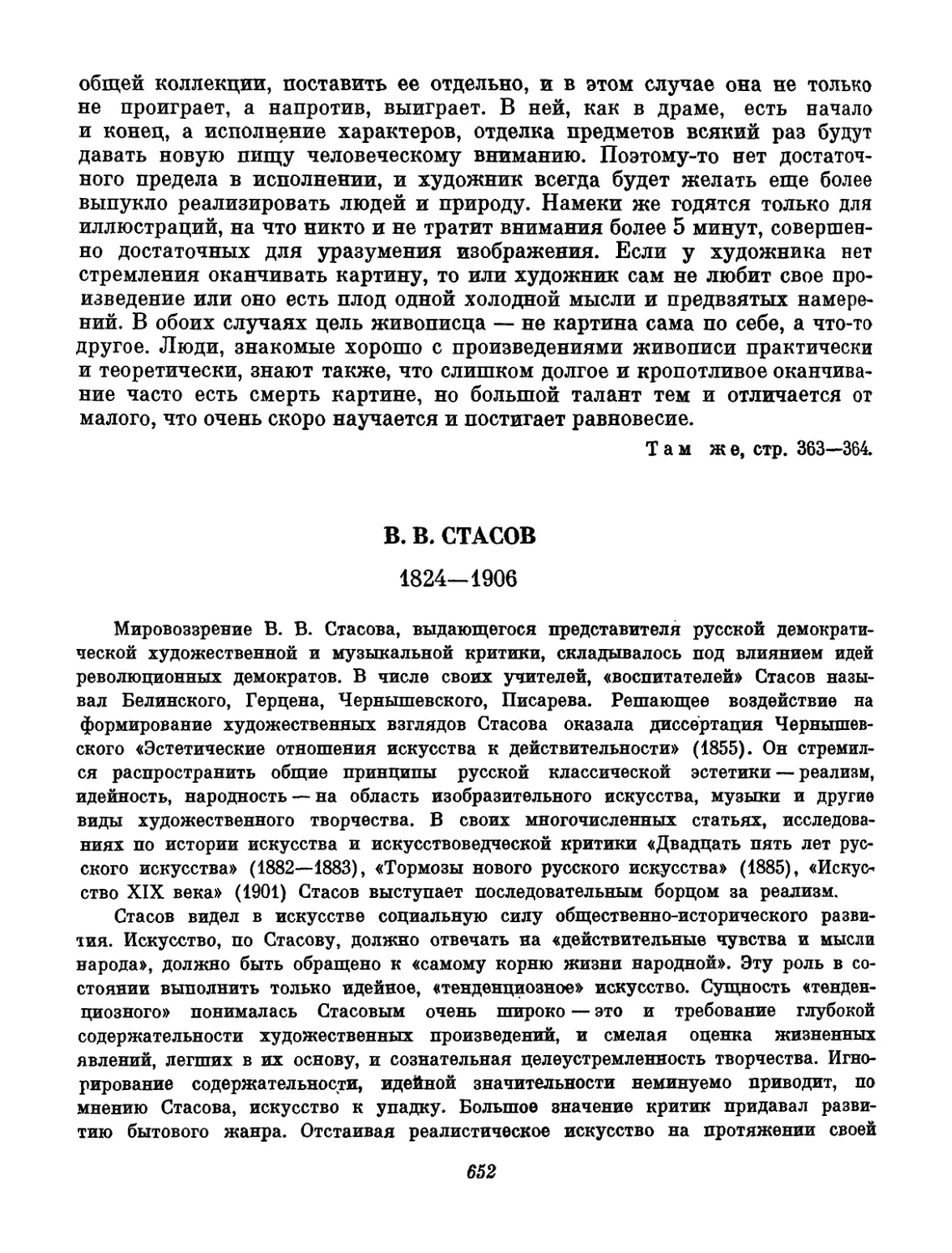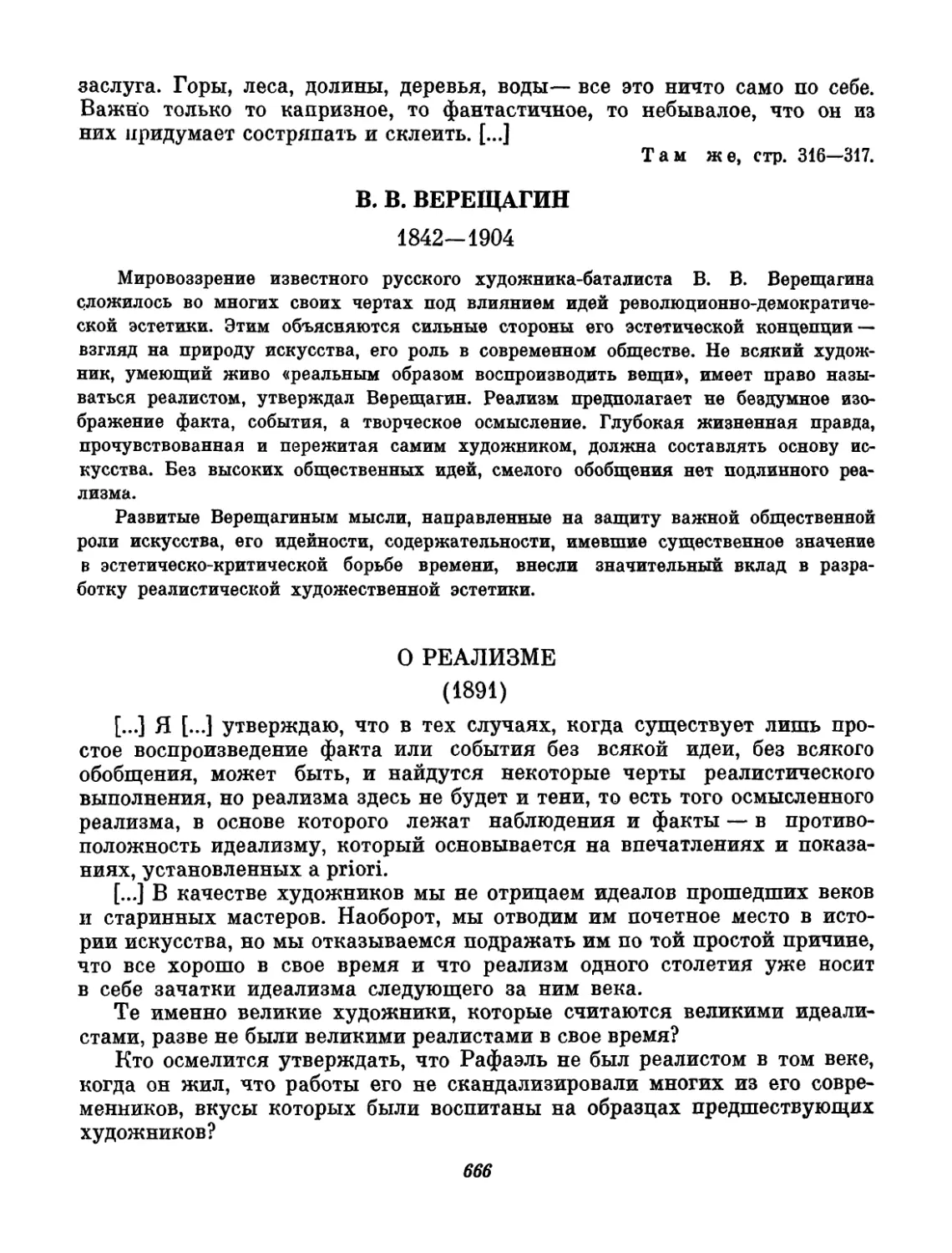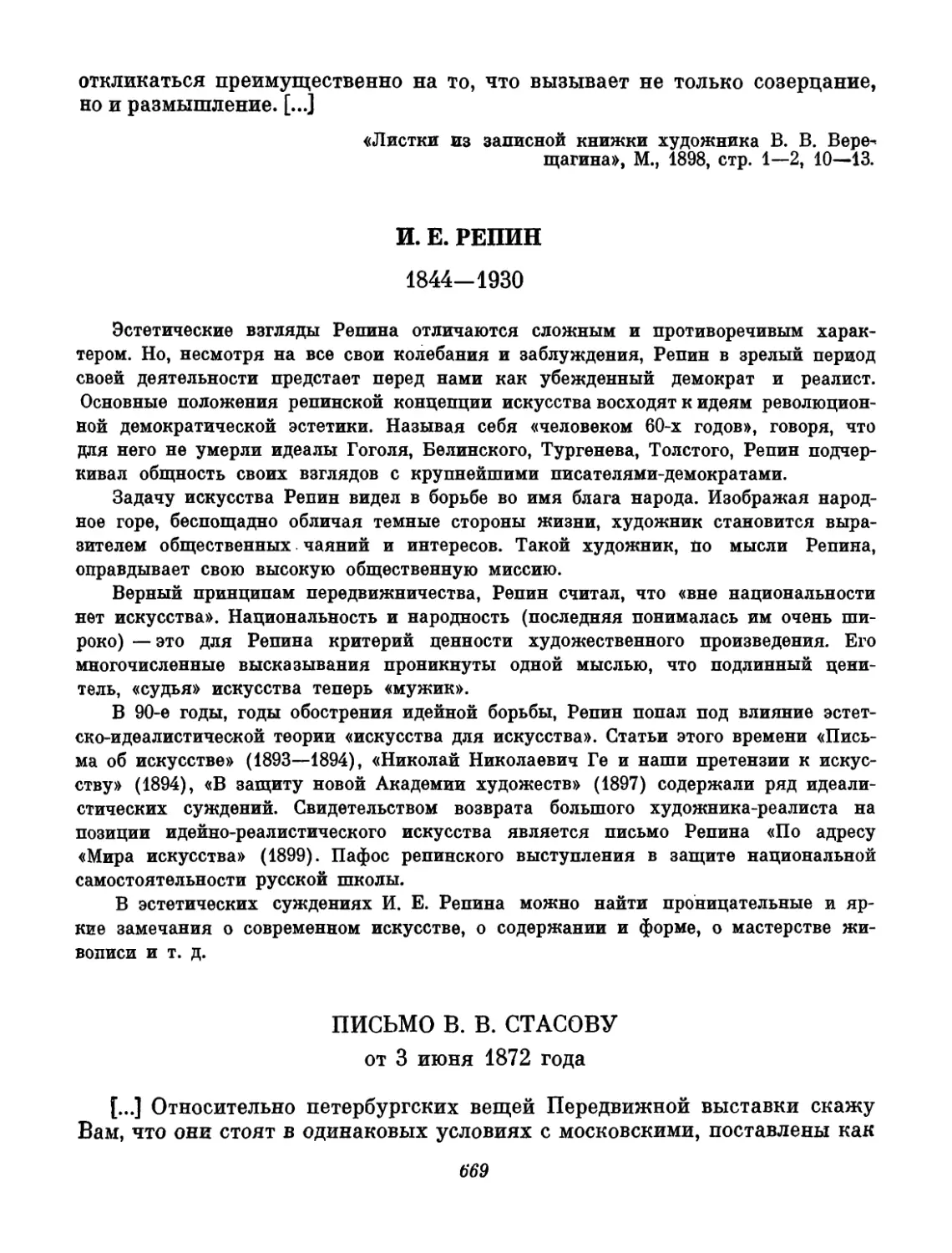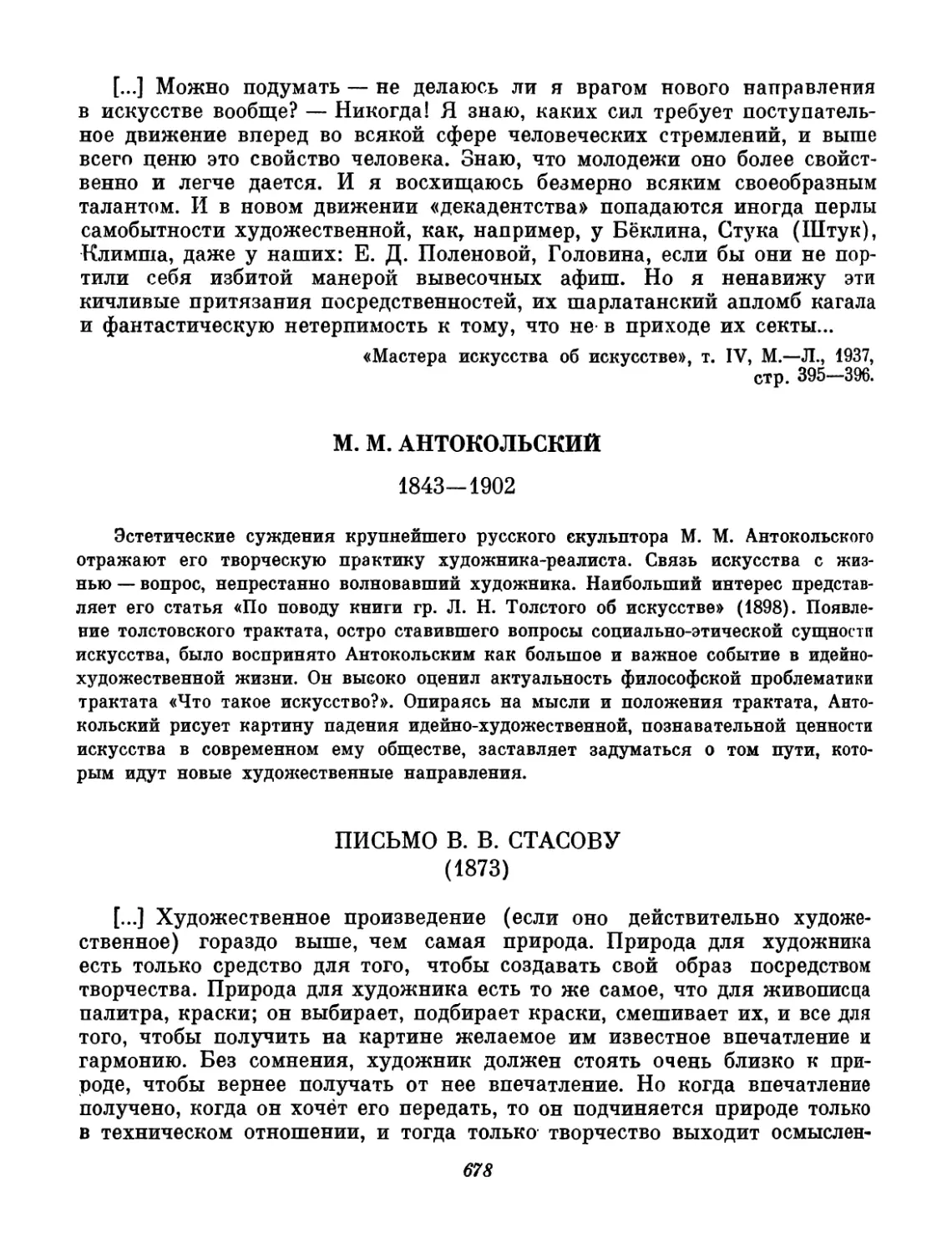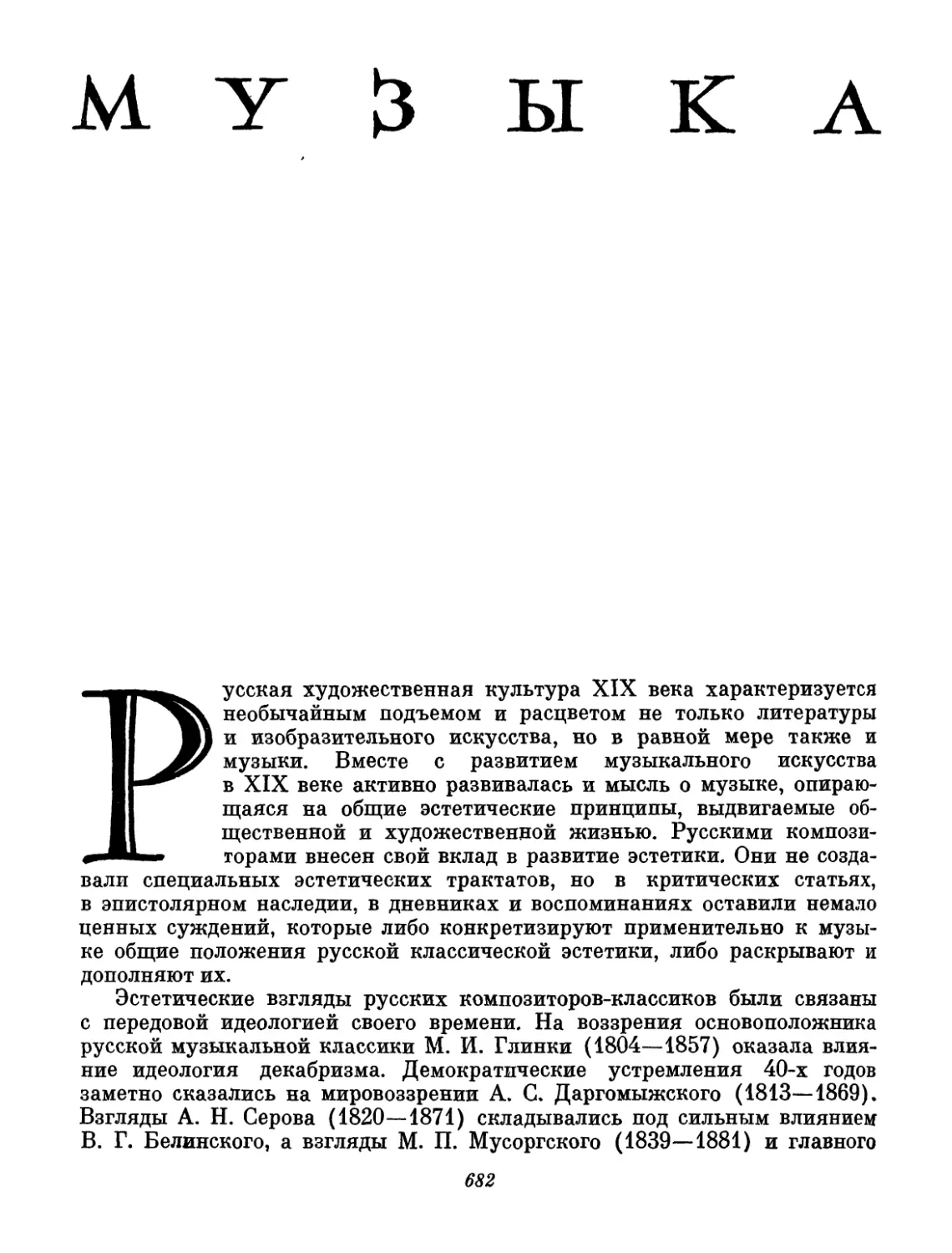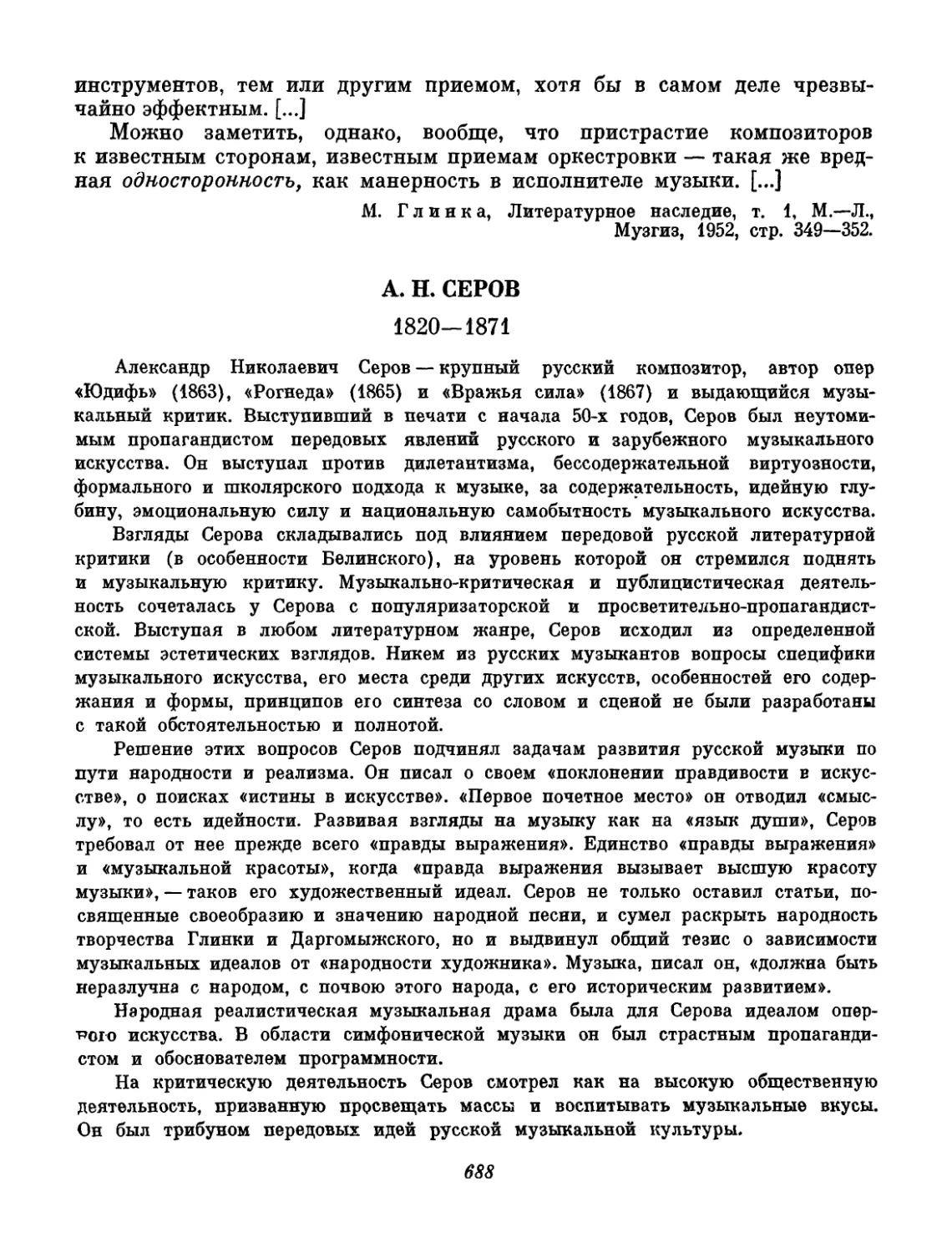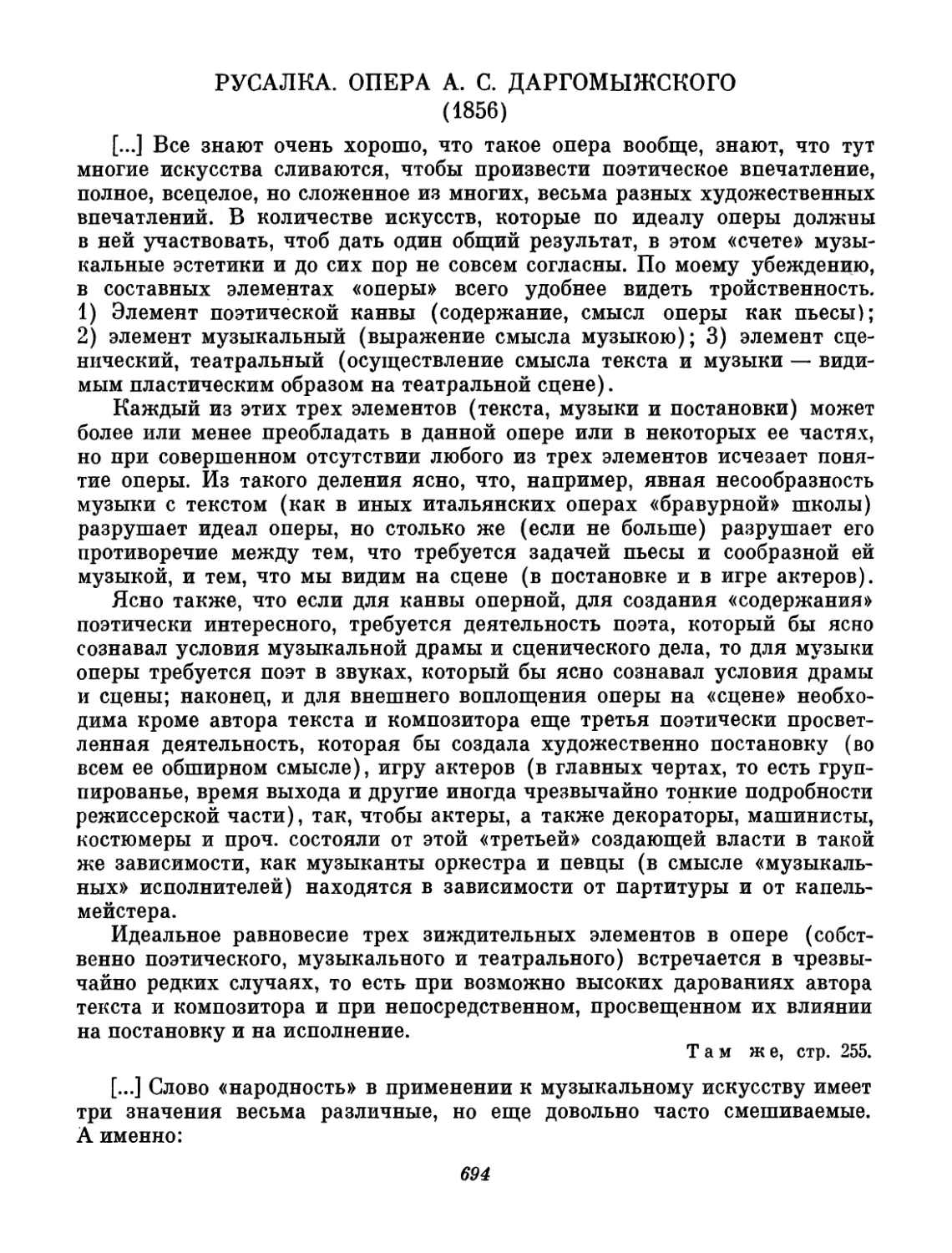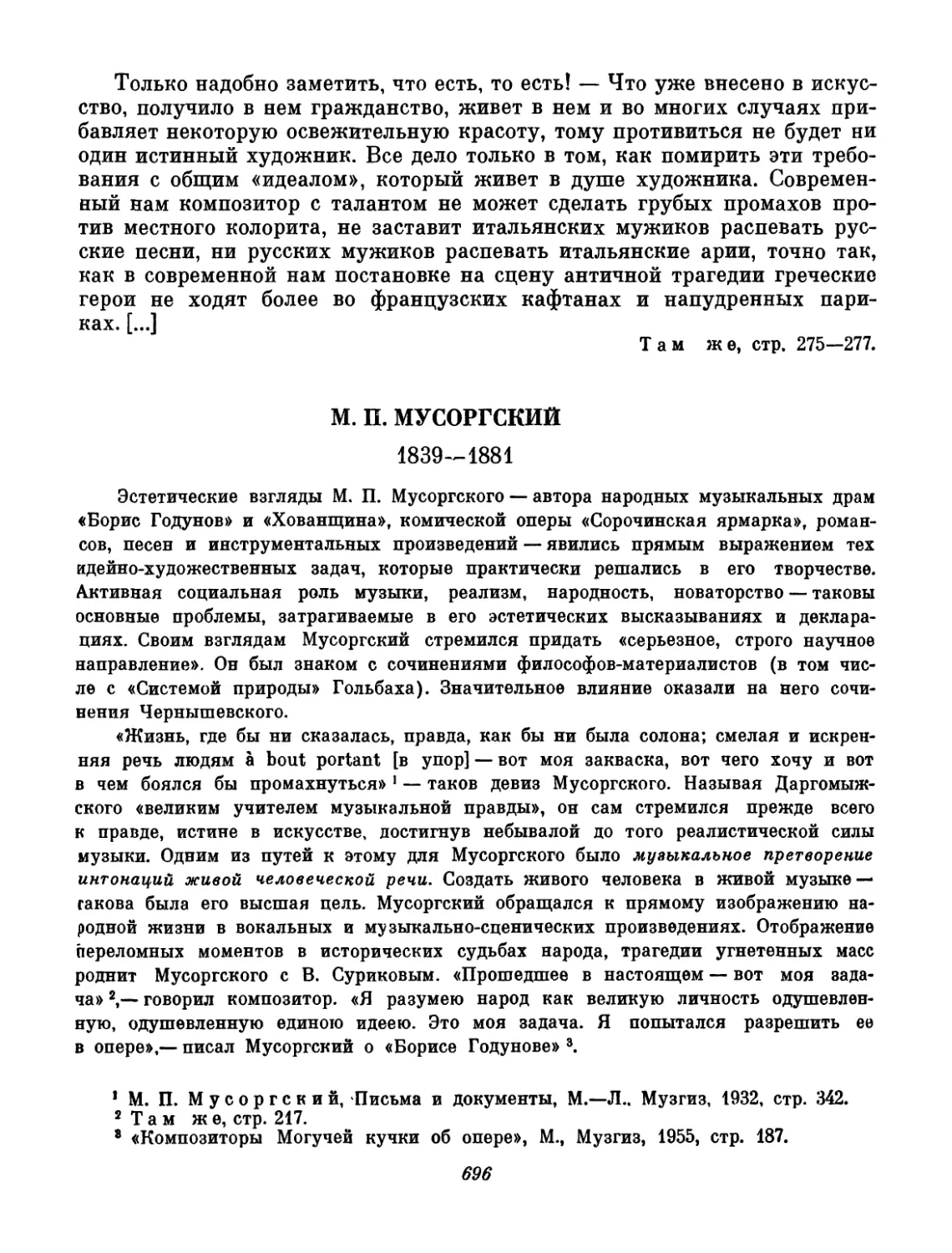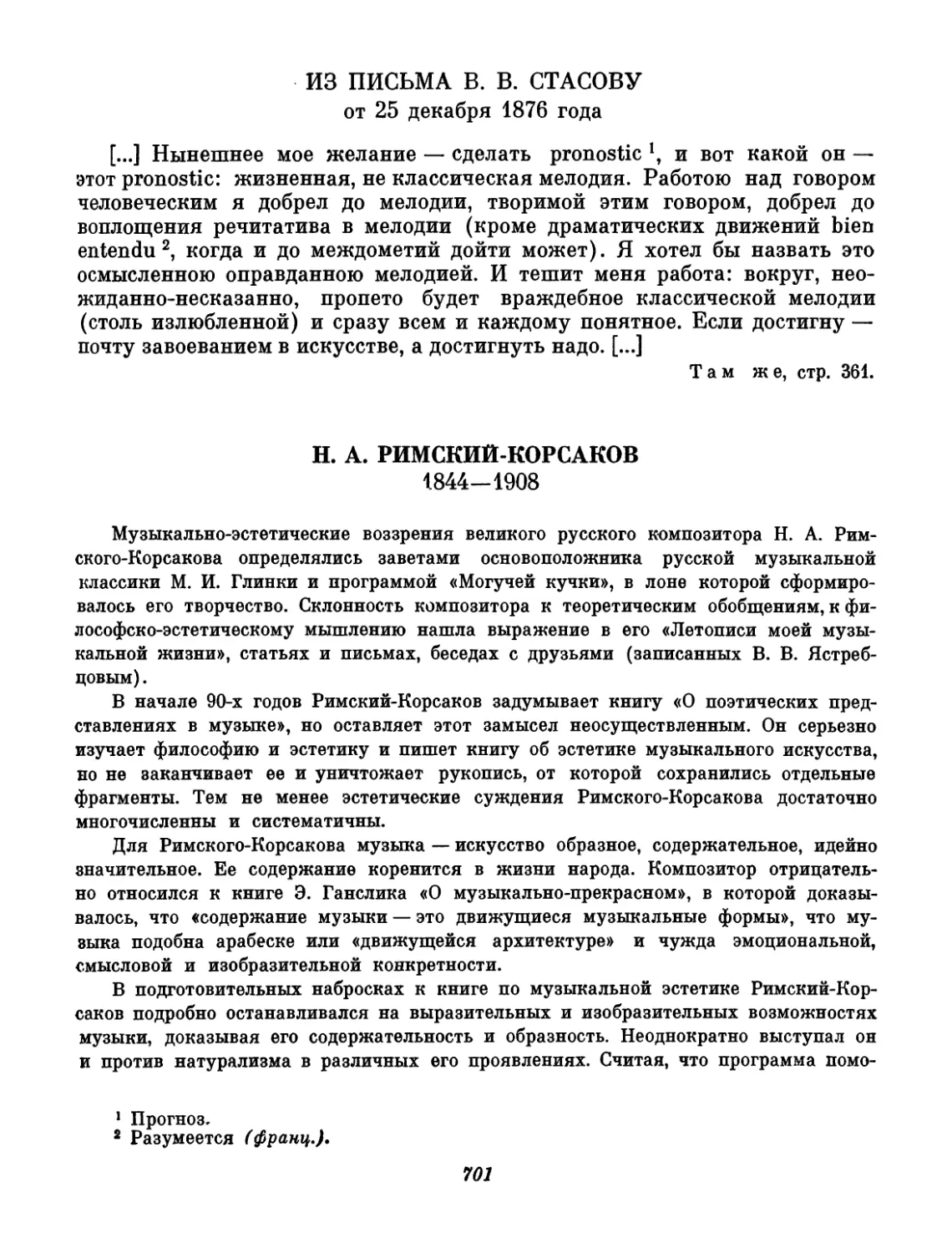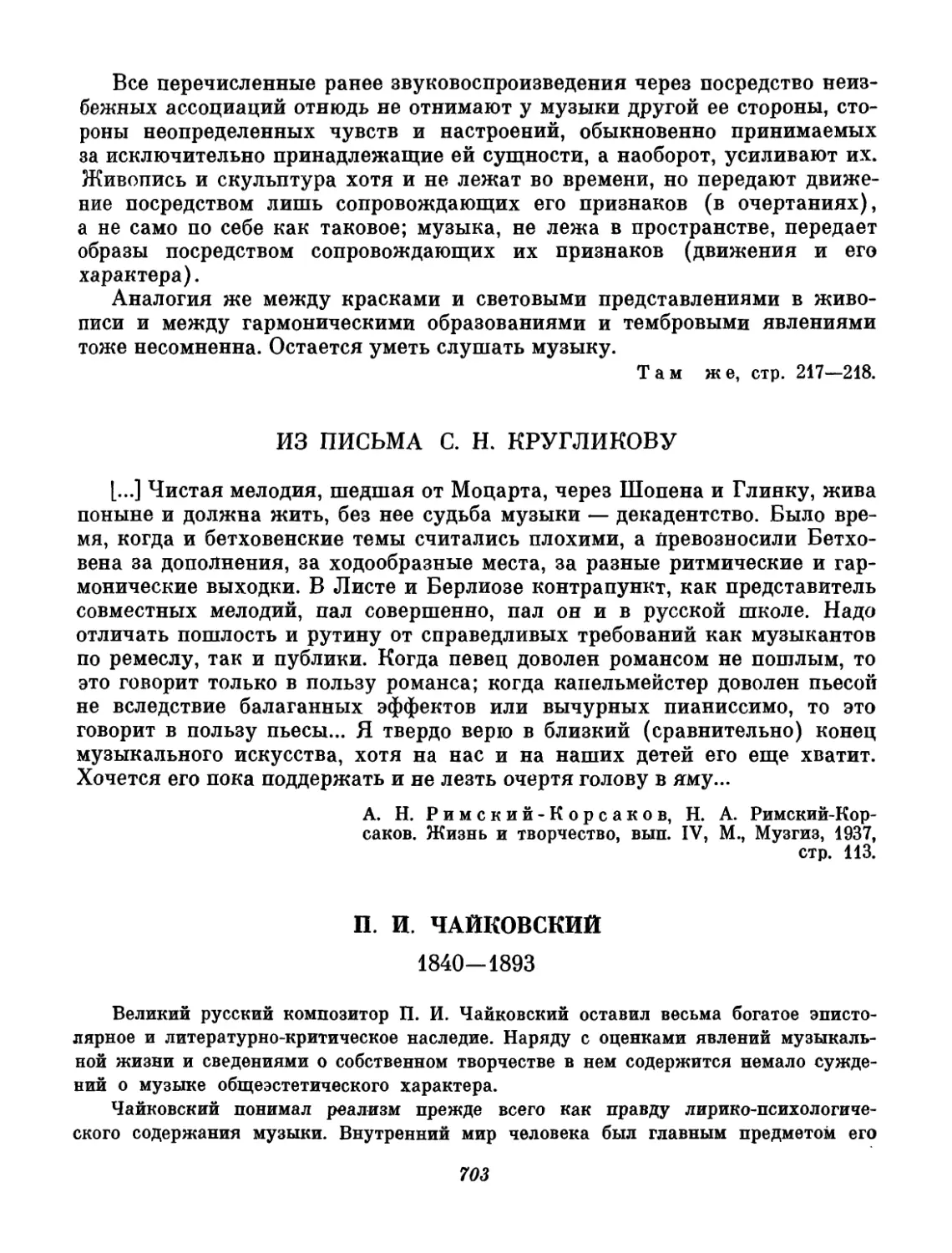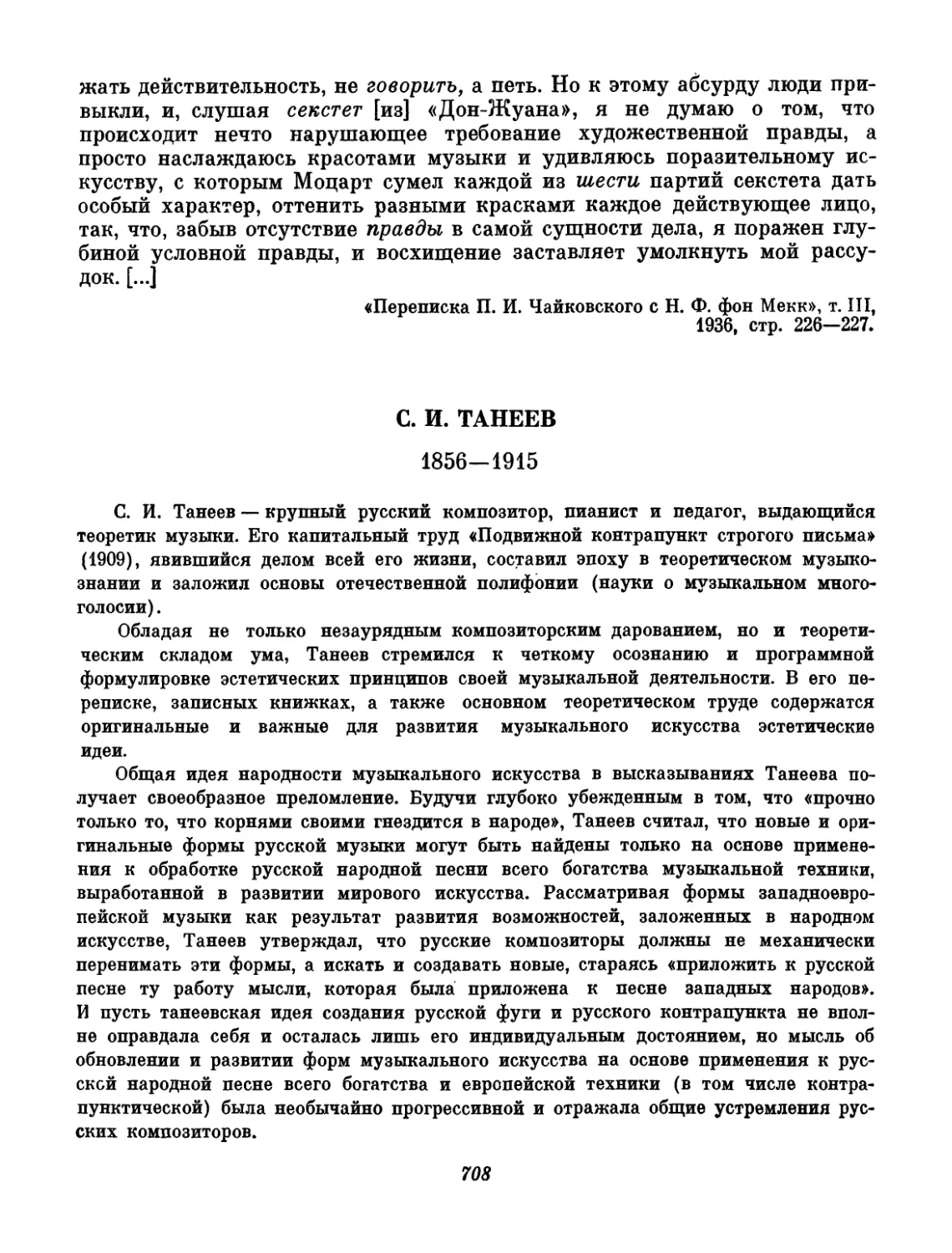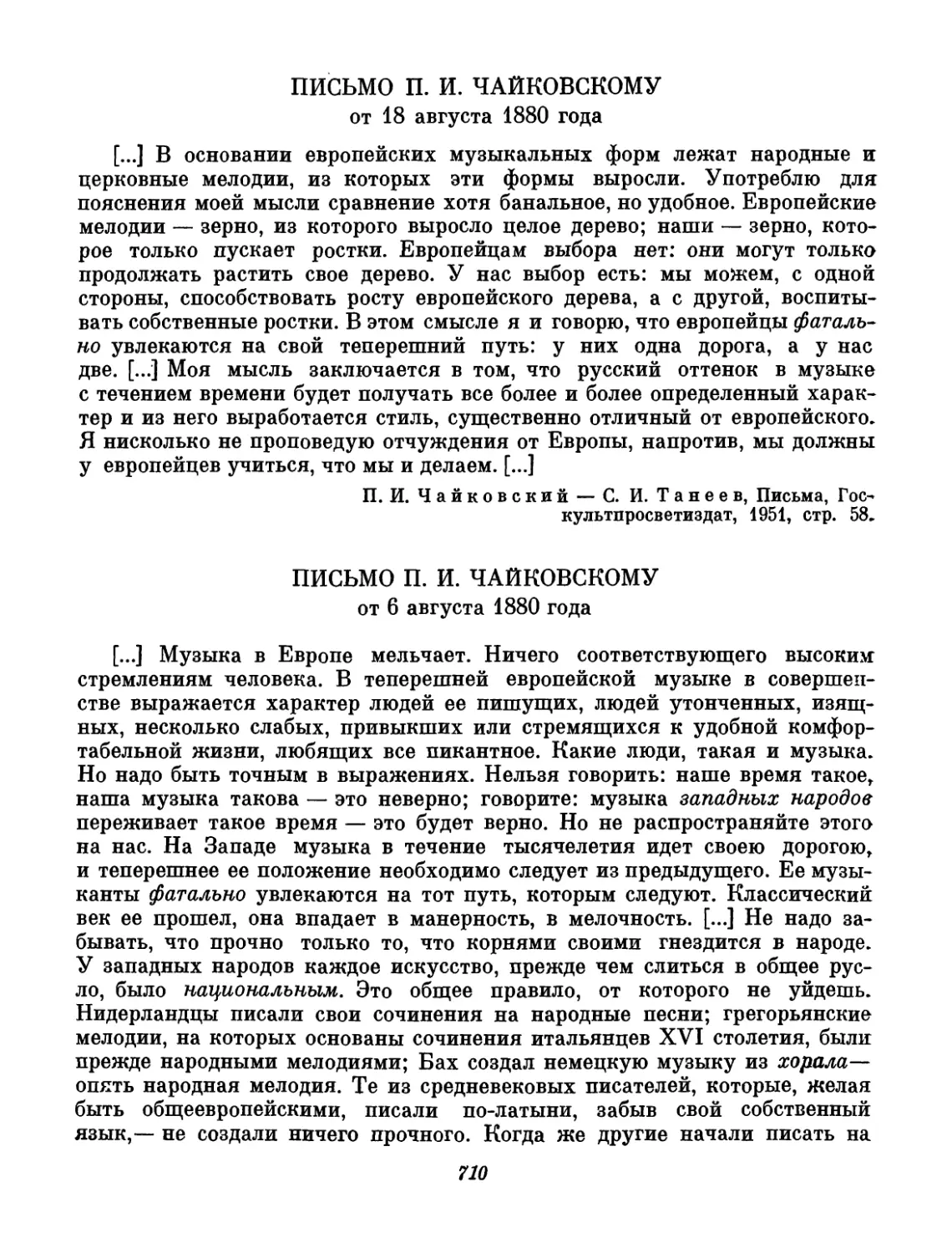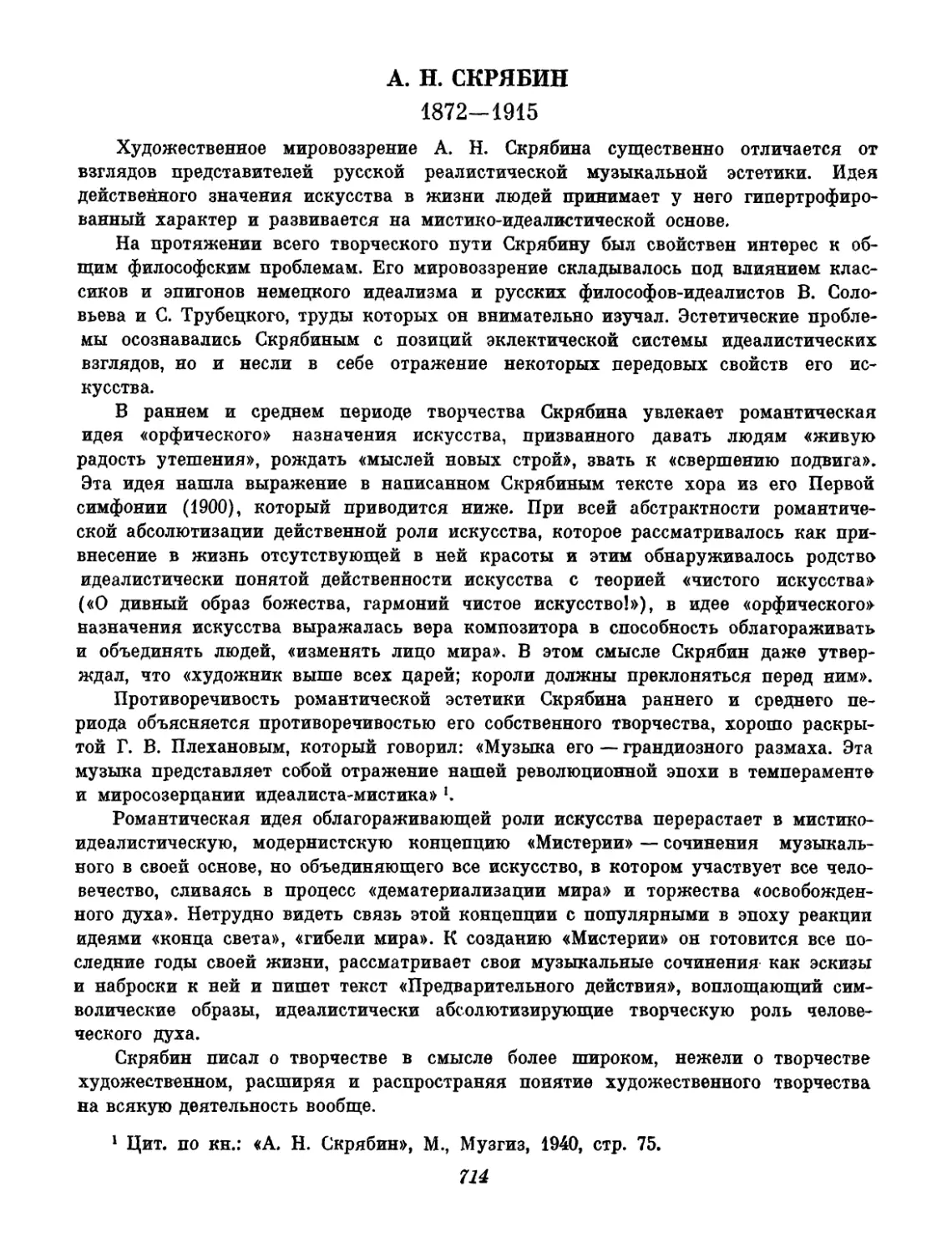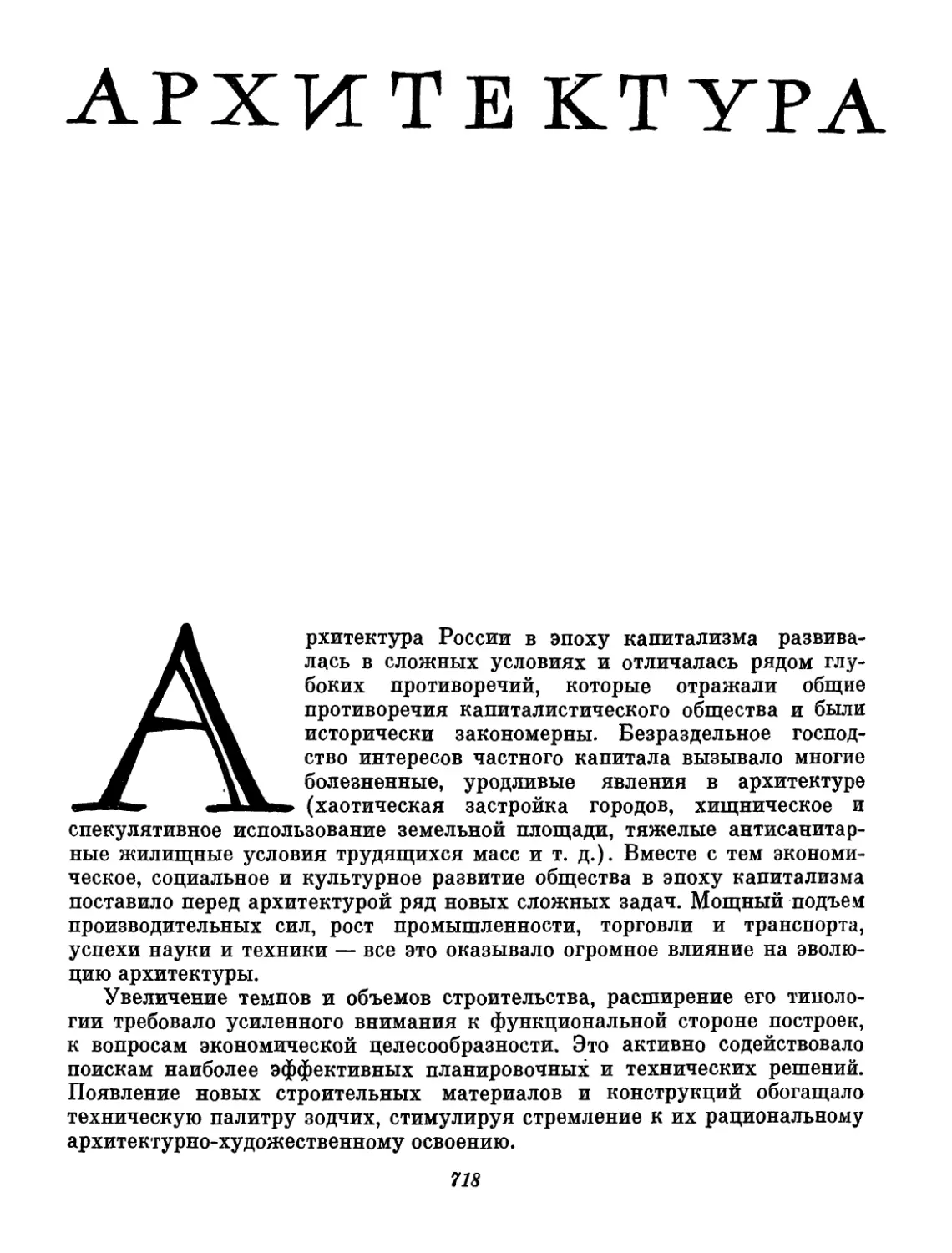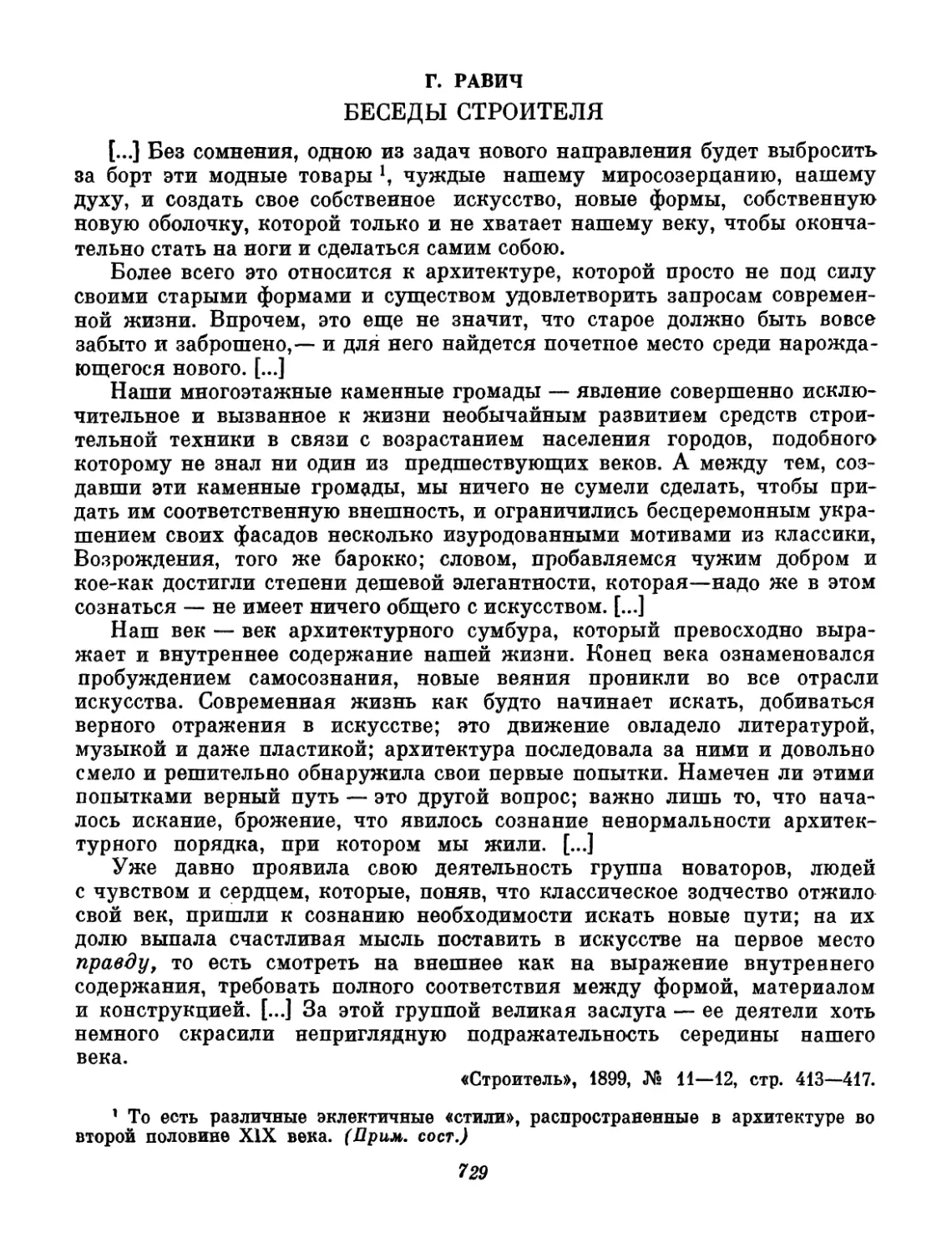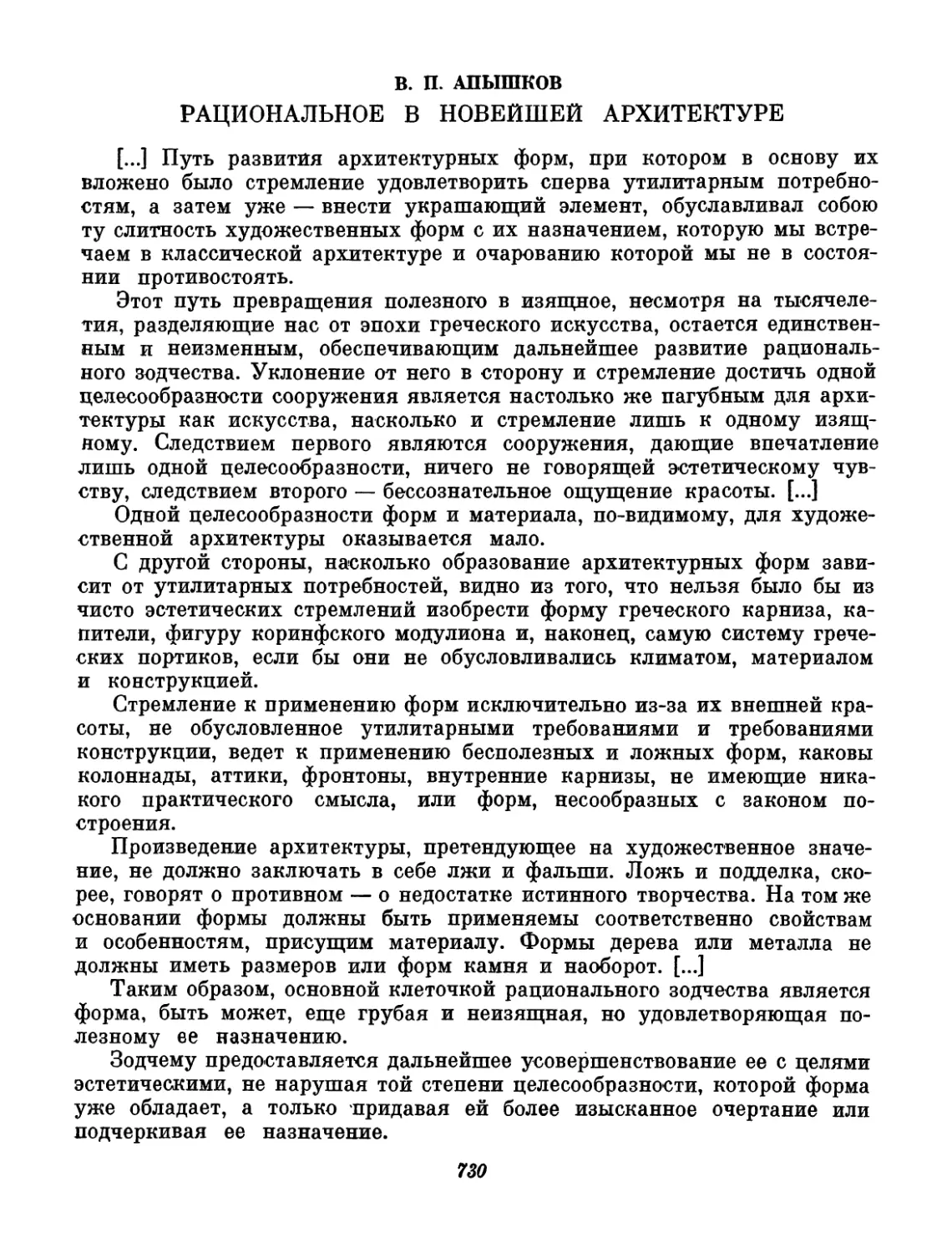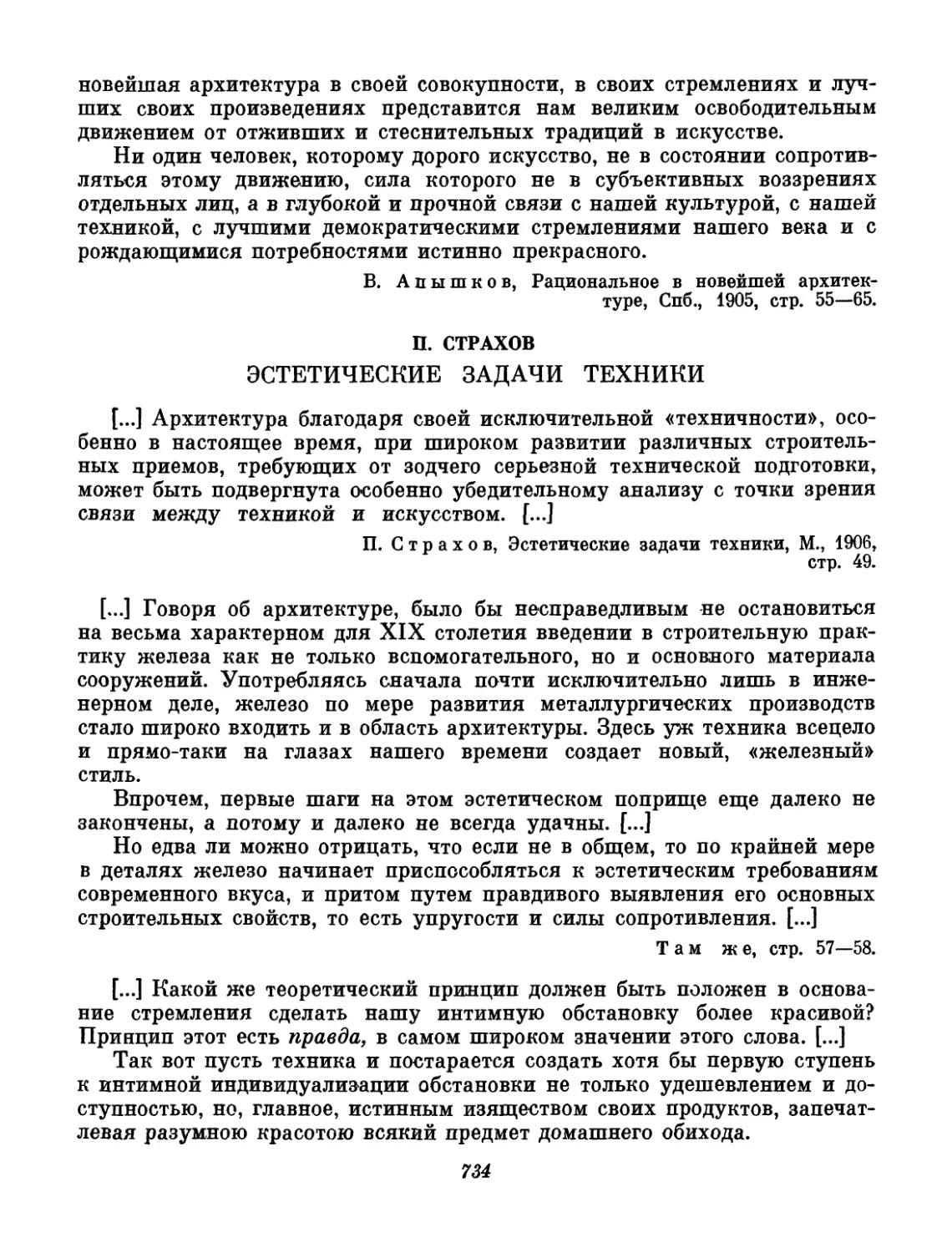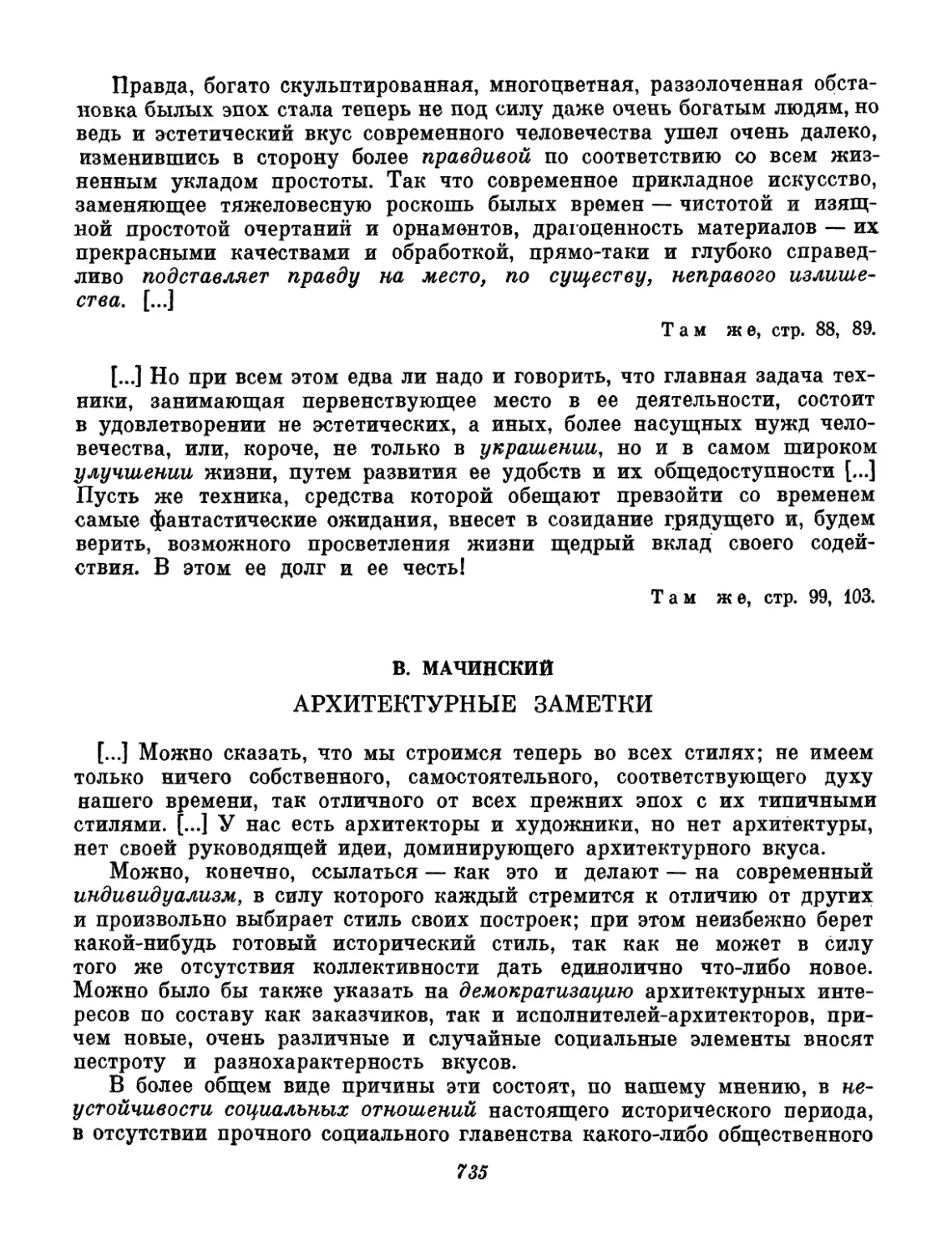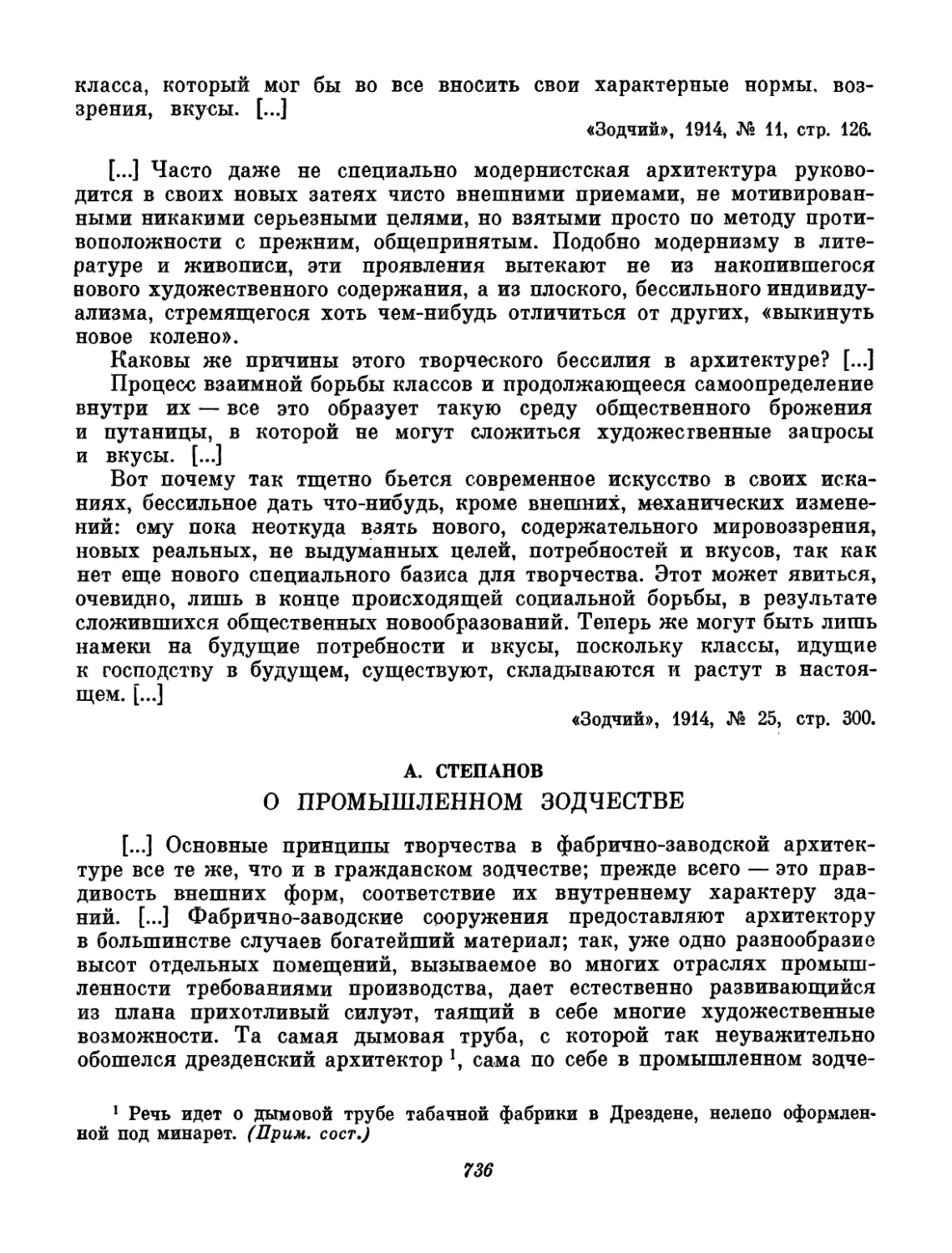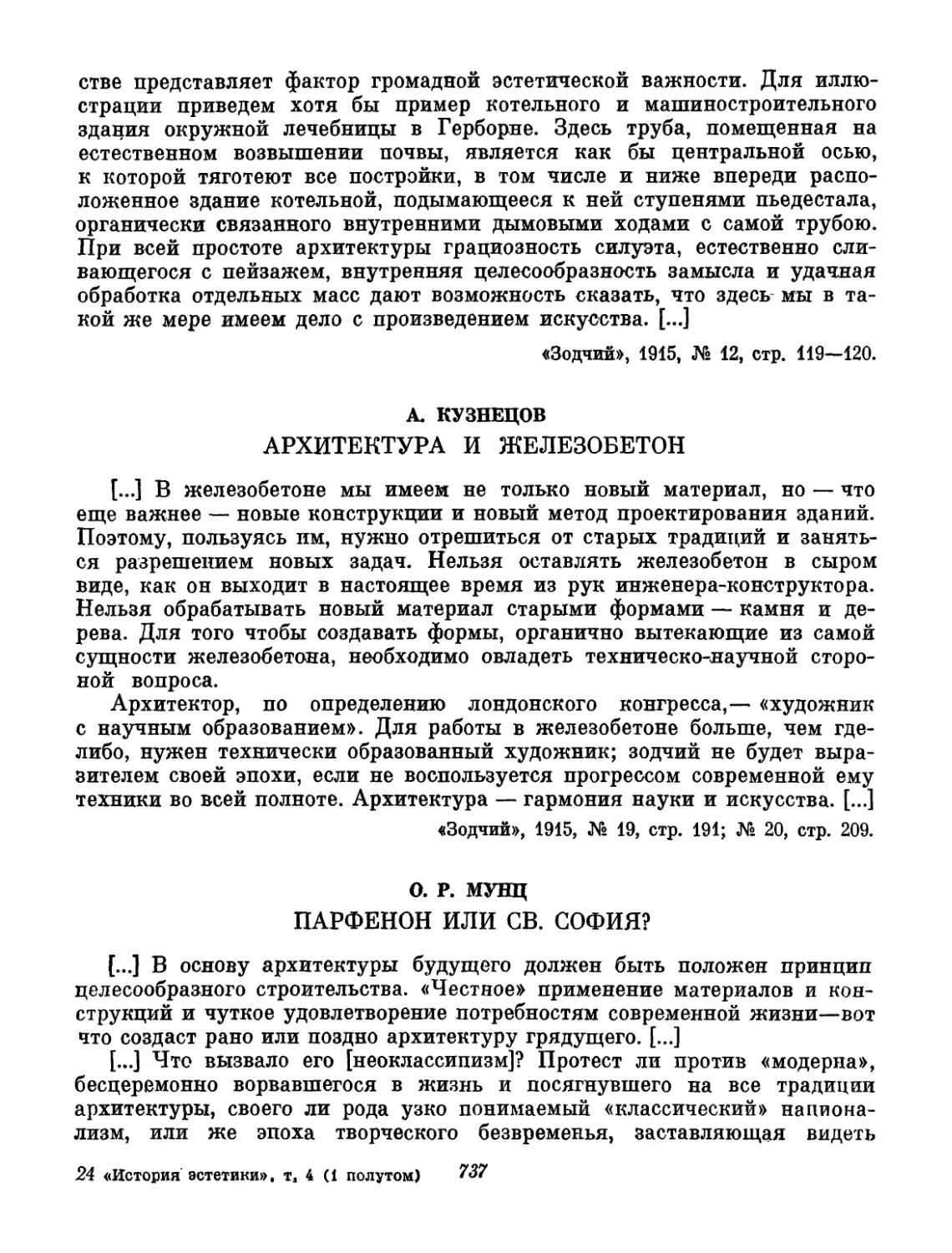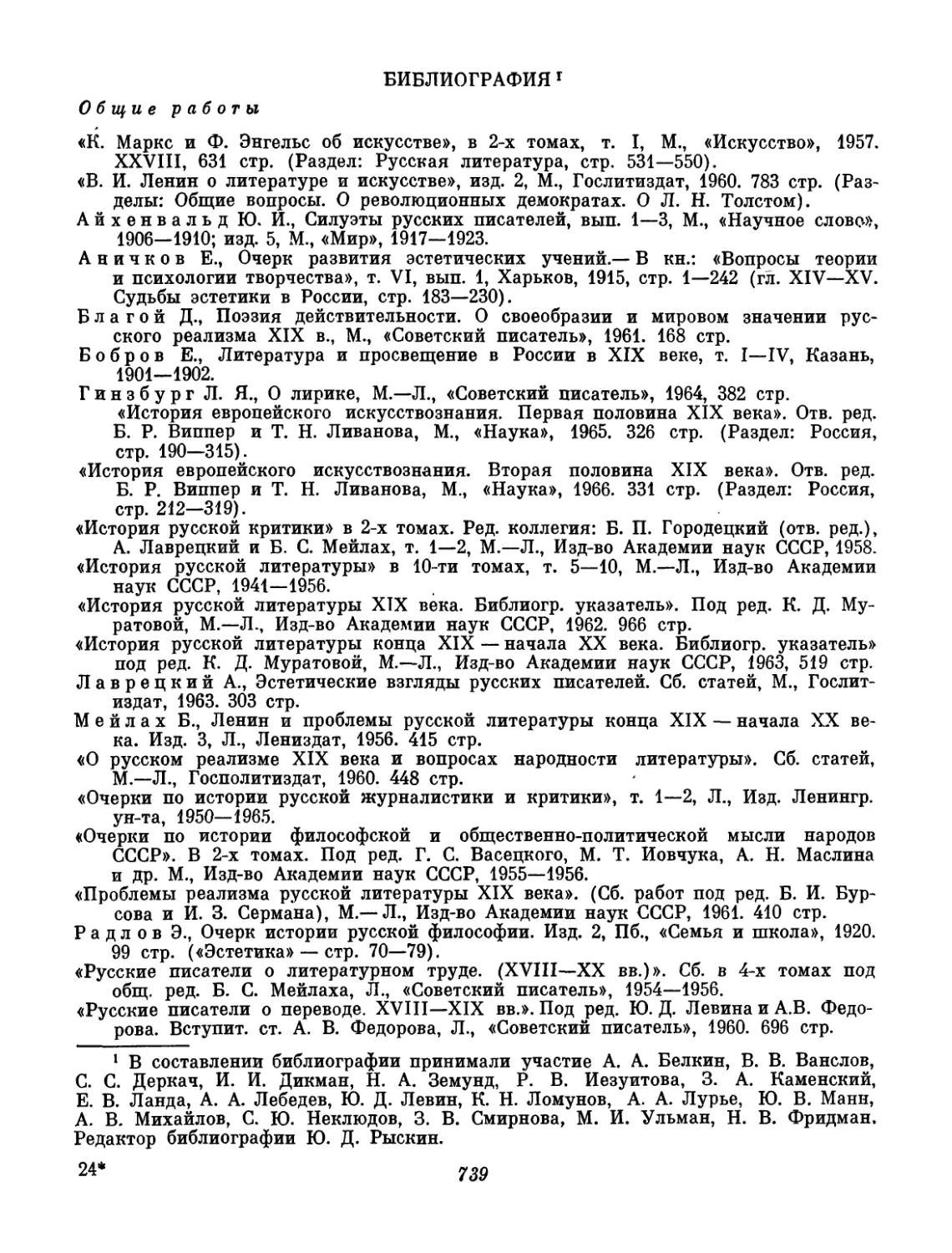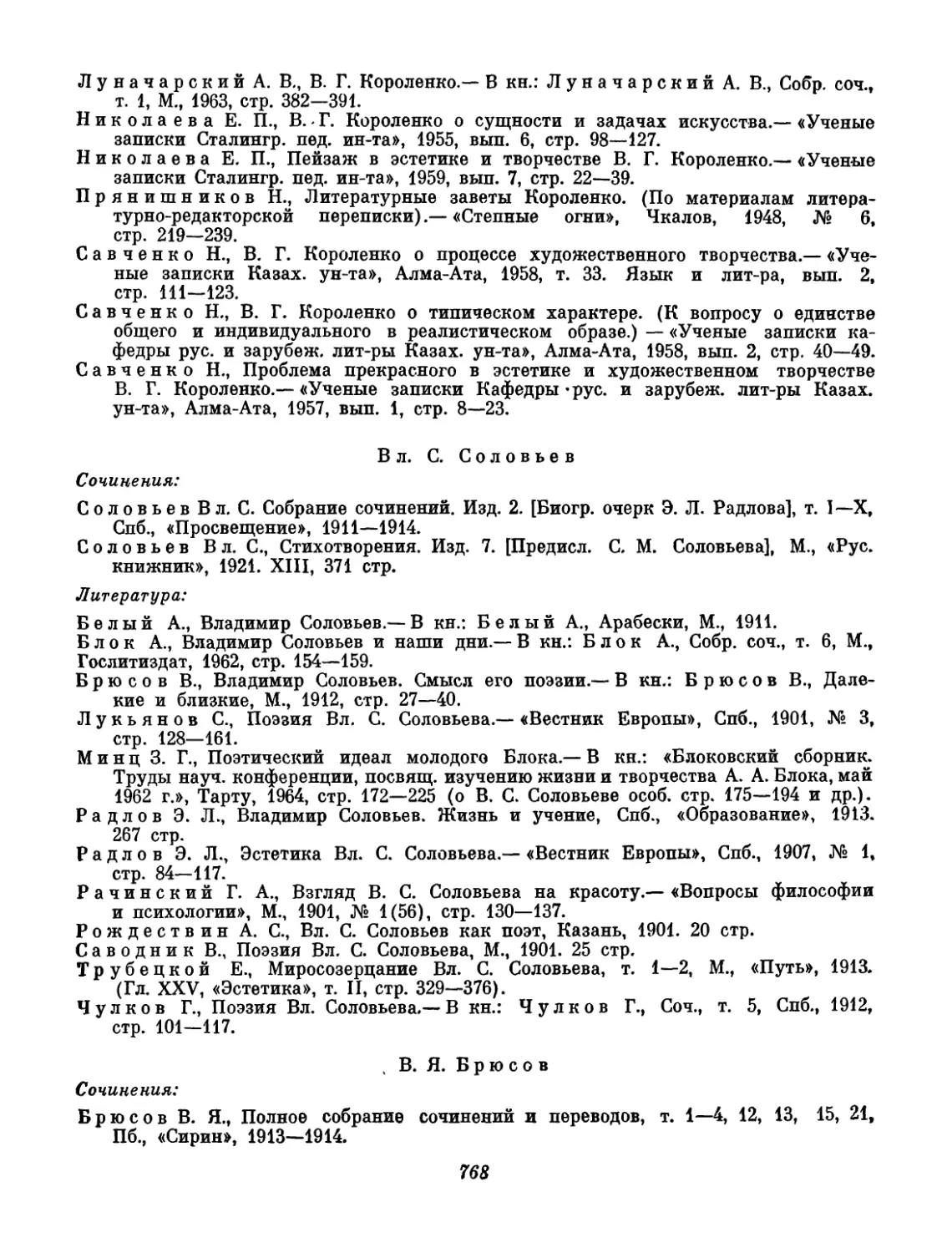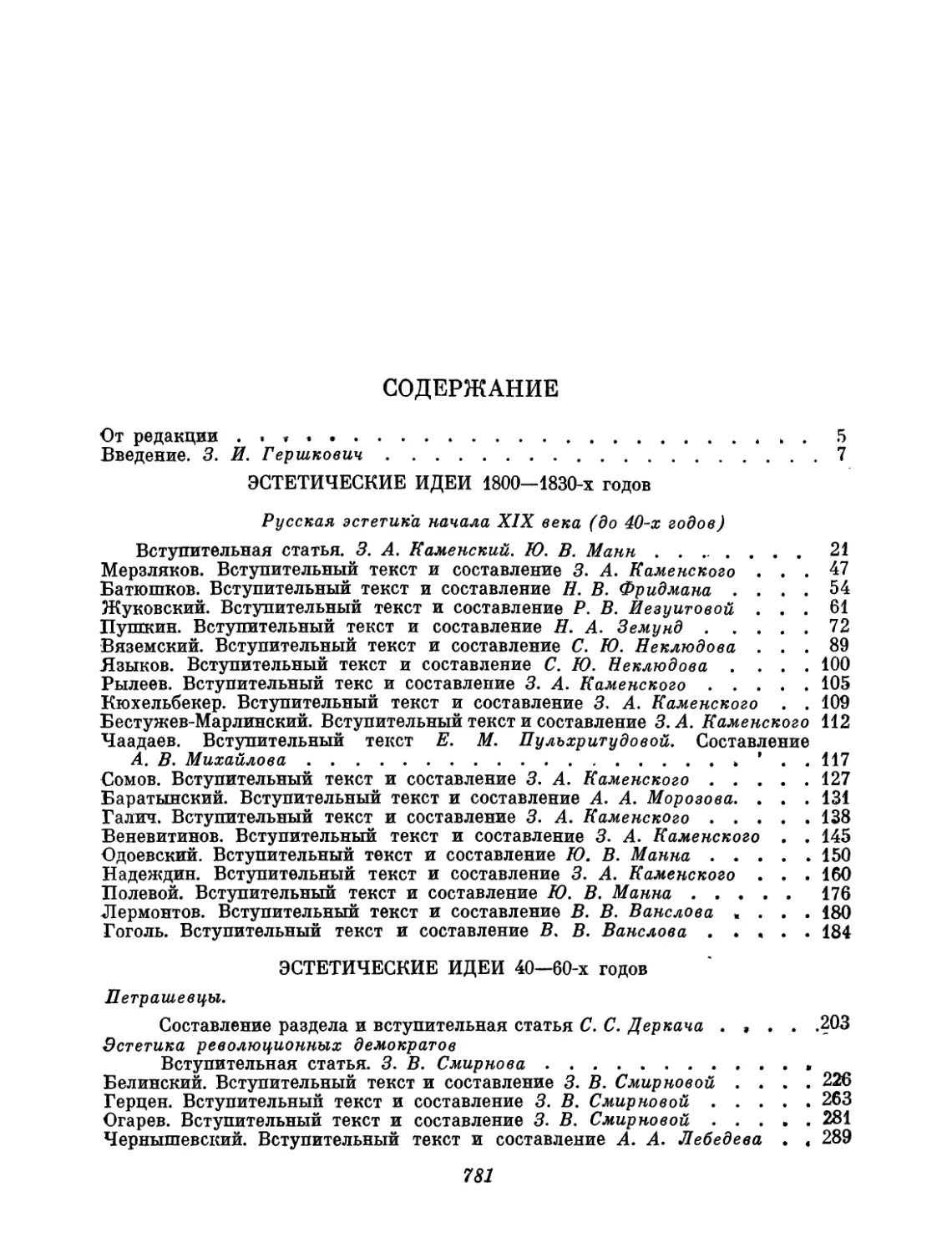Автор: Ванслов В.В. Гершкович З.И. Мелах Б.С.
Теги: эстетика история эстетики эстетическая мысль эстетическое учение русская эстетика
Год: 1969
Текст
АКАДЕМИЯ ХОДОЖЕСГВ СОСР
ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ
ПАМЯТНИКИ
МИРОВОЙ,
эстутсюй.
мысли
3 ПЯТИ ТОМАХ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ*.
М'ф'ОВСЯННИКОВ /ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР/
В-В'ВАНСЛОВ, $'ИГЕРШКОВИ!% М-А'ЛИфШИЦ,
В' СлМЕЙЛАХ, Б'М'НИКИфОРОВ^Л'Я'РЕЙНГАРДТ,
П*М' СЫСОЕВ, В-П'ШЕСТАКОВ,
Н'И'БЕСПАЛОВА /"УЧЕНЫЙГ СЕКРЕТАРЬ/
КЗДАТЕАЬСТБО «ИСКУССТВО»
M О С К В А
НАУ«т0-ИССЛДЛ0ВАТЕ1ЛьС1О1Т^ институт
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИЗОВЕАЗИГЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИСГОРИЯ&С1ШИКИ
ПАМЯТНИКИ
МИРОВОЙ ,
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
том Четвертый
первый ПОЛУТОМ
РУССКАЯ
ЭСТЕТИКА.
XIX
В Б КА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»
ι 9 6 9
7
Π15
Редакторы-составители
В. В. ВЛНСЛОВ
3. И. ГЕРШКОВИЧ
Б. С. МЕЙЛАХ
ОТ РЕДАКЦИИ
соответствии с планом пятитомного издания собрания
«Памятников мировой эстетической мысли» настоящий,
четвертый том посвящается русской эстетике, эстетической
мысли народов СССР и стран Восточной Европы в период
XIX — начала XX века.
Ввиду обширности и разнообразия материала том
подразделяется на два полутома, первый из которых
охватывает русскую эстетику указанного периода, а второй
включает материалы, характеризирующие эстетическое сознание народов СССР
и стран Восточной Европы — Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии,
Чехословакии, Югославии.
В четвертом томе представлены лишь домарксистские и немарксистские
течения в эстетике. Произведения марксистской эстетики, относящиеся
к рассматриваемому периоду, войдут в пятый том.
Вступительные статьи, предваряющие соответствующие разделы,
различны по характеру. В первом полутоме они освещают отдельные этапы
и течения русской эстетической мысли, а также эстетические идеи
деятелей русской литературы и искусства. Во втором полутоме статьи
представляют монографические очерки, посвященные эстетической мысли
отдельных народов и стран.
5
В введении рассматриваются методологические вопросы, связанные
с подготовкой всего тома, с особенностями его состава, проблематики
и структуры.
Композиция отдельных разделов определялась характером
представленных в нем материалов.
В одних случаях эстетические суждения тех или иных представителей
эстетической мысли, писателей, художников расположены в
хронологическом порядке, в других случаях —- тематически (с соблюдением
хронологии внутри тематических разделов).
Подготовка данного тома потребовала от коллектива составителей и
редакции большой исследовательской работы. Значительная часть
материалов (особенно это касается второго полутома) впервые публикуется на
русском языке. История эстетических идей народов национальных
республик Советского Союза, равно как и стран Восточной Европы, лишь
в самое последнее время стала предметом специального изучения.
Выявление произведений, характеризующих эстетическое сознание
этих народов, систематизация и теоретическое обобщение впервые
вовлекаемых в научный оборот материалов были бы невозможны без активного
содействия многих научных организаций и коллективов. Большую и
разностороннюю помощь редакции оказали Академии наук, коллективы кафедр
и отдельные сотрудники высших учебных заведений союзных республик.
В процессе работы над разделами, посвященными эстетике народов стран
народной демократии, было налажено плодотворное сотрудничество с
Академиями наук и другими научными учреждениями, а также с отдельными
учеными этих стран, подготовившими соответствующие разделы или
оказавшими помощь редакции в обсуждении и рецензировании этих разделов.
Редакция считает своим долгом выразить признательность всем
научным учреждениям, организациям и отдельным лицам, содействовавшим
подготовке настоящего тома.
ВВЕДЕНИЕ
Памятники эстетической мысли народов России и
стран Восточной Европы XIX — начала XX века
представляют огромную культурную и
идеологическую ценность. Впервые собранные вместе в
четвертом томе настоящего издания, они отражают важный
и своеобразный этап в развитии мировой эстетики.
Глубина, богатство π оригинальность эстетических
идей народов СССР и Восточной Европы
наглядным образом доказывают, сколь несостоятельна бытовавшая в трудах
буржуазных исследователей традиция сводить историю мировой эстетики
фактически лишь к истории эстетической мысли ограниченного круга
европейских стран. Часто эту традицию характеризуют как «европоцентризм».
Но она исключала из поля зрения историков эстетики и эстетическую
мысль многих народов Европейского континента. Эстетика стран Восточной
Европы, не говоря уже об эстетике народов СССР, часто игнорировалась
буржуазными авторами. Вследствие этого картина мировой эстетической
мысли существенно обеднялась и искажалась, а выводы о
закономерностях и путях развития мировой эстетики, сделанные на ограниченном
материале, лишались научной обоснованности.
7
Марксистская теория решительно отвергает буржуазные концепции,
согласно которым только «избранные» народы участвуют в творческом
развитии человеческой культуры, а остальные лишь пассивно
воспринимают ее плоды. Мировая культура — результат духовной
деятельности всех народов, каждым из которых вносит в общую
сокровищницу духовных ценностей человечества свой особый неповторимый
вклад.
Материалы, включенные в четвертый том, призваны в
систематизированной форме и исторической последовательности показать пути развития
эстетического сознания, картину идейно-эстетической борьбы,
развернувшейся в России и странах Восточной Европы в XIX — начале XX века,
и тем самым представить в истинном свете и реальной значимости для
развития мировой эстетики то огромное идейное богатство, которое было
воплощено в эстетической мысли, разработанной передовыми деятелями
народов названных стран.
Эстетические теории народов России и стран Восточной Европы в
XIX — начале XX века складывались в чрезвычайно сложных и
своеобразных исторических условиях. При всех конкретных различиях, которые
здесь наблюдаются, можно выделить и некоторые общие для всех
упомянутых стран особенности.
Отсталость в экономическом и политическом отношении по сравнению
с передовыми странами Западной Европы, мучительность самого процесса
развития капитализма, сдерживаемого феодальными экономическими
отношениями, сословным строем и устаревшими политическими
институтами, порождали сложное сплетение различных типов социальных
противоречий — феодальных и буржуазных,— что тяжко отзывалось на
положении трудящихся масс, терпевших двойной гнет. К середине XIX века
в Западной Европе в основном закончилась эпоха буржуазных революций.
На востоке Европы она только начиналась, притом начиналась в более
развитый период мировой истории, когда капитализм вступал в
монополистическую стадию, а буржуазия как класс уже исчерпала свою
прогрессивную роль и революционную энергию. В России и странах Восточной
Европы буржуазия не выступала ведущей силой в освободительном
движении, не являлась носительницей революционной идеологии. Основной
социальной базой революции до конца XIX века в этих странах служило
крестьянство, а с конца XIX века решающая роль перешла к рабочему
классу, ставшему гегемоном всех демократических масс, боровшихся за
общественные преобразования. Все это придало революционному
движению глубоко демократический характер, исключительную напряженность
и остроту.
На востоке Европы социальные противоречия усугублялись
противоречиями национальными. Известно, что, в отличие от Западной Европы, где
в основном сложились национальные государства, на востоке Европы —
в России, Австро-Венгрии, Турции сформировались многонациональные
государственные, объединения, служившие очагом национального угнете-
8
пия, межнациональной розни и, соответственно, мощного национально-
освободительного движения.
Весь этот комплекс исторических условий привел к тому, что центр
мирового революционного движения со второй половины XIX столетия
стал постепенно перемещаться на восток — в Россию.
Исторической почвой, определившей судьбы эстетической мысли, как
и всей духовной жизни народов России и стран Восточной Европы
в XIX — начале XX века, служило все нараставшее и усиливавшееся
освободительное движение, направленное против социального и
национальною угнетения. Восстание декабристов в 1825 году, революционный
подъем в странах Восточной Европы в 1848 году, революционная
ситуация в России накануне реформы 1861 года, польское восстание 1863 года,
борьба революционных разночинцев и народников в 60—70-х годах,
национально-освободительное движение угнетенных народов царской России,
борьба народов Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Румынии
за национальную независимость, начало революционных битв
пролетариата в конце прошлого столетия и, наконец, русская революция 1905 года,
открывшая эпоху революций нового столетия,— таковы основные вехи,
знаменующие путь революционной и национально-освободительной борьбы
народов России и стран Восточной Европы в рассматриваемый период.
В этой борьбе огромную историческую роль сыграли литература,
искусство и связанные с ними эстетические учения. Жесточайший политический
террор и цензурные гонения, господствовавшие в России и странах
Восточной Европы, препятствовали открытому выражению прогрессивных
политических и социальных идей. С тем большей силой они находили свое
воплощение в произведениях литературы и искусства, придавая им особо
сильное общественное звучание. Выражая идейное самосознание народа,
воплощая его социальные, этические и эстетические идеалы, отстаивая
его национальные чаяния, литература и искусство, а вместе с ними и
эстетическая теория, содействовали духовному развитию передовых
общественных сил, росту социальной активности масс, подъему их революционной
энергии.
Искусство было полем ожесточенных идейных столкновений. В области
эстетики особенно напряженно шла борьба между материалистическими
и идеалистическими концепциями, между прогрессивными и
реакционными тенденциями в истолковании общественной функции искусства,
народности, национальной специфики художественного творчества. При
изучении развития эстетической теории в России и странах Восточной
Европы бросается в глаза примечательный и неоспоримый факт: ведущая
роль, особенно со второй половины XIX века, принадлежала здесь
материалистическим концепциям, рассматривавшим литературу и искусство
как эффективнейшее средство познания жизни, как могучее оружие в
социальной борьбе. Усиление материалистических концепций в эстетике —
закономерный процесс, связанный с ростом и укреплением
реалистического метода в искусстве. Обусловленная в своем развитии практикой
9
художественного творчества материалистическая эстетика в свою очередь
оказывала на нее огромное стимулирующее воздействие.
Для верного представления об удельном весе и масштабах влияния
материалистических взглядов в эстетической мысли народов России
и стран Восточной Европы следует иметь в виду, что далеко не всегда
общефилософская позиция того или иного автора прямолинейно
согласуется с характером его эстетических взглядов. Здесь возможны и сложные
коллизии, особенно у деятелей искусств. Нечто аналогичное отмечал,
например, Ф. Энгельс, характеризуя часто наблюдаемое в буржуазном
обществе противоречие между философскими воззрениями
естествоиспытателей, находившихся в плену ходячих идеалистических теорий, и
истинным философским смыслом их научной деятельности — стихийным
материализмом. Сама практика художественного творчества как процесса
познания реальной жизни оказывала на эстетические взгляды деятелей
искусств порой более сильное влияние в материалистическом духе, чем
усвоенные и исповедуемые ими идеи философского идеализма. Яркий
пример тому — эстетические взгляды Л. Толстого. Было бы более чем
упрощением в целом трактовать эстетические воззрения великого писателя
как материалистические. Но не видеть в них сильных материалистических
тенденций было бы не меньшим упрощением.· И в трактате «Что такое
искусство?» и в других произведениях и высказываниях Л. Толстого эти
тенденции явно выступают. В эстетических взглядах таких идеологов
народничества, как Лавров, Ткачев, Михайловский, несмотря на сильное
воздействие философского идеализма, пропагандируемой ими теории
«субъективной социологии», также сказывалось и влияние
материалистических идей.
Следует обратить внимание и на то, что получившие в конце XIX
столетия в России, Польше и других странах сравнительно широкое
распространение идеи позитивизма далеко не всегда, особенно в эстетике,
интерпретировались целиком в идеалистическом духе. Иногда и сам термин
«позитивизм» употреблялся неточно, служа обозначением, по сути,
материалистических воззрений. Напомним в этой связи о том, что, критикуя
веховцев, Ленин отмечал их вражду к «материализму и
материалистически толкуемому позитивизму», подчеркивал, что позитивизм осуждался
веховцами «за то, что он был... тождественен с материалистической
метафизикой» или истолковывался «исключительно в духе материализма» 1. Речь,
стало быть, должна идти о том, чтобы и в области эстетики отделить
позитивизм как идеалистическую теорию от того, что Ленин называет
«материалистически толкуемым позитивизмом».
Из сказанного видно, что влияние материалистических идей в эстетике
охватывает не только тех мыслителей и художников, которые стояли
сознательно на позициях философского материализма. Оно было шире,
проникало порой в эстетическое сознание авторов, придерживавшихся в обще-
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 19, стр. 170, 168.
10
философском плане идеалистических взглядов. Особенно сильно
материализм — часто в стихийной форме — находил свое выражение в
эстетических воззрениях деятелей литературы и искусства.
В соответствии с исторической реальностью в четвертом томе
«Памятников эстетической мысли» основное внимание уделяется
материалистическим концепциям в области эстетики. Они отражены наиболее полно
и разносторонне. В то же время в нем с достаточной полнотой
представлены и взгляды сторонников идеалистической эстетики. Тут важно учесть,
что еще в первой трети XIX века идеалистические концепции содержали
и рациональные элементы, в определенной степени содействовавшие
развитию эстетической теории. Но относительная прогрессивность
идеалистических концепций, как известно, находится в обратном отношении к ходу
исторического развития общества. К 30-м годам ХТХ века она полностью
исчерпалась. Возникновение марксизма окончательно подорвало позиции
идеализма. Идеалистическая эстетика, нашедшая свое выражение в
теориях «официальной народности», «чистого искусства», а позднее в
различных формах декадентских концепций, стала средоточием идейной
и художественной реакции.
Материализм и идеализм выражают противоположные линии в
развитии эстетической теории. Их борьба пронизывает разнообразные
эстетические концепции, возникавшие на основе различных направлений и
течений в искусстве. Борьба эта отчетливо прослеживается и в эстетике
классицизма и в эстетических учениях романтизма, в эстетической теории
реализма и т. д. С другой стороны, в столкновениях между сторонниками
романтизма и классицизма, реализма и романтизма, реализма и
различных форм декадентства порой прямо и порой опосредствованным образом
проявляется противоположность материалистических и идеалистических
направлений в эстетике. Идейная борьба в эстетике носит весьма сложный
характер, конкретные формы ее весьма разнообразны, сущность и ее
проявления находятся зачастую в противоречивых отношениях. В ней
пересекаются воздействия других форм идеологии — политики, науки,
морали, религии. Последняя особенно явственно вторгалась в
идейно-эстетическую борьбу у народов, связанных с мусульманством,
религиозно-мистические идеи сказывались и во взглядах отдельных представителей
русской художественной культуры, в искусстве и эстетике Польши и других
стран.
Стремясь представить картину идейно-эстетической борьбы в ее
реальной сложности и противоречивости, в столкновении различных течений и
направлений, составители данного тома должны были, однако, считаться
с принятой структурой всего издания «Памятников эстетической мысли»,
предусматривающей выделение специального, заключительного тома для
произведений марксистской эстетики. Поэтому в четвертом томе
представлены лишь различные течения эстетической мысли домарксистского и
немарксистского характера. В него включены также произведения и отрывки
из произведений тех авторов, которые частично испытали на себе влияние
11
марксизма, восприняли отдельные идеи этого учения, но в целом не стали
на его позиции.
Такой порядок расположения материала влечет за собой известное
отступление от точной хронологии, но он позволяет более рельефно отразить
исторический процесс развития эстетического сознания в обобщенном виде
как процесс возникновения и развития качественно нового этапа мировой
эстетической мысли, сформировавшегося на почве революционной борьбы
рабочего класса и связанного с ним марксистского мировоззрения. Таким
образом, картина идейно-эстетической борьбы второй половины XIX —
начала XX века в России и странах Восточной Европы в целостном виде
может сложиться лишь при условии, если будут учтены все материалы,
включенные в четвертый и пятый тома «Памятников мировой эстетической
мысли».
Высшим достижением эстетической мысли домарксистского периода
явилась эстетика революционной демократии. Поэтому ей уделено
центральное место в материалах четвертого тома.
Великий вклад русских революционных демократов в мировую
эстетическую мысль заключается прежде всего во всесторонней теоретической
разработке принципов реалистического искусства, в глубоком обосновании
его общественного значения, его соответствия историческим задачам
эпохи, потребностям народной жизни. Идеи революционно-демократической
эстетики содействовали демократизации художественной культуры,
направили ее развитие на служение трудящимся массам, их освободительной
борьбе. Недаром Ленин в своей периодизации русского освободительного
движения деятельность революционных демократов относил к особому
этапу революционной борьбы, предшествовавшему и подготовившему
высший этап революционного движения, связанный с рабочим классом, с
марксистской идеологией. Исторический опыт общественно-политической и
художественно-эстетической деятельности революционной демократии
доказывает, что обновление искусства, прогресс художественной культуры
обусловлен не чисто имманентными законами самодвижения
художественного творчества, а тесной связью его с жизнью и социальной борьбой
народных масс. В то же время противостоящая эстетике революционной
демократии теория «чистого искусства», стремившаяся отвлечь
художественное творчество от насущных задач общественного развития, увести
искусство на путь отрешенных от жизни самоцельных художественных
исканий, обнаружила свою полную бесплодность в творческом отношении.
Она не только неспособна была обновить искусство, вдохнуть в него новую
жизнь, но, напротив, стала тормозом, препятствовавшим развитию русской
художественной культуры, и в конце концов превратилась в теоретическое
обоснование художественного консерватизма и идейной реакции.
Разумеется, было бы упрощением прямолинейно распространять теоретические
принципы «чистого искусства» на практику тех писателей и деятелей
искусств, которые выступали сторонниками этой концепции. В
художественном творчестве диалектика взаимоотношения теории и практики при-
12
иимает особенно сложный и противоречивый характер. Более того, и в
теоретических взглядах поэтов и писателей, считавших себя сторонниками
«чистого искусства», мы встречаемся с такими элементами эстетического
сознания, которые в своей сущности противоречили их общей —
формулируемой теоретически—позиции.
Идейная борьба, развернувшаяся в русском искусстве и эстетике
середины XIX века и нашедшая свое выражение в столкновении
революционно-демократической эстетики с теорией «чистого искусства», подтвердила,
что художественное новаторство может быть органичным и плодотворным
лишь тогда, когда оно стимулируется передовым общественным
движением, имеет своим источником прогрессивное мировоззрение. Это
справедливо и для настоящей эпохи. Лишь передовое реалистическое искусство
современности, связанное с судьбой трудящихся масс, с великим
процессом социалистического обновления мира, открывает перед художественной
культурой человечества широкие горизонты и новые перспективы.
В силу ряда социальных и исторических причин идеология
революционной демократии нашла свое самое последовательное выражение,
приобрела наиболее боевой характер и яркую форму в России, в деятельности
Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова и их соратников.
Однако революционно-демократическая идеология представляет собой
отнюдь не исключительное явление, характерное лишь для русской
духовной жизни середины XIX века. Эта идеология имела глубокие социальные
корни в жизни других народов и стран в переломную эпоху перехода от
феодализма к капитализму. Свидетельством этому служит и история
эстетической мысли народов СССР и стран Восточной Европы. Во втором
полутоме читатель найдет большой и разнообразный материал,
подтверждающий тот факт, что принципы революционно-демократической эстетики
получили широкое распространение за пределами русской культуры.
Показательно, что в большинстве случаев пропаганда этих принципов
представителями революционно-демократической эстетики народов СССР и
стран Восточной Европы (особенно славянских) осуществлялась под
непосредственным влиянием русских революционных демократов,
сопровождалась прямыми ссылками на их имена и труды. Все это говорит о том, что,
во-первых, по своей сути революционно-демократическая эстетика —
явление международное и что, во-вторых, эстетические концепции русских
революционных демократов имели мировое значение, оказывая огромное
влияние на развитие прогрессивных эстетических идей других народов.
Характерной особенностью эстетического сознания народов СССР и
стран Восточной Европы следует признать то обстоятельство, что важное
место в нем заняла проблема национальной специфики искусства, поиски
путей развития национальной самостоятельности художественной
культуры. По причинам, о которых уже говорилось выше, борьба этих народов
за национальную независимость, за право на развитие национальной
культуры и искусства приобрела жизненно важное значение, и это,
естественно, наложило свою печать на проблематику, характер и направленность
13
эстетических учений. Не будет преувеличением сказать, что в
домарксистской эстетике национальные аспекты развития искусства получили
наиболее полную, глубокую, всестороннюю разработку именно в России
и восточноевропейских странах. И этими теоретическими достижениями
была существенно обогащена мировая эстетическая мысль. Необходимо
при этом подчеркнуть, что многие прогрессивные идеи, высказанные по
этому поводу представителями русской эстетики, эстетики народов СССР
и стран Восточной Европы, сохраняют свое значение и в нашу эпоху,
особенно для судеб искусства и эстетики стран, освободившихся или
освобождающихся от колониальной зависимости. При всем своеобразии
конкретных условий здесь возникают проблемы, сходные с теми, какие
волновали мыслителей и деятелей искусств России и стран Восточной Европы
в XIX -— начале XX века.
Анализируя развитие эстетической мысли в связи с борьбой народов
за независимость, за национальную самостоятельность культуры и
искусства, необходимо иметь в виду, что в процессе этой борьбы по мере роста
капиталистических отношений и углубления классовой дифференциации
внутри наций все явственнее и резче проявлялись идеологические
противоречия. В эстетике, во взглядах на сущность и роль искусства, на
взаимоотношения национального искусства данного народа с искусством других
народов проявлялись и националистические тенденции, представляемые
идеологами нарождающейся национальной буржуазии, и прогрессивные
тенденции, отстаиваемые идеологами трудящихся масс. В русской
общественной мысли, в эстетической теории и художественной практике
столкновение прогрессивных и реакционных толкований проблемы народности,
национальной самобытности искусства, соотношения национального и
общечеловеческого в искусстве также приняло исключительно острый
характер. Достаточно вспомнить в этой связи борьбу революционных
демократов с представителями «официальной народности», со славянофилами,
а позднее русских марксистов и прогрессивных демократических
деятелей с идеологией шовинизма и национализма.
Правильная оценка различных тенденций и направлений,
проявившихся в постановке и решении национальной проблемы в области искусства
и эстетики, возможна лишь на основе всестороннего анализа своеобразия
социальных и исторических условий, в которых протекала духовная жизнь
каждого народа. Одни аспекты национальной проблемы вставали перед
идеологами угнетенных народов, другие перед идеологами,
представлявшими различные социальные силы господствующих наций. Чрезвычайно
специфичны и весьма разнообразны сами национальные условия жизни
угнетенных народов. Достаточно вспомнить, например, судьбу польского
народа, расчлененного тогда между тремя государствами. Своеобразные
условия создались для народов Прибалтики, испытывавших национальный
гнет двоякого рода — и со стороны русского царизма и со стороны
немецких баронов. Из всех народов, населяющих нынешнюю Югославию, лишь
сербы и черногорцы имели самостоятельные государства, остальные яахо-
14
дились под иноземным гнетом. К концу XIX века Болгария и Румыния
завоевали самостоятельную государственность, тогда как народы Польши,
Венгрии и Чехословакии в XIX и начале XX века оставались еще в рамках
многонациональных государств, продолжая борьбу за национальную
независимость. Все это не могло не отразиться на особенностях духовной
жизни названных народов, на их эстетическом сознании.
Кроме того, нужно принять во внимание, что народы, чья эстетическая
мысль представлена в настоящем томе, весьма значительно разнились
друг от друга по уровню социально-экономического и культурного
развития. Поэтому те же самые в своей сущности явления духовной жизни,
которые у одних народов представляли пройденный этап и потеряли свою
передовую роль, у других народов, стоявших на более низкой ступени
социального и культурного развития, еще сохраняли прогрессивное
значение. Так, например, культивирование в искусстве и идеализация в
эстетической теории этнографического бытописательства с его исключительным
вниманием к чисто внешним приметам национальной жизни,
воспринимавшееся передовой русской и украинской эстетикой середины XIX века
как проявление ограниченности, а порой даже как знамение
художественного и идейного консерватизма, в конкретных условиях жизни ряда
угнетенных народов той же эпохи сохраняло известное положительное
значение, служило целям утверждения национальной самобытности,
становления национальной культуры, любые проявления которой жестоко
душились правящими классами господствующих наций.
Социальная и культурная отсталость, усугубляемая национальным
порабощением, порождала в искусстве и эстетической теории угнетенных
народов сложный комплекс проблем. К числу их прежде всего относится
проблема взаимоотношения с искусством и эстетической теорией
передовых в социальном и культурном отношении господствующих наций. Эта
проблема не случайно занимала едва ли не всех представителей
эстетической мысли прежде угнетенных народов, равно как и передовых
деятелей культуры господствующих наций. Сугубый вред националистических
концепций состоял именно в том, что, отстаивая национальную
замкнутость, сея вражду ко всем — в том числе и прогрессивным явлениям
культуры господствующей нации,— они на деле закрепляли и увековечивали
духовную отсталость угнетенных народов, отгораживали их искусство и
эстетическую теорию от достижений мировой культуры, уводили теорию
и практику художественного творчества в безысходные тупики духовного
провинциализма.
Оборотной стороной этих националистических концепций служила
идеология национального нигилизма, подрывавшая веру в способности
угнетенных народов создавать свою самобытную национальную культуру,
развивать свою собственную литературу и искусство.
Позиция передовых деятелей общественной мысли, культуры, эстетики,
боровшихся за социальное и духовное раскрепощение угнетенных народов,
за самостоятельный характер развития национальной культуры, за сбли-
15
жение национальных культур и их взаимообогащение, указывала
реальный путь преодоления отсталости угнетенных народов, путь ускоренного
развития их творческих сил, содействовала общему подъему
художественного творчества и развитию эстетической теории.
Наконец, следует иметь в виду еще одно существенное обстоятельство.
Известно, что эстетическая теория развивается в связи с практикой
художественного творчества, с его запросами и потребностями. Развитие
отдельных видов искусства в рамках соответствующих национальных
культур совершается крайне неравномерно. Вследствие этого у одних народов
эстетическая теория базируется в большей мере на опыте литературы,
у других — на практике театрального или изобразительного искусства,
у третьих — архитектуры и т. д., что, естественно, сказывается на
содержании эстетической теории.
Неравномерен и общий уровень, достигнутый в XIX — начале XX века
в художественном творчестве разных народов. С одной стороны, например,
русская эстетическая мысль, развивавшаяся в XIX веке на основе
богатейшей литературы и искусства, поднявшихся на самые высоты мировой
художественной культуры, с другой — эстетические идеи народов,
совершавших в своем художественном развитии лишь первые шаги на пути
перехода к профессиональному искусству; Причины, предопределившие
такую неравномерность в художественном развитии различных народов,
марксизм давно объяснил социально-экономическими противоречиями,
порожденными антагонистическим обществом с его неизбежными
атрибутами — социальным гнетом, национальным порабощением, духовным
закабалением, сковывавшими творческие силы трудящихся масс и целых
народов. Но представленные в четвертом томе материалы,
характеризующие развитие эстетической мысли прежде порабощенных наций и
народностей, свидетельствуют о том, что и в самых неблагоприятных условиях,
в обстановке беспощадного террора и угнетения, душивших всякие
проявления национальной жизни, народы бережно хранили и умножали свои
духовные ценности и, вопреки всем препятствиям, упорно и настойчиво
развивали свою художественную культуру.
Живой процесс развития эстетического сознания свидетельствует о толт,
что в его формировании громадная роль принадлежит идеям, выдвинутым
самими творцами художественных ценностей, практиками искусства,
далеко не всегда облекавшими эти идеи в формы абстрактно-теоретических
рассуждений. Игнорировать эти идеи лишь по соображениям жанровых
или других формальных признаков значило бы обеднять источники
формирования эстетического сознания. Главным критерием при выборе тех или
иных материалов для издания служило содержание и значение
эстетических идей независимо от того, в какой форме они излагались —
теоретической, художественной, публицистической, эпистолярной и т. д., независимо
от того, кем были их авторы — теоретиками, критиками, писателями,
16
художниками и т. д. При отборе материала составители стремились
выделить общеэстетическую проблематику. Материалы, посвященные сугубо
техническим проблемам того или иного вида искусств (например, техника
живописи, техника стихосложения и т. п.), как правило, не включались
в издание.
Соотношение общеэстетической проблематики и проблематики,
касающейся отдельных видов искусства, сложно и противоречиво. Далеко не
всегда здесь удается провести четкую грань. В отношении тех стран,
в частности России, где эстетическая теория и художественное творчество
достигли значительного развития, отличались большим разнообразием и
дифференцированностью, оказалось целесообразным сгруппировать
материал таким образом, чтобы учесть специфику развития эстетической
теории в связи с особенностями отдельных видов искусства. С этой целью
в разделе, посвященном русской эстетике начиная с середины XIX века,
были выделены рубрики, представляющие эстетические идеи деятелей
литературы и литературной критики, музыки, изобразительных искусств,
архитектуры.
Эстетическое наследие русского и других народов СССР, народов
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии заключает
в себе огромное духовное богатство. Его значение выходит за рамки
национальных культур, оно неотъемлемое достояние мировой эстетической
мысли, художественной культуры всего человечества. Ценность его не
ограничивается историческим прошлым. Это наследие и ныне играет
плодотворную роль, служа важнейшим источником формирования и развития
новой культуры народов, ставших на путь социализма.
3. И. ГЕРШКОВИЧ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ИДЕИ
180СИ830
ГОДОВ
РУССКАЯ ЭСТЕТИКА
НАЧАЛА XIX ВЕКА
/ДО 40^ ГОДОВ/
настоящем разделе публикуются материалы,
характеризующие русскую эстетику XIX века до формирования
эстетики русских революционных демократов.
Этот период в истории русской общественной мысли,
и в частности истории эстетики, делится на два этапа.
Первый —- до 1825 года (включительно) — года
поражения декабризма, переломного года в русской
политической, идеологической, научной жизни.
Второй — от 1826 года до конца 30-х — начала 40-х годов, то есть до
периода, когда происходило непосредственное формирование идеологии
русской революционной демократии.
I
Первая четверть XIX века в России знаменуется интенсивным
развитием искусства и философии — тех областей культуры, которые оказали
особенное воздействие на развитие эстетической мысли.
В русском искусстве этого времени принято различать два основных
направления — классицизм и романтизм. Но эта классификация весьма
21
условна, не охватывает всего многообразия развития искусства. Поэтому
она с давних пор вызывала критику. Еще Рылеев считал неудачным такое
разделение, полагая, что «на самом деле нет ни классической, ни
романтической поэзии» !. Н. И. Надеждин в специальной диссертации на эту тему
писал: «Спор между классицизмом и романтизмом возник от
недоразумения обеих сторон... Поэзия нынешнего времени не принадлежит, в строгом
смысле, ни тому роду, ни другому» 2. Классицизмом, по мнению Надежди-
на, следует называть поэзию древнюю, а романтизмом — средневековую,
при этом каждое направление искусства выражало определенные
стремления человеческого духа в тот и другой периоды истории человечества.
Через сто лет известный советский писатель и литературовед Ю. Н.
Тынянов вновь сетовал на неосновательность такого разделения: «Подходя
с готовыми критериями «классицизма» и «романтизма» к явлениям
тогдашней русской литературы,-^ писал он,— мы прилагаем к многообразным
и сложным явлениям неопределенный ключ, и в результате возникает
растерянность, жажда свести многообразное явление хоть к каким-нибудь,
хоть к кажущимся простоте и единству». «Уже современники с трудом
разбирались в противоречивых позициях «классиков» и «романтиков»,
и подходить к ним с ключом тех или иных определений классицизма и
романтизма не приходится» 3. Но, к сожалению, история искусств не
предложила другой терминологии.
Для классицизма первая четверть XIX века была временем, когда он
переживал свою зрелость. Советское искусствознание, отмечая
консервативный характер еще сохранившегося и в первой четверти XIX века
придворного, аристократического классицизма, установило, что еще в XVIII
веке выявился, а в начале XIX достиг зрелости просветительский,
демократический, «гражданственный» классицизм.
Просветительский классицизм был одной из форм исторической
подготовки русского критического реализма во всех отраслях искусства.
Классицизм полнокровно развивался в архитектуре (где в эти годы
работали А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, В. П. Стасов, А. Г. Григорьев,
Д. Жилярди, К. Росси, Т. де Томон и другие), скульптуре (И. П. Мартос,
М. И. Козловский, Ф. Ф. Щедрин) и живописи (В. Л. Боровиковский,
Андрей Иванов, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, молодые Александр Иванов
и К. П. Брюллов и другие). В художественной литературе с классицизмом
были связаны Г. Р. Державин, В. А. Озеров, Н. И. Гнедич, П. А. Катенин,
декабристы В. К. Кюхельбекер и К. Ф. Рылеев. Классицизм на русском
1 «Избранные социально-политические и философские произведения
декабристов», т. 1, 1951, стр. 552.
2 Н. И. Надеждин, О настоящем злоупотреблении и искажении
романтической поэзии.— «Вестник Европы, 1830, № 1, стр. 3. См. также: Н. И. На д е ж д и н,
Различие между классической и романтической поэзией.— «Атеней», 1830, № 1,
стр. 1—8.
3 Ю. Тынянов, Архаисты и новаторы, Л., 1929, стр. 128, 130—131.
22
театре был представлен стилем актерской игры И. А. Дмитревского,
П. А. Плавилыцикова, С. Н. Сандунова, А. С. Яковлева, Е. С. Семеновой.
Романтическое искусство в первую четверть XIX века развивалось
в условиях широкого распространения классицистической нормы. Поэзия
Жуковского, отчасти Батюшкова и молодого Пушкина, Веневитинова —
вот наиболее существенное, что дало романтическое направление в
литературе. Правда, как бы для того чтобы подтвердить законность сетований
Тынянова, принято выделять еще и «революционный романтизм» как
направление, соединившее в себе положительные тенденции едва ли не
всех существовавших тогда течений в искусстве. Но это направление
в равной мере могло бы быть названо и «революционным классицизмом»,
поскольку целый ряд идей и принципов искусства просветительского
классицизма считается также идеями и принципами этого
«революционного романтизма» (симпатии к героическому жанру и к героической
личности, интерес к отечественной истории, идея «гражданственной» роли
искусства, патриотизма и т. п.). К «революционному романтизму» на
русской почве относят обычно прозу и поэзию декабристов, того же молодого
Пушкина, Кипренского в живописи, Мочалова (только начавшего в эти
годы свой путь) на театре и т. п.
Что касается теоретической мысли этой эпохи, то в первую четверть
века доминирующее место занимала эстетика просветительского
классицизма. Подавляющее большинство вышедших в это время специальных
работ по эстетике были написаны сторонниками этого направления. Само
собой разумеется, что, как ни тесна была связь эстетики с направлениями
искусства, у нее были собственные проблемы, и, когда мы говорим
о романтизме и классицизме в эстетике, мы имеем в виду не совсем то
содержание, нежели когда говорим о направлениях искусства с тем же
названием. Враждовавшая с эстетикой классицизма романтическая
эстетика расходилась с классицизмом в самых основных своих философских
предпосылках. Основным принципом различения эстетики классицизма
и романтизма является решение ими вопроса об отношении искусства
к действительности. Классицизм считал, что искусство отражает природу
(«подражает» ей), романтизм — что искусство воспроизводит идею
субъективности художника, независимую от природы. Из этих принципов
следовали и другие, подчиненные положения каждого из направлений
эстетики, причем сами эстетические принципы получали определенную
философскую интерпретацию. Используя идеи обои* этих направлений, строил
свою эстетическую программу декабризм. Классицистическая концепция
эстетики охватила важнейшие проблемы эстетической науки и явилась
основой для прогрессивной в условиях того времени художественной
критики.
Наиболее общими проблемами, которые рассматривала
классицистическая эстетика, были проблемы предмета эстетики как науки,
происхождения искусства, его сущности (включая вопрос о характере творческого
акта), цели и назначения, соотношения формы и содержания искусства.
23
Эстетику классицисты считали частью философии — «философией
изящных искусств», в центре которой стоит проблема прекрасного
(«изящного»). Исследование его природы, правил, по которым можно отличить
прекрасное и, следовательно, руководствоваться этим в творчестве, а также
и судить о прекрасном, исследование акта создания прекрасного и
отношения прекрасного в искусстве к природе, эстетического чувства как
следствия воздействия прекрасного и как пути его исследования и составляет
задачу этой науки. Понимая эстетику как часть философии, но не упуская
из виду и специфики науки о прекрасном, классицисты отвергали и чисто
умозрительную эстетическую теорию, построенную a priori (здесь они
критиковали Канта), и «эмпирическую эстетику», сводившую предмет этой
науки к разбору произведений искусств. Эстетика как наука должна также,
согласно учению А. Мерзлякова, П. Георгиевского и других теоретиков
классицизма, показать «важнейшую пользу», которую доставляют
«изящные искусства».
Проблему происхождения искусства классицистическая эстетика
решала в контексте просветительской теории общества. Считая человека
произведением природы, просветительская социология утверждала, что
процесс жизнедеятельности такого «естественного индивида» заключается
прежде всего в удовлетворении его естественных потребностей. Эти
последние разделяются на первоочередные (пища, жилище, одежда) и
относительно второстепенные, к числу которых относится и «нужда» в красоте
тех предметов, которые человек производит для удовлетворения своих
«первейших» потребностей. Так в процессе производственной деятельности
человека и возникает искусство. Это было, конечно, метафизическое
учение, исходившее из тезиса о некоем прирожденном стремлении человека
к абстрактно понятой красоте. Но в то же время это был
материалистический подход к проблеме происхождения искусства, поскольку здесь
предметная деятельность и объективная действительность понимались как
первичное по отношению к искусству, к художественному творчеству. Эта
концепция была некиим эстетическим аналогом учения просветительской
философии об обществе и челов'еке.
Такое понимание предмета эстетики и происхождения искусства
содержало теоретические предпосылки решения центральной проблемы
классицистической эстетики — проблемы сущности искусства. Эта проблема
решалась в рамках так называемой теории «подражания природе».
Разносторонне разработанная, эта теория имела своим главным исходным
тезисом утверждение, что искусство, производя свои творения, подражает
природе. К этому тезису, восходящему к античности и прочно введенному
в традицию науки эстетики еще Аристотелем, а затем имевшему своими
сторонниками крупнейших художников и эстетиков различных стран и
народов, присоединялись все классицисты.
Тезис об искусстве как подражании природе выдвигал на повестку дня
два коренных вопроса: 1) что такое «природа»; 2) что значит «подражать».
Классицисты понимали природу чрезвычайно широко. Мерзляков, соли-
24
даризуясь с Баттё, в природе видел не только физический мир, но и мир
«нравственный и гражданский, которого мы сами составляем часть», и
притом допускал рассмотрение этой столь широко понятой природы как в
плане историческом, так и в плане современном («действительном») и
будущем («возможном») 1. Лаконично туже идею формулировал Н.
Архангельский: под природой следует понимать «все действительно существующее» 2.
Классицистическая эстетика рассматривала «подражание» не как
пассивное копирование образцов природы, но как творческий акт, объективно
обусловленный самой действительностью, «природой», и осуществляемый
человеком посредством специфической творческой функции воображения-
фантазии.
Проблема фантазии и воображения играет, как это ни странно может
показаться на первый взгляд (поскольку классицистическая эстетика
обычно рассматривается как чисто рационалистическая), большую роль
в эстетической концепции просветительского классицизма. Художник,
разъяснял Мерзляков, не «списывает» природу «рабски» (также и
Архангельский утверждал, что «рабское подражание» никогда не произведет
необходимого эстетического действия). Мерзляков говорил о единстве
объективной обусловленности и творческой свободы, фантазии. «Все
зависит от гения изобретателя; все ему возможно, все позволено — с одним
только условием, чтобы свойства и действия творения его не
противоречили существу тех же предметов, находящихся в действительном мире,
и нашему о том понятию и мнению, чтобы природа не оскорблялась
нелепостями...» 3.
Как творческий акт, ограниченный объективными условиями нашей
деятельности, понимал фантазию Рогов: «Ведомые законы природы
ограничивают художническую фантазию только в образце натуральности.
Художник берет предмет из природы только в главных чертах, но распоря-
жает, связывает части самопроизвольно... В его подражании природа видна
не такая, как она есть в себе самой, но какою ей можно быть и какую
разум понимать может». Но в то же время «художник в большой опасности
находится посредством воображения уклониться от оной (природы.—
3. К.), нарушить ее порядок, дать ей другой, и тогда предмет его
(произведение искусства.— 3. К.) не достигнет своей цели». Следовательно, ему
надобно знать свои пределы в употреблении «чудесного», не впадать «во
вздорные, нелепые» фантазии, «чудесности». «Великое искусство
употреблять чудесное,— обобщал Рогов свои рассуждения,— состоит в том, чтобы
соединить его с природой так, как если бы оно составляло один порядок
вещей и как бьг имело одно общее движение 4.
1 Α. Φ. M е ρ з л я к о в, Об изящном, или О выборе в подражании.— «Вестник
Европы», 1813, № 11—12, стр. 197.
2 «Украинский вестник», 1819, февраль, стр. 163.
3 Α. Φ. M е ρ з л я к о в, Об изящном...—«Вестник Европы», 1813, № 11—12, стр. 197,
4 Рогов, О чудесном.— «Периодическое сочинение об успехах народного
просвещения», 1812, № XXIII, стр. 123—130.
25
Критикуя представителя немецкой идеалистической эстетики Эбергард-
та, противопоставлявшего теории подражания тезис: «подражай природе,
созданной силой творящей фантазии», Архангельский писал: «Должна ли
фантазия в своих вымыслах придерживаться действительной природы?
Если должна, то она должна ей подражать и, следовательно, закон
подражания природе еще не опровержен. Если не должна смотреть на нее
нимало,— и производить все отменное от природы, то выйдет фантазм,
разве одному творцу его понятный» 1. Архангельский отвергал как
«химеры» плоды воображения, вышедшего из-под контроля разума. Эта
критика была направлена против романтизма. С тех же позиций критиковал
романтизм и Мерзляков.
Можно сказать, что для просветительского классицизма фантазия как
принцип активности в акте художественного творчества должна была
считаться с двумя мерами: «существом предмета», изображаемого в
произведении, и адекватностью «подражания».
Но из чего же, по представлениям классицистов, вытекает
необходимость активности художника в подражании? Разве не достаточно
«красоты» подлинника в изображении, чтобы создать произведение искусства?
Нет, недостаточно, полагали они, ибо искусство должно обобщать, должно
представлять существенное, а природа дает нам лишь единичное,
случайное, и в этом смысле в произведении искусства, по мнению Мерзлякова,
«находятся такие черты, такие изображения, такие предметы, или по
крайней мере формы оных,— каких не замечаем в видимой нами
природе». Эта чрезвычайно существенная линия развития классицистической
эстетики принимала у одних (например, у Мерзлякова и Остолопова)
форму концепции «выбора» и «прелестнейшей («украшенной») природы»,
а у других — форму учения о творчестве по идеалу (Георгиевский, Войце-
хович).
Осуществлять «выбор» объектов природы, «украшать» природу, как
думал Мерзляков, «нимало» не значит «выходить из ее пределов»,
воображать «то, чего не бывало», «давать существо предмету», приукрашивать
природу, изгоняя из искусства все низменное. Предметы «входят в круг
изящного» независимо от того, «производят ли они любовь, или ужас, или
отвращение».
Мерзляков утверждал, что, подражая природе, художник, во-первых,
относится к ней избирательно, ищет в ней объекты, наиболее полно
выражающие их родовые признаки; во-вторых, художник, воспроизводя
предмет, стремится выразить его сущность, обобщить то, что наблюдает,
«открывать этот предмет в виде значительнейшем» и «узнавать в нем новые
черты». Поэтому художественное творчество имеет своими средствами
не только чувства, отражающие предметы, и не только художественную
фантазию, помогающую синтезировать и обобщать в художественный образ
данные чувств, но и тесно связано с рациональной деятельностью, тем
1 См. «Украинский вестник», 1819, февраль, стр. 163.
26
более что искусство должно ставить перед собой нравственные,
воспитательные цели. Произведения искусства должны быть пронизаны
определенной идеей, его части должны быть организованы
соответственно ей.
Едва ли не наиболее ясное истолкование классицистического
принципа «выбора» дал Остолопов: «...если бы природа показывалась людям во
всей своей славе, то есть со всевозможным совершенством... то... тогда бы
художники должны были только с точностью списывать находящиеся пред
глазами их виды, без всякого выбора, тогда бы вся изящность
произведения зависела от одного простого подражания, и судить об оном не иначе
можно было, как чрез сравнение. Но как природа часто смешивает
прелестнейшие черты свои с бесчисленным множеством других, то посему и
надлежит делать выбор». Выбор этот и есть художественное обобщение,
ибо художник «собирает лучшие прекраснейшие черты одного и того же
вида... рассеянные в природе, и образует из них целое, совершенное в своем
роде»; подражание для него «есть представление предмета в таком
совершенном виде, в каком только можем его вообразить». Искусство создает
«целое, совершеннейшее, нежели сама натура, но притом не перестающее
быть натуральным» 1.
Классицистическая интерпретация теории творчества по идеалу не
только не противопоставляла «подражания» «идеалу», но, наоборот,
рассматривала их в единстве.
Для классицистов идеал есть обобщенный художественный образ,
перерабатывающий материал действительности, специфически
художественное отражение действительности в сознании художника, который затем
по этому образцу творит свое произведение.
Понимание искусства как подражания природе предопределило и
решение вопроса о прекрасном. Согласно эстетике классицизма, прекрасное
имеет основание в «природе», но прекрасное не может быть понято только
как объективное, независимое от человека. И взгляд на происхождение
искусства из «нужд» человека, и взгляд на цель, функцию искусства как
функцию воспитательную, и понимание его как «выбора» и как обобщения,
которое осуществляет художник, означали, что вне человека, без человека
нет и прекрасного, да и сам путь поиска его определения лежит через
анализ того, как и почему в человеке возникает это ощущение прекрасного.
Объекты, изображенные в искусстве, должны быть, по словам Мерзлякова,
«занимательные по отношениям своим к нам» 2. «Прелесть предметов,
избираемых искусством,— говорил он в другом месте,— не заключается
в них самих, но в отношении, которое они имеют к нам. В природе все
прекрасное, но прекрасное природы не есть прекрасное искусства. Виды
поэта не всегда суть виды природы.— Ему не нужно знать, хороша ли
1 Η. ф. Остолопов, Словарь древней и новой словесности, ч. II, стр. 404—
407, 423-424, 218, 50, 216.
2 А. Ф. Мерзляков, Об изящном...—«Вестник Европы», 1813, № 11—12, стр. 211.
27
вещь сама по себе: довольно, если она способствует к достижению
предложенной им цели» 1.
Таким образом, прекрасное понималось в этой системе идей как некое
единство субъективного, человеческого, и объективного, природного.
Эстетика просветительского классицизма придавала искусству
большое воспитательное значение, считала, что искусство должно
воздействовать на нравственность, воспитывать ее, просвещать человека, а потому
возражала против рассмотрения искусства как простой
развлекательности, как чистой формы (что утверждали тогдашние русские сторонники
кантианского эстетического формализма, как, например, Л. Якоб).
«Искусства,— говорил Мерзляков,— должны быть руководимы благоразумием и
направляемы к полезной цели» и «в произведениях искусств под
прекрасной наружностью должна скрываться сила, действующая для
усовершенствования нравственного достоинства человека»; «...те имеют низкое
понятие об изящных искусствах,— полемически заострял он эти положения,—
которые думают, будто для художника нет другого дела, как только
доставлять людям забаву посредством приятного щекотания их
чувствительности» 2.
Такого же мнения придерживались Георгиевский и Архангельский,
которые выступали с прямой полемикой против немецкой
идеалистической эстетики. Идеи воспитательной и образовательной функции
искусства проводили в своих сочинениях А. Писарев, В. Перевощиков
и другие сторонники просветительской классицистической эстетики.
Классицисты считали, что произведение искусства должно содержать
в себе идею, которой должны подчиняться и отдельные характеры, и
события, и сюжетная линия. Мерзляков выразил эту мысль, говоря о том, что
художник должен «наперед» знать, что получится у него, когда он создает
свое произведение.
Изложенная эстетическая концепция была чрезвычайно жизненна для
искусства и эстетики России самого начала XIX века. Она, с одной стороны,
обобщала практику классицистического искусства, а с другой —
подвергала его критике, вскрывая его ограниченность, его несоответствие
требованиям и критериям науки эстетики. Тем самым классицистическая
эстетика обнаруживала тенденцию к преодолению самого классицизма как
системы художественной практики. Исходя из принципа соответствия
художественного произведения самой природе отражаемых в искусстве
объектов и ситуаций, классицистическая критика требовала от
художественного произведения естественности, «натуральности»,
последовательности в изображении характеров.
В этом отношении эстетика классицизма не противоречила,
следовательно, объективному развитию самого искусства в направлении реализма.
1 Α. Φ. M е ρ з л я к о в, Чтение пятое...— «Амфион», 1815, стр. 72—73.
2 А. Ф. Мерзляков, Замечания об эстетике.— «Вестник Европы», 1813, № 19,
стр. 206, 208.
28
Но к началу 20-х годов эстетика классицизма все более входила в
кризисное состояние, являвшееся следствием новых сдвигов в общественной
жизни и в самом искусстве, а также пороков, свойственных тому направлению
философии, с которым классицистическая эстетика была тесно связана,—
метафизическому материализму и близкому к нему деизму. Эти пороки
находили в эстетике свое специфическое выражение. Так, требуя
художественного обобщения и видя в нем важнейший принцип эстетики,
классицизм односторонне подчеркивал и придавал преувеличенное значение
в трактовке художественного образа моменту всеобщего, а момент
индивидуализации отодвигал на задний план и, в сущности, как
самостоятельную проблему не рассматривал. Оставалась в стороне и проблема
развития, динамики образа, односторонне подчеркивались классицистические
единства, замкнутость, разобщенность жанров, неизменными на
протяжении истории объявлялись и критерии прекрасного — эта наивная и в то
же время метафизическая по философскому смыслу убежденность особенно
отчетливо видна в трактате О. Гевлича «Об изящном» (Спб., 1818).
В силу этих и других своих недостатков эстетика классицизма,
несмотря на свойственные ее передовым деятелям новые тенденции, не могла
освоить в своих понятиях новые пути развития реализма.
Критика классицистического искусства и в известной мере эотетики
началась в России еще в 10-х годах XIX века (Жуковский, Вяземский).
Но научной обобщености эта критика достигла позже — в 20-х годах,
когда в России выступили декабристские эстетики (в частности, К.
Рылеев и примыкавший к декабристам Сомов) и когда начала
формироваться романтическая эстетика, основанная на идеалистической философии
Шеллинга.
Правда, еще в 10-е годы Жуковский выступил с пропагандой некоторых
идеалистических принципов эстетики, не связывая их непосредственно
с философией Шеллинга. Но этот родоначальник русского романтизма был
все же связан и с эстетикой классицизма.
Романтики выступили прежде всего против основного тезиса
классицистической эстетики об искусстве как подражании природе. Они выдвигали
на первый план дух, идею, субъективность, как основание художественного
творчества и прекрасного. Романтическая критика классицизма обосновьь
вала лозунг «незаинтересованного искусства», позже принявшего форму
«искусство для искусства». Эта критика была повинна и в том, что
классицистам в пылу полемики приписывались пороки, которые им не были
свойственны (незаинтересованность в теории, понимание подражания как
пассивного, рабского отражения природы и др.). Одним из результатов
этой исторической несправедливости было и то обстоятельство, что
осталась в тени связь, соединявшая классицистическую теорию «подражания»
с теорией «воспроивведеншг» эстетики критического реализма. А ведь
вторая подхватила и развила именно этот принцип первой. Чернышевский
воспринял эту идею. Он писал, не только примыкая к традиции теории
«подражания», но и осуждая идеалистические, романтические концепции
29
эстетики: «...по моему мнению, называть искусство воспроизведением
действительности... было бы вернее, нежели думать, что искусство
осуществляет в своих произведениях нашу идею совершенной красоты, которой
будто бы нет в действительности» ]. Чернышевский развил и ряд других
принципов, которые разрабатывала классицистическая эстетика (единство
объективного и субъективного моментов в категории прекрасного;
активность художника в акте воспроизведения действительности; широкое
понимание действительности; идеализация как «исключение»
«ненужных для полноты картины подробностей», то есть как обобщение,
типизация и т. п.).
В целом романтическая эстетика была переходным моментом от класси-
цистской теории «подражания» к реалистической теории
«воспроизведения». Но чтобы перейти в другую форму, соответствующую новому
искусству и новой философии, реалистическая эстетика начала XIX века
должна была быть обогащена. Эта задача и в негативном и в позитивном
планах решалась на начальной стадии романтиками-шеллингианцами,
хотя и не только их усилиями, поскольку уже в 30-х годах развились
и другие формы эстетики диалектического идеализма.
Идеалистическая романтическая эстетика в России на первых порах
ее развития была представлена харьковским профессором И. Кронебергом,
бывшим профессором Петербургского университета А. Галичем,
московскими «любомудрами» В. Одоевским и Д. Веневитиновым. В известной
мере и на известном этапе своего развития к «любомудрам» тяготел и
декабрист В. Кюхельбекер, бывший вместе с В. Одоевским редактором
альманаха «любомудров» — «Мнемозины», выходившего в Москве в 1824—
1825 годах.
Наряду с мистикой и идеализмом, абстрактностью и пренебрежением
к злобе дня в этой школе эстетики прослеживаются идеи развития,
историзма в трактовке судеб искусства и в понимании его современного
состояния, проявляется внимание к проблеме народности искусства,
обнаруживаются новые подходы к решению проблемы активности субъекта в
художественном творчестве. Романтики впервые сознательно вводят и
рассматривают ряд ставших затем коренными понятий эстетики — таких, как
«образ», «идея» и другие (хотя, по существу, они вызревали уже в недрах
эстетики просветительского классицизма). К этому следует добавить, что
в среде сторонников идеалистической романтической эстетики не было
полного единства. Одоевский, Кронеберг, Галич тяготели к академической,
абстрактной, мистико-идеалистической, а подчас и откровенно религиозной
трактовке общеэстетической теории, в то время как Веневитинов и
декабрист Кюхельбекер давали ей радикальную интерпретацию.
Романтики выступили против основного тезиса классицистической
эстетики об искусстве как подражании природе. Этому тезису они противопо-
1 Η. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, М., 1949,
стр. 278.
30
ставили объективно-идеалистическое истолкование искусства и в
трактовке прекрасного («изящного») и в понимании творчества художника.
«Произведение искусства,— писал Кронеберг,— не иное что, как отеле-
сившаяся идея» \ «изящное» для него — «непосредственное явление души
в теле». Для Галича «прекрасное» есть лишь форма осуществления
некоторого высшего духовного и, в конце концов, божественного начала;
Одоевский считал, что «основание красоты не в природе, но в духе
человеческом, а истинная теория искусства — эстетика — должна быть выведена
из «безуслова» — некоего идеального начала, понятие о котором дает
философия Шеллинга2.
В духе теории романтизма и на основе объективно-идеалистической
трактовки прекрасного определяли русские романтики и сущность
деятельности художника. «Творческая сила поэта и художника» для Кронеберга
заключена в «способности бесконечного и конечного; из первой
проистекают идеи; вторая есть фантазия, сила, облекающая бесконечные идеи в
индивидуальный образ» 3, а по Галичу, «изящное» создается благодаря
«чувственно-совершенному проявлению значительной истины свободной
деятельностью нравственных сил гения»4. Художник в качестве гения
является орудием высшего духовного начала, «частицей того великого
божественного духа, который все производит, все проникает и во всем
действует», а произведение этого гения, то есть «прекрасное произведение
искусства, происходит там, где свободный гений, как нравственно совершен.,
ная личность, запечатлевает божественную по себе значительную вечную
идею в самостоятельном, чувственно совершенном образе или призраке»;
для Одоевского красота создается актом духа, «созерцающего самого себя
в предмете».
Не удивительно, что симпатии этой группы эстетиков на стороне
идеалистической традиции в эстетике. Справедливо возводя ее к Платону и
доводя до романтиков, Галич, например, считал, что романтизму, как
искусству, построенному на основе объективно-идеалистической эстетики,
принадлежит будущее, ибо «романтическая пластика» «умеет давать
явственные, определенные очертания» «предметам лучшего, неземного мира».
Не удивительно и то, что из этой объективно-идеалистической теории
эстетики следовали выводы о самодовлеющем значении искусства,
и в этом смысле именно романтизм положил начало той традиции,
которая привела затем к теории «искусства для искусства». Так, Галич, не
отрицая возможности утилитарного использования и значения искусства,
1 И. Кронеберг, Амалтея, или Собрание сочинений и переводов,
относящихся к изящным искусствам и древней классической словесности, ч. I, Харьков, 1825,
стр. 80, 87.
2 Цит. по кн.: П. Сакулин, Из истории русского идеализма. Князь В. Ф.
Одоевский, т. I, ч. I, М., 1913, стр. 162.
3 И. Кронеберг, Амалтея... стр. 87.
4 А. И. Г а л и ч. Опыт науки изящного, Спб., 1825, стр. XII; см. также стр. 61—62;
31
но третируя такое искусство как ремесленное, отстаивал идею
«бескорыстия» эстетического чувства и мысль о том, что «изящное» «не может
служить никаким сторонним видам» и «имеет свою цель в самом себе».
К мысли об искусстве для искусства приходил и Одоевский.
Таким образом, русская романтическо-шеллингианская эстетика
начала 20-х годов была идеалистической но своей философской основе
и соответственно этому решала коренные вопросы этой науки.
Однако для всего этого периода истории русского связанного с шел-
лингианством идеализма было характерно сочетание консервативных
и даже реакционных идей с живыми, плодотворными поисками и
устремлениями, обусловившими также и прогрессивное значение этих
эстетических концепций. Источником этого противоречия, свойственного не только
русской, но и немецкой философии и эстетике, в том числе и в
особенности раннему Шеллингу и Гегелю, были антиметафизика, диалектика.
Касаясь своего предмета, исследуя его с диалектических позиций,
критикуя метафизические взгляды, это направление в эстетике не только
выдвинуло ряд новых прогрессивных идей, но и в целом явилось новым
этапом в истории этой науки по сравнению с классицистической
эстетикой даже в том ее просветительском варианте, который был основан на
материалистическо-деистической философии, на сенсуалистической
гносеологии, натуралистической теории человека и общества. Этот характер
присущ и русской романтической эстетике. Общность эстетической
проблематики, преемственность развития науки обусловили то
обстоятельство, что при всей своей противоположности классицистической эстетике,
при том, что романтическая эстетика подвергла критике свою
предшественницу и получила весьма основательный отпор от классицистов,— при
всем этом некоторые важнейшие проблемы они рассматривали одинаково,
обнаруживая не только свою противоположность, но и единство.
К числу таких проблем относится прежде всего сама проблема
подражания. Критикуя классицизм, романтики, однако, не отрицали начисто
связь искусства с природой, во по-своему истолковывали эту связь и
доказывали, что подражание не есть коренной принцип, объясняющий
искусство.
Так, хотя Веневитинов считал, что «подражательность не могла
породить искусства», он соглашался (в споре с Мерзляковым), что «поэт без
сомнения заимствует из природы форму искусства, ибо нет формы вне
природы» *.
Подробнее, в духе платоновского объективного идеализма, эту идею
развил Галич. Он различал природу как «видимое создание» и как
божественную. Природа в первом смысле есть лишь «внешняя природа», «есть
живая мысль бесконечной премудрости», она содержит в себе прекрасное,
но лишь как отблеск, и постольку прекрасное в искусстве не может огра-
1 Д. В. Веневитинов, Полное собрание сочинений, M., «Academia», 1934,
стр. 209.
32
ничиваться «только тем, что представляет нам видимая природа»; оно
должно вносить в него и то, что человек постигает сверх природы*
Поэтому «последнею целью или началом изящных искусств не может
быть подражание природе (в обыкновенном смысле)». Галич, таким
образом, в эту идеалистическую форму включал человеческую активность,
свободное начало в понятие художественного творчества. Того же
внимания требовал и Кронеберг: «Подражай природе! — Разве природа вне
художников? Природа в художнике».
Сопоставляя эти идеи с классицистическими, мы видим, что у
романтиков на первый план выдвигается идеалистическая интерпретация
природы и подражания, принимая подчас прямо религиозную форму. Но
в этой идеалистической форме прослеживается мысль о недостаточности
подражания как копирования, как пассивного акта. Галич требовал «не
ограничиваться только тем, что представляет нам видимая природа»,
Кронеберг включал субъективное начало в акт художественного
творчества, а Веневитинов подчеркивал, что «не стремление к подражанию
правит умом человеческим», ибо человек «не есть в природе существо
единственно страдательное». И хотя классицисты также понимали
подражание как активный процесс, но романтики особо подчеркивали и по-своему
разрабатывали идею активности художественного творчества, роль
субъективности в нем, обращая внимание и на объективную
обусловленность творческого акта.
Из идей, связывающих романтическую эстетику с классицистической,
следует указать на утверждение «гражданственной» роли искусства
(о чем мы еще скажем) и в особенности на всю область проблем,
связанных с концепцией художественного обобщения: возможное (в
противоположность уже свершившемуся, то есть в противоположность
непосредственно сущему — индивидуальному) как предмет искусства,
идеализация как метод художественного обобщения, образ и идея как формы
этого обобщения.
Изящное, считал Галич, имеет «свободу обтекать области как
действительного, так и возможного». Идеализацию Галич трактовал в понятиях,
близких к тем, которые были характерны для классицистов (Мерзля-
кова или Остолопова). «Все изящное есть идеальное,— писал Галич,—
образцовое, то есть такое, в котором устранены случайные, временные
и местные ограничения, а удерживается только существенный характер
целого рода или класса». «Идеал», по которому творит художник, есть
«образ вещи», творимой им. Поэтому, хотя изящное «возвышается... над
обыкновенною, действительною природой; однако ж отнюдь не выходит
из круга естественного». Галич шел и еще дальше: идеал и образ не
только потому связаны с природой, что отражают единичные вещи, но и более
того — потому, что общее присуще самой природе: не только вещи, но к
«законы и самообразы» «природу составляют».
2 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) 33
Нетрудно видеть в этой трактовке эстетических проблем отзвук
философских размышлений о соотношении общего и единичного, их
постижения, роли субъекта и роли объекта в образовании общих понятий и
образов, идеала как эстетического аналога философского общего. Галич
здесь противоречив. Как видим, он признавал земную, естественную
основу эстетического общего. Но в то же время для него это общее —
красота — выступает как некая средневековая реалия, и он связывает
идеал в платоновско-шеллингианской традиции не только с природой
и человеком, но по всем канонам объективного и прямого религиозного
идеализма, с «богом», с «божественным бытием». В этой связи он
различал божественный идеал и «определенный идеал» как изящное в
искусстве, всегда принимающее чувственную форму.
Наряду с категориями художественного образа и художественного
идеала романтики гораздо более последовательно и, что особенно важно
для выявления того качественно нового, что вносили они по сравнению
с классицистами, совершенно сознательно вводили в эстетику
понятие об идее как основе художественного произведения. Одной из
существенных черт изящного является, по Галичу, «целость
органическая», в свою очередь являющаяся функцией идеи: изящное «оживляет
многоразличные, друг для друга существующие части материи, одною
самой по себе значительною идеей...» Так же трактовал эту проблему
Кронеберг, считавший произведение искусства «отелесившейся идеей»,
которая представляет бесконечное начало в «творческой силе»
художника. В этом контексте он отрицал изящное в природе, считая его
принадлежностью только искусства. «В природе изящного нет,— писал
Кронеберг,— изящное только в творениях искусства. Ибо творения природы
ни одной идеи не выражают. Идея, которую искусство предлагает в одном
непосредственном созерцании, в природе находится только в переходе
от жизни...».
Дальнейшей разработке подвергли романтики и идею единства формы
и содержания искусства. «Под формою,— напоминал Кронеберг,--
в искусстве разумеют обыкновенно произвольный образ, даваемый мягкой
массе, остающийся, когда масса окрепнет. Это — форма механическая.
Органическая форма, которая одна приличествует творениям искусства,
производится действием внутренней силы и совершается полным
развитием содержания».
Связывая, таким образом, решение проблем эстетики с определенным;
истолкованием философских проблем, разрабатывая эстетические
категории, романтики считали эстетику строгой наукой, основанной на
философии. Галич, определяя эстетику как «науку изящного», как «философию
изящного», подчеркивал, что она основана на философии — «общей
системе ведения». Одоевский понимал эстетику как науку, выведенную
из науки о «безуслове», то есть из философии. «Наукой прекрасного»,
наукой «о законах прекрасного» считал эстетику Веневитинов. Это
рассмотрение эстетики как науки имело то значение, что служило
романтизм
кам основанием для требования сделать наукой или, во всяком случае,
сделать наукообразной эстетическую критику, лишить ее того
субъективизма, произвольности, какими она — во всяком случае, по их мнению —
характеризовалась в то время, будучи основана на «вкусе». Против этой
«критики вкуса» особенно выступали любомудры, инкриминируя ее
своему учителю Мерзлякову и другим классицистам. И хотя и здесь они
были не очень-то справедливы и попросту не очень внимательны
к объекту критики,— поскольку классицисты и в теории и на практике
строили критику на определенных научных основаниях (только, конечно»
на других, нежели романтики),— несмотря на это, их энергичное
требование сделать эстетическую критику научно основательной,
последовательной, объективной имело свой исторический резон и дало
впоследствии именно на русской почве блестящий результат.
Этот философский взгляд на эстетику имел и еще один в высшей
степени плодотворный результат: романтики поставили на повестку дня
проблему специфики искусства но сравнению с наукой — проблему, которая
потом в течение долгого времени и, собственно, до сих пор занимает
эстетику. Очень рельефно ставил эту проблему Галич. Он писал о
различии искусства (Галич говорил о «поэзии», но, несомненно,
подразумевал искусство вообще) как воплощения мысли в «неделимых образах,
кои соединяются по законам фантазии в чувственное самостоятельное
целое, ничего, кроме себя, не предполагающее», и науки, которая
«обрабатывает мысли... для видов ума, связывая (мысли.— 3. К.) по законам
логическим и всегда держась на высоте общих и отвлеченных
понятий». В силу этого в искусстве «назидание ума и воли» хотя и должно
присутствовать, но не явно, а «скрыто», должно лишь
«подразумеваться» .
Существенным завоеванием романтической эстетики был исторический
взгляд на искусство, стоявший в связи с общей диалектической
устремленностью того философского направления, к которому принадлежала
эта школа эстетической мысли. Согласно концепции Одоевского,
искусство как форма проявления человеческого духа развивается, поскольку
развивается и сам дух человеческий. Развитие же это понималось
диалектически в том смысле, что последующие формы вбирали в себя
содержание предыдущих, то есть и отрицали их и опирались на них. Развитие
духа по ступеням в формах искусства (как и в формах познания)
стремится к некоему идеалу, к высшему, совершенному, и красота
(«изящество»), обладая относительной ценностью в каждой из форм своего
развития, достигает абсолютности в высшем результате. Веневитинов,
разделяя взгляд на искусство как на исторически развивающуюся форму
духовной деятельности, творчества человека, подчеркнул в особенности
другую диалектическую идею — триадический характер этого развития.
Человечество идет от состояния первоначальной гармонии к некоему
внутреннему расколу, раздвоенности, которая снимается в высшем
синтезе. Эта философско-эстетическая концепция давала Веневитинову
2*
35
теоретическую платформу для рассмотрения искусства будущего как
некоего синтеза классицизма и романтизма (в чем он выступал
единомышленником Рылеева и предвосхищал соответствующие идеи диссертации Надеж-
дина). В этом отношении Веневитинов расходился с Галичем, который,
как мы видели, считал, что будущее принадлежит «романтической
пластике».
Но оба они, как и Одоевский, совершенно сознательно и глубоко
взглянули и еще на одну проблему, сама постановка которой стала
возможной благодаря диалектическому взгляду на искусство, благодаря
историзму этого взгляда. Эта проблема так же и даже в большей мере,
чем предыдущие, станет на долгие годы одной из центральных в
передовой русской эстетике — проблема национальной формы, народности
искусства. В контексте только что приведенных рассуждений романтиков
о развиваемости искусства это направление мысли вполне естественно.
Различия степеней духа по ходу развития человечества, по Одоевскому,
проявляются не только в индивидууме, но выступают в форме
национальной, и характеры литератур соответствуют всегда характерам
народов» *.
Веневитинов еще более заостряет эту проблему, В полемике с Полевым
он дает четкое определение этого понятия, связывая его с одним из
центральных понятий декабристского мировоззрения — понятием «духа
времени», «духа народа». В том же фарватере развивается и мысль
Галича. Для него своеобразие форм красоты зависит от «периода истории
человечества, в котором появляется последний («гений», то есть
художник.— 3. К.) и которому должен он говорить вразумительно,
напечатлевает следы времени, народа и особенных личных свойств на его
произведении».
Наконец, Веневитинов, вообще тяготевший, в отличие от
консервативного Одоевского, к декабристской идеологии и находившийся под ее
сильным воздействием, эти идеи историзма и народности связывал и с
требованием гражданского служения искусства и с критикой
подражательности, требованием национальной самобытности искусства. Основанные
на философско-исторической концепции, эти его требования приобретали
силу глубоко и философски осмысленного взгляда.
Передовые современники и выступившие вскоре после романтиков
сторонники эстетики русского критического реализма в целом высоко
оценили (хотя и критично) эту школу русской эстетической мысли. Это
видно, в частности, из тех оценок, которые давали: Кронебергу —
Белинский, Веневитинову — Белинский, Герцен и Чернышевский.
Через Кюхельбекера непосредственно, а также и опосредственно —
через Веневитинова — романтическая эстетика связывалась с эстетикой
декабризма.
1 Цит. по кн.: П. С а кул и н, Из истории русского идеализма, т. I, ч. I,
стр. 162.
36
В работах декабристов мы можем найти общеэстетические принципы
и классицизма и романтизма. Но декабристскую эстетику вообще мало
интересуют философские, общетеоретические проблемы эстетики. Ее
волнует другое. Она хочет сделать искусство и науку об искусстве
составными частями своей социально-политической программы. Поэтому она
дает эстетическим принципам, в том числе многим из тех, которые
интересовали и классицистов и романтиков, свою интерпретацию. Проблема
гражданского служения искусства, его патриотического звучания, его
роли в пропаганде свободолюбивых идей и воспитании «истинного сына
отечества», его борьбы за утверждение самобытной русской культуры
и борьбы с рабским копированием иностранных образцов,— таков пафос
работ декабристов, имеющих отношение к эстетической проблематике.
В огне этого пафоса переплавлялись, получали своеобразное толкование
многие из тех положений, которые разрабатывали более склонные к
теоретизированию русские классицисты и романтики. Декабристская
эстетика занималась проблемой отношения искусства к «духу времени»
и в этой связи проблемой народности, самобытности искусства, она
связывала эти идеи с принципом историзма в том смысле, что признавала
историческую изменчивость содержания и формы литературы,
признавала закономерность литературного новаторства и реакционность
попыток предписать художественному творчеству раз навсегда данные
правила. Но именно этот комплекс идей, как мы видели, хотя и в более
отвлеченном, теоретическом ракурсе, занимал романтическую эстетику.
Декабристская эстетика разрабатывала эстетическую категорию
«высокого», проблему эстетического идеала (давая ей революционную
интерпретацию), идею гражданского назначения художника, то есть революционно
преобразовывала некоторые положения эстетики классицизма.
В решении проблемы отношения классической и романтической
литературы (поэзии, на которой главным образом сосредоточивалось
внимание декабристов) декабристы искали некоего их синтеза. Такой синтез
предложили О. Сомов в специальном трактате на эту тему «О
романтической поэзии», К. Рылеев, наиболее точно изложивший эту концепцию
в своей замечательной статье «Несколько мыслей о поэзии». Само
разделение литератур на классическую и романтическую надуманно; искусство
должно быть самобытно, настоящее искусство всегда и было таковым;
развитие искусства подчиняется неким всеобщим, то есть общим для всех
времен и народов законам; различается же старое и новое искусство,
причем в новом все большее внимание обращается на внутренний мир
человека.
По непосредственному отношению к русскому классицизму и
романтизму у декабризма и даже у отдельных декабристов не было
однозначной позиции. Декабрист Кюхельбекер сотрудничал в романтической
«Мнемозине», признавал известные преимущества романтической поэзии
перед классицистической, но он же резко критиковал зачинателя русского
романтизма Жуковскогр и все порожденное им направление русской
37
поэзии. Подобно Рылееву, он ратовал за самобытную, народную, а отнюдь
не за романтическую литературу. Рылеев одобрял некоторые статьи «Мне-
мозины» и, полемизируя с автором, сторонником «новой философии немец-
кой» (возможно, одним из «любомудров» — П. Рожалиным) в его
определении романтической поэзии,— по существу, одобрял его понимание
«сущности и философии всех изящных наук». Но он критиковал
романтика Жуковского и считал, что его «мистицизм» растлил многих и принес
много зла. А. Бестужев высоко оценивал классициста Мерзлякова, поэта
и переводчика («Взгляд на старую и новую словесность в России»),
но в своих симпатиях склонялся к романтической поэзии, считая, что
классицизм устарел и что современная поэзия есть поэзия романтическая
(что не мешало ему посмеиваться над поэтами-романтиками).
Тяготевший к декабризму О. Сомов не только издевался над унылыми
эпигонами романтизма (предвосхищая, едва ли не буквально, аналогичные
выступления Кюхельбекера и мысли Бестужева), хотя в своем трактате
«О романтической поэзии» в общем критически отнесся и к эпигонам
классицизма. Близкий к декабризму молодой Пушкин едва ли не в равной
мере потешался и над дряхлеющим классицизмом и над туманными
идеями своих друзей из «Мнемозины». Но этот видимый разнобой имел
свой высший смысл: декабристская эстетика использовала эстетические
учения, которые пропагандировали идеи, соответствующие программным
требованиям декабристов. А такие идеи содержались и в
классицистической и в романтической эстетике и литературе.
Таковы были, в самых общих чертах, те три течения русской эстетики
начала XIX века, которые питали из национальной почвы последующую
русскую эстетику. Все три работали в генеральном фарватере ее
развития. Все три, и каждая по своему, своеобразными постановками и
решениями различных проблем эстетики и эстетической критики формировали,
исторически подготавливали тот комплекс идей реалистической эстетики,
ту форму эстетики реализма, которая созреет в передовой русской
эстетике 40—50-х годов.
Но как ни своеобразна была эта теория, как ни самобытна была эта
эстетика, историк не должен забывать о той идейной подготовке, которую
она получила в работах русских эстетиков предшествующего периода,
3. А. КАМЕНСКИЙ
II
Пятнадцатилетие, последовавшее за разгромом декабристов,
представляет собой относительно самостоятельный период русской эстетики.
В это время в ней сталкиваются и развиваются различные направления:
от классицизма, впрочем, значительно видоизменившегося и оставившего
авансцену литературной жизни (А. Жандр, П. Катенин и другие), до
38
романтизма (H. Полевой, А. Бестужев и другие). Но характерным для
этого периода является то, что с годами все более видную роль начинает
играть философская эстетика (современники часто называли ее
«немецкой критикой» или «немецким взглядом» на искусство). Ее первыми
представителями были Д. Веневитинов, В. Одоевский, И. Киреевский
и, наконец, Н. Надеждин. Влияние философской эстетики широко
распространилось в русском обществе, в том числе и на людей,
профессионально не занимавшихся (или почти не занимавшихся) критикой, но
игравших видную роль в умственной жизни страны (П. Чаадаев,
Н. Станкевич).
Е. А. Баратынский, одним из первых констатировавший бурный рост
популярности философской эстетики, писал в январе 1826 года Пушкину,
что «московская молодежь помешана на трансцендентальной
философии» *. Спустя девять лет Пушкин отмечал, что «философия немецкая,
которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых
последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому» 2. Однако
вывод Пушкина оказался верен только в отношении части московской
«молодежи»: как раз в это время русская философская эстетика в лице
Белинского поднималась на новую и притом высшую ступень своего
развития 3.
«Более практический» дух возобладал несколько позднее — в начале
40-х годов, когда сложились материалистические основы эстетики
Белинского и его программа «натуральной школы», когда оформились
новые течения: славянофильство, а также — в менее четких контурах —
«чистое искусство», когда, наконец, возникла эстетическая платформа
петрашевцев. Совокупность этих признаков характеризует уже наступление
нового периода, в котором философская эстетика утратила свое
первенствующее значение, так же как несколько ранее утратила его эстетика
романтическая.
Относительно причин появления и расцвета философской эстетики
(и шире: русской идеалистической философии 20—30-х годов прошлого
века) современная наука не дала еще четкого ответа. Чаще всего их
видят в трагедии 14 декабря. Безусловно, поражение декабристов и
усиление реакции содействовали росту общефилософского умонастроения
русского общества — за счет интересов политических, злободневных,
«сиюминутных». Однако этот процесс нельзя отделять от
общеевропейского философского движения, прежде всего от развития немецкой
классической философии. Отсюда и более широкое идеологическое значение
русской философской эстетики, чем то, какое за ней часто еще при-
1 Е. А. Баратынский, Стихотворения, поэмы, проза, письма, М., Гослитиздат,
1951, стр. 486.
2 А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, изд. 3, т. VII, М.,
Изд-во Академии наук СССР, 1964, стр. 276.
3 Взгляды Белинского 30-х годов в данном разделе не рассматриваются. См. об
этом раздел «Эстетика революционных демократов».
39
знается. При прямом политическом индифферентизме, а подчас и
консервативности (как у Надеждина) философская эстетика несла в себе
важное позитивное начало: элементы диалектики, которую она в большей
мере, чем любое предшествующее художественное учение, стремилась
применить к пониманию искусства.
Само обозначение «философская» в применении к названному течению
эстетики этих лет говорит о том, что искусство в нем обосновывалось
и уяснялось философски, то есть включалось в философскую систему.
Родоначальником такой эстетики в новое время был, как известно, Баумгар-
тен. Потому и Надеждин начинает, собственно, философскую эстетику с
Баумгартена, который «первый возымел мысль представить полную и
связную теорию изящного по философической методе и началам» ', а ее
высший этап видит в Шеллинге (эстетику Гегеля Надеждин в то время не
знал). Общий вывод, который делал Надеждин из своего обзора
эстетических учений, состоял в том, что только философия («метафизика
изящного») способна сообщить художественным теориям «полноту,
основательность и непреложность» 2.
Надеждин доводил до логического конца мысль, высказанную в
1825 году еще Веневитиновым,— о необходимости философского
фундамента критики, поскольку «всякая наука положительная заимствует свою
силу из философии» 3.
Философская эстетика приводила, во-первых, к расширению взгляда
на искусство, которое сопрягалось с коренными закономерностями
развития бытия (понимаемого, разумеется, как развитие идеи); во-вторых, она
способствовала уяснению гносеологической природы искусства как
особой формы познания (чувственного познания) и, наконец, устанавливала
смену стадий или периодов искусства.
Последнее вело уже, собственно, к построению историко-философской
системы. «Дайте мне историю поэзии... Я построю по ней историю
человечества» 4,— провозглашал Надеждин. «История искусства — не что
иное, как символическая история человечества» 6,— вторил ему П.
Чаадаев. Конкретизировался этот тезис делением искусства на три (или
четыре) исторических формы (символическая, классическая,
романтическая и «новейшая»), что, как известно, составляло одну из главнейших
идей западноевропейской философской эстетики. В русской критике эта
идея особенно эффективно развивается во второй половине 20-х — начале
30-х годов. Мы находим ее уже в «Опыте науки изящного» А. Галича
(1825), в статьях и письмах Д. Веневитинова и В. Одоевского.
В 1828 году И. Киреевский развил ее, так сказать, в микромасштабе, рас-
1 «Телескоп», 1832, ч. VIII, стр. 231.
2 Τ а м же, стр. 539.
8 Д. Веневитинов, Сочинения, ч. II, М., 1831, стр. 51.
4 «Телескоп», 1836, ч. XXXI, стр. 687.
6 П. Чаадаев, Сочинения и письма, т. II, М., 1914, стр. 176,
40
смотрев по трехчленной философской формуле творчество одного
писателя — Пушкина1 , а двумя годами позже, в «Обозрении русской
словесности за 1829 год», применил эту формулу к истории всей новой русской
литературы. Наконец, в том же 1830 году Надеждин посвятил проблеме
смены историко-литературных форм свою диссертацию — «Опыт о
романтической поэзии» (на латинском языке).
Согласно Надеждину, классическая форма поэзии соответствует
античности; романтическая — средним векам. Характерный признак
первой формы — объективность, стремление «вне себя» («тогда природа
внешняя была единственным поприщем, на котором работала мысль...»);
отличие второй формы — субъективность, стремление «внутрь себя»
(«дух человеческий составляет для самого себя предмет исследования,
обработывания и соревнования» 2). Обе формы ушли в прошлое и
исторически необратимы. Новому времени должно соответствовать новое
искусство, в котором соединятся сильные стороны предшествующих форм.
В этом состоял итог диссертации Надеждина, представлявшей собой
известное обобщение идей русской философской эстетики.
В вопросе о том, какой должна стать новейшая форма искусства,
русская философская эстетика не была единодушна. Но все же легко
увидеть преобладающее мнение. Если П. Чаадаев брал в качестве первого
члена «триады» символическое искусство Древнего Египта и видел в
современной форме возвращение к религиозной настроенности и символизму,
то большинство эстетиков отдавало предпочтение классической
объективности, преображаемой и углубляемой в «новейшей поэзии». Ее
синонимами в тогдашней критике были формулы: «историческая поэзия» и
«поэзия реальная». Если у Шевырева (во второй половине 20-х годов
близкого к философской эстетике) «историческая» поэзия сосуществует с
романтической, идеальной как две равноправные формы 3, то у Киреевского
и Надеждина последняя сменяется первой. Белинский во второй
половине 30-х годов примкнул именно к этой, главной ветви русской
философской эстетики, обосновав — на новой основе — идею смены
художественных форм. «Г-н Надеждин первый сказал и развил истину, что
поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки
и не римляне), ни романтическою (ибо мы не паладины средних веков),
но что в поэзии нашего времени должны примириться обе эти стороны
и произвести новую поэзию»4,— писал Белинский, упрекая
одновременно Надеждина в недостаточно последовательном развитии этой
«справедливой и глубокой» мысли.
1 Три этапа пушкинского творчества — «период школы
итальянско-французской», байронический период и «период поэзии русско-пушкинской» — аналогичны
смене классической, романтической и новейшей формы искусства.
2 «Атеней», 1830, № 1, стр. 7.
3 См. «Московский вестник», 1827, т. VI, стр. 209—210.
4 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений. Изд-во АН СССР. т. V.
М., 1954, стр. 213.
41
Замечание Белинского позволяет также оценить
реально-художественное значение философской эстетики. Несмотря на всю ее
непоследовательность, а подчас и неопределенность содержания, вкладываемого
в понятие «новейшая» поэзия, русская философская эстетика подводила
к реализму. Она чутко реагировала на те перемены, которые как раз во
второй половине 20-х — начале 30-х годов назревали в русском и
западноевропейском художественном развитии, и искала новые, адекватные им
эстетические категории. Понятно, что на первых порах эти категории
брались еще слишком широко, а подчас и приблизительно.
Русская философская эстетика развивалась в борьбе с романтической
эстетикой, прежде всего с ведущим ее направлением, представленным
в это время Н. Полевым и А. Бестужевым-Марлинским. У этой эстетики
были свои заслуги — и не только в прошлом. Она хорошо улавливала
общественное, политическое, злободневное содержание искусства. Ее
историзм носил более конкретный, чем в философской эстетике, менее
отвлеченный характер и выражался в стремлении непосредственно
объяснить смену художественных течений интересами общественной борьбы.
В большой статье о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем» 1
А. Бестужев-Марлинский связывал победу романтизма — этого истинно
современного искусства — с борьбой против феодализма, с выходом на арену
истории «простолюдинов». На этой концепции лежал отпечаток идей
французских буржуазных историков, в частности Тьерри. Для Н.
Полевого романтизм — это тоже некая антифеодальная освободительная
стихия, которая «отвергает все классические условия и формы» и
свободно творит «по неизменным законам духа человеческого»2. Но на
фоне философской критики отчетливо видны и слабые стороны этих
положений. Н. Полевой и А. Бестужев явно абсолютизировали
романтическое искусство. Вместо более диалектичной системы Надеждина,
Киреевского и других, в которой одна форма «снимает» другую, романтическая
эстетика строила свое понимание искусства на борьбе двух исконно
противоположных стихий: классицизма и романтизма. В ответ на тезис
Надеждина: «Романтическая поэзия существовала и уже не существует»
Н. Полевой с недоумением спрашивал: «Что же такое... новая английская,
германская, французская, итальянская, даже русская романтическал
поэзия!» 3.
Двойственность романтической эстетики видна и в решении проблемы
художественного творчества, назначения поэта — которая очень
интересовала и А. Бестужева и Н. Полевого. А. Бестужев еще в 1825 году
отвергал «ободрение» поэта, то есть покровительство со стороны
правительства, светской черни, и в качестве идеала рисовал образ художника отвер-
1 «Московский телеграф», 1833, Я? 15—18.
2 «Московский телеграф», 1832, № 3, стр. 372.
3 IL Полевой, Очерки русской литературы, ч. II, Спб., 1839, стр. 290.
42
женного: «Уединение зовет его, душа просит природы»!. По мнению
Н. Полевого, поэт находится в непримиримом разладе с
«существенностью». «Блеск, сила, мирская деятельность» приводят к тому, что
«поэзия гаснет в душе поэта, мир увлекает его...» 2. Смерть Пушкина снова
дала Полевому повод настаивать на романтическом понимании поэзии:
«Поэзия — безумие, непонятное, странное безумие — тоска по небесной
отчизне». Позитивное начало этого взгляда очевидно: критик как бы
сублимировал в свою концепцию творчества идеи борьбы и общественного
протеста. Но не менее очевидны и элементы антиисторизма, который
проявлялся в этом, как и в ряде других тезисов романтической эстетики.
Н. Г. Чернышевский обратил внимание на то, что романтическая
эстетика постепенно эволюционировала, перенимая некоторые
положения «философского взгляда». Однако надо учитывать, что закрытие
журнала Н. Полевого «Московский телеграф» (1834) не только нанесло
сильный удар русской романтической эстетике, но фактически нарушило
естественную постепенность ее развития.
К началу 30-х годов наметилось и размежевание русской философской
эстетики. Мы уже упоминали о различных ответах на вопрос о
современной форме искусства; однако здесь разномыслие еще было невелико:
большинство явно склонялось к «реальной», или объективной поэзии. Острее
оказался вопрос о самом методе эстетики, восходящий в конечном счете
к проблеме единства бытия и мышления. Оселком, на котором
обозначались два различных направления, послужила «философия тождества»
Шеллинга.
Надеждин рассматривал антиномии Канта как стимул «разрешить их
догматически», то есть философски, и видел в «Системе
трансцендентального идеализма» Шеллинга «снятие» этих противоречий. Если Надеждин
и критиковал «метафизическое исступление» некоторых последователей
Шеллинга (например, эстетику Аста), то не с целью отказа от
принципа «тождества», а ради выработки более полной и всеобъемлющей
системы. В 1836 году, в одной из своих итоговых эстетических работ,
Надеждин писал, защищая тезис о единстве бытия и мышления: «Законы
логические, которыми определяется мышление ума, совершенно согласны
с законами вещественными, определяющими бытие; на этом согласии
основана возможность познания» 3. В этом свете становится ясным смысл
замечания Чернышевского о том, что Надеждин «пошел далее
Шеллинга и приблизился силою самостоятельного мышления к Гегелю» 4.
Действительно, в эстетическом и общефилософском плане Надеждин
1 А. А. Бестужев-Марлинский, Собрание стихотворений, Л.,
«Советский писатель», 1948, стр. 179.
2 Н. Полевой, Очерки русской литературы, ч. I, Спб., 1839, стр. 44.
3 «Телескоп», 1836, ч. XXXII, стр. 616.
4Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. Ill, М., 1947,
стр. 159.
43
обозначил у нас как бы ту линию^котораявела от Шеллинга периода
«философии тождества» к Гегелю.
Но на рубеже 30-х годов у нас наметилось и другое направление.
Одним из первых критиков «философии тождества» стал И. Киреевский,
который в 1830 году побывал в Германии, где слушал лекции Гегеля
и Шеллинга. В. Одоевский в своих повестях 30-х годов, объединенных
позднее в цикл «Русские ночи», запечатлел «тот момент XIX в., когда
Шеллингова философия (речь идет о «философии тождества».— Ю. М.)
перестала удовлетворять искателей истины, и они разбрелись в разные
стороны» 1. Результат этого отхода сказался прежде всего в ответе на
вопрос, возможно ли синтетическое познание искусства.
Философская эстетика, опиравшаяся на принцип единства бытия и мышления,
отвечала на этот вопрос утвердительно. Для нее, говоря словами Гегеля,
право мыслителя «ориентироваться в кажущихся необозримыми
многочисленных художественных произведениях и формах»2 было самым
дорогим убеждением. В. Одоевский же склоняется теперь к мнению, что
«едва ли возможна теория изящного» и что нужно довольствоваться
интуитивно цельным восприятием единичного, то есть отдельных
произведений искусства.
Эволюция И. Киреевского, В. Одоевского и некоторых других русских
мыслителей в известной мере аналогична той линии западноевропейской
философии и эстетики, которая вела от Шеллинга периода «философии
тождества» не к Гегелю, а к Шеллингу периода «философии
откровения».
Нужно только не забывать про всю сложность этого процесса.
Например, у И. Киреевского в начале его отхода от «философии тождества»
акцент стоит еще не столько на требовании мистическо-интуитивного
познания, сколько на критике умозрительных систем, не учитывающих
богатство опыта, вещественности. Политически И. Киреевский вначале
также был далек от славянофильской доктрины и придерживался
программы европеизации России, наиболее полно выраженной в изданных им
в 1832 году двух номерах «Европейца» (на третьем номере журнал был
запрещен царским правительством). Все это создало предпосылки для
яркого, хотя и очень краткого периода критической деятельности И.
Киреевского в начале 30-х годов (статьи «Девятнадцатый век», «Обозрение
русской словесности за 1831 год», «О стихотворениях г. Языкова» и др.),
когда критиком был сформулирован ряд глубоких положений (например,
о методе эстетической оценки), высказаны проницательные суждения
о творчестве Пушкина, Баратынского, Языкова 3.
1 В. Ф. О д о е в с к и й, Русские ночи, Спб., 1913, стр. 43.
2 Гегель, Сочинения, т. XII. М., Соцэкгиз, 1938,стр. 14—15.
3 После статьи о Языкове (1834) И. Киреевский не печатался в течение
одиннадцати лет. В работах 40—50-х гг. он предстает уже главным образом как
публицист-философ, идеолог славянофильства.
44
Представляют интерес и многие положения эстетики В. Одоевского,
поскольку они были направлены против схематизма «философского
взгляда» на искусство.
В размежевании течений русской эстетики в 30-е годы особую
позицию занял С. Шевырев. В 20-е годы он скорее примыкал к философской
эстетике, чем был ее убежденным деятелем. Поэтому, в отличие от И.
Киреевского, отход Шевырева от ее основных положений был сравнительно
легким и не сопровождался глубоким усвоением диалектических
элементов философской эстетики. Это отчетливо видно в том месте его «Теории
доэзии» (1836), где он, характеризуя философию Шеллинга,
неодобрительно отозвался о так называемом «идентитете», который так много
значил и для Надеждина и для Киреевского. Тем не менее, поскольку
Шевырев настаивал на значении фактов для эстетики и проводил идею
историзма, его работы имели положительное значение. Труды Шевырева
«История поэзии» (т. 1, 1835) и «Теория поэзии в историческом развитии
у древних и новых народов» (1836), явившиеся заметным фактором
научной жизни 30-х годов, обозначили у нас, так сказать, «историко-прагма-
тическое» направление эстетики. В дальнейшем результатами этого
направления воспользовался не столько Шевырев, сколько представители
академического литературоведения; Шевырев же с начала 40-х годов
превратился в ярого реакционера, сторонника «официальной народности».
В картине развития русской эстетики 1825—1830-х годов
значительное место занимают эстетические искания великих русских
писателей-реалистов: Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Они по-разному относились к
ведущим направлениям современной эстетики. Так, в ранних критических
работах Гоголя (вошедших в «Арабески») ощутимо влияние философской
и отчасти романтической эстетики, преобразуемых его собственным
художественным опытом. Отношение Пушкина к обоим этим направлениям
было более трезвым. Абстрактно-романтический взгляд на положение
поэта в обществе Пушкин отверг еще в 1825 году, когда спорил с А.
Бестужевым по вопросу об «ободрении». За развитием философской эстетики
Пушкин наблюдал со сдержанностью, хорошо видя некоторые слабые
стороны этого направления, но, быть может, несколько недооценивая его
глубокое позитивное содержание. По крайней мере он считал, что к середине
30-х годов это направление уже сыграло свою положительную роль 1.
Пушкин остро ощущал недостаточность русской эстетической мысли
тех лет и в качестве первого условия предъявлял ей требование
научности2. При этом он явно склонялся к исторически последовательному, не
скованному какой-либо системой методу анализа, высоко оценив по
1 Пушкин писал об этом в «Путешествии из Москвы в Петербург», в главе
«Москва». Полную сводку данных об отношении поэта к «немецкой метафизике»
см. в книге Б. Мейлаха «Пушкин и русский романтизм». М.— Л., 1937, стр. 176 и след.
2 См. об этом в работе Д. Д. Благого «Белинский и Пушкин» (сб. «Белинский —
историк и теоретик литературы», М.— Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 238).
45
этой причине «Историю поэзии» Шевырева (эту оценку разделял
и Гоголь).
Было бы, конечно, большой ошибкой приводить эстетические взгляды
Пушкина, Гоголя, Лермонтова к «одному знаменателю». Тесно
связанные с художественным опытом великих художников, эти взгляды
образуют неповторимые эстетические системы. Но можно говорить о точках
соприкосновения между ними. Характерна, например, мысль о больших
возможностях, которые может почерпнуть литература в народном
творчестве,— мысль, развиваемая и во многих статьях и заметках Пушкина,
и в работе Гоголя «О малороссийских песнях», и в записи Лермонтова
1830 года о поэзии русских народных песен. Характерен интерес к
Шекспиру, предпочтение, оказываемое его методу,— и в знаменитом
пушкинском сравнении Шекспира и Мольера, и в заключительном монологе
автора в «Театральном разъезде,.,» Гоголя *, и в лермонтовском
противопоставлении «необъемлемого, проникающего в сердце человека, в законы
судьбы» Шекспира «приторному вкусу французов» (письмо к М. А. Шан-
Гирей) 2. Характерен и интерес к эстетике «низкого», «обычного»,
«заурядного»,— как полноправных объектов искусства. «...Описывать
слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть
безнравственность, так, как анатомия не есть убийство»,— говорил Пушкин в статье
о стихотворениях Делорма и Сент-Бева. На защите эстетики
«обыкновенного» построена статья Гоголя «Несколько слов о Пушкине», как —
позднее — ей будет посвящено предисловие к «Герою нашего времени»
Лермонтова.
Главная точка соприкосновения между художественными взглядами
писателей-реалистов заключалась в обосновании объективного
творческого метода, не ограниченного ни романтической субъективностью, ни
априорно поставленной нравственно-исправительной целью (отсюда также
их большой интерес к проблемам нравственности в искусстве). Если
философская эстетика подводила к принятию реализма как закономерной
художественной формы, то эстетические искания великих писателей больше
и вернее всего — по тому времени — содействовали пониманию и его
внутреннего содержания и его поэтики. Их суждения — вместе с достиже^
ниями «философского взгляда» и позитивными элементами романтической
эстетики — составили основу, на которой сложилась теория реализма
Белинского.
Ю. В. МАНН
1 «Театральный разъезд...» закончен и опубликован в 1842 г. Но
первоначальный набросок (в том числе и указанное место о Шекспире) относится к 1836 г.
2 М. Ю. Лермонтов, Собрание сочинений в 4-х томах, т. 4, М.,
«Художественная литература», 1965, стр. 366.
46
Α. Φ. МЕРЗЛЯКОВ
1778-1830
Алексей Федорович Мерзляков окончил университетскую гимназию Московского
университета и сам университет, в котором получил в 1804 году степень магистра.
С этого времени и до 1830 года он занимал кафедру российского красноречия и
поэзии Московского университета, был членом Общества любителей искусства, наук
и художеств, активным деятелем Общества любителей российской словесности.
Литератор и профессор университета, он читал публичные курсы, в которых
излагал теорию эстетики и на ее основе давал разбор различных произведений русских
писателей, поэтов, драматургов.
Следует специально остановиться на одном историческом недоразумении,
возникшем еще при жизни Мерзлякова, в 20-х годах XIX века, приводящем к ошибкам
даже современных историков литературы и эстетики. Мерзлякова до сих пор
критикуют за идеи «Краткого начертания теории изящной словесности» (ч. I—II, М.,
1822), но эта книга была не оригинальным сочинением, а лишь переводом немецкого
трактата Эшенбурга К Мерзляков подверг критике произведения классицистов XVIII—
начала XIX века — Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Озерова. По его разборам
оперы «Мельник» и Фонвизинского «Недоросля» и других произведений русской
литературы видно, что его общеэстетическая концепция «выбора» была концепцией
художественного обобщения. «Его [Фон Визина] комедия,— писал он,— не была
историей семейства Простаковых, но сие семейство было историей худого, безрассудного
воспитания, вообще взятого». Художник в своем произведении, в художественных
образах обобщает эти факты и тем достигает всеобщности и силы, каких нет в самих
отдельных фактах. Объясняя причину устойчивого успеха «Мельника», Мерзляков
говорил о том, что комедиограф должен показать «зеркало свое порокам и
предрассудкам, господствующим вообще, а не частно». Подобным же образом он
рассматривал произведения Крылова.
Белинский, несмотря на свое несогласие с эстетическими принципами
Мерзлякова, дал высокую оценку его критической деятельности. «Как эстетик и критик»
он, по словам Белинского, «заслуживает особенное внимание и уважение»; его
критика была «смела не по времени», относилась «к любопытнейшим фактам истории
русской литературы». Белинский отметил как новаторство тот факт, что Мерзляков
«уже толкует об идее, о целом, о характере», и считал, что «с Мерзлякова
начинается новый период русской критики».
Критические и теоретические работы Мерзлякова никогда не собирались и
рассеяны по очень многим изданиям. Мы публикуем несколько отрывков из его статей,
характеризующих как его теоретические взгляды в области эстетики, так и
применен ие этих идей в литературной критике.
1 Eschenburg, Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen Redekünste,
3. Aufl., Berlin u. Stettin, 1805.
47
РЕЧЬ О НАЧАЛЕ, ХОДЕ И УСПЕХАХ СЛОВЕСНОСТИ
[...] Человек создан для общества; все почти отношения его
заключаются в сем кругу; он говорит и пишет для человека. Его история есть
уже наука.
[...] Человек стал познавать себя по отношениям в природе, и стал
познавать природу по отношениям к себе самому. Будучи частию одного
целого, то есть природы, он и не мог ничего лучше сделать! — Тогда-то
более открылись тайнейшие связи между им и предметами, его
окружающими, и вместе с сим родилась необходимость в исследованиях.
Человек по двойственному существу своему должен был непременно
сделаться наблюдателем природы вещественной и духовной; это вело его
сперва к удовлетворению необходимых нужд своих, а после к изобретению
удовольствий, достойных нравственного бытия его.
Природа вещественная была сначала сокровищницею материалов для
его пищи, для прикрытия наготы его, для его ограждения потребных;
после она же сделалась сокровищницею умственных его наслаждений.
Великого труда ему стоило придумать средства, как укрыться от дождя
под деревом, как извлечь огонь из камня, как защититься от холода и
сырости; но он, наблюдая природу, нашел сии средства.
[...] Человек или употреблял самую природу, как-то дерево, камень,
плоды, огонь, воду, для своих надобностей или, не употребляя ее как
материал, подражал ее творениям и действиям.
Но и в самом употреблении вещей, из природы взятых, он также
подражал: бобр научил его домостроительству; плывущее на реке дерево подало
идею к построению лодок; перышко, опущенное на воду и несомое ветром,
произвело догадку о парусах, движущих после величественные огромные
башни по морям неисследимым. Везде человек есть подражатель;
наблюдения обратили его к подражанию; нуждою, успехами и обилием оно
питалось, соревнованием и процветало и возвышалось.
Сперва человек все делал весьма худо; там искал добра, где было зло;
где мечтал обресть полезное, там находил вредное. Тогда по необходимости
он стал избирать, что хорошо и чему подражать можно с вернейшим
успехом.— Итак, то, что мы называем догадкой избирать, есть колыбель
искусства; нужда его матерь. Следовательно, искусство есть способность
или уменье из всего приобретенного опытами и упражнениями делать
что-нибудь хорошее. Но сия догадка избирать должна уже родиться тогда,
когда люди стали жить обществами: ибо один человек не в состоянии всегда
исправлять самого себя или свои чувства при беспрерывных наблюдениях;
да если что и заметит хорошего, того не может сделать один по недостатку
сил своих. Итак, всякое искусство через выбор предметов и действия,
доведенное до какой-либо степени совершенства, принадлежит не одному
человеку, но усилиям целого общества.
Первые наблюдения человека, чрез подражания превращенные
наконец в искусство, касались натурально до первых его потребностей: они
48
в виду имели пользу, которая, действуя на нас беспрестанно, заставила нас
быть изобретателями. Сии искусства называются механическими. Их
много, и они употребляют природу в том виде, как она есть...
Когда удовлетворена нужда, обеспечено спокойствие, приобретены все
удобности жизни, когда не осталось деятельному уму человеческому
трудиться для нужды, он должен был приобресть новую, он стал нуждаться
в занятиях, дабы избежать однообразия и скуки, соединенной с
счастливою, беспечною праздностью. Свобода развязала его ум и руки, обилие
даровало ему крылья, и он сам, так сказать, собрал для себя премножество
прихотей, которых после сделался рабом. Человек обыкновенно называет
их удовольствиями; но из сих удовольствий есть иные, которые только
убивают время или делают его еще продолжительнее и скучнее; другие
вредны в настоящем и превращаются совершенно в горесть и пагубу со
временем; иные недостойны высокого сана человека как существа
умственного и духовного. Но есть удовольствия благородные, которые питают
и возвышают душу и сердце. [...]
Таким образом, силою мыслящего ума сперва отделено чистое от
нечистого, справедливое от несправедливого, а потом сделано разделение между
ослепительным, ложным благом и истинным; короче: избрано из хорошего
лучшее; и умы, которые успели постигнуть и представить его, названы
избранными или изящными, а самые искусства изящными, благородными,
свободными; ибо в них предполагалась свободная и благородная воля:
свободная от низких пороков; благородная, высокая по цели, достойной
человека, по цели образования нравов. Искусства, почтенные столь
высоким названием, суть: поэзия, музыка, живопись и проч.
«Труды Общества любителей российской словесности
при ими. Московском университете», 1819, кн. XIX,
стр. 26—34.
ОБ ИЗЯЩНОМ, или О ВЫБОРЕ В ПОДРАЖАНИИ
Поэзия есть подражание в гармоническом слоге — иногда верное,
иногда украшенное — всему тому, что природа может иметь прелестного,
трогательного, подражание, сообразное с намерением поэта, с его талан-
тами и чувствами.
[...] В сем определении заключены все правила поэзии как изящного
искусства, они возникают из него подобно ветвям, цветам и листам,
возникающим из многоплодного корня древесного.
Первое слово, которое встречаете вы в сем определении, есть —
подражание.
Что такое подражать! — Представлять, делать что-нибудь похожее на
то, что я видел, что я помню или что слышал достойного внимания людей.
[...] ...Гений, который работает для удовольствия людей, не должен
выходить из природы. Он воображает не то, чего не бывало, но то, что
существа
вует или могло бы существовать. Изобретать в искусствах не значит давать
существо предмету, но открывать этот предмет в виде рачительнейшем,
узнавать новые в нем черты, замечая, какое он может производить на
людей действие. И мужи с высокими талантами, которые осмеливаются
творить, творят то, что уже существовало прежде них. Они творцы, потому
что наблюдали, и наблюдали для того, чтобы творить. Самый
обыкновенной предмет обращает их внимание, потому что [они] открывают в нем
новые прелести, другими не примеченные. Гений — земля, которая не
производит ничего, если не примет семян. Но это да не устрашит наших
писателей; это не означает бедности материалов: но показывает, напротив того,
бесчисленные сокровища, которыми они обладают. Ибо если все
познания, какие человек может приобресть о природе, составляют, так
сказать, пищу искусств, то и гений не имеет других пределов в своих
богатствах, кроме пределов вселенной.
Он подражает природе. Объясним слово природа.
Природа стихотворцев весьма обширна; она заключает в себе четыре
мира: мир существующий или действительный, то есть физический,
нравственный и гражданский, которого мы сами составляем часть; потом мир
исторический, населенный великими тенями и великими происшествиями;
далее мир баснотворный, мифологический, в котором обитают боги и герои;
наконец, мир идеальный или возможный; мир чудной, в котором нет ни
людей, ни действий, во есть место, время, пища и обстоятельства для тех
и для других [...] все покоряется волшебному прутику, которым вы
действуете, но только с одним условием, с тем чтобы мы понимали существа,
вами представляемые, чтобы не оскорбилась природа, или наше мнение
о порядке природы, то есть чтобы сохранены были приличия и мера. [...}
[...] Вот вообще то, что называется для художника природою. На нее
обращает он свои взоры: она одна беспрестанно составляет предмет его;
потому что в ней заключены, как я сказал прежде, и материал, и основа
планов его, и все источники украшений, которые могут нам нравиться:
все правила его не что иное суть, как ее правила; отступив от ней немного,
он делается похожим на обезьяну, которая, живучи в рабочей портного,
решилась после него, из страсти подражания, кроить платье и изрезала
в лоскутки все сукно. Ах, сколь часто и мы, желая перемудрить ее,
делаем не героев, но уродов! [...]
[...] Подражание иногда верное... то есть списанное с простой,
действительной природы. Все искусство состоит в том, чтобы зритель обманывался
и почитал копию за подлинник, и дабы подражание было столь живо
и легко, чтобы даже не показывало самого искусства. Искусство потеряно,
как скоро оно приметно. [...]
Иногда — украшенное, всему тому, что есть прелестнейшего в
природе.— Итак, не всему и не одинаково подражать можно,— только
предметам прелестнейшим. Поэзия представляет не простую природу, но
украшенную.— Как? разве не вся природа равно прелестна? — разве она имее?
50
нужду быть украшенною? — Точно так! это правило принято всеми: оно
служит основанием искусства. Знатоки вопиют всем художникам:
подражайте не простой, но изящной природе. Но что такое изящная природа? [...]
У нас обыкновенно говорят: прелестный дом! прекрасные
развалины! прекрасные книги! прекрасные газеты! — Что же такое сия
красота или изящность? [...] Ученые говорят: красота состоит в удобном
расположении целого, которого порядок и стройность совершенно
соответствуют его назначению. Но эта красота философская, относительная к
общему порядку вещей. Нам многое нравится прежде, нежели мы сами
в состоянии дать себе отчет, почему оно хорошо, прежде, нежели решим,
на что вещь годится... Философ говорит: все то прекрасно, что полезно.
Ах! какая разница! Можно ли тогда думать о пользе, когда чувство в
очаровании? Поэзия, служительница вкуса, разумеет под словом изящного,
без сомнения, что-нибудь другое.
[...] Итак, надобно получить идею об изящном всеобщую.— Оно состоит,
говорят ученые, в удобном расположении и согласии частей. Но какое же
сие согласие, из которого происходит изящное? — и какие это части? Вот
что отгадать нам должно. По уверению г-на Бате [Баттё], качество
предмета ничеге не значит; будь гидра, скупой, набожный, ханжа, или Нерон;
если они представлены со всеми чертами, им приличными, то все они
входят в круг изящной природы. [...]
Истинное совершенство собирает красоты, которые природа рассеяла,
говорит ученый. Вспомните Зевксиса: что он сделал, когда хотел
представить совершенную красоту? — может быть, он смотрел на какую-нибудь
одну отличную красавицу, которая была ему известна; может быть,
подобно Рубенсу, смотрел на свою возлюбленную, ибо в часы очарования что
может быть ее прелестнее? — Нет, он влюблен был только в одно свое
искусство. Он хотел видеть самых прекраснейших из кротонок и из
особенных красот каждой составил идею о красоте совершенной: сия целая
идея была образцом его Елены: вероятна и стихотворна в целом, истинна
и историческая в своих частях отдельно. Вот пример для артистов,
продолжают учители вкуса. Так поступали все великие гении без выключения.
Очень хорошо.— Но если Зевксис собирал рассеянные черты красоты, для
того чтоб составить совершеннейшую, то есть правильную красоту, и успел
в этом, то я имею право спросить его, что он разумел под совершенно
правильною красотою; ибо мнения о красоте бесчисленно разнообразны: что
для нас правильно, то для других неправильно. Греческая архитектура
сменена была готическою; и та и другая почитались в свое время
правильными. Притом что такое правильная красота без страсти, без какого-нибудь
движения, ей сообщенного? Ибо сие движение, например, в физиономии
есть 5*шзнь и душа красоты. Если было это движение в его произведении,
то каким образом собирал, приноравливал и соединял Зевксис рассеянные
черты сии в одно свое целое? По каким признакам узнавал он в них
прекрасное? Где оно есть и где его нет? Вот гордиев узел.
51
Утверждали некоторые, что все великое и чудесное составляет
красоту. Ибо поэзия, по словам их, должна говорить душе, возвышать ее,
и потому все обыкновенные вещи должны быть выключены из поэзии, но
спрашивается, говоря сердцу, всегда ли должно непременно возвышать его
великими идеями? Надобно ли изгонять из царства поэзии обыкновенные
предметы, если они нас трогают, пленяют? Конечно, должно быть
выкинуто все то, что оскорбляет наше зрение и что нам прискучило; но есть
самые простейшие, самые маловажные вещи, около которых обращается
наше воображение тихо и беззаботно и которые нравятся нам неизвестно
почему. Если поэт умеет исторгнуть их из мрака, дать им приличное место,
живописать их с приятностью, то, конечно, доставит нам новое
удовольствие, не примешивая тут ни великого, ни чудесного. Скажите, что нам
нравится в Георгиках, в эклогах, в идиллиях? Обстоятельства все самые
простые, выраженные пристойным образом; и самая сия простота
составляет их прелесть.
Итак, по каким признакам узнавать прекрасное, или изящное? [...]
[...] Представим теперь, что правила об изящной словесности неизвестны,
но она уже существовала, уже были стихотворцы и ораторы, которые
действовали на умы своих сограждан, и что наконец артист-философ решился
определить свои правила. Он стал наблюдать все физические и
нравственные феномены собственного своего круга, он заметил все то, что есть
в природе физической и нравственной, движения тел и душ, их виды, их
степени, их изменения по летам, состоянию, положениям; с другой
стороны, он испытывал и те впечатления, которые ощущал в самом себе. Он
заметил все то, что производит в нем удовольствие или неудовольствие,
когда более и когда менее, и почему сие удовольствие, приятное или
неприятное, производилось в его сердце при каждом новом предмете. Продолжая
свои наблюдения, почувствовал он, что чем ближе к нему предмет, тем он
большее принимал в нем участие, чем он от него далее, тем становился
к нему холоднее. [...] Замечая таким образом далее и далее, он открыл, что
участие возрастает по мере приближения видимых предметов к состоянию,
в котором он сам находится. Познал он, что все то, что возбуждает в уме
и сердце его большую деятельность, что распространяет круг его
мыслей и его чувствований, все то имеет для него прелесть особенную.
Тогда блеснул пред ним новый свет. Он оставил стезю мучительную,
бесплодную, доказывать красоту предметов по их наружным видам, по их
разнообразию, по их расположению: он весь погрузился в самого себя
и заключил, что все предметы, которые нам представляет искусство,
должны быть занимательны, то есть иметь ближайшее к нам отношение, что
врожденная любовь к самому себе есть начало и причина всех движений
души человеческой, что сам вкус не что иное, как голос сей врожденной
любви к самому себе, что первые служители ее, боязнь и желание,
составляют, так сказать, духовное бытие человека; заметил он, что вкус по
природе своей ищет всегда своего усовершенствования, распространения своих
удовольствий, а потому предметы, занимательные по отношениям своим
62
к нам, должны сверх того иметь все совершенство, к которому они
способны; одним словом, тем они более нравятся, чем более заключают
совершенств относительно к своей природе и к нашей.
Вот путь, по моему мнению, самый счастливейший к определению
изящного. Человек желает и боится по врожденной любви к самому себе.
Желать и бояться он может только того, что относится к нему, или ему
подобным, или к вещам, для него драгоценным; эти вещи составляют
предмет особенного его внимания,— нет нужды, производят ли они любовь,
ужас или отвращение: он входит в круг изящного.— Избирайте их и
располагайте по вашему намерению, то есть так, чтобы они под вашими
руками произвели то действие, которое вы им предназначали. [...]
«Вестник Европы», 1813, № 11—12, стр. 191, 196—207, 209.
ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ЭСТЕТИКЕ
Именем эстетики называется философия изящных искусств, или
наука, содержащая в себе как всеобщую теорию, так равно и правила
изящных искусств, из наблюдений вкуса извлеченные. Слово сие,
собственно, значит наука о чувствованиях...
В том состоит целое содержание эстетики, науки, которая художнику
может подать помощь в изображении, расположении и обработании его
предмета и которая для любителя может быть руководительницей в его
суждениях и в то же время научить его из удовольствия, доставляемого
изящными искусствами, извлекать важнейшую пользу, для которой они
существенно предназначены.
Эстетика, подобно всякой другой теории, основывается на весьма
немногих простых началах. Психология изъясняет, каким образом возбуждаются
чувствования, и как они делаются приятными или неприятными. Два или
три правила, разрешающие главные вопросы, составляют все основания
эстетики. Ими определяются, с одной стороны, свойство эстетических
предметов, а с другой стороны, тот способ или тот закон, по которому оные
должны представляться разуму, и то расположение души, в котором
находясь, она бывает способною принимать их действия. [...]
Цель изящных искусств требует, чтобы разительным изображением
добра и зла возбуждаемы были к одному пламенная любовь, к другому
сильная ненависть.
Вникнувши в свойства упомянутых выше сил эстетических, легко
понять можно, что только великие люди могут быть совершенными
художниками. Некоторые думают, будто художнику, кроме нежного вкуса, более
ничего не нужно; однако ж это весьма несправедливо. Великий ум делает
человека философом; нежный вкус делает его приятным в общежитии,
63
способность чувствовать добро делает его добрым, истинный художник
должен иметь все эти качества.
«Вестник Европы», 1813, № 19, стр. 220—221.
ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ
В Беседах любителей словесности в Москве
[...] Прелесть предметов, избираемых искусством, не заключается
собственно в них самих, но в отношении, которое они имеют к нам. В природе
все прекрасно.— Но прекрасное природы не есть прекрасное искусства. [...]
Виды поэта не всегда суть виды природы.— Ему не нужно знать,
хороша ли вещь сама по себе: довольно, если она способствует к достижению
предложенной им цели. [...]
Человек сотворен общественным: законы природы священны! Он
творит свой мир, дополняющий его одинокость. Сообразно своему характеру,
пылкому, страстному, или нежному, или холодному, он вымышляет лица,
дает им действие, сам действующий или страждущий, разговаривает
с ними о мыслях, производит суд, торжествует и терпит, выигрывает
и проигрывает, благотворит и терзает, царствует и рабствует: одним
словом, он сочиняет роман!..
Там же, стр. 79—80.
К. Н. БАТЮШКОВ
1787-1855
Выдающийся русский поэт, ближайший предшественник Пушкина Константин
Николаевич Батюшков, имя которого, по словам В. Г. Белинского, должно
произноситься «с любовию и уважением» *, входил в литературную партию карамзинистов
(к ней принадлежали многие лучшие молодые писатели начала XIX века —
В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, юный лицеист А. С. Пушкин и другие). Эта
партия, развивавшая идеи H. М. Карамзина, отстаивала новые жанры и новый
литературный язык, близкий к разговорной речи образованного дворянского общества,
и ожесточенно боролась с шишковистами, которые во главе с реакционным
государственным деятелем и писателем А. С. Шишковым защищали худшие,
отжившие традиции классицизма и вводили в свои произведения огромное количество
устаревших славянских слов. Еще в 1809 году Батюшков направил против шишко-
вистов литературно-полемическую сатиру «Видение на берегах Леты», где говорил
о мистических идеях и архаическом стиле своих противников:
Их мысль на небеса вперенна,
Слова ж из Библии берут...
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, М., 1955, стр. 228.
54
А в другой литературно-полемической сатире — «Певец в Беседе любителей
русского слова», написанной в 1813 году, через два года после образования пшшко-
вистами общества, называвшегося «Беседой любителей русского слова», Батюшков
«загримировал» членов этого общества под героев знаменитого патриотического
стихотворения Жуковского «Певец во стане русских воинов» и тем сделал их
особенно смешными.
Батюшков унаследовал от классицизма любовь к античности, мифологии и
идеальной четкости художественных форм. Однако в основном поэт, как и
многие другие карамзинисты, был предшественником романтиков. Поэтому он больше
всего настаивал на законности и необходимости изображения внутреннего,
интимно-психологического мира человека. Не отрицая права на существование высоких
жанров классицизма (эпопеи, трагедии и др.), он выдвигал на виднейшее место
в литературе так называмую «легкую поэзию», противоположную этим жанрам
и посвященную главным образом лирическим темам любви и дружбы. Считавший
самыми важными достоинствами «стихотворного слога» «движение, силу, ясность» *5
Батюшков убедительно показал, что «легкая поэзия» способствует выработке этих
ценных художественных качеств и созданию чистого и красивого литературного
языка.
Предвосхищая эстетические теории романтиков, Батюшков находил, что
источником творчества служит «сердце», а не разум, утверждал культ мечты,
отказывался от строгого соблюдения системы художественных «правил», по существу,
заменяя их понятием «вкуса», не подчиняющегося этим «правилам». Так же как
романтики, Батюшков остро ощущал национальное своеобразие искусства разных
народов и доказывал, что климат и природа той страны, где родился поэт, и
обстоятельства его жизни, в особенности детства и юности, сильно влияют на его
творчество. Об этом Батюшков писал в «Послании И. М. Муравьеву-Апостолу»:
От первых впечатлений,
От первых, свежих чувств заемлет силу гений
И им в теченье дней своих не изменит!
Батюшкова волновала проблема положения поэта в обществе. В условиях
самодержавно-крепостнической России оно было весьма тяжелым. Батюшков не только
призывал поэта целиком отдаться своей творческой работе, но и подчеркивал, как
это обычно делали писатели-романтики, что талантливый художник наталкивается
на стену непонимания и терпит постоянные гонения. Ярчайшим примером
затравленного гения являлся для Батюшкова великий итальянский поэт Торквато Тассо.
В послании «К Тассу» Батюшков с негодованием обращался к его гонителям:
О вы, которых яд
Торквату дал вкусить мучений лютых яд,
Придите зрелищем достойным веселиться
И гибелью его таланта насладиться!
1 К. Н. Б а τ ю ш к о в, Сочинения, т. II, Спб., 1885, стр. 240.
δα
Вместе с тем, по мнению Батюшкова, сильный духом талант или гений может
преодолеть все препятствия. Развивая эту мысль, Батюшков с восхищением
говорил о славной судьбе М. В. Ломоносова, с необычайным упорством пробивавшегося
в юности к вершинам искусства и науки.
Батюшков любил и ценил своеобразие и силу русского языка, русские
народные песни, эстетическую чуткость простых русских людей. В усовершенствования
русского литературного языка он видел высокую национальную задачу
отечественных писателей. В связи с этим он считал необходимым, чтобы поэт как можно
более сознательно относился к творческому процессу, упорно работал над стихами,
тщательно их «поправлял» и облекал свои чувства и мысли в кристаллически
ясные художественные формы. Именно так писал сам Батюшков — взыскательный
мастер, думавший над каждым словом и предававший собственные неудачные
произведения «огню-истребителю». Это позволило ему практически создать
музыкальный и ясный стихотворный язык, который широко использовал Пушкин
(великий русский поэт говорил о «гармонической точвости», достигнутой Батюшковым
и Жуковским *).
Батюшков был не только поэтом, но и прозаиком (проза занимала весь
первый том его единственной прижизненной книги «Опыты в стихах и прозе»).
Батюшков настаивал на том, что язык прозы должен быть простым, ясным и точным,
и в этом отношении предвосхитил высказывания о прозе Пушкина, считавшего
«точность и краткость» «первыми достоинствами прозы» 2.
Наконец, Батюшков — выдающийся художественный критик. Его очерк
«Прогулка в Академию художеств» был первым образцом глубокой и содержательной
художественной критики в России. В нем даны тонкие и интересные оценки
произведений русского, западноевропейского и античного изобразительного искусства.
Батюшков отвергал сухой академический классицизм и восхищался портретами
О. А. Кипренского, вносившего в свое творчество романтические мотивы. Мысли
Батюшкова об изобразительном искусстве значительно продвинули вперед русскую
художественную критику.
Проверенные на собственном творческом опыте поэта эстетические
высказывания Батюшкова привлекают нас сейчас своей глубиной и ясной, отточенной,
подчас афористичной формой, придающей им живость и выразительность.
РЕЧЬ О ВЛИЯНИИ ЛЕГКОЙ ПОЭЗИИ НА ЯЗЫК (1816)
[...] Счастливые произведения творческого ума не принадлежат одному
народу исключительно, но делаются достоянием всего человечества.
[...] Язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной,
с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностию
и людкостию. [...] Язык просвещенного народа должен удовлетворять всем
его требованиям и состоять не из одних высокопарных слов и выражений.
1 А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 11, М., Изд-во Академии
наук СССР, 1949, стр. 110.
2 Τ а м же, стр. 19.
56
[...] У всех народов, и древних и новейших, легкая поэзия, которую
можно назвать прелестною роскошью словесности, имела отличное место
на Парнасе и давала новую пищу языку стихотворному. [...] В легком роде
доэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения,
стройности в слоге, гибкости и плавности; он требует истины в чувствах
и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях; он тотчас
делается строгим судьею, ибо внимание его ничем сильно не развлекается;
красивость в слоге здесь нужна необходимо и ничем замениться не может.
Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному
напряжению внимания к одному предмету, ибо поэзия и в малых родах
есть искусство трудное, требующее всей жизни и всех усилий душевных;
надобно родиться для поэзии; этого мало: родясь, надобно сделаться
поэтом в каком бы то ни было роде.
f...] Все роды хороши, кроме скучного. В словесности все роды
приносят пользу языку и образованности. [...]
Несите, несите свои сокровища в обитель муз *, отверзтую каждому
таланту, каждому успеху; совершите прекрасное, великое святое дело,
обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти
половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи ума
с успехами оружия! [...]
Общество примет живейшее участие в успехах ума, и тогда имя
писателя, ученого и отличного стихотворца не будет дико для слуха; оно будет
возбуждать в умах все понятия о славе отечества, о достоинстве полезного
гражданина. [...]
К. Н. Батюшков, Сочинения, т. II, Спб., 1885,
стр. 238, 239, 240, 241, 243, 244, 247.
НЕЧТО О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ (1815)
Поэзия, сей пламень небесный, который менее или более входит в
состав души человеческой, сие сочетание воображения, чувствительности,
мечтательности, поэзия нередко составляет и муку и услаждение людей,
единственно для нее созданных. [...]
Есть минуты деятельной чувствительности; их испытали люди с
истинным дарованием; их-то и должно ловить на лету живописцу, музыканту
и более всех поэту, ибо они редки, преходящи и зависят часто от здоровья,
от времени, от влияния внешних предметов, которыми по произволу мы
управлять не в силах. [...]
[...] Мы прибегаем к искусству выражать мысли свои — в сладостной
надежде, что есть на земле сердца добрые, умы образованные, для которых
сильное и благородное чувство, счастливое выражение, прекрасный стих
и страница живой, красноречивой прозы суть сокровища истинные. [...]
1 Батюшков обращается к русским писателям. (Прим. coctJ
07
Некто сравнивал душу поэта в минуту вдохновения с растопленным
в горниле металлом: в сильном и постоянном пламени он долго остается
в первобытном положении, долго недвижим; но раскаленный рдеется,
закипает и клокочет, снятый с огня — в одну минуту успокаивается и
упадает. Вот изображение поэта, которого вся жизнь должна приготовлять
несколько плодотворных минут; все предметы, все чувства, все зримое
и незримое должно распалять его душу и медленно приближать сии ясные
минуты его деятельности, в которые столь легко изображать всю историю
наших впечатлений, чувств и страстей.
[...] Дар выражаться, прелестный дар, лучшее достояние человека, ибо
посредством его он оставляет вернейшие следы в обществе и имеет на
него сильное влияние. [...] Сей дар выражать и чувства и мысли свои
подчинен строгой науке. Он подлежит постоянным правилам, проистекшим
от опытности и наблюдений. Но самое изучение правил, беспрестанное
н упорное наблюдение изящных образцов недостаточны. Надобно, чтобы
вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному
предмету, и сей предмет должен быть искусство: поэзия — осмелюсь
сказать — требует всего человека. [...]
Живи как пишешь, и пиши как живешь. [...] Иначе все отголоски лиры
твоей будут фальшивы. [...]
Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том.нет
сомнения. [...] Если образ жизни имеет столь сильное влияние на
произведения поэта, то воспитание действует на него еще сильнее. Ничто не может
изгладить из памяти сердца нашего первых, сладостных впечатлений
юности. [...] Если бы мы знали подробно обстоятельства жизни великих
писателей, то без сомнения могли бы найти в их творениях следы первых,
всегда сильных ощущений. [...]
Климат, вид неба, воды и земли, все действует на душу поэта, отверз-
тую для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и эрских
бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное,
напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную
дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы
видим неизгладимый отпечаток климата в стихотворцах полуденных —
некоторую негу, роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей,
напоминающие и небо, и всю благотворную природу стран южных, где
человек наслаждается двойною жизнию в сравнении с нами, где все
питает и нежит его чувства, где все говорит его воображению. [...]
Там же, стр. 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125.
[ОТРЫВКИ ИЗ СТАТЕЙ]
Что ни говорите, сердце есть источник дарования; по крайней мере оно
дает сию прелесть уму и воображению, которая нам всего более нравится
в произведениях искусства.
58
Язык у стихотворца то же, что крылья у птицы, что материал у
ваятеля, что краски у живописца.
[...] Слепки с неподражаемых произведений резца у греков и римлян:
прекрасное наследие древности, драгоценные остатки, которые яснее всех
историков свидетельствуют о просвещении древних; в них-то искусство
есть, так сказать, отголосок глубоких познаний природы, страстей и
человеческого сердца. Какое истинное богатство, какое разнообразие!
[...] Я не одних побежденных трудностей ищу в картине. Я ищу в ней
более: я ищу в ней пищу для ума, для сердца; желаю, чтоб она оставила
в сердце моем продолжительное воспоминание, подобно прекрасному
драматическому представлению, если изображает предмет важный,
трогательный.
[...] Знаете ли, что убивает дарование, особливо если оно досталось
в удел человеку без твердого характера? Хладнокровие общества: оно
ужаснее всего! Какие сокровища могут заменить лестное одобрение
людей, чувствительных к прелестям искусств! [...]
Только в тех землях, где умеют [...] уважать отличные дарования,
родятся великие авторы.
Есть люди, которые завидуют дарованию! Великое дарование и великое
страдание — почти одно и то же.
Там же, стр. 196, 151, 103, 107, 116, 160, 165.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА «РАЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ»
(1810-1811)
Писать и поправлять, одно другого труднее. Гораций говорит, чтоб
стихотворец хранил девять лет свои сочинения. Но я думаю, что девять
лет поправлять невозможно. Минута, в которую мы писали, так будет
далека от нас!., а эта минута есть творческая. В эту минуту мы гораздо
умнее, дальновиднее, проницательнее, нея^ели после. Поправим
выражение, слово, безделку, а испортим мысль, перервем связь, нарушим целое,
ослабим краски. Вдали предметы слишком тусклы, вблизи ослепляют нас.
Итак, должно поправлять через неделю или две, когда еще мы можем
отдавать себе отчет в наших чувствованиях, мыслях, соображении при
сочинении стихов или прозы. Как бы кто ни писал, как бы ни грешил
против правил языка, но дарование, если он его имеет, будет все же видно
всегда. Но дарования одного, без искусства, мало.
Я заметил, что тот, кто пишет хорошо, рассуждает всегда
справедливо о своем искусстве. Если вы хотите научиться, то говорите с
часовым мастером о часах, с офицером о солдатах, с крестьянином о
землепашестве. Если хотите научиться писать, то читайте правила тех,
которые подали примеры в их искусстве.
59
Кто пишет стихи, тому не советую читать без разбору все, что ни
попадется под руку К
Горе тому, кто пишет от скуки! Счастлив тот, кто пишет потому, что
чувствует.
Чувство умнее ума. Первое понимает вдруг то, до чего последний
добирается медленно. Чувствительность можно сравнить с человеком, имеющим
зоркие глаза, он видит издали очень ясно...1.
Вкус можно назвать самым тонким рассудком 1.
Вкус не есть закон, ибо он не имеет никакого основания, ибо основан
на чувстве изящного, на сердце, уме, познаниях, опытности и пр.!.
К. Н. Батюшков, Сочинения, Мм 1955, стр. 391, 393,
Рукописный отдел Института русской литературы
(Пушкинского дома) АН СССР (фонд Батюшкова).
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА «ЧУЖОЕ - МОЕ СОКРОВИЩЕ»
(1817)
Каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию, и странно
было бы русскому, или италиянцу, или англичанину писать для
французского уха, и наоборот.
Есть писатели, у которых слог темен; у иных мутен: мутен, когда слова
не на места; темен, когда слова не выражают мысли, или мысли не ясны
от недостаточности натуральной логики. Можно быть глубокомысленным
и не темным, и должно быть ясным, всегда ясным для людей
образованных и для великих душ.
Для того чтобы писать хорошо в стихах — в каком бы то ни было роде,
писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями
незаемными, с чувствами, надобно много писать прозою, но не для публики, а
записывать просто для себя. Я часто испытал на себе, что этот способ мне
удавался; рано или поздно писанное в прозе пригодится. «Она питатель-
ница стиха», сказал Альфьери — если память мне не изменила.
Горе тому, кто раскрывает книгу с тем, чтобы хватать погрешности,
прятать их и при случае закричать: «Поймал! Смотрите! Какова
глупость!» Простодушие и снисхождение есть признак головы, образованной
для искусств.
К. Н. Батюшков, Сочинения, т. II, Спб., 1885,
стр. 331, 332, 340, 361.
1 Публикуется впервые.
60
ИЗ ПИСЬМА Д. В. ДАШКОВУ
от 25 апреля 1814 года
Теперь вы спросите у меня, что мне больше всего понравилось в
Париже? [...] Начну с Аполлона Бельведерского. Он выше описания Винкель-
манова2: это не мрамор, бог3: Все копии этой бесценной статуи слабы,
и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия.
Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах:
надобно чувствовать. Странное дело! Я видел простых солдат, которые
с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения!
К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, Спб., 1886»
стр. 262.
ИЗ ПИСЬМА В. А. ЖУКОВСКОМУ
(середина декабря 1815 года)
Во всем согласен с тобою насчет поэзии. Мы смотрим на нее с
надлежащей точки, о которой толпа и понятия не имеет. Большая часть
людей принимают за поэзию рифмы, а не чувство, слова, а не образы.
Там же, стр. 356.
[МЫСЛИ ОБ ИСКУССТВЕ ИЗ ПИСЕМ]
Орудие к славе — язык, а не сухая ученость, часто бесплодная.
Я [...] более верю слогу, нежели словам.
Все писатели [...] беспрестанно твердили: наблюдайте точность в
словах, точность, точность, точность!
Слог быстрый, сильный, простой; простой — это всего милее!
Там же, стр. 143, 162, 411, 467.
В. А. ЖУКОВСКИЙ
1783-1852
В. А. Жуковский — выдающийся русский поэт, зачинатель романтического
направления в России — оказал влияние не только на развитие романтической поэзии,
1 Это письмо было послано Батюшковым во время заграничного похода
русской армии, из Парижа, где поэт видел статую Аполлона Бельведерского,
вывезенную Наполеоном из Италии. (Прим. сост.)
2 Имеется з виду знаменитый труд И. И. Винкельмана «История искусства
древности» (1764). (Прим. сост.)
3 Этим определением навеяны слова о той же статуе в стихотворении Пушкина
«Чернь» (1828) : «Но мрамор сей ведь бог...» (Прим. сост.)
61
но в известной степени и на развитие русской эстетической мысли начала XIX века.
Его перу принадлежит ряд теоретических и критических работ, статей и
высказываний, связанных с эстетическими проблемами. Обращение к эстетике было у
Жуковского не только попыткой сформулировать свое идейно-эстетическое кредо, оно
было продиктовано стремлением наметить пути для обоснования того направления
в русском романтизме, которое Белинский называл «средневековым», а Горький
пассивно созерцательным, обращенным в прошлое.
В ряде случаев поэзия Жуковского принимала на себя решение тех или иных
эстетических проблем. Таковы прежде всего философско-эстетические декларации
Жуковского 1810—1820-х годов, посвященные темам поэта и поэзии («Цвет
завета», «Невыразимое», «Лалла Рук», «Я Музу юную, бывало...» и т. д.). Они оказали,
пожалуй, большее влияние на формирование идеалистической эстетики в России,
чем теоретические и критические выступления Жуковского. Характерно, что
многие из них поэт любил иллюстрировать строками из собственных стихов.
Интерес к проблемам эстетики сопутствует поэту на всем протяжении его
творческого пути. Эстетические взгляды молодого Жуковского складывались под
воздействием того направления в эстетической мысли, для которого было характерно
известное смешение рационалистических и метафизических представлений
эстетики XVI11 века с новыми тенденциями, идущими навстречу тому перевороту
в эстетическом сознании общества, которое принес зарождающийся романтизм.
Жуковский обнаруживает знакомство с крупнейшими работами в этой области:
французских теоретиков и эстетиков — Лагарпа, Баттё, немецких ученых —
последователей и учеников Баумгартена — И. Г. Зульцера, Эшенбурга, Энгеля и др. Оп
знает работы Хома, Лессинга, Гердера. Значительное влияние оказывают на него
эстетические теории русского классицизма и сентиментализма (в особенности
M. Н. Муравьева и H. М. Карамзина). Позднее Жуковский испытывает сильное
влияние эстетических идей Канта, воспринятых им через посредство Шиллера (так,
статья Жуковского «О поэзии древних и новых» 1811 года отражает влияние
статьи Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии») и Бутервека, труды
которого Жуковский изучал специально.
Началом выработки самостоятельной эстетической платформы следует считать
годы, когда Жуковский редактировал журнал «Вестник Европы» (1808—1810). В эта
время Жуковский выступает с важнейшими, носящими программный характер
статьями, в которых пытается с самых различных сторон осветить вопрос об
искусстве (в первую очередь — о литературе), о его природе, роли, о его нравственно-
этической стороне, о соотношении субъективного и объективного в искусстве, о роли
теории и критики в развитии искусства, о категории вкуса, о сущности
прекрасного и т. д. Вслед за западноевропейскими эстетиками и Карамзиным Жуковский
пишет об особом характере эстетического чувства, эстетического воздействия. В этот
период Жуковский еще разделяет точку зрения своих предшественников,
ограничивающих область искусства изящным и видящих его функцию в создании более
или менее правдоподобной «иллюзии» («О нравственной пользе поэзии», «О басне
и баснях Крылова», 1809, и др.). Но ориентация Жуковского на чувство, на роль
воображения, фантазии в процессе создания произведения искусства приводила
к тому, что рационалистические и нормативные теории все больше и оольше усту-
62
пали представлениям, характерным для складывающейся романтической эстетики
(«О поэзии древних и новых», 1811).
Встречающееся в статьях Жуковского («О критике», «Московские записки»
и др.) указание на природу (окружающее) как единственный и непосредственный
источник для искусства, разумеется, вовсе не означало у Жуковского утверждения
близких реализму принципов, так как и сама природа и процесс ее отражения
искусством истолковывались им идеалистически, а мистические тенденции в его
мировоззрении все более укреплялись. Это становится особенно очевидным при
рассмотрении взглядов Жуковского на сущность прекрасного, которое поэт не
считал принадлежащим миру реальной действительности и которое он рассматривал
как символ иного, идеального по своему характеру мира, как проявление некоей
божественной сущности, определяющей и развитие жизни и судьбы
искусства. Идеалистическое понимание прекрасного приводило Жуковского к
переосмыслению роли искусства и назначения художника. Бели в самом начале 1810^х
годов его глубоко интересовала проблема общественной роли искусства (которую,
правда, он значительно сужал, сводя ее к задаче нравственного и эстетического
воспитания личности), то уже к началу Î820-х годов поэт рассматривает искусство
как откровение, постижение сверхчувственным путем божественной истины
(письмо из Дрездена о «Рафаэлевой мадонне», 1821). Глубоко религиозны идеи, которые
стали определяющими в творчестве позднего Жуковского (конец 30-х — 40-е годы),
когда и его общественная позиция становилась постепенно все более и более
консервативно-монархической. Однако в 1810—1820-е годы ни сами эстетические
взгляды поэта, ни его поэтическое творчество, хотя и* вызывали критику со стороны
декабристского лагеря, не носили столь реакционного характера, создавая
возможность усвоения лучших сторон его творчества современниками и литераторами
последующих поколений.
ПИСЬМО А. И. ТУРГЕНЕВУ
от 7(19) февраля 1821 года
[...] Руссо говорит, il n'y a de beau que ce qui n'est pas l; это не значит
только то, что не существует, прекрасное существует, но его нет, ибо оно,
так сказать, является нам единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы
нам сказаться, оживить и обновить душу,— но его ни удержать, ни
разглядеть, ни постигнуть мы не можем... оно посещает нас в лучшие минуты
жизни — величественное зрелище природы, еще более величественное
зрелище души человеческой — поэзия, счастие, но еще более несчастия
дают нам сии высокие ощущения прекрасного; и весьма понятно, почему
почти всегда соединяется с ними грусть — но грусть, не приводящая
в уныние, а животворная, сладкая, какое-то смутное стремление. Это
происходит от его скоротечности, от его невыразимости, от его необъятности.
Прекрасно только то, чего нет... Эта грусть убедительно говорит нам, что
1 Прекрасно только то, чего нет (франц.).
63
прекрасное здесь не дома, что оно только мимо пролетающий благовести-
тель лучшего, оно есть восхитительная тоска по отчизне! Оно действует
на душу не настоящим, а темным, в одно мгновение соединенным
воспоминанием всего прекрасного в прошедшем и тайным ожиданием чего-то
в будущем:
А когда нас покидает,
В дар любви, у нас в виду,
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.
Это верное сравнение! Эта прощальная и навсегда остающаяся звезда
в нашем небе есть знак того, что прекрасное было в нашей жизни, и
вместе того, что оно не к нашей жизни принадлежит! Звезда на темном небе —
она не сойдет на землю, но утешительно сияет нам издали; и некоторым
образом сближает нас с тем небом, с которого неподвижно нам светит!
Жизнь наша есть ночь под звездным небом — наша душа в минуты
вдохновения открывает новые звезды; эти звезды не дают и не должны давать
нам полного света, но, украшая наше небо, знакомя с ним, служат в то же
время и путеводителями по земле.
В. А. Жуковский, Стихотворения, т. 1, JL,
«Советский писатель», 1939, стр. 383—384.
РАФАЭЛЕВА МАДОННА
[Из письма о Дрезденской галерее, 1821]
Час, который провел я перед этою Мадонною, принадлежит к
счастливым часам жизни, если счастием должно почитать наслаждение самим
собою. Я был один; вокруг меня все было тихо; сперва с некоторым
усилием вошел в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа
распространялась; какое-то трогательное чувство величия в нее входило;
неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только
в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею:
Он лишь в чистые мгновенья
Бытия слетает к нам,
И приносит откровенья,
Благодатные сердцам.
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой;
А когда нас покидает,
ß дар любви, у нас в виду,
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.
Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести
необъятное; перед глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и все стес-
64
нено в малом пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, все
неограниченно! И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту
чуда: занавес раздернулся, и тайна небес открылась глазам человека.
В. А. Жуковский, Полное собрание сочинений
в 12-ти томах, т. XII, стр. 10—11. Впервые «Полярная
звезда», Карманная книжка на 1824-й год, стр. 244—245.
ПИСЬМО Г. РЕЙТЕРНУ
(1830)
Желание украсить природу и сделать ее пригожею — святотатство.
Я полагаю, худо поняли древних. Они были правдивы, но они ничего не
украсили, они имели перед собою прекрасную природу. Мы явились после
их и вообразили, что нет другой природы, как та, которая вдохновляла
древних, мы захотели силою втиснуть нашу природу в формы древних, и мы
ее обезобразили (исказили) подобно Прокрусту, который удлинял или
укорачивал члены путешественников по своему ложу. [...] Не надо подражать
ни Рафаэлю, ни Ван-Ейку, ни Мурильо; надо изучать природу и с
покорностью принимать то, что она даст, и будешь богат. Природа не скупа,
она дает щедрою рукою. [...] Правда, личность (индивидуальность)
художника выражается всегда в его произведениях, потому что он видит
природу собственными глазами, схватывает собственною своею мыслью и
прибавляет к тому, что она даст, кроющееся в его душе. Но эта личность будет
не что иное, как душа человеческая в душе природы; она является для
нас голосом в пустыне, который украшает и оживляет ее.
«Русский вестник», т. 234, 1894, сентябрь, стр. 232—
233 (подлинник на французском языке).
О ПОЭЗИИ ДРЕВНИХ И новых
(1811)
Натура владычествует греческим стихотворством, и верное подражание
существенному есть для него совершенство поэзии. В картинах своих грек
изображает не себя, не то, что сам он при рассматривании предмета
чувствовал, заметил, мыслил; но вся его цель: заимствованное им из природы
передать читателю своему или слушателю просто, непринужденно, и точно
таким, каково оно было заимствовано — а сия свобода, живость и сила
в изображении и самое изображаемое делают привлекательнейшим. [...]
Напротив, воспитанник новых времен, для которого поэзия есть
возвышение существенного к идеальному, или простое изображение идеального,
потому уже заметно отдаляется от своих предшественников, что он
занимает меня более собою, нежели своим предметом. Стихотворец новейший
всегда изображает предметы в отношении к самому себе: он не наполнен
им, не предает себя ему совершенно; он пользуется им, дабы изобразить
3 «История эстетики»» т. 4 (1 полутом) 65
в нем себя, дабы читателю посредством предмета своего предложить
собственные наблюдения, мысли и чувства. [...]
Рассматривание внешней природы, живое изображение чувственного,
всегдашнее устремление внимания на предмет изображаемый — таковы
главные черты, составляющие характер древних: глубокое проницание во
внутреннего человека, изображение мысленного, соединение
обстоятельств посторонних с предметом изображаемым — таков отличительный
характер поэтов новых. [...]
Когда науки и знания уже распространились, когда внимание от
внешнего обратилось на внутреннее, когда увеличилась сумма наблюдений
и опытов умственных и когда, наконец, все предметы, поражающие одни
только чувства, исчерпаны уже стихотворцами — в сем периоде поэзия
питается мыслями, которым дает и цвет и образ. Она заимствует из мира
духовного те предметы, которые для человека необразованного или совсем
не привлекательны, или кажутся просто вещественными, а для
образованного, напротив, имеют особенную прелесть; она устремляет взор свой на
высшее определение человека, которому подчиняет низшее, земное;
увеселяя воображение картинами, она занимает в особенности рассудок и
сердце, а чрез то и самые картины ее делаются прелестнее; представляя
в изображаемых ею страстях причины действий, она в то же время
раздробляет и самые страсти, а проникая во глубину души,
обнаруживает все ее тайны; наконец, изображая предметы чувственные, она не
довольствуется тем, что с первого взгляда на их поверхности
представляется; она замечает и самые легкие черты и самые нежные их оттенки.
Соединим в немногих словах все сказанное выше: в поэзии древних
предмет владычествует стихотворцем; в поэзии новых место предмета
по большей части заступает сам стихотворец. Первая занимается более
природою вещественною, последняя более духовною; первая не ищет
в постороннем ничего такого, что бы могло предмет ее сделать
привлекательным, но все находит в самом предмете; последняя присоединяет
к нему и постороннее — чувство, идею; первая, наконец, представляет
нам предмет свой таким, каков он есть; а последняя представляет нам по
большей части одни размышления о предмете и действиях, им
производимых. [...]
Оригинальность гения стихотворного заключают в том, как смотрит
он на природу, как превращает в эстетическую идею получаемое им
впечатление, и наконец, какими способами впечатление сие сообщает — и
такое качество не может быть никогда заимствованным; оно зависит
некоторым образом от обстоятельств случайных, но никогда не бывает на них
основано. Быстрота, с какою расцвела поэзия греков, и их успехи во
многих родах стихотворства заставляют философа думать — и мнение его
подтверждает историк,— что обстоятельства необыкновенно счастливые
способствовали им коротко познакомиться с природою, и живо принимать ее
впечатления, и впечатления сии выражать с соответствующею им силою.
Но если сии обстоятельства помогли им овладеть бесчисленным множе-
66
ством стихотворных красот природы, то следует ли из сего, чтобы природа,
столь изобильная красотами, для нас истощилась? Ум человеческий создан
столь чудесно, что природа беспрестанно изображается в зеркале его
новою — заметим здесь также и то, что образы и явления природы не одни
и те же в различных климатах и что с изменением обстоятельств
общежития изменяются для поэта и самые предметы. [...]
Но мы спрашивали: можно ли из тех различий, которые заметны между
способами древних и новых поэтов, определить решительно, которым из
них принадлежит превосходство? Скажем в немногих словах: и те и другие
имеют недостатки и совершенства своего века. Древние стихотворцы
изображают сильно и резко, имеют привлекательную простоту и
представляют воображению формы определенные; но они холодны для чувства
и неудовлетворительны для рассудка. Новые свободнее в формах своих,
роскошнее в смеси красок и не с довольною определенностию изображают
предметы; зато они чувствуют глубже и заставляют более действовать
рассудок. Весьма было бы трудно в произведениях древности отделить
красоту стихотворную от той случайной прелести, которую они имеют для
нас как памятники веков минувших; и столь же было бы трудно в
произведениях нового времени отделить красоту, проистекающую из самого
предмета, от той посторонней прелести, которую стихотворец из самого
себя извлекает.
«Вестник Европы», 1811, № 3, стр. 197—202, 208, 211.
О БАСНЕ И БАСНЯХ КРЫЛОВА
(1809)
[...] Что называю дарованием поэта? Воображение, представляющее
предметы живо и с самой привлекательной стороны, способность
изображать сии предметы для других приличными им красками, и так, чтобы
они представлялись им с такою же ясностью, с какою и нам самим
представляются; способность (в особенности необходимая баснописцу)
рассказывать просто, приятно, без принуждения, но рассказывать языком
стихотворным, то есть украшая без всякой натяжки простой рассказ
выражениями высокими, поэтическими вымыслами, картинами и разнообразя
его смелыми оборотами. [...]
В. А. Жуковский, Полное собрание сочинений,
т. IX, стр. 72. Впервые: «Вестник Европы», 1809, № 9,
стр. 48.
ПИСЬМО н. в. гоголю
(1848)
[...] Третья способность души, творчество, потому должна быть
поставлена степенью выше ума и воли, что ее действия не следуют никакому
чуждому побуждению, а непосредственно из души истекают — в ней
3*
67
наиболее выражается божественность происхождения души человеческой,
которого признак есть сие стремление творить из себя, себя выражать
в своем создании, без всякого постороннего повода, по одному только
вдохновению, которое не есть ни ум, ни воля, но и то и другое, соединенное
с чем-то самобытным, так сказать, свыше, без ведома нашего, на нас
налетающим, другому, высшему порядку принадлежащим. [...]
Прекрасное, которого нет в окружающей нас природе, но которое в ней
находит душа наша, пробуждает ее творческую силу. Душа беседует с
созданием, и создание ей откликается. Но что же этот отзыв создания? Не
голос ли самого создателя? Все мелкие, разрозненные части видимого мира
сливаются в одно гармоническое целое, в один, сам по себе
несущественный, но ясно душою нашею видимый образ. Что же этот несущественный
образ? Красота. Что же красота? Ощущение и слышание душою бога в
создании. [...]
Красота художественного произведения состоит в истине выражения,
то есть в ясности идеи и в ее гармоническом согласии с материальным
художественным ее образом, который с своей стороны должен быть
согласен с образцом, заимствованным из создания внешнего. Художество в
тесном смысле довольствуется только этою относительною истиною; но
художество в обширном, высшем значении имеет предметом красоту
высшую. [...]
Поэзия, действуя на душу, не дает ей ничего определенного: это не
есть ни приобретение какой-нибудь новой, логически обработанной идеи,
ни возбуждение нравственного чувства, ни его утверждение
положительным правилом; нет, это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое действие
откровенной красоты, которая всю душу обхватывает и в ней оставляет
следы неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по
свойству художественного произведения, или, вернее, смотря по духу самого
художника. [...]
Поэт в выборе предмета не подвержен никакому обязующему
направлению. Поэзия живет свободою; утратив непринужденность (похожую
часто на причудливость и своевольство), она теряет прелесть; всякое
намерение произвести то или другое определенное, но стороннее действие,
нравственное, поучительное или (как нынче мода) политическое, дает
движениям фантазии какую-то неповоротливость и неловкость — тогда как
она должна легкокрылою ласточкою, с криками радости, летать между
небом и землею, все посещать климаты и уносить за собою нашу душу
в этот чистый эфир высоты, на освежительную, беззаботную прогулку по
всему Поднебесью. [...]
[...] Поэзия в наше время соответствует ли этому определению? Нет.
Поэзия нашего времени имеет и весь его характер — характер
вулканической разрушительности в корифеях и материальной плоскости в их
последователях. [...]
Но должно ли, смотря с унынием и тревогою на то, что кругом нас
происходит, терять веру в поэзию и в ее великое земное назначение? Нет!
68
и посреди судорог нашего времени, не заботясь о славе, ныне уже
нежеланной и даже невозможной (поелику она раздается всем и каждому, на
площади, подкупными судьями в отрепьях), не думая о корысти,
которая всех очумила, поэт, верный своему призванию, скрываясь от толпы,
исповедует своему гению:
Не счастья, не славы здесь
Ищу я,— быть хочу крылом могучим,
Подъемлющим родные мне сердца
На высоту,— зарей, победу дня
Предвозвещающей,— великих дум
Воспламенителем, глаголом правды,
Лекарством душ, безверием крушимых,
И сторожем нетленной той завесы,
Которою пред нами горний мир
Задернут, чтоб порой для смертных глаз
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ее красе небесной —
Вот долг поэта, вот мое призванье! [...]
«Москвитянин», 1848, № 4, стр. 13—16, 18, 20, 23—24, :;,.
ПИСЬМО ИЗ УЕЗДА К ИЗДАТЕЛЮ
(1808)
[...] Возможное, близкое благоденствие отечества моего меня трогает:
охота читать книги — очищенная, образованная — сделается общею;
просвещение исправит понятия о жизни, о счастии; лучшая, более
благородная деятельность оживит умы. Что есть просвещение? Искусство жить,
искусство действовать и совершенствоваться в том круге, в который
заключила нас рука промысла; в самом себе находить неотъемлемое счастие.
Вообразите ж такое просвещение общим — и назову ли его мечтою! рано
или поздно оно будет,— вообразите вокруг себя людей довольных,
благодаря убеждению просвещенного ума, тем участком благ, большим или
малым, который получили от провидения! С успехами образованности
состояния должны прийти в равновесие: земледелец, купец, помещик,
чиновник, каждый равно деятельный в своем особенном круге и в сей
деятельности заключивший свое счастие, равно уверенный в частных
преимуществах своего особенного звания, для которого он приготовлен;
взирающий независтливым оком на преимущества чуждого, которое для
него несвойственно, сравняются между собою в стремлении к одному
и тому же предмету, в стремлении образовать, украсить, приблизить
к творческой свою человеческую натуру. Одинакие понятия о
наслаждениях жизнию соединят чертоги и хижину!
[...] Любить истинное и прекрасное, наслаждаясь ими, уметь их
изображать, стремиться к ним самому и силою красноречия увлекать за собою
69
других — вот благородное назначение писателя! Счастлив, когда
провидение, наградивши его талантом, одарило и сердцем, способным любить
высокое, чуждым привязанностей унизительных. [...]
«Вестник Европы», 1808, № 1, стр. 14—15, 18.
О КРИТИКЕ
(1809)
[...] Что такое вкус? Чувство и знание красоты в произведениях
искусства, имеющего целию подражание природе нравственной и физической.
Научась живее чувствовать красоты подражания, мы необходимо
становимся чувствительнее и к красотам образца. Человек с образованным
вкусом (который всегда основывается на чувстве и только управляем бывает
рассудком), должен быть и в своей нравственности выше необразованного.
Критика, распространяя истинные понятия вкуса, образует в то же время
и самое моральное чувство; добро, красота моральная в самой натуре,
отвечает тому, что называется изящным в подражаниях искусства;
следовательно, с усовершенствованием одного соединяется и усовершенствование
другого. [...] Истинный критик, будучи одарен от природы глубоким и
тонким чувством изящного, имеет проницательный и верный ум, которым
руководствуется в своих суждениях; чувство показывает ему красоту там,
где она есть, во всех ее оттенках, и самых нежных и самых
нечувствительных; рассудок определяет истинную цену ее и не дает ему
ослепляться ложным блеском, иногда заменяющим прямо изящное. Он знает
все правила искусства, знаком с превосходнейшими образцами изящного;
но в суждениях своих не подчиняется рабски ни образцам, ни правилам;
в душе его существует собственный идеал совершенства, так сказать,
составленный из всех красот, замеченных им в произведениях изящного,
идеал, с которым он сравнивает всякое новое произведение художника,
идеал возможного, служащий ему верным указателем для определения
степеней превосходства. Этого не довольно: чтобы судить о произведениях
искусства, которые не иное что, как подражание природе, надлежит
хорошо быть знакомым и с самым предметом подражания — с природою. [...]
Истинный критик должен быть и моралист-философ и прямо
чувствителен к красотам природы. Скажу более: он должен быть и сам морально-
добрым или по крайней мере иметь в душе своей решительное
расположение к добру; ибо доброта моральная, как я уже сказал прежде, служит
основанием чувству изящного, и последнее, не будучи соединено с первым,
никогда не может иметь надлежащей верности.
В. А. Жуковский, Полное собрание сочинений,
т. IX, стр. 96—97. Впервые «Вестник Европы», 1809,
№ 21, стр. 39—42.
70
ПИСЬМО А. И. ТУРГЕНЕВУ
от 21 октября 1816 года
[...] Поэзия час от часу становится для меня чем-то возвышенным... Не
надобно думать, что она только забава воображения! [...] Но она должна
иметь влияние на душу всего народа, и она будет иметь это благотворное
влияние, если поэт обратит свой дар к этой цели. Поэзия принадлежит
к народному воспитанию. [...]
«Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу
Тургеневу», М., 1895, стр. 163.
НЕВЫРАЗИМОЕ
(Отрывок)
Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью...
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас.
Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья,
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена,—
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим названье дать —
И обессиленно безмолвствует искусство?
Что видимо очам — сей пламень облаков,
Ло небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката —
Сии столь яркие черты —
Легко их ловит мысль крылата,
И есть слова для их блестящей красоты.
Но то, что слито с сей блестящей красотою —
Сие столь смутное, волнующее нас,
71
Сей внемлемый одной душою
Обворажающего глас,
Сие к далекому стремленье,
Сей миновавшего привет
(Как прилетевшее незапно дуновенье
От луга родины, где был когда-то цвет,
Святая молодость, где жило упованье),
Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины,
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие создателя в созданье —
Какой для них язык?.. Горе душа летит,
Все необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит. [...]
В. А. Жуковский, Собрание сочинений в четырех
томах, т. I, М., «Художественная литература», 1959,
стр. 336—337.
А. С. ПУШКИН
1799-1837
Эстетические взгляды Пушкина формировались в тесной связи с его
творческой практикой под влиянием общественного подъема, вызванного Отечественной
войной 1812 года и освободительным движением декабристов.
Большое влияние на Пушкина оказали эстетические идеи французских
просветителей. Он высоко ценил выдающихся представителей немецкой эстетики
XVIII века, отмечая, что эстетика «со времен Канта и Лессинга развита с... яс-
ностию и обширностию» К
Просветительская вера в силу печатного слова, в то, что «никакое богатство не
может перекупить влияние обнародованной мысли», что «никакая власть, никакое
правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографского
снаряда», вдохновляла поэтическую деятельность Пушкина, определяла его
взгляды на роль искусства в жизни общества. Искусство — могучая и действенная сила
в борьбе за освобождение народа. Цель поэта «воспеть свободу миру, на тронах
поразить порок», его миссия — «глаголом жечь сердца людей».
В условиях жестокой николаевской реакции перед Пушкиным с особой
остротой встала проблема взаимоотношений художника и общества. Придворные круги
пытались подчинить его поэзию своим корыстным политическим целям. В цикле
програмных стихотворений («Поэт», «Поэту», «Поэт и толпа» и др.) Пушкин
решительно отвергает эти притязания. Заявляя, что поэты рождены «не для житей-
!А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, изд. 3, т. VII, М.,
Изд-во АН СССР, 1964, стр. 211.
72
ского волненья, не для корысти, не для битв», что назначение искусства не в том,
чтобы «исправлять нравы» светской черни, Пушкин не имел в виду отрицать
общественную роль искусства. В условиях николаевской России его слова были
направлены против реакционной тенденциозности, были выражением независимости его
творческой позиции. «Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-
независима»,— писал Пушкин П. А. Вяземскому в 1824 году К
Смысл и сила искусства не в подражании «изящной природе», а в правдивом
изображении жизни реальной во всей ее полноте и многообразии. Отвергнув
поэтику и эстетику классицизма, преодолев субъективистскую условность в
изображении действительности, свойственную романтизму, Пушкин один из первых в
мировой эстетике теоретически осознал и практически воплотил в своем творчестве
художественные принципы реализма. Пушкин не пользовался еще термином «реализм».
Он пишет об истинном романтизме, противопоставляя его произведениям,
«величаемым романтическими» и носящим «печать уныния и мечтательности», печать
«германского идеологизма», то есть немецкой идеалистической эстетики. По его мнению,
«истинно романтические» принципы драматургии предполагают «верное
изображение лиц, времени, развитие исторических характеров и событий»2. Признавая
условную природу драматического искусства, Пушкин считает бесплодным пытаться
маскировать ее внешним правдоподобием классических «трех единств», «строгим
соблюдением костюма, красок времени и места». «Истина страстей, правдоподобие
чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от
драматического писателя» 3.
С позиций реалистической эстетики Пушкин определяет принципы
изображения героя, решает проблему типизации в искусстве. Для него неприемлема
метафизическая односторонность в обрисовке человека, свойственная произведениям
классицизма, в которых герой выступал в роли персонифицированного носителя
той или иной добродетели, того или иного порока. «У Мольера скупой скуп — и
только» 4,— замечал Пушкин. Не удовлетворял его и романтический принцип
изображения героев, характерный для Байрона, который «постиг, создал и описал единый
характер (именно свой) »5. Пушкин призывает следовать примеру Шекспира, чьи
герои — «существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков;
обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние
характеры» 6. Он требует от исторического романиста «воскресить минувший век во всей
его истине», выступает против модернизации прошлого, когда «под беретом,
осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером» 7.
Важное место в эстетических взглядах Пушкина занимает проблема
народности искусства. «Низкие» темы народной жизни, исключавшиеся классицизмом
и реакционным романтизмом, выдвигаются Пушкиным в качестве полноправного
1 А. С. Π у ш к и н, Полное собрание сочинений, т. X, М., 1966, стр. 90.
2 См. ниже «Письмо к издателю «Московского вестника».
3 А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 213.
4 А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII, М., 1965, стр. 91.
5 А. С. Π у ш к и н, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 52.
6 А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 90—91.
7 А. С. Π у ш к и н, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 102.
73
объекта художественного изображения. Он высоко ценит Шекспира, Гёте,
Вальтера Скотта за то, что у них нет «холопского пристрастия к королям и героям» '.
«Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная»2 — вот подлинный
предмет искусства. Само понятие «народности» в сознании Пушкина неразрывно
связано с проблемой национальной специфики искусства. «Есть образ мыслей и
чувствований, есть тьма обычаев и поверий, привычек, принадлежащих исключительно
какому-нибудь народу» 3. Задача художника — запечатлеть национальное
своеобразие народной жизни, народного характера.
Эстетические взгляды Пушкина, развивавшиеся в тесной связи с историческими
условиями и идейно-художественной борьбой его времени, обращены в будущее,
предвосхищают и предопределяют основные черты русской эстетической мысли
последующих эпох.
ПРОРОК
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
1 А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 529.
2 Τ а м же, стр. 625.
8 Τ а м же, стр. 39—40.
74
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
(1826)
А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти
томах, изд. 3, т. II, М., Изд-во АН СССР, 1963,
стр. 338—339.
ПОЭТ
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
(1827)
А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. III,
М., 1963, стр. 22.
ПОЭТ И ТОЛПА
Procul este, profanil.
Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел — а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
Прочь, непосвященные (латин.).
75
И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»
Поэт
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский,
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!., так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.
Чернь
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.
Поэт
Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
76
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор,— полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
(1827)
Там же, стр. 87—89.
ПАМЯТНИК
Exegi monumentum !
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит.
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
(1836)
Там же, стр. 376.
1 Я воздвиг памятник (латин.).
77
ОТВЕТ АНОНИМУ
[...] Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой,—
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Постигнет ли певца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье,—
«Тем лучше,— говорят любители искусств,—
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастие поэта
Меж ими не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно...
(1830)
Там же, стр. 179.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА КРИТИКИ
(1830)
[...] Дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда
впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности.
Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено
выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности.
А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VII,
стр. 198.
ПИСЬМО H. Н. РАЕВСКОМУ-СЫНУ
(1825)
[...] Правдоподобие положений и правдивость диалога — вот истинное
правило трагедии. (Я не читал ни Кальдерона, ни Беги), но до чего
изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним
Байрон-трагик! Байрон, который создал всего-навсего один характер
(у женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости; вот почему
так легко изображать их), этот самый Байрон распределил между своими
героями отдельные черты собственного характера; одному он придал свою
гордость, другому — свою ненависть, третьему — свою тоску и т. д., и
таким путем из одного цельного характера мрачного и энергичного создал
несколько ничтожных — это вовсе не трагедия.
78
Существует еще такая замашка: когда писатель задумал характер
какого-нибудь лица, то что бы он ни заставлял его говорить, хотя бы самые
посторонние вещи, все носит отпечаток данного характера (таковы
педанты и моряки в старых романах Фильдинга). Заговорщик говорит: Дайте
мне пить, как заговорщик — это просто смешно. Вспомните Озлобленного
у Байрона (ha pagato!l) — это однообразие, этот подчеркнутый лаконизм,
эта непрерывная ярость, разве все это естественно? Отсюда эта
принужденность и робость диалога. Вспомните Шекспира. Читайте Шекспира, он
никогда не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его
говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо уверен, что в
надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдет для него
язык, соответствующий его характеру.
Вы спросите меня: а ваша трагедия — трагедия характеров или
нравов? Я избрал наиболее легкий род, но попытался соединить и то
и другое. [...]
А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. X,
М., 1966, стр. 782—783 (подлинник на французском
языке).
О ПОЭЗИИ КЛАССИЧЕСКОЙ И РОМАНТИЧЕСКОЙ
(1825)
Наши критики не согласились еще в ясном различии между родами
классическим и романтическим. Сбивчивым понятием о сем предмете
обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к
романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и
германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях
простонародных: определение самое неточное. Стихотворение может являть
все сии признаки, а между тем принадлежать к роду классическому.
Если вместо формы стихотворения будем брать за основание только
дух, в котором оно писано, то никогда не выпутаемся из определений.
Гимн Ж.-Б. Руссо духом своим, конечно, отличается от оды Пиндара,
сатира Ювенала от сатиры Горация, «Освобожденный Иерусалим» от
«Энеиды», однако ж все они принадлежат к роду классическому.
К сему роду должны отнестись те стихотворения, коих формы известны
были грекам и римлянам или коих образцы они нам оставили;
следственно, сюда принадлежат: эпопея, поэма дидактическая, трагедия,
комедия, ода, сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и баснь.
Какие же роды стихотворения должны отнестись к поэзии
романтической?
Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы
изменились или заменены другими. [...]
Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма
отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда
1 Он заплатил! (итал,).
79
столь мало значащее, имело важное влияние на словесность новейших
народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков; побежденная
трудность всегда приносит нам удовольствие — любить размеренность,
соответственность свойственно уму человеческому. Трубадуры играли
рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов,
придумывали самые затруднительные формы: явились virelai, баллада, рондо,
сонет и проч.
От сего произошла необходимая натяжка выражения, какое-то
жеманство, вовсе неизвестное древним; мелочное остроумие заменило чувство,
которое не может выражаться триолетами. Мы находим несчастные сии
следы в величайших гениях новейших времен.
Но ум не может довольствоваться одними игрушками гармонии,
воображение требует картин и рассказов. Трубадуры обратились к новым
источникам вдохновения, воспели любовь и войну, оживили народные
предания,— родился ле, романс и фаблио.
Темные понятия о древней трагедии и церковные празднества подали
повод к сочинению таинств (mystères). Они почти все писаны на один
образец и подходят под одно уложенье, но, к несчастию, в то время не было
Аристотеля для установления непреложных законов мистической
драматургии.
Два обстоятельства имели решительное действие на дух европейской
поэзии: нашествие мавров и крестовые походы.
Мавры внушили ей исступление и нежность любви, приверженность
к чудесному и роскошное красноречие Востока; рыцари сообщили свою
набожность и простодушие, свои понятия о геройстве и вольность нравов
походных станов Годфреда и Ричарда.
Таково было смиренное начало романтической поэзии. Если бы она
остановилась на сих опытах, то строгие приговоры французских критиков
были бы справедливы, но отрасли ее быстро и пышно процвели, и она
является нам соперницею древней музы.
Италия присвоила себе ее эпопею, полуафриканская Гишпания
завладела трагедией и романом, Англия противу имен Dante, Ариосто и Каль-
дерона с гордостию выставила имена Спенсера, Мильтона и Шекспира.
В Германии (что довольно странно) отличилась новая сатира, едкая,
шутливая, коей памятником остался Ренике Фукс.
Во Франции тогда поэзия все еще младенчествовала: лучший
стихотворец времени Франциска I
Rima des triolets, fit fleurir la ballade ].
Проза уже имела сильный перевес: Монтань, Рабле были
современниками Марота.
В Италии и в Гишпании народная поэзия уже существовала прежде
появления ее гениев. Они пошли по дороге уже проложенной: были поэмы
1 Слагал триолеты, содействовал расцвету баллады (франц.).
80
прежде Ариостова «Орландо», были трагедии прежде созданий de Vega l
и Кальдерона.
Во Франции просвещение застало поэзию в ребячестве, без всякого
направления, безо всякой силы. Образованные умы века Людовика XIV
справедливо презрели ее ничтожность и обратили ее к древним образцам.
Буало обнародовал свой Коран — и французская словесность ему
покорилась.
Сия лжеклассическая поэзия, образованная в передней и никогда не
доходившая далее гостиной, не могла отучиться от некоторых врожденных
привычек, и мы видим в ней все романтическое жеманство, облеченное
в строгие формы классические.
P. S. Не должно думать, однако ж, чтоб и во Франции не осталось
никаких памятников чистой романтической поэзии. Сказки Лафонтена
и Вольтера и «Дева» сего последнего носят на себе ее клеймо. Не говорю
о многочисленных подражаниях тем и той (подражаниях, по большей
части посредственных: легче превзойти гениев в забвенье всех приличий,
нежели в поэтическом достоинстве).
А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. Vil,
стр. 32—36.
ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, или РУССКИЕ В 1612 ГОДУ
Соч. M. Н. Загоскина (1830)
В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху,
развитую в вымышленном повествовании. Валтер Скотт увлек за собою целую
толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея!
подобно ученику Агриппы, они, вызвав демона старины, не умели им
управлять и сделались жертвами своей дерзости. В век, в который хотят
они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом
домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений. Под беретом,
осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим
парикмахером; сквозь кружевную фрезу à la Henri IV проглядывает
накрахмаленный галстух нынешнего dandy. [...]
Там же, стр. 102.
О ПРОЗЕ (1822)
Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу: «Не выхваляйте мне Бюфова.
Этот человек пишет: Благороднейшее изо всех приобретений человека
было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать
лошадь». Лагарп удивляется сухому рассуждению философа. Но д'Аламбер
очень умный человек — и, признаюсь, я почти согласен с его мнением.
1 То есть Лопе де Вега. (Прим. сост.)
81
Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфоне — великом живописце
природы, коего слог цветущий, полный всегда будет образцом описательной
прозы, некоторые картины отделаны кистию мастерской. Но что сказать
об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи
самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями
и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя:
сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы
сказать: рано поутру — а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца
озарили восточные края лазурного неба — ах, как это все ново и свежо,
разве оно лучше потому только, что длиннее.
Читаю отчет какого-нибудь любителя театра: Сия юная питомица
Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол... боже мой, да поставь: эта
молодая хорошая актриса — и продолжай — будь уверен, что никто не
заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет.
Презренный зоил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный
свой яд на лавры русского Парнаса, коего утомительная тупость может
только сравниться с неутомимой злостию... боже мой, зачем просто не
сказать лошадь; не короче ли — г-н издатель такого-то журнала.
Вольтер может почесться лучшим образцом благоразумного слога. Он
осмеял в своем «Микромегасе» изысканность тонких выражений Фонте-
неля, который никогда не мог ему того простить.
Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует
мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат,
Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь
сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится.
С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед
не подвинется).
Там же, стр. 14—16.
О НАРОДНОСТИ В ЛИТЕРАТУРЕ
(1820-е годы)
С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности,
требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в
произведениях литературы, но никто не думал определить, что разумеет он под
словом народность.
Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит
в выборе предметов из отечественной истории.
Но мудрено отъять у Шекспира в его «Отелло», «Гамлете», «Мера за
меру» и проч.— достоинства большой народности; Vega и Кальдерон
поминутно переносят во все части света, заемлют предметы своих
трагедий из итальянских новелл, из французских ле. Ариосто воспевает Карло-
мана, французских рыцарей и китайскую царевну. Трагедии Расина взяты
им из древней истории.
82
Мудрено, однако же, у всех сих писателей оспоривать достоинства
великой народности. Напротив того, что есть народного в Петриаде и Рос-
сиаде, кроме имен, как справедливо заметил кн. Вяземский. Что есть
народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти
родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?
Другие видят народность в словах, то есть радуются тем, что,
изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения.
Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть
оценено одними соотечественниками,— для других оно или не существует,
или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость
героев Расина, француз смеется, видя в Кальдероне Кориолана,
вызывающего на дуэль своего противника. Все это носит, однако ж, печать
народности.
Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную
физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ
мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек,
принадлежащих исключительно какому-нибудь народу.
Там же, стр. 38—40.
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»
(1827)
[...] Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют
преобразования, я расположил свою трагедию по системе Отца нашего
Шекспира и принес ему в жертву пред его алтарь два классические
единства, едва сохранив последнее. Кроме сей пресловутой тройственности
есть и единство, о котором французская критика и не упоминает
(вероятно, не предполагая, что можно оспоривать его необходимость), единство
слога — сего 4-го необходимого условия французской трагедии, от
которого избавлен театр испанский, английский и немецкий. Вы чувствуете,
что и я последовал столь соблазнительному примеру.
Что сказать еще? Почтенный александрийский стих переменил я на
пятистопный белый, в некоторых сценах унизился даже до презренной
прозы, не разделил своей трагедии на действия,— и думал уже, что публика
скажет мне большое спасибо.
Отказавшись добровольно от выгод, мне представляемых системою
искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою, я старался
заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц,
времени, развитием исторических характеров и событий,— словом, написал
трагедию истинно романтическую.
Между тем, внимательнее рассматривая критические статьи,
помещаемые в журналах, я начал подозревать, что я жестоко обманулся, думая,
что в нашей словесности обнаружилось стремление к романтическому
преобразованию. Я увидел, что под общим словом романтизма разумеют
произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности, что,
83
следуя сему своевольному определению, один из самых оригинальных
писателей нашего времени, не всегда правый, но всегда оправданный
удовольствием очарованных читателей, не усумнился включить Озерова
в число поэтов романтических, что, наконец, наши журнальные Аристархи
без церемонии ставят на одну доску Dante и Ламартина, самовластно
разделяют Европу литературную на классическую и романтическую,
уступая первой — языки латинского Юга и приписывая второй германские
племена Севера, так что Dante (il gran padre Alighieri) ], Ариосто, Ло-
пец де Vega, Кальдерон и Сервантес попались в классическую фалангу,
которой победа благодаря сей неожиданной помощи, доставленной
издателем «Московского телеграфа», кажется, будет несомненно принадлежать.
Все это сильно поколебало мою авторскую уверенность. Я начал
подозревать, что трагедия моя есть анахронизм.
Между тем, читая мелкие стихотворения, величаемые романтическими,
я в них не видел и следов искреннего и свободного хода романтической
поэзии, но жеманство лжеклассицизма французского. Скоро я в том
удостоверился.
Вы читали в первой книге «Московского вестника» отрывок из «Бориса
Годунова», сцену летописца. Характер Пимена не есть мое изобретение.
В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях:
простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое,
усердие, можно сказать набожное, к власти царя, данной им богом,
совершенное отсутствие суетности, пристрастия — дышат в сих драгоценных
памятниках времен давно минувших, между коими озлобленная летопись
князя Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь
Иоапнова изгнанника отличалась от смиренной жизни безмятежных
иноков.
Мне казалось, что сей характер все вместе нов и знаком для русского
сердца; что трогательное добродушие древних летописцев, столь живо
постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит
простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателя; что
же вышло? Люди умные обратили внимание на политические мнения
Пимена и нашли их запоздалыми; другие сомневались, могут ли стихи без
рифм называться стихами. Г-н 3. предложил променять сцену «Бориса
Годунова» на картинки «Дамского журнала». Тем и кончился строгий суд
почтеннейшей публики.
Что ж из этого следует? Что г-н 3. и публика правы, но что гг.
журналисты виноваты, ошибочными известиями введшие меня во искушение.
Воспитанные под влиянием французской литературы, русские привыкли
к правилам, утвержденным ее критикою, и неохотно смотрят на все, что
не подходит под сии законы. Нововведения опасны и, кажется, не
нужны. [...]
Там же, стр. 73—75.
1 Данте (великий отец Алигьери) (итал.).
84
О НАРОДНОЙ ДРАМЕ И ДРАМЕ «МАРФА ПОСАДНИЦА»
Планы статьи (1830)
[...] Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ.
Судьба человеческая, судьба народная. Вот почему Расин велик, несмотря
на узкую форму своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря
на неравенство, небрежность, уродливость отделки.
Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастие,
государственные мысли историка, догадливость, живость воображения,
никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода.
Там же, стр. 625.
О НАРОДНОЙ ДРАМЕ И ДРАМЕ «МАРФА ПОСАДНИЦА»
(1830)
Между тем как эсфетика со времен Канта и Лессинга развита с такой
ясностию и обширностию, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого
педанта Готшеда; мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание
изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза. Почему
же статуи раскрашенные нравятся нам менее чисто мраморных и
медных? Почему поэт предпочитает выражать мысли свои стихами? И какая
польза в Тициановой Венере и в Аполлоне Бельведерском?
Правдоподобие все еще полагается главным условием и основанием
драматического искусства. Что если докажут нам, что самая сущность
драматического искусства именно исключает правдоподобие? Читая поэму,
роман, мы часто можем забыться и полагать, что описываемое
происшествие не есть вымысел, но истина. В оде, в элегии можем думать, что поэт
изображал свои настоящие чувствования в настоящих обстоятельствах.
Но где правдоподобие в здании, разделенном на две части, из коих одна
наполнена зрителями, которые согласились etc.
Если мы будем полагать правдоподобие в строгом соблюдении костюма,
красок, времени и места, то и тут мы увидим, что величайшие
драматические писатели не повиновались сему правилу. У Шекспира римские
ликторы сохраняют обычаи лондонских алдерманов. У Кальдерона
храбрый Кориолан вызывает консула на дуэль и бросает ему перчатку. У
Расина полускиф Ипполит говорит языком молодого благовоспитанного
маркиза. Римляне Корнеля суть или испанские рыцари, или гасконские
бароны, а Корнелеву Клитемнестру сопровождает швейцарская гвардия.
Со всем тем Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте недосягаемой,
и их произведения составляют вечный предмет наших изучений и
восторгов...
Какого же правдоподобия требовать должны мы от драматического
писателя? Для разрешения сего вопроса рассмотрим сначала, что такое
драма и какая ее цель.
85
Драма родилась на площади и составляла увеселение народное. Народ,
как дети, требует занимательности, действия. Драма представляет ему
необыкновенное, странное происшествие. Народ требует сильных
ощущений, для него и казни — зрелище. Смех, жалость и ужас суть три струны
нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством. Но смех
скоро ослабевает, и на нем одном невозможно основать полного
драматического действия. Древние трагики пренебрегали сею пружиною. Народная
сатира овладела ею исключительно и приняла форму драматическую, более
как пародию. Таким образом родилась комедия, со временем столь
усовершенствованная. Заметим, что высокая комедия не основана единственно на
смехе, но на развитии характеров, и что нередко она близко подходит
к трагедии.
Трагедия преимущественно выводила тяжкие злодеяния, страдания
сверхъестественные, даже физические (напр. Филоктет, Эдип, Лир). Но
привычка притупляет ощущения — воображение привыкает к убийствам
и казням, смотрит на них уже равнодушно, изображение же страстей
и излияний души человеческой для него всегда ново, всегда занимательно,
велико и поучительно. Драма стала заведовать страстями и душою
человеческою.
Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых
обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя.
Драма оставила площадь и перенеслася в чертоги по требованию
образованного, избранного общества. Поэт переселился ко двору. Между тем
драма остается верною первоначальному своему назначению — действовать
на толпу, на множество, занимать его любопытство. Но тут драма
оставила язык общепонятный и приняла наречие модное, избранное,
утонченное.
Отселе важная разница между трагедией народной, Шекспировой
и драмой придворной, Расиновой. Творец трагедии народной был
образованнее своих зрителей, он это знал, давал им свои свободные произведения
с уверенностью своей возвышенности и признанием публики,
беспрекословно чувствуемым. При дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ннже
своей публики. Зрители были образованнее его, по крайней мере так
думали и он и они. Он не предавался вольно и смело своим вымыслам.
Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему
по состоянию. Он боялся унизить такое-то высокое звание, оскорбить
таких-то спесивых своих зрителей — отселе робкая чопорность, смешная
надутость, вошедшая в пословицу (un héros, un roi de comédie l), привычка
смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострастием и
придавать им странный, нечеловеческий образ изъяснения. У Расина
(например) Нерон не скажет просто: «Je serai caché dans ce cabinet» 2,— но:
1 Герой, король комедии (франц.). Из трагедии Ра.сина «Британии». (Прим.
ред.)
2 Я спрячусь в этой комнате (франц.).
86
«Caché près de ces lieux je vous verrai, Madame» \ Агамемнон будит своего
наперсника, говорит ему с напыщенностию:
Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille.
Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille2.
Мы к этому привыкли, нам кажется, что так и должно быть. Но надобно
признаться, что если герои выражаются в трагедиях Шекспира, как
конюхи, то нам это не странно, ибо мы чувствуем, что и знатные должны
выражать простые понятия, как простые люди.
Не имею целию и не смею определять выгоды и невыгоды той и другой
трагедии, развивать существенные разницы систем Расина и Шекспира,
Кальдерона и Гёте. Спешу обозреть историю драматического искусства
в России.
Драма никогда не была у нас потребностию народною. Мистерии
Ростовского, трагедии царевны Софьи Алексеевны были представлены при
царском дворе и в палатах ближних бояр и были необыкновенным
празднеством, а не постоянным увеселением. Первые труппы, появившиеся
в России, не привлекали народа, не понимающего драматического
искусства и не привыкшего к его условиям. Явился Сумароков, несчастнейший
из подражателей. Трагедии его, исполненные противусмыслия, писанные
варварским изнеженным языком, нравились двору Елисаветы как новость,
как подражание парижским увеселениям. Сии вялые, холодные
произведения не могли иметь никакого влияния на народное пристрастие. Озеров
это чувствовал. Он попытался дать нам трагедию народную и вообразил,
что для сего довольно будет, если выберет предмет из народной истории,
забыв, что поэт Франции брал все предметы для своих трагедий из
римской, греческой и еврейской истории и что самые народные трагедии
Шекспира заимствованы им из итальянских новелей.
После «Димитрия Донского», после «Пожарского», произведения
незрелого таланта, мы все не имели трагедии. «Андромаха» Катенина (может
быть, лучшее произведение нашей Мельпомены по силе истинных чувств,
по духу истинно трагическому) не разбудила, однако ж, ото сна сцену,
опустелую после Семеновой.
Идеализированный «Ермак», лирическое произведение пылкого
юношеского вдохновения, не есть произведение драматическое. В нем все
чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть
поэзии.
Комедия была счастливее. Мы имеем две драматические сатиры.
Отчего же нет у нас народной трагедии? Не худо было бы решить,
может ли она и быть. Мы видели, что народная трагедия родилась на пло-
1 Сокрытый близ сих мест, вас узрю, госпожа (франц.)*
2 Да, это Агамемнон, это твой царь тебя будит.
Приди, узнай голос, поражающий твой слух (франц.).
Из трагедии Расина «Ифигения в Авлиде».
87
щади, образовалась и потом уже была призвана в аристократическое
общество. У нас было бы напротив. Мы захотели бы придворную, сумароков-
скую трагедию низвести на площадь — но какие препятствия!
Трагедия наша, образованная по примеру трагедии Расиновой,
может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек? Как ей перейти
от своего разговора, размеренного, важного и благопристойного, к грубой
откровенности народных страстей, к вольности суждений площади? Как
ей вдруг отстать от подобострастия, как обойтись без правил, к которым
она привыкла, без насильственного приноровления всего русского ко всему
европейскому, где, у кого выучиться наречию, понятному народу? Какие
суть страсти сего народа, какие струны его сердца, где найдет она себе
созвучия,— словом, где зрители, где публика?
Вместо публики встретит она тот же малый, ограниченный круг и
оскорбит надменные его привычки (dédaigneux), вместо созвучия, отголоска
и рукоплесканий услышит она мелочную, привязчивую критику. Перед
нею восстанут непреодолимые преграды; для того чтоб она могла
расставить свои подмостки, надобно было бы переменить и ниспровергнуть
обычаи, нравы и понятия целых столетий...
Перед нами, однако ж, опыт народной трагедии... [...]
Автор «Марфы Посадницы» имел целию развитие важного
исторического происшествия: падения Новагорода, решившего вопрос о
единодержавии России. Два великих лица представлены ему были историею.
Первое — Иоанн, уже начертанный Карамзиным, во всем его грозном и
хладном величии, второе — Новгород, коего черты надлежало угадать.
Драматический поэт, беспристрастный, как судьба, должен был
изобразить столь же искренно, сколько глубокое, добросовестное исследование
истины и живость воображения юного, пламенного ему послужило, отпор
погибающей вольности, как глубоко обдуманный удар, утвердивший
Россию на ее огромном основании. Он не должен был хитрить и клониться
на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ
мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии,
но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело
оправдывать и обвинять, подсказывать речи. [...]
Там же, стр. 211—218.
ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ, МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ
[...] Один из наших поэтов говорил гордо: Пускай в стихах моих
найдется бессмыслица, зато уж прозы не найдется. Байрон не мог изъяснить
некоторые свои стихи. Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от
недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты
чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения. [...]
Там же, стр. 56.
88
TABLE-TALK l
(1830-е годы)
[...] Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то
страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих
страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их
разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера скупой скуп — и только;
у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен.
У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемеря;
принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды,
лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с
тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость
глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает
невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью
набожности и волокитства. Анжело лицемер — потому что его гласные
действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом
характере!
Но нигде, может быть, многосторонний гений Шекспира не отразился
с таким многообразием, как в Фальстафе, коего пороки, один с другим
связанные, составляют забавную, уродливую цепь, подобную древней
вакханалии. [...]
А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII,
стр. 516.
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
1792-1878
«Полемические статьи имеют сходство с любовными письмами, которые мы
писали в молодости; имеют они и ту же участь. И те и другие пишутся сгоряча,
под давлением необоримого чувства, точно вследствие роковой и неизбежной
необходимости. Когда позднее случится самому прочесть их, то иногда дивишься
увлечению своему или своей заносчивости; иногда смеешься над ними и, следовательно,
над собою; чаще всего, перечитывая их, испытываешь в себе чувство неловкости:
хотел бы иное исправить, другое выключить, но поздно: написанное написано, не
вырубишь его топором не только на бумаге, но также и из своей жизни, а впрочем,
и хорошо, что не вырубишь. Это дает силу и власть слову» 2.
Эти слова, сказанные Петром Андреевичем Вяземским по поводу издания
одного из старых писем в Полном собрании сочинений, могут быть отнесены ко мно-
1 Застольные разговоры (англ.) — записи Пушкина, относящиеся к 30-м
годам. (Прим. сост.)
2 Проект письма к министру народного просвещения графу Сергею Семеновичу
Уварову с заметками А. С. Пушкина, 1836 г. Полное собрание сочинений князя
П. А. Вяземского, т. II, Спб., 1879, стр. 213.
Я9
гим страницам его творчества. Странно сложилась судьба поэта: за восемьдесят
шесть лет жизни он имел возможность наблюдать, как рождались литературные
школы и направления, происходили социальные сдвиги и политические катаклизмы«
Пережив «многое и многих», он в старости оказался отброшенным с пути развития
общественной мысли, олицетворяя для младших поколений идеи отжившей
старины. Взгляд его до самой смерти был обращен в прошлое, он доживал век в мире
призраков, среди умерших соратников и друзей.
Об этой особенности творческой биографии писателя следует помнить, давая
оценку его эстетическим взглядам. Они не были приведены им в систему:
Вяземский был публицистом, а не теоретиком, критиком, а не литературоведом.
Он появился на литературной арене в период ожесточенных схваток между
новым и старым искусством, между классицизмом и романтизмом и сразу же
оказался в гуще борьбы, став одним из самых безоговорочных сторонников и
защитников романтического направления, хотя по воспитанию литературных вкусов
являлся, скорее, наследником рационалистических и просветительских идей.
Пафос критических и полемических работ Вяземского состоит в обосновании
эстетической программы романтизма, основные положения которой находят в его
лице энергичного защитника и пропагандиста. Как истинный романтик, Вяземский
выступает в защиту русской литературы, ее национальной самобытности, ставит
вопрос о законах преемственности литературной традиции. Он восстает против
жестких требований, диктуемых искусству эстетической программой классицизма,
противопоставляя им эмоциональную природу творческого пропеса.
Особую убедительность и силу взгляды Вяземского приобрели после того, как
новое искусство получило воплощение в творчестве Пушкина. В статьях,
посвященных поэмам «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан»,—
статьях-манифестах, он обосновывает важные положения романтического искусства. Центральное
место здесь занимает изображение романтического героя: «Переизбыток силы, жизни
внутренней, которая в честолюбивых потребностях своих не может
удовольствоваться уступками внешней жизни, щедрой для одних умеренных желаний так
называемого благоразумия; необходимые последствия подобной распри: волнение без
цели, деятельность, пожирающая, не прикладываемая к существенному, упования,
никогда не свершаемые и вечно возникающие с новым стремлением,— должны
неминуемо посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности,
пресыщения, которые знаменуют характер Child Harold, Кавказского пленника и им
подобных» 1. Суждения критика-современника, в ряде моментов предвосхищающие
разборы Белинского, поражают своей глубиной и точностью.
В предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» Вяземский, разграничивая
понятия подражательности и преемственности, приходит к выводу, что именно
романтическое направление является наследником лучших писателей прошлого,
поскольку их творчество никаким канонам не следовало.
Характерно, что статья о «Бахчисарайском фонтане» написана как диалог между
классиком и романтиком. Такая форма изложения — спор с идейным противни-
1 О Кавказском пленнике, повести, соч. А. Пушкина, 1822,—Полное собрание
сочинений князя П.4 А. Вяземского, т. I, Спб., 1878, стр. 76.
90
ком — больше всего импонировала умонастроению и душевному складу поэта.
В этом он был гораздо сильнее, чем в области теоретических рассуждений.
В творчестве Вяземского отражались именно те литературно-эстетические
проблемы современности, вокруг которых шла самая напряженная борьба, самые
яростные споры. Когда на повестке дня стоял вопрос о русском языке, он выступил
с обоснованием идей Карамзина, с защитой прав языка на универсальность путей
развития, против затвердевших норм и канонов, против русофильского пуризма.
Особенно интересны и ярки рассуждения критика о патриотизме л народности.
(Именно Вяземский ввел термин «народность» в литературный обиход.) Весьма
смело для своего времени решает он и проблему гражданственности в искусстве.
Гражданское служение, по мнению критика, не исключает, а предполагает
творческую свободу художника.
С конца 30-х годов Вяземский не принимает активного участия в литературной
жизни. И хотя его общественно-политические взгляды существенно
видоизменялись, эстетические воззрения остались в своей основе прежними.
Среди бойцов за утверждение нового, романтического искусства Вяземский был
одним из самых темпераментных. Его эстетические высказывания — летопись
литературных битв 20—30-х годов.
О КАВКАЗСКОМ ПЛЕННИКЕ, ПОВЕСТИ,
СОЧ. А. ПУШКИНА
1822
[...] Явление упомянутых произведений, коими обязаны мы лучшим
поэтам нашего времени, означает еще другое: успехи посреди нас поэзии
романтической. На страх оскорбить присяжных приверженцев старой
Парнасской династии, решились мы употребить название, еще для многих
у нас дикое и почитаемое за хищническое и беззаконное. Мы согласны:
отвергайте название, но признайте существование. Нельзя не почесть за
непоколебимую истину, что литература, как и все человеческое,
подвержена изменениям; они многим из нас могут быть не по сердцу, но отрицать
их невозможно или безрассудно. И ныне, кажется, настала эпоха
подобного преобразования. Но вы, милостивые государи, называете новый род
чудовищным потому, что почтеннейший Аристотель с преемниками вам
ничего о нем не говорили. Прекрасно! Таким образом и ботаник должен
почесть уродливым растение, найденное на неизвестной почве, потому, что
Линней не означил его примет; таким образом и географ признавать не
должен существования островов, открытых великодушною и просвещенною
щедростью Румянцова, потому что о них не упомянуто в землеописаниях,
изданных за год до открытия. Такое рассуждение могло б быть
основательным, если б природа и гений, на смех вашим законам и границам,
не следовали в творениях своих одним вдохновениям смелой независимости
и ее сбивали ежедневно с места ваших Геркулесовых столпов. Жалкая
неудача! Вы водружаете их с такою важностию и с таким напряжением.
91
а они разметывают их с такой легкостью и небрежностью! Во Франции
еще понять можно причины войны, объявленной так называемому
романтическому роду, и признать права его противников. Народная гордость,
одна и без союза предубеждений, которые всегда стоят за бывалое, должна
ополчиться на защиту славы, утвержденной отечественными писателями
и угрожаемой ныне нашествием чужеземных. Так называемые классики
говорят: «зачем принимать нам законы от Шекспиров, Байронов,
Шиллеров, когда мы имели своих Расинов, Вольтеров, Лагарпов, которые сами
были законодателями иностранных словесностей и даровали языку нашему
преимущество быть языком образованного света?» — Но мы о чем
хлопочем, кого отстаиваем? Имеем ли мы литературу отечественную, уже
пустившую глубокие корни и ознаменованную многочисленными,
превосходными плодами? До сей поры малое число хороших писателей успели только
дать некоторый образ нашему языку; но образ литературы нашей еще не
означился, не прорезался.— Признаемся со смирением, но и с надеждою:
есть язык русский, но нет еще словесности, достойного выражения народа
могучего и мужественного! Что кинуло наш театр на узкую дорогу
французской драматургии? слабые и неудачные сколки Сумарокова с
правильных, но бледных подлинников французской Мельпомены. Кроме
Княжнина и Озерова, какое дарование отличное запечатлело направление,
данное Сумароковым? Для каждого, не ограниченного предубеждением,
очевидно, что наш единственный трагик если не формами, то по крайней мере
духом своей поэзии совершенно отчуждался от французской школы.—
Поприще нашей литературы так еще просторно, что, не сбивая никого
с места, можно предположить себе цель и беспрепятственно к ней
подвигаться. Нам нужны опыты, покушения: опасны нам не утраты, а опасен
застой. И о чем сожалеют телохранители писателей заслуженных, которые
в самом деле достойны были бы сожаления, когда бы слава их опиралась
единственно на подобных защитниках? Несмотря на то, что пора
торжественных од миновалась, польза, принесенная Ломоносовым и в одном
стихотворном отношении, не утратила прав на уважение и
признательность. Достоинства хороших писателей не затмятся ни раболепными
и вялыми последователями, ни отважными и пылкими указателями новых
путей. [...]
Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского,
т. I, Спб., 1878, стр. 73-75.
ЗАМЕЧАНИЯ НА КРАТКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1822-го ГОДА, НАПЕЧАТАННОЕ
В № 5 «СЕВЕРНОГО АРХИВА» 1823-го ГОДА
(1823)
[...] Литература должна быть выражением характера и мнений народа:
судя по книгам, которые у нас печатаются, можно заключить, что у нас
92
или нет литературы, или нет ни мнений, ни характера; но последнего
предположения и допустить нельзя. Утверждать, что у нас не пишут оттого,
что не читают, значит утверждать, что немой не говорит оттого, что его
не слушают. Развяжите язык немого, и он будет иметь слушателей. Дайте
нам авторов; пробудите благородную деятельность в людях мыслящих,
и — читатели родятся. Они готовы; многие из них и вслушиваются, но
ничего от нас дослышаться не могут и обращаются поневоле к тем, кои
не лепечут, а говорят. Русские книги читаются до сей поры одними
артистами, но у любителей должны они быть еще в малом употреблении.
Древняя медаль может иметь цену в глазах антиквария; но не знаток
предпочтет ей всегда ходячую монету. Беда в том, что писатели наши
выпускают мало ходячих монет. Радуйтесь пока, что хотя иностранные
сочинения находятся у нас в обращении; пользуясь ими, мы готовимся
познавать цену и своих богатств, когда писатели наши будут бить из
отечественных руд монету для народного обихода. [...]
Там же, стр. 103.
ИЗВЕСТИЕ О ЖИЗНИ И СТИХОТВОРЕНИЯХ
ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА
(1823)
Выражение: он человек, к делам неспособный! он поэт! реже слышится
благодаря успехам просвещения, которое если не совершенно еще
господствует, то по крайней мере довольно обжилось, чтобы налагать иногда
совестное молчание на уста своих противников. Блестящими опытами
доказано (и нужны ли были тому доказательства?), что любовь к изящному,
утонченное образование ума, сила и свежесть чувства, склонность к
занятиям возвышенным, искусство мыслить и изъясняться правильно на языке
природном и другие душевные и умственные принадлежности писателя
не вредят здравому рассудку, твердости в правилах, чистоте совести,
быстроте и точности соображений и горячему усердию к пользе общественной,
требуемым от государственного человека. Невежественная спесь не
догадывается, что буде ее приговор окажется справедливым, то строгость его
падет не на поэзию и что предосудительным и невыгодным может он быть
только для тех, коих думает она величать сим отчуждением от
непосредственных даров природы и от достоинств неотъемлемых и независимых.
Легко постигнуть, отчего успехи на поприще службы государственной
могут противиться постоянным занятиям литературным и охолодить сердце
к мирным наслаждениям труда бескорыстного; но нет причины
благоразумной, по коей заслуги литературные должны быть препятствием
развитию государственных способностей (не говорю — успехов) в поэте, коего
честолюбие вызывает из темной сени уединения на блестящую чреду
действующего гражданина. [...]
Там же, стр. 112—113.
93
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К БАХЧИСАРАЙСКОМУ ФОНТАНУ,
РАЗГОВОР МЕЖДУ ИЗДАТЕЛЕМ И КЛАССИКОМ
С ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ ИЛИ
С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
(1824)
[...] Законы языка нашего еще не приведены в уложение; и как
жаловаться на новизну выражений? Разве прикажете подчинить язык и поэтов
наших китайской неподвижности? Смотрите на природу! Лица
человеческие, составленные из одних и тех же частей, вылиты в одну физиогно-
мию, а выражение есть физиогномия слов!
[...] Возьмите три знаменитые эпохи в истории нашей литературы, вы
в каждой найдете отпечаток германской. Эпоха преобразования, сделанная
Ломоносовым в русском стихотворстве, эпоха преобразования в русской
прозе, сделанная Карамзиным, нынешнее волнение, волнение
романтическое и противозаконное, если так хотите назвать его, не явно ли
показывают господствующую наклонность литературы нашей! Итак, наши поэты-
современники следуют движению, данному Ломоносовым; разница только
в том, что он следовал Гинтеру и некоторым другим из современников,
а не Гёте и Шиллеру. Да и у нас ли одних германские музы
распространяют свое владычество? Смотрите, и во Франции — в государстве, которое
по крайней мере в словесном отношении едва не оправдало честолюбивого
мечтания о всемирной державе, и во Франции сии хищницы приемлют
уже некоторое господство и вытесняют местные наследственные власти.
Поэты, современники наши, не более грешны поэтов предшественников.
Мы еще не имеем русского покроя в литературе; может быть, и не будет,
потому что его нет; но, во всяком случае, поэзия новейшая, так
называемая романтическая, не менее нам сродна, чем поэзия Ломоносова или
Хераскова, которую вы силитесь выставить за классическую. Что есть
народного в Петриаде и Россиаде, кроме имен?
[...] Она [народность] не в правилах, но в чувствах. Отпечаток
народности, местности — вот что составляет, может быть, главное
существеннейшее достоинство древних и утверждает их право на внимание
потомства.
[...] Нет сомнения, что Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более
сродства и соотношений с главами романтической школы, чем со своими
холодными, рабскими последователями, кои силятся быть греками и
римлянами задним числом. Неужели Гомер сотворил Илиаду, предугадывая
Аристотеля и Лонгина и в угождение какой-то классической совести, еще
тогда не вымышленной? Да и позвольте спросить и у себя и у старейшин
ваших, определено ли в точности, что такое романтический род, и какие
имеет он отношения ц противуположности с классическими? Признаюсь,
по крайней мере за себя, что еще не случилось мне отыскать ни в книгах,
94
ни в уме своем, сколько о том ни читал, сколько о том ни думал, полного,
математического, удовлетворительного решения этой задачи.
[...] Предание, известное в Крыму и поныне, служит основанием поэме.
Рассказывают, что хан Керим-Гирей похитил красавицу Потоцкую и
содержал ее в Бахчисарайском гареме; полагают даже, что он был обвенчан
с нею. Предание сие сомнительно, и г. Муравьев-Апостол в
Путешествии своем по Тавриде, недавно изданном, восстает, и, кажется, довольно
основательно, против вероятия сего рассказа. Как бы то ни было,— сие
предание есть достояние поэзии.
[...] История не должна быть легковерна; поэзия напротив. Она часто
дорожит тем, что первая отвергает с презрением, и наш поэт очень хорошо
сделал, присвоив поэзии бахчисарайское предание и обогатив его
правдоподобными вымыслами; а еще и того лучше, что он воспользовался тем
и другим с отличным искусством.
[...] В поэме движения много. В раму довольно тесную вложил он
действие полное не от множества лиц и сцепления различных приключений,
но от искусства, с каким поэт умел выставить и оттенить главные лица
своего повествования! Действие зависит, так сказать, от деятельности
дарования: слог придает ему крылья или гирями замедляет ход его. В
творении Пушкина участие читателя поддерживается с начала до конца.— До
этой тайны иначе достигнуть нельзя, как заманчивостью слога.
[...] Творение искусства — обман. Чем менее выказывается прозаическая
связь в частях, тем более выгоды в отношении к целому. Частые
местоимения в речи замедляют ее течение, охлаждают рассказ. Есть в
изобретении и в вымысле также свои местоимения, от коих дарование старается
отделываться удачными эллипсисами. Зачем все высказывать и на все
напирать, когда имеем дело с людьми понятия деятельного и острого? а о
людях понятия ленивого, тупого и думать нечего.
Там же, стр. 168—173.
ЖУКОВСКИЙ.- ПУШКИН.- О НОВОЙ ПИИТИКЕ БАСЕН
(1825)
Многие с досадою жалуются, что у нас чужемыслие, чужечувствия,
чужеязычие господствуют в словесности; что у нас мало своего, мало
русского; что никто не старается дать поэзии нашей направление
народное. Может быть, отчасти это и правда. Но по справедливости признаться
должно, что и у нас встречаются яркие примеры такого литературного
патриотизма, который даже и у немцев и англичан мог бы показаться
баснословным.
В доказательство тому привожу выписку из письма на Кавказ (Сын
От., 1825, № 3, стр. 313). Речь идет о новых баснях г. Крылова,
напечатанных в Северных Цветах.
95
«Они прекрасны, замысловаты, но... право, не хочется высказать,—
по рассказу не могут сравняться с прежними его баснями, в которых
с прелестью поэзии соединено что-то русское, национальное. В прежних
баснях И. А. Крылова мы видим русскую курицу, русского ворона,
медведя, соловья и т. п. Я не могу хорошо изъяснить того, что чувствую при
чтении его первых басен, но мне кажется, будто я где-то видал этих зверей
и птиц, будто они водятся в моей родительской вотчине».
В других землях требовали и требуют, чтобы драматические писатели,
творцы эпических поэм, почерпали предметы и вымыслы свои из
отечественных источников: но наш Шлегель увлекается гораздо далее в порыве
пламенного патриотизма. Он не довольствуется отечественным пантеоном;
он требует еще и отечественного зверинца, отечественного курятника,
отечественного птичника. По нем, сохрани боже, чтобы русский баснописец
употребил в басне своей, например, цесарскую курицу или швабского гуся;
нет,— давай ему непременно куриц русских, гусей русских; поэтический
желудок его не варит других, кроме русских.
[...] Первые басни г. Крылова нравились литератору-патриоту, но чем?
Ему казалось, что герои оных водились в его родительской вотчине.
Искренно поздравляем нашего Аристарха-помещика с родительскою
вотчиною: не каждому литератору можно похвалиться подобной
собственностью; поздравляем и с тем, что он имеет при ней куриц и соловьев,
приятную пищу для желудка и ушей, хотя сожалеем вчуже, что в этой
вотчине водятся медведи, потому что от них сельские прогулки могут
вовлечь хозяина в неприятные встречи. Понимаем также, что для
образованного помещика очень приятно иметь домашнего Лафонтена биографом-
живописцем господского птичьего двора; но пускай указатель новой
пиитики царства бессловесных сжалится немного над затруднительным
положением баснописца, который в таком случае должен приписаться к какой-
нибудь вотчине, чтоб доставлять читателю своему приятные
воспоминания о его домашнем хозяйстве.
[...] Боже мой, до каких гнусностей может довести патриотизм, то есть
патриотизм, который зарождается в некоторых головах, совершенно осо
бенно устроенных. Признаюсь, я не большой и не безусловный
приверженец и поклонник так называемой национальности.
[...] Национальность есть чувство свободное, врожденное: мы любим
родину свою, народ, которому принадлежим, который наш и нас считает
своими, по тому же закону природы, по которому любим себя, а в себе
любим и семью свою, родителей, братьев, сестер. Захотеть же вложить
это чувство в систему, в учение, в закон — это то же, что задушить его.
Не следует суживать воззрения свои, понятия, сочувствия. И те и другие,
чтобы отыскать место свое, требуют простора и воли. Литературная ли
национальность, политическая ли, принятая в смысле слишком
ограниченном, ни до чего хорошего довести не может. [...]
Там же, стр. 182—185.
96
О РАЗБОРЕ ТРЕХ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ
В ЗАПИСКАХ НАПОЛЕОНА, НАПИСАННОМ ДЕНИСОМ
ДАВЫДОВЫМ
(1825)
[...] Пусть целость нашего языка будет равно священна, как и
неприкосновенность наших границ; но позвольте спросить: разве и завоевания
наши почитать за нарушение этой драгоценной целости? Не забудем, что
язык политический, язык военный — скажу наотрез — язык мысли вообще,
мало и немногими у нас обработан. Хорошо не затеивать новизны тем,
коим незачем выходить из колеи и выпускать вдаль ум домовитый и
ручной; но повторяю: новые набеги в области мыслей требуют часто и нового
порядка. От них книжный синтаксис, условная логика частного языка
могут пострадать, но есть синтаксис, но есть логика общего ума, которые,
не во гнев ученым будь сказано, также существуют. [...]
Там же, стр. 196—197.
ЦЫГАНЫ. ПОЭМА ПУШКИНА
(1827)
[...] Единство места и времени, спорная статья между классическими
и романтическими драматургами, может быть заменено непрерывающимся
единством действия в эпическом или в повествовательном творении.
Нужны ли воображению и чувству, сим законным судиям поэтического
творения, математическое последствие и прямолинейная выставка в
предметах, подлежащих их зрению? Нужно ли, чтобы мысли нумерованные
следовали пред ними одна за другою, по очереди непрерывной, для
сложения итога полного и безошибочного? Кажется, довольно отмечать тысячи
и сотни, а единицы подразумеваются. Путешественник, любуясь с высоты
окрестного картиною, минует низменные промежутки и объемлет одни
живописные выпуклости зрелища, пред ним раскинутого. Живописец,
изображая оную картину на холсте, следует тому же закону и, повинуясь
действиям перспективы, переносит в свой список одно то, что выдается
из общей массы. Байрон следовал этому соображению в повестях своих.
Из мира физического переходя в мир нравственный, он подвел к этому
правилу и другое. Байрон, более всех других чуткий к голосам и
требованиям эпохи своей, не мог не отразить в своих творениях и этой
знаменательной приметы. Нельзя не согласиться, что в историческом отношении
не успели бы мы пережить то, что пережили на своем веку, если
происшествия современные развивались бы постепенно, как прежде обтекая
заведенный круг старого циферблата; ныне и стрелка времени как-то
перескакивает минуты и считает одними часами. В классической старине
4 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) 97
войска осаждали город десять лет, и песнопевцы в поэмах своих вели
поденно военный журнал осады и деяний каждого воина в особенности.
В новейшей эпохе, романтической, минуют крепости на военной дороге
и прямо спешат к развязке, к результату войны; а поэты и того лучше:
уже не поют ни осады, ни взятия городов. Вот одна из характеристических
примет нашего времени: стремление к скорым заключениям. От
нетерпения ли и ветренности, как думают старожилы, просто ли от благоразумия,
как думаем мы, но на письме и на деле перескакиваем союзные частицы
скучных подробностей и порываемся к результатам. Как в были, так
и в сказке мы уже не приемлем младенца из купели и не провожаем
его до поздней старости и наконец до гроба, со дня на день исправляя
с ним рачительно ежедневные завтраки, обеды, полдники и ужины. Мы
верим на слово автору, что герой его или героиня едят и пьют, как и мы
грешные, и требуем от него, чтобы он нам выказывал их только в
решительные минуты, а впрочем, не хотим вмешиваться в домашние дела.
Между тем заметим, что уже и в старину Буало, сей Магомет классического
Корана и не менее того пророк в своем деле, чувствовал выгоду таких
скачков; кажется, где-то он говорит про кого-то, что, свергнув иго
обязательных переходов, освободился он от одной из величайших трудностей
в искусстве писать. [...]
Там же, стр. 314—315.
[ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»]
Музыка иживопись
Музыка искусство независимое; живопись подражательное и,
следовательно, подвластное. Последняя говорит душе посредством глаз и
действует преимущественно на память, уподоблением с тем, что есть и что мы
видели или могли видеть. Первая только по условию покорилась
определенным формам, но по существу своему она всеобъемлюща. Есть музыка
без нот, без инструментов. В живописи все вещественно: отнимите кисть,
карандаш, и она не существует. Живое в ней — оптический обман.
Истинное в ней: краски, кисти, холст, бумага — мертвое. В музыке обман то,
что в ней есть мертвое. Ноты цифры ее, соображение строев, созвучий,
математика их, все это условное, безжизненное. Живое в ней почти не
осязается чувством. Живопись была сначала ремеслом, рукодельем: уже после
сделалась она творением. Музыка творение первобытное, и только из
угождения прихотям или недостаткам человеческим сошла она в искусство.
Шум ветров, ропот волн, треск громов, звучные и томные переливы
соловья, изгибы человеческого голоса — вот музыка довременная всем
инструментам. Живопись наука; музыка способность. Искусство говорить
наука благоприобретенная; но дар слова родовое достояние человека. Не
будь частей речи, не будь слов, не менее того были бы звуки неопреде·
98
ленные, сбивчивые, но все более или менее понятные для употребляющих;
не будь нот, генералбаса, а все была бы музыка. Музыка чувство;
живопись понятие. В первой чувство родило понятие; в другой от понятий
родилось чувство. Господствующее сродство музыки с нами: ее переход-
чивость. Мы симпатизируем с тем, что так же минутно, так же неутвер-
димо, так же загадочно, неопределенно, как мы. Звук потряс нашу душу,
и нет его, наслаждение обогрело наше сердце, и нет его. В живописи видны
уже расчет рассудка, цель, намерение установить преходящее, воскресить
минувшее или будущему передать настоящее. Это уже промышленность.
В музыке нет никаких хозяйственных распоряжений человека, минутного
хозяина в жизни. Душа порывается от радости или печали; она
выливается в восклицание или стон. Ей нет потребности передать свои чувства
другому, она просто не могла утаить их в себе. Они в ней заговорили, как
Мемнонова статуя, пораженная лучом денницы. Вот музыка. Есть солнце
гармонии: оно действует на своих поклонников, согревает и оплодотворяет
их гармоническою теплотою. Часто слышишь, что живопись
предпочитается как упражнение, более независимое от обстоятельств, удобнее,
чтобы провести или, как говорится, убивать время, следовательно
прибыльнее для сбывающих с рук его излишество. Тут идет дело о пользе, а я и о
наслаждении думать не хочу: говорю о потребности, о необходимости.
Горе музыканту или поэту, принимающемуся за песни от скуки. Оставим
это промышленникам. Несчастный, уязвленный в душе, как бы ни был
страстен к живописи, возьмется ли за кисть в первую минуту поражения;
разве после, когда опомнится и покорится рассудку, предписывающему
рассеяние. Без сомнения музыкант и поэт, если живо поражены, не станут
также считать стопы или сводить звуки; но ни в какое время, как в минуты
скорби душевной, душа их не была музыкальнее и поэтичнее. Однако же
и живопись имеет в нас природное соответствие. Мы часто спускаем взоры
с подлинной картины природы и задумчиво заглядываемся на повторение
ее в зеркале воды, отражающем ее слабо, но с оттенками
привлекательными. Человек по возвышенному назначению ищет совершенства; но по
тайной склонности любуется в несовершенствах. Неотразимо чувствуя
в душе преимущество музыки над живописью, я готов почти применить
сказанное мною о живописи к поэзии в сравнении с музыкою, признавая,
однако ж, в поэзии много свойств живописи и музыки. Впрочем, музыка
одна и нераздельна (une et indivisible), как покойная французская
республика. В поэзии много удельных княжеств: есть поэзия ума, поэзия
воображения, поэзия нравоучения, поэзия живописная, поэзия чувства, которая
есть законнейшая, ближайшая к общей родоначальнице поэзии природы,
поэзии вечной. Есть же поэзия без стихов: на стихи без поэзии указывать
нечего. В условленном выражении поэзии есть слишком много примеси
прозаической. Поэзия ангел в одежде человеческой; музыка прозрачно
подернута эфирным покровом. Она ничего не представляет и все
изображает; ничего не выговаривает и все выражает; ни за что не ответствует
и на все отвечает. Язык поэзии, стихотворство, есть язык простонародный,
4*
99
облагороженный выговором. Музыка язык отдельный, цельный. Их можно
применить к письменам демотическим (народным) и гиератическим
(священно-служебным), бывшим в употреблении у древних египтян. Музыка
усовершенствованные, возвышенные иероглифы: в них все мирские же
знаки изображали человеческие понятия. В музыке знаки бестелесные
возбуждают впечатления отвлеченные. В поэзии есть представительство
чего-то положительного; в музыке все неизъяснимо, все безответственно,
как в идеальной жизни очаровательного и стройного сновидения. Что ни
делай, а таинственность, неопределимость: вот вернейшая прелесть всех
наслаждений сердца. Мы прибегаем к изящным искусствам, когда
житейское, мирское уже слишком нам постыло. Мы ищем нового мира, и
вожатый, далее водящий по сей тайной области, есть вернейший любимец души
нашей. Этот вожатый, этот увлекатель и есть музыка. Ангелы, херувимы,
серафимы, в горних пределах, не живописуют силы божией, а воспевают
ее. Если пришлось бы подвести искусства под иерархический порядок,
вот как я распределил бы их: 1-я музыка, 2-я поэзия, 3-е ваяние, 4-я
живопись, 5-е зодчество.
Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского,
т. Vlir, Спб., 1883, стр. 11-14.
н. м. языков
1803-1846
Николай Михайлович Языков, один из видных русских поэтов XIX столетия, не
сразу нашел свое место в литературной борьбе. Первый период его творчества
(20-е годы), наиболее плодотворный и яркий, был в известной степени только
временем становления литературно-эстетических принципов.
В романах Вальтера Скотта его привлекает «необыкновенное», хотя не
устраивает однообразие в изображении характеров. Его кумиром надолго остается
Шиллер, особенно «Дон Карлос», о котором он говорит с необыкновенной
восторженностью; в пылу увлечения он даже решает стать трагическим поэтом,
возвеличивая трагедию среди других литературных жанров. Но при этом Языков, очевидно,
не осознает себя романтическим поэтом и даже часто употребляет эпитет
«романтический» в отрицательном смысле: показательно недоброжелательное отношенио
к Вяземскому — одному из самых активных защитников романтического
направления.
Для характеристики эстетических воззрений Языкова наиболее интересны его
критические замечания о творчестве Пушкина. Признавая его высокое поэтическое
мастерство, Языков ставит ему в упрек и будто бы «романтико-темную» манеру
выражения в отдельных стихах и отсутствие чувства юмора в «Евгении Онегине».
Весьма сдержанную оценку получают «Бахчисарайский фонтан» и «Граф Нулин».
100
При этом Языков — поэт пушкинской школы. Он видит свое поэтическое
родство с Пушкиным, «певцом вакхических картин», певцом русского веселья и
русской свободы:
Как мы, бывало, пьем да пьем,
Творим обеты нашей Гебе,
Зовем свободу в нашу Русь,
И я на вече, я на небе
И славой прадедов горжусь !.
Вольность наслаждений и наслаждение вольностью — вот что принимает
Языков в творчестве Пушкина. И «Евгений Онегин» остается для него чуждым и
непонятным по своей реалистической манере.
Литературно-эстетическая и общественно-философская проблематика стихов
Языкова во многом соприкасается с пушкинской. Подобно Пушкину, он говорит
о безусловной свободе поэзии от тиранической власти, от земных благ и несчастий,
о нравственном одиночестве поэта среди духовной черни, о священной природе
вдохновения, о высоком назначении художника.
Молодой Языков был увлечен русской стариной, русским фольклором.
Отрицательная оценка сказок Пушкина вызвана особым русофильским пуризмом,
нелюбовью к обработкам русского фольклора.
В 30-е годы, в эпоху раскола левого крыла русской интеллигенции на
западников и славянофилов, он становится признанным поэтом русского
славянофильства, безусловно принимает его социально-философскую и эстетическую программу.
Отсюда — увлечение русским фольклором, русским искусством, русской
историей, русофильское понимание народности и неприятие всего иностранного. В
романтической трактовке личности художника и творческого процесса усиливается
религиозный акцент.
Не будучи теоретиком искусства или литературным критиком, Языков
высказывает свои эстетические суждения не в специальных работах, а в ряде
стихотворений и писем.
К ВУЛЬФУ, ТЮТЧЕВУ И ШЕПЕЛЕВУ
[...] О! разучись моя рука
Владеть струнами вдохновений,
Не удостойся я венка
В алмазном храме песнопений.
Холодный ветер суеты
Надуй и мчи мои ветрила
Под океаном темноты
По ходу бледного светила,
Когда умалится во мне
1 Н. М. Языков, Полное собрание стихотворений, М.— Л., «Academia», 1934,
стр. 261.
101
Сей неба дар благословенный,
Сей пламень чистый и священный —
Любовь к родимой стороне! [...]
(1826)
Н. М. Языков, Полное собранно стихотворений,
М.-Л., 1964, стр. 218.
МУЗА
Богиня струн пережила
Богов и грома и булата;
Она прекрасных рук в оковы не дала
Векам тиранства и разврата.
Они пришли; повсюду смерть и брань,
В венце раскованная сила,
Ее бессовестная длань
Алтарь изящного разбила;
Но с праха рушенных громад,
Из тишины опустошенья,
Восстал — величествен и млад —
Бессмертный ангел вдохновенья.
Февраль 1824
Там же, стр. 127.
ТРИГОРСКОЕ
[...] Что восхитительнее, краше
Свободных, дружеских бесед,
Когда за пенистою чашей
С поэтом говорит поэт?
Жрецы высокого искусства,
Пророки воли божества!
Как независимы их чувства,
Как полновесны их слова!
Как быстро, мыслью вдохновенной,
Мечты на радужных крылах,
Они летают по вселенной
В былых и будущих веках!
Прекрасно радуясь, играя,
Надежды смелые кипят,
И грудь трепещет молодая,
И гордый вспыхивает взгляд! [...]
(1826)
Там же, стр. 223—224
102
КАТЕНЬКЕ МОЙЕР
Благословенны те мгновенья,
Когда в виду грядущих лет,
Пред фимиамом вдохновенья
Священнодействует поэт.
Как мысль о небе, величавы,
Торжественны его слова:
Их принимают крылья славы,
Им изумляется молва!
Но и тогда, как он играет
Своим возвышенным умом,
Он преисполнен, он сияет
Его хранящим божеством,
И часто даром прорицанья —
Творящей прихоти сыны —
Его небрежные созданья,
Его мечты одарены. [...]
(1827)
Там же, стр. 239.
Д. В. ДАВЫДОВУ
[...] Моя поэзия росла
Самостоятельно и живо,
При звонком говоре стекла,
При песнях младости гульливой,
И возросла она счастливо —*
Резва, свободна и смела,
Певица братского веселья,
Друзей, да хмеля и похмелья
Беспечных юношеских дней;
Не удивляйся же ты в ней
Разливам пенных вдохновений,
Бренчанью резкому стихов,
Хмельному буйству выражений
И незастенчивости слов!
(1832)
Там же, стр. 332.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
[...] Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха
ЮЗ
И ликам ангельским внемли,
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.
(1844)
Там же, стр. 332.
К НЕНАШИМ
[...] Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живет, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живет
Любовь не к истине и благу!
Народный глас —- он божий глас —
Не он рождает в вас отвагу:
Он чужд, он странен, дик для вас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык:
Крепка, надежна Русь святая,
И русский бог еще велик!
(1844)
Там же, стр. 394-395.
104
К. Φ. РЫЛЕЕВ
1795-1826
Кондратий Федорович Рылеев, один из вождей декабристского движения,
окончил первый Петербургский кадетский корпус в 1814 году и до 1818 состоял на
военной службе. В 1821 году был избран заседателем палаты уголовного суда, а с 1824
состоял на службе в Главном правлении Российско-американской торговой
компании в качестве правителя канцелярии. Рылеев был одним из руководителей
Северного общества и был казнен в числе пяти декабристов. Поэт и публицист, Рылеев
высказывался также и по теоретическим вопросам, главным образом по проблемам
философии истории и эстетики, которой и посвящена его статья (впервые
напечатана в журнале «Сын отечества», 1825, № 22) «Несколько мыслей о поэзии».
Небольшая по объему, эта статья отличается глубиной и оригинальностью.
Перед нами движение самостоятельного ума, взявшего проблему в ее сути и
решающего ее соответственно собственным убеждениям. Подлинная поэзия всегда
самобытна, и нет хуже греха, чем подражательность, ориентация на плоды чужих
трудов, а это значит, что нечего делить поэзию на классическую и романтическую,
она едина, подчинена одним и тем же законам. Но это вовсе не значит, что поэзия
не развивается — хотя «истинная поэзия в существе своем всегда была одна и та
же, равно как и правила оной», но она «различается... по существу и формам,
которые в разных веках приданы ей духом времени, степенью просвещения и
местностью той страны, где она появлялась». С этой точки зрения различаются старая
и новая современная поэзия, на особенности которых Рылеев и указал.
Заметим, что О. Сомов еще раньше Рылеева (в 1823 году) высказал те же
взгляды на соотношение классицизма и романтизма. Впрочем, если Сомов с близких
позиций полемизировал с романтиками, то Рылеев, также отвергая романтическое
определение поэзии, данное одним русским сторонником романтической
эстетики, как бы соглашался с ним в некоторых пунктах. Небезынтересно отметить
и мотивировку «бесполезности» определения поэзии,— в этом случае можно было
бы создать поэтический идеал, но тогда пресеклось бы ее развитие, а такое
допущение для него неприемлемо. Здесь обнаруживается, как, впрочем, и в других
пунктах, связь эстетических идей Рылеева с его социологическими идеями (идеей
«духа времен» и др.) — развитие человечества означает развитие поэзии.
В тесной связи с общими декабристскими позициями в вопросах искусства
стоят идеи, которыми закончил Рылеев свою статью: поэзия должна
«осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин». Итак,
Рылеев формулировал в своей статье основные принципы эстетической программы
декабризма: борьба с подражательностью, требование самобытности, гражданской
устремленности поэзии, понимание искусства как составной части гражданской
жизни.
105
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ПОЭЗИИ
Спор о романтической и классической поэзиях давно уже занимает всю
просвещенную Европу, а недавно начался и у нас. Жар, с которым спор
сей продолжается, не только от времени не простывает, но еще более
и более увеличивается. Несмотря, однако ж, на это, ни романтики, ни
классики не могут похвалиться победою. Причины сему, мне кажется, те, что
обе стороны спорят, как обыкновенно случается, более о словах, нежели
о существе предмета, придают слишком много важности формам и что на
самом деле нет ни классической, ни романтической поэзии, а была и есть
и будет одна истинная самобытная поэзия, которой правила всегда были
и будут одни и те же.
Приступим к делу.
В середине века, когда заря просвещения уже начала заниматься
в Европе, некоторые ученые люди избранных ими авторов для чтения
в классах и образца ученикам назвали классическими, то есть
образцовыми. Таким образом Гомер, Софокл, Виргилий, Гораций и другие древние
поэты наименованы поэтами классическими. Учители и ученики от души
верили, что, только слепо подражая древним и в формах и в духе поэзии
их, можно достигнуть до той высоты, до которой они достигли, и сие-то
несчастное предубеждение, сделавшееся общим, было причиною
ничтожности произведений большей части новейших поэтов. Образцовые
творения древних, долженствовавшие служить только поощрением для поэтов
нашего времени, заменяли у них самые идеалы поэзии. Подражатели
никогда не могли сравниться с образцами и, кроме того, они сами лишали
себя сил своих и оригинальности, а если и производили что-либо
превосходное, то, так сказать, случайно и всегда почти только тогда, когда
предметы творений их взяты из древней истории и преимущественно из
греческой, ибо тут подражание древнему заменяло изучение духа времени,
просвещения века, гражданственности и местности страны того события,
которое поэт желал представить в своем сочинении. Вот почему «Меропа»,
«Эсфирь», «Митридат» и некоторые другие творения Расина, Корнеля и
Вольтера — превосходны. Вот почему все творения сих же или других
писателей, предметы творений которых почерпнуты из новейшей истории,
а вылиты в формы древней драмы, почти всегда далеки от
совершенства.
Наименование классиками без различия многих древних поэтов
неодинакового достоинства принесло ощутительный вред новейшей поэзии
и поныне служит одной из главнейших причин сбивчивости понятий наших
о поэзии вообще, о поэтах в особенности. Мы часто ставим на одну доску
поэта оригинального с подражателем: Гомера с Виргилием, Эсхила с
Вольтером. Опутав себя веригами чужих мнений и обескрылив подражанием
гения поэзии, мы влеклись к той цели, которую указывала нам ферула
Аристотеля и бездарных его последователей. Одна только необычайная
сила гения изредка прокладывала себе новый путь и, облетая цель, ука-
106
занную педантами, рвалась к собственному идеалу. Когда же явилось
несколько таких поэтов, которые, следуя внушению своего гения, не
подражая ни духу, ни формам древней поэзии, подарили Европу своими
оригинальными произведениями, тогда потребовалось классическую поэзию
отличить от новейшей, и немцы назвали сию последнюю поэзию
романтическою, вместо того чтобы назвать просто новою поэзиею. Дант, Тасс,
Шекспир, Ариост, Кальдерон, Шиллер, Гёте — наименованы
романтиками. К сему прибавить должно, что самое название романтический взято
яз того наречия, на котором явились первые оригинальные произведения
трубадуров. Сии певцы не подражали и не могли подражать древним, ибо
тогда уже от смешения с разными варварскими языками язык греческий
был искажен, латинский разветвился, и литература обоих сделалась
мертвою для народов Европы.
Таким образом, поэзиею романтическою назвали поэзию оригинальную,
самобытную, а в этом смысле Гомер, Эсхил, Пиндар, словом, все лучшие
греческие поэты-романтики, равно как и превосходнейшие произведения
новейших, кои взяты не из древней истории, суть произведения
романтические, хотя ни тех, ни других и не признают таковыми. Из всего
вышесказанного не выходит ли, что ни романтической, ни классической поэзии не
существует? Истинная поэзия в существе своем всегда была одна и та же,
равно как и правила оной. Она различается только по существу и формам,
которые в разных веках приданы ей духом времени, степенью
просвещения и местностию той страны, где она появлялась.
Вообще можно разделить поэзию на древнюю и новую. Это будет
основательнее. Наша поэзия более содержательная, нежели вещественная: вот
почему у нас более мыслей, у древних более картин; у нас более общего,
у них частностей. Новая поэзия имеет еще свои подразделения, смотря по
понятиям и духу веков, в коих появлялись ее гении. Таковы «Divina
Commoedia» Данта, чародейство в поэме Тасса, Мильтон, Клопшток с
своими высокими религиозными понятиями и, наконец, в наше время поэмы
и трагедии Шиллера, Гёте и особенно Байрона, в коих живописуются
страсти людей, их сокровенные побуждения, вечная борьба страстей с
тайным стремлением к чему-то высокому, к чему-то бесконечному.
Я сказал выше, что формам поэзии вообще придают слишком много
важности. Это также важная причина сбивчивости понятий нашего
времени о поэзии вообще. Те, которые почитают себя классиками, требуют
слепого подражания древним и утверждают, что всякое отступление от
форм их есть непростительная ошибка. Например, три единства в
сочинении драматическом у них есть непременный закон, нарушение коего ничем
не может быть оправдано. Романтики, напротив, отвергая сие условие, как
стесняющее свободу гения, полагают достаточным для драмы единство
цели. Романтики в этом случае имеют некоторое основание. Формы
древней драмы, точно как формы древних республик, нам не в пору. Для Афин,
для Спарты и других республик древнего мира чистое народоправление
было удобно, ибо в оном все граждане без изъятия могли участвовать
107
И сия форма правления их не нарочно была выдумана, не насильно
введена, а проистекала из природы вещей, была необходимостью того
положения, в каком находились тогда гражданские общества. Точно таким же
образом три единства греческой драмы в тех творениях, где они
встречаются, не изобретены нарочно древними поэтами, а были естественным
последствием существа предметов их творений. Все почти деяния происходили
тогда в одном городе или в одном месте; это самое определяло и быстроту
и единство действия.
Многолюдность и неизмеримость государств новых, степень
просвещения народов, дух времени, словом, все физические и нравственные
обстоятельства нового мира определяют и в политике и в поэзии поприще более
обширное. В драме три единства уже не должны и не могут быть для нас
непременным законом, ибо театром деяний наших служит не один город,
а все государство, и по большей части так, что в одном месте бывает начало
деяния, в другом продолжение, а в третьем видят конец его. Я не хочу этим
сказать, что мы вовсе должны изгнать три единства из драм своих. Когда
событие, которое поэт хочет представить в своем творении, без всяких
усилий вливается в формы древней драмы, то разумеется, что и три
единства не только тогда не лишнее, но иногда даже необходимое условие.
Нарочно только не надобно искажать исторического события для
соблюдения трех единств, ибо в сем случае всякая вероятность нарушается. В
таком быту наших гражданских обществ нам остается полная свобода, смотря
по свойству предмета, соблюдать три единства или довольствоваться одним,
то есть единством происшествия или цели. Это освобождает нас от вериг,
наложенных на поэзию Аристотелем. Заметим, однако ж, что свобода сия,
точно как наша гражданская свобода, налагает на нас обязанности
труднейшие тех, которых требовали от древних три единства. Труднее
соединить в одно целое разные происшествия так, чтобы они гармонировали
в стремлении к цели и составляли совершенную драму, нежели писать
драму с соблюдением трех единств, разумеется, с предметами равномерно
благодарными.
Много также вредит поэзии суетное желание сделать определение
оной, и мне кажется, что те справедливы, которые утверждают, что
поэзию вообще не должно определять. По крайней мере по сю пору никто
еще не определил ее удовлетворительным образом; все определения были
или частные, относящиеся до поэзии какого-нибудь века, какого-нибудь
народа, или поэта, или общие со всеми словесными науками, как Ансильо-
ново К
1 По мнению Ансильона, «поэзия есть сила выражать идеи посредством слова,
или свободная сила представлять с помощью языка бесконечное под формами
конечными и определенными, которые бы в гармонической деятельности говорили
чувствам, сообщению и суждению». Но сие определение идет и к философии, идет
и ко всем человеческим знаниям, которые выражаются словом. Многие также (см.
«Вестник Европы», 1825, № 17, стр. 26), соображаясь с учением новой философии
108
Идеал поэзии, как идеал всех других предметов, которые дух
человеческий стремится обнять, бесконечен и недостижим, а потому и
определение поэзии невозможно, да мне кажется и бесполезно. Если б было можно
определить, что такое поэзия, то можно б было достигнуть и до
высочайшего оной, а когда бы в каком-нибудь веке достигли до него, то что бы
тогда осталось грядущим поколениям? Куда бы девалось perpetuum
mobile?
Великие труды и превосходные творения некоторых древних и новых
поэтов должны внушать в нас уважение к ним, но отнюдь не благоговение,
ибо это противно законам чистейшей нравственности, унижает достоинство
человека и вместе с тем вселяет в него какой-то страх, препятствующий
приблизиться к превозносимому поэту и даже видеть в нем недостатки.
Итак, будем почитать высоко поэзию, а не жрецов ее, и, оставив
бесполезный спор о романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить дух
рабского подражания и, обратясь к источнику истинной поэзии, употребим
все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей
и вечных истин, всегда близко к человеку и всегда не довольно ему
известных.
«Избранные социально-политические и философские
произведения декабристов», т. 1, М., Госполитиздат,
1951, стр. 552-557.
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
1797-1846
Вильгельм Карлович Кюхельбекер вместе с А. С. Пушкиным учился
в Царскосельском лицее, затем служил в архиве коллегии иностранных дел
и был преподавателем и наставником в пансионе Педагогического
института. В 1820 году в качестве секретаря-камергера Нарышкина он поехал за
границу и прочитал в Париже несколько лекций о русской литературе, за
вольнолюбивый пафос которых был уволен Нарышкиным и выслан в Россию русским послом.
Член Северного общества декабристов и участник восстания 14 декабря в
Петербурге, Кюхельбекер отбывал наказание сперва в одиночной камере (более десяти
лет), а затем в ссылке в Сибири, где и умер.
Кюхельбекер выступал как поэт, критик, издатель (совместно с В. Ф. Одоевским
он издавал альманах «Мнемозину»), проводя во всей этой деятельности
декабристские идеи и являясь представителем того направления в русской поэзии и
литературе, которое связано не только с именами декабристов, но и Пушкина и особенно
Грибоедова.
немецкой, говорят, что сущность романтической (по-нашему — старинной) поэзии
состоит в стремлении души к совершенному, ей самой неизвестному, но для ее
необходимому, стремлении, которое владеет всяким чувством истинных поэтов сего
рода. Но не в этом ли состоит сущность и философии всех изящных наук?
109
Один из трех основных представителей литературно-эстетической мысли
декабризма, Кюхельбекер придерживался общих с Бестужевым и Рылеевым принципов:
борьба с подражательностью отечественной литературы, народность как условие
ее прогресса, требование самобытности отечественной литературы, критика
отечественных эпигонов романтизма и классицизма. Он подчеркнул некоторые идеи,
которых мы в таком развернутом виде не находим у этих его соратников: к их числу
относится особое внимание к жанру оды, которое было обусловлено общепринятыми
в среде декабристов положениями о том, что литература должна выполнять свою
гражданственную, воспитательную функцию,— эту функцию, по мнению
Кюхельбекера, лучше всего и выполняет ода. В отличие от Рылеева, для которого всякая
настоящая литература самобытна и нова для своего времени, Кюхельбекер считает
«свободу, изобретение и новость» свойствами именно и только романтизма, в чем
видел его преимущество перед литературой «классической позднейших
европейцев». Наконец, требуя развития русской самобытной, народной литературы
и видя, что она уже развивается (Кюхельбекер указывал на Пушкина), он
задумывался и над международной миссией России. Предвосхищая идеи Чаадаева, он
видел эту миссию в том, что «Россия по самому своему географическому положению
могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии», то есть осуществить
синтез европейской и азиатской культур. Таким образом, работы Кюхельбекера
показывают нам еще некоторые грани эстетической платформы декабризма.
О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ,
ОСОБЕННО ЛИРИЧЕСКОЙ,
В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
[...] Сила, свобода, вдохновение необходимые три условия всякой поэзии.
Лирическая поэзия вообще не что иное, как необыкновенное, то есть
сильное, свободное, вдохновенное изложение чувств самого писателя. Из сего
следует, что она тем превосходнее, чем более возвышается над событиями
ежедневными, над низким языком черни, не знающей вдохновения. Всем
требованиям, которые предполагают сие определение, вполне удовлетворяет
одна ода, а посему она без сомнения занимает первое место в лирической
поэзии или, лучше сказать, одна совершенно заслуживает название поэзии
лирической. [...] Ода, увлекаясь предметами высокими, передавая векам
подвиги героев и славу отечества, воспаряя к престолу неизреченного и
пророчествуя перед благоговеющим народом, парит, гремит, блещет,
порабощает слух и душу читателя. Сверх того в оде поэт бескорыстен: он не
ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об их сетует; он
вещает правду и суд промысла, торжествует о величии родимого края;
мечет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга.
[...] Теперь спрашивается: выиграли ли мы, променяв оду на элегию
и послание?
ПО
Жуковский первый у нас стал подражать новейшим немцам,
преимущественно Шиллеру. Современно ему Батюшков взял себе в образец двух
пигмеев французской словесности — Парни и Мильвуа, Жуковский и
Батюшков на время стали корифеями наших стихотворцев и особенно той
школы, которую ныне выдают нам за романтическую. [...]
Изучением природы, силою, избытком и разнообразием чувств, картин,
языка и мыслей, народностью своих творений великие поэты Греции,
Востока и Британии неизгладимо врезали имена свои на скрижалях
бессмертия. Ужели смеем надеяться, что сравнимся с ними по пути, по которому
идем теперь? Подражатель не знает вдохновенья: он говорит не из
глубины собственной души, а принуждает себя пересказать чужие понятия и
ощущения. [...} У нас всё 1 мечта и призрак, все мнится и кажется и
чудится, все только будто бы, как бы, нечто, что-то. [...] Чувств у нас давно нет:
чувство уныния поглотило все прочие. [...] Картины везде одни и те же:
луна, которая — разумеется — уныла и бледна, скалы и дубравы, где их
никогда не бывало, лес [...] в особенности же туман: туманы над водами,
туманы над бором, туманы над полями, туманы в голове сочинителя.
[...] Свобода, изобретение и новость составляют главные преимущества
романтической поэзии перед так называемою классической позднейших
европейцев. [...] Будем благодарны Жуковскому, что он освободил нас
из-под ига французской словесности и от управления нами по законам
Л а Гарпова лицея и Баттёева курса; но не позволим ни ему, ни кому
другому наложить на нас оковы немецкого или английского владычества!
Всего лучше иметь поэзию народную. [...]
При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь,
трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому
положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. [...]
Но не довольно — повторяю — присвоить себе сокровища
иноплеменников: да создастся для славы России поэзия истинно русская, да будет
святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою
державою во вселенной. Вера праотцов, нравы отечественные, летописи,
песни и сказания народные — лучшие, чистейшие и вернейшие источники
для нашей словесности.
Станем надеяться, что наконец наши писатели [...] сбросят с себя
поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Здесь особенно имею в виду
А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая, подают великие
надежды. [...]
«Мнемозина», М., 1824, ч. II, стр. 30, 31, 34, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43.
1 Кюхельбекер имел в виду русскую романтическую литературу того
направления, начало которому положил Жуковский. (Прим. сост.).
111
Α. Α. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ
1797-1837
Александр Александрович Бестужев (Марлинский), декабрист и один из
виднейших декабристских литераторов, учился в Горном корпусе, в 1816 году
поступил в гвардейский драгунский полк. Бестужев был членом Северного общества
декабристов. Вместе с Рылеевым Бестужев издавал альманах «Полярная звезда»
(1823—1824). После 14 декабря Бестужев был сослан в Сибирь. С 1827 года служил
рядовым на Кавказе, в 1836 — получил офицерский чин. 7 июня 1837 года был убит
в бою за мыс Адлер.
Приводимые ниже отрывки из двух статей Бестужева «Взгляд на русскую
словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» и «О романтизме» (последняя статья
впервые опубликована в 1951 году) не равноценны. Первая, уже давно вошедшая
в литературу о декабризме как один из образцов литературно-эстетической
публицистики декабризма, излагает те же идеи, что и статьи Рылеева и Кюхельбекера.
Связь литературы с условиями места, времени, жизнью народа, критика
подражательности и даже «ничтожества» русской литературы (Бестужев здесь сильно
преувеличил недостатки русской литературы и прошлого и настоящего), требование
развития самобытной, народной русской литературы, «польза современников» как
цель литературы, требование создания научной литературной критики, «взор более
общий, правила более стихийные» и преодоление на этой основе дилетантства,
произвольной вкусовщины в этой области, критика «света», его мелочности, его
тлетворного влияния на литературу, протест против подчинения таланта богатству —
таковы идеи первой из печатаемых статей Бестужева. Отметим, что здесь он,
подобно Рылееву, отдавал дань уважения и романтической и классической
литературе и в равной мере осуждал тех русских авторов, которые эпигонски следовали
этим направлениям.
Второй отрывок, более философский и менее злободневный, также
перекликается по своим идеям с тем, что писал Рылеев: классицизм рассматривается здесь
как пафос вещности, как преимущественное внимание к окружающему миру, а
романтизм— как развитие фантазии, как рассмотрение вещей не под углом зрения
действительности и необходимости, но под углом зрения возможного, как
преобладание мысли над «выражением». В этой статье возрастают симпатии Бестужева
к «милому гостю романтизма», сопряженные с критикой «подражания» не только
«произведениям людей» (это вполне «декабристское» требование), но и
«подражания природе» (с использованием примеров, умышленно дискредитирующих этот
принцип).
Как бы ни выглядела дальнейшая эволюция взглядов Бестужева, в первую
половину 20-х годов его критико-эстетические идеи — арсенал эстетического оружия
декабризма.
112
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
В ТЕЧЕНИЕ 1824 И НАЧАЛЕ 1825 ГОДОВ
Словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала
общим законам природы. Всегда первый ее век был возрастом сильных
чувств и гениальных творений. Простор около умов высоких поражает
гениев: они рвутся расшириться душою и наполнить пустоту. По времени
круг сей стесняется; столбовая дорога и полуизмятые венки не прельщают
их. Жажда нового ищет не исчерпанных источников, и гении смело
кидаются в обход мимо толпы в поиске новой земли мира нравственного и
вещественного; пробивают свои стези; творят небо, землю и ад родником
вдохновений; печатлеют на веках свое имя, на одноземцах свой характер,
озаряют обоих своею славой и все человечество своим умом!
За сим веком творения и полноты следует век посредственности,
удивления и отчета. Песенники последовали за лириками, комедия вставала
за трагедию; но история, критика и сатира были всегда младшими ветвями
словесности. Так было везде, кроме России, ибо у нас есть критика и нет
литературы; мы пресытились не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгли-
выми стариками! Постараемся разгадать причины столь странного
явления.
Первая заключается в том, что мы воспитаны иноземцами. Мы всосали
с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои
произведения исполинскою мерою чужих гениев, нам свысока видится своя
малость еще меньшею, и это чувство, не согретое народною гордостию,
вместо того чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается
унизить даже и то, что есть. К довершению несчастия, мы выросли на
одной французской литературе, вовсе не сходной с нравом русского
народа, ни с духом русского языка. [...]
Сказав о первых причинах, упомяну и о главнейшей: теперь мы
начинаем чувствовать и мыслить — но ощупью. Жизнь необходимо требует
движения, а развивающийся ум дела; он хочет шевелиться, когда не может
летать, но, не занятый политикою,— весьма естественно, что деятельность
его хватается за все, что попадается, а как источники нашего ума очень
мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство
и пересуды! Я говорю не об одной словесности: все наши общества
заражены тою же болезнию. Мы как дети, которые испытывают первую
свою силу над игрушками, ломая их и любопытно разглядывая, что
внутри.
Теперь спрашивается: полезна или нет периодическая критика? Джеф-
фери говорит, что «она полезна для периодической критики». Мы не
можем похвалиться и этим качеством: наша критика недалеко ушла в
основательности и приличии. Она ударилась в сатиру, в частности и более в
забаву, чем в пользу. Словом, я думаю, наша полемика полезнее для
журналистов, нежели для журналов, потому что критик, антикритик и
перекритик мы видим много, а дельных критиков мало; но между тем листы
ИЗ
наполняются и публика, зевая над статьями, вовсе для нее
незанимательными, должна разбирать по складам надгробия безвестных людей.
Справедливо ли, однако ж, так мало заботиться о пользе современников,
когда подобным критикам так мало надежды дожить до потомства?
Мне могут возразить, что это делается не для наставления
неисправимых, а для предупреждения молодых писателей. Но, скажите мне, кто
ставит охранный маяк в луже? Кто будет читать глупости для того, чтобы
не писать их?
Говоря это, я не разумею, однако же, о критике, которая аналитически
вообще занимается установкою правил языка, открывает литературные
злоупотребления, разлагает историю и, словом, везде, во всем отличает
истинное от ложного. Там, где самохвальство, взаимная похвальба и
незаслуженные брани дошли до крайней степени, там критика необходима для
разрушения заговоренных броней какой-то мнимой славы и
самонадеянности, для обличения самозванцев-литераторов. Желательно только, чтобы
критика сия отвергла все личности, все частности, все расчетные виды;
чтобы она не корпела над запятыми, а имела бы взор более общий,
правила более стихийные. Лица и случайности проходят, но народы и стихии
остаются вечно.
Из вопроса, почему у нас много критики, необходимо следует другой:
отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных? Предслышу ответ
многих, что от недостатка ободрения! Так его нет, и слава богу! —
Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует
хворосту и мехов, чтобы разогреться; но когда молния просила людской
помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе? Гомер, нищенствуя, пел свои
бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию;
Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул
в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах
Бастилии. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в
бледности изможденных гонением или недостатком лиц ваших — рассвет
бессмертия! Скорбь есть зародыш мыслей, уединение их горнило! Порох на
воздухе дает только вспышки, но, сжатый в железе, он рвется выстрелом и
движет и рушит громады... и в этом отношении к свету мы находимся
в самом благоприятном случае.
Уважение или по крайней мере внимание к уму, которое ставило у нас
богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости сих последних,
исчезло. Богатство и связи безраздельно захватили все внимание толпы,—
но тут в проигрыше, конечно, не таланты! Иногда корыстные ласки
меценатов балуют перо автора; иногда недостает собственной решимости
вырваться из бисерных сетей света,— но теперь свет с презрением отверг его
дары или допускает в свой круг не иначе, как с условием носить на себе
клеймо подобного, отрадного ему ничтожества; скрывать искру божества
как пятно, стыдиться доблести как порока! Уединение зовет его, душа
просит природы; богатое, нечерпанное лоно старины и мощного свежего
языка перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!
114
Однако ж такие чувства могут зародиться только в душах, куда заранее
брошены были семена учения и размышления, только в людях,
увлеченных случайным рассеянием, у которых есть к чему воротиться. Но таково
ли наше воспитание? Мы учимся припеваючи и оттого навсегда теряем
способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых
дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но
связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в
случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал;
а едва придет истинный возраст ума и учения, он уже в службе, уже он
деловой — и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету
ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником, оттого что
учеником в свое время не был.
Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом
отечество, гибнут, дремля душой, в вихре модного ничтожества, мелькают по
земле, как пролетная тень облака. Да и что в прозаическом нашем быту,
на безлюдье сильных характеров, может разбудить душу, что заставит
себя почувствовать? Наша жизнь — бестенная китайская живопись, наш
свет — гроб повапленный!
Так ли жили, так ли изучались просветители народов? Нет! В тишине
затворничества зрели их думы. Тернового стезей лишений пробивались
они к совершенству. Конечно, слава не всегда летит об руку с гением;
часто современники гнали, не понимая их; но звезда будущей славы
согревала рвение и озаряла для них мрак минувшего, которое вопрошали они,
чтобы разгадать современное и научить потомство. Правда, и они прошли
через свет, и они имели страсти людей: зато имели и взор наблюдателей.
Они выкупили свои проступки упроченною опытностию и глубоким
познанием сердца человеческого. Не общество увлекло их, но они повлекли
за собой общества. Римлянин Альфиери, неизмеримый Байрон гордо
сбросили с себя золотые цепи фортуны, презрели всеми заманками большого
света — зато целый свет под ними, и вечный день славы — их наследие!!
Но кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизни
нашей, кроме многосторонности и безличия самого учения (quand тете) !,
которое во все мешается, все смешивает и ничего не извлекает,— нас
одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-
стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в
тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем
писать прямо по-русски? Бог весть! До сих пор, по крайней мере, наша
муза остается невестою-невидимкою. Конечно, можно утешиться тем,
что мало потери — так или сяк пишут сотни чужестранных и
междоусобных подражателей; но я говорю для людей с талантом, которые позволяют
себя водить на помочах.
Оглядываясь назад, можно век назади остаться, ибо время с каждой
минутой разводит нас с образцами. Притом все образцовые дарования
1 Во что бы то ни стало (франц.)·
115
носят на себе отпечаток не только народа* но века и места, где жили они,
следовательно, подражать им рабски в других обстоятельствах
невозможно и неуместно. Творения знаменитых писателей должны быть только
мерою достоинства наших творений. [...]
«Избранные социально-политические и философские
произведения декабристов», т. 1, М., Госполитиздат,
1951, стр. 469-473.
О РОМАНТИЗМЕ
[...] Бытие и познание, равно как вещепознание, неразлучны. Но,
неразделимые по своей сущности, они могут быть двойственны по способам
наблюдения, то есть человек может созерцать природу или из себя ва
внешние предметы, или обратно от внешних предметов из себя. В первом
случае он более объемлет окрестную природу; во втором более углубляется
в свою собственную. Цель и свойство каждого наблюдения есть истина; но
и к познанию истины есть два средства. Первое, весьма ограниченное,—
опыт, другое, беспредельное,— воображение. Опыт постигает вещи каковы
они суть или какими быть должны, воображение творит их в себе каковы
они быть могут, и потому условие первого необходимость, границы его
мир — но условие второго возможность, и он беспределен, как сама
вселенная. [...] Но творческое воображение далеко опередило опыт, не имея
никаких данных. Оно облекло речи одеждой письма, оно вообразило
математическую точку, постигло делимость бесконечно-малых; извлекло общие
законы даже из отвлеченностей изящного, убедилось в беспредельности
миров за границею зрения и бессмертии духа, непостижимого чувствам.
Одним словом, воображение или, лучше сказать, мысль, от чувств
независимая, бесконечна; ибо равно невозможно определить, как далека она от
ничтожества и от совершенства, к которому стремится.
До сих пор мы говорили только о самобытности мысли в человеке. До
сих пор ее умозрения могли существовать, не проявляясь. Теперь
обратимся к обнаруженной воле, то есть действию, душа которого есть доброта,
ибо для чего иного, как не для достижения собственного или общего блага,
покидает человек покой бездействия? [...]
...Итак, действие или проявление мыслей может выразиться в разных
видах и формах. Все равно, будет ли оно облечено словами или музыкою,
краскою или движениями или деяниями. Но все образы вещественные
заключаются в известном пространстве. Все явления происходят, в известном
времени. Следственно, они ограниченны, они конечны. Всегда ли же
беспредельная мысль может вместиться в известные пределы выражения?
Конечно, нет. При этом представляются три случая: или выражение
превзойдет мысль, и тогда следствием того будет смешная надутость, пышность
оболочки, которая еще явнее выкажет нищету идеи, или мысль найдет
равносильное себе выражение, и тогда чем совершеннее будет союз их, тем
прекраснее, тем ощутительнее окажется достоинство обеих. Простота и
не
единство суть отличительные качества подобного выражения. Вид этот
я назову отражательностыо, потому что он как в зеркале передает мысль
производителя во всей полноте и со всеми ее оттенками, или наконец мысль
огромностию своею превысит объем выражения, в которое теснится, и
тогда она или должна расторгнуть форму, как порох орудия, или разлиться
как переполненный кубок, или вместиться во многие виды подобно соку
древесному, разлагающемуся в корень и кору, в стебли и листья, то
развитому цветом, то зреющему в плоде. Неясность и многосторонность
должны быть необходимыми спутниками такого слияния бесконечного с
конечным, утонченного с грубым. Назовем его идеальностью, потому что идея
или мысль превышает здесь свое выражение. Вот начало классицизма и
романтизма.
Цель наблюдения, сказали мы, есть истина, а душа действия —
доброта. Прибавим, что совершенное слияние той и другой есть изящное или
поэзия (здесь беру я поэзию не как науку, но как идею), неотъемлемым
качеством которой должно быть изобретение, творчество. Поэзия, объемля
всю природу, не подражает ей, но только ее средствами облекает идеалы
своего оригинального, творческого духа. Покорная общему закону
естества — движению, она, как необозримый поток, катится вдаль между
берегами того, что есть и чего быть не может; создает свой условный мир, свое
образцовое человечество, и каждый шаг к собственному
усовершенствованию открывает ей новый горизонт идеального совершенства. Требуя
только возможного, она является во всех видимых образах, но
преимущественно в совершеннейшем выражении мыслей в словесности.
Но там, где нет творчества,— нет поэзии, и вот почему науки
относительные, точные, и вообще всякое подражание природе и произведениям
людей даже случайной добродетели не входят в очаровательный круг
прекрасного, потому что в них нет или доброты в истине, или истины в
доброте. Например, в летописи заключается истина, но она не оживлена
нравоучительными уроками доблести. Картины Теньера верны без всякого
благородства. Подражание мяуканью может быть весьма точно, но какая
цель его? [...]
Мало-помалу туман, скрывающий границу между классическим и
романтическим, рассеивается. Эстетики определяют качества того и другого
рода. В самой России, правда, немногие, но зато истинно просвещенные
люди выхаживают права гражданства милому гостю романтизму. [...]
Там же, стр. 481—484.
П. Я. ЧААДАЕВ
1794—1856
Петр Яковлевич Чаадаев не оставил произведений, специально посвященных
проблемам эстетики. О взглядах Чаадаева на искусство, на его роль в жизни
человеческого общества мы можем судить лишь по отдельным высказываниям, вкрап-
117
ленным в его «Философические письма» и разбросанным в его переписке с
друзьями. Но эти отрывочные суждения Чаадаева образуют довольно стройную
систему взглядов, теснейшим образом связанную с его философскими воззрениями.
Интерес и симпатия, которые испытывал Чаадаев к философии немецких
философов-идеалистов, в особенности к философии Шеллинга, общеизвестны. И
публикуемые нами суждения Чаадаева об античном искусстве, в частности о поэзии
Гомера, одно из его «Философических писем», носящее подзаголовок «О зодчестве»,
казалось бы, вводят нас в мир эстетических суждений и представлений, весьма
характерных для эстетики немецкого идеализма и романтизма, причем в наиболее
консервативном ее варианте. Действительно, вот что пишет Чаадаев об античном
искусстве: «...оно было апофеозом материи» 1. Именно поэтому, как он полагает,
восхищение, которое мы испытываем, любуясь античной скульптурой, «вызывается
самой низменной стороной нашей природы... мы постигаем эти мраморные и
бронзовые тела, так сказать, нашим телом» 2.
Антитезой этому, по мысли Чаадаева, бездуховному искусству является
архитектура Древнего Египта и в особенности европейская средневековая готика.
Эти взгляды — обычная для романтизма антитеза «земного» и «небесного»
в искусстве. Однако вынести правильное суждение об эстетических воззрениях
Чаадаева можно, только учитывая своеобразие социально-этических его представлений,
только в связи с той своеобразной ролью, которую сыграли «Философические
письма» Чаадаева в идейной жизни русского общества 30-х годов XIX века.
Эпоха, наступившая после поражения восстания декабристов,
характеризовалась в России не только исключительной напряженностью идейных и духовных
исканий лучшей части русского общества, но и достаточно четкой поляризацией
противоположных этических концепций. С одной стороны — низкопоклонство и бес-
стыжество, казенный утилитаризм моральных представлений, основанный на
полном пренебрежении к ценности отдельно взятой человеческой личности и на
неприкрытом вожделении к «крестишку иль местечку». С другой,— повышенное чувство
личного достоинства и пренебрежение к «маленькой пользе» присутственных мест
и казарм, к утилитарной дидактике, которая в качестве главнейшего содержания
искусства прокламируется в эти годы Булгариным и Сенковским.
Занять ту или иную из этих двух нравственных позиций значило в 30-е годы
быть с николаевским режимом или противопоставить себя ему. Чаадаев выбрал
последнее. Он с большой чуткостью уловил стремление русской интеллигенции
к идейному и моральному самоопределению и подчинил этому стремлению всю свою
деятельность публициста и философа. «Заметили ли вы,—пишет в 1831 году Чаадаев
Пушкину,— что происходит нечто необычное в недрах морального мира, нечто
подобное тому, что происходит, говорят, в недрах мира физического?.. Мне
сдается, что это готовый материал для поэзии — этот великий переворот в вещах... Разве
есть какая-нибудь возможность не быть затронутым в задушевнейших своих
чувствах среди этого всеобщего столкновения всех начал человеческой природы?» 3
1 П. Я. Чаадаев, Сочинения и письма, т. II, М., 1914, стр. 157.
2 Τ ам же.
8 Τ а м же, стр. 178.
118
Чаадаев, видевший характерные черты современного русского общества в
«глуповатом благополучии» и «блаженном самодовольстве», отводил искусству огромную
роль в пробуждении у современников нравственного чувства, в их движении по
пути социального прогресса. «Одна из главных причин, замедляющих у нас
прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения искусства в нашей домашней
жизни» *»,— писал он в одном из «Философических писем».
Именно максимализм Чаадаева в оценке возможностей искусства в
формировании важнейших основ «нравственного бытия» человека диктует ему строгие,
осуждающие строки о современной «легковесной литературе», о «произведениях
последнего дня» с их безмыслием и примитивной дидактикой, «в которых все
обещает, ничего не выполняя, где все принимает сомнительную или лживую окраску
и все вместе оставляет после себя пустоту и неопределенность» 2. С этих же
позиций осуждает он и античное искусство, в частности гомеровскую поэзию, «необычно
снисходительную к порочности нашей природы» и ослабляющую, по мнению
Чаадаева, «силу разума».
Отрицая силу нравственного воздействия произведений античного искусства,
Чаадаев, разумеется, глубоко заблуждался. Здесь он исходил из преувеличенного
ригоризма идеалистической этики, отождествляя низменное и материальное. Его
суждения об аморализме античной традиции в искусстве опровергаются, в
частности, практикой современной ему русской поэзии, антологическими
стихотворениями Батюшкова и Пушкина, по-своему служившими эмансипации человеческой
личности и ее нравственному самоопределению. Однако, сурово осуждая языческое,
«земное» начало в искусстве, в частности в архитектуре, Чаадаев упорно говорит
не только об античной древности, но и о «производных греческого стиля». Одним из
таких «производных» была во времена Чаадаева помпезная ампирная архитектура,
выражавшая по-своему официальное стремление в николаевской «империи фасадов»
к внешней импозантности при полном отсутствии внутреннего содержания. Не
лишено вероятности, что в нападках Чаадаева на «производные греческого стиля»
в архитектуре отразилась и его неприязнь к казенному ампиру.
Суждения Чаадаева о «прекрасной бесполезности» искусства можно
сопоставить не только с эстетическими концепциями немецкого классического идеализма.
Ненависть Чаадаева к благонамеренному утилитаризму и дидактизму в
искусстве находит себе также аналогию в выступлениях ссыльных декабристов
А. Одоевского и В. Кюхельбекера против рассуждений Булгарина и Сен-
ковского о полезности искусства как едва ли не важнейшем из эстетических
критериев. Пафос этих размышлений Чаадаева перекликается также и с
художнической позицией Пушкина этих лет, презиравшего попытки оценить «на вес» «кумир
Бельведерский». Все это делает необходимым для нас, не игнорируя
идеалистических заблуждений Чаадаева, оценивать его эстетические взгляды в соответствии
с той сложной и противоречивой ролью, которую мы можем отвести им в общей
картине идейной борьбы в России 30-х годов XIX века.
1 «Литературное наследство», т. 22—24, М., 1935, стр. 21.
2 Τ а м ж е, стр. 22.
119
По словам исследователя творчества Чаадаева, М. Гершензона, Чаадаев —
«философ-поэт: в железной и вместе свободной последовательности его умозаключений
столько сдержанной страсти, такая чудесная экономия сил, что и помимо
множества блестящих характеристик и художественных эпитетов, за один этот строгий
пафос мысли его «Философические письма» должны быть отнесены к области
словесного творчества наравне с пушкинской элегией или повестью Толстого. Чаадаев
любил готический стиль: его философия — словесная готика. Во всемирной
литературе немного найдется произведений, где так ясно чувствовались бы стихийность
и вместе гармоничность человеческой логики» К
Через несколько лет после этого поэт Осип Мандельштам тонко
охарактеризовал эстетическую суть личности и творчества Чаадаева: «След, оставленный
Чаадаевым в сознании русского общества,— такой глубокий и неизгладимый, что
невольно возникает вопрос: уж не алмазом ли проведен он по стеклу? Это тем более
замечательно, что Чаадаев не был деятелем: профессиональным писателем или
трибуном. По всему своему складу он был «частный» человек, что называется «priva-
tier». Но, как бы сознавая, что его личность не принадлежит ему, а должна перейти
в потомство, он относился к ней с некоторым смирением: что бы он ни делал,—
казалось, что он служил, священнодействовал.
Все те свойства, которых была лишена русская жизнь, о которых она даже
не подозревала, как нарочно соединялись в личности Чаадаева: огромная
внутренняя дисциплина, высокий интеллектуализм, нравственная архитектоника и холод
маски, медали, которым окружает себя человек, сознавая, что в веках он — только
форма, и заранее подготовляя слепок для своего бессмертия» 2.
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА
Письмо третье
[...] Если в потоке времен мы, наравне с другими, будем видеть только
деятельность человеческого разума и проявления совершенно свободной
воли, то, сколько бы мы ни нагромождали фактов в нашем уме и с каким
бы тонким искусством ни выводили их одни из других, мы не найдем
в истории того, что ищем. В этом случае она всегда будет представляться
нам той самой человеческой игрой, какую люди видели в ней во все
времена. Она останется для нас по-прежнему той динамической и
психологической историей, о которой я вам говорил недавно, которая стремится
все объяснять личностью и воображаемым сцеплением причин и следствий,
человеческими фантазиями и мнимо-неизбежными следствиями этих
фантазий и которая таким образом предоставляет человеческий разум его
собственному закону, не постигая того, что именно в силу бесконечного
превосходства этой части природы над всей остальною действие высшего закона
необходимо должно быть здесь еще более очевидным, чем там.
1 М. Гершензон, П. Я. Чаадаев, Жизнь и мышление, Спб., 1908, стр. 75—76.
2 «Аполлон», 1915, № 6—7, стр. 57.
220
Чтобы не остаться голословным, я приведу вам, сударыня, один из
самых разительных примеров ложности некоторых ходячих исторических
воззрений. Вы знаете, что искусство сделалось одной из величайших идей
человеческого ума благодаря грекам. Посмотрим же, в чем состоит это
великолепное создание их гения. Все, что есть материального в человеке,
было идеализировано, возвеличено, обожествлено; естественный и
законный порядок был извращен; то, что по своему происхождению должно было
занимать низшую сферу духовного бытия, было возведено на уровень
высших помыслов человека; действие чувств на ум было усилено до
бесконечности, и великая разграничительная черта, отделяющая в разуме
божественное от человеческого, была нарушена. Отсюда хаотическое смешение
всех нравственных элементов. Ум устремился на предметы, наименее
достойные его внимания, с такой же страстью, как и на те, познать которые
для него всего важнее. Все области мышления сделались равно
привлекательными. Вместо первобытной поэзии разума и правды чувственная и
лживая поэзия проникла в воображение, и эта мощная способность,
созданная для того, чтобы мы могли представлять себе лишенное образа и
созерцать незримое, стала с тех пор служить лишь для того, чтобы делать
осязаемое еще более осязательным и земное еще более земным; в
результате наше физическое существо выросло настолько же, насколько наше
нравственное существо умалилось. И хотя мудрецы, как Пифагор и
Платон, боролись с этой пагубной наклонностью духа своего времени, будучи
сами более или менее заражены им, но их усилия не привели ни к чему,
и лишь после того, как человеческий дух был обновлен христианством, их
доктрины дриобрели действительное влияние. Итак, вот что сделало
искусство греков: оно было апофеозом материи,— этого нельзя отрицать.
Что же, так ли был понят этот факт? Далеко нет. На дошедшие до нас
памятники этого искусства смотрят,— не понимая их значения;
услаждают себя зрелищем этих дивных вдохновений гения, которого, к счастью,
более нет на земле,— даже не подозревая нечистых чувств, рождающихся
при этом в сердце, и лживых помыслов, возникающих в уме; это какое-то
поклонение, опьянение, очарование, в котором нравственное чувство
гибнет без остатка. Между тем достаточно было бы хладнокровно отдать себе
отчет в том чувстве, которым бываешь полон, когда предаешься этому
нелепому восхищению, чтобы понять, что это чувство вызывается самой
низменной стороной нашей природы, что мы постигаем эти мраморные и
бронзовые тела, так сказать, нашим телом. Заметьте притом, что вся
красота, все совершенство этих фигур происходят исключительно от
полнейшей тупости, которую они выражают: стоило бы только проблеску разума
проявиться в их чертах, и пленяющий нас идеал мгновенно исчез бы.
Следовательно, мы созерцаем даже не образ разумного существа, но какое-
то человекоподобное животное, существо вымышленное, своего рода
чудовище, порожденное самым необузданным разгулом ума,— чудовище,
изображение которого не должно было бы доставлять нам удовольствие,
но, скорее, должно было бы нас отталкивать. Итак, вот каким образом
121
самые важные факты исторической философии искажены или затемнены
предрассудком,— теми школьными привычками, той рутиной мысли и той
прелестью обманчивых иллюзий, которыми и обусловливаются обыденные
исторические воззрения.
Вы спросите меня, может быть, всегда ли я сам был чужд этим
обольщениям искусства? Нет, сударыня, напротив. Прежде даже, чем я их
познал, какой-то неведомый инстинкт заставлял меня предчувствовать их
как сладостные очарования, которые должны наполнить мою жизнь. Когда
же одно из великих событий нашего века привело меня в столицу, где
завоевание собрало в короткое время так много чудес,— со мной было то же,
что с другими, и я даже с большим благоговением бросал мой фимиам на
алтари кумиров. Потом, когда я во второй раз увидал их при свете их
родного солнца, я снова наслаждался ими с упоением. Но надо сказать
правду,— на дне этого наслаждения всегда оставалось что-то горькое, подобное
угрызению совести; поэтому, когда понятие об истине озарило меня, я не
противился ни одному из выводов, которые из него вытекали, но принял
их все тотчас же без уверток. [...]
П. Я. Чаадаев, Сочинения и письма. Под ред. М. Гер-
шензона, т. II, М., 1913, стр. 154—158. Подлинник на
французском языке.
Нам остается еще только Гомер. В настоящее время вопрос о том
влиянии, которое Гомер оказал на человеческий ум, не оставляет больше
сомнений. Мы отлично знаем, что такое гомеровская поэзия; мы знаем,
каким образом она содействовала определению греческого характера, в свою
очередь определившего характер всего древнего мира; мы знаем, что эта
поэзия явилась на смену другой, более возвышенной и более чистой, от
которой до нас дошли только обрывки. Мы знаем также, что она ввела
новый порядок идей на место прежнего, выросшего не на греческой почве,
и что эти первоначальные идеи, отвергнутые новым мышлением и
нашедшие себе убежище частью в мистериях Самофракии, частью под сенью
других святилищ забытых истин, продолжали существовать с тех пор лишь
для небольшого числа избранных или посвященных 1; но чего, мне
кажется, мы не знаем, это той общей связи, которая существует между Гомером
и нашим временем, того, что до сих пор уцелело от него в мировом
сознании. Между тем в этом, собственно, и заключается весь интерес настоящей
философии истории, так как главная цель ее исследований состоит, как вы
видели, в отыскании постоянных результатов и вечных последствий
исторических явлений.
1 Влияние гомеровской поэзии естественно сливается с влиянием греческого
искусства, так как она представляет собою прообраз последнего; другими словами,
поэзия создала искусство, которое продолжало влиять в том же направлении.
Вопрос о том, существовал ли когда-нибудь Гомер как личность, для нас совершенно
безразличен; историческая критика никогда не будет в состоянии изгладить память
Гомера, философа же должна занимать только идея, связанная с этой памятью,
а не самая личность поэта.
122
Итак, для нас Гомер в современном мире остается все тем же Тифоном
или Ариманом, каким он был в мире, им самим созданном. На наш взгляд,
гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное
пристрастие к земле—все это заимствовано нами у него. Заметьте, что ничего
подобного никогда не наблюдалось в других цивилизованных обществах
мира. Одни только греки решились таким образом идеализировать и
обоготворять порок и преступление, так что поэзия зла существовала только
у них и у народов, унаследовавших их цивилизацию. По истории средних
веков можно ясно видеть, какое направление приняла бы мысль
христианских народов, если бы она всецело отдалась руке, которая ее вела.
Следовательно, эта поэзия не могла прийти к нам от наших северных предков:
ум людей Севера отличался совсем другим складом и менее всего был
склонен прилепляться к земному; если бы он один сочетался с христианством,
то вместо того, что произошло, он, скорее, потерялся бы в туманной
неопределенности своего мечтательного воображения. Впрочем, от крови, которая
текла в их жилах, у нас уже ничего не осталось, и мы учимся жить не
у народов, описанных Цезарем и Тацитом, а у тех, которые составляли
мир Гомера.
Лишь с недавнего времени поворот к нашему собственному прошлому
снова приводит нас понемногу на лоно родной семьи и позволяет нам мало-
помалу восстановить отцовское наследие. Мы унаследовали от народов
Севера одни лишь привычки и традиции; ум же питается только знанием;
наиболее застарелые привычки утрачиваются, наиболее укоренившиеся
традиции изглаживаются, если они не связаны со знанием. Между тем все
наши идеи, за исключением религиозных, мы несомненно получили от
греков и римлян.
Таким образом гомеровская поэзия, отвратив сперва на древнем Западе
ход человеческой мысли от воспоминаний о великих днях творения,
сделала то же и с новым; перейдя к нам вместе с наукой, философией и
литературой древних, она до такой степени заставила нас слиться с ними, что
в настоящее время, при всем том, чего мы достигли, мы все еще
колеблемся между миром лжи и миром истины. Хотя в наши дни Гомером
занимаются очень мало и, наверное, его не читают, его боги и герои тем не
менее все еще оспаривают почву у христианской мысли. Дело в том, что
в этой глубоко земной, глубоко материальной поэзии, необычайно
снисходительной к порочности нашей природы, действительно заключается какое-
то удивительное обаяние; она ослабляет силу разума, своими призраками
и обольщениями держит его в каком-то тупом оцепенении, убаюкивает
и усыпляет его своими мощными иллюзиями. И до тех пор, пока глубокое
нравственное чувство, порожденное ясным пониманием всей древности
и всецелым подчинением ума христианской истине, не наполнит наши
сердца презрением и отвращением к этим векам обмана и безумия, которые
до сих пор в такой степени владеют нами, к этим настоящим сатурналиям
в жизни человечества,— пока своего рода сознательное раскаяние не
заставит нас стыдиться того бессмысленного поклонения которое мы
слитка?
ком долго расточали этому гнусному величию, этой ужасной добродетели,
этой нечистой красоте,— до тех пор старые дурные впечатления не
перестанут составлять самый жизненный и деятельный элемент нашего разума.
Что касается меня, то, по моему мнению, для того чтобы нам вполне
переродиться в духе откровения, мы должны еще пройти через какое-нибудь
великое испытание, через всесильное искупление, которое весь
христианский мир испытал бы во всей его полноте, которое на всей земной
поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не
представляю себе, каким образом мы могли бы очиститься от грязи, еще
оскверняющей нашу память К Итак, вот как философия истории должна
понимать гомеризм. Судите теперь, какими глазами должна она смотреть
на личность Гомера. Подумайте, не обязана ли она ввиду этого по совести
наложить на его чело клеймо неизгладимого позора! [...]
Там же, стр. 167—170.
Письмо четвертое
Вы находите, по вашим словам, какую-то особенную связь между духом
египетской архитектуры и духом архитектуры немецкой, которую
обыкновенно называют готической, и вы спрашиваете меня, откуда эта связь, то
есть что может быть общего между пирамидою фараона и стрельчатым
сводом, между каирским обелиском и шпилем западноевропейского храма?
Действительно, как ни удалены друг от друга эти два фазиса искусства
промежутком более чем в тридцать веков, между ними есть разительное
сходство, и я не удивляюсь, что вам пришло на мысль это любопытное
сближение, так как оно до известной степени неизбежно вытекает из той
точки зрения, с которой мы с вами условились рассматривать историю
человечества. И прежде всего в отношении пластической природы этих
двух стилей, их внешней формы, обратите внимание на эту
геометрическую фигуру,— треугольник,— которая вмещает в себе и так хорошо
очерчивает и тот и другой. Заметьте, далее, общий опять-таки обоим характер
бесполезности или, вернее, простой монументальности. Именно в нем, по-
моему,— их глубочайшая идея, то, что в основе составляет их общий дух.
Но вот что особенно любопытно. Сопоставьте вертикальную линию,
характеризующую эти два стиля, с горизонтальной, лежащей в основе
эллинского зодчества,— и вы тем самым вполне определили все разнообразные
архитектурные стили всех времен и всех стран. И эта огромная антитеза
сразу укажет вам глубочайшую черту всякой эпохи и всякой страны, где
1 Для нашего времени положительным счастьем является вновь открытая с
недавних пор историческому мышлению область, не зараженная гомеризмом.
Влияние идей Индии уже сказывается на ходе развития философии чрезвычайно
благотворным образом. Дай бог, чтобы мы возможно скорее пришли этим кружным
путем к той цели, к которой более короткий путь до сих пор не мог нас привести.
124
только она обнаруживается. В греческом стиле, как и во всех более или
менее приближающихся к нему, вы откроете чувство оседлости,
домовитости, привязанность к земле и ее утехам, в египетском и готическом —
монументальность, мысль, порыв к небу и его блаженству; греческий стиль
со всеми производными от него оказывается выражением материальных
потребностей человека, вторые два—выражением его нравственных нужд;
другими словами, пирамидальная архитектура является чем-то священным,
небесным, горизонтальная же — человеческим и земным. Скажите, не
воплощается ли здесь вся история человеческой мысли, сначала
устремленной к небу в своем природном целомудрии, потом, в период своего
растления, пресмыкавшейся в прахе и, наконец, снова кинутой к небу
всесильной десницей Спасителя мира!
Надо заметить, что архитектура, еще ныне зримая на берегах Нила,—
без сомнения старейшая в мире. Есть, правда, древность еще более
отдаленная, но не для искусства. Так, циклопические постройки, и в том числе
индийские, наиболее обширные в этом роде, представляют собою лишь
первые проблески идеи искусства, а не произведения искусства в
собственном смысле слова. Поэтому с полным правом можно утверждать, что
египетские памятники содержат в себе первообразы архитектонической
красоты и первые элементы искусства вообще. Таким образом, египетское
искусство и готическое искусство действительно стоят на обоих концах
пути, пройденного человечеством, и в этом тождестве его начальной идеи
с тою, которая определяет его конечные судьбы, нельзя не видеть дивный
круг, объемлющий все протекшие, а может быть, и все грядущие времена.
Но среди разнообразных форм, в которые попеременно облекалось
искусство, есть одна, заслуживающая, с нашей точки зрения, особенного
внимания, именно готическая башня, высокое создание строгого и
вдумчивого северного христианства, как бы целиком воплотившее в себе основную
мысль христианства. Достаточно будет немногих слов, чтобы уяснить вам
ее значение в области искусства. Вы знаете, как прозрачная атмосфера
полуденных стран, их чистое небо и даже их бесцветная растительность
способствуют рельефности очертаний греческих и римских памятников.
Прибавьте сюда этот рой прелестных воспоминаний, которые витают и
группируются вокруг них и окружают их таким ореолом и столькими
иллюзиями,— и вы получите все элементы, составляющие их поэзию.
Но готическая башня, не имеющая другой истории, кроме темного
предания, которое старая бабушка рассказывает внучкам у камелька, столь
одинокая и печальная, ничего не заимствующая от окружающего,— откуда
ее поэзия? Вокруг нее — только лачуги да облака, ничего больше. Все ее
очарование, значит, в ней самой. Это, мнится,— сильная и прекрасная
мысль, одиноко рвущаяся к небесам, не обыденная земная идея, а
чудесное откровение, без причины и задатков на земле, увлекающее вас из
этого мира и переносящее в лучший мир.
Наконец, вот черта, которая окончательно выразит нашу мысль.
Колоссы Нила, так же как и западные храмы, кажутся нам сначала простыми
125
украшениями. Невольно спрашиваешь себя: к чему они? Но,
присмотревшись ближе, вы заметите, что совершенно так же обстоит дело и с
красотами природы. В самом деле: вид звездного небосвода, бурного океана,
цепи гор, покрытых вечными льдами, африканская пальма, качающаяся
в пустыне, английский дуб, отражающийся в озере,— все наиболее
величественные картины природы, как и изящнейшие ее произведения, точно
так же сначала не будят в уме никакой мысли о пользе, вызывают в
первую минуту лишь совершенно бескорыстные мысли; между тем в них есть
полезность, но на первый взгляд она не видна и только позднее
открывается размышлению. Так и обелиск, не дающий даже достаточно тени,
чтобы на минуту укрыть вас от зноя почти тропического солнца, не служит
ни к чему, но заставляет вас поднять взор к небу; так великий храм
христианского мира, когда в час сумерек вы блуждаете под его огромными
сводами и глубокие тени уже наполнили весь корабль, а стекла купола еще
горят последними лучами заходящего солнца, более удивляет вас, чем
чарует своими нечеловеческими размерами; но эти размеры показывают вам,
что человеческому созданию было дано однажды для прославления бога
возвыситься до величия самой природы \ Наконец, когда тихим летним
вечером, идя вдоль долины Рейна, вы приближаетесь к одному из этих
старинных средневековых городов, смиренно простершихся у подножья
своего колоссального собора, и диск луны в тумане реет над верхушкой
гиганта,— зачем этот гигант перед вами? Но, может быть, он навеет на вас
какое-нибудь благочестивое и глубокое мечтание; может быть, вы с новым
жаром падете ниц перед богом этой могучей поэзии; может быть, наконец,
светозарный луч, исходящий от вершины памятника, пронижет
окружающий вас мрак и, осветив внезапно путь, вами пройденный, изгладит
темный след былых ошибок и заблуждений! Вот почему стоит перед вами
этот гигант.
А после этого идите в Пестум и отдайте себе отчет во впечатлении,
которое он производит на вас. Вот что с вами случится: вся изнеженность,
все соблазны языческого мира, приняв самые обольстительные свои
формы, внезапно встанут толпой вокруг вас и опутают вас своей
фантастической сетью; все воспоминания о ваших безумнейших утехах, о самых
пламенных ваших порывах проснутся в ваших чувствах, и тогда, забыв
ваши искреннейшие верования и задушевнейшие убеждения, вы помимо
собственной воли будете всеми фибрами вашего земного существа обожать
те нечистые силы, которым так долго в опьянении своего тела и души
поклонялся человек. Ибо и прекраснейший из греческих храмов не говорит
нам о небе; приятное чувство, которое внушают нам его прекрасные
пропорции, имеет целью лишь заставить нас полнее вкушать земные
наслаждения; храмы древних представляли собою, в сущности, не что иное, как
1 Мы с умыслом причислили собор св. Петра в Риме к готическим храмам, ибо,
на наш взгляд, они хотя и составлены из разных элементов, но порождены одним
и тем же началом и носят на себе его печать.
126
прекрасные жилища, которые они строили для своих героев, ставших
богами, тогда как наши церкви являются настоящими религиозными
памятниками. И потому лично я испытал, дризнаюсь, в тысячу раз больше
счастия у подножья Страсбургского собора, нежели пред Пантеоном или
даже внутри Колизея, этого внушительного свидетеля двух величайших
слав человечества: владычества Рима и рождения христианства. Госпожа
Сталь сказала как-то, говоря о музыке, что она одна отличается
прекрасной бесполезностью и что именно поэтому она так глубоко волнует нас 1.
Вот наша мысль, выраженная на языке гения; мы только проследили
в другой области тот же принцип. В общем несомненно, что красота и
добро исходят из одного источника и подчиняются одному и тому же закону,
что они являются таковыми лишь в еилу своей бескорыстности, что,
наконец, история искусства — не что иное, как символическая история
человечества.
Τ а м ж е, стр. 172—176.
О. м. СОМОВ
1793-1833
Орест Михайлович Сомов, близкий декабризму литератор, учился в
Харьковском университете. Начал печататься в 1816 году. В 1824—1826 годах он служил
в Главном правлении Российско-американской компании, где правителем
канцелярии был К. Ф. Рылеев, с которым, как и с декабристом А. Бестужевым (Марлин-
ским), Сомов находился в дружеских отношениях. После 14 декабря был
арестован по подозрению в принадлежности к декабристским тайным обществам и
участии в мятеже, но отпущен за недостаточностью улик.
Литературная деятельность Сомова была чрезвычайно интенсивной: он
участвовал едва ли не в большинстве тогдашних литературных журналов, выступая как
поэт, переводчик (он знал несколько европейских языков) и критик.
Работа Сомова «О романтической поэзии» вышла в свет в 1823 году.
Приводимые из нее отрывки характеризуют Сомова как критика окостеневшего
придворного классицизма. Он полемизировал с французской традицией в русской
литературе и эстетике, хотя и здесь использовал для обоснования идеи народности
литературы классицистическую идею «подражания»: «природа и человек, прошедшее
и настоящее говорят поэту: выбирай и твори» 2, «поэзия требует свободы, требует
1 Далее конец этого письма в «Телескопе» (1832, № 11, стр. 354) был
напечатан так: «И в сей-то мысли, как и во всем, мною выше сказанном, бесполезность
есть безличность; а ею все доброе и все изящное связываются и соединяются
в нравственном мире». (Прим. М. Гершензона.— См. Μ. Г ершен зон, П. Я.
Чаадаев. Жизнь и мышление, Спб., 1908, стр. 278).
2 «Труды Вольного общества любителей российской словесности», 1823» ч. XXIV,
стр. 135.
127
порывов смелых, управляемых только вкусом верным и строгим» 1. Но не менее
категорически Сомов возражал против подчинения новым романтическим канонам,
новым «узам». Сомов требовал народной, самобытной поэзии, литературы,
искусства, которые бы подчинялись всеобщим законам художественного творчества
и были бы свободны от стеснений заранее выработанными канонами. Таким
образом, Сомов выступал как единомышленник Рылеева и Кюхельбекера.
Нельзя не отметить терминологической неясности в понятиях «идеи» и
«формы» у Сомова. Но общая направленность его полемики состоит в защите
классицистической теории связи искусства с действительностью и борьбе с романтической
концепцией первичности, независимости идеи художника от действительности.
В этой связи Сомов развивал и классицистические идеи перевода «природных»
материалов в художественный образ посредством «усовершенствования» природы.
В развернутой рецензии на «Опыт науки изящного» А. И. Галича2 Сомов
выражал несогласие с объективно-идеалистическим определением понятия
«прекрасного творения». Сомов писал, что «человек... не может иначе представить себе
сей первообразной, верховной мысли (idée absolute), как по составленным им себе
понятиям об аналогии ее с ощутительными предметами и формами, а потому и
произведение его, как отблеск сего представления, подчиняется всегда законам и
формам природы, в известной степени усовершенствованным. Следовательно, и теория
изящных искусств не столько должна основываться на умствованиях
отвлеченных, сколько на законах самой природы, отсвечивающейся или возрождаемой
в произведениях сих искусства» 3.
О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Мы пленены, очарованы стихотворением, которое при строгом разборе
представляет нам явное нарушение многих правил, требуемых
приверженцами поэзии классической. Что же составляет эту безусловную прелесть
поэзии? — Вопрос затруднительный; но почему ж не попытаться отвечать
на него? Мне кажется, что сия прелесть состоит в новости, неожиданности
мыслей, картин, положений драматических и выражений, которыми поэт
тем сильнее поражает наше воображение, чем менее мы были к ним
приготовлены. В поэзии классической, принимая ее в том смысле, как
французы ее разумеют, мы почти наперед угадываем, какие пособия употребит
стихотворец, чтобы нас растрогать или убедить. Посему впечатления, ею
производимые, скользят на нашем воображении, не оставляя по себе
следов глубоких, ибо они подчинены холодной критике ума, с которой мы
следуем за писателем.
1 «Труды Вольного общества любителей российской словесности», 1823, ч. XXIV,
стр. 145.
2 До сих пор автор этой рецензии в журнале «Сын отечества» (1825, ч. СШ,
стр. 472) не был установлен. Многие данные свидетельствуют о том, что она была
написана О. Сомовым.
8 «Сын отечества», 1826, ч. 107, стр. 172—173.
128
[...] Странно, что французы, одаренные пламенным воображением и
страстные к свободе, подчинились в искусствах раболепным условиям
и считают отступление от них за дерзкое нарушение идеальной красоты и
совершенства. Причина тому, может быть, что у сего народа правила
предшествовали образцам. С тех пор как Буало издал свой стихотворный
Кодекс для стихотворцев, всякий школьник считает себя вправе судить
и рядить по оному.
«Труды Вольного общества любителей российской
словесности», Спб., 1823, ч. ХХШ, стр. 45—47.
[...] Теперь, кажется, французы сами почувствовали тесноту пределов
своей поэзии и происходящую от того бледность и однообразность их
стихотворных произведений. Они начали переводить Шекспира и других
английских романтических поэтов.
Там же, стр. 58.
[...] Словесность народа есть говорящая картина его нравов, обычаев и
образа жизни. В каждом писателе, особливо в стихотворце, как бы невольно
пробиваются черты народные.
«Труды Вольного общества любителей российской
словесности», Спб., 1823, ч. XXIV, стр. 125.
[...] Поэзия требует свободы, требует порывов смелых, управляемых
только вкусом верным и строгим; а подражатель есть раб своего образца.
Скажу откровеннее: он есть дурной слепок с его прекрасного образца,
которого формы, естественные и благородные, упорно противились
усилиям руки неискусной.
[...] Может ли поэзия сделаться народною, когда в ней мы отдаляемся
от нравов, понятий и образа мыслей наших единоземцев? Лучшие строфы
поэмы Тассовой поются в Италии гондолыциками; испанцы и португальцы
всякого звания вытверживают многие стихи Кальдерона и Камоэнса;
простой народ в Англии любит Шекспира и восхищается им; стихотворения
Гёте и Бюргера отзываются во всех концах Германии. Но трагедии Корне-
ля и Расина почти неизвестны в народе французском: только жители
столицы или люди, получившие образование, восхищаются ими. Причина
ясна: он не в духе народа; имена героев ему чужды, отдалены веками,
а характеры их, будучи основаны на некоторых условных приличиях,
выходят за сферу понятий человека простого, необразованного. Самый
язык их, язык двора и высших сословий, едва ли понятен для народа.
Можем ли мы думать, чтобы тоскливые немцеобразные рапсодии
нынешних наших томительных тружеников по Аполлону понравились и
заронились в память русскому народу, живому и пылкому, одаренному
чувствительностью естественной, непритворной?
Мы восстаем против поэзии классической новых времен, хотим
расторгнуть границы, коими [она] стесняет воображение, и добровольно
подчиняемся новым условиям, налагаем на себя новые узы.
5 «История эстетики»г т.. 4 (1 полутом) 129
[...] Вместе с сим намерение мое было показать, что народу русскому,
славному воинскими и гражданскими добродетелями, грозному силою \\
великодушному в победах, населяющему царство обширнейшее в мире,
богатое природою и воспоминаниями, необходимо иметь свою народную
поэзию, не подражательную и независимую от преданий чуждых.
[...] Пусть в их песнях высоких отсвечиваются, как в чистом потоке,
дух народа и свойства языка богатого и великолепного, способного в
самых звуках передавать и громы победные, и борение стихии, и пылкие
порывы страстей необузданных, и молчаливое томление любви
безнадежной, и клики радости, и унылые отзывы скорби.
[...] Не должно заключать поэта в пределы мест и событий, но
предоставить ему полную свободу выбора и изложения, и вот, мне кажется,
первейшая цель поэзии, которую мы называем романтической.
Там же, стр. 143—147, 156.
КОРОТКИЙ ОТВЕТ НА ДЛИННУЮ АНТИКРИТИКУ
И что же такое есть идея художника? По моему мнению, она есть
усовершенствование сообразно понятиям художника предметов,
существующих в природе. Посему идея есть последствие форм видимых и
ощутительных, и новость и прелесть ее зависит от особого сочетания тех же самых
форм. [...]
«Сын отечества», 1S25, ч. СИ, стр. 99—100.
[...] Сказав, что художник творит безусловно свою идею красоты, вы,
кажется, хотите уверить других, что идея художника существовала
прежде форм, в природе находящихся. Я признаюсь, что это для меня и в самом
деле непонятно. Я думал, поверяя собственными своими чувствами и
понятиями читанное и слышанное мною, что воображение человека имеет свои
границы, что если оно иногда и творит чудовища, несуществующие в
природе, то составляет их из частей или, если хотите, форм частных,
действительно в природе находящихся. Таким образом создало оно Химеру,
Сфинкса, Кентавра, Минотавра, Иппогрифа и т. п. Составные части сих
мечтательных существ суть те ж руки, ноги человечьи, или птичьи головы,
крылья, змеиные хвосты и проч. и проч., следовательно, формы,
подлежащие нашим чувствам. Иначе воображение ничего не может сотворить,
ничего изобрести небывалого: область природы столь обширна и
разнообразна, что в ней есть все, что самое затейливое воображение может
придумать. [...]
Существовали ли в природе формы, по которым воображение
художника создало свой идеал? Существовали ль образцы красоты женской и
мужской... прежде, нежели творческий ум совокупил их в одно, дал им
еще высшие совершенства (N3 не выходя из пределов, предписываемых
130
природой) и явил нам Венеру Медицейскую, Антиноя и Аполлона Бель-
ведерского? Я говорю, что формы сии существовали, что по ним
составился идеал художника, который в воображении своем и в выполнении
вещественном еще более их сгладил и усовершенствовал и таким образом создал
образцовые свои произведения. Иначе и быть не могло: сотворить что-либо
вне природы или по крайней мере несходное с каким-либо из предметов
чувственных есть физически невозможное для человека даже с самым
пылким воображением, с самым изобретательным умом... Кто же после
этого согласится с вами, что художник творит свою идею красоты
безусловно? [...]
«Сын отечества», 1825, ч. GUI, стр. 470—471, 472—473,
475.
Е. А. БАРАТЫНСКИЙ
1800-1844
Евгений Абрамович Баратынский вошел в русскую поэзию как признанный
поэт мысли, ярче всего проявивший себя в философской лирике.
На необходимости такой лирики, «поэзии мысли», особенно настаивали
любомудры. Выдвинутые ими темы, такие, как противостояние поэта и общества,
антиномия мечты и действительности, и другие, предполагали определенное решение
в духе философии Шеллинга. Для Баратынского эти же темы отражали некое
диалектическое соотношение, присущее явлениям действительности, являлись не
философской, а жизненной темой. В стихотворении «Все мысль да мысль!..»
(внетрадиционном по теме, отражающем личное убеждение Баратынского) поэт
назван жрецом мысли, но не в смысле исповедания божественных истин, а потому,
что в мысли заключается весь мир в его противоречиях.
В своих поэмах Баратынский ищет пути для реалистического изображения
жизни. В предисловиях к «Эде» и «Наложнице» — двух основных критических
опытах Баратынского — речь идет о допустимости изображать те или иные явления
жизни с поэтической и нравственной точки зрения. В «Эде» задача его состоит
в том, чтобы сделать поэтическим «обыкновенное» (которое означает также
внимание к деталям быта), включить его наравне с необыкновенным в арсенал
романтических средств. В предисловии к «Наложнице» Баратынский защищает
утвердившееся к этому времени в романтизме изображение «низких» сторон
действительности (поэма определяется им как «ультраромантическая» именно в этом
смысле) от обвинений в безнравственности, выдвинутых Надеждиньгм. Обе стороны
имели в виду также произведения французской школы «неистового романтизма»
типа романов Э. Сю. У Баратынского этот вопрос решается безотносительно
к эстетике: поэт настаивает только на истине показаний, требующей изображения
как низкого, так и высокого; «безнравственна только ложь». От обсуждения
сущности «изящного» он уклоняется на том основании, что прекрасное существует не
5*
131
для всех и потому как бы не обязательно. Умолчание могло быть вызвано
внутренним несогласием с шеллингианской эстетикой, начала которой, ему кажется,
«можно опровергнуть философически» (письмо к Пушкину, 1826). В письме к
Киреевскому он пишет, что прекрасное «не что иное, как высочайшая истина». Бели
учесть, что истина в понимании Баратынского требует всесторонних и объективных
«показаний» со стороны действительности, то расхождение с шеллингианством здесь
налицо.
Проблема художественного творчества для Баратынского вовсе не сводилась
к описательной правде, о которой он говорит в предисловии к «Наложнице». В
письмах к Киреевскому, написанных в то же время и посвященных вопросу, каким
должен быть современный роман, Баратынский требует от писателя определенной
философии. Философия — понятие, выводимое здесь из того, что «всякий
писатель мыслит», — очевидно соответствует мировоззрению. Чтобы быть вполне
самостоятельным, писатель должен проникнуться современной философией, которую
Баратынский называет «эклектической», имея в виду и здесь более широкое
истолкование, чем следование определенной философской системе. Во всяком случае, он
говорит об эклектическом романе, где бы человек был объяснен со стороны и
«физической» (социальной) и духовной; до сих пор эти два рода изображения были
разъединены. За нечеткой терминологией скрывается вполне реалистическая
трактовка романа, в котором жизнь должна быть истолкована в соответствии с ее
собственной правдой (за отсутствие «драматической истины» Баратынский критикует
роман Руссо). О близости Баратынского к реализму в его теоретических
предпосылках говорит и восторженная оценка им первых реалистических произведений в
русской литературе — «Бориса Годунова» («составит эпоху в нашей словесности») н
«Евгения Онегина».
* * *
Мой дар убог, и голос мой негромок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
(1828)
МУЗА
Не ослеплен я музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
№
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.
(1829)
* * *
Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.
(1840)
Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области — сияния и тьмы —
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.
(1839)
Е. А. Баратынский, Полное собрание
стихотворений, Л., «Советский писатель», 1957, стр. 137, 142, 187,
193.
[РАЗБОР «ТАВРИДЫ» А. МУРАВЬЕВА]
(1827)
[...] И юноша пеной его поседел: дурно, потому что изысканно. Надобно
было сказать: И юношу пеной своею покрыл. Лирическая поэзия любит
простоту выражений.
133
[...] Истинные поэты потому именно редки, что им должно обладать
в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу:
пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего. Что касается
слога, надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг
другу свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно
или вовсе не понимают: для чего ж писать?
Б. А. Баратынский, Стихотворения, поэмы, проза,
письма, М., Гослитиздат, 1951, стр. 424, 425.
[ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «НАЛОЖНИЦА»]
(1831)
[...] Нравственное сочинение не состоит ли в выводе какой-нибудь
философической мысли, вообще полезной человечеству? Но чтобы в самом деле
быть полезною, мысль должна быть истинною, следственно извлеченное
из общего, а не из частного. Как же, изображая только добродетель,
играющую довольно второстепенную роль в свете, и минуя торжествующие
порок, я достигну этого вывода? Я скажу мысль блестящую, но
необходимо ложную, следственно вредную.
[...] Рассматривая литературные произведения по правилам наших:
журналистов, всякую книгу найдем мы безнравственною. Что, например,
хуже Квинта Курция? Он изображает привлекательно неистового
честолюбца, жадного битв и побед, стоющих так дорого роду человеческому;
кровь его не ужасает; чем больше ее прольет, тем он будет счастливее; чек
далее прострет он опустошение, тем он будет славнее; и эту книгу будут
читать юные властители! — Что хуже Гомера? В первом стихе Илиады он
уже показывает безнравственную цель свою, намерение воспевать порок:
Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!
[...] Читатель видит, что подобным образом можно неопровержимо
доказать вредное влияние всякого сочинения и, из следствия в следствие,
заключить с логическою основательностью, что в благоустроенном
государстве должно запретить литературу.
В таком случае должно запретить и человека. Но природа одарила его
разумом не для невежества, одарила словом не для молчания. Какой
незваный критик решится воспретить ему дозволенное провидением и тем
явно противоречить его цели? Запретить человеку пользоваться своим
разумом значит унизить его до животных, его лишенных.
[...] Чем согласиться критику на уничтожение литературы, следственно
на уничтожение человека, не благоразумнее ли взглянуть на нее с другой
точки зрения: не требовать от нее положительных нравственных поучений,
видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней сведений^
а ничего иного?
134
Знаю, что можно искать в ней и прекрасного, но прекрасное не для всех:
оно непонятно даже людям умным, но не одаренным особенною
чувствительностью: не всякий может читать с чувством, каждый с любопытством.
Читайте же роман, трагедию, поэму, как вы читаете путешествие. Стран-
ствователь описывает вам и веселый юг, и суровый север, и горы, покрытые
вечными льдами, и смеющиеся долины, и реки прозрачные, и болота,
поросшие тиною, и целебные, и ядовитые растения. Романисты, поэты
изображают добродетели и пороки, ими замеченные, злые и добрые
побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того же, чего
в путешественниках, в географах: известий о любопытных вам предметах;
требуйте от них того же, чего от ученых: истины показаний.
Читайте землеописателей, и, не выходя из вашего дома, вы будете
иметь понятие об отдаленных, разнообразных краях, которых вам, может
быть, не случится увидеть собственными глазами. Читайте романистов,
поэтов, и вы узнаете страсти, вами или не вполне, или совсем не
испытанные; нравы, выражение которых, может быть, вы бы сами не заметили;
узнаете положения, в которых вы не находились; обогатитесь мыслями,
впечатлениями, которых вы без того не имели; приобщите к опытам вашим
опыты всех прочтенных вами писателей и бытием их пополните ваше.
Ежели показания их верны, впечатление, вами полученное, будет
непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие
прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней провидением, конечно,
не развратительно, и мир действительный никого еще не заставил
воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!
Из этого следует, что нравственная критика литературного
произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или
несправедливы его показания?
Τ а м ж е, стр. 427, 429—431.
ИЗ ПИСЕМ А. С. ПУШКИНУ
Не думай, чтобы я до такой степени был маркизом, чтоб не чувствовать
красот романтической трагедии! Я люблю героев Шекспировых, почти
всегда естественных, всегда занимательных, в настоящей одежде их
времени и с сильно означенными лицами. Я предпочитаю их героям Расина,
но отдаю справедливость великому таланту французского трагика. Скажу
более: я почти уверен, что французы не могут иметь истинной
романтической трагедии. Не правила Аристотеля налагают на них оковы — легко
от них освободиться,— но они лишены важнейшего способа к успеху:
изящного языка простонародного. Я уважаю французских классиков, они
знали свой язык, занимались теми родами поэзии, которые ему
свойственны, и произвели много прекрасного. Мне жалки их новейшие
романтики: мне кажется, что они садятся в чужие сани.
135
Жажду иметь понятие о твоем Годунове. Чудесный наш язык ко всему
способен; я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создал
для Пушкина, а Пушкин для него. [...] Возведи русскую поэзию на ту
степень между поэзи#ми всех народов, на которую Петр Великий возвел
Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше
дело — признательность и удивление.
[1825]
Я очень люблю обширный план твоего «Онегина»; но большее число его
не понимает. Ищут романической завязки, ищут обыкновенного и,
разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания
кажется им бедностию вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия,
жизнь во всех ее изменениях, проходит перед их глазами. [...]
[1828}
Там же, стр. 484—485, 489.
ИЗ ПИСЬМА Н. В. ПУТЯТЕ
(1828)
Гордость ума и права сердца в борьбе беспрестанной. Иную пьесу
любишь по воспоминанию чувства, с которым она писана. Переправкой
гордишься, потому что победил умом сердечное чувство.
Там же, стр. 491.
ИЗ ПИСЬМА П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
(1830)
Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительных выражении
и стараться только, чтобы коренной их смысл совершенно соответствовая
мысли, которую хочешь выразить. Со временем они будут приняты и вой·
дут в ежедневный язык. Вспомним, что те из них [светских людей],
которые говорят по-русски, говорят языком Жуковского, Пушкина и вашим,
языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить
публику.
«Старина и новизна», кн. 5, Спб, 1902, стр. 50.
ИЗ ПИСЬМА П. А. ПЛЕТНЕВУ
(1831)
Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие
препятствия, а главное из них — унылость.
Б. А. Баратынский, Стихотворения, поэмы, проза,
письма, М., 1951, стр. 496*
136
ИЗ ПИСЕМ И. В. КИРЕЕВСКОМУ
Кстати о романе: я много думал о нем это время, и вот что я о нем
думаю. Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего
времени по той причине, что все они придерживались какой-нибудь системы.
Одни — спиритуалисты, другие — материалисты. Одни выражают только
физические явления человеческой природы, другие видят только ее
духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический,
где бы человек выражался и тем и другим образом. Хотя все сказано, но
все сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке,
в новом свете.
(1831)
Там же, стр. 497.
Мне надо тебе растолковать мысли мои о романе: я тебе изложил их
слишком категорически. Как идеал конечного возьми «L'âne mort» и «La
confession» *, как идеал спиритуальности все сентиментальные романы: ты
увидишь всю односторонность того и другого рода изображений и их
взаимную неудовлетворительность. Фильдинг, Вальтер Скотт ближе к моему
идеалу, особенно первый, но они угадали каким-то инстинктом
современные требования и потому, попадая на настоящую дорогу, беспрестанно
с нее сбиваются. Писатель, привыкший мыслить эклектически, пойдет, я
думаю, далее, то есть будет еще отчетливее. Не думай, чтобы я требовал
систематического романа, нет, я говорю только, что старые не могут
служить образцами. Всякий писатель мыслит, следственно, всякий писатель,
даже без собственного сознания,— философ. Пусть же в его творениях
отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век
эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая
философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас
сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных
произведений как на магнитную стрелку, могущую служить
путеводителем в наших литературных поисках.
(1831)
«Татевский сборник С. А. Рачинского», Спб., 1899,
стр. 14—15.
Что ты мне говоришь о Hugo и Barbier, заставляет меня, ежели можно,
еще нетерпеливее желать моего возвращения в Москву. Для создания
новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений,
просвещенного фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он
найдет в нас отзыв. Поэзия веры не для нас. Мы так далеки от сферы новой
деятельности, что весьма неполно ее разумеем и еще менее чувствуем.
На европейских энтузиастов мы смотрим почти так, как трезвые на
ЧМертвый осел» (роман Ж. Жанена); «Исповедь» (Руссо). (Прим. сост.)
137
пьяных, и, ежели порывы их иногда понятны нашему уму, они почти не
увлекают сердца. Что для них действительность, то для нас отвлеченность.
Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм — наше
законное божество, ибо 'мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в
новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно
углубиться в себя. Вот покамест наше назначение.
(1832)
Там же, стр. 47—43.
А. И. ГАЛИЧ
1783-1848
Философ и эстетик Александр Иванович Галич окончил петербургский
Педагогический институт и завершил свое образование в Германии (1809—1813). Галич
преподавал русский и латинский язык в Царскосельском (Александровском) лицее
в то время, когда там учились Пушкин, Кюхельбекер и другие деятели
декабристского периода. Затем Галич преподавал философию в Педагогическом институте
и образованном на его базе Петербургском университете, откуда при реакционном
преобразовании университета в 1822 году был изгнан как вольнодумец.
Галич был автором «Опыта науки изящного» (Спб., 1825) и «Истории
философских систем, по иностранным руководствам составленной» (кн. 1—2, Спб., 1818—
1819), в которой изложение доводилось до 10-х годов XIX века и где Галич
впервые в русской литературе упоминал имя и работы Гегеля. В 1834 году Галич
опубликовал «Картину человека», имевшую значение для развития психологии и
гносеологии.
Один из первых представителей идеалистической эстетики на русской почве,
Галич едва ли не первый издал цельную, систематическую работу по эстетике,
в которой весьма отчетливо видны достоинства и пороки шеллингианско-романти-
ческой концепции эстетики. Связь эстетики с философией, идея развиваемости,
исторической определенности понятия прекрасного и соответственно его реализации
в искусстве, зависимость форм прекрасного от «периода истории человечества,
в котором появляется» художественный гений 1, специфика искусства по
сравнению с наукой, идея и истина как сущностная основа искусства при всей его
специфике и отличиях от науки, метод идеализации как метод обобщения в искусстве —
таковы некоторые идеи «Опыта» Галича, явившиеся существенным достижением
тогдашней эстетики и способствовавшие ее развитию. В то же время его
концепция проникнута идеалистическими, религиозно-мистическими идеями. Галич
обосновывал концепцию искусства для искусства с помощью идеи «бескорыстия»
эстетического чувства, доказывал, что гений художника лишь «частица того великого
1 «Опыт науки изящного», Спб., 1825, стр. 51.
138
божественного духа, который все производит, все проникает и во всем действует»,
что сами идеи и истины, «запечатлеваемые» в «прекрасных произведениях
искусства»,— божественны. Поэтому прекрасное для Галича — чисто объективно,
существует само по себе, без участия человека, как некое платоническое или средневе-
ково-реалистическое первоначало всего действительно прекрасного, появляющегося
в искусстве. Из всех направлений эстетики Галич предпочитал то, которое идет
от Платона к эстетике романтизма, искусство которого он считал искусством
будущего, ибо именно «романтическая пластика» «умеет давать явственные,
определенные очертания» «предметам лучшего, неземного мира». Именно этот романтический
идеализм был сразу же по выходе книги Галича подвергнут критике с позиций
классицистической теории подражания — О. Сомовым.
ОПЫТ НАУКИ ИЗЯЩНОГО
§ 6. [...] Всяк считает себя вправе судить и рядить по-своему, не
заботясь о том, что в деле столь важном и столь общем, какова наука,
отдельные мнения никуда не годны и что именно здесь едва ли он в состоянии
выдержать особенное свое суждение. Ибо от сего последнего требуется:
a) чтобы оно обнимало изящное в целости его существа и явлений, чтобы
b) состояло в необходимой органической связи со всеми другими
учениями и чтобы, наконец, с) на основании его не написана была журнальная
статья, а воздвигнуто было прочное здание науки. Это одно и значило
бы — во всех частях и притом на самом деле опровергнуть главную мысль,
коей, как вечному единству в беспредельном разнообразии предметов,
я старался неуклонно следовать, то есть мысль об изящном как о
чувственно совершенном проявлении значительной истины свободною
деятельностью нравственных сил гения.
§ 7. Наука изящного поздно вошла в состав человеческих позиций.
Весьма естественно, но не столько потому, что здесь надлежало много
частных опытов, наблюдений, рассеянных замечаний подвести под одну точку;
не столько потому, что внутреннее ощущение, к которому будто и
относятся ее предметы, по своей природе темнее и таинственнее прочих
явлений душевной жизни, каковы, например, мысли и желания; сколько
потому, что обрабатываемая ею идея сама по себе многосложна и предполагает
более вещей и условий, нежели какая-либо другая. Таким образом хотя
искусство и красота искони знакомы человеку, однако ж теория оных
могла составиться только по усовершенствовании прочих соприкосновенных
с нею теорий — истинного и доброго, то есть по усовершенствовании общей
науки, с которою она необходимо разделяет и начала и методу.
§ 8. История представляет три периода, кои теория изящного
совершила, а именно:
а) Период простых чувственных наблюдений, в котором красота
означала приятную натуральность явления. Так полагали: из древних:
Аристотель и Гораций; из новых: Бате, Поп, Гом, Бёрк.
139
b) Период смысла и логических его соображений. Здесь красоту
составляло чувственно познаваемое совершенство, то есть понятие или единства
в разнообразии, или множества отношений, или чувствами объемлемой
формы соразмерности. Знаменитые мужи сего периода суть: А. Баумгар-
тен, Дидерот и Кант с многочисленными последователями.
c) Период полного владычества разума, открытый Платоном,
восстановленный Винкельманом и продолженный Лессингом, Гердером, Шле-
гелями и др. Здесь слышим о творчестве фантазии, о жизни,
предполагаемой во всяком изящном произведении, об идеях и об их согласии с
формами, о соединении всех потребностей человеческой природы, о красоте, как
об откровении или отблеске совершеннейшего бытия и пр.
§ 9. Человек есть гражданин двух миров — видимого и невидимого.
Первому принадлежит он своею чувственно-органическою стороною,
второму духовно-нравственною, и судит о всяком данном предмете по
коренным законам трояких сил своей природы, то есть по законам разумения,
хотения и чувствования.
§ 10. Законы первого порядка касаются бытия или свойства вещей —
божественных, мирских и человеческих, существующих независимо от нас,
и высочайшая идея для сей умственной части есть истинное. Законы
второго порядка суть законы деятельной воли человека, сообразно с коими
представляет и оценяет он явления относительно к требованиям
нравственного сознания. Явления сии подчинены собственным его силам,
производящим перемены в видимом мире, и измеряются идеей доброго. Наконец,
законы третьего порядка основаны на чувственности, то есть на
способности живого существа ценить вещи по их приятному впечатлению в
организме. Сия приятность, зависящая частию от первоначального устройства
предметов, частию от привычки, от размышления и пр., составляет
высочайшую цель чувственной жизни.
§ 11. Что сообразно с законом сих трояких сил и доставляет им пищу,—
все то влечет к себе склонности и желания человека, кои по сей причине
разделены между истинными, занимающими его или внутренним их
достоинством, или особливым отношением к его воле, или наружною их
прелестью.
§ 12. Но человек не только ищет истинного, доброго и приятного, а
стремится еще и к полному, неограниченному обладанию сими благами
духовно-чувственной его природы; ибо то, что он всякий раз находит в своих
познаниях, деяниях и ощущениях, не насыщает врожденных идей и
потребностей, указывающих ему нечто лучшее, бесконечное. На сем
основывается расположение к играм, всеобщая наклонность к упражнению своих
сил; на сем основываются неудержимые порывы творческой силы
художников, пытливость философа и пр.
§ 13. Таким образом, по силе высших идей и потребностей умственной
природы человек старается внутреннюю сущность и общую связь творения
объять безусловным ведением; по силе идей и потребностей нравственной
арироды подчинить себя во всех своих деяниях своевластию
неограниченно
ного хотения; по силе идей и потребностей чувственной природы окружить
себя предметами, которые совершенством своего явления радовали бы
сердце его и питали в нем любовь к блаженству жизни.
§ 14. Посему то, что он предполагает во всех сих движениях, есть
возможное совершенство умозрительного, нравственного и чувственного рода.
В первом отношении он любит как взаимное согласие мыслей и
представлений относительно к формам деятельности, так равно и то, что
посредством их познает существенного и положительного в самих предметах.
Следовательно, совершенства разумения на одной стороне суть порядок, связь,
единство; на другой подлинное и вероятное, полезное и соразмерное,
великое и новое, особенное (характеристическое) и разнообразное и пр. Во
втором отношении радует его одно уже беспрепятственное употребление
свободных сил, кои сами себе дают закон; а еще более пленяется он
явлениями решительных нравственных помыслов в поступках и в изделиях.
В третьем отношении совершенство мы приписываем не тем предметам,
которые только не угрожают нам разрушением организма, а тем, которые
легкостью объема и обзора, особенною игрою цветов и стройностью звуков
способны производить отрадные движения жизненных сил.
§ 15. Правда, каждая из трех поименованных сил, первоначально
стремясь к особенным совершенствам своей природы, необходимо изменяет и
наши желания по своим отдельным интересам и судить о предметах
независимо от прочих, даже в противность им. Но не менее справедливо и то,
что человек, по единству существа своего, как малый мир, желал бы
обладать совершенствами своей природы в совокупности; желал бы свое
истинное и доброе, по себе нечто идеальное, созерцать в таких произведениях,
которые увеселяли бы его чувства. Из сего-то источника проистекает: а) со
стороны познаний потребность и правдоподобия мыслей, то есть
сообразности с чем-либо уже известным, и ясности, достигаемой посредством
чертежей, образов, сравнений, притч; Ь) со стороны воли потребность
благоприличия в достохвальных даже деяниях; с) со стороны чувств потребность
выбора в наслаждениях прочных, с достоинством человека совместных и не
изнуряющих души, а укрепляющих ее силы.
Сия потребность духовно-чувственного существа раскрываться в таких
явлениях, в которых и умственные и нравственные силы его находят
одинаковую занимательность, называется эстетическою, а самые предметы,
по возможности удовлетворяющие оной,— изящными, которые, как
соответственные устройству нераздельной нашей природы и ее усовершающие,
сопровождаются решительным ее одобрением, коль скоро восчувствована
нужда ее сего усовершения или не подавлена владычествующим
направлением сил к определенной стороне.
§ 17. Таким образом, эстетическое расположение напрасно ищет себе
удовлетворения там, где предметы согласуются с требованиями или одного
ума, или одного нравственного закона, или одной чувственности: ибо
теоретически совершенная сторона ученых, например, произведений и
нравственное совершенство, например, геройских деяний очевидно сами по себе
141
столько же далеки от изящных, как и занятия или чувствования приятные,
коих нередко мы стыдимся или в коих еще чаще раскаиваемся.
§ 18. Еще не менее удовлетворяется эстетическая потребность там:
a) где нелепое, темное, площадное и пр. оставляют ум в бездействии;
b) где прямо неблагоприличное, злое, низкое оскорбляют добрые нравы;
c) где отвратительное, резкое, уродливое пресекают даже всякое сношение
чувств с предметами.
§ 19. Но хотя ни одно из упомянутых совершенств нашей природы
в отдельности не есть то, что мы называем изящным, однако ж каждое из
них, с известными ограничениями, необходимо входит в состав последнего,
и, коль скоро эстетическая потребность встречает удовлетворительный для
себя предмет, то есть находит приятную сторону истинного и доброго,—
это и есть смысл изящного. Посему изящное: а) не как простая, но как
сложная идея Ь) относится ко всем силам человеческой природы, кои
притом с) предполагаются не только раскрывшимися, но и беспрепятственно,
стройно действующими в приличном расположении.
§ 20. Истинное и доброе по значению своему — идеи, составляющие
внутреннюю, невидимую сущность вещей, стремясь к приятному
соединению в изящном, стремятся тем самым к чувственному совершенству
наружного вида, в котором, как в действительном явлении знакомого нам мира,
идеальное и находит свое успокоение, встречая для себя границу. Почему
изящное необходимо изъято от дальнейших превращений и не может уже
служить никаким сторонним видам или 1) имеет свою цель само в себе.
Сею чертою самостоятельного бытия изящное отделяется от того, что мы
называем нравственным, имеющим в виду назначение человека, подобно
как от истинного или умственного, чертою и ощутительности и
предопределенного согласия с предметами, которые всегда влечет за собою. Оно
необходимо и нравится, подобно всему совершенному, нравится даже при
первом впечатлении в органе, подобно приятному в физиологическом
смысле. Но от сего приятного отделяет оное и черта бескорыстия,
устраняющего вожделение грубых чувств, и всеобщая занимательность,
доставляющая одинаковое удовольствие образованным, и, наконец, то особенное
обстоятельство, что здесь в сладостном ощущении не бывает ни малейшей
горькой примеси.
§ 21. Самостоятельный или безусловный характер изящного дает ему
свободу обтекать области как действительного, так и возможного мира
и является во всяких веществах и формах, какие только способны к
совершенному выражению внутреннего. По сей-то свободе оно дозволяет себе
сколько расширять интерес одного рода, например разумения, столько же
и стеснять интерес другого, например строгого добронравия, в границах
приятного. Ибо оно довольствуется и тем, если истина только вообразима
и согласна по крайней мере с предубеждением или произвольным
предположением, а нравственность со стороны вечных ее законов остается
неприкосновенною, как в природе, или решительное безнравие незаметным, как,
например, бывает то в изображениях шуточных.
142
§ 22. Вообще чувственное совершенство наружности есть в изящном
положительная его сторона, назидание же ума и воли подразумеваемая,
отрицательная, скрытная, которая хотя необходимо предполагается во
всяком прекрасном предмете, подобно как тяжесть и движущая сила
предполагаются во всяком теле животного, но которая может являться не иначе как
под наружными покровами органического целого. Посему 3) целость
органическая принадлежит к дальнейшим существенным свойствам изящного.
Она оживляет многоразличные, друг для друга существующие части
материи одной, по себе значительною идеей, коей и особенная форма нравится
чувствам по самому уже способу свободного явления совершенной души
в удовлетворительном для нее теле. Сия-то органическая целость отличает
изящное от прочих предметов, которые или по единству в разнообразии
и по соразмерности занимают только смысл, а не чувства и воображение,
или красивою наружностью пустых и бездушных форм пленяют чувства
и воображение, не говоря ничего уму и сердцу.
§ 23. Что изящное, рассматриваемое само по себе, не может быть
изображено в полноте его откровений и составляет бесконечную задачу для
совокупных усилий природы и человеческого искусства,— это подлежит
общей судьбе идей, выходящих за границу всякого данного или
существующего явления. Но идея духовно-нравственных вещей есть достояние
разума, который обрабатывает оную идею в мысленном представлении; идея же
изящного принадлежит фантазии, которая, заимствуя представления свои
от разума, облекает и форму, подлежащую созерцанию. Сей соответственно
идее составляемый образ вещи есть ее первообраз (самообраз), идеал,
видение. Почему изящное не объемлется мыслью в постоянном отвлеченном
единстве, но созерцается воображением в неопределенном многоразличии
идеалов.
§ 24. Все изящное есть идеальное, образцовое, то есть такое, в котором
устраняются случайные черты, временные и местные ограничения, а
удерживается только существенный характер целого рода или класса. Хотя сим
возвышается оно над природою, однако ж отнюдь не выходит из круга
естественного. Ибо природу составляют не одни явления, но еще законы
и самообразы, кои, будучи по себе только возможны, приводятся в
действительное бытие воображением. Правда, таким же самым способом
составляются и, с другой стороны, идеалы ужасного, злого, низкого, потому что
область идеального неограниченна; но предметы сего последнего качества
могут состоять в противоречии с требованиями нравственного и приятного,
и здесь-то они доказывают, что не все идеальное изящно.
§ 25. Первообразное совершенство целого ряда существ,
возвышающееся в изящном до идеала, есть, с одной стороны, превосходство их бытия,
с другой — превосходство движущих и деятельных сил, то есть
необыкновенная мера свободы; с третьей — превосходство наружного их вида.
Кто ищет самообразов для сих совершенств, тот находит самообраз
первого в боге, источнике всякого бытия, самообраз второго в духе
человеческом, самообраз третьего в видимой природе. Вот возможные направления
143
изящного, которое, следовательно, представляет совершенства творения,
приближающие оное к божественному бытию и к доблестной деятельности
человека; но представляет то и другое в веществах, формах и органах,
какие употребляет внешняя и внутренняя природа для полного проявления
жизни.
§ 26. Сии-то совершенства связывают изящное, по себе безусловное,
теснейшими узами с бытием чувственно-разумного существа, в которое
оно благодетельно втекает, приводя все силы его души в легкое и
равномерное движение, погружая тем ее в чувство блаженства и самодовольствия
и примиряя с жизнью, которая напрасно ожидает подобных выгод от науки,
даже нравственной.
§ 55. Поелику же прекрасное, как чувственно совершенное явление
чего-то по себе невидимого, основывается на согласии между идеальным
и естественным или свободным и необходимым, подобно как истина на
согласии между умственным представлением и его предметом, то
совершеннейшее откровение безусловной красоты возможно только в
романтической пластике, которая предметам лучшего, неземного мира умеет давать
явственные, определенные очертания. Но сей род искусства,
предугаданный некоторыми гениями итальянских живописцев и немецких поэтов, есть
идеал, коего осуществление предоставлено будущему периоду
счастливейшего человечества.
§ 59. Да и что такое гений художника, как не частица того великого
божественного духа, который все производит, все проникает и во всем
действует по одинаковому закону. [...]
§ 69. [...] Прекрасное не ограничивается только тем, что представляет
нам видимая природа; [...] гений есть свободная и творческая сила и[...]
самая внутренняя жизнь человечества с его характерами, мыслями,
чувствованиями, деяниями и приключениями, вообще с его историей
представляет обширнейшее позорище нераскрытых идеалов; [...]последнею целью
или началом изящных искусств не может быть подражание природе
(в обыкновенном смысле).
§ 70. Столь же мало последняя цель изящных искусств состоит в
украшении природы. [...]
§ 71. Но природа в высшем смысле, то есть как единство неисчерпаемой
жизни в бесконечных явлениях оной, есть со стороны деятельности
высочайшее искусство, так, как со стороны бытия всеобъятное ее изделие; ибо
безусловная изящность, начало свободных искусств, подобно безусловной
истине и благости, вся излита во вселенную, как в сосуд божественных
откровений. Оттого соревнующее искусство может способы и законы, по
коим она действует, брать себе за образец и в своих изделиях воссоздать
ее, то есть на видимых, самостоятельных произведениях свободного духа,
в котором сосредоточены силы жизни и которому врождены вечные идеи,
являть символы или второобразы невидимого, совершейнейшего бытия.
§ 74. Заключим: прекрасное творение искусства происходит там, где
свободный гений человека, как нравственно-совершенная сила, занечатле-
Ш
вает божественную, но себе значительную и вечную идею в
самостоятельном, чувственно-совершенном, органическом образе или призраке. [...]
«Опыт науки изящного», Спб., 1825, стр. XI—XII,
6—28, 56, 61—62, 70—71, 72—73, 75—76.
Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ
1805-1827
Поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов был одним из главных деятелей
московского кружка любомудров.
В основе эстетики Веневитинова лежали общие для любомудров философские
принципы, в частности принципы идеалистической диалектики. Веневитинов
доказывал законосообразность развития искусства и основанную на этом возможность
научной художественной критики. Считая эстетику наукой «о законах
прекрасного» \ он, подобно Одоевскому, рассматривал искусство как исторически
развивающуюся форму духовной деятельности, творчества человека.
Его взгляд на развитие искусства основан на идее триады, навеянной ему
немецкой романтической эстетикой. Первые поэты и первые формы поэзии выражают
ту ступень развития познания, когда человек находился в первобытной гармонии
с внешним миром. Это была эпоха эпической поэзии, поэзии Гомера. Вторая
ступень, соответствующая второму этапу развития общества, есть современная эпоха
«лирической поэзии», когда человек приходит в разлад, в противоречие с миром.
«Третья эпоха,— писал он,— составится из этих двух... В этой эпохе мысль будет
в совершенном примирении с миром... Это будет эпоха драматическая, эпоха
будущая» 2. Предвосхищая здесь идеи диссертации Надеждина о будущем искусстве
как синтезе классицизма и романтизма, Веневитинов и в других отношениях
сближался с декабристской эстетикой. В близком идейном родстве с декабристами
Веневитинов более определенно и конкретно, чем Одоевский, разрабатывал
проблему народности искусства. Человечество, согласно взгляду Веневитинова на
историю, прогрессирует посредством развития отдельных народов, сознающих себя
самобытными. В процессе этого самосознания создается национальная культура.
В каждую эпоху своего развития культура имеет типичных представителей,
выражающих «дух времени» и «дух народа» на данной стадии его развития. Отражая
дух народа, искусство является народным.
Чтобы быть народным, чтобы отвечать общественным требованиям, искусство,
его произведения должны нести в себе идею, которая есть сущность искусства.
«Истинные поэты всех народов, всех веков были глубокими мыслителями,
были философами и, так сказать, венцом просвещения»3. «Поэзия неразлучна
с философией»4.
1 Д. В. Веневитинов, Полное собрание сочинений, M., «Academia», 1934,
стр. 254.
2 Там же, стр. 304.
3 Τ а м же, стр. 218.
4 Τ а м же, стр. 224.
145
Веневитинов подчеркивал необходимость гражданского служения искусства:
обществу бесполезен «поэт, который наслаждается в собственном своем мире,
которого мысль вне себя ничего не ищет и, следственно, уклоняется от цели всеобщего
усовершенствования». В том же направлении развивались и мысли Веневитинова
об идейности искусства.
Подвергал он критике такие нездоровые явления русской аристократической
культуры, как подражательность.
Идеи Веневитинова, развивавшиеся также в русле декабристской эстетики
и предвосхищавшие идеи Чаадаева и молодого Белинского, были высоко оценены
Чернышевским. Белинский высоко отозвался о философской лирике Веневитинова,
который, по его словам, «мог согласовать мысль с чувством, идею с формой», мог
проникнуть в тайны природы и выразить их К
РАЗБОР СТАТЬИ О «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ»,
ПОМЕЩЕННОЙ В 5-м № «МОСКОВСКОГО ТЕЛЕГРАФА»
(1825)
[...] И можно ли бороться с духом времени? Он всегда остается
непобедимым, торжествуя над всеми усилиями, отягощая своими оковами мысли
даже тех, которые незадолго перед сим клялись быть верными поборниками
беспристрастия! [...]
И г. Полевой платит дань нынешней моде! В статье о словесности как
не задеть Ватте? Но великодушно ли пользоваться превосходством века
своего для унижения старых Аристархов? Не лучше ли не нарушать покоя
усопших? Мы все знаем, что они имеют достоинство только относительное;
но если вооружаться против предрассудков, то не полезнее ли
преследовать их в живых? И кто от них свободен? В наше время не судят о
стихотворце по пиитике, не имеют условного числа правил, по которым
определяют степени изящных произведений. Правда. Но отсутствие правил в
суждении не есть ли также предрассудок? Не забываем ли мы, что в
пиитике должно быть основание положительное, что всякая наука
положительная заимствует свою силу из философии, что и поэзия неразлучна с
философией?
Если мы с такой точки зрения беспристрастным взглядом окинем ход
просвещения у всех народов (оценяя словесность каждого в целом:
степенью философии времени; а в частях: по отношению мыслей каждого
писателя к современным понятиям о философии), то все, мне кажется,
пояснится. Аристотель не потеряет прав своих на глубокомыслие, и мы
не будем удивляться, что французы, подчинившиеся его правилам, не имеют
литературы самостоятельной. Тогда мы будем судить по правилам верным
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, М., 1953, стр. 78.
146
о словесности и новейших времен; тогда причина романтической поэзии не
будет заключаться в неопределенном состоянии сердца. [...]
Д. В. Веневитинов, Избранное, М., Гослитиздат,
1956, стр. 184, 186-187.
РАЗБОР РАССУЖДЕНИЯ г. МЕРЗЛЯКОВА
О НАЧАЛЕ И ДУХЕ ДРЕВНЕЙ ТРАГЕДИИ...
(1825)
[...] Поэт, без сомнения, заимствует из природы форму искусства; ибо
нет форм вне природы; но и подражательность не могла породить искусств,
проистекающих от избытка чувств и мыслей в человеке и от нравственной
его деятельности. Тайна сей загадки не разрешается, и немедленно после
сего следует история козла, убитого Икаром, и греческих празднеств в
честь Бахуса. В сем рассказе не заключается ничего особенного; он
находится во всех теориях, которые, не объясняя постепенности существенного
развития искусств, облекают в забавные сказочки историю их
происхождения. Итак, мы не будем следовать за г. Мерзляковым, когда он сам не
следует своей собственной нити в разысканиях и воспоминает давно
известное и пересказанное. Заметим только, что при нынешних успехах эстетики
мы ожидали в истории трагедии более занимательности. Для чего не
показать нам ее развития из соединения лирической поэзии и эпопеи? Для
чего не намекнуть на общую колыбель сих родов поэзии? Из подобных
замечаний внимательный читатель заключил бы, что они неотъемлемо
принадлежат человеку, как необходимые формы, в которых выливаются
его чувства. Мы бы объяснили себе, отчего находим следы их у всех
народов, увидели бы, что не стремление к подражанию правит умом
человеческим, что он не есть в природе существо единственно страдательное.
Но здесь некстати распространяться о понятиях такого рода и воздвигать
новую систему на место разбираемой теории; тем более что г. Мерзляков,
кажется, отвергает все новейшие открытия и, вероятно, не уважит
доказательств, на них основанных. Он говорит решительно, что, «соблазняемые,
к несчастию, затейливым воображением наших романтиков, мы теперь
увлекаемся быстрым потоком весьма сомнительных временных мнений»,
и видит тут «судьбу изящных искусств, склоняющихся уже к унижению».
Я осмелюсь вступиться за честь нашего века. Новейшие произведения, без
сомнений, не могут сравниться с древними в рассуждении полноты и
подробного совершенства. В них еще не определены отношения частей к
целому. Я с этим согласен. Но законы частей не определяются ли сами собою,
когда целое направлено к известной цели? Нашу поэзию можно сравнить
с сильным голосом, который, свысока взывая к небу, пробуждает со всех
сторон отголоски и усиливается в своем порыве.
Поэзия древних пленяет нас как гармоническое соединение многих
голосов. Она превосходит новейшую в совершенстве соразмерностей, но
147
уступает ей в силе стремления и в обширности объема. Поэзия Гёте,
Байрона есть плод глубокой мысли, раздробившейся на всевозможные чувства.
Поэзия Гомера есть верная картина разнообразных чувств, сливающихся
как бы невольно в мысль полную. Первая, как поток, рвется к
бесконечному; вторая, как ясное озеро, отражает небо, эмблему бесконечного. Вся-
кий век имеет свой отличительный характер, выражающийся во всех умет-»
венных произведениях; на все равно распространяется наблюдение истин-*
ного филолога, и заметим, что науки и искусства еще не близки к своему
падению, когда умы находятся в сильном брожении, стремятся к цели
определенной и действуют по врожденному побуждению к действию. Где видны
усилия, там жизнь и надежда. Но тогда им угрожает неминуемая
опасность, когда все порывы прекращаются; настоящее тянется раболепно по
следам минувшего, когда холодное бесстрастие восседает на памятниках
сильных чувств и самостоятельности и целый век представляет зрелище
безнадежного однообразия. Вот что нам доказывает история
литературы. [...]
Там же, стр. 192—193.
ОТВЕТ г. ПОЛЕВОМУ
(1825)
[...] Мне остается сказать что-нибудь о народности и что я разумею под
сим выражением. Я полагаю народность не в черевиках, не в бородах и
проч. (как остроумно думает г. Полевой), но и не в том, где ее ищет
издатель «Телеграфа». Народность отражается пе в картинах, принадлежащих
какой-либо особенной стороне, но в самих чувствах поэта, напитанного
духом одного народа и живущего, так сказать, в развитии, успехах и
отдельности его характера. Не должно смешивать понятия народности
с выражением народных обычаев: подобные картины тогда только
истинно нам нравятся, когда они оправданы гордым участием поэта. Так,
например, Шиллер в «Вильгельме Телле» переносит нас не только в новый
мир народного быта, но и в новую сферу идей: он увлекает, потому что
пламенным восторгом сам принадлежит Швейцарии. [...]
Там же, стр. 207—208.
О СОСТОЯНИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ
(1826)
[...] Мы отбросили французские правила не оттого, чтобы мы могли их
опровергнуть какою-либо положительною системою, но потому только, что
не могли применить их к некоторым произведениям новейших писателей,
которыми невольно наслаждаемся. Таким образом, правила неверные
заменялись у нас отсутствием всяких правил. Одним из пагубных последствий
148
сего недостатка нравственной деятельности была всеобщая страсть
выражаться в стихах. Многочисленность стихотворцев во всяком народе есть
вернейший признак его легкомыслия; самые пиитические эпохи истории
всегда представляют нам самое малое число поэтов. Нетрудно, кажется,
объяснить причину сего явления естественными законами ума; надобно
только вникнуть в начало всех искусств. Первое чувство никогда не творит
и не может творить, потому что оно всегда представляет согласие. Чувство
только порождает мысль, которая развивается в борьбе и тогда уже, снова
обратившись в чувство, является в произведении. И потому истинные поэты
всех народов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами
я, так сказать, венцом просвещения. У нас язык поэзии превращается
в механизм; он делается орудием бессилия, которое не может себе дать
отчета в своих чувствах и потому чуждается определительного языка
рассудка. Скажу более: у нас чувство некоторым образом освобождает от
обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетного наслаждения,
отвлекает от высокой цели усовершенствования. При сем нравственном
положении России одно только средство представляется тому, кто пользу
ее изберет целью своих действий. Надобно бы совершенно остановить
нынешний ход ее словесности и заставить ее более думать, нежели
производить. Нельзя скрыть от себя трудности такого предприятия. Оно требует
тем более твердости в исполнении, что от самой России не должно ожидать
никакого участия; но трудность может ли остановить сильное намерение,
основанное на правилах верных и устремленное к истине? Для сей цели
надлежало бы некоторым образом устранить Россию от нынешнего
движения других народов, закрыть от взоров ее все маловажные
происшествия в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внимание, и,
опираясь на твердые начала новейшей философии, представить ей полную
картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое
собственное предназначение. Сей цели, кажется, вполне бы удовлетворило
такое сочинение, в коем разнообразие предметов не мешало бы единству
целого и представляло бы различные применения одной постоянной
системы. Такое сочинение будет журнал, и его вообще можно будет разделить
на две части: одна должна представлять теоретические исследования
самого ума и свойств его; другую можно будет посвятить применению сих же
исследований к истории наук и искусств. Не бесполезно было бы обратить
особенное внимание России на древний мир и его произведения. Мы
слишком близки, хотя по видимому, к просвещению новейших народов и,
следственно, не должны бояться отстать от новейших открытий, если мы
будем вникать в причины, породившие современную нам образованность,
Л перенесемся на некоторое время в эпохи, ей предшествовавшие. Сие
временное устранение от настоящего произведет еще важнейшую пользу.
Находясь в мире совершенно для нас новом, которого все отношения для
нас загадки, мы невольно принуждены будем действовать собственньш
умом для разрешения всех противоречий, которые нам в оном
представятся. Таким образом, мы сами сделаемся преимущественным предметом
149
наших разысканий. Древняя пластика или вообще дух древнего искусства
представляет нам обильную жатву мыслей, без коих новейшее искусство
теряет большую часть своей цены и не имеет полного значения в
отношении к идее о человеке. Итак, философия и применение оной ко всем эпохам
наук и искусств —- вот предметы, заслуживающие особенное наше
внимание, предметы, тем более необходимые для России, что она еще нуждается
в твердом основании изящных наук и найдет сие основание, сей залог
своей самобытности и, следственно, своей нравственной свободы в
литературе, в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и
образовать систему мышления.
Вот подвиг, ожидающий тех, которые возгорят благородным желанием
в пользу России и, следовательно, человечества осуществить силу
врожденной деятельности и воздвигнуть торжественный памятник
любомудрию если не в летописях целого народа, то по крайней мере в нескольких
благородных сердцах, в коих пробудится свобода мысли изящного и
отразится луч истинного познания.
Там же, стр, 211—213.
В. Ф. ОДОЕВСКИЙ
1804-1869
Владимир Федорович Одоевский в 1816—1821 годах учился в московском
Университетском благородном пансионе. Как мыслитель, литературный и
музыкальный критик, Одоевский прошел большую и сложную эволюцию, первый этап
которой связан с участием в московском литературно-философском кружке
любомудров, председателем которого он был. Одоевский вместе с Кюхельбекером издавал
альманах «Мнемозину» (вышли четыре части, 1824—1835 годы).
Эстетическая теория Одоевского тесно связана с его общефилософскими
идеями и взглядом на отношение частных наук и философии. Истинная теория
искусства — эстетика — должна быть основана на абсолютной идее искусства и выведена
из некоего «безуслова», понятие о котором дает философия Шеллинга. К этому
выведению Одоевский подходил исторически. Поскольку «дух человеческий»
пребывает в различных «сферах» в зависимости от степени развитости и поскольку
искусство есть функция духа — «основание красоты не в природе, но в духе
человеческом»,— постольку и оно развивалось, причем так, что последующие его формы
опирались на достижения предыдущих: «от начала мира каждый век был приго?
товлен предыдущим» и «лестница различных степеней духа человеческого
параллельна лестнице его произведений». Различие степеней развития духа выступает
не только в индивидуальной форме, но и в форме национальной, а потому
различия в формах искусств разных народов также объясняются фактом исторического
развития духа. Развитие духа по ступеням в форме эстетической (как и в форме
гносеологической) стремится к некоему идеалу, к высшему, совершенному, и красо-
150
та («изящество»), обладая относительной ценностью в ступенях своего развития»
достигает абсолютности в высшем результате. «Основание красоты,— резюмирует
Одоевский,— состоит в акте духа, созерцающего себя в предмете». Одоевский
рассматривал виды искусств как различные формы творческого акта, то есть формы
овеществления, материализации духа. Основными формами являются пластика,
музыка, поэзия. Характеризуя эти формы, Одоевский использовал идеи шеллинги-
анского аналогизма: поэзия соответствует религии, музыка — философии,
пластика — искусству. В другой связи он писал, что «музыка отвечает роду, единому;
живопись — виду, разнообразному; поэзия — сущему». Еще более прямые аналогии
эстетических и натурфилософских («динамизм», «электрицизм», «химизм» и т. д.)
категорий он проводил при специальном исследовании природы музыки.
От Одоевского осталось (частично еще не опубликованное) огромное
литературное наследство. К числу неопубликованных работ относятся «Опыт теории изящных
искусств с особенным применением оной к музыке» и «Гномы XIX века», которые
мы печатаем по копиям Отдела рукописей Гос. Публичной библиотеки им.
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде К
«Опыт» был задуман еще в 1823 году и, возможно, предназначался для
публикации в журнале Полевого «Московский телеграф».
«Опыт» содержит типичную для любомудров попытку понять искусство и его
теорию, исходя из более общей, философской концепции, доведенной до открыто
религиозного основания. Здесь же, особенно во втором отрывке, дается и обычная
для идеалистического романтизма критика просветительской эстетики, связанная
с диалектическими тенденциями, с историзмом в понимании судеб искусства, с
идеей зависимости искусства, литературы от духа («характера», по терминологии
Одоевского) народа, который отражается в характере литературы, и т. п.
ОПЫТ ТЕОРИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
С ОСОБЕННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ОНОЙ К МУЗЫКЕ
Осущности теории
Прежде нежели приступить к самой теории искусства, необходимым
кажется исследовать, что значит теория вообще? [...] По исследовании
предыдущего нам возможно будет приступить к ответу на вопрос,
составляющий предмет сего сочинения, то есть определение единой, истинной,
постоянной теории искусства.
[...] Всякий предмет есть не что иное, как [...] общее и особенное в
явлении.
1 Эти отрывки хранятся в бумагах Одоевского — шифр 2163/1 (переплет 10г
лл. 31—38), шифр 2163/2 (переплет 21, лл. 119—121); «Гномы»—шифр 2153/1
(переплет 10, лл. 59—62). Об этих бумагах Одоевского см. в кн.: П. Сакулин, Из
истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель, т. I, ч. 1,
М., 1913, стр. 154—155 и др. Фотокопии «Опыта...» и «Гномы» расшифрованы
Р. М. Баскиной.
151
Сия сущность, выраженная словами, называется описанием, или
определением предмета. Распространенное определение называется теориею...
нет предмета без сущности, нет предмета, который бы не имел
определения, нет предмета, который бы не имел своей теории.
[...] Если всякий предмет может иметь только одну сущность, одну
теорию, то трудно предположить, чтобы не было одной сущности, в
которой бы заключались сущности всех предметов, теории, из которой бы
истекали все прочие теории. [...]
Законы ума везде одинаковы: и в науках и в искусствах и в целой
природе должно быть также уравнение, которое было бы основанием всех
прочих оснований всех явлений; ибо в противном случае все науки, все
искусства, вся природа были бы нелепостью и тот, который бы захотел
опровергнуть существование сего условия всех условий, захотел бы
опровергнуть премудрость создателя вселенной.
«Но неужели, спросят меня, люди до сих пор не могли догадаться
о существовании истины столь простой и очевидной?» Напротив, о
существовании сего условия всех условий, или, иначе, безуслова, начались
толки со времени начала мышления человеческого, и все усилия
философов клонились к отысканию сего безуслова. [...] Люди по невольному
внутреннему чувству, часто в них самих скрытому, во всех своих суждениях
опираются на сей безуслов; сему же внутреннему чувству самые эмпирики,
самые те, которые отвергают существование сего безусловного начала,
ищут теорий или оснований для своих мнений, подтверждающих истину
того, что хотят опровергнуть. Следовательно, существование безуслова
находится не только в природе, но мысль о том в самой душе человека, эта
мысль родных душ, она свойство души человеческой и потому самому от
начала мира твердо противится всем нападениям предрассудков и
слабости. Она подобна сердцу в организме. Немногие посвященные
исследовали качества сего чудного орудия, немногие даже видели его, есть такие,
которые не знали и о существовании его; но сердце между тем в каждом
человеке существует, действует и разносит жизнь по ветру. Если сия
мысль врожденна душе нашей, то долг мыслителя — открыть ее и
исследовать ее законы. «Представьте только истину во всем свете людям,—
говорил один писатель,— и они предадутся ей, ибо она родная душе
человека».
В области фантазии или искусства: 1-й момент тот, в котором дух
стремится сделать себя предметом, в котором время останавливается
пространством, где неопределенное становится определенным, бесконечное
конечным, общее частным — это есть истина, здесь быстрое происшествие
замирает на одном мгновении, здесь идеал извечного сливается в одну отдельную
форму, где маленькое произведение есть фигура, пространство, видимость
материи. Противоположный ему момент, в котором предмет возвышается
до духа, в котором пространство развивается во время, где определенное
погружается в неопределенное, где конечное становится бесконечным,—
есть музыка; здесь мгновенное чувствование развивается в бесконечность,
152
где конечные формы сливаются в одну идеальную, где произведения:
время, звук, внутренность материи.
Наконец, должен быть момент, составляющий совокупность двух
предыдущих моментов, в котором дух делается тождественным с предметом,
где конечное борется с бесконечным, определенное с неопределенным,— это
есть поэзия; здесь время становится пространством; пространство
расширено во времени; здесь материал произведения и звук, и фигура, и
внешность, и внутренность материи — .слово.
Так что в области фантазии поэзия занимает место религии, музыка
место философии и пластика место искусства. В самом деле, во времена
младенчества рода человечества, пока владычествовала фантазия,
религия древних была поэзией. Точно так же как в наше время
владычество идеи, религия есть поэзия; и древние и мы заключаем (они в
поэзии, мы в религии) жизнь нашу, соединяем в них превратности
житейские с спокойствием духа. Музыка древних была точно изображением
философии нашего времени, и не потому ли древние по какому-то
невольному чувству разумели под музыкой соединение всех наук.
Многоразличная гармония исчезла в их единой мелодии, поступки,
движимые в наше время силой духа, философией, в древности
возбуждались музыкой. В то время музыкант являлся один, с одинокою лирою;
напротив, толпами собирались на философские прения. Теперь, напротив,,
философы соединяются, и многочисленность музыкантских орудий
составляет торжество музыки.
Наконец, пластические формы были условием древнего изящества и
самая пластика была точно так же совершеннейшею, как искусство в целом.
По какому невольному чувству ни один живописец, изображая творца
вселенной, окруженного толпою серафимов, не ставил их живописцами,
но, напротив, с музыкантскими в руках орудиями. Это невольное чувство,
у всех повторявшееся, не подтверждает ли мысль, что музыка составляет
истинно духовную форму искусства, точно так же как звук показывает
внутреннее качество материи. В самом деле, что более признается
музыкой, если не живущий на внутренней стороне идеальной сферы, или
меланхолик? Отчего на всех вообще более действует печальная музыка, нежели
веселая? Это все понятно. В состоянии души человеческой так же две
стороны, как и во всех прочих явлениях. Бывает состояние, в котором душа
стремится из самой себя к предметам, ищет раздвоиться между ними,
почленить себя в них, когда все движения — не половина — показывают
расширение. Это состояние называют радостью. Напротив, бывает другое,
когда душа стремится из предметов, стремится в самую себя, когда
морщины являются на челе и все внешние движения человека являют
сжатие. Это состояние называем мы грустью.
Пластика и музыка совершенно, как мы считали, заключают себя двумя
направлениями: пластика и младенческая радость были уделом древних,
музыка и задумчивость — уделом наших. В древности грусть была уделом
философии, оттого невинная философия древних мрачна и ограничивалась
153
одной здешнею жизнью. Напротив, теперь музыка своею грустью веселит
даже простолюдина; но должна быть пластическая сторона в музыке; в
самом деле, как назвать иначе музыку радостную? Радость, грусть
углубляются в вещественность, обращаются в смешное и ужасное. И оттого
совершенно противное музыке происходит в пластике. Пластика
изображает чувствования, выдавливая наружу, сверх того сторона радостной
и печальной музыки имеет: смешную и ужасную, которых нет в пластике.
Пластика обширнее музыки по обычности, по ничтожности, по
внутренности. Так что музыка может изображать бесконечный ряд моментов
чувствований во времени, иначе последовательность чувствований, и не может
изобразить разнообразных чувствований в одном моменте. Напротив,
пластика изображает разнообразие чувствований, но только в одном конечном
моменте во времени, остановленном в пространстве. Так что музыку можно
сравнить с бестелесною линией, бесконечно протягивающеюся, а пластику
с бесконечным множеством слоев беспредельных, но не имеющих новизны.
Главнейшее возражение против единства теории изящного было:
различные понятия о красоте у разных народов. Это было важным признанием
философов 18 века: «Как, говорили они, определить, что такое красота,
когда европеец ищет красоты в прямизне носа, в больших глазах, в
маленьком рте, а негр в толщине носа, в маленьких глазах, в огромных губах?» Но
это выражение больше подтверждает наше мнение, что основание красоты
не в природе, но в духе человеческом. Лестница различных степеней духа
человеческого параллельна лестнице его произведений.
На каждой степени чего ищет дух человка?
Видеть самого себя в своем произведении. Оттого степень красоты
соответствует всегда степени духа: возвысится или просто переменится
степень человека, возвысится или переменится в нем понятие красоты.
Отсюда характеры литературы соответствуют всегда характерам народов.
От сего у французов педантизм, соединенный с пустотою человеческой; от
сего у немцев энергия, соединенная с свободой. В этом смысле совершенно
справедливо простонародное выражение: вкусы различны. Так! Каждый
судит о красоте по-своему, но какое основание этого суждения? Каждый
приравнивает произведение к своей степени, другими словами, каждый
ищет самого себя в произведении. От сего правила произведения —
соответствующие: нельзя говорить духу пустыни; от сего происходит удовольствие
при взгляде на изображение человека, еще больше при взгляде на свой
портрет или людей, нам близких. Сократите это выражение и получите
прежде нами сказанное: основание красоты состоит в акте духа,
содержащего самого себя в предмете. Это справедливо — по отношению ко всем
другим отраслям духа человеческого: по-видимому, сколько голов, столько
истин, столько понятий о добре: республиканец ищет ее в ниспровержении
монархии; роялист в поддержании оной; между тем основание истинной
доброты во всех одно: всякий ищет в предмете степени, ему
соответствующей, как своего продолжения. Теперь следует истина, это вопрос: какая
154
же нужна степень? На каждой степени является все тот же дух человека»
на каждой степени совершенство: оттого истина повторялась от начала
мира, что зло неразлучно с добром; что нет лжи, в которой бы не было
истины, нет преступления, в котором бы не было доброго, нет безобразия,
в котором бы не было красоты. Возвышайте постепенно силы, и вы дойдете
до идеи божества или великого, в котором что встречаешь — свободу,
спокойствие, всеобъемлемость; свободу, ибо нет ничего, что бы могло
положить ему преграду, ибо он есть все; спокойствие, ибо нет пространства,
в котором бы могло оно вращаться, ибо оно во всем; всеобъемлемость, ибо
ему ничего недоставать не может, ибо все от него.
Какая степень соответствует степени божества?
Его произведение — вселенная, отпечаток божества, бог в предмете.
От сего соответствующие противоречия, пространство и бесконечность,
соответствие и противоположение всех степеней.
Цель человека — уподобиться божеству. Эта истина повторяется от
начала вновь и в конце света предстает в светлом откровении. Отсюда все
теории: искусства, нравственности, философии.
Общее основание всех действий человека при созерцании всего есть
сравнивание степеней: в самом деле, что значит, что ты восхищаешься,
слушая одно произведение, отвращаешься, слушая другое: мы отличаем
высшую степень от низшей; что значит награда и казнь в обществе
политическом: отличение степени высшей от низшей или ранее сказанное сравнение;
такое же действие, как тот момент, когда мы отличаем в природе человека
от льва, льва от тигра, орла от голубя и так далее. Это положение станет
еще более понятным, когда вспомним, что вся природа повторяется в подоб-
ности, человек в роде человеческом, когда вспомним, что есть люди,
играющие роль человеческую, роль львов, орлов, голубей и, наконец,— роль
людей по преимуществу. [...]
ГНОМЫ XIX СТОЛЕТИЯ
Бывая свидетелем ежедневных явлений, нельзя не заметить, что в
каждом из оных две стороны, без которых никакое явление быть не может:
это — самое явление и наблюдатель оного, или мы. Эта истина так проста
и очевидна, что не требует никаких доказательств; пробежите вселенную,
соберите все явления вместе, раздробите их на мельчайшие везде одни
условия всякого явления: нет явлений для человека и человек не
существует — эти слова однозначительны; с другой стороны, явления без
наблюдателя не суть уже для него явления. Но совокупление всех явлений есть
природа. Следственно, природа есть беспрестанное зрелище человеческого
духа; жизнь духа — есть беспрерывное наблюдение или созерцание. Но
что значит созерцать какой-либо предмет? Устремлять дух свой к нему,
как бы уподоблять себя ему, одним словом, видеть себя в предмете.
Вставим теперь сию мысль в выведенное нами определение явления, и тогда
155
получим: условия всякого явления суть две стороны: дух и дух в предмете.
Следственно, всякое явление есть беспрерывное противоборство между
сими двумя сторонами: дух стремится соделать себя предметом, но вместе
пребывать и духом; так что в каждом явлении три момента: 1) дух
устремляется к предмету; 2) дух становится тождествен с предметом; 3) предмет
возвышается к духу.
Продолжение созерцания назовем временем, место оного
пространством. Так что дух будет условливать время, а предмет пространство. Отсюда
первый момент будет время, остановленное пространством, второй —
пространство, сделавшееся тождественным с временем, третий —
пространство, обратившееся во время.
[...] Теперь пойдем далее: для того нет явления, кто не понимает его;
наблюдатель и явления будут несоизмеримы; нельзя уравняться тому, что
несоизмеримо. Дух и предметы соизмеримы, ибо дух созерцает предметы;
другими словами, между духом и предметом гармония; условие гармонии
и соизмеримости — однородность; условие гармонии и соизмеримости то,
чтобы одна сторона повторялась в другой и обратно. Дух и предметы
однородны; дух повторяется в предметах; предметы повторяются в духе. Но
дух один — предметов множество; так могут они быть однородны? Как
может быть между ними гармония? Как могут они быть соизмеримы?
Каким образом дух повторяется в предметах, предметы повторяются в духе?
Ясно, что сие тогда быть только может, когда предметы будут относиться
к духу как особенное или особности к общему; другими словами, когда
в едином будет заключаться многообразие, а единое распадаться в
многообразие. Но каким образом единство может распадаться в многообразие,
если не чрез расширение (экспансия), каким образом многообразие
обратится в единство, если не чрез сжатие (интенсия). Вставим теперь сии
выражения в выведенные нами моменты человеческого духа и тогда
получим: дух по экспансивной силе устремляется к предметам, предметы по
интенсивной силе сжимаются в дух — всякое явление есть противоборство
интенсии с экспансиею. Первая есть идея, вторая — фантазия. В области
идеи, или философии, первый момент духа (дух, устремляющийся к
предметам и возвращающий их к духу) есть философия, 2-й (предмет,
тождественный с духом) — религия, 3-й (предмет, возвысившийся до духа,
устремляющийся в предмет) — искусство. Сии три момента, сказали мы, суть
необходимое условие всякого явления.
Недаром сравнивали познания с пищею; в самом деле, они суть пища
духовная; но в сем выражении заключается более высшего смысла и более
верности в сравнении, нежели как обыкновенно предполагают. Рассмотрим
наши условия и что именно принадлежит к пище, или к питанию: одна
часть оной, обращаясь весом, становится сытым телом, другая извергается,
но из сего смертного извержения возникает новая жизнь. Мало того, разная
пища различным образом действует на тело — на общность всего процесса.
Представить подтверждение вышесказанной истины о беспрестанном
борении или напряженности периферии с центром, которая здесь должна
156
выразиться таким образом: получаемое извне снова обращается наружу.
Не таково ли и познание: условие его таково, что познающий есть вместе
и раздающий познание или научающий по сему внешнему закону
природы. Теперь — в каких формах оно выходит во внешность? Познание
обще всему человечеству — ибо потому только человек может действовать
во внешность, другими словами, человек не может жить без того, чтобы не
познавать, познание есть жизнь и жизнь есть познание: сие справедливо
не только в общем смысле, но и во всех частностях. Говорят, человек может
быть добродетельным без познания. Неправда! Раздать можно только то,
что получишь (не забудем при сем и то, что раздавание и получение
предполагают для того необходимым условием возможность того и другого).
Простолюдин, движимый добрым сердцем, анализирует другого — здесь он
пользуется также познанием или, что все равно, обстоятельством, которое
развило в нем магическую силу. Другой делится своим имуществом —
этому предшествует познание о пользе довольства. Но здесь сфера мала,
в ней часто заключается один человек, 10, даже 100 — это все мало; чем
более возвышен человек, тем сфера его увеличивается; ученый благотворит
человечеству. Познание и добродетель одно и то же, или основание
добродетели — познание. Точно то же и в изящном мире. Без познания нет
произведения. Познание сие также различается по разным сферам: оттого
различие произведений изящных. Теперь ясно, что в познании и
добродетели и изящество. Совершенная жизнь есть совершеннейшее познание.
СЕКТА ИДЕАЛИСТИКО-ЕЛЕАТИЧЕСКАЯ
(отрывок из словаря истории философии)
[...] Если бы кто захотел внимательнее посмотреть на отношения,
связующие явления с их началами, то нашел бы, что единственная причина
тому, что мы до сих пор и в искусствах и науках — только подражатели,
есть презрение к любомудрию. Ибо возьмем для примера частный случай:
где у нас для художника нить Ариаднина в лабиринте искусства; он
стремится сотворить что-либо новое, оригинальное, а ему во всех наших весьма
не философических естетиках твердят, что образование художника должно
состоять в изучении образцов (nos grands maîtres, как говорят поклонники
Лагарпов и Вольтеров), и к этому присовокупляют от времен Аристотеля
до сих пор еще повторяемое, но еще не понятное, не определенное какое-то
подражание природе. Вовлеченный в заблуждение условными правилами,
пораженный произведением какого-либо гения, художник забывает о
собственной деятельности и вместо того, чтобы быть соперником сего гения,
становится подражателем. Поневоле художник останавливается на
окружности, когда нет ему проводника к средоточию, из коего все явления
представились бы ему в гармонической, живой целостности.
«Мнемозина», М., 1825, ч. IV, стр. 162·
157
ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ В. КЮХЕЛЬБЕКЕРА
«Письмо XIX. Дрезден 14/2 ноября 1820
(отрывок из путешествия)»
Французы и их последователи научили нас строить целые системы на
началах, взятых от частного; таковые начала на первый взгляд кажутся
справедливыми (справедливыми потому, что составляют часть целого —
идеи), но впоследствии по причине своей неполноты необходимо влекут за
собой противоречие, неясность, сбивчивость. [...] Подобные ни на чем не
основанные системы [...] в царстве наук производят расколы. [...]
[...] Мир изящный — создание человека — основан на тех же единых,
неизменных законах, по которым движется и мир вещественный —
создание всемогущего... точно так же как в физике опыт, не освещенный
умозрением, может вести к одним заблуждениям, так точно и в словесности
система, взятая от мысли условной,— ведет к сбивчивостям. Много еще
есть людей, которые сомневаются в сих истинах. [...]
«Мнемозина», М., 1824, ч. I, стр. 62, 63, 64, 65,
РУССКИЕ НОЧИ
[логическое и эстетическое познание]
[...] Каждый человек должен образовать свою науку из существа своего
индивидуального духа. Следственно, изучение не должно состоять в
логическом построении тех или других знаний (это роскошь, пособие для
памяти — не более, если еще пособие) ; оно должно состоять в постоянном
интегрировании духа, в возвышении его, другими словами, в увеличении его
самобытной деятельности. Вопрос о том, до какой степени и каким образом
возможно это возвышение, каким образом оно может проливать свет на
все неизмеримое царство знания,— этот вопрос важен, и я не могу теперь
отвечать на него вполне; укажу только на некоторые отдельные его
разрешения. Так, например, для меня совершенно ясно, что эта деятельность
не возбудится тем или другим фактом, тем или другим силлогизмом, ибо
силлогизмом можно доказать, но не уверить; но что эта деятельность
может быть возбуждена между прочим путем эстетическим, то есть
«посредством непонятного начала,— как говорит Шеллинг,— которое
невольно и даже против воли соединяет предметы с познанием». Эстетическая
деятельность проникает до души не посредством искусственного
логического построения мыслей, но непосредственно; ее условие есть то особое
состояние, которое называется вдохновением, состояние, понятное только
тому, кто имеет орган сего состояния, но имеющее необъяснимую
привилегию действовать и на тех, у кого этот орган на низшей степени. [...]
В. Ф. Одоевский, Русские ночи. М., изд. «Путь»,
1913, стр. 318-319.
158
[«дух времени» как соединение противоречий]
[...] Случилась странность: все, что музыканты писали в угождение духу
времени, для настоящей минуты, для эффекта, ветшает, надоедает и
забывается. Кто захочет теперь слушать нежности Плейеля и рулады времен
Чимарозо? Россиниевский блеск уже погас! от Россини осталось лишь
несколько мелодий, проникнутых искренним чувством; все, что было им
писано по заказу, для той или другой ноты певца, для той или другой
публики, исчезает из людской памяти; певцы умерли, формы устарели [...]
А между тем живет старый Бах! живет дивный Моцарт! Напрасно дух
времени шепчет людям в уши: «Не слушайте этой музыки! эта музыка не
веселая и не нежная! в ней нет ни контраданса, ни галопа: скажу вам
слово еще страшнее: эта музыка ученая!» Благоговение к великим
художникам не прекращается; по-прежнему их музыка приводит в восторг, по
их музыке учатся, их творения разработываются учеными
комментаторами, как «Илиада» Гомера, как «Комедия» Данте. Не анахронизм ли это
в нашем веке? Вникнув в одно это странное явление (а их тысячи), мы
вправе спросить: «Так называемый дух времени не есть ли соединение
противоречий?» [...]
Там же, стр. 397—399.
[осоединении объективной
и субъективной поэзии]
[...] Мне всегда казалось, что в новейших драматических сочинениях
для театра или для чтения недостает того элемента, которого
представителем у древних был — хор и в котором большею частию выражалось
понятие самих зрителей. Действительно, странно высидеть перед сценою
несколько часов, видеть людей говорящих, действующих — и не иметь права
вымолвить своего слова, видеть, как на сцене обманывают, клевещут,
грабят, убивают — и смотреть на все это безмолвно, склавши руки.
Замкнутая объективность новейшего театра требует с нашей стороны особого
жестокосердия; чувство, которое не позволяет нам оставаться
равнодушным при виде таких происшествий в действительности, это прекрасное
чувство явно оскорблено, и я совершенно понимаю Дон-Кихота, когда он
с обнаженным мечом бросается на мавров кукольного театра, и того чудака
наших театров, который, сидя в креслах, не мог утерпеть, чтобы не
вмешаться в разговор актеров. Такими зрителями должен бы дорожить
драматический писатель; они, без сомнения, одни вполне сочувствуют пиесе.
Хор в древнем театре давал хоть некоторый простор этому естественному
влечению человека принимать личное участие в том, что пред ним
происходит.— Конечно, перенести целиком древнюю форму хора в нашу новую
драму есть дело невозможное, что доказывается и бывшими в этом роде
попытками; но должен быть способ ввести в нашу немилосердную драму
159
хоть какого-нибудь адвоката со стороны зрителей, или, лучше сказать,
адвоката господствующих в тот момент времени понятий, словом, то, что
древние наши учители в деле искусств считали необходимою принадлеж-
ностию драмы.— Стоит найти. А найти необходимо в наш век более
нежели когда-нибудь; selfgovernement \ например, проникает во все
движения мысли и чувства; a selfgovernement никак не ладится с этой бра-
минскою неподвижностию, которая требуется от зрителя новейшею
драмою; путь узок, как волос, как путь мусульманский, ведущий в жилище
гурий; с одной стороны грозит лиризм и резонерство; с другой —
холодная объективность. Может быть, когда-либо желаемая цель достигнется
сопряжением двух разных драм, представленных в одно и то же время,
между коими проведется, так сказать, нравственная связь, где одна будет
служить дополнением другой,— словом, говоря философскими терминами,
где идея представится не только с объективной, но и с субъективной
стороны, следственно, выразится вполне, следственно, вполне удовлетворит
нашему эстетическому чувству. Эта задача еще не решена; решить ее тем
или другим путем, решить удачно — дело таланта, но задача существует.
Там же, стр. 16—18.
Н. И. НАДЕЗКДИН
1804-1856
Николай Иванович Надеждин после окончания московской Духовной академии
преподавал в рязанской Духовной семинарии, а в 1826 году вернулся в Москву.
В 1830 году, защитив докторскую диссертацию, Надеждин стал профессором
Московского университета и читал лекции по археологии и теории изящных искусств.
До 1836 года он издавал журнал «Телескоп», закрытый за публикацию знаменитого
«Философического письма» Чаадаева; Надеждин был сослан в Усть-Сысольск.
Вернувшись из ссылки в 1837 году, он продолжал научную деятельность, но она не
имела прежнего общественного значения.
Идеалист в философии и эстетике, монархист, противник французского
материализма, Надеждин начал, однако, то синтезированна предшествующих
прогрессивных эстетических концепций, развивавшихся на русской почве, которое было
осуществлено Белинским, испытавшим в период формирования своих эстетических
идей воздействие Надеждина (хотя Белинский с конца 30-х годов и критиковал
Надеждина, в частности за недооценку творчества Пушкина). Надеждин
стремился связать в единое целое идеи классицизма и романтизма на основе
философии и эстетики объективного идеализма, главным образом в его шеллингианской
форме. Искусство будущего, по мнению Надеждина, должно преодолеть
ограниченность классицизма и романтизма и быть их синтезом. У Надеждина эта концепция
приобретает ясно выраженный диалектический характер, что наметилось еще у
Веневитинова и Одоевского: развитие духа человеческого и —как его эстетическое
1 Самоуправление (англ.).
160
выражение — развитие форм искусства осуществляется по триаде, так что высшая
стадия — синтез — объединяет на высшей основе оба предшествующих ему
момента.
Надеждин считал, что искусство, как одна из сторон деятельности людей,
«подлежит тому же закону постепенности», что и человечество в целом, что
литература отражает «органическое развитие воплощающегося духа человеческого». Он
говорил о «двойственности», о «синтезе противоположностей», составляющих все
сущее. Рассматривая искусство как единство субъективного и объективного, он
считал природу порождением высшего духовного начала. Но и с этих позиций На-
деждину удавалось видеть в искусстве активное воспроизведение того, что есть
в природе, обобщение того, что в ней представлено рассредоточенно. В
университетских лекциях Надеждин выводил идею красоты из «совершенной гармонии
жизни» *. Надеждин требовал, чтобы в произведении искусства не нарушалась
реальность изображаемого, не искажалась жизненная правда, чтобы искусство
изображало «нам верно то, что видит и слышит в природе».
Важнейшее значение для развития русской эстетики и художественной
критики имели утверждения Надеждина о том, что наука эстетика является
теоретической основой эстетической критики, которая должна отрешиться от субъективизма,
от ориентации на личный «вкус» и опираться на строгие, научно выведенные
законы, что художественное произведение является единством «формы» и «идеи». По
словам Чернышевского, Надеждин «первый дал прочное основание нашей
критике... первый ввел в нашу мыслительность глубокий философский взгляд» 2.
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ КЛАССИЧЕСКОЮ И РОМАНТИЧЕСКОЮ
ПОЭЗИЕЮ, ОБЪЯСНЯЕМОЕ ИЗ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
(О τ ρ ы в о к) 3
Дух человеческий есть гражданин двух противоположных миров. Как
свободная сила разумения, он есть дух чистый, бестелесный,
бессмертный — пришлец из обителей горней незримой жизни: но сей дух облечен
вместе плотию, слепленною из земного брения — есть обитатель дольней
видимой вселенной. Сия двойственность, различая саму себя через
самосознание, составляет основное начало полного человеческого бытия: ибо
человек тогда только начинает существовать человечески, когда силой
внутреннего самоощущения себя как представителя мира невидимого,
бестелесного, внутреннего противопоставляет природе как совокупной
целости видимого, телесного, внешнего мира и от ней отличает. Это есть сокро-
1 См.: Н. К. К о з м и н, Николай Иванович Надеждин. Жизнь и литературная
деятельность, Спб., 1912, стр. 321.
2Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. Ill, М., 1947,
стр. 163.
3 Отрывок из латинской диссертации Н. И. Надеждина, переведенный самим
автором. (Прим. сост.).
° «История эстетики», т. 4 (1 полутом)
161
венный смысл первого болезненного вопля, с коим рождающийся младенец
вступает в неприязненную вселенную. Да и что иное суть все явления
мужающегося человеческого духа, как не беспрестанные домогательства
добыть себе собственное самостоятельное бытие чрез сражение с
враждебной природой? Познавая, он возвращает внутрь себя то, что обретает вне
себя; действуя, он износит вне себя то, что внутри себя ощущает
возникающим. Таким образом, первоначальная точка, с коей дух человеческий
начинает жизнь свою, есть различие двух миров, прирождающихся в нем друг
к другу. И сие различие возвести снова к дружественному
гармоническому единству — есть основная задача для силы творческой, которая есть
не что иное, как жизнь, воспроизводящая саму себя. Само собою
разумеется, что различие сие проистекает не вдруг из того первоначального
единения, коим сдружено оно в составе человеческого существа благою
рукою самого верховного Всехудожника. Посему дух человеческий в
первую эпоху своей жизни едва только предощущает двойственность
существа своего, не имея ни желания, ни досуга, ни силы для ее разрешения.
Отсюда то младенческое неведение всякого различия, ограничения
и противоположения, которое восхищает наше изумление в
памятниках первобытной поэзии. Сквозь прозрачное стекло детского,
простого, не искушенного еще сознания ей представлялось тогда все в
едином, чистом, нераздробленном свете первоначального тождества. Для ней
не существовало различия между видимым и невидимым, матернею и
духом, природою и разумением. Она не ведала границ между временем
и вечностью, между пространством и беспредельностью. Перед ней
сливалось небо с землей, божество с человечеством. Такова древняя индийская
поэзия! Ее Рамайан есть непрерывная цепь воплощений очеловекотворя-
щегося божества: ее Саконтала есть торжественная лестница просветления
обоготворяемого человечества. Но таковое состояние духа человеческого
не могло быть продолжительно. Чем более возрастал он и мужался в
школе опытов, тем ощутительнее становилась для него собственная
двойственность. Поставленный среди беспредельного здания природы, он не мог не
претыкаться об нее всюду, куда только покушался простирать
раскрывающуюся свою деятельность: и по естественному противодействию должен
был отвсюду возвергаться обратно к самому себе. Отсюда должны были
произойти два различные стремления, коих взаимным противоположением
держится вся жизнь мужающегося духа человеческого: стремление вне
себя, расширительное, средобежное и стремление внутрь себя,
самовозвратное, средостремительное. По разрушении первоначального единства между
элементами, составляющими человеческое бытие, силою самосознания сии
два противоположные стремления вступают в сражение между собою:
и юный дух человеческий, не имея ни могущества, ни искусства
примирить и сочетать их снова, попеременно бывает игрушкою того или другого.
Или проторгается он вне себя столь необузданно, что растекается как бы
весь по безбрежному океану внешней природы; или, напротив,
устремляется внутрь себя и толикою силою, что весь видимый мир увлекает как
162
бы с собою и поглощает в бездонной пучине внутреннего своего бытия.
Сими двумя процессами определяются два периода жизни возмужавшего
духа человеческого, из которых каждому принадлежит свой особливый
характер; так что в каждом из них все его движения, покушения,
начинания и действия имеют собственную, характеру каждого соответственную
физиономию. Его созерцательное око либо стремится измерить
беспредельное море видимого мира; либо усиливается проникнуть в неисследуемые
глубины собственного существа своего: его действенная сила или
истощается в покушениях утвердить власть свою над внешней природой; или
берет и украшает саму себя всею мощию самодержавной свободы. Само
собою разумеется, что и сила творческая должна испытывать влияние сего
двойственного образа бытия и действования человеческого. Не то чтобы
она исключительно ограничивала себя сферою того или другого мира; ибо
по своей сущности должна стоять всегда на праге обоих миров и
допытывать тайну их гармонического сдружения, представляемого всеобщею
жизнью. Но идеал верховный изящества, долженствующий служить ей
первообразом для воспроизведения сей таинственной гармонии в
искусственных произведениях, может <быть ею отыскиваем и находим либо в том,
либо в другом мире. Единое вечное и беспредельное изящество само по
себе не доступно ни для какого сотворенного ока. Оно дозволяет только
лобызать край риз своих благоговейному чувству в явлениях, образующих
величественное царство природы или таинственное святилище духа
человеческого. Сии два великие образа вечного и беспредельного изящества
суть высочайшие первообразы для творческой человеческой силы. По ним
только может и должна она созидать свои творения. И здесь-то должно
находить свое изъяснение различие между поэзиею классического древнего
и романтического среднего мира К
Древний мир представлял средобежное расширение духа человеческого:
миру среднему, напротив, принадлежит средостремительное
самовозвращение. Там преобладал процесс жизни, проторгающийся извнутри вне;
здесь процесс жизни, сосредоточивающейся извне внутрь. Тогда природа
внешняя была единственным поприщем, на котором работала мысль,
подвизалась воля, одушевлялось искусство; в сие время, напротив, сам дух
человеческий составлял для самого себя предмет исследования,
обрабатывания и соревнования. Таким образом, классическая поэзия воплощала
преизбыточествующую полноту восторженного духа в творениях,
сооруженных по величественному образцу видимого мира; тогда как романти-
*Во избежание недоразумения должно заметить, что под именем романтической
поэзии разумеется здесь везде не более и не менее, как поэзия средних веков,
начавшаяся при возрождении Европы прованскими трубадурами и кончившаяся с
падением рыцарства, составлявшего душу среднего мира, и с началом нового
порядка вещей^ принадлежащего, собственно, последним двум столетиям. То, что ныне
слывет романтическою поэзией, составляет предмет особого рассуждения,
принадлежащего к составу целого опыта. Здесь же пока до сей последней никакого нет
дела.
6*
163
ческая поэзия как бы подслушивала внутреннюю гармонию мира
незримого, сокрывающуюся во глубине человеческой души, и отглашала ее в
своих гармонических произведениях.
«Атеней», 1830, ч. I, январь, стр. 1—8.
О НАСТОЯЩЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ И ИСКАЖЕНИИ
РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
[...] Таково свойство и устроение нашего духа, что он, существуя сам
через себя и действуя из самого себя, тем не менее должен постоянно
прикрепляться силою незыблемого тяготения к высшему неподвижному
средоточию, если не хочет потеряться в пустоте мрачной и беспредельной.
Сие неподвижное средоточие, сие верховное светило, сие вечное солнце,
окрест коего должен он неуклонно вращаться, есть бесконечное: поколику
оно проявляется в дивном здании внешней природы или в таинственном
святилище самого духа человеческого. Силе творческой должно оно
предноситься в более или менее ясном предощущении, как отрешенное начало
и вечная первосущность изящества, коего чша должна быть воспроизводи-
тельницей: и сие предощущение есть основание эстетической религии, без
которой никакая поэзия не удобомыслима. Душу сей религии составляет
благоговейная любовь к бесконечному, силою коей совершается блаженное
сочетание между им и творящим духом — благодатное начало всех
истинно изящных и высоких произведений. И сию-то любовь поэзия
классическая обращала на внешнюю природу, в коей видела высочайшую
представительницу беспредельного изящества, тогда как романтическая поэзия
посвящала ее человечеству, которое для нее было чистейшим зерцалом
красоты бесконечной. Но дух человеческий всегда и везде, а посему и в
эстетическом полудне своей жизни, редко ограничивается златою
срединою: он протекает предлежащее ему поприще — все, от края до края, не
утомляясь. Отсюда — в обоих периодах мужества человеческого,
классическом и романтическом, если существовали души рьяные и пламенные,
расточавшие святую любовь к бесконечному до сладострастного
изнеможения в чувственных наслаждениях конечными его образами, то, с другой
стороны, не было также недостатка в умах строптивых и мрачных, кои,
разочаровавшись в своих нежнейших привязанностях, остывали до
ненавистного ожесточения против всех прелестей, коими красуется бытие, как
отблеск вечныя жизни.
[...] Ныне — когда дух человеческий, отрекаясь от сыновней любви
к бесконечному, предается весь самому себе — он обрекает себя в добычу
неумолимому эгоизму, который, изощряя жало свое на все сущее,
погребает наконец самое «я» свое под развалинами подкопанного им бытия и
гибнет в бездонной пучине мрачного ничтожества.
[...] Никогда божественный Платон не мог нахвалиться тем, что имел
счастье родиться человеком; наши нынешние байронисты ничем столько
Ш
не брезгуют, как своим человечеством, и воздыхают завистливо о
блаженном состоянии зверей, растений и камней, не тяготящихся бременем
разумной жизни. О, когда бы исполнение столь безумных желаний положило
конец бесчестию, наносимому столь несмысленно и неблагодарно
человеческой природе! [...] Истинно — если бессмертие доступно еще до
чувствований скорби — сколько крушиться должны величественные тени Дантов,
Кальдеронов и Шекспиров при виде безумия, совершаемого во имя их со
столь невежественною самоуверенностью и собирающего еще похвалы и
рукоплескания, назло им самим и их великим предшественникам.
«Вестник Европы», 1830,~№ 1, стр. 26—37.
Менее негодования, но не более извинения заслуживают фигляры, кои
думают воскресить романтическую поэзию в китайских тенях мертвецов
и привидений. В наши времена это фокусничество еще обыкновеннее
сумасбродного выкликания байронистов. Не умея иначе зазвать на себя
внимание, певцы наши укутываются ночными мраками, заводят
знакомство с колдунами и ведьмами, шарят на кладбищах, перетряхивают
истлевшие остовы, одним словом, растревоживают всю бесовщину, дабы взять
по крайней мере испугом, когда не берет сила. Оно, конечно, и легче!
Дозволяя колдунам, мертвецам — а по нужде и самим чертям —
хозяйничать в своих вымыслах, можно очень обходиться без познания о природе
и о человеке, из которого в силу понятия об изящных искусствах
следовало бы развивать всю ткань поэтических произведений. Выгода
немаловажная для тех, кои, на боку лежа, затевают прослыть поэтами! Нужно
только зажиточное воображение — для того чтобы измыслить тысячи див
и страшилищ, одно другого уродливее, одно другого чудовищнее; и никто
не властен требовать отчета, почему сии призраки соплетены так или
иначе, ибо они принадлежат не к тому бедному миру, который мы
заселяем и которого законы можем подвергать строгим и точным выкладкам.
Но — зачем же это чернокнижие величать романтическою поэзиею?..
Конечно, нельзя оспоривать, что романтическая поэзия действительно любила
строения чар и пирования теней; но они составляли для нее
положительный догмат не только эстетического, но и религиозного верования. Итак,
пользовалась она ими не как художественными средствами развития
поэтической жизни, коими, в очах ее, слеплялися действительно между собой
звенья, образующие естественный порядок вещей. А этого-то именно в
настоящее время нет... да и быть не может!
Одни только дети у нас ныне верят сказкам о духах и мертвецах — из
добродушной доверенности к своим няням и кормилицам. И ежели
обветшалая рухлядь древней классической мифологии, обносящаяся в устах
нынешних краснобаев без внутреннего религиозного убеждения,
возбуждает скуку и зевоту, каким образом можно предполагать, чтобы гораздо
нелепейшие и бессмысленнейшие бредни, кои взрослым стыдно даже
и слушать, могли иметь для нас большую занимательность? Особенно же
когда им недостает и той прелести, коею увенчаны цветущие сны класси-
165
ческой мифологии? [...] Без сомнения — для не развращенного еще
искусственной прихотливостью чувства несравненно занимательнее прекрасное
изображение румянца Авроры, оставляющей стыдливо шафранное ложе
Тифона и отряжающей с золотых кудрей, развеваемых дыханием
утреннего зефира, младый свет на пробуждающуюся землю — хотя оно ныне
есть не более как риторическая фигура,— чем ужасное зрелище
отвратительных оргий, празднуемых в полуночной мгле оборотнями и мертвецами,
на пустынных кладбищах, среди желтых костей и белых черепов, с змеями
и жабами. Фантазии, обрекающей себя служению чистых муз,
извинительнее дорываться вдохновения в давно уже иссякшем источнике Инок-
рены, чем почерпать оное в отвратительном горшке, приготовляемом
гнусными ведьмами в роковую субботнюю полночь. Здравый вкус,
следовательно, должен быть снисходительнее к неоклассическому педантизму, не
смеющему пошевелиться без чиновного воззвания Перд и Камень, чем
к лжеромантической ипохондрии, для которой высочайшая степень
поэтического торжества состоит в неистовом ликовании с мрачными
призраками в преисподней мгле теней.
[...] Итак, призрак только один романтической поэзии — и притом самый
безобразнейший — представляют нам стиходеи, изливающие богатства
воображения на возбуждение сатанинских ужасов или бесовских
страхований. Что ж теперь остается еще сказать о той поэтической свободе, коей
восстановление и утверждение добывается ныне под именем романтизма.
[...] Нельзя, конечно, отрицать, что рабское ярмо французского вкуса,
возлагаемое на поэзию во имя Аристотеля и Буало, насилует истинное
достоинство и посему отнюдь не может и не должно быть терпимо.
[...] Подобно как природа в произведениях своих бесконечно
разнообразна и безусловно самовластна, точно так и поэзия, ее соревнователь-
ница и содейственница. Свобода — высочайшая свобода — составляет ее
необходимую стихию, без которой она превращается в мертвое
механическое ремесло пустозвучного рифмотворства. Но та ли это свобода, о которой
проповедуют нам лжеромантические гаеры? [...] Это не свобода мудрая и
благодеятельная, состоящая в неукоснительной покорности вдохновения
просветленного умом гения, но пагубное безначалие — истинной свободы
растление; обречение на позорное рабство своевольному буйству — в пере-
кор уму и в гибель воображения! [...] И именно — им хочется, чтобы поэзия
не ограничивалась никакими пределами, не видала никаких законов, не
подчинялась никаким правилам. Как будто бы искусство может быть
удобомыслимо без органического законоположения! Как будто бы природа,
коей оно соревнует, не есть вечный порядок, развивающийся по
непреложным законам! [...] Порабощать силу гения какому-нибудь кодексу,
хотя бы он был освящен авторитетом многих столетий,— Феб да сохранит
нас! Тем не менее однако — мы не можем позволить ей и блуждать по рас-
путиям своевольства без всякого внимания и уважения к коренным
законам поэтического благоустройства! [...] Странное дело! Искусство, коего
отличительное характеристическое свойство состоит в гармоническом соче-
166
тании звуков по законам соразмерности,— может ли позволять
внутреннему своему духу обходиться без того, что так строго соблюдает во
внешних формах? К чему послужит ему сия механическая просодия слов — без
органической, так сказать, просодии самых образов, коих слова составляют
только кору и оболочку? Позволительно ли тем, кои мастерски умеют
оковывать звуки мелодической мерой, не уметь внести стройный порядок
умственной связи в состав своих мыслей? Прилично ли тем, коих язык
боится оскорбить слух малейшею шероховатостью, издеваться
умышленно над законными требованиями здравого разума и доброго вкуса?
[...] Здравый вкус должен быть стражем и учредителем гения, если он
не хочет обратиться в мощь слепую и дикую; но вкус есть не что иное,
как верховный строитель поэтического правосудия, долженствующего
основываться на законах твердых и непреложных. Его власти не отрицала
и романтическая поэзия, во имя коей ниспровергается ныне вся
эстетическая управа.
«Вестник Европы», 1830, № 2, стр. 112—130.
[...] Теперь явно, что все затеи поэтических мятежников наших времен,
прикрываемые именем романтизма, клонятся к искажению доброго вкуса
и развращению силы творческой. И между тем — яд сей
распространяется всюду с неимоверною быстротою. Что может быть поставлено ему проти-
вуядием — действительным и целебным? [...] Ничто, кроме возвращения
к тщательному и благоговейному изучению священных памятников
классической древности: разумеется — не в поддельных французских слепках,
но из самых чистейших оригинальных источников. Ибо где можно найти
сию ясную светлость ума, сию благоразумную скромность воображения,
сию мудрую любовь к порядку и стройности, сию круглоту и
соразмерность роскошных образов, сию прелесть мощного, богатого и ограненного
со всех сторон языка, которая сияет в бессмертных творениях греков и
римлян — светом, понятным для всех веков и народов. [...] Их
внимательное созерцание восторгает чистую и ясную душу к высоким помыслам
и научает воплощать их в достойных образах, согласно с непреложными
законами изящества, которое возвещают сами столь выразительно и
торжественно. Сама даже романтическая поэзия, как мы уже видели, не
прежде достигла высочайшей степени своего совершенства, как воспрянув
из мраков всеобщего невежества и варварства к их созерцанию и
упившись до пресыщения лучезарным сиянием, ими проливаемым. И не по чему
другому, несмотря на беспрестанное изменение духа времени и народов,
везде и всегда изучение классической древности поставлялось во главу
угла умственного и нравственного образования юношества, как
первоначальная стихия питания развиваемой духовной жизни. Это очень
естественно! Кто хочет изучать прелести, коими убирается пред очами нашими
лик природы,— пусть любуется ею в час полудня, когда она расцвечена
роскошным сиянием лучезарного солнца, прежде нежели отважиться
в глубоком полночном безмолвии скользить взорами по вероломной позо-
167
лоте лунного колеблющегося мерцания! Переводя эту аллегорию на
прозаический язык, мы можем представлять себе поэзию классическую как
ясный полдень; а поэзию романтическую как глубокую полночь. Там все
светло, здесь тускло; там все осязаемо, здесь неуловимо; там все выпук-
лено в резких округлостях, здесь теряется в двуличневои перспективе; там
жизнь играет, здесь грезит; там красота светит, здесь отливается: туда,
следовательно, должны мы обратиться и там учиться искусству
наслаждаться сокровищами вечного изящества без расточительности и скупости.
И да будут нам побуждением и примером великие мужи, коими времена
наши достойно хвалятся!
[...] Изучение древности сопряжено со многими и притом слишком
тягостными трудами. Оно требует познания двух классических языков,
которое добывается не без кровавого пота; требует тщательного
проникновения в дух и судьбы древнего мира, ускользающие от беглого внимания;
требует любви к истине — чистой, бескорыстной, неутомимой. А это все —
не безделица! [...]
Итак,— прежде нежели приниматься за письмо — должно учиться!
Учиться... непременно учиться! [...] Само собою разумеется, что из круга
учения, необходимого для приуготовления к служению музам, не должна
и не может быть исключена и романтическая поэзия! Испытавши
тщательно все таинства маститой классической древности, любознательное
внимание естественно должно будет перейти на новое поле. Последние
судорожные вздохи мира древнего соприкосновенны с первыми
младенческими воплями среднего мира. Новый мир, новое поприще, новое рвение!—
И да не стыдится дух, полный сознания внутренней своей крепости,
исходить на позорище поэтической деятельности — с оружием, изощренным на
обломках минувшего!.. Как члены одного великого человеческого
семейства, мы должны жить общею жизнью человечества и шествовать наравне
с ним. Неприлично, следовательно, было нам ныне — во дни
величественной старости рода человеческого, умащенной вековыми опытами,—
притворяться младенцами и самим по себе снова начинать протеченное уже
поприще. Провидение наделило нас блаженным жребием — быть
преемниками и наследниками сугубой юности рода человеческого. Пред нами
распростираются два великие мира, изобилующие всеми богатствами
просвещения, деятельности и творчества. И — кажется — сама природа
изводит нас на решение великой задачи — возвести полярную
противоположность, ими выражаемую, к средоточному единству, не чрез механическое
их сгромождение, но через внутреннее динамическое сопроникновение и
сросление, так, чтобы все мраки противоречий, чреватые пагубными
заблуждениями, рассеялись — и воцарился ясный день тишины, мира и
гармонии.
«Вестник Европы», 1830, № 2, стр. 132—138.
168
ЛЕКЦИИ ПО АРХЕОЛОГИИ 1
1.06 изящных искусствах и их делении
«Искусство есть не что иное, как уменье осуществлять мысли,
рождающиеся в уме, и представлять их в формах, ознаменованных печатью
изящества». Следовательно, изящные искусства имеют два элемента: мысль
художника и форму, в которую он ее облекает. Мысли художника столь
разнообразны, что по ним никак нельзя делить искусства, а основанием
разделения должны быть «формы», «посредством которых мысль бывает
нам доступна». Художник берет формы или «из внешней природы», или
«из самого себя». «Поэтому искусства делятся на два рода: первый род
называется искусствами символическими, ибо форма есть символ,
наружная оболочка, одевающая творческую мысль. Здесь можем мы поставить
слово художество, которое по своему употреблению преимущественно
относится к искусствам символическим. Мы называем второй род
искусствами человеческими», ибо в данном случае «человек почерпает и идею
и форму из самого себя; им можно дать название поэзии в ограниченном
смысле этого слова. Конечно, поэзия проявляется и в художественных
произведениях, но она становится несравненно выше и обширнее, когда
человек облекает ее в образ, заимствованный из самого себя».
«Рассматривая искусства символические, где художник заимствует для
себя формы из нынешней природы», мы не должны принимать во
внимание «различие их между собою по различию вещества, служащего для их
выражения, но должны смотреть на самое выражение, данное им их
творцом, на форму, под которой нам предстают они. Итак, сии искусства
делятся по внешностям форм».
«Все, что действует на наши чувства, бывает где-нибудь и
когда-нибудь — следовательно, в пространстве и времени. Явления под влиянием
пространства представляются нам как образы без движения; под
влиянием же времени — как беспрестанное преемство»; «и то и другое
соединяется в движении, которое есть преемство существования в
пространстве. Если художник имеет в виду пространство и веществом для его
произведения служит масса, взятая им из царства природы, тогда искусства
получают наименование образовательных. Когда же они являются во
времени, бывают выражением преемственности и веществом для них служит
звук, единственный в природе представитель гармонического преемства,
1 Мы печатаем несколько отрывков из «Лекций по археологии» и «Лекций по
теории изящных искусств», которые имеют важнейшее значение для понимания
эстетической концепции Надеждина. Сам профессор этих лекций не печатал, и они
известны лишь по публикации Н. К. Козмина в упомянутой уже его книге
«Н. И. Надеждин» (Пб., 1912). В кавычках приводится текст записей лекций
Надеждина его учениками. Без кавычек дается текст Н. К. Козмина, без которого
смысл был бы неясен. (Прим. сост.)
169
тогда дают им имя тонических. Наконец, оба эти рода соединяются в
одном, где особенно имеется в виду движение,— это искусства
сценические». [...]
Не из внешней природы, а из самого человека «почерпаются» идеи
и форма искусств «человеческих», которым «дается название поэзии».
Человек состоит из духа и тела; последнее, будучи «предметом мира
физического», «может служить материалом только, для искусств
символических»; но человек «отличается от мира физического» мыслью, которая
«является в слове, как в форме». [...]
Основания для деления поэзии должно искать в мысли. Можно
«мыслить или о себе, или о том, что вне нас»; «следовательно, и выражать»
можно «или себя, или то, что вне нас». «Отсюда два рода поэзии: поэзия,
выражающая внутренний мир наш,— лирическая», и поэзия,
«живописующая мир внешний,— эпическая».
И. О происхождении изящных искусств
«Первая сила, освящающая сии начала изящной деятельности, есть
чувство религиозное. Религия составляет все, весь мир, всю жизнь младен-
чествующего человечества, ибо первое чувство есть сознание отношения
к силе всепроизводящей»; это чувство «кладет первую печать образования
и благородства на творческое начало, принимая под сень свою изящные
искусства». Религиозный характер заметен в первобытной архитектуре,
пластике, музыке, мимике, поэзии. Когда «начинается определение сил
жизни», период религиозный сменяется политическим. «Здесь внимание
народа, прикованное к религии, отторгается от существа верховного и
увлекается внешностью; здесь человек становится гражданином; из недр
семейства он вступает в свет и делается его членом, деятелем». Искусства
считаются «занятием общественным, служат к достижению народных целей».
За этим «направлением» следует «третий период падения искусств до
частных, домашних целей». «Общество отживает свою чреду», согласно
общим законам «начинает ослабевать»; «высокие идеи патриотизма
исчезают»; искусство, «последняя забава умирающего человечества»,
«скрывается в семействах и при дворе владетелей, тщетно старающихся
удержать его в падении». «Итак, жизнь изящных искусств, подобно жизни
всего в мире существующего, проявляется в трех главных периодах.
Начало пробуждения сей жизни находится в самом духе, а главное к сему
средство есть религия».
Н. К. К о з м и н, Николай Иванович Надеждив. Жизнь
и литературная деятельность. 4804—1856, Спб., 1912,
стр. 265-266, 269, 270, 272-273.
170
ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
I. Философия изящного
Изящными искусствами называются «проявления творческой силы
нашего духа, созидающей внешние ощутимые образы для выражения
незримой полноты мира идей». Несмотря на разнообразие изящных искусств,
должна существовать «общая идея изящного». Правда, «гармонический
звук» и «оттенок рисунка» разнородны,— но «в душе» человека «всегда
существует внутреннее сознание» прекрасного. «Идея изящества есть
неотъемлемая принадлежность всего человечества. Что есть прекрасного, то
признается всеми народами, и это согласие доказывает, что в человеке,
в духе его заключается первообраз красоты». Вывод «явлений мира из
одной общей идеи изящества» есть теория изящных искусств; как наука,
она «должна привести к единству все законы», «коими дух наш руковод-.
ствуется» при проявлении «творческой силы».
«Изящное, будучи разлито во всей природе, делается нам доступно
через чувство», которое возникает при «соприкосновении духа нашего
с действительностью. Оно есть основание изящного, и потому в философии
изящного (то есть науке, «приводящей все разнообразные явления в
природе и искусствах в одно целое, или отыскивающей идею, лежащую в
основании сих явлений») первое место занимает психология эстетическая. [...]
[...]■ Ни физическое, ни умственное, ни нравственнное, ни религиозное
чувство, отдельно взятое, не заключает в себе изящного, хотя каждое
необходимо должно входить в состав его». Наблюдение же эффектов,
производимых «прекрасными явлениями», приводит к заключению, что «во
время наслаждения вся природа наша действует в нераздельной своей
целости, полноте», и «если какое-либо чувство, физическое или умственное,
берет перевес»,— чувство изящного исчезает. Последнее есть «результат
действия гармонически настроенных сил». «Гармония есть согласие» или
«возведение множества к единству. «Две составные ее части:
разнообразие и соединение разнообразия. Разнообразие, отдельно взятое, не
произведет гармонии; душа развлекается, запутывается им и не может
наслаждаться всецельным полным чувством. Равным образом и монотонное
единство, несмотря на свою чистоту, умерщвляет чувство изящного;
необходимо их взаимное соединение». Гармония есть «разнообразие в единстве».
«Плод гармонического развития всех наших способностей», чувство
изящного «в отношении к нам есть радование, наслаждение своим бытием, а в
отношении к предмету, нас интересующему, есть любовь чистая,
бескорыстная,— и эта-то любовь есть чистейшая форма удовольствия,
производимого гармонией», она «составляет счастье человека, его отраду» 1.
1 По поводу этих рассуждений Надеждин ссылался на Бутервека. (Прим. сост.).
171
И. Об идее красоты
Исследование изящного «в явлении» дало результат, что душа,
наслаждаясь эстетически, «чувствует гармонию всех сил своих». Это явление
(phaenomenon), как и всякое другое, «предполагает существование
внутренней причины (noymenon), из коей оно истекает». Когда говорят «Это
прекрасно!» — высказывают «суждение, в котором уже ярко различаются
два элемента: предмет, возбудивший чувство, и наше определение этого
предмета, истекающее из внутреннего сознания красоты», которое есть
«причина всех феноменов чувства изящного». «Мы равно называем
прекрасными различные произведения искусства и явления природы»,
следовательно, «не от предмета», действующего на нас, «не из частных
впечатлений, но из сущности духа нашего почерпаем мы сознание красоты,
с коим только сравниваем предмет». «Равным образом и не чрез
логическое отвлечение составляется в душе нашей понятие изящного.
Логическое понятие, будучи приведением в единство многоразличных
впечатлений внешности, требует многих сравнений и суждений, предшествующих
его составлению; человек, видя прекрасное, тотчас называет его, прежде
всякой логической опытности. По законам мышления чем обширнее круг
понятия, тем менее оно имеет признаков, тем более становится сухим
и безжизненным; понятие красоты» «живо и светло» — и «не может быть
одинакового происхождения с логическими понятиями».
«Платон предполагает в человеке существование высшей духовной
силы, названной им noys; эта сила есть око души, созерцающее жизнь
вечную, обращенное к духовному миру», тогда как «око телесное обращено
к миру внешнему»; проявление этой «высшей силы» заключается в
познании «идей». «Сюда-то должно отнести понятие изящного». «Если бы оно
произошло через логическое отвлечение, то представляло бы только одну,
сторону, один род красоты, и тогда могло бы подойти под логическое
определение; но высшее созерцание, будучи отражением бесконечного, не может
быть определенным, ибо нет равных ему понятий; оно может быть только
описанным». «Жизнь духа есть непрестанный антагонизм его единства
с многоразличием внешности и стремление к гармонированию сего
борения. Дух наш или покоряет себе мир внешний, или подчиняется оному.
Отсюда две высшие идеи». «Когда дух покоряет природу внешнюю, ищет
в ней полного выражения», тогда возникает «созерцание
целесообразности», идея блага, «коей феномен есть чувство нравственное». «Когда дух
подчиняется внешности, стремится отразить ее многоразличие в своем
единстве, тогда рождается созерцание единства законов бытия с законами
мышления, идея истины, коей феномен есть умственное убеждение». Что
касается идеи изящного, «коей феномен есть гармония душевных сил», то
она является «не иначе как при совершенной гармонии духа и природы,
истины и блага». «Вывод сей справедлив, ибо могут быть только три
состояния духа нашего в отношении к природе и самому себе, равно как
существуют только три основные идеи: истины, блага и красоты. Идея красоты
172
есть совершенная гармония жизни, без преобладания какого-либо из
элементов, составляющих оную».
«Объективность сознания красоты, как гармонии жизни», сознания,
«найденного нами в духе человеческом», зависит от того, имеет ли оно
предмет или нет. «Предмет сей» существует и заключается в природе: «во
всяком явлении ее, эстетически нас занимающем, находим мы стройность».
«Предуставленная гармония Лейбница совершенно справедлива» в том
смысле, что основа явлений одна и та же в духе нашем и во внешности;
природа всегда соответствует человеку с тою разницею, что в ней
единство в многоразличии, в нас — «многоразличие в единстве»г
«Действительно, потребность истины рождается в нас, когда природа резко выказывает
смысл высокий в явлении, где мысль преобладает над формой; идея блага
возбуждается при виде яркой целесообразности в мире внешнем; наконец,
когда природа проявляет где-либо полную гармонию жизни, тогда
развивается в нас идея красоты». «Соответственность человека и природы в
отношении к изящному» была отмечена некоторыми учеными, и «общий закон
красоты» был определен как «приближение к гармонии природы».
«Без сомнения, общее .понятие гармонии могло бы родиться в нас при
созерцании совокупности творения; но природа доступна нам только по
частям, и мы можем составлять из нее только частные относительные
понятия о красоте; следовательно, хотя идея изящного и находит соответствие
во внешности, однако же происходит не из природы. Откуда же она
является в душе нашей? Где предметное, безусловное существование изящного?
Откуда равные природе идеи, не заимствованные из нее?»
«Платон для объяснения сего вымыслил миф предсуществования
души»; познание «высших идей» есть, по его мнению, «воспоминание,
сохранившееся в душе от лучшего мира», где души «благоденствовали
прежде земного бытия своего, созерцая вечное начало красоты, истины и блага;
беспредельность идей указывает на божественный их первообраз».
«Мнение сие совершенно справедливо», если отбросим мифологическую форму,
в которой оно выражено. «В природе находим мы гармонию жизни, услов-
ливающую изящное; но природа, по учению нашей религии, есть образ
божества, выражающий невидимое, вечное и совершенное в бесконечном
своем многоразличии — следовательно, начало истинной красоты в самом
боге». [...]
III. Аналитика изящного
Красота вселенной, «носящей на себе следы высочайшей гармонии»,
для нас не вполне постижима. «Много находится в природе явлений,
которые недоступны для нашего разума и цель которых» кажется «темною
загадкою». Причина этого — «чрезвычайная ограниченность» наших
чувств; мы признаем изящными только те явления, в которых «резко
обнаруживается гармония жизни».
«Все явления прекрасные, постигаемые нашими чувствами,
необходимо должны состоять» из идеи и формы, находящихся в «гармоничном»
173
соединении. «Если идея утончена до того, что потеряла свой образ»,— она
«перестает быть изящною, ибо такое явление интересует один только ра-
эум, но не доставляет никакой пищи чувству». И «форма, как бы ни была
прекрасна, если не проникнута мыслью», «будет незанимательна и
безжизненна». «Посему преобладание того или другого элемента совершенно
уничтожает изящество явления». Чтобы быть изящным, произведение
«должно интересовать как умственную, так и чувственную сторону
нашу» — «в нем гармонически должны быть соединены» идея и форма.
Идея — «начало жизни», «отблеск той вечной и беспредельной идеи,
которая заключена в глубине нашего духа». «Как в природе один и тот же
образ раздробляется на бесчисленные явления, так и идея бросает от себя
бесчисленные лучи. Идея бывает для нас живою, а не сухим логическим
понятием», «когда явления действуют на нас через живое впечатление»,
«открывают нам другой умственный мир и намекают на его таинственное
значение. Идея сия в отношении к явлениям есть начало и сущность их
бытия, а в отношении к уму есть сознание отношения явлений к высшему
началу бытия».— «Какие же свойства должна иметь идея или под какими
условиями она может быть доступна нашим чувствам?»
Первое характерное свойство ее — «высочайшее единство, в котором
должны сосредоточиваться все внешние формы явления». Затем, «хотя
идея в явлении одна и та же, но в уме нашем она может развиваться и
совершенствоваться» «чрез отделение от нее всех разнородных частей, ей
несвойственных и не входящих в состав ее сущности». На первых порах
наше «сознание» бывает «смутно, сложно»; «но чем более всматриваемся»
в идею, «тем более атмосфера ее редеет, и идея всходит к своей чистоте и
первообразному значению». «Отсюда рождается простота, отличительное
свойство идеи изящных явлений. Здесь отсекается всякая
двусмысленность, запутанность, многосложность», которые не могут вызвать
«эстетического интереса». Справедливость последнего замечания подтверждается
наблюдением над «искусственными произведениями». Второе свойство
идеи — «всеобъемлемость». Целый ряд однородных явлений есть
«развитие одной идеи», и «чем последняя проще, тем сфера ее обширнее и более
всеобъемлюща». Эта «всеобъемлемость проявляется и в произведениях»
«неистощимой» природы, ибо «ни один испытатель ее не исчислил всех
явлений одного рода». «Заключая в себе первообраз для бесконечных
явлений», «каждая идея бесконечна». «Бесконечность идей»,
обнаруживающихся в явлениях природы, «называется эстетическою бесконечностью
в произведениях искусства». «Каждое явление возбуждает какую-нибудь
идею» и «знаменует ее бесконечность», но не каждое явление —
эстетическое. «Для сего нужно, чтобы явление возбуждало идею, объемлющую все
совершенства, в нем заключающиеся». Так, и эстетична «Гекуба,
представляющая любовь тигрицы, у которой отнимают детей» и эстетична
«Мадонна Рафаэлева, в которой материнская любовь изображена во всей
беспредельности». Всеобъемлемость, а также простота и единство могут быть для
нас доступны, «когда они представляются» в «чувственных формах».
174
Отсюда третье свойство идеи—«эстетическая изобразимость». «Много есть
образов, кои ясно и определенно изображают идею», но не вызывают
«эстетического интереса». «Так, например, что может быть определеннее и
точнее математической изобразимости?» Но эта «изобразимость не
представляет ни единства, или простоты, ни всеобъемлемости, или бесконечности,
требуемых от идеи в эстетическом отношении». «Эстетическая
изобразимость должна быть совершенно другая; она может являться в
неистощимом разнообразии форм». В силу этой изобразимости «идея обращается
в идеал, который вполне отражает простоту и всеобъемлемость. Идеал есть
полный образ идеи, в котором отражаются все радужные лучи ее жизни»,
который «объемлет ее со всех сторон». «Способность облекать идею в
формы», без уничтожения простоты и всеобъемлемости, называется «фантази-
ею», которая есть «зеркало», где «отражается чувственный образ,
выражающий идею». «Изобразимость» последней «состоит в прямом ее действо-
вании на творческую фантазию».
Свойства формы находятся в «обратном» отношении к свойствам идеи.
Не в «простоте, или единстве», а в «сложности» «заключается совершенство
формы». «Простота» идеи «говорит только уму» и «могла бы утомить нас
своею однообразностью, Своею бесцветною ясностью, если бы она не
облекалась многосложностью форм». «Самая гармония состоит в том, чтобы
идею простую и единичную выразить в многообразных формах». «Единство
в разнообразии» вызывает «высшее эстетическое наслаждение», которому
«ничто так не вредит», «как однообразие явлений». «Бесплодная пустыня
не может действовать на нас эстетически, ибо взор здесь теряется в
беспредельности, ум погружается в какое-то невольное усыпление».— Далее
всеобъемлемости идеи может быть противопоставлена «индивидуальная
особенность» формы, «состоящая в том, что явление должно быть
самостоятельно, отдельно и удобопостижимо». «В природе все имеет тесную связь»,
и «не иначе можно постигнуть какое-нибудь явление, как в отношении
к целому»; «части, порознь изображаемые, никогда не могут быть
изящными», «равно и целое, составленное из отдельных, разнородных частей, не
может быть предметом изящного. Поэтому должна быть индивидуальная
особость формы».— Наконец, идея отличается изобразительностью, а
«форма должна быть знаменательна», «должна прояснять собою идею». «Это
свойство, иначе называемое эстетическою прозрачностью», «требует, чтобы
чувство наше постигало идею, заключающуюся в явлении, и чтобы идея
являлась под формою во всей своей чистоте». «Непонятные явления» «не
возбуждают эстетического наслаждения».
Исследование «свойств прекрасного, взятых со стороны идеи и формы»,
приводит к заключению, что последние «тогда только могут представить
нам явление изящным», «когда между собою гармонически будут
соединены» или когда между ними будет «взаимная связь».
Там же, стр. 312, 316—317, 319—326.
175
H. A. ПОЛЕВОЙ
1796-1846
Николай Алексеевич Полевой — один из виднейших русских литературных
деятелей 20—30-х годов прошлого века; историк, критик, журналист и писатель.
Издавал первый в России энциклопедический журнал «Московский телеграф» (1825—»
4834), оставивший яркий след в истории русской общественной мысли.
Полевой был сторонником буржуазного развития страны. Его общественно-
политическая программа предусматривала расширение прав купечества, развитие
промышленности («вещественного капитала»), помноженное на успехи
просвещения («невещественного капитала»).
Полевой выступил с резкой критикой «Истории государства Российского»
Карамзина, считая, что в ней нет «одного общего начала» 1, отсутствует поиск
исторических закономерностей. «Истории...» Карамзина он противопоставил свою
«Историю русского народа» (осталась незаконченной; вышли тт. 1—VI, 1829—1833)', в
которой сознательно ориентировался на достижения передовой западноевропейской
историографии (Тьерри, Гизо, Минье).
Философские воззрения Полевого не отличались глубиной и оригинальностью.
Он живо интересовался немецкой классической философией, но явное
предпочтение оказывал «эклектизму» Кузена.
В области эстетики и в литературной критике Полевой был сторонником
романтизма. Концепция романтизма приобретала у Полевого политическую окраску:
истоки романтизма критик видел в борьбе народов Европы против феодализма и
господства аристократии. Важнейший признак романтизма — это свободное творчество,
отвергающее искусственные правила: три единства в драматургии, четкое
разделение жанров, а в русских условиях еще и деление стиля («слога») на «высокий»,
«средний» и «низкий». Полевой оставил сугубо романтическую трактовку поэта
(художника) как человека «не от мира сего».
Касаясь вопросов эстетической теории, Полевой выступил против точных
определений и классификаций. «Простое чувство бывает всегда лучшим судьею» 2.
Поэзия — это «святилище», в которое «воспрещен вход холодному уму и испытующему
разуму человеческому»3. Эти положения Н. Полевого были направлены не только
против теории классицизма с ее излишней рассудочной регламентацией, но и
против философской эстетики.
В 1834 году «Московский телеграф» был закрыт правительством за
опубликование неодобрительного отзыва Полевого на лжепатриотическую драму Н.
Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». Сломленный духовно, Полевой вскоре
переехал в Петербург и сблизился с реакционными журналистами, стал одним из
приверженцев «официальной народности».
1 Н. Полевой, Очерки русской литературы, ч. II, Спб., 1839, стр. 20.
2 Н. Полевой, Очерки русской литературы, ч. I, Спб, 1833, стр. 92.
3 Там же, стр. 39.
176
СОЧИНЕНИЯ ДЕРЖАВИНА
(1831)
[...] Поэт родится: сделаться им, выучиться быть поэтом—нельзя.
Отличенный небесным знамением поэзии, он является в мир с гармоническими
звуками, с поэтическим взглядом, с особенным устройством души. Горе
ему, если мир обхватит его железными своими когтями и не даст ему
расцвести поэтической жизнию; еще более горе, если он не поймет самого
себя! Среди людей он будет странное, уродливое создание, жертва
страстей своих и чужих; жизнь его будет борьба между небом и землею.
Бессмертный миф слепца Омира, испрашивающего милостыни, ведомого
отроком,-^ вот истое изображение поэта в борьбе с миром! Напрасно,
подобно Данте и Мильтону, он вмешается в политические события; напрасно
любовь, как Камоэнсу, улыбнется ему на заре жизни; напрасно, как Тасс,
он призван ко двору властителей; как Шиллер или Байрон, хочет
подчинить себя тихому счастью семейной жизни: тревожный, беспокойный,
снедаемый внутренним огнем, поэт никогда не уживется с людьми, не
помирится с условиями жизни их! Но если он покорился им, увлекся ими,
тогда — Прометей, прикованный к скале Кавказа,— зачем при рождении
своем похищал он небесный огнь и оживлял им бременное свое
существо. [...]
Н. А. Полевой, Очерки русской литературы, Спб.,
1833, ч. I, стр. 39—40.
О РОМАНАХ ВИКТОРА ГЮГО И ВООБЩЕ
О НОВЕЙШИХ РОМАНАХ
(1832)
[...] Среди тяжких и великих движений политического мира человек
увлекался идеями истины (философия и науки) и идеями красоты
(словесность, и изящные искусства, и художества). Хотя сии стремления были
отдельны, частны, но они не могли не быть в то же время стихиями и
общественного образования, ибо каждый из нас, будучи ученым, художником,
литератором, в то же время человек, следственно, принадлежит религии и
обществу.
Здесь явилось два изменения. С одной стороны, идеи истины и красоты
начинались и зрели у каждого народа отдельно; с другой, увлекались
народы стремлением общим.
Таким образом, в последнем явился порыв возобновить и присвоить
себе прешедший мир изящного греков и римлян, когда в то же время
каждый народ развивал стихии своего собственного образования. Отсюда
разделение классицизма и романтизма.
То и другое было безотчетно; то и другое было под влиянием религии
и политического образования. Что из сего явилось? Сперва обозрим
историю классицизма.
177
При действии внешних причин, одинаковом и для романтизма,
сущность того, что впоследствии названо классицизмом, была отлична. В самом
основании мысль классицизма была ложная и насильно, неестественно
привитая к новому порядку дел.
Когда политическое волнение общества позволило уму человеческому
заняться изящным и философиею, люди, естественно, захотели узнать, что
прежде их было делано. Они нашли великие творения греков и римлян,
стали изучать их и, восхищенные ими, думали, что надобно было только
продолжать труд древних. Но они не заметили ни частного различия того,
что они без разбора брали у древних (Платона и Аристотеля, Омира и Вир-
гилия, Эсхила и Сенеки и т. д.), ни несообразности сих приобретений
с своею религиею, политическим образованием и стихиями народности.
Одно слово: древние, решало для них все сомнения. Изумленный ум их
безмолвствовал и не смел рассуждать. Несчастная мысль присоединилась
еще к этому. Когда древние творения были почтены абсолютными
образцами, решились извлечь из них абсолют изящного, захотели определить
его систематически, привесть в правила, раздробить аналитически. От сего
явилось школьное, риторское и ученое обезьянство, смесь мифологии
с христианством, схоластические определения высокого и прекрасного.
Ссылались на Аристотеля, желая доказать что-либо, призывали Феба и муз
в христианской эпопее, ставили трагедию на греческие ходули и одевали
в римскую тогу нового героя; долго щеголяли даже презрением народных
языков, как варварских, и старались писать по-латини. перенимая самый
образ латинских выражений у того или у другого древнего писателя.
Сперва определяемо было: как писать? А после того думали не о свободном
явлении творческой мысли, но о том, чтобы она приходила в назначенную
мерку школьных правил. [...]
Открылось, что каждый народ жил своею отдельною умственною
жизнью, сообразно местной природе и законам своей истории. Так,
неклассическая Испания показала собою высочайшую степень, до которой
религиозный и рыцарский дух и соперничество пришельцев с Востока может
довести поэзию; Англия явила пример независимой северной народности,
получившей от Реформации, религиозной и политической, самобытную,
дикую силу; Германия представила высшее стремление к источникам
философии и образец глубокого соединения философии с поэзиею. Это заставило
обратиться французов и к другим народам; следствия оказались одинакие:
богатства поэзии восточной, мужество горящей во льдах поэзии Севера
изумили наблюдателей. Узнали, наконец, что удивляющие величием
образцы происходили оттого, что истина и поэзия извлечены были ими из
свободного созерцания природы и самобытного развития духа каждого народа.
Всего этого не понимали, и не могли понимать, ни поэты гостиных
парижских, ни философы академических париков, ни забавные сен-жерменские
греки и римляне задним числом! [...]
Классики забыли: первое, что изящное творение есть свободное
явление духа каждого человека, которое должно сообразоваться только
178
с общностью рода творений, но не подчиняться ему безусловно, и что
совершенство его определяется силою восторга и обширностью ума. Так
гений превосходит других и творит новое, когда талант создает по образу,
данному гением, а бесталантность творит карикатуры его. Классики стали
математически разбирать изящное в великих творениях; составили
Уложение вкуса; по оному хотели заставить творить и судили творения.
Второе. Они хотели математически разделить и самые впечатления
и роды изящного. Комедия должна была непременно смешить, трагедия
плакать, сатира смеяться, басня заключать в себе нравоучительную мысль,
идиллия описывать пастухов. Вследствие сего определили не только формы
каждого рода, но даже предметы, коих должно касаться в каждом роде,
даже слова, которые должно употреблять в том или другом роде. Ничего
не может быть забавнее разделения слога на высокий, средний и низкий
и определений, что такое высокое, трогательное, страстное, нежное, и когда
оно употребляется, где оно прилично, и проч. и проч. [...]
Изящное есть прямая цель созданий изящных. Не силлогизма
нравственного ищем мы в нем. Если поэт будет изящен и истинен, то благо или
нравственность непременно осветит его творение. Но для этого он должен
изобразить нам человека вполне, верно, и если его создание будет таково,
то оно будет изящно; а тогда истина и благо отразятся на его творении.
Они будут неопределенны, но глубоко проникнут душу зрителя и читателя.
В сем отношении бешенство Ахиллеса, безумие богов Омировых,
страдания Дон-Кихота, ряд карикатур и портретов Лесажевых, Юлия —
преступная мать, неверная жена, ненавистный Ловелас, несчастная Клариса,
отчаянный Гяур, клятвопреступник Валленрод — жертва и тиран,
добродетель торжествующая и падшая, Ричард III, Фальстаф, Отелло, Гамлет,
Макбет, Ромео, Фауст — все они будут уроками нравственности, ибо они
суть глубокие создания души, потрясенной восторгом и проникнутой
истиною природы и человека. [...]
Роман только в наши дни получил свое высшее достоинство гением
В. Скотта. Этого нельзя отрицать. Не только Буало в свое время мог смело
называть романы вздором (frivolité), но даже и после него, когда роман
сделался творением более важным, после Ричардсона, Лесажа, Руссо,
немецких романов, он все еще не имел права на название сочинения
определенного и положительного. Представляя примеры великие (каковы:
«Новая Элоиза», «Вертер», «Вильгельм Мейстер», романы Жан-Поля), тем
не менее роман казался или мелким, или выходящим из положительной
жизни. Мелким казался он, когда романист рисовал сцены простой,
домашней жизни, маленькие страсти, маленькие бедствия. Многие романы,
например «Вакфильдский священник» Гольдсмита, романы Фильдинга,
Ричардсона, Бюрней, Ли, даже романы Пикара и Августа Лафонтена, были
очень милы, трогательны; но что же это? Миниатюрная живопись! При
ней роман не мог стать в ряд с главными отделениями изящных
созданий — эпопеею, драмою, лирикою. Картинки г-жи Мирбель прелестны; но
кто осмелится поставить их подле картин Рафаэля, Микеланджело, Доми-
179
никина, Мурилло? Давно уже старались пособить этому; покушений и
опытов были тысячи. Мы не пишем здесь истории романа, но скажем только,
что его усиливались слить и с историею, и с общественною жизнью, и с
миром фантазии, чтобы придать ему более широкие рамы. Но здесь-то и не
могли найти настоящей дороги. Годвин, Гёте, Жан-Поль, Руссо, Фр. Шле-
гель, Шатобриан облекали романом свои фантазии; Скюдери, Жанлис, Кот-
тен, Мейснер вводили его в мир истории; Лесаж, Вольтер, Виланд делали
на него сатиру; Радклиф, Шписс, Шиллер преобразовывали его в чудесную
сказку. Но везде явно было несогласие духа с формою. Возьмите «Вертера»
и «Вильгельма Мейстера»: вы видите, что автору надобно было проявить
только свои идеи, и форма имела для него единственно заслугу канвы, по
которой рука художника расцвечает мир страстей. История безобразилась
романом, ибо лица истории, переходя в роман, являлись карикатурами или
театральными списками истинных лиц и событий.
Новому времени, когда события обнажили жизнь человека вполне,
когда герои явились людьми, быт общественный раскрылся..., когда
изменился образ воззрения на все предметы..., роман должен был
преобразоваться. И В. Скотт первый узнал союз его с историсю. [...]
«Московский телеграф», 1832, № 1, стр. 97, 98, 101;
№ 2, стр. 224-225, 228-229, 231-233.
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
1814-1841
Великий русский поэт М. Ю. Лермонтов не оставил специально эстетических
статей и трактатов. Но в его поэзии и в предисловиях к сочинениям содержится
отчетливо выраженная эстетическая программа. Лермонтов, по словам Белинского,
сумел постичь «недостатки современного общества» и понять, что спасение от них
«находится только в народе». Конфликт с обществом нашел в поэзии Лермонтова
романтическое выражение. И в ее образах и в эстетических взглядах поэта многое
определяется непримиримым противоречием между возвышенным
гуманистическим идеалом, живущим в душе поэта, и обществом, которому чужды «мечты
поэзии, создания искусства».
Проблема «поэт и общество» волновала Лермонтова на протяжении всего его
творческого пути. Яркий представитель революционного романтизма, Лермонтов
утверждает возвышенную роль поэта в жизни людей, противопоставляя поэта —
носителя передовых идеалов неблагодарной, суетной, душевно мелкой толпе
современного ему дворянского общества.
Лермонтов прославляет поэта как выразителя чувств и дум народных,
призванного служить народу и вести его за собой. По его мысли, стих поэта должен
ввучать «как колокол на башне вечевой во дни торжеетв и бед народных».
Поэтому Лермонтов клеймит позором гонителей и палачей гения. В стихотворении
180
«Смерть поэта» эта общая тема лермонтовского творчества получает конкретное
выражение в виде страстного отклика на гибель Пушкина.
В стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (1840) Лермонтов не только
приподнимает завесу над творческим процессом поэта, но и клеймит общество,
глухое к его «пророческой речи», погрязшее в пороках и гонящее поэта.
В последующие годы жизни в связи с усилением реалистических тенденций
в его творчестве Лермонтов выдвигает задачу психологического анализа поведения
героев, ставит проблему типического. Эти мысли он высказывает в предисловиях
к своим произведениям.
Эстетические взгляды Лермонтова, развивая ряд идей, выдвинутых Пушкиным,
во многом (особенно в идее гражданского назначения поэзии) предвосхищают
Некрасова.
ПОЭТ
[...] В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.
Но скучен нам простой и гордый твой язык,—
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...
Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?
(1838)
М. Ю. Лермонтов, Сочинения в 6-ти томах, т. 2,
М.—Л., 1954, стр. 119.
181
ЖУРНАЛИСТ, ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ
О чем писать? ... Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум и сердце полны,
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна во след другой
Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг нижутся слова...
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт·
Но эти странные творенья
Читает дома он один,
И ими после без зазренья
Он затопляет свой камин.
Ужель ребяческие чувства,
Воздушный, безотчетный бред
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет...
Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко, без сознанья
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сияньи прежней красоты
Рисует память своевольно:
В очах любовь, в устах обман —
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
182
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум;
Картины хладные разврата,
Преданья глупых юных дней,
Давно без пользы и возврата
Погибших в омуте страстей,
Средь битв незримых, но упорных,
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно черных
И ложно радужных надежд.
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток...
Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решуся показать...
Скажите ж мне, о чем писать?
К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю...
(1840)
Там же, 148—150.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМЕ «СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(1831)
Я решился изложить драматически происшествие истинное, которое
долго беспокоило меня и всю жизнь, может быть, занимать не перестанет.
Лица, изображенные мною, все взяты с природы, и я желал бы, чтоб
они были узнаны,— тогда раскаяние, верно, посетит души тех людей... Но
пускай они не обвиняют меня: я хотел, я должен был оправдать тень
несчастного!..
183
Справедливо ли описано у меня общество? — не знаю! По крайней мере
оно всегда останется для меня собранием людей — бесчувственных,
самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе которых
сохраняется хотя малейшая искра небесного огня!..
И этому обществу я отдаю себя на суд.
М. Ю. Лермонтов, Полное собрание сочинений
в 5-ти томах, т. 4, М.~Л., ««Academia», 1935, стр. 183.
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
(1841)
[...] Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно, портрет,
но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего
поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не
может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности
существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы
не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами
гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как
вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше
правды, нежели бы вы того желали?..
Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините.
Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок:
нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после
этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться
исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества!
Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его
понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет
и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!..
М. Ю. Лермонтов, Полное собрание сочинений
в 5-ти томах, т. 5, М.—Л., «Academia», 1937,
стр. 185—186.
н. в. гоголь
1809-1852
Николай Васильевич Гоголь оставил развернутые высказывания и законченные
статьи по философским вопросам искусства. Его эстетические воззрения
неразрывно связаны с его творческой практикой и литературно-критическими
выступлениями. Вместе с тем Гоголь касается в своих эстетических рассуждениях не только
литературы, но и музыки, живописи, скульптуры, архитектуры, театра, танца.
Трудно назвать другого писателя, который бы столь широко охватил в своем
художественном мировоззрении различные виды искусства.
184
В раннюю пору своего творчества Гоголь воспринял романтические воззрения,
широко распространенные в России 20-х годов прошлого века. В статье
«Скульптура, живопись и музыка» (1831), входящей в сборник «Арабески», заметно влияние
идей Шеллинга и Гегеля. Гоголь пишет, что каждое из искусств в процессе
исторического развития человечества как бы приходит в мир и вновь покидает его,
переживая свой расцвет лишь в определенную историческую эпоху. Так, скульптуру
сменила живопись, живопись-—музыка. Что же станется с человеческими душами,
если и она утратит власть над ними? — спрашивает писатель. В идеалистической
форме здесь угадана враждебность века «меркантильных душ» развитию
искусства. Эта мысль дополняется выводом об упадке современной архитектуры,
сделанным в статье «Об архитектуре нынешнего времени», входящей в тот же сборник.
Вместе с тем уже в ранний период Гоголь выступает сторонником реализма,
народности и национальной самобытности литературы (статьи «Несколько слов
о Пушкине», «О малороссийских песнях»).
Преодолев наивный идеализм романтических иллюзий, Гоголь вместе с тем
на всю жизнь сохранил веру в высокую облагораживающую и просветительную
миссию искусства. Борясь за общественно активное, воспитательное значение
искусства, Гоголь призывал разоблачать и осмеивать пороки и низменные стороны
жизни во имя утверждения идеала. Он верил в возможность нравственного
преобразования человека и общества под влиянием искусства. Так, Гоголь выступал
против легковесных, развлекательных пьес и был поборником «высокой комедии»,
в которой «правит пьесою идея, мысль».
В поздний период жизни, испытав влияние реакционно-монархических и
религиозных взглядов, Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»
частично отразил эти взгляды и в трактовке роли искусства, в проповеди абстрактного
морализирования.
Мысли Гоголя, одного из основоположников критического реализма в
литературе, о типичности, правде, идейности в литературе, драматургии, театре
сохраняют актуальное значение. На писателя Гоголь смотрел как на «разрешителя
современных вопросов».
Тезис Гоголя: «истинная национальность состоит не в описании сарафана, но
в самом духе народа» неоднократно повторял Белинский, направляя его против
«официальной народности» и славянофильства. Мысли Гоголя о связи
профессионального искусства с народным творчеством выражают главное направление
развития русского классического искусства во всех его видах.
СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА
Благодарность зиждителю мириад за благость и сострадание к людям!
Три чудные сестры посланы им украсить и усладить мир: без них он бы
был пустыня и без пения катился бы по своему пути. Дружнее, союзнее
сдвинем наши желания и — первый кубок за здравие скульптуры!
Чувственная, прекрасная, она прежде всего посетила землю. Она —-
мгновенное явление. Она — оставшийся след того народа, который весь заключился
ж
в ней, со всем своим духом и жизнию. Она — ясный призрак того светлого
греческого мира, который ушел от нас в глубокое удаление веков, скрылся
уже туманом и до которого достигает одна только мысль поэта. Мир,
увитый виноградными гроздиями и масличными лозами, гармоническим
вымыслом и роскошным язычеством; мир, несущийся в стройной пляске, при
звуке тимпанов, в порыве вакхических движений, где чувство красоты
проникло всюду: в хижину бедняка, под ветви платана, под мрамор колонн,
на площадь, кипящую живым, своенравным народом, в рельеф,
украшающий чашу пиршества, изображающий всю вьющуюся вереницу грациозной
мифологии, где из пены волн стыдливо выходит богиня красоты, тритоны
несутся, ударяя в ладони, Посейдон выходит из глубины своей прекрасной
стихии серебряный и белый; мир, где вся религия заключилась в красоте,
в красрте человеческой, в богоподобной красоте женщины,— этот мир весь
остался в ней, в этой нежной скульптуре; ничто, кроме ее, не могло так
живо выразить его светлое существование. Белая, млечная, дышащая
в прозрачном мраморе красотой, негой и сладострастием, она сохранила
одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человека. В каком бы ни
было пылу страсти, в каком бы ни было сильном порыве, но всегда в ней
человек является прекрасным, гордым и невольно остановит атлетическим,
свободным своим положением. Все в ней слилось в красоту и
чувственность: с ее страдающими группами не сливаешь страдающий вопль сердца,
но, можно сказать, наслаждаешься самым их страданием; так чувство
красоты пластической, спокойной пересиливает в ней стремление духа! Она
никогда не выражала долгого глубокого чувства, она создавала только
быстрые движения: свирепый гнев, мгновенный вопль страдания, ужас,
испуг при внезапности, слезы, гордость и презрение и, наконец, красоту,
погруженную саму в себя. Она обращает все чувства зрителя в одно
наслаждение, в наслаждение спокойное, ведущее за собой негу и
самодовольство языческого мира. В ней нет тех тайных, беспредельных чувств,
которые влекут за собою бесконечные мечтания. В ней не прочитаешь всей
долгой, исполненной потрясений и переворотов жизни. Она прекрасна,
мгновенна, как красавица, глянувшая в зеркало, усмехнувшаяся, видя свое
изображение, и уже бегущая, влача с торжеством за собою толпу гордых
юношей. Она очаровательна, как жизнь, как мир, как чувственная красота,
которой она служит алтарем. Она родилась вместе с языческим, ясно
образовавшимся миром, выразила его — и умерла вместе с ним. Напрасно
хотели изобразить ею высокие явления христианства, она так же
отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные,
стремительные мысли це могли улечься на ее мраморной сладострастной
наружности. Они поглощались в ней чувственностью.
Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство
воздвигнуло из ничтожества и превратило в исполинское. Его порывом они
развились и исторгнулись из границ чувственного мира. Мне жаль моей
мраморно-облачиой скульптуры! Но... светлее сияй, покал мой, в моей
смиренной келье, и да здравствует живопись! Возвышенная, прекрасная, как
186
осень, в богатом своем убранстве мелькающая сквозь переплет окна,
увитого виноградом, смиренная и обширная, как вселенная, яркая музыка
очей — ты прекрасна! Никогда скульптура не смела выразить твоих
небесных откровений. Никогда не были разлиты по ней те тонкие, те
таинственно-земные черты, вглядываясь в которые слышишь, как наполняет душу
небо, и чувствуешь невыразимое. Вот мелькают, как в облачном тумане,
длинные галереи, где из старинных позолоченных рам выказываешь ты
себя живую и темную от неумолимого времени, и перед тобою стоит,
сложивши накрест руки, безмолвный зритель; и уже нет в его лице
наслаждения, взор его дыпщт наслаждением нездешним. Ты не была выражением
жизни какой-нибудь нации; нет, ты была выше: ты была выражением всего
того, что имеет таинственно-высокий мир христианский. Взгляните на нее,
задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою голову: как
вдохновенен и долог ясный взор ее! Она не схватывает одного только быстрого
мгновения, какое выражает мрамор; она длит это мгновение, она
продолжает жизнь за границы чувственного, она похищает явления из другого
безграничного мира, для названия которых нет слов. Все неопределенное,
что не в силах выразить мрамор, рассекаемый могучим молотом
скульптора, определяется вдохновенною ее кистью. Она также выражает страсти,
понятные всякому, но чувственность уже не так властвует в них; духовное
невольно проникает все. Страдание выражается живее и вызывает
сострадание, и вся она требует сочувствия, а не наслаждения. Она берет уже не
одного человека, ее границы шире: она заключает в себе весь мир; все
прекрасные явления, окружающие человека, в ее власти; вся тайная гармония
и связь человека с природою — в ней одной. Она соединяет чувственное
с духовным.
Но сильнее шипи, третий покал мой! Ярче сверкай и брызгай по
золотым краям его, звонкая пена,— ты сверкаешь в честь музыки. Она
восторженнее, она стремительнее обеих сестер своих. Она вся — порыв; она вдруг
за одним разом отрывает человека от земли его, оглушает его громом
могущих звуков и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет,
как по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обращает
его в один трепет. Он уже не наслаждается, он не сострадает, он сам
превращается в страдание; душа его не созерцает непостижимого явления,
но сама живет, живет своею жизнию, живет порывно, сокрушительно,
мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь мир, разлилась
и дышит в тысяче разных образов. Она томительна и мятежна; но
могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катед-
раля, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремит она в одно
согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления,
кружит и несется с ними горе, оставляя после себя долгое безмолвие и долго
исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни.
Как сравнить вас между собою, три прекрасные царицы мира?
Чувственная, пленительная скульптура внушает наслаждение, живопись —
тихой восторг и мечтание, музыка — страсть и смятение души; рассматривая
18?
мраморное произведение скульптуры, дух невольно погружается в упоение;
рассматривая произведение живописи, он превращается в созерцание;
слыша музыку,— в болезненный вопль, как бы душою овладело только одно
желание вырваться из тела. Она — наша! она — принадлежность нового
мира! Она осталась нам, когда оставили нас и скульптура, и живопись,
и зодчество. Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух,
как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей
и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все
составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных
изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить
наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих
страшных обольстителей и — бросились в музыку. О, будь же нашим
хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! буди чаще наши
меркантильные души! ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим
чувствам! Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот
холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром. Пусть, при
могущественном ударе смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствует, хотя на
миг, угрызение совести, спекулятор растеряет свои расчеты, бесстыдство
и наглость невольно выронит слезу пред созданием таланта. О, не оставляй
нас, божество наше! Великий зиждитель мира поверг нас в немеющее
безмолвие своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся
человеку он уже вдвинул мысль о зодчестве. Простыми, без помощи механизма,
силами он ворочает гранитную гору, высоким обрывом громоздит ее к небу
и повергается ниц перед безобразным ее величием. Древнему, ясному,
чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принесшую чистую,
стыдливую красоту,— и весь древний мир обратился в фимиам красоте.
Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от
грубых наслаждений. Векам неспокойным и темным, где часто сила и
неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял все
радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись, показавшую миру
неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный
и дряхлый век ниспослал он могущественную музыку, стремительно
обращать нас к нему. Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим
миром?
1831
Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений в 14-ти
томах, т. VIII, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 9-13.
ОБ АРХИТЕКТУРЕ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ
[...] Архитектор-творец должен иметь глубокое познание во всех
родах зодчества. Он менее всего должен пренебрегать вкусом тех народов,
которым мы в отношении художеств обыкновенно оказываем презре-
^Я
ние. Он должен быть всеобъемлющ, изучить и вместить в себе все
бесчисленные изменения их. Но самое главное: должен изучить все в идее,
а не в мелочной наружной форме и частях. Но для того чтобы изучить
в идее, нужно быть ему гением и поэтом.
Но обратимся к архитектуре городов. Город нужно строить таким
образом, чтобы каждая часть, каждая отдельно взятая масса домов
представляла живой пейзаж. Нужно толпе домов придать игру, чтобы она,
если можно так выразиться, заиграла резкостями, чтобы она вдруг
врезалась в память и преследовала бы воображение. Есть такие виды,
которые век помнишь, и есть такие, которых при всех усилиях не можешь
заметить в памяти. Зодчество грубее и вместе колоссальнее других
искусств, как-то: живописи, скульптуры и музыки, и потому эффект его —
в эффекте. Масса города имеет уже тем выгоду, что ее вдруг можно
изменить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строение
среди ее — и она совершенно изменяет вид свой, принимает другое
выражение, так, как всякий рисунок ученика вдруг оживляется под кистью
или карандашом его учителя, который в одном месте подкрепит, в
другом отделит, в третьем только тронет,— и все уже не то. Притом самые
ошибки уже подают идею о том, как избежать их, бесхарактерное
подает мысль о характерном, мелкое и плоское вызывают в
противоположность дерзкое и необыкновенное, углубление вниз подает идею о
возвышении вверх, и наоборот. Гений — богач страшный, перед которым
ничто весь мир и все сокровища.
При построении городов нужно обращать внимание на положение
земли. Города строятся или на возвышении и холмах, или на равнинах.
Город на возвышении менее требует искусства, потому что там природа
работает уже сама, то подымает дома на величественных холмах своих
и кажет их великанами из-за других домов, то опускает их вниз, чтобы
дать вид другим. В таком городе можно менее употреблять
разнообразия. В нем можно более употреблять гладких и одинаковых домов,
потому что неровное положение земли уже дает им некоторым образом
разнообразие, помещая их в разных местоположениях. Нужно
наблюдать только, чтобы домы показывали свою вышину один из-за другого,
так, чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядит
двадцатиэтажная масса. Там мало нужно искусства, где природа одолевает
искусство; там искусство только для того, чтобы украсить ее. Но где
положение земли гладко совершенно, где природа спит, там должно
работать искусство во всей силе. Оно должно пропестрить, если можно
сказать, изрыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни.
Здесь однообразие и простота домов будет большая погрешность. Здесь
архитектура должна быть как можно своенравнее: принимать суровую
наружность, показывать веселое выражение, дышать древностью,
блестеть новостью, обдавать ужасом, сверкать красотою, быть то мрачной,
как день, обхваченный грозою с громовыми облаками, то ясною, как
утро в солнечном сиянии. Архитектура — тоже летопись мира: она
189
говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания и когда уже ничто не
говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является
среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем
уже народе. Чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей
его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень
понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее
ступенью нашего собственного возвышения.
Неужели, однако же, невозможно создание (хотя дли
оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежних
условий? Когда дикий и малоразвившийся человек, которому одна природа,
еще грубо им понимаемая, служит руководством и вдохновением, создает
творение, в котором является и красота и тайный инстинкт вкуса,
отчего же мы, которых все способности так обширно развились, которые
более видим и понимаем природу во всех ее тайных явлениях,— отчего
же мы но производим ничего совершенно проникнутого таким
богатством нашего познания? Идея для зодчества вообще была черпана
из природы, но тогда, когда человек сильно чувствовал на себе ее
влияние; теперь же искусство поставил он выше самой природы,— разве не
может он черпать своих идей из самого искусства, или, лучше сказать,
из гармопического слияния природы с искусством? Рассмотрите только,
какую страшную изобретательность показал он на мелких изделиях
утонченной роскоши; рассмотрите все эти модные безделицы, которые
каждый день являются и гибнут, рассмотрите их хотя в микроскоп, если
так они не останавливают вашего внимания,— какого они исполнены
тонкого вкуса! Какие принимают они совершенно небывалые
прелестные формы! Они создаются в таком особенном роде, который еще
никогда не встречался. Резьба и тонкая отделка их так незаимствованы
и вместе с тем так хороши, что мы иногда долго любуемся ими и, увы!
вовсе не ощущаем жалости при виде, как гибнет вкус человека в
ничтожном и временном, тогда как он был бы заметен в неподвижном и
вечном. Разве мы не можем эту раздробленную мелочь искусства
превратить в великое? Неужели все то, что встречается в природе, должно
быть непременно только колонна, купол и арка? Сколько других еще
образов нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линия может ломаться
и изменять направление, сколько кривая выгибаться, сколько новых
можно ввести украшений, которых еще ни один архитектор не вносил в свой
кодекс! В нашем веке есть такие приобретения и такие новые,
совершенно ему принадлежащие стихии, из которых бездну можно
заимствовать никогда прежде не воздвигаемых зданий. Возьмем, например, те
висящие украшения, которые начали появляться недавно. Покаместь
висящая архитектура только показывается в ложах, балконах и в
небольших мостиках. Но если целые этажи повиснут, если перекинутся
смелые арки, если целые массы вместо тяжелых колонн очутятся на
сквозных чугунных подпорах, если дом обвесится снизу доверху
балконами с узорными чугунными перилами, и от них висящие чугунные
190
украшения, в тысячах разнообразных видов, облекут его своею легкою
сетью, и он будет глядеть сквозь них, как сквозь прозрачный вуаль,
когда эти чугунные сквозные украшения, обвитые около круглой
прекрасной башни, полетят вместе с нею на небо,— какую легкость, какую
эстетическую воздушность приобретут тогда дома наши! Но какое
множество есть разбросанных на всем намеков, могущих зародить
совершенно необыкновенную живую идею в голове архитектора, если только
этот архитектор — творец и поэт.
1831
Там же, стр. 71—75.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАПИСКИ 1836 ГОДА
[...] Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов!
Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина
звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице
влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из
сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки
кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается,
женится и хоронится русский человек. Все дорожное, дворянство и
недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый,
смуглый, с смолистыми усами казак, заряжая пищаль свою, поет старинную
песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский
промышленник бьет острогой кита, затягивая песню. У нас ли не из
чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное
начало. Он счастливо умел слить в своем творении две славянские
музыки; слышишь, где говорит русский и где поляк: у одного дышит
раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив
польской мазурки.
Петербургские балеты блестят. Кстати о балетах вообще. Постановка
балетов в Париже, Петербурге и Берлине ушла очень далеко; но надо
заметить, что совершенствуется в них только богатство костюмов и
богатство декораций; самая же сущность балета, изобретение его, нейдет
в ряд с его постановкой: балетные композиторы очень мало нового
показывают в танцах. До сих пор мало характерности. Посмотрите, народные
танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не так, как
швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как
француз, как азиатец. Даже в провинциях одного и того же государства
изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как малороссиянин, как
славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец говорящий, у
другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный, у другого
спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, воздушный.
Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера
народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и
бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа
191
беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое
самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного составил
в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность.
Руководствуясь тонкою разборчивостью, творец балета может брать из них сколько
хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собою
разумеется, что, схвативши в них первую стихию, он может развить ее
и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений
из простой, услышанной на улице песни создает целую поэму. По
крайней мере танцы будут иметь тогда более смысла, и таким образом
может более образнообразиться этот легкий, воздушный и пламенный язык,
доселе еще несколько стесненный и сжатый. [...]
Там же, стр. 184—185.
[АВТОРСКАЯ ИСПОВЕДЬ]
(1847)
[...] Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем
осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все
те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое
лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным: будет
бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет все ничтожно.
Нужно, чтобы русский читатель действительно почузствовал, что
выведенное лицо взято именно из того самого тела, с которого создан и он
сам, что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он
сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения,
которых никаким рассуждением и никакою проповедью не внушишь.
Это полное воплощение в плоть, это полное округленье характера
совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот
прозаический существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все
крупные черты характера, соберу в то же время вокруг все тряпье до
малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом —
когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня
в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских
людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. [...]
Там же, стр. 452—453.
ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ
IV. Отом, что такое слово
Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к
Храповицкому:
За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит —
192
сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела».
Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же
безукоризнен, как и всякой другой на своем поприще. Если писатель станет
оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной
неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его
слова, тогда и всякой несправедливый судья может оправдаться в том, что
брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные
обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом — мало ли на
что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства.
Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал
глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело.
Он не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли
приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист
ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет
в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его
бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им.
Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам
честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим,
выгоднейшим должностям и * сделал это не вследствие какой-нибудь
фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье божие, ведь ты
же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и
поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был
ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа? Словом, еще
какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться
обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег
по крайней мере целой половины од своих. Эта половина од
представляет явленье поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над
самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как сделал
это Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он
силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: все, что в
других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто
внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно;
а что хуже всего — здесь повторены те же самые обороты, выражения
и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его
одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то,
как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует.
Сколько людей теперь произносит сужденье о Державине, основываясь
на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств
потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и
бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере,,
душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья,
за которое он стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть
предано огню. Приятель наш Π н имеет обыкновение, отрывши
какие ни попало строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой
журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестью его. Он
7 «История эстетики» , т. 4 (1 полутом)
скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что
читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих
драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства», и тому
подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкой читатель останется
благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них
бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня
того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть
осторожней с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим
местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники,
сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные про-
поведатели бога, дерзавшие произносить имя его неосвященными
устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок бога
человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится
под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или
какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом -в те
поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него
такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим
желаньем добра можно произвести зло. Тот же наш приятель Π н
тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с
своими читателями, сообщать им все, чего ни набирался сам, не разбирая,
созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать
близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя
всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те
благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто?
приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? — Нет, они
заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде
всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет
работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою
передать поскорей в руки всем все, что ни находил на пользу просве-
щенья и образованья русского... И ни один человек не сказал ему
спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы
сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным
стремленьем к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я
должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за
искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы
понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он
сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет
возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит
ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его
кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и
свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно
раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный
гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него
так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному
известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно
194
шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших!
Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько
крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще —
слово, и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном.
Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться
гнилое слово; пусть уж лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах.
Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на
тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда
больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать
даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то,
что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш
предатель- «Наложи дверь и замки на уста твои, говорит Иисус Сирах:
растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы,
которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы
держала твои уста».
1844
Там же, стр. 229—232.
XIV. О театре, об одностороннем взгляде на театр
и вообще о б о дн о с то ρ о нно с τ и (1845)
[...] Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если
примешь в соображенье то, что в нем может поместиться вдруг толпа из
пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная
между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним
потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим
смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.
Отделите только собственно называемый высший театр от всяких
балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных
врелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и
тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая
трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от
всего. [...] Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие
драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще,
как можно чаще, повторяя беспрерывно одну и ту же пиесу. И это
можно сделать. Можно все пиесы сделать вновь свежими, новыми,
любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их
поставить как следует на сцену. Это вздор, будто они устарели и публика
потеряла к ним вкус. Публика не имеет своего каприза; она пойдет,
куда поведут ее. Не попотчевай ее сами же писатели своими гнилыми
мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала
бы их. Возьми самую заиграннейшую пьесу и поставь ее как нужно,
та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость, Шекспир
станет заманчивее наисовременнейшего водевиля. Нужно, чтобы такая
постановка произведена была действительно и вполне художественно,
7*
195
чтобы дело это поручено было не кому другому, как первому и лучшему
актеру-художнику, какой отыщется в труппе. [...]
Там же, стр. 268—270.
XXXI. В чем же, наконец, существо русской поэзии
и в чем ее особенность
[...] Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала
в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился
Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизо-
билья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато,
сосредоточено, как в русском человеке, который немногоглаголив на передачу
ощущенья, по хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого
долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит
наружу. Приведу пример. Поэта поразил вид Казбека, одной из
высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь,
показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились
бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти
строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращеньем:
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!
Именно одно это мог бы сказать русской человек, в то время как
и француз, и апгличанин, и немец пустились бы на подробный отчет
ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и
выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы
не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.
Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто
в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем
он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа
и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и
трепаком у кабака,— везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в
дорожной кибитке — все становится его предметом. На все, что ни есть
во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до
малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей,
он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе
видимой и внешней. Все становится у него отдельною картиной; все
предмет его; изо всего, как ничтожного, так π великого, он исторгает
одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует
во всяком творенье бога,— его высшую сторону, знакомую только поэту,
не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку,
не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя
к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до
кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним
одаренным поэтическим чутьем: смотрите, как прекрасно творение бога!
196
и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем,
чтобы сказать также: смотрите, как прекрасно божие творение. От этого
сочинения его представляют явленье изумительное противуречием тех
впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма
умных, но не имеющих поэтического чутья, они — отрывки
недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим
чутьем, они — полные поэмы, обдуманные, оконченные, все заключающие
в себе, что им нужно.
На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались
никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося
времени. Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направленье
мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку?
Подействовал ли на него если не спасительно, то разрушительно?
Произвел ли влиянье на других, хотя личностью собственного характера,
гениальными заблужденьями, как Байрон и как даже многие
второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал
собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое
сам поэт, и ничего больше,— что такое поэт, взятый не под влиянием
какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условьем также
собственного, личного характера, как человека, но в независимости
ото всего; чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший анатомик
душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт,
это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не
имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному
Пушкину определено было показать в себе это независимое существо,
это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук,
порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или
меньше личность его самого. Кому при помышленье о Шиллере не
предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших
и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная
тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему
Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек,
облагодетельствованный всеми дарами неба и не могший простить ему своего
незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в
поэзию его? Сам Гёте, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все,
как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим самым
наукообразным стремленьем своим личность свою, исполненную какой-то
терманской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться
ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин,
Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет.
Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер,
как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на все
откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все
сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе
всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву
197
с пим не вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос. Он сам на него
отвечает стихами:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему
запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался
он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня,— точно какой-то
храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил
он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не
вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все
там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо.
Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества
перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто
не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их!
Ни один итальянский поэт не отделывал так сонетов своих, как обрабо-
тывал он эти легкие, по-видимому мгновенные созданья. Какая точность
во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все
округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить,
которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые
уподобляет царь Соломон овцам-юницам, только что вышедшим из купели,
когда они все как одна и все равно прекрасны.
Как ему говорить было о чем-нибудь потребном современному
обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на все,
что ни есть в мире, и когда всякой предмет равно звал его? Он хотел
было изобразить в Онегине современного человека и разрешить какую-то
современную задачу — и не мог. Столкнувши с места своих героев, сам
стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт.
Поэма вышла собранье разрозненных ощущений, нежных элегий, колких
эпиграмм, картинных идиллий, и по прочтенье ее наместо всего
выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта. Его
совершеннейшие произведения: Борис Годунов и Полтава — тот же верный отклик
минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой
пользы соотечественникам не замышлял он выбором этих двух сюжетов;
не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь
из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы,
так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только
необычайности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему,
изумились другие.
J Там же, стр. 380-383.
[...] Поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие,
дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали
стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти,
разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой
198
стих и свой особенный звон. Этот металлический, бронзовый стих
Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот
густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина; этот
сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий как луч в душу, весь
сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова,
сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкой, воздушный стих
Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот
тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас
едкой, щемящей русской грустью,— все они, точно разнозвонные
колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли
благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как
думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под
колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец
еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и
нечувствительно сами собой стихают и умиряются его дикие страсти. Оно
так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже
невидимо настроит душу к слышанью чего-то лучшего еще прежде, чем
началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды,
воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех
поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить
всех к служенью более значительному. Нельзя уже теперь заговорить
о тех пустяках, о которых еще продолжает ветренно лепетать молодое,
не давшее себе отчета, нынешнее поколенье поэтов; нельзя служить
и самому искусству — как ни прекрасно это служение,— не уразумев
его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя
повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и не кто другой должен стать
теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем
не возьмешь — ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью
характера, ни гордостью движений своих: христианским, высшим воспи-
таньем должен воспитываться теперь поэт. Другие дела наступают теперь
для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому,
чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый
дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву
человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и
привилегии наши, но за нашу душу, которую сам небесный творец наш
считает перлом своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии —
возвращать в общество того, ' что есть истинно прекрасного и что изгнано
из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят они уже
никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она
будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней
выступят паши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот
самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди
нашей природы, тогда как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах.
Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых
упомянуто в начале этой статьи, Еще доселе загадка — этот необъяс-
199
нимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо
жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по
которой тоскует со дня созданья своего человек. Еще ни в ком не
отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего,
которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать
такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в
таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русской
человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может
сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени,
в которое нанесены итоги всех веков и, как не разобранный товар,
сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот
необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума,—
который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же
безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце
родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш
есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от
самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может,
живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почарпая, с одной стороны,
высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны,
выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий,
рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной
и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому
языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятли-
вейшего человека,— язык, который сам по себе уже поэт и который
недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было,
чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни
пристала к нам вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те неясные
звуки, неточные названья вещей,— дети мыслей невыяснившихся
и сбивчивых, которые потемняют языки,— не посмели бы помрачить
младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему, уже
готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще
орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из
которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже
насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела
загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть
в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего
никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу
Россию,— нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо
какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам
из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из
нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были
они различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один
голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь
действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».
Там же, стр. 407—409.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ИДЕИ
4060
годов
ПЕ ТРЛШЕВЦЫ
общественно-политической и литературно-эстетической
борьбе 1840-х годов петрашевцы играли заметную роль.
Они заявили о себе целой серией литературно-критических
и публицистических выступлений (В. Н. Майкова,
кМ. Е. Салтыкова, М. В. Петрашевского, В. А. Милютина,
(Р. Р. Штрандмана и других), а также рядом
художественных произведений (Φ. М. Достоевского, M. Е. Салтыкова,
А. Н. Плещеева, С. Ф. Дурова, А. И. Пальма, В. В. Тол-
бина и других). Ценный материал для характеристики общественной
и эстетической позиции петрашевцев дает «Карманный словарь
иностранных слов, вошедших в состав русского языка»; это коллективный
труд, имеющий значение их основного программного документа, но
состав его авторов не установлен: известно лишь, что редактором и автором
основных статей первого его выпуска (1845) был В. Н. Майков, а второго
(1846) — М. В. Петрашевский и что им помогал Р. Р. Штрандман,
впоследствии сотрудник «Отечественных записок» и «Современника».
Суждения петрашевцев об искусстве встречаются в набросках их статей, речей,
проектов, в автобиографических записках и письмах, а также в их
следственном деле.
203
Движение петрашевцев явилось крупнейшей после декабристов
вехой освободительной борьбы, и поэтому без учета их литературного
наследия нельзя составить полного и правильного представления о
развитии русской эстетической мысли. Это была не оторванная от русской
действительности и замкнутая в себе группа чудаковатых фантазеров-
фурьеристов, вся деятельность которых сводилась к «заговору идей»
и к смешной попытке устройства фаланстера, а разветвленная
организация, имевшая и свои периферийные филиалы. В сфере ее идейных
влияний находились широкие круги демократически и социалистически
настроенной интеллигенции. По оценке В. И. Ленина, историческое
значение общества петрашевцев определяется тем, что с него начинается
история социалистической интеллигенции в России, история ее
полувековых мучительных исканий, подготовивших почву для возникновения
марксизма 1.
С деятельностью петрашевцев связан и целый период истории
русской эстетической мысли, литературы, критики и журналистики. Это
нисколько не противоречит общепринятому положению о том, что
Белинский являлся главой русской демократии и русского реалистического
искусства. Он был знаменем и для петрашевцев. Белинский, конечно,
шире и разностороннее их, но страстное утверждение социалистического
идеала наложило характерную печать на все движение петрашевцев,
обусловив, в частности, своеобразие их эстетической программы. Она
была направлена на защиту реалистического искусства, главными
функциями которого петрашевцы считали бестрепетный анализ жизни,
анализ «внутреннего человека» в первую очередь, и утверждение веры
в социалистическое будущее. В этом одна из главных причин их
плодотворного воздействия на развитие искусства и развитие эстетической
мысли. Не случайна перекличка некоторых основополагающих идей
эстетики петрашевцев и Чернышевского.
Идеалы гармонического общества и гармонического человека и
обусловленные ими принципы психологического анализа в сложном
перевоплощении отразились прежде всего в творчестве Достоевского и
Салтыкова (в «Противоречиях» и «Запутанном деле», а позднее в «Господах
Головлевых» он выступил именно как художник-психолог). Но этим
далеко не исчерпывается влияние петрашевцев на развитие искусства,
литературы и эстетической мысли. Их идеи и настроения в большей или
меньшей степени преломились и в творчестве писателей,
непосредственно не связанных с движением петрашевцев, например в некоторых
произведениях Гончарова, Тургенева, Толстого, Григоровича, а также
в деятельности таких представителей других видов искусства, как Стасов,
Федотов, Рубинштейн, Вернадский.
Эстетические воззрения петрашевцев составляют органическую часть
их философских воззрений. В своих выводах они опирались на дости-
1 См.: В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 438.
204
жения философской мысли Белинского и Герцена. Из зарубежных
мыслителей сильное влияние оказал на них Л. Фейербах. Как и их старшие
современники, материалистическую теорию петрашевцы стремились
связать с идеей социализма. С позиций тогдашнего материализма и
социализма они решали и насущные проблемы эстетики.
В понимании гражданского назначения искусства петрашевцы шли
рука об руку с Белинским. Разногласия с ним возникли у них лишь по
вопросу о национальной специфике искусства. Как известно, Белинский
полемизировал с Майковым, но следует подчеркнуть, что он имел в виду
весь круг его единомышленников, когда говорил о «гуманических
космополитах». Эволюция Майкова от взглядов, близких Белинскому,
к идее безнациональной культуры как истинно человеческой очевидна,
но он пришел к этой идее в результате усиления в его миросозерцании
социалистических элементов, характерных для него как для петрашевца.
Взгляды петрашевцев по национальному вопросу антиисторичны и
потому ошибочны. Однако с буржуазным космополитизмом они не имеют
ничего общего. В основе этих взглядов лежит идея о великом
содружестве народов и единой для всего человечества культуре в будущем
гармоническом обществе.
Майков и его единомышленники разошлись с Белинским и в
суждениях о специфике искусства. Широко известна знаменитая формула
великого критика: «Видят, что искусство и наука не одно и то же, а не
видят, что их различие вовсз не в содержании, а только в способе
обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт —
образами и картинами, а говорят оба они одно и то же» 1.
Петрашевцы же видели специфику искусства в самом его содержании. Центр их
эстетической системы составляет человек как субъект эстетических
переживаний и как главный предмет искусства. Из специфики предмета
искусства («внутренний человек») они выводили и специфику его
содержания. Всестороннюю разработку эта проблема получила в «теории
симпатии» Майкова, которую разделяли и другие петрашевцы. На этой
теории лежит печать фейербаховского антропологизма, но сущность ее
определяет и здравая тенденция. Это одна из самых интересных попыток
решить вопрос о специфике искусства в органической связи с
материалистическим решением проблемы неповторимо своеобразного
воздействия произведений искусства на психику человека, проблемы
сопереживания, привлекавшей умы представителей различных философских
школ.
Слабые стороны эстетики петрашевцев находят свое объяснение в
исторических условиях того времени, но эти же условия помогают
понять и ее огромное прогрессивное значение. Эстетика петрашевцев,
материалистическая и демократическая в своих главных основаниях, служила
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений в 13-ти томах, т. X, Изд-во
Академии наук СССР, 1956, стр. 311.
206
в условиях 40-х годов действенным оружием в борьбе с идеализмом
и реакцией, была направлена на защиту реалистического искусства,
являлась одной из форм демократической критики
самодержавно-крепостнического строя, сдужила утверждению социалистического идеала.
Естественно, что она явилась необходимой исторической предпосылкой
эстетики революционных демократов 60-х годов. Ниже публикуются отрывки
из высказываний петрашевцев, раскрывающие их эстетические взгляды,
в основном из знаменитого «Карманного словаря иностранных слов»,
изданного в 1845—1846 годах В. Майковым и М. Петрашевским.
С. С. ДЕРКАЧ
[...] Жизнь так, как она идет теперь, слишком тяжела,
обременительна, переполнена всякого рода неприятностями и гадостями, чтобы
кто-нибудь не чувствовал тягости ее. [...]
Желанье, потребность выйти из этого состояния произвело науку;
страсти, чувствуя себя невыполненными в жизни, создали с помощью ее
инструменты и выразились в бесконечных звуках и образах. Наука
проясняет наше положение, дает нам понятие о природе, о взаимных
отношениях нас всех, о страданьях, о причинах страданий, о кончине
их и возможности счастия с удалением этих причин и представляет
бессмысленным, чтоб мы не перестали страдать,— цель ее осчастливить
нас, тогда кончится вся наука, исполнив свое назначенье. Тогда пропадет
и искусство, которое представляло только счастье в воображении; нас
не займут более идеалы его, потому что все увидим в действительной
жизни. [...]
1848. Д. Д. А χ ш а ρ у м о в, Автобиографическая
записка.— «Дело петрашевцев», т. III, М.— Л., Изд-во
Академии наук СССР, 1951, стр. 98—99.
[...] Все. что в человечестве было лучшего, будет ли то душа, сильно
любящая ближнего, нежное сердце, будет ли это глубокий ум, желающий
все взвесить и смерять,— все это тяготится его окружающей
действительностью, стремится отыскать ту форму быта общественного, при
которой блаженство для человека было бы возможным. Так всегда человек,
недовольный действительностью, ищет в мечте утешения или, не имея
силы из материалов настоящего создать лучшее, им желаемое,—
переносит свои желания в другой мир — ив нем дает полный разгул своему
творчеству. [...]
1849. М. В. Петрашевский, Объяснение, что такое
социализм.— «Дело петрашевцев», т. I, 1937, стр. 89.
Литература,— разумея под этим словом, за недостатком иного, более
общего, и самые художества,— есть выражение мысли живого
человеческого мира. Выражение есть явление или ряд явлений. Всякое явле-
206
ние обнаруживается живыми созданиями для созерцания и соображения
другим созданиям, имеющим на это врожденные потребности и
способности. В литературе эти создания суть авторы и их произведения,
созерцаемые миром читателей. Произведения авторов являются в
человеческом мире в виде книг, картин, изваяний. [...] Умственное и
вещественное производство каждого из этих видов выражения общественной мысли
составляет особую задачу.
1845. А. П. Баласогло, Проект учреждения
книжного склада с библиотекой и типографией.— «Дело
петрашевцев», т. II, 1941, стр. 19.
Любимым миром для воображения поэта должен стать внутренний
мир человека: не фактьг должны вдохновлять его,, а их источник. Само
собою разумеется, что в этом мире нет места фразам без содержания,
нет места восторгам без сознания, нет места исполинским подвигам без
глубоко разумного начала и, следовательно, нет места торжественным
одам на победы, переходы и многоценные празднества!.. Вот причина,
почему в наш век так глубоко упала ода и на ее месте водворились те
роды поэзии, которые соответствуют потребностям современного гения —
анализу внутреннего человека.
1846. «Карманный словарь иностранных слов,
вошедших в состав русского языка», вып. II, Спб., 1846,
стр. 267.
Человек не только в лирических своих порывах, но и поставленный
среди общества участником общечеловеческой драмы, как звено единой
цепи существ, ему подобных, как одна нота великого аккорда —
человечества, понятен композитору, как и поэту-писателю: мы знакомы с Дон-
Жуаном, с Ромео и Юлией, с Вильгельмом Теллем, с Семирамидой,
с Отелло, с Люцией не только по Шекспиру, Вольтеру, Шиллеру,
Вальтер Скотту, но и по Беллини, Моцарту, Россини.
Там же, стр. 333.
[...] Я думаю, что каждый человек есть единственное созданье не
только на земле, но и во всей вселенной, иначе природе не для чего
было бы создавать особой личности, а потому каждый носит в себе
особые способности, склонности, особый характер, какого ни в ком другом,
кроме его, нет; что каждый человек может единственно быть
счастливым вполне тогда, когда ему возможно удовлетворить всем своим
страстям [...].
1848. Д. Д. Ах шару м о в, Автобиографическая
записка.— «Дело петрашевцев», т. III, стр. 99—100.
207
Изящное есть, иными словами, живое, жизненное [...] и так как
жизнь равно разлита и в природе и в человеке, только в различных
видах, под различными условиями, то мы и не можем не сочувствовать
сердцем тому, что ло вкоренившемуся заблуждению кажется нам
мертвым: в природе есть и разум в виде законов, которым она подчинена,
есть и развитие, выражающееся в беспрерывной смене одних форм
другими, в перемещении частиц вещества, в притяжении и отталкивании,
в перемене фигур и цветов, есть, наконец, борьба, сопротивление, одним
словом, есть все, что мы в самих себе называем жизнью и что составляет
условие изящества. [...] Человек еще более сочувствует жизни,
выражающейся под условиями чисто человеческими.
«Карманный словарь иностранных слов, вошедших в
состав русского языка», вып. I, Спб., 1845, стр. 156—
157.
Однажды также спорил я с Дуровым и Достоевским о том,
должна ли изящная литература иметь цель свою в одном осуществлении
идеи прекрасного или может иметь ее и вне этого заколдованного круга,
отвлеченного германскими эстетиками, причем я держался мнения,
что литература должна идти об руку с действительностью и что поэт
должен быть прежде всего сыном своего отечества, ко благу которого
должен клонить всю свою деятельность.
1849. Ф. Г. Толь, Показания.— «Дело петрашевцев»,
т. II, стр. 164.
Современная наука [...] относит к литературе те произведения ума и
воображения, которые имеют какое-нибудь общественное значение...
Из этого следует, что литературным произведением в наше время
не признается то, что носит характер частности, в чем выразился
отдельный мир человека без всякого отношения к обществу и человечеству.
«Карманный словарь...», вып. I, стр. 167—168.
[...] Литература одно из важнейших дел в государстве. [...]
Литература есть одно из выражений жизни народа, есть зеркало
общества. С образованием, с цивилизацией являются новые понятия,
которые требуют определения, названия — русского, чтоб быть
переданными народу; ибо не народ может назвать их в настоящем случае, затем
что цивилизация не от него идет, а свыше,— назвать их может только
то общество, которое прежде народа приняло цивилизацию, то есть
высший слой общества, класс уже образованный для принятия этих идей.
Кто же формулирует новые идеи в такую форму, чтоб народ их по-
208
нял,—кто же, как не литература!.. Без литературы не может
существовать общество. [...]
1849. Ф. М. Достоевский, Показания,— В кн.:
Н. Ф. Б е л ь ч и к о в, Достоевский в процессе
петрашевцев, М.— Л., Изд-во Академии наук СССР, 1936,
стр. 82—84.
Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время
каким-то темным подозрением. [...] Литературе трудно существовать при
таком напряженном положении. [...] Целые роды искусства должны
исчезнуть: сатира, трагедия уже не могут существовать. Уже не могут
существовать при строгости нынешней цензуры такие писатели, как
Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин.
Там же, стр. 81—82.
Нет писателей, нет художников, нет мысли и воли на просвещение?..
Может ли это быть! В России есть и должно быть все, потому что Россия
не Лапландия и не Кафрария, не Китай и не какая-нибудь Ирландия,
а великая, средиземная, всеприморская, всенародная, всесовременная
империя в мире,— естественная связь, природная посредница всего
человечества, величайший и мудрейший из его современных членов,
существующих держав земного шара. В ней-то и должны быть люди,— нигде
инде, как именно в ней. И они были, начиная с Петра до второго
русского Ломоносова — прасола Кольцова, умершего в цвете лет на
наших глазах. В России нет только веры в Россию, и скорее нет
общежития, людкости, а не людей.
1845. А. П. Баласогло, Проект учреждения...—
«Дело петрашевцев», т. II, стр. 18—19.
Писатель принадлежит миру, потому что в то время, когда мир
трудится около него в поте лица над обработкой всех отраслей
общественного благосостояния, он, пользуясь всеми результатами этого
многосложного труда, собственно ровно ничего не делает вещественно; и если
общество безмолвно соглашается его кормить, поить и одевать,
представляя ему пользоваться всеми удобствами гражданской жизни,— оно
это делает в том предположении, что писатель даст наконец отчет в
результате своих отвлеченных занятий для дальнейшего соображения его
выводов и применения их к общему благу.
Там же, стр. 21.
Писатель — гражданин, как и все; он на своем поприще должен быть
тот же воин и идти напролом, на приступ, в рукопашную схватку!..
1849. Показание А. П. Баласогло.— Там же, стр. 90.
Посвятив себя исключительно служению истине или изяществу,
сосредоточив все свои мысли, чувства и желания на этом священнодей-
209
ствии, люди создают себе особенный мир, особенную жизнь и забывают,
что истина и изящество не отвлеченные идеи, что они тесно слиты с
действительностью, с жизнью... Ясно, что деятельность их остается мертвою,
существующею без цели, без связи с деятельностью общества. При таких
обстоятельствах истина и изящество не проникают сего последнего и
существуют как призрак, как мечта.
«Карманный словарь...», вып. I, стр. 4—5.
Содержание лирического произведения тем более, чем возвышеннее
личный характер поэта. Но жестоко ошибаются те, которые думают,
что лирический поэт для того, чтобы быть занимательным в своих
излияниях, должен отличаться от обыкновенных людей
необыкновенностью (иначе, странностью) своих чувств и мыслей. Защитники этого
нелепого и устарелого мнения говорят, что в противном случае он не
выходит из ряда людей пошлых. Но на это можно сказать, что поэт —
все-таки человек, и что по тому самому, выражая мысли и чувства не
общие всем людям, находящимся на известной степени образованности,
он явно обманывает себя и других, то есть пишет о том, чего не
понимает сам ни умом, ни сердцем... Он скажет нам: «толпа не понимает
поэта». Но на подобные выходки должно ответить тем, что поэт
отличается от обыкновенных людей не сущностью своих чувств, а высокой
степенью их силы и способностью выражать их так осязательно и
сильно, что мы не можем не узнать в них собственных чувств своих в
полном могущественном их развитии.
Там же, стр. 166—1G7.
Это слово [нация] часто употребляется вместо слова «народ» в тех
случаях, когда имеют в виду обратить внимание читателя или
слушателя на племенную родственность членов какого-либо народа,— на
происхождение их от одного родоначальника или указать на происхождение
оттуда общности языка, обычаев и нравов, имеющих силу в каком-нибудь
народе. Всякий народ или нация, рассматриваемые с гуманной точки
зрения, является в тех же отношениях к целому человечеству, как вид —
в отношении к роду, и, только постепенно развиваясь, то есть утрачивая
свои индивидуальные, частные признаки или прирожденные свойства,
он может стать на высоту человеческого, космополитического развития
(s'élever au degré du perfectionnement humanitaire), тогда только может
настать для него время постижения общечеловеческих интересов, тогда
только развитие его жизненных сил будет совершаться гармонически
с требованиями целого человечества.
«Карманный словарь...», вып. II, стр. 220.
Чтобы художественное произведение могло пленять нас, надо, чтобы
между изображением художника и сердцем зрителя было что-нибудь
общее, какое-нибудь соприкосновение, порождающее сочувствие. Поэтому с
210
первого взгляда кажется сомнительным, чтобы изображение мертвых,
бесчувственных предметов могло быть пленительно, изящно. Но заметим, что
каждая местность имеет то, что называется характером и что
заставляет нас прибегнуть, говоря о ней, к прилагательным, заимствованным
из нашего человеческого мира. Мы говорим веселый вид, угрюмый вид,
величественная, грозная местность и т. п. Из этого нельзя не заключить,
что природа производит на нас впечатления, совершенно
соответствующие тем, которые производятся близкими к нам, человеческими
явлениями... Как не понимать, что человек и природа составляют одно
неразрывное целое, которое может быть названо бытием, жизнью (в
обширном смысле)?.. Человек еще более сочувствует жизни,
выражающейся под условиями чисто человеческими.
«Карманный словарь...», вып. I, стр. 156—157.
[...] Пусть науки наделяют нас всеми сокровищами знаний и
приобретений мысли,— право сделать человека человеком все-таки остается
у литературы. [...]
1849. Б. И. У тин.— «Дело петрашевцев», т. III,
стр. 337.
На пути всякого развития необходимы крайности: мысль, пока она
не обошла своего предмета со всех сторон, попеременно увлекается то
той, то другой стороной; в этих-то уклонениях и состоит процесс
развития. В первый период жизни неделимого общества или человечества
чувство, не сдержанное мыслию и усиленное фантазиею, царствует
вполне. [...]
Далее пробуждается мышление: отдельные предметы и частные
явления обобщаются, возводятся в отвлеченные понятия... Свободные
создания воображения частных личностей возводятся в общие понятия,
образуются роды словесных произведений и их теории. Но и здесь —
тот же закон уклонения: создание мысли — теория, переходя в
крайность, превращается в догматику, в неподвижные правила. [...] В истории
развития слова — это период классический, период риторики,
правильных, но редко поэтических произведений. [...] Так как развитие словесности
идет наравне с общечеловеческим развитием, то этот второй, средний,
период литературы вполне соответствует и современен второму,
среднему, периоду умственного развития человека, когда мысль, дойдя до
общих начал и чувствуя невозможность идти далее, останавливается
к временно успокаивается на них, на этих темных метафизических
началах.
Но мысль по существу своему не может оставаться в покое. Она
наконец отказывается от невозможного, спускается на землю и
принимается за строгий разбор того, что ей доступно, что у ней, так сказать,
под руками. Это — период разумно-положительный, период анализа.
Перед силой анализа рушатся прежде установленные начала; авторитет,
211
общие места, догматика исчезают. Вера остается за тем, что разобрал
и одобрил разум... Как бы ни было материально громадно явление, разум
отыщет его исходный пункт, разложит на составные начала,— и громада
распадется. События, деяния человеческие тогда только поразят мысль
и пробудят восторг, если в них лежит глубоко разумное начало...
Переходя к словесности, нельзя не заметить, что при таком положении вещей
любимым миром для воображения поэта должен стать внутренний мир
человека.
«Карманный словарь...», вып. II, стр. 266—267.
Лирическая поэзия — [...] произведения поэзии, которых содержание
заключается в мысли и чувстве самого поэта, облеченных в
художественную форму. [...]
Хорошо, если поэт так дорог публике, что она интересуется всеми
частностями его жизни и личных отношений. Но большею частью
подобные выходки [сообщать в своих произведениях мысли и чувства, не
имеющие интереса ни для кого, кроме самого автора] свойственны
людям мелким, которые не в состоянии возвыситься над кругом своих
частных дел, приключений и чувствований.
«Карманный словарь...», вып. I, стр. 166.
В деле изящных искусств драмой называется изображение жизни
в ее движении, или, выражаясь определеннее, воспроизведение тех
положений человека, где он является в какой-нибудь борьбе с судьбою, или
с обществом, или, наконец, с своею собственною страстью.
Там же, стр. 65.
Барокко.— Художественный термин для обозначения всего, что
уклоняется от чистого вкуса и принятых правил. [...] В живописи —
неестественные, форсированные позы фигур, натянутые трагические положения,
как, например, в французской школе живописи, в конце прошедшего
и начале нынешнего столетия, или, с другой стороны, тривиальность
в изображении важных сюжетов; в архитектуре — излишнее, безвкусное
украшение зданий и т. п.
Там же, стр. 12.
«Эпоха классицизма» — остатки старинного, широкого барского житья
слились с европейской утонченностью, и из этой смеси под влиянием
тогдашнего блестящего царствования образовалась эпоха великолепных
пиров и праздников, и поэзия славила жирные обеды и тех, кто их
давал, и наивно любовалась разноцветными огнями феерверков и
иллюминаций.
«Карманный словарь...», вып. II, стр. 268.
212
[...] Для романтиков, для людей маломыслящих, не имеющих
правильного сознания действительности, разумеется, такая прозаическая
решимость, устраняющая всякое тревожное волнение в жизни, всякую
эффектность, все так называемое высокое и величественное, всю
театральность, всякую нужду разучивать, а пожалуй, даже и разыгрывать
такие роли, какие нам сыграть не под силу, мешающая одну пылкость
наших желаний принимать за способы их осуществления и смотреть на
всю окружающую нас действительность как на со[м]намбулу,
подчиненную [...] властительному магнетизерскому взгляду, эта решимость для
гг. романтиков покажется смешной, чересчур скромной, пожалуй, они
ее назовут унижением достоинства человеческого. [...]
1848/1849. М. В. Петрашевский, Черновик письма
К. И. Тимковскому,— «Дело петрашевцев», т. I,
стр. 526—527.
Всякая деятельность человека как частная, так и общественная, все,
что он создает на основании своих потребностей и способностей, все это
подчинено законам, от которых он не должен уклоняться, и по тому
самому подлежит разбору, суждению, анализу. Этот суд ума над
действительностью и называется критикой. Ясно, что критика ничего не создает,
но она пролагает путь созданию. Жить без критики, без обсуживания
дел своих и чужих — значит прозябать подобно растению, жить очертя
голову, как говорит русский народ. Большая часть человечества живет
таким образом, то есть не рассуждая о том, как надо жить. Напротив
того, каждый народ развивающийся, переходящий период младенчества,
юношества и мужества, непременно имеет в своей истории эпоху
критическую, время, когда вдруг пробуждается размышление; он одумывается
и спрашивает себя: разумны ли были до сих пор его жизнь и
деятельность, согласны ли с здравым смыслом понятия? [...] Наш век есть век
критический; но наученные примером предков, мы анализируем, имея
в виду не одно разрушение старого, но и создание нового.
«Карманный словарь...», вып. I, стр. 149.
В. Н. МАЙКОВ
(1823-1847)
[...] Отделившись от земли своими высокими понятиями о вещах, могут
ли они [романтики] не гнушаться тем, что составляет цвет земной жизни,
ее верность собственным законам, ее логику, ее поэзию? По нашим пошлым
земным понятиям здоровье есть разум и красота развивающегося
организма. Но само собой разумеется, романтизм по высоте, с которой смотрит
он на нашу планету, может пленяться только тем, что отступает от обык-
213
новенных законов развития, что переходит в болезнь, в аномалию, в
пикантное безобразие. Свежесть лица, крепкая, крутая грудь, хороший
аппетит, веселость и бодрость духа, социальность, счастливая любовь,
выгодный труд, исполняемый не поневоле, все это такие вещи, которые нам,
презренной чернорабочей толпе, кажутся необходимыми условиями законного
существования, и по тому самому все противоположное этому мы
считаем злом. [...]
1846. В. Н. Майков, А. В. Кольцо в.—
«Критические опыты», Спб., 1891, стр. 15.
Никто не вправе требовать gt художника, чтоб он творил то или
другое: но для того чтобы произведение его могло действовать на людей,
оно должно заключать в себе что-нибудь общее с их мыслями, чувствами
и стремлениями. Иначе искусство существовало бы только для самих
художников и было бы их самоудовлетворением; иначе не могло бы быть
и любимых поэтов ни у частных лиц, ни у народов, ни у веков.
Там же, стр. 24.
Мы привыкли замечать влияние изящных произведений только на
развитие самого искусства, как будто бы только в том и состоит их
история, что поэт такого-то времени имеет влияние на того, который за
ним следует, а этот — на позднейшего и т. д. Грубое заблуждение, от
которого пора отказаться! Всякий художник, пользующийся успехом
у своих современников, или выражет собой свою эпоху и, следовательно,
находится сам под влиянием ее характеристической особенности, или
подвигает ее вперед внесением в общество или в человечество новых идей
и ощущений, которым невозможно не выразиться во всех проявлениях
общественной жизни, если только они проникли в массы каким бы то ни
было путем, хоть бы путем эстетического чувства. Поэтому, между
прочим, на искусство действует наука, а наука, в свою очередь, действует на
искусство.
1846. Рецензия на книгу В. И. Аскоченского «Краткое
начертание истории русской литературы».—
«Критические опыты», стр. 395.
В искусстве истинная национальность нисколько не вредит
общечеловеческому характеру изящных произведений. Национальное воззрение
есть не что иное, как одна сторона воззрения, свойственного всякому
человеку. Национальный характер есть одна из составных частей
характера целого человечества. Притом искусство требует форм действительной
жизни; следовательно, идея художника должна выразиться в формах
какой-нибудь национальности. Агамемнон есть образец вождя и в то же
время грек, Отелло — идеал человека, преданного страстям, и в то же
время мавр, Фауст — идеал мыслителя и в то же время — немец.
1845. Общественные науки в России.— «Критические
опыты», стр. 588.
214
Человек, которого можно назвать типом какой бы то ни было нации,
никак не может быть не только великим, но даже и необыкновенным. [...]
Каждый народ имеет две физиономии; одна из них диаметрально
противоположна другой; одна принадлежит большинству, другая —
меньшинству (миноритету). Большинство народа всегда представляет собою
механическую подчиненность влияниям климата, местности, племени
и судьбы; меньшинство же впадает в крайность отрицания этих
влияний, [...]
В характерах истинно великих людей никогда не найдете вы односто-
ронностей ни большинства, ни меньшинства тех наций, которые ими
гордятся. Личность есть только ступень к чистоте человеческого типа...
Человек, окованный цепями своей национальности, слишком далек от той
высоты нормального развития, с которой все строго человеческое делается
вполне доступным уму и чувству. [...]
Разумный космополитизм так же противится предубеждению против
той или другой страны, как и предубеждению в пользу ее.
1846. А. В. Кольцов.—«Критические опыты», стр. 62,69,
Есть три способа исследования изящного — исторический,
психологический и умозрительный. Первый заключается в выводе общих законов
из существующих произведений искусства; второй — в опытном
исследовании творчества как одной из способностей человеческого духа;
третий — в развитии самой идеи прекрасного. Гегель следовал в своей
эстетике последнему способу: у него эта наука рассматривается как часть
философии духа и составляет одно из звеньев его философской системы...
Великий мыслитель не вполне избавился от эстетических заблуждений
своей эпохи. В наше время и философия получила дальнейшее развитие
и эстетические понятия существенно изменились. Следовательно, и Геге-
лева философия изящного есть творение далеко не современное
настоящему моменту и философии и эстетики.
1847. Рецензия на «Курс эстетики, или Науки
изящного» Гегеля (в переводе В.
Модестова).—«Отечественные записки», 1847, т. 51, отд. V.
Для установления эстетических принципов нужны образцы: иначе
эстетика легко превращается в безжизненную диалектику, особенно под
пером немецких писателей. В этом отношении русская критика счастливее
всех: у нее есть для изучения художник, которого смело можно назвать
огромнейшим из современных поэтических талантов. Созданная им школа
быстро водворяется в нашей литературе; но деятельность ее
бессознательна и смутна, потому что сам Гоголь только увенчан, а не объяснен
критикой.
1846. А. В. Кольцов.— «Критические опыты», стр. 5,
215
Она [современная эстетика] отказалась навсегда от титла
руководительницы художественного таланта; сфера ее ограничивается опытным
исследованием обстоятельств, сопровождающих зачатие, развитие и
выражение художественной мысли. Такой теории уже нет никакой
возможности обратить в рецепт, и поэтому водворение ее в науке выражает собою
не что иное, как полное господство эстетической свободы.
1847. Нечто о русской литературе в 1846 году.—
«Критические опыты», стр. 342.
Как часть действительности, он [человек] не может в самом деле
оторваться от действительного мира и создать себе мир противоположный,
в котором природа его находила бы себе удовлетворение. Ведь не может же
творчество человека приходить в деятельность без возбуждения со стороны
действительного мира, без материалов, ощутимых для нервов: создание
человеческой фантазии и человеческого разума — ни более, ни менее как
пересоздание действительности, которое можно назвать продолжением или
дополнением ее, если оно законно. Самая отвлеченная мысль, самый
многообъемлющий идеал необходимо разлагаются на простые впечатления
внешности, которыми обусловлено их рождение.
1846. Рецензия на стихотворения Ю. В. Жадовской.—
«Критические опыты», стр. 122—123.
Верность действительности составляет такое существенное условие
всякого изящного произведения, что человек, одаренный художническим
талантом, никогда не произведет ничего противного этому условию.
Великие создания искусства всегда всюду были верны природе.
1847. Вальтер Скотт,— M. Н. Загоскин.— «Критические
опыты», стр. 218.
Новейшая эстетика не признает в действительности ничего пошлого,
точно так же как химия не признает ничего гадкого в материи. Но что же
значат требования ее на присутствие идеи во всяком художественном
произведении? Мы понимаем его так, что оно совпадает с требованием
творчества. В наше время нельзя сплести сказку и, вытянув из нее какое-
нибудь нравоучение, назвать эту стряпню творческим произведением,
хотя бы в рассказе и встречались картины очень верные. Для нас
недостаточно уже то бледное определение, по которому изящное создание есть
выражение мысли в живой форме; таким образом определяется всякая
действительность: вся вселенная в своей совокупности, так же как
и малейшая часть ее, есть ни более, ни менее как выражение мысли
в форме. И всякое человеческое создание, всякое человеческое действие
может быть определено таким же образом. [...] Поэтому-то критики,
употребляющие его для объяснения сущности изящного создания, большею
частью к слову форма прибавляют прилагательное художественная. Но так
как этот эпитет и остается эпитетом, свидетельствующим только о темном
216
предчувствии какого-то отличия художественной действительности от
действительности простой, непосредственной, то вопрос и возвращается
в самого себя. Мы полагаем, что до тех пор и останется он сфинксовою
загадкой, пока эстетика будет ограничиваться толкованием о различии
форм художественной и действительной... [...] Художественные формы
всегда останутся тождественными с формами действительности, так, как
это было до сих пор, и не выдумать ничего лучшего целому легиону
лрометеев-эстетиков даже при помощи такого же легиона рифмоплетов
и сказочников...
Другое дело писать и спорить о художественной идее. Тут в самом
деле есть о чем подумать: здесь опыт, факты наводят на существенные
различия. Голая мысль ученого и живая мысль художника — две силы
существенно различные. [...]
[...] Положительный признак художественной идеи заключается в том,
что она может быть не только понята, но и прочувствована. [...] Самое
слово идея в этом случае много вредит настоящему разумению дела: мы
привыкли разуметь под ним чистую мысль и перенесли его в эстетику из
логики, не объяснив различия, о котором здесь говорится. Чистая мысль
есть вывод последствий из аксиомы или, по крайней мере, из того, что тот
или другой принимает за несомненное; художественная мысль — не что
иное, как чувство тожества, чувство общения какой бы то ни было
действительности с человеком.
1846. А. В. Кольцов.— «Критические опыты»,
стр. 35—36, 41.
Отчего так симпатичны у Вальтера Скотта те же самые эпохи и те же
самые лица, которые так безразличны у прагматических историков?
Оттого, что задача какого-нибудь Сисмонди, Гизо и т. п.— объяснить в них
то, что составляет отличие прошедших эпох от нашего времени, а не
отличие исторических лиц от нас. Напротив, задача Вальтера Скотта —
отыскать и изобразить в них то, что у них общего с нами, так, чтоб мы
увидели, что при подобных обстоятельствах мы думали бы, чувствовали
и действовали точно так же, как они. Но чтоб создать такое симпатическое
изображение, надо самому проникнуться участием к изображаемому
предмету, почувствовать свое существенное с ним тожество.
Там же, стр. 41.
Каждый предмет, доступный нашему познанию, необходимо
разделяется нами на две половины: к первой относим мы все то, что нисколько
не напоминает нам о собственной нашей природе,— это сторона
любопытная, подстрекающая одну любознательность; ко второй — все то, что
в нем есть общего с нами, с человеком,— это сторона симпатическая,
возбуждающая в нас любовь, сердечное, кровное сочувствие.
Там же, а р. 27.
217
Эстетический опыт позволяет нам заключить, что художественная
мысль зарождается в форме любви или негодования и что тайна
творчества состоит в способности верно изображать действительность с ее
симпатической стороны. Иными словами, художественное творчество есть
пересоздание действительности, совершаемое не изменением ее форм,
а возведением их в мир человеческих интересов (в поэзию).
Там же, стр. 44.
Этим господам сильно не понравятся по содержанию своему те
стихотворения Кольцова, для которых материалом служит русский
крестьянский быт. [...]
Чтоб сочувствовать таким стихам, чтоб проникнуться их основной
идеей, чтоб понимать сладость труда, исполняемого с любовью, нежность
человека к животному, разделяющему с ним тягость работы,
неравнодушие его даже к механическим орудиям промысла и, наконец, вдохнови-
тельность мысли о плодах труда, о каких-нибудь снопах тяжелых,— для
всего этого надо быть самому человеком, трудящимся с любовью,
с терпением и без презрения к заработку. Можно ли же требовать этих
условий от романтика, от человека, гнушающегося всяким трудом, всяким
учением, всякими материальными выгодами (последнее, разумеется,
только в стихах) ?
Там же, стр. 11 и 14.
Эстетика классицизма пересчитывала по пальцам предметы изящные
и неизящные. [...] По их [авторов старинных руководств] понятиям, жизнь
разделяется на две сферы, разграниченные от века: одна из них есть
совокупность элементов изящества, совокупность всего высокого,
ужасного, нежного, грациозного, наивного, забавного и тому подобных прият-
ностей; другая, в противоположность первой,— совокупность всех
предметов неизящных, под неблагозвучными названиями подлого, низкого,
пошлого, непристойного и тому подобных гнусностей. Первая сфера —
область поэзии; вторая ей недоступна. В конце первой четверти нашего
столетия человечество рассудило забросить все школьные эстетики в одну
кладовую с париками и пудрой; но дело не далеко ушло от этого
прекрасного намерения. Вредный дух учения, его сущность оставалась
нетронутою и воскресла в романтизме. [...] Школьная эстетика делила мир на две
половины —изящную и неизящную; романтизм делил так же, с тою
только разницей, что романтики признают изящное во всем
необыкновенном и не допускают его ни в чем обыкновенном. Романтик охотно
допустит в свое создание какую угодно гнусность, лишь бы только она была
необыкновенна; зато он никак не позволит себе ввести в него что-нибудь
приятное, отрадное, если это приятное встречается в обыкновенной,
будничной жизни. Следовательно, и классицизм и романтизм выражают одну
218
идею — отрицание изящества в действительности, в законченности, в
будущности.
Там же, стр. 7—8.
Нужно ли доказывать, что романтизм есть такой же дуализм в
искусстве, как доктринерство в науке? Ведь это не что иное, как переход от
классицизма к натуральности, к современной физиологической школе.
1846. Рецензия на книгу В. И. Аскоченского.—
«Критические опыты», стр. 392.
Мало-помалу анализ вытеснил и доктринерство, и романтизм и
завладел наукой и искусством, продолжая до сих пор сокрушать остатки того
и другого. У нас первый сильный удар романтизму нанесен был
Пушкиным, который своими последними произведениями выкупил грех своего
прежнего направления. Но этот спасительный удар почувствовали весьма
немногие: большинство видело в «Капитанской дочке» и других
предсмертных созданиях гениального поэта упадок его творческой силы.
Гоголь был также не понят, а между тем он уже представлял собою все
могущество анализа, готовившегося проникнуть в наше общество и нашу
литературу. Промежуток между «Ревизором» и «Мертвыми душами»
занят был Лермонтовым. Чем Байрон был для Европы, тем Лермонтов был
для России. Произведения обоих этих поэтов [...] выражают собою анализ
и отрицание людей, дошедших до того и другого путем борьбы, страдания
и скорбных утрат.
Там же.
Сознание идеала одно только и может дать смысл и крепость
анализу и отрицанию. Иначе анализ переходит в мелочное сплетничанье,
а отрицание — в болезненное и бесплодное раздражение желчи. Эпоха
критики должна быть в то же время эпохою утопии (принимая это слово
в его первоначальном, разумном значении) : иначе человечество
утратило бы всю энергию живых стремлений и осталось бы без ответа на
призывы бытия.
1846. А. В. Кольцов.— «Критические опыты», стр. 115.
&CTE ТИКА
РЕВОЛЮЦИЮННЬГХ
А Ε МО КРАТ О В
середине XIX века экономическое развитие России
требовало уничтожения крепостничества и перехода к новым,
буржуазным отношениям. Немногочисленная и экономически
слабая русская буржуазия не была в состоянии идейно и
политически возглавить борьбу за буржуазно-демократиче-
|ские преобразования; напуганная развитием революционного
'рабочего движения в Западной Европе, она с самого начала
склонялась к компромиссу с самодержавием. Русский
рабочий класс в середине столетия еще не сложился окончательно как класс
и поэтому не мог наложить отпечаток своих действий на ход
событий. Наиболее многочисленным классом, заинтересованным в
решительной ломке старых общественных отношений, было крестьянство,
в 40—60-х годах еще остававшееся единым классом, потенциальные
революционные силы которого в борьбе против крепостничества были
огромны. Но свойственные крестьянскому антикрепостническому
движению стихийность и разрозненность не дали возможности ему перерасти
во всероссийское революционное восстание, которое с корнем
выкорчевало бы крепостнические учреждения. Революционная ситуация 1859—
1861 годов не переросла в революцию; проведенная под давлением
220
«снизу» реформа 1861 года не уничтожила окончательно
крепостнические учреждения.
Своеобразие расстановки классовых сил в середине XIX столетия
отразилось в идеологической жизни страны. Идеология, объективно
выражавшая потребности радикальных буржуазно-демократических
преобразований, имела чрезвычайно широкую социальную базу; в ней
отражались интересы и устремления трудящихся масс, прежде всего
крестьянства. Она противостояла не только различным формам крепостнической
ядеологии, но и нарождавшемуся буржуазно-помещичьему либерализму.
Обозначившееся ко времени реформы 1861 года размежевание в русском
освободительном движении — выявление революционно-демократической
и либерально-монархической тенденций в русской буржуазной
революции — было одним из самых значительных явлений идейной борьбы 60-х
годов.
Критическое отношение к утверждавшемуся в Западной Европе
капитализму стало одной из характерных черт
революционно-демократической идеологии в России. Но в середине XIX века еще не могло
произойти размежевания демократической и социалистической тенденции
в русском освободительном движении. Социалистические идеи в России
были в это время формой, облекавшей демократическое содержание
передовой идеологии, и оставались идеями утопического социализма.
В революционно-демократической идеологии 40—60-х годов XIX века
эстетика заняла чрезвычайно важное место. В некоторой степени это
объясняется тем, что политика русского самодержавия затрудняла
развитие и прямую пропаганду в печати передовых философских и
политических идей. Выдвижение эстетики на передний край идеологической
борьбы было также естественным следствием того значения, которое
приобрела в это время в духовной жизни страны литература. Русская
литература, в которой утверждался тогда критический реализм,
становилась огромной силой в формировании общественного самосознания.
Творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Тургенева,
Гончарова, Островского и других русских писателей и поэтов и было
почвой, на которой развивалась революционно-демократическая эстетика.
Несколько позже, чем литература, на путь критического реализма
вступило русское изобразительное искусство. Тем не менее уже в первой
половине XIX столетия в нем нарастают реалистические тенденции,
своеобразно отражаются исторические сдвиги в общественной жизни
этого времени. Не случайно трагизм «Последнего дня Помпеи»
Брюллова (1830—1833) —трагизм гибели людей «под ударами дикой, тупой,
неправой силы, всякое сопротивление которой было бы бесполезно»,—
Герцен связывал с «петербургской атмосферой» после подавления
восстания декабристов '. Творческие искания А. Иванова в 50-е годы, по-
1 См.: А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. XVIII, М., Изд-во
Академии наук СССР, 1959, стр. 188.
221
рожденные кризисом его религиозного мировоззрения, справедливо
рассматривались Герценом, Огаревым, Чернышевским как свидетельство
новых стремлений русской живописи, ее попыток найти источник
вдохновения в запросах современной общественной жизни.
Критически-реалистические тенденции русского изобразительного искусства ярко
выразились в 40-х годах в творчестве Федотова, в сатирической книжной
графике. Они окончательно утверждаются в 60-х годах — в реалистическом
направлении в русской живописи — «передвижничестве». Направление
это во многом опиралось на идеи революционно-демократической
эстетики 40—60-х годов.
Социальные задачи, стоявшие перед русской
революционно-демократической эстетикой, растущее общественное значение русской
литературы и русского искусства, необходимость борьбы против реакционных
направлений в искусстве и в эстетике поставили в центре эстетики
революционеров-демократов 40—60-х годов вопросы о сущности и
общественной роли искусства, о принципах художественного отражения
действительности. Решая их, революционеры-демократы стремились
основать свои суждения на анализе исторического развития мирового
искусства (главным образом литературы), осмыслить процессы, происходившие
в современной им русской и зарубежной литературе. Они критически
использовали наследие предшествовавшей западноевропейской и русской
эстетической мысли, в особенности эстетические идеи Просвещения и
немецкого классического идеализма.
Основоположником революционно-демократической эстетики был
Белинский. Он связал русскую эстетику с новым,
критически-реалистическим направлением в русской литературе и создал теорию реализма,
оказавшую огромное влияние на последующее развитце русского
искусства. Он утвердил в русской эстетике историческую точку зрения
на искусство, используя ее для доказательства закономерности связи
искусства с важнейшими общественными стремлениями данного
времени.
В эпоху деятельности Белинского главными оппонентами
критически-реалистического направления в русской литературе и эстетике
были теория «официальной народности» и славянофильство. Борьба,
которую вел Белинский, была борьбой против попыток положить
в основу развития русского искусства и русской эстетики религиозное
мировоззрение, против метафизического метода в философии и эстетике.
Плеханов справедливо говорил, что «в эпоху самых жестоких схваток
своих со славянофилами Белинский был диалектиком до конца ногтей,
тогда как в их миросозерцании диалектический элемент совершенно
отсутствовал» г.
Важной вехой в развитии революционно-демократической
эстетики в 40-х годах были философские работы Герцена этого времени
1 Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIII, М.—Л., ГИЗ, 1926, стр. 189.
222
(«Дилетантизм в науке», 1842—1843, и «Письма об изучении природы»,
1844—1846). Материалистическая «реабилитация» реальной
действительности, диалектическая идея развития, историческая точка зрения на
искусство, защита реализма в искусстве, содержавшиеся в этих работах, имели
большое значение для утверждения в русской эстетике передовых
философских оснований.
Дальнейшая разработка революционно-демократической эстетики
связана в 50—60-е годы прежде всего с именами Чернышевского и
Добролюбова. Явственно обнаружившееся уже в конце 50-х годов
расхождение революционно-демократической и либерально-монархической
тенденций в русском освободительном движении сделало одним из главных
направлений в теоретической деятельности Чернышевского и
Добролюбова борьбу против философских, политических и эстетических идей
российского либерализма.
Либеральная эстетика этого времени выступала против эстетики
Белинского и ее традиций. Либералы подвергали критике в особенности
материалистические и революционно-демократические основы эстетики
Белинского, противопоставляя им идеалистическое понимание
искусства и теорию «чистого искусства». В этих условиях особенно важной
становилась задача теоретического обоснования материалистического
взгляда на искусство. Ее решению посвятил Чернышевский свою первую
крупную работу по эстетике — магистерскую диссертацию
«Эстетические отношения искусства к действительности» (1855).
В мировоззрении Чернышевского наиболее полно выразилась одна из
плодотворнейших тенденций передовой русской мысли 40—60-х годов —
тенденция понять общественную жизнь и различные формы идеологии
с точки зрения борьбы классов. Философский материализм был в глазах
Чернышевского не только мировоззрением, отвечающим требованиям
научного мышления, но и философской системой, наиболее
соответствующей потребностям «простолюдинов», жаждущих перемен в их жизни.
«Естественные стремления народа» были отправным пунктом
эстетических суждений Чернышевского и его соратника Добролюбова.
Основные эстетические принципы Белинского, Чернышевского, Добролюбова
разделял Некрасов, принимавший активное участие в
идейно-эстетической борьбе того времени. В 60—80-е годы эти принципы развивает
Салтыков-Щедрин, некоторые из них принимаются и Писаревым, для
философских и эстетических воззрений которого характерен отход от
ряда крупнейших достижений революционно-демократической мысли
предшествующего периода; гораздо слабее, чем у его предшественников,
выражены у Писарева, в частности, черты диалектического подхода
к эстетическим вопросам.
Несмотря на значительное индивидуальное своеобразие каждого из ее
представителей, русская революционно-демократическая эстетика
является целостным направлением эстетической мысли. Главнейших
деятелей этого направления объединяют общность основных
разрабатываема
мых ими эстетических проблем, единство идейно-эстетических
принципов и прямая преемственная связь.
Одной из важнейших характерных черт
революционно-демократической эстетики был историзм. По словам Белинского, «историческое
созерцание» «могущественно-неотразимо проникло собою все сферы
современного сознания».
«История,— писал критик,— сделалась как бы общим основанием
и единственным условием всякого живого знания; без нее невозможно
постижение ни искусства, ни философии» 1.
Историзм эстетики революционеров-демократов был продолжением
и обобщением прогрессивных устремлений мировой эстетической мысли
XVIII и начала XIX веков. Значительную роль в его становлении
сыграла гегелевская философия (влияние гегелевской концепции
исторического развития искусства сказалось, в частности, в работах Белинского
конца 30-х— начала 40-х годов).
Наиболее пенным следствием «исторического созерцания»,
распространенного на искусство, было для революционеров-демократов
признание необходимой связи искусства с характером и потребностями
определенной эпохи. Из признания такой связи" они исходили, пытаясь
понять современное искусство, его задачи и общественную роль.
Во взглядах отдельных представителей
революционно-демократической идеологии на современную им эпоху можно выявить общие черты.
Революционеры-демократы считали, что современная эпоха — время
борьбы новых начал общественной жизни со старыми, основанными на
неравенстве и эксплуатации. Современное передовое общественное
сознание, по их убеждению,— сознание критическое, подвергающее
беспощадному анализу существующее общественное устройство и доказывающее
его несостоятельность. Для этого сознания характерны сближение с
действительностью, трезвый реализм, отказ от религиозно-идеалистических
представлений о мире и человеке. Плодотворное развитие современного
искусства связано, по мнению революционеров-демократов, с
пристальным вниманием к коренным вопросам общественной жизни и активным
участием в их решении; «лозунгом» искусства, как и «лозунгом»
современного сознания вообще, должна стать «действительность», его
руководящим мотивом — выражение и защита интересов народа. Так
занявшая центральное место в эстетике революционных демократов
теория реализма, включавшая в себя утверждение активной общественной
роли искусства, получала историческое обоснование.
Историзм революционно-демократической эстетики не мог быть
последовательным и строго научным. Его ограничивало идеалистическое
понимание истории, не позволявшее революционерам-демократам
раскрыть действительные закономерности развития искусства. Его
последовательному проведению препятствовало представление о неизменной
1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинении, т. VI, М., 1955, стр. 90,
224
в своих основах «человеческой природе», которое
революционеры-демократы разделяли со всеми представителями домарксовского
материализма. Тем не менее русская революционно-демократическая мысль
сделала значительный шаг вперед в развитии идеи историзма: она
освободила эту идею от религиозно-мистической оболочки, характерной для
историзма Гегеля, от телеологических наслоений, присущих ряду
социологических систем западноевропейского утопического социализма; она
наполнила эту идею революционным содержанием, внесла в
«историческое созерцание» «дух классовой борьбы». И даже при всей неизбежной
исторической ограниченности их точки зрения на человека
революционерам-демократам было присуще стремление понять реального
человека во всей полноте его жизненных отношений, в его обусловленности
эпохой, общественной средой, социальным положением. Это вело к
пониманию необходимости более глубокого и полного раскрытия в
искусстве связей между личностью и обществом, изображения человека в
зависимости от общественных условий его жизни.
Сильные и слабые стороны материалистической философской теории
русских революционных демократов, переплетение в этой теории
диалектических и метафизических элементов ясно сказались в анализе
эстетических категорий, в частности прекрасного. Концепция прекрасного,
выдвинутая революционерами-демократами, противостояла
идеалистическому «принижению» красоты реального мира. Она обращала искусство
к реальной жизни и ее красоте и вместе с тем связывала эстетическую
природу самого искусства со способностью передать в художественных
образах «дыхание жизни». Критика, которой подверг Чернышевский
идеалистическое понимание прекрасного, была наиболее глубокой во всей
домарксистской эстетической мысли критикой философского идеализма
в эстетике.
Чрезвычайно ценной была попытка Чернышевского понять природу
эстетических категорий как единство объективного и субъективного.
Отвергая взгляд, согласно которому прекрасное и возвышенное не
встречаются в самой действительности и вносятся в нее человеческой
фантазией, Чернышевский утверждает, что прекрасное и возвышенное
действительно существуют в природе и человеческой жизни. Вместе с тем,
продолжает он, наслаждение предметами, имеющими в себе эти
качества, зависит от понятий наслаждающегося человека. «Таким образом,
объективное существование прекрасного и возвышенного в
действительности примиряется с субъективными воззрениями человека» *.
Однако на самом деле Чернышевскому не удалось раскрыть
диалектическое единство объективного и субъективного в прекрасном и
возвышенном. И это понятно — выяснить диалектику объективного и
субъективного в прекрасном можно, лишь отказавшись от метафизических
1 Н. Г. Че ρ н ы ш е в с к и й, Полное собрание сочинений, т. II, М., Гослитиздат,
1949, стр. 115.
8 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) 225
представлений о «природе» человек?, поняв человекп как «совокупность
естественных отношений».
Лейтмотивом революционно-демократической эстетики была тема —
искусство и народ. Жизнь народа являлась в глазах революционеров-
демократов почвой, питающей искусство и талант художпика,
выражение в искусстве потребностей народной жизни — мерилом его
общественного значения. С позиций интересов народа, его прогрессивного
развития вели революционеры-демократы борьбу против теории «искусства
для искусства».
Эстетика русских революционеров-демократов складывалась в тот
период, когда буржуазная эстетическая мысль на Западе начала
клониться к упадку. Для распространения и утверждения в России идей
марксизма не было еще в то время необходимых исторических условий.
Боевой демократизм, обобщение опыта русской и зарубежной
реалистической литературы, глубокая разработка важнейших принципов
реалистического искусства, демократическое мировоззрение позволили
эстетической теории, созданной передовыми русскими мыслителями середины
XIX века, стать высшим этапом в развитии мировой домарксистской
эстетической мысли.
3. В. СМИРНОВА
В Г. БЕЛИНСКИЙ
1811-1848
Виссарион Григорьевич Белинский — литературный критик, публицист —
положил начало одному из значительнейших направлений мировой эстетической мысли
XIX века — русской революционно-демократической эстетике. По определению
Ленина, Белинский был «предшественником полного вытеснения дворян
разночинцем в нашем освободительном движении» К В его литературно-критической
деятельности отчетливо проявилась связь передовой русской эстетики с освободительными
стремлениями народных масс. Проблемы эстетики были для Белинского
неразрывно связаны с борьбой за передовое мировоззрение, за демократическое
преобразование русских общественных отношений, за развитие русской литературы по
линии критического реализма.
Литературно-критическая деятельность Белинского продолжалась около
пятнадцати лет. Сначала он сотрудничал в московских журналах «Телескоп» (1833—
1838) и «Московский наблюдатель» (1838—1839), затем в петербургских журналах
«Отечественные записки» (1839—184G) и «Современник» (с 1847 года). Диапазон
его критики был необычайно широк: в его статьях нашли свое освещение русский
фольклор, русская литература XVIII—ΧίΧ веков, творчество многих зарубежных
писателей, вопросы теории литературы.
1 В. И.Ленин, Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 94.
226
Эстетическая теория Белинского развивалась на протяжении всей его
критической деятельности и отразила в себе идейный путь критика — от идеализма к
революционному демократизму и материализму. Она охватывает широкий круг
вопросов. Методологические основания эстетики, соотношение искусства и науки,
общественная роль искусства, закономерности исторического развития искусства,
виды и жанры литературы, эстетические категории — прекрасное, трагическое,
комическое,— понятие художественной правды, народность литературы и искусства,
задачи и принципы литературной критики, природа и степени художественной
одаренности, процесс художественного творчества, эстетическое чувство и вкус — таков
круг проблем, поставленных в статьях Белинского. Все эти проблемы
группируются в его эстетике, в конечном счете, вокруг одного центра — теории реализма.
Созданная Белинским теория реализма опиралась на понимание искусства как
творческого воспроизведения действительности. Такое понимание всегда
предполагало для Белинского способность искусства проникнуть за оболочку
непосредственно данной действительности, уловить и выразить в индивидуальном «общее»,
«сущность», «значение» жизненных фактов. В идеалистический период идейного
развития критика (в 30-х и в начале 40-х годов) этот взгляд на искусство имел
своим основанием убеждение в том, что сама действительность есть форма
воплощения «общего» — идеального начала, «идеи»: «воспроизвести действительность»
значило поэтому для Белинского не только воссоздать средствами искусства
явления жизни во всей их конкретной индивидуальности, но и раскрыть их «сущность»,
одушевляющую их «идею». Перейдя к середине 40-х годов к философскому
материализму, Белинский в последние годы своей деятельности уже не связывает
способность искусства выявить и показать общее в индивидуальном с представлением
об идеальном начале мира.
Белинский впервые ввел в русскую эстетику определение искусства как
мышления в образах. Отказавшись в материалистический период своей деятельности от
идеалистической трактовки этого определения, которую он дал в некоторых
статьях конца 30-х и начала 40-х годов, он удержал и развил плодотворные идеи
гегелевского учения об образности искусства. Специфику отношения искусства
к действительности Белинский видит в 40-х годах именно в том, что данное
действительностью содержание искусство выражает в образной форме; художник
«мыслит образами», он не «доказывает», а «показывает», он убеждает не логическими
доводами, а живыми и яркими картинами. При этом, в отличие от Гегеля,
Белинский не считает «мышление образами» низшим и несовершенным по сравнению
с научным (философским) мышлением. Взгляды на искусство, развитые Белинским
в 40-х годах, были в истории эстетики оригинальной попыткой понять сущность
искусства, отправляясь от материалистически трактуемого понятия образа. Эти
взгляды сыграли большую роль в последующем развитии
революционно-демократической эстетики; влияние их сказалось и в эстетических воззрениях Плеханова.
В 40-е годы критик постепенно освобождался от схематизма гегелевской
концепции, влияние которой сильно чувствуется в его статьях начала 40-х годов.
В противоположность Гегелю Белинский не считает, что искусство утрачивает свое
значение в жизни человечества и движется к закату; он оптимистически
оценивает основные тенденции современного искусства и перспективы развития искус-
8*
227
ства в дальнейшем, связывая эти перспективы с преобразованием общественных
отношений на началах социализма.
Эстетическая теория Белинского утверждала общественную роль искусства,
обусловленную способностью искусства служить познанию жизни и воспитанию
общественного самосознания. Созданная Белинским концепция реализма
доказывала важность передовой идейной тенденции в художественном творчестве.
Белинский тесно связывал понятия реализма и народности искусства, дал
демократическую трактовку проблемы народности искусства и литературы.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ
(Элегия в прозе) (1834)
<Ш>
[...] Какое же назначение и какая цель искусства?.. Изображать,
воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и красках идею всеобщей жизни
природы: вот единая и вечная тема искусства! Поэтическое одушевление
есть отблеск творящей силы природы. Посему поэт более, нежели кто-
либо другой, должен изучать природу физическую и духовную, любить
ее и сочувствовать ей; более, нежели кто-либо другой, должен быть чист
и девствен душою; ибо в ее святилище можно входить только с ногами
обнаженными, с руками омовенными, с умом мужа и сердцем младенца,
ибо только сии наследят царствие небесное, ибо только в гармонии ума
и чувства заключается высочайшее совершенство человека!.. Чем выше
гений поэта, тем глубже и обширнее обнимает он природу и тем с
большим успехом представляет нам ее в ее высшей связи и жизни. Если
Байрон взвесил ужас и страданье, если он постиг и выразил только муки
сердца, ад души, это значит, что он достиг только одну сторону бытия
вселенной, что он вырвал и показал нам только одну страницу оного.
Шкллер передал нам тайны неба, показал одно прекрасное жизни,
так, как он понимал его сам, пропел нам только свои заветные думы
и мечтания; злое жизни у него или неверно, или искажено
преувеличением; Шиллер в сем отношении равен Байрону. Но Шекспир,
божественный, великий, недостижимый Шекспир, постиг и ад, и землю, и
небо: царь природы, он взял равную дань и с добра и с зла и подсмотрел
в своем вдохновенном ясновидении биение пульса вселенной! [...]
Да,— искусство есть выражение великой идеи вселенной в ее
бесконечно разнообразных явлениях! Прекрасно было где-то сказано, что
повесть есть краткий эпизод из бесконечной поэмы судеб человеческих!
Под это определение повести подходят все роды художественных
созданий. Все искусство поэта должно состоять в том, чтобы поставить читателя
на такую точку зрения, с которой бы ему видна была вся природа в
сокращении, в миниатюре, как земной шар на ландкарте, чтобы дать ему
почувствовать веяние, дыхание этой жизни, которая одушевляет
вселение
ную, сообщить его душе этот огонь, который согревает ее. Наслаждение
же изящным должно состоять в минутном забвении нашего «я», в
живом сочувствии с общею жизнию природы; и поэт всегда достигнет этой
прекрасной цели, если его произведение есть плод возвышенного ума
и горячего чувства, если оно свободно и безотчетно вылилось из его
души..·
<х>
[...] Что такое народность в литературе? Отпечаток народной
физиономии, тип народного духа и народной жизни; но имеем ли мы свою
народную физиономию? Вот вопрос трудный для решения. Наша
национальная физиономия всего больше сохранилась в низших слоях народа;
посему наши писатели, разумеется владеющие талантом, бывают
народны, когда изображают, в романе или драме, нравы, обычаи, понятия и
чувствования черни. Но разве одна чернь составляет народ? Ничуть не
бывало. Как голова есть важнейшая часть человеческого тела, так среднее
и высшее сословие составляют народ по преимуществу. Знаю, что человек
во всяком состоянии есть человек, что простолюдин имеет такие же
страсти, ум и чувство, как и вельможа, и посему так же, как и он,
достоин поэтического анализа; но высшая жизнь народа
преимущественно выражается в его высших слоях или, вернее всего, в целой идее
народа. Посему, избрав предметом своих вдохновений одну часть оного, вы
непременно впадете в односторонность. Равным образом вы не избежите
этой крайности и отмежевав для своей творческой деятельности нашу
историю до Петра Великого. Высшие же слои народа у нас еще не
получили определенного образа и характера; их жизнь мало представляет для
лоэзии. Не правда ли, что прекрасная повесть Безгласного «Княжна
Мими» немножко мелка и вяла? Помните ли вы ее эпиграф? — «Краски
мои бледны, сказал живописец; что ж делать? в нашем городе нет
лучших!» — Вот вам самое лучшее оправдание со стороны поэта и вместе
самое лучшее доказательство, что в сей повести он народен в
высочайшей степени. Так неужели наша народность в литературе есть мечта?
Почти так, хотя и не совсем. Какой главный элемент наших лроизведе-
лий, отличающихся народностью? Очерки или древнерусской жизни
(до Петра Великого), или простонародной жизни, и отсюда неизбежные
подделки под тон летописей и народных песен или под лад языка
наших простолюдинов. Но ведь в этих летописях, в этой жизни, давно
лрошедшей, веет дыхание общей человеческой жизни, являющейся под
одной из тысячи ее форм; умейте же уловить его вашим умом и
чувством и воспроизвести вашею фантазиею в своем художественном
создании. В этом вся сила и важность. Но вам надо быть гением, чтобы
в ваших творениях трепетала идея русской жизни; это путь самый
скользкий. Мы так отделены или, лучше сказать, оторваны эрою Петра
Великого от быта наших праотцов, что вашему произведению
непременно должно предшествовать глубокое изучение этого быта. [...]
229
Из всего сказанного мною выходит, что наша народность покуда
состоит в верности изображения картин русской жизни, но не в
особенном духе и направлении русской деятельности, которые бы проявлялись
равно во всех творениях, независимо от предмета и содержания оных.
Всем известно, что французские классики офранцуживали в своих
трагедиях греческих и римских героев: вот истинная народность, всегда
верная самой себе и в искажении творчества! Она состоит в образе
мыслей и чувствований, свойственных тому или другому народу. [.. J
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I,
М., Изд-во Академии наук СССР, 1953, стр. 32, 34,
92-93.
О РУССКОЙ ПОВЕСТИ И ПОВЕСТЯХ г. гоголя
(«Арабески» и «Миргород») (1835)
[...] В каждом человеке должно различать две стороны: общую,
человеческую, и частную, индивидуальную; всякий человек прежде всего
человек и потом уже Иван, Сидор и т. д. Точно так же и в
художественных созданиях должно различать два характера: характер творчества,
общий всем изящным произведениям, и характер колорита, сообщенный
индивидуальностию автора. [...]
Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений
г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни,
народность, оригинальность — все это черты общие, потом комическое
одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния,—
черта индивидуальная.
Простота вымысла в поэзии реальной есть один из самых верных
признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта.
Возьмите любую драму Шекспира, возьмите, например, его «Тимона
Афинского»: эта пьеса так проста, так немногосложна, так скудна путаницею
происшествий, что, право, невозможно и рассказать ее содержания.
[...] Тут нет эффектов, нет сцен, нет драматических вычур, все просто
и обыкновенно, как день мужика, который в будень ест и пашет, спит
и пашет, а в праздник ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит
задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни
и потрясать души верным изображением этой жизни. И как сильна
и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! [...]
Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется
с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее;
он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного,
человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и
другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий
портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от
экспрессии оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба
Ивана Никифоровича до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту
230
в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физиономии
богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах
и саблею в руках, до стоического философа Хомы, который не боялся
ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка
в руках.
[...] Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени; но я не хочу
слишком распространяться о их народности, ибо народность есть не
достоинство, а необходимое условие истинно художественного
произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения
нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой
страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной
свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни верно, то и
народно. Народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не
требует такого глубокого изучения со стороны художника, как
обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть на ту или другую
жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу, г. Гоголю с детства знакома
жизнь малороссийская, но народность его поэзии не ограничивается
одною Малороссиею. В его «Записках сумасшедшего», в его «Невском
проспекте» нет ни одного хохла, все русские и, вдобавок, еще немцы;
а каково изображены им эти русские и эти немцы! Каков
Шиллер и Гофман? Замечу здесь мимоходом, что пора бы нам перестать
писать, не имея таланта; ибо эта народность очень похожа на тень в
басне Крылова: г. Гоголь о ней нимало не думает, и она сама
напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил гоняются за нею й ловят —
одну тривиальность.
Почти то же самое можно сказать и об оригинальности; как и
народность, она есть необходимое условие истинного таланта...
[...].Один из самых отличительных признаков творческой
оригинальности или, лучше сказать, самого творчества состоит в этом типизме,
если можно так выразиться, который есть гербовая печать автора. У
истинного таланта каждое лицо — тип, и каждый тип, для читателя, есть
знакомый незнакомец.
[...] Но есть еще другая оригинальность, проистекающая из
индивидуальности автора, следствие цвета очков, сквозь которые смотрит он
на мир. Такая оригинальность у г. Гоголя состоит, как я уже сказал
выше, в комическом одушевлении, всегда побеждаемом чувством глубокой
грусти.
Там же, стр. 290—293, 295—297.
СТАТЬИ О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ (1841)
Статья I
[...] Все особное и единичное, всякая индивидуальность действительно
существует только общим, которое есть его содержание и которого она
231
только выражение и форма. Индивидуальность призрачна без общего;
общее, в свою очередь, есть призрак без особного, индивидуального
проявления. И потому люди, которые требуют в литературе одной
«народности», требуют какого-то призрачного и пустого «ничего»; с другой
стороны, люди, которые требуют в литературе совершенного отсутствия
народности, думая тем сделать литературу всем равно доступною и
общею, то есть человеческою, также требуют какого-то призрачного и
пустого «ничего». Первые хлопочут о форме без содержания; вторые —
о содержании без формы. Те и другие не понимают, что ни форма без
содержания, ни содержание без формы существовать не могут, а если
существуют, то в первом случае как пустой сосуд странного и нелепого
вида, а во втором случае — как миражи, которых все видят, но которых
в то же время почитают несуществующими предметами. Итак, очевидно,
что только та литература есть истинно народная, которая в то же время
есть общечеловеческая; и только та литература есть истинно
человеческая, которая в то же время есть и народная. Одно без другого существо·
вать не должно и не может. [...]
Поэзия каждого народа есть непосредственное выражение его
сознания; посему поэзия тесно слита с жизнию народа. Вот причина, почему
поэзия должна быть народною и < почему> поэзия одного народа не
похожа на поэзию всех других народов. Для всякого народа есть две
великие эпохи жизни: эпоха естественной непосредственности, или
младенчества, и эпоха сознательного существования. В первую эпоху жизни
национальная особность каждого народа выражается резче, и тогда его
поэзия бывает по преимуществу народною. В этом смысле народная
поэзия отличается резкою особностию и потому более доступна для других
народов. Русская песня сильно действует на русскую душу и нема для
иностранца и не переводима ни на какой другой язык. Во вторую эпоху
существования народа его поэзия делается менее доступною для массы
народа и более доступною для всех других народов. Пушкина русский
мужик не поймет, но зато пушкинская поэзия доступна всякому
образованному иностранцу и удобопереводима на все языки. [...]
Художественная поэзия всегда выше естественной, или собственно народной.
Последняя есть только младенческий лепет народа, мир темных
предощущений, смутных предчувствий; часто она не находит слова для
выражения мысли и прибегает к условным формам — к аллегориям и
символам; художественная поэзия есть, напротив, определенное слово
мужественного сознания, форма, равновесная заключающейся в ней мысли,
мир положительной действительности; она всегда выражается образами
определенными и точными, прозрачными и ясными, равносильными
идее. [...] И со всем тем в народной, или естественной, поэзии есть нечто
такое, чего не может заменить нам художественная поэзия. Никто не
будет спорить, что реквием Моцарта или соната Бетховена неизмеримо
выше всякой народной музыки, что уже доказывается даже и тем, что
первые никогда не наскучат, но всегда являются более новыми, а вторая
232
хороша вовремя и изредка; но тем не менее неоспоримо, что власть
народной музыки бесконечна над чувством. Не диво, что русский мужичок
и плачет и пляшет от своей музыки; но то диво, что и образованный
русский, музыкант в душе, поклонник Моцарта и Бетховена, не может
защититься от неотразимого обаяния однообразного, заунывного и
удалого напева народной песни... [...]
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинении;
т. V, 1954, стр. 306—309.
Статья II
[...] Идея народности в искусстве вытекает прямо из процесса
обособления общего. Самое человечество, хотя и нет ничего выше его из
существующего вовне, есть уже нечто особное — тем более народ. Если
художник изображает в своем произведении людей, то, во-первых,
каждый из них должен быть человеком, а не призраком, должен иметь
физиономию, характер, нрав, свои привычки — словом, все
индивидуальные признаки, какими каждая личность отличается в действительности
от всякой другой личности. Потом, каждый из них должен
принадлежать к известной нации и к известной эпохе, ибо человек вне
национальности есть не действительное существо, а отвлеченное понятие. Из
этого ясно видно, что национальность в художественном произведении есть
не заслуга, а только необходимая принадлежность творчества,
являющаяся без всякого усилия со стороны поэта. И потому чем выше
произведение в художественном отношении, тем оно и национальнее, и
хвалить великого художника за национальность его творения — все равно
что хвалить великого астронома за то, что в своих вычислениях он не
ошибается в таблице умножения. В самом деле, что за заслуга со
стороны русского, что его дети отличаются русскою физиономией)?
Конечно, чтоб быть национальным поэтом, нужно сперва быть великим
человеком, представителем духа своей нации; но из этого-то и следует, что
великий талант делает поэта национальным, а не национальность
делает его великим поэтом: последнее есть только необходимое следствие
первого. При известии о вновь родившемся человеке никто не
спрашивает, есть ли у него глаза и руки, сколько ног и нет ли рогов и хвоста:
если он человек, так уж само собою разумеется, что у него есть и глаза
и руки, ног всего две, а не четыре, а рогов и хвоста нет. Так и в
искусстве: если произведение художественно, то само собою оно и
национально; в противном же случае оно не может быть и художественным
произведением, а будет аллегориею, символом или просто надутым и холодным
призраком, где общее не обособилось органически, а только прикрылось
лоскутьями натянутого вымысла, который не вывел вовне, а только
закрыл его смысл. Это относится не к одним тем произведениям, которых
содержание берется из действительной жизни, как в романе, повести,
драме, комедии, но и к лирическим поэмам. «Фауст» Гёте —- мировое,
233
общечеловеческое произведение, но тем не менее, читая его, вы видите,
что оно могло родиться только в фантазии немца, и Байронов «Ман-
фред», явно навеянный «Фаустом», уже нисколько не веет германским
духом. Хотя Шекспир в своих драмах выводил и не одних англичан, но
и французов, и немцев, и итальянцев, и даже древних римлян и греков,
но, читая его, вы понимаете, что только в Англии мог явиться такой
драматург: кому эта мысль показалась бы странною, тех просим
прочесть в «Отечественных записках» статью «Мария Стюарт» *: этот
исторический отрывок представляет все элементы драмы, кроющиеся в
английской истории. Как ни разнообразен, ни мирообъемлющ Гёте в своих
созданиях, но каждое из них веет немецким и, сверх того, еще «гётев-
ским» духом. Хотя в большей части лирических пьес Пушкина, и даже
в некоторых эпических его произведениях, как в «Дон Хуане» 2, и
содержание, и форма, по-видимому, чисто европейские, но и в них Пушкин
является истинным национальным русским поэтом уже по одному тому,
что их никогда нельзя смешать ни с байроновскими, ни с гётевскими,
ни с шиллеровскими созданиями и их нельзя иначе назвать, как
«пушкинскими». И повторяем: это необходимо, это лежит в сущности
творчества: из какого бы мира ни брал поэт содержание для своих созданий,
к какой бы нации ни принадлежали его герои, но сам-то он всегда
остается представителем духа своей нации, смотрит на предметы ее глазами
и кладет на них ее печать. И чем гениальнее поэт, тем общее его
создания, а чем общее они, тем национальнее и оригинальнее. [...]
Но условия обособления общего в произведениях искусства не
оканчиваются только национальностию и оригинальностию: без типизма нет
ни той, ни другой. Тип (первообраз) в искусстве есть то же, что род
и вид в природе, что герой в истории. В типе заключается торжество
органического слияния двух крайностей — общего и особного.
Типическое лицо есть представитель целого рода лиц, есть нарицательное имя
многих предметов, выражаемое, однако же, собственным именем. Так,
например, Отелло есть собственное имя, принадлежащее только одному
лицу, изображенному Шекспиром; но, видя человека в припадке
ревности, мы говорим: «Какой Отелло!»—хотя бы этот человек назывался
Иваном или Петром и был русский или немец, а не мавр. В этом же
смысле все герои поэм, драм и повестей Пушкина, «Горя от ума»
Грибоедова, повестей Гоголя — типы. Боже мой, если посмотреть, на
скольких людей приходится так ловко, как по них шито, достославное имя
одного Ивана Александровича Хлестакова!.. Это не эклектическое
собрание резких черт одной и той же идеи, а общая идея, обособившаяся
в художественно созданном лице, это лицо и вместе — идея; а как одна
и та же идея является в действительности в бесконечном разнообразии,
то в лице, вполне выразившем ее собою, видится множество лиц.
1 Статья Ф. Шаля («Отечественные записки», 1841, т. XV, кн. 4).
2 Имеется в виду «Каменный гость». (Прим. сост.)
234
Но и здесь еще не конец условиям обособления общего в искусстве.
Художественное произведение должно быть целым, единым, особным
и замкнутым в себе миром. В нем общая идея, принявши плоть и образ,
так сказать, приковывается к пространству и времени, и притом к
известному пространству и к известному времени. Оно овеществляется,
явившись в форме; но, делаясь материею, оно не перестает быть духом:
принадлежа ничтожному клочку земли, на котором разыгралась драма,
оно — гражданин всего мира; принадлежа к ничтожному мгновению,
в которое совершилось событие, оно есть достояние вечности. И потому
художественное произведение и конечно и бесконечно вместе: конечно
потому, что состоит в куске мрамора, в лоскутке полотна, в книге,
может быть взято руками, перенесено, истреблено, а главное, потому, что
выражает один известный случай, небольшое число людей или мгновенное
ощущение; оно бесконечно потому, что выраженный им случай
заключает в себе возможность бесчисленного множества подобных случаев;
изображенные им люди заключают в себе множество людей, которые
были, есть и всегда могут быть, а мгновенное ощущение одного поэта
есть достояние, собственность миллионов людей, словом: потому, что
в его конечной форме выразилось бесконечное, общее, непреходящее —
идея, дух. [...]
Та м ж е, стр. 317—319.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В 1841 ГОДУ
[...] В.— Да что же вы разумеете под словом «содержание», которое
служит основанием всех ваших суждений о поэзии и поэтах?
А.— Я не берусь вам определять философски, что такое
«содержание» в жизни, в истории, в искусстве, в науке, но охарактеризую его
вам общими признаками и объясню примерами, взятыми из сферы
искусства. Содержание в искусстве не всегда то, что можно с первого взгляда
выговорить и определить; оно не есть воззрение, или определенный
взгляд на жизнь, не начало или система каких-либо верований и
убеждений, род философской школы или политической котерии; содержание
есть и нечто высшее, из чего вытекают все верования, убеждения
и начала; содержание есть миросозерцание поэта, его личное ощущение
собственного пребывания в лоне мира и присутствие мира во внутреннем
святилище его духа. Когда вы читаете поэта без содержания, но
обладающего большим талантом, вы чувствуете, что вас что-то растревожило,
возбудило в вас стремление к чему-то, повергло вас в какое-то
неопределенное состояние, но не удовлетворило, не наполнило ничем; здесь
самое наслаждение — только раздражение, а не удовлетворение. Напротив,
когда вы читаете поэтические произведения, проникнутые глубоким
содержанием, вы чувствуете, что стремитесь к чему-нибудь определенному,
2S5
наслаждаетесь чем-нибудь положительным, что вы приняли в себя новую
силу, что вашего существования прибавилось, что вы чем-то
преисполнились. Тогда вы. страдаете страданием вашего поэта, блаженствуете его
блаженством, потому что в его страдании или его блаженстве узнаёте
общечеловеческую скорбь или радость, душу века, интерес времени. Ваш
поэт покоряет вас, заставляет видеть все в том колорите, в каком сам все
видит. Такое влияние производят на душу читателя великие поэты,
каковы, например, Байрон, Шиллер, Гёте. [...]
Достоинство пушкинского стиха состоит не в одной легкости —
легкость одно из второстепенных качеств его: нет, достоинство этого стиха
заключается в его художественности, в этой органической, живой
соответственности между содержанием и формою, и наоборот. В этом
отношении стих Пушкина можно сравнить с красотою человеческих глаз,
оживленных чувством и мыслию: отнимите у них оживляющее их
чувство и мысль — они останутся только красивыми, но уже не
божественно прекрасными глазами. Теперь многие пишут стихи и гладкие, и
гармонические, и легкие; но пушкинский стих напомнила нам только муза
Лермонтова... Поэзия Пушкина полна, насквозь проникнута содержанием,
как граненый хрусталь лучом солнечным: у Пушкина нет ни одного
стихотворения, которое не вышло бы из жизни и было бы написано
вследствие желания так что-нибудь написать, в чаянии, что авось-да это
будет недурно...
[...] Следствием глубоко истинного содержания, всегда скрывающегося
в произведениях Пушкина, была их строго художественная форма.
Каждое его стихотворение есть отдельный мир, замкнутый в самом себе,
полный собственных сил, чуждый всяких несвойственных ему
элементов, всего постороннего и лишнего, свободно движущийся в своей
сфере. Как верна у Пушкцна всякая мысль, всякое чувство и всякое
ощущение, так верен у него и всякий образ, каждая фраза, каждое
слово. Все на своем месте, все полно, ничего недоконченного, темного,
неточного, неопределенного. Определенность есть свойство великих поэтов,
и Пушкин вполне обладал этим свойством. Ограниченные люди ставили
его поэзии в вину, что она все оземленяет и овеществляет,— обвинение,
которое обнаруживает решительное отсутствие эстетического чувства,
самое грубое неразумение поэзии! Поэт —соперник творящей природе;
подобно ей, он стремится бесплотных духов жизни, реющих в
беспредельных пространствах, уловить в прекрасные и полные органически
идеальной жизни образы, воплотить небесное в земное и земное
просветлять небесным... Поэт не терпит отвлеченных представлений: творя, он
мыслит образами, а всякий образ только тогда и прекрасен, когда
определен и вполне доступен созерцанию. Из русского языка Пушкин сделал
чудо. Справедливо сказал Гоголь, что «в Пушкице, как будто в
лексиконе, заключилось все богатство, гибкость и сила нашего языка». Он
ввел в употребление новые слова, старым дал новую жизнь; его эпитет
столько же смел, оригинален, как и резко точен, математически опре-
236
делен. Многообъемлемость и многосторонность также принадлежат к
числу качеств, которые срослись с поэзиею Пушкина. Грусть у него
сменяется шуткою, эпиграммою, тяжелая скорбь неожиданно разрешается
освежающим душу юмором. Его нельзя назвать ни поэтом грусти, ни
поэтом веселия, ни трагиком, ни комиком исключительно: он всё...
Самое простое ощущение звучит у него всеми струнами своими и потому
чуждо монотонности; это всегда полный аккорд... Всего чаще ощущение
у Пушкина — диссонанс, разрешающийся в гармонию, и всего реже —
простая мелодия... Трудно было бы определить общее направление
поэзии Пушкина; но можно сказать утвердительно, что имя романтика
навязано на него не совсем впопад, так же как невпопад отнято оно
у Жуковского. Характер чисто романтической поэзии всегда более или
менее односторонний и исключительный. Поэзия Пушкина — самый
разнообразный мир, где примирены самые разнообразные и
противоречащие элементы, где простая и вместе роскошная форма спокойно и
равновесно овладела своим многосложным содержанием... Наконец, Пушкин —
рполне национальный поэт, заключивший в духе своем все
национальные элементы. Это видно не только из тех произведений, где чисто
русское содержание выражал он в чисто народной форме и где не имел он
себе соперника; но еще более из тех произведений, которые ни по
содержанию, ни по форме, кажется, не могут иметь ничего русского. Я не
знаю лучшей и определеннейшей характеристики национальности в
поэзии, как ту, которую сделал Гоголь в этих коротких словах,
врезавшихся в моей памяти: «Истинная национальность состоит не в описании
сарафана, а в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда
национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него
глазами своей национальной стихии, глазами всего народа; когда
чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это
чувствуют и говорят они сами». Мне кажется, что кроме грусти, как
основного мотива пушкинской поэзии, и бодрого, мощного выхода из нее не
в какое-нибудь тепленькое утешеньице, а в ощущение собственной силы,
как самой характеристической черты ее,— национальность ее состоит
еще во внешнем спокойствии, при внутренней движимости, в отсутствии
одолевающей страстности. У Пушкина диссонанс и драма всегда внутри,
а снаружи все спокойно, как будто ничего не случилось, так что грубая,
невосприимчивая или неразвитая натура не может тут видеть ни силы,
ни борьбы, ни величия... Заметьте, что герои Пушкина никогда не
лишают себя жизни, по силе трагической развязки, но остаются жить...
Пушкин в этой черте бывает страшно велик... Не бывало еще на Руси
такой колоссальной творческой силы, и так национально, так русски
проявившейся... Ни один поэт не имел на русскую литературу такого
многостороннего, сильного и плодотворного влияния. Пушкин убил на Руси
незаконное владычество французского псевдоклассицизма, расширил
источники нашей поэзии, обратил ее к национальным элементам жизни,
показал бесчисленные новые формы, сдружил ее впервые с русскою
237
жизнию и русскою современностию, обогатил идеями, пересоздал язык
до такой степени, что и безграмотные не могли уже не писать хорошими
стихами, если хотели писать. [...]
Там же, стр. 552, 556—558.
[ПО ПОВОДУ] РЕЧИ О КРИТИКЕ,
произнесенной в торжественном собрании императорского
Санкт-Петербургского университета
марта 25 дня 1842 года экстраординарным профессором,
доктором философии Α. H и к и τ е н к о. Спб., 1842.
Статья I
Дух анализа и исследования — дух нашего времени. Теперь все
подлежит критике, даже сама критика. Нате время ничего не принимает
безусловно, не верит авторитетам, отвергает предание; но оно действует
так не в смысле и духе прошедшего века, который почти до конца своего
умел только разрушать, не умея созидать; напротив, наше время алчет
убеждений, томится голодом истины. Оно готово принять всякую живую
мысль, преклониться перед всяким живым явлением; но оно не спешит
им навстречу, а спокойно ожидает их к себе, без страсти и увлечения.
Боясь разочарования, оно боится и очаровывать наскоро. Как будто
враждебно смотрит наш закаленный в бурях учений и событий век на
все новое, котарое претендует заменить ему не удовлетворяющее его
старое; но эта враждебность есть, в сущности, только благоразумная
осторожность, плод тяжелых опытов. Наш век и восхищается как будто
холодно: но эта холодность у него не в сердце, а только в манере; она
признак не старости, а возмужалости. Скажем более: эта холодность
есть сосредоточенность внутреннего восторга, плод самообладания,
умеющего видеть всему настоящее место и настоящие границы, равно
презирающего и искусственную, на живую нитку сметанную золотую
середину — этого идола посредственности, и фанатическое увлечение
крайностями, этой болезни односторонних умов. [...]
Да, прошли безвозвратно блаженные времена той фантастической
эпохи человечества, когда чувство и фантазия давали ему ответы на
все его вопросы и когда отвлеченная идеальность составляла
блаженство его жизни. Мир возмужал: ему нужен не пестрый калейдоскоп
воображения, а микроскоп и телескоп разума, сближающий его с
отдаленным, делающий для него видимым невидимое. Действительность — вот
лозунг и последнее слово современного мира! Действительность в
фактах, в знании, в убеждениях чувства, в заключениях ума,— во всем
и везде действительность есть первое и последнее слово нашего века.
[...] Нашему веку не нужно шутовских бубенчиков, приятных
заблуждений, ребяческих погремушек, отрадньи^ утешительных лжей. Если бы
ложь предстала перед ним в виде юной и прекрасной женщины и с
улыбке
кою манила его в свои роскошные объятия, а истина в виде страшного
остова смерти, летящего на гигантском коне, с косою в руках: он
отвергся бы с презрением и ненавистию от обольстительного призрака
и бросился бы в мертвящие объятия остова... Ему лучше ощутить себя
в действительных объятиях страшной смерти духа, чем схватить в свои
руки призрак, долженствующий исчезнуть при первом к нему
прикосновении... И это совсем не скептицизм: это, напротив, обожествление
истины, которая может быть страшна только для ограниченности
индивидуального человека, а сама в себе вечная красота и вечное блаженство.
Скептицизм отчаивается в истине и не ищет ее: наш век — весь вопрос,
весь стремление, весь искание и тоска по истине... Он не боится, что его
обманет истина, но боится лжи, которую человеческая ограниченность
часто принимает за истину.
[...] Критика всегда соответственна тем явлениям, о которых судит:
поэтому она есть сознание действительности. Так, например, что такое
Буало, Батте, Лагарп? Отчетливое сознание того, что непосредственно
(как явление, как действительность) выразилось в произведениях Кор-
неля, Расина, Мольера, Лафонтена. Здесь не искусство создало критику
и не критика создала искусство; но то и другое вышло из одного общего
духа времени. То и другое — равно сознание эпохи; но критика есть
сознание философское, а искусство — сознание непосредственное.
Содержание того и другого — одно и то же, разница только в форме. В этом-
то обстоятельстве и заключается важность критики, особенно для
нашего времени, которое по преимуществу мыслящее и судящее,
следовательно, критикующее время. В критике нашего времени более, чем
в чем-нибудь другом, выразился дух времени. Что такое само искусство
нашего времени? — Суждение, анализ общества; следовательно, критика.
Мыслительный элемент теперь слился даже с художественным,— и для
нашего времени мертво художественное произведение, если оно
изображает жизнь для того только, чтоб изображать жизнь, без всякого
могучего субъективного побуждения, имеющего свое начало в
преобладающей думе эпохи, если оно не есть вопль страдания или дифирамб
восторга, если оно не есть вопрос или ответ на вопрос. Удивляться ли после
этого, что критика есть самовластная царица современного умственного
мира? Теперь вопрос о том, что скажут о великом произведении, не
менее важен самого великого произведения. Что бы и как бы ни сказали
о нем, поверьте, это прочтется прежде всего, возбудит страсти, умы,
толки. Иначе и быть не может: нам мало наслаждаться — мы хотим знать;
без знания для нас нет наслаждения. Тот обманулся бы, кто сказал бы,
что такое-то произведение наполнило его восторгом, если он не отдал
себе отчета в этом наслаждении, не исследовал его причин. Восторг
от непонятного произведения искусства — мучительный восторг. Это
теперь выражается не только в отдельных лицах, но и в массах.
[...] Что красота есть необходимое условие искусства, что без
красоты нет и не может быть искусства — это аксиома. Но с одною красотою
239
искусство еще не далеко уйдет, особенно в наше время. Красота есть
необходимое условие всякого чувственного проявления идеи. Это мы
видим в природе, в которой все прекрасно, исключая только те уродливые
явления, которые сама природа оставила недоконченными и спрятала их
во мраке земли и воды (моллюски, черви, инфузории и т. п.). Но нам
мало красоты эмпирической действительности: любуясь ею, мы все-таки
требуем другой красоты и отказываем в названии искусства самому
точному копированию природы, самой удачной подделке под ее
произведения. Мы называем это ремеслом. Какая же та красота, которой жаждет
наш дух, не удовлетворяющийся красотою природы, и которой мы
требуем от искусства? Красота мира идеального, мира бесплотного, мира
разума, где от века заключены все прототипы живых образов, откуда
исходит все, реально существенное. Следовательно, красота есть дщерь
разума, как Афродита — дщерь Зевеса. Но у греков, несмотря на это
подчинение красоты разуму, красота более, чем у какого-нибудь другого
народа, имела самостоятельное, абсолютное значение. Они все созерцали
под преобладающим влиянием красоты, и у них было искусство, по
преимуществу имевшее целью красоту,— ваяние. Впрочем, и сами греки
отделяли красоту от других сторон бытия и обожествили ее только
в идеальном образе Афродиты. Красота Зевса есть красота царственного
величия миродержавного разума; красота других богов также выражает
и еще какую-нибудь идею, кроме красоты. Что же касается до их
поэзии, в ее прекрасных образах выражалось целое содержание эллинской
жизни, куда входили и религия, и нравственность, и наука, и мудрость,
и история, и политика, и общественность. Красота безусловная,
абсолютная, красота как красота, выражалась только в Афродите, которую вполне
могло выражать только ваяние. Следовательно, даже и о греческом
искусстве нельзя сказать безусловно, чтоб целью его было одно воплощение
изящества. Содержание каждой греческой трагедии есть нравственный
вопрос, эстетически решаемый.
Христианство нанесло решительный удар безусловному обожанию
красоты как красоты. Красота мадонны есть красота нравственного
мира, красота девственной чистоты и материнской любви; ее могла
выразить только живопись, но уж никаким образом не могла выразить
бедная скульптура. Конечно, какое нравственное выражение ни придайте
дурному лицу, оно от этого все-таки не будет прекрасным лицом, и
потому красота греческая вошла и в новое искусство, но уже как элемент,
подчиненный другому, высшему началу, следовательно, она стала уже
скорее средством, чем целью искусства. Только здесь слово «средство»
не должно понимать как что-то внешнее искусству, но как единую, ему
присущую форму проявления, без которой искусство невозможно. С
другой стороны, искусство без разумного содержания, имеющего
исторический смысл, как выражение современного сознания, может
удовлетворять разве только записных любителей художественности по старому
преданию. Наш век особенно враждебен такому направлению искусства.
240
Он решительно отрицает искусство для искусства, красоту для красоты.
И тот бы жестоко обманулся, кто думал бы видеть в представителях
новейшего искусства какую-то отдельную касту артистов, основавших себе
свой собственный фантастический мир среди современной им
действительности. [...]
Дух нашего времени таков, что величайшая творческая сила может
только изумить на время, если она ограничится «птичьим пением»,
создаст себе свой мир, не имеющий ничего общего с историческою и
философическою действительностию современности, если она вообразит, что
земля недостойна ее, что ее место на облаках, что мирские страдания
и надежды не должны смущать ее таинственных ясновидении и
поэтических созерцаний. Произведения такой творческой силы, как бы ни
громадна была она, не войдут в жизнь, не возбудят восторга и
сочувствия ни в современниках, ни в потомстве. [...]
Из всего сказанного следует, что искусство подчинено, как и все
живое и абсолютное, процессу исторического развития и что искусство
нашего времени есть выражение, осуществление в изящных образах
современного сознания, современной думы о значении и цели жизни,
о путях человечества, о вечных истинах бытия...
[...] Каждое произведение искусства непременно должно
рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической современности, и в
отношениях художника к обществу; рассмотрение его жизни, характера
и т. п. также может служить часто к уяснению его создания. С другой
стороны, невозможно упускать из виду и собственно эстетических
требований искусства. Скажем более: определение степени эстетического
достоинства произведения должно быть первым делом критики. Когда
произведение не выдержит эстетического разбора, оно уже не стоит
исторической критики; ибо, если произведение искусства чуждо
животрепещущего исторического содержания, если в нем искусство было
само себе целью,— оно все еще может иметь хотя одностороннее,
относительное достоинство; но если при живых современных интересах оно
не ознаменовано печатию творчества и свободного вдохновения, то ни
в каком отношении не может иметь никакой ценности, и самая
жизненность его интересов, будучи выражена насильственно в чуждой им
форме, будет бессмысленна и нелепа. Из этого прямо выходит, что не для
чего и разделять критику на разные роды, а лучше, признав одну
критику, отдать в ее заведование все элементы и стороны, из которых
слагается действительность, выражающаяся в искусстве. Критика
историческая без эстетической, и наоборот, эстетическая без исторической будет
одностороння, а следовательно, и ложна. Критика должна быть одна,
и разносторонность взглядов должна выходить у нее из одного общего
источника, из одной системы, из одного созерцания искусства. Это и
будет критикою нашего времени, в котором многосложность элементов
ведет не к дробности и частности, как прежде, а к единству и
общности. [...]
241
Нас спросят: каким образом в одной и той же критике могут
органически слиться два различные воззрения, историческое и художественное?
или: как можно требовать от поэта, чтобы он в одно и то же время
свободно следовал своему вдохновению и служил духу современности, не
смея выйти из ее заколдованного круга? Этот вопрос весьма легко решить
и теоретически и исторически. Каждый человек, а следовательно, и поэт,
испытывает на себе неизбежное влияние времени и местности. С
молоком матери всасывает он в себя те начала, ту сумму понятий, которою
живет окружающее его общество. От этого он делается французом,
немцем, русским и т. д.; от этого он, родившись, например, в XII веке,
благочестиво убежден, что самое святое дело жечь на кострах людей,
думающих так, как не все думают, а родившись в XIX веке, он религиозно
убежден, что никого не должно жечь и резать, что дело общества не
мстить наказанием за проступок, а исправить наказанием преступника,
чрез что удовлетворится и оскорбленное общество и выполнится святой
закон христианской любви и христианского братства. Но человечество
не вдруг же перескочило от XII века к XIX-му: оно должно было
прожить целые шесть веков, в продолжение которых развивалось, в своих
моментах, его понятие об истинном, и в каждом из сих шести веков это
понятие принимало особенную форму. Вот эту-то форму философия и
называет моментом развития общечеловеческой истины; а этот-то момент
и должен быть пульсом созданий поэта, их преобладающею страстию
(пафосом), их главным мотивом, основным аккордом их гармонии.
Нельзя жить в прошедшем и прошедшим, закрыв глаза на настоящее:
в этом было бы что-то неестественное, ложное и мертвое. Отчего
европейские живописцы средних веков писали все мадонн да святых? —
Оттого, что религиозность христианская была преобладающим элементом
жизни Европы того времени. После Лютера все попытки к
восстановлению религиозной живописи в Европе были бы тщетны. «Но,— скажут
нам,— если нельзя выйти из своего времени, то не может быть и поэтов
не в духе своего времени, а следовательно, нечего и вооружаться против
того, чего быть не может».— Нет, отвечаем мы: это не только может
быть, но и есть, особенно в наше время. Причина такого явления — в
обществах, которых понятия диаметрально противоположны их
действительности, которые учат в школах детей своих такой нравственности, за
которую над ними же теперь смеются, когда те выйдут из школы. Это есть
состояние безрелигиозности, распадения, разъединения,
индивидуальности и — ее необходимого следствия — эгоизма: к несчастию, слишком
резкие черты нашего века! При таком состоянии обществ, живущих
старыми преданиями, которым более не верят и которые противоположны
новым истинам, открытым наукою, выработавшимся из исторических
движений,— при таком состоянии общества иногда самые благородные, самые
даровитые личности чувствуют себя отделенными от общества, одинокими,
и те из них, которые послабее характером, добродушно делаются жрецами
и проповедниками эгоизма и всех пороков общества, думая, что так, видно,
242
должно быть, что иначе быть не может, что не нами-де началось, не нами
и кончится; другие — и это, увы! часто лучшие — убегают вовнутрь себя,
с отчаянием махнув рукою на эту оскорбляющую чувство и разум
действительность. Но это средство к спасению ложное и эгоистическое: когда
на улице пожар, должно бежать не от него, а к нему, чтоб вместе с
другими искать средств и трудиться братски для нотушения его. Но многие,
напротив, из этого эгоистического и малодушного чувства сделали себе
начало, доктрину, правило жизни, наконец, догмат высокой мудрости. Они
им горды, они с презрением смотрят на мир, который, изволите видеть, не
стоит их страданий и их радостей; засев в разубранном тереме своего
фантастического замка и смотря из него сквозь расцвеченные стекла, они
поют себе, как птицы... Боже мой! человек делается птицею! Какое
истинно овидиевское превращение! К этому еще присоединилась
обаятельная сила немецких воззрений на искусство, в которых действительно
много глубокости, истины и света, но в которых также много и немецкого,
филистерского, аскетического, антиобщественного. Что же из этого должно
было выйти? — Гибель талантов, которые при другом направлении
оставили бы по себе в обществе яркие следы своего существования, могли бы
развиваться, идти вперед, мужать в силах. Отсюда происходит это
размножение микроскопических гениев, маленьких-великих людей, которые
действительно обнаруживают много таланта и силы, но пошумят,
пошумят да и замолкнут, скончавшись вмале еще прежде своей смерти, часто
во цвете лет, в настоящей поре силы и деятельности. Свобода творчества
легко согласуется с служением современности: для этого не нужно
принуждать себя, писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно
только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить
себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого
нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое
не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни. Что вошло, глубоко
запало в душу, то само собою проявится вовне. Когда человек сильно
потрясен страстию, исключительно занят одною мыслию — все, о чем он
думает днем, повторяется у него в снах. Пусть же творчество будет
прекрасным сном, в роскошных видениях своих повторяющим святые думы
и благородные симпатии художника! В наше время талант, в чем бы ни
проявлялся, в практической ли общественной деятельности или в науке
и искусстве, должен быть добродетелью или гибнуть в себе самом и через
себя самого. Человечество дошло наконец до таких убеждений, которых
не чистые люди, уже из собственных видов, чтоб не осудить себя, не
решатся произнести и выговорить. Они знают, что общество им не
поверило бы, ибо в них самих увидело бы лучшее опровержение их идей... [...]
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений,
т. VI, 1955, стр. 267—269, 271—272, 276—278, 280,
284-286.
243
СОЧИНЕНИЯ ДЕРЖАВИНА
Четыре части. Санкт-Петербург. 1843.
Статья первая
[...] Искусство, как одна из абсолютных сфер сознания, имеет свои
законы, в его собственной сущности заключенные, и вне себя не признает
никаких законов. Кто уже по натуре своей или по духовной своей
неразвитости не в состоянии постигать законов искусства в его идее, тот не
в состоянии ни ценить искусства в факте, ни наслаждаться им. До
постижения идеи мы доходим искусственным путем отвлечения: следовательно,
идея сама по себе есть только одна сторона предмета, искусственно
отделяемая нами от живой всецелости предмета, для того чтобы нам можно
было отрешиться от непосредственного, эмпирического способа понимать
этот предмет. И потому нет идей, которые и оставались бы идеями; но
всякая идея осуществляется как факт — как предмет или как действие.
Осуществление идеи в факте имеет свои непреложные законы, из
которых главнейший — последовательность и постепенность. Ничто не
является вдруг, ничто не рождается готовым; но все, имеющее идею своим
исходным пунктом, развивается по моментам, движется диалектически,
из низшей ступени переходя на высшую. Этот непреложный закон мы
видим и в природе, и в человеке, и в человечестве. Природа явилась не
вдруг, готовая, но имела свои дни или свои моменты творения. Царство
ископаемое предшествовало в ней царству прозябаемому, прозябаемое —
животному. Каждая былинка проходит через несколько фазисов
развития,— и стебель, лист, цвет, зерно суть не что иное, как непреложно
последовательные моменты в жизни растения. Человек проходит через
физические моменты младенчества, юношества, возмужалости и старости,
которым соответствуют нравственные моменты, выражающиеся в
глубине, объеме и характере его сознания. Тот же закон существует и для
общества и для человечества. Тот же закон существует и для искусства.
У искусства есть свой вечный, неизменный идеал совершенства,
составляющий предмет эстетики как науки изящного; но искусство не вдруг,
а постепенно достигает своего идеала,— и история искусства есть картина
моментов его развития. Так, например, Индия — страна, где впервые
пробудилось в людях стремление к сознанию абсолютной истины и в которой
это сознание остановилось на своем первом моменте; как бы окаменелое,
дошло оно до нас через ряд тысячелетий, почти в том самом виде, в каком
первоначально возникло, подобно вершинам Гималаи, которые и теперь
почти те же, какими узрел их мир в первые дни своего создания. Подобно
религии и философии, искусство в Индии представляется на первой
ступени своего проявления, в первом моменте своего существования: оно
носит там характер чисто символический, ибо его образы условно, а не
непосредственно выражают идею. Таково должно быть, и иным не может
быть, искусство в своем начале. Чтоб образы выражали идею не условно,
244
а непосредственно, для этого необходимо идее быть полною и ясною для
художника; но как идеи первобытных и младеячествующих обществ
состоят из темных предощущений и неоправданных, смутных
предчувствий, то и выражение идеи у них, естественно, должно состоять из одних
намеков, иносказаний и затейливых символов. В Египте искусство
сделало уже большой шаг, приблизившись несколько к простоте и природе;
по крайней мере египетские изваяния представляют уже не одних
сфинксов, но и людей, хотя эти люди еще массивны, грубы, неподвижны.
В Греции искусство уже отрешилось символизма, и его образы облеклись
в простоту и истину, которые составляют высочайший идеал красоты.
Искусство никогда не развивается независимо-одиноко: напротив, его
развитие всегда бывает связано с другими сферами сознания. В эпоху
младенчества и юношества народов искусство всегда более или менее —
выражение религиозных идей, а в эпоху возмужалости — философских
понятий. Индийский пантеизм есть обожествление природы, и потому
даже в поэзии индустанской играют такую важную роль растения, змеи,
птицы, коровы, слоны и прочие животные, а изваяния богов представляют
дикую и уродливую смесь членов человеческого тела с членами
животных. Индийское искусство не могло возвыситься до изображения
красоты человеческой, ибо в пантеистической религии индусов бог есть
природа, а человек — только ее служитель, жрец и жертва. Египетская
мифология занимает уже середину между индийскою и греческою: среди
животно-чудовищных образов ее богов уже заметны и человеческие лики,
послужившие типом для изваяний греческих; между Озиридом и
Аполлоном есть сродство, и миф Феба, который сражает Пифона, занят греками
у египтян. Однако ж это борение между животным и человеком
разрешилось только в сфинкса — чудовище с женоподобною головою и грудью,
с туловищем зверя. Сфинкс египетский мудрее человека: он загадывает
человеку хитрые загадки и пожирает его за неумение разгадать их. Но
грек Эдип разгадал мысль и нашел слово; зверь бросился в море и утонул;
человек вступил в свои права,— и боги Греции не что иное, как образы
идеального человека, обожествление человека. Звери вошли в искусство
как выражение сил природы, повинующихся человеку: кони возят
колесницу Аполлона, Цербер стережет вход в царство Аида, отвратительные
гарпии служат бичом злодейства; Зевс принимает образы вола и лебедя
для скрытия от Геры таких похождений, источником которых были чисто
естественные поползновения. Образ человеческий просветлен и возвышен:
его назначение в греческом искусстве — выражать высшую идеальную
красоту. В греческом искусстве символистика и аллегория кончилась;
искусство стало искусством. Объяснения этого должно искать в греческой
религии и глубоком, вполне развившемся и определившемся смысле ее
мирообъемлющих мифов.
Кроме всего этого на развитие и характер искусства много имеют
влияния еще и разные совершенно случайные обстоятельства, особенно же
природа и местность страны, климат и проч. Огромность архитектурных зда-
245
ний, колоссальность статуй индийских — явно отражение гигантской
природы страны Гималаев, слонов и удавов. Нагота греческих изваяний
находится в большей или меньшей связи с благословенным климатом
Эллады. Гармоническая природа этой страны, чуждая всякой чудовищной
громадности, всяких чудовищных крайностей, не могла не иметь влияния
на чувство соразмерности и соответственности, словом, гармонии, которое
было как бы врожденно грекам. Бедная и величаво дикая природа
Скандинавии была для норманнов откровением их мрачной религии и сурово
величавой поэзии. Политические обстоятельства также имеют влияние на
развитие и характер искусства: римляне заняли у греков классическую
гармонию и благородную простоту архитектуры, но прибавили к ней от
себя огромность и громадность размеров, как бы выразивших
колоссальность их государства и их политического величия.
Из этого видно, как жестоко ошибаются те умозрительные судии
изящного, которые хотят видеть в искусстве совершенно отдельный мир,
существующий независимо от других сфер сознания и от истории. Основываясь
на том, что предмет искусства не временное и относительное, а вечное
и безусловное, они думают, что искусство унижает себя, если подчиняется
каким бы то ни было историческим и временным влияниям. Но это значит
смотреть на «вечное» и «безусловное» как на отвлеченные понятия,
чуждые всякого содержания, как на логические построения, лишенные
всякой жизненности: ибо «вечное» выражается во времени, «безусловное»
ограничивается формою проявления, «бесконечное» делается доступным
созерцанию в конечном. Если эстетика возьмет за основание одни идеи
и их диалектическое развитие, оставив в стороне верования и историю,—
то по ней выйдет, может быть, что произведения греческого искусства
прекрасны, а индийского и египетского не имеют ничего общего с
творчеством и суть порождения невежества и дикости; готическая
архитектура — воплощенное безвкусие и безобразие; французская литература
хороша, а немецкая — вздор или наоборот, смотря по тому, от какого
начала отправится эстетика. Задача истинной эстетики состоит не в том,
чтоб решить, чем должно быть искусство, а в том, что такое искусство.
Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве как
о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может
осуществиться только по ее теории: нет, она должна рассматривать искусство как
предмет, который существовал давно прежде ее и существованию
которого она сама обязана своим существованием.
Другие знатоки и любители искусства начинают с противоположной
крайности, думая, что изящное не имеет никаких непреложных законов
и что стоит только изучить историю и нравы какого угодно народа, чтоб
понять его искусство. Узнав из биографии какого-нибудь художника, что
он был несчастен, они думают1, что нашли ключ к тайне его грустных
созданий. «Видите ли,— говорят они,— он был несчастен в жизни, оттого
меланхолия составляет отличительный характер его произведений».—
Коротко и ясно! Этак легко можно объяснить и мрачный характер поэзии
246
Байрона: критика будет и недолга и удовлетворительна. Но что Байрон
был несчастен в жизни — это уже старая новость: вопрос в том, отчего
этот одаренный дивными силами дух был обречен несчастию? [...].Ни один
поэт не может быть велик от самого себя и через самого себя, ни через
свои собственные страдания, ни через свое собственное блаженство:
великий поэт потому велик, что корни его страдания и блаженства глубоко
вросли в почву общественности и истории, что он, следовательно, есть
орган и представитель общества, времени, человечества. Только
маленькие поэты и счастливы и несчастливы от себя и через себя; но зато только
они сами и слушают свои птичьи песни, которых не хочет знать ни
общество, ни человечество. Чтоб разгадать загадку мрачной поэзии такого
необъятно колоссального поэта, как Байрон, должно сперва разгадать
тайну эпохи, им выраженной, а для этого должно факелом философии
осветить исторический лабиринт событий, по которому шло человечество
к своему великому назначению — быть олицетворением вечного разума,
и должно определить философски градус широты и долготы того места
пути, на котором застал поэт человечество в его историческом движении.
Без того все ссылки на события, весь анализ нравов и отношений
общества к поэту и поэта к обществу и к самому себе ровно ничего не объяснит.
Но прежде чем определить историческое значение поэта, должно
определить его чисто художественное значение: без этого никто не поймет,
почему критика или эстетика признает одного поэта поэтом, а другого
нет, и почему в одном она видит великого, а в другом обыкновенного
поэта. Вот здесь эстетика имеет право основываться на одном
философском начале искусства, не относясь ни к истории, ни к другим сферам
сознания. Здесь получает свой великий смысл искусство как искусство, как
такая сфера деятельности, которая сама себе цель и вне себя цели не
имеет. Естественно, прежде чем определить, к зодчеству какого народа,
какой эпохи, какого стиля принадлежат здания такого-то архитектора
и великий ли он архитектор, должно показать, есть ли в его зданиях
творчество, полет фантазии, словом, поэзия, или эти здания — только груды
камней, складенные по правилам архитектуры трудолюбивым
ремесленником, тщательно изучившим техническую сторону искусства, или,
пожалуй, и опытным академиком... А этот вопрос может быть решен только
на основании философии изящного — эстетики. Но здесь и оканчивается
работа эстетики как эстетики собственно, и отсюда вступает в свои права
история и философия истории. Это не значит, чтобы эстетика в каком бы
то ни было случае отказывалась от прав, неотъемлемо принадлежащих ей
в деле искусства; это значит только, что эстетика, окончив рассмотрение
художественной стороны искусства, обращается к другой стороне,
столько же присущей искусству, как и сторона художественная,— к стороне
его содержания, и, нисколько не отказываясь от своих законных и
неотъемлемых прав, вступает в союз с другою родственною ей сферою — сферою
истории. Все сферы высшего сознания так родственны и тесно связаны
между собою, что только через искусственное действие разума можно раз-
247
делять их; показать же точные их границы так же трудно, как и показать,
где в человеке оканчивается тело и начинается душа, где конец чувства
и начало ума и т. д.
А между тем как в понятии о природе человека существуют преданные
отвлечениям идеалисты, которые за душою не замечают организма, и
материалисты, которые за массою тела не могут провидеть душу,— так
и в понятии об искусстве существуют свои идеалисты (умозрители) и свои
материалисты (эмпирики). Мы показали, в чем состоит учение тех и
других; прибавим к этому, что эмпирики, не произнающие эстетики
и превращающие ее в сухой, не оживленный мыслью каталог изящных
произведений, с практическими и случайными комментариями,— лишают
искусство его высокого значения. Не признавая содержанием искусства
той же вечной в свободной необходимости развивающейся идеи, которая
составляет содержание истории и философии, эмпирики низводят творче^·
ские произведения на степень предметов, имеющих целию приятно
развлекать скуку и занимать праздное бездействие,— а это значит ставить их
в один разряд с изящно сделанною мебелью и теми красивыми
безделками, которыми мода и прихоть украшают в комнатах камины, столы
и этажерки. Идеалисты доходят до той же крайности, только
противоположным путем. По их учению, жизнь должна идти своею дорогою, а
искусство своею, не соприкасаясь друг с другом, не завися друг от друга и не
имея никакого влияния друг на друга. Буквально верные своему
основному положению, что искусство само себе цель, они доходят наконец до
того, что лишают искусство не только цели, но и всякого смысла.
Сначала они доводят искусство до аскетизма, а наконец и до
индифферентизма,— что весьма естественно: Индия ясно доказывает, что
отшельничество и равнодушие гораздо ближе друг к другу, нежели как кажутся
с первого взгляда.
[...] Истина составляет так же содержание поэзии, как и философии;
со стороны содержания поэтическое произведение — то же самое что
и философский трактат; в этом отношении нет никакой разницы между
тюэзиею и мышлением. И однако же поэзия и мышление далеко не одно
и то же: они резко отделяются друг от друга своею формою, которая
и составляет существенное свойство каждого. Философия, или (выразим
это понятие более общим термином) мышление, действует прямо через
разум и на разум; и если мыслитель или оратор, проникаясь эфирным
пламенем исследуемой им истины, иногда возвышается до пафоса,
прибегает к посредству фантазии и говорит огненным языком чувства и
радужными образами фантазии, у него и в таком случае чувство и фантазия
являются второстепенными — первое как результат глубокого
проникновения в истину, раскрытую путем анализа, а вторая — как
вспомогательное средство сделать истину ощутительною и видимою. В мышлении
разум лицом к лицу становится к мысли, не нуждаясь в посредстве
чувства и фантазии, но только допуская их по собственной воле как
следствие увлечения, мгновенно охватившего душу мыслителя,— увлечения,
248
над которым разум не перестает, однако же, царить и которого
обаятельной силы он уже не боится как произведения собственной своей
диалектики. И подобное увлечение бывает не опасно только тем мыслителям,
которые окрепли и закалились в гимнастике строгой логической мысли,,
обнаженной от всех покровов непосредственного представления и которые
уже не могут покоряться авторитету ощущений, чувств и готовых идей,
но всегда поверяют их диалектикою разума. В поэзии, напротив,
фантазия является главною действующею силою, через которую исключительно
совершается процесс творчества. Поэзия рассуждает и мыслит — это
правда, ибо ее содержание есть так же истина, как и содержание
мышления; но поэзия рассуждает и мыслит образами и картинами, а не
силлогизмами и дилеммами. Всякое чувство и всякая мысль должны быть
выражены образно, чтоб быть поэтическими. Некоторые Аристархи, сами
писавшие некогда стишонки, которые в свое время считались недурными,
думали уронить Пушкина, говоря, что его поэзия чисто земная, ибо озем-
леняет бесплотную чистоту идей: такой взгляд на поэзию обнаруживает
в этих Аристархах решительное отсутствие эстетического чувства, натуру
грубо прозаическую и чуждую всякого предощущения поэзии. Нападать
на поэзию за то, что она оземленяет идеи,— все равно что нападать на
математику за то, что она все исчисляет и измеряет. В том-то и состоит
сущность поэзии, что она бесплотной идее дает живой, чувственный и
прекрасный образ. В этом случае идея есть только морская пена, а
поэтический образ — богиня любви и красоты, родившаяся из морской пены. Кто
не одарен творческою фантазиею, способною превращать идеи в образы,
мыслить, рассуждать и чувствовать образами, тому не помогут сделаться
поэтами ни ум, ни чувство, ни сила убеждений и верований, ни богатство
разумно исторического и современного содержания. И если бы не так, то
всего легче было бы сделаться поэтом: стоило бы только узнать правила
версификации, да, благословясь, и начать писать диссертации
размеренными строчками, завостренйыми рифмою.
Одно из главнейших условий всякого художественного произведения
есть гармоническая соответственность идеи с формою и формы с идеею
и органическая целостность его создания. Поэтому всякое художественное
произведение прежде всего должно отличаться строгим единством
лежащего в его основании чувства или мысли. Мысль в пьесе может быть
схвачена или в одном своем моменте, или развита во всех ее моментах, но она
должна быть одна, и ее развитие должно относиться к ней самой, как
относятся в музыкальном произведении вариации к мотиву. Если мысль
пьесы переходит в другую, хотя бы и имеющую к ней отношение мысль,—
тогда нарушается единство художественного произведения, а
следовательно, единство и сила впечатления, производимого им на читателя.
Прочтя такое произведение, чувствуешь себя только обеспокоенным, но не
удовлетворенным,— утомление и досада заступают место наслаждения.
Там же, стр, 582—588, 590—592.
249
СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
Статья вторая
[...] Романтизм — принадлежность не одного только искусства, не
одной только поэзии: его источник в том, в чем источник и искусства
и поэзии — в жизни. Жизнь там, где человек, а где человек, там и
романтизм. В теснейшем и существеннейшем своем значении романтизм есть
не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его
сердца. [...]
Законы сердца, как и законы разума, всегда одни и те же, и потому
человек по натуре своей всегда был, есть и будет один и тот же. Но как
разум, так и сердце живут, а жить значит развиваться, двигаться вперед:
поэтому человек не может одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь
свою; но его образ чувствования и мышления изменяется сообразно
возрастам его жизни: юноша иначе понимает предметы и иначе чувствует,
нежели отрок; возмужалый человек много разнится в этом отношении от
гоноши, старец — от мужа, хотя все они чувствуют одним и тем же
сердцем, мыслят одним и тем же разумом. Это различие в характере чувства
и мысли вытекает из природы человека и существует для каждого: оно
связано с его неизбежным свойством расти, мужать и стариться
физически. Но человек имеет не одно только значение существа
индивидуального и личного. Кроме того, он еще член общества, гражданин своей земля,
принадлежит к великому семейству человеческого рода. Поэтому он —
сын времени и воспитанник истории: его образ чувствования и мышления
видоизменяется сообразно с общественностью и национальностью, к
которым он принадлежит, с историческим состоянием его отечества и всего
человеческого рода. Итак, чтоб вернее определить значение романтизма,
мы должны указать на его историческое развитие. [...]
Хотя романтизм есть общее духу человеческому явление, во все
времена и для всех народов присущее, но он считается какою-то
исключительною принадлежностью средних веков и даже носит на себе имя
народов романского происхождения, игравших главную роль в эту великую
и мрачную эпоху человечества. И это произошло не от ошибки, не от
заблуждения: средние века — действительно романтические по
превосходству. В Греции, как мы видели, романтизм был силою мрачною, всегда
движущеюся, вечно борющеюся с богами Олимпа и вечно держащею их
в страхе; но эта сила всегда была побеждаема высшею силою
олимпийских божеств; в средние века, напротив, романтизм составлял
беспримерную, самобытную силу, которая, не будучи ничем ограничиваема, дошла
до последних крайностей противоречия и бессмыслицы. Этим странным
миром средних веков управлял не разум, а сердце и фантазия. Казалось,
что мир снова сделался добычею разнузданных элементарных сил
природы; сорвавшиеся с цепей титаны снова ринулись из тартара и овладели
землею и небом,— и над всем этим снова распростерлось мрачное царство
хаоса... [...] Надо отдать в одном справедливость средним векам: они обо-
250
жали красоту, как и греки; но в свое понятие о красоте внесли духовный
элемент. Греки понимали красоту только как красоту, строго
правильную, с изящными формами, оживленными грациею; красота средних
веков была красотою не одной формы, но и как чувственное выражение
нравственных качеств, кросота более духовная, чем телесная, красота, для
художественного воссоздания которой скульптура была уже слишком
бедным искусством и которую могла воспроизводить только живопись. Для
греков красота существовала в целом, и потому их статуи были нагие
или полунагие; красота средних веков вся была сосредоточена в
выражении лица и глаз. Нельзя не согласиться, что понятие средних веков о
красоте — более романтическое и более глубокое, чем понятие древних. Но
средние века и тут не умели не исказить дела крайностию и
преувеличением: они слишком любили туманную неопределенность выражения
в лице женщины, и в их картинах она является как будто совсем без
форм, совсем без тела, как будто тенью, призраком каким-то. [...]
Вследствие страшных потрясений и ударов, нанесенных романтизму
XVIII веком, романтизм явился в наше время совершенно перерожденным
и преображенным. Романтизм нашего времени есть сын романтизма
средних веков, но он же очень сродни и романтизму греческому. Говоря
точнее, наш романтизм есть органическая полнота и всецелость романтизма
всех веков и всех фазисов развития человеческого рода: в нашем
романтизме, как лучи солнца в фокусе зажигательного стекла, сосредоточились
все моменты романтизма, развивавшегося в истории человечества, и
образовали совершенно новое целое. Общество все еще держится принципами
старого, средневекового романтизма, обратившегося уже в пустые формы
за отсутствием умершего содержания, но люди, имеющие право
называться солью земли, уже силятся осуществить идеал нового романтизма.
Наше время есть эпоха гармонического уравновешения всех сторон
человеческого духа. Стороны духа человеческого неисчислимы в их
разнообразии; но главных сторон только две: сторона внутренняя, задушевная,
сторона сердца, словом, романтика,— и сторона сознающего себя разума,
сторона общего, разумея под этим словом сочетание интересов, выходящих
из сферы индивидуальности и личности. В гармонии, то есть во взаимном
сопроникновении одной другою этих двух сторон духа заключается
счастие современного человека. [...]
Много нужно было времени, битв, борений, переворотов и страданий,
чтоб явилась человечеству заря нового романтизма и настала для него
эпоха освобождения от романтизма средних веков. Давно уже условия
жизни и основы общества были другие, не похожие на те, которыми
крепки были средние века; но романтизм средних веков все еще держал
Европу в своих душных оковах, и — боже мой! — как еще для многих
гибельны клещи этого искаженного и выродившегося призрака!.. XVIII век
нанес ему удар страшный и решительный; но дело тем не кончилось: как
лампа вспыхивает ярче перед тем, когда ей надо угаснуть, так сильнее
в начале нынешнего века восстал было из своего гроба этот покойник.
251
Всякое сильное историческое движение необходимо порождает реакцию
своей крайности: вот причина внезапного появления романтизма средних
веков в литературе XIX века. Он воскрес в стране, которой умственную
жизнь составляет теория, созерцание, мистицизм и фантазерство и
которой действительную жизнь составляет пошлость бюргерства, гофратства
и филистерства,— в Германии. [...]
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений,
т. VII, 1955, стр. 145, 154—156, 158-164.
СОЧИНЕНИЯ АЛРЖСАНДРА ПУШКИНА (1843—1846)
Статья пятая
[...] Гёте где-то сказал: «Какого читателя желаю я? — такого, который
бы меня, себя и целый мир забыл, и жил бы только в книге моей».
Некоторые немецкие Аристархи оперлись на это выражение великого поэта
как на основной краеугольный камень эстетической критики. И однако ж,
односторонность Гётевой мысли очевидна. Подобное требование очень
выгодно для всякого поэта, не только великого, но и маленького: приняв
его на веру и безусловно, критика только и делала бы, что кланялась
в пояс то тому, то другому поэту, ибо так как все имеет свою причину
и основание — даже эгоизм, дурное направление, самое невежество поэта,
то, если критик будет смотреть на произведение поэта без всякого
отношения к его личности, забыв о самом себе и о целом мире,— естественно, что
творения этого поэта, будь они только ознаменованы большею или
меньшею степенью таланта, явятся непогрешительными и достойными
безусловной похвалы. При немецкой апатической терпимости ко всему, что
бывает и делается на белом свете, при немецкой безличной
универсальности, которая, признавая все, сама не может сделаться ничем,— мысль,
высказанная Гёте, поставляет искусство целью самому себе, и через это
самое освобождает его от всякого соотношения с жизнию, которая всегда
выше искусства, потому что искусство есть только одно из бесчисленных
проявлений жизни. Действительно, немецкая критика при
рассматривании произведений искусства всегда опирается на само искусство и на дух
художника и потому исключительно вращается в тесной сфере эстетики,
выходя из нее только для того, чтобы обращаться изредка к
характеристике личности поэта, а на историю, общество —- словом, на жизнь — не
обращает никакого внимания. И оттого жизнь давно уже оставила тех
немецких поэтов, которые своими произведениями угождают такой
критике! Но с другой стороны, мысль Гёте «имеет глубокий смысл, если ее
принимать не безусловно, но как первый необходимый акт в процессе
критики. Чтоб разбирать критически писателя, прежде всего должно
изучить его. [...] Все произведения поэта, как бы ни были разнообразны и по
содержанию и по форме, цмеют общую всем им физиономию, запечатлены
только им свойственною особностию, ибо все они истекли из одной лично-
252
сти, из единого и нераздельного «я». Таким образом, приступая к
изучению поэта, прежде всего должно уловить в многоразличии и разнообразии
его произведений тайну его личности, то есть те особности его духа,
которые принадлежат только ему одному. Это, впрочем, значит не то, чтоб
эти особности были чем-то частным, исключительным, чуждым для
остальных людей: это значит, что все общее человечеству никогда не
является в одном человеке; но каждый человек в большей или меньшей
мере родится для того, чтоб своею личностию осуществить одну из
бесконечно разнообразных сторон необъемлемого, как мир и вечность, духа
человеческого. [...]
...Чем выше поэт, тем оригинальнее мир его творчества,— и не только
великие, даже просто замечательные поэты тем и отличаются от
обыкновенных, что их поэтическая деятельность ознаменована печатью
самобытного и оригинального характера. В этой характерной особности
заключается тайна их личности и тайна их поэзии. Уловить и определить
сущность этой особности значит найти ключ к тайне личности и поэзии
поэта.
В чем же должно искать этого ключа?
Каждое поэтическое произведение есть плод могучей мысли,
овладевшей поэтом. Если бы мы допустили, что эта мысль есть только результат
деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но
и самую возможность искусства. В самом деле, что мудреного было бы
сделаться поэтом, и кто бы не в состоянии был сделаться поэтом по нужде,
по выгоде или по прихоти, если б для этого стоило только придумать
какую-нибудь мысль да и втискать ее в придуманную же форму? Нет, не
так это делается поэтами по натуре и призванию! У того, кто не поэт по
натуре, пусть придуманная им мысль будет глубока, истинна, даже
свята,— произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое,
уродливое, мертвое, и никого не убедит оно, а скорее разочарует каждого
в выраженной им мысли, несмотря на всю ее правдивость! Но между тем
так-то именно и понимает толпа искусство, этого-то именно и требует она
от поэтов! Придумайте ей на досуге мысль получше да потом и обделайте
ее в какой-нибудь вымысел, словно брильянт в золото! Вот и дело с
кондом! Нет, не такие мысли и не так овладевают поэтом и бывают живыми
зародышами живых созданий! Искусство не допускает к себе отвлеченных
философских, а тем менее рассудочных идей: оно допускает только идеи
поэтические; а поэтическая идея — это не силлогизм, не догмат, не
правило, это — живая страсть, это — пафос... Что такое пафос? —
Творчество — не забава, и художественное произведение — не плод досуга или
прихоти; оно стоит художнику труда; он сам не знает, как западает в его
душу зародыш нового произведения; он носит и вынашивает в себе зерно
поэтической мысли, как носит и вынашивает мать младенца в утробе своей;
процесс творчества имеет аналогию с процессом деторождения и не чужд
мук, разумеется, духовных, этого физического акта. И потому, если поэт
решится на труд и подвиг творчества, значит, что его к этому движет.
253
стремит какая-то могучая сила, какая-то непобедимая страсть. Эта сила,
эта страсть — пафос. В пафосе поэт является влюбленным в идею, как
в прекрасное, живое существо, страстно проникнутым ею,— и он
созерцает ее не разумом-, не рассудком, не чувством и не какою-либо одною
способностью своей души, но всею полнотою и целостью своего
нравственного бытия,— и потому идея является в его произведении не отвлеченною
мыслью, не мертвою формою, а живым созданием, в котором живая
красота формы свидетельствует о пребывании в ней божественной идеи,
и в котором нет черты, свидетельствующей о сшивке или спайке,— нет
границы между идеею отвлеченною и поэтическою: первая — нлод ума,
вторая — плод любви как страсти. Но отчего же, скажут, называть это
пафосом, а не страстью? — Оттого, что слово «страсть» заключает в себе
понятие более чувственное, тогда как слово «пафос» заключает в себе
понятие более нравственное. В страсти много индивидуального, личного,
своекорыстного, темного; в ней может быть даже низкое и подлое, потому
что можно питать страсть не только к женщине, но и к женщинам, не
только к славе, но и к почестям, можно питать страсть к деньгам, к вину,
к гастрономии. В страсти много чисто чувственного, кровного,
нервического, телесного, земного. Под «пафосом» разумеется тоже страсть, и
притом соединенная с волнением крови, с потрясением всей нервной системы,
как и всякая другая страсть; но пафос всегда есть страсть, возжигаемая
в душе человека идеею и всегда стремящаяся к идее, следовательно,
страсть чисто духовная, нравственная, небесная. Пафос простое
умственное постижение идеи превращает в любовь к идее, полную энергии и
страстного стремления. В философии идея является бесплотною; через пафос
она превращается в дело, в действительный факт, в живое создание. [...]
Как ни многочисленны, как ни разнообразны создания великого поэта,
но каждое из них живет своею жизнию, а потому и имеет свой пафос.
Тем не менее весь мир творчества поэта, вся полнота его поэтической
деятельности тоже имеет свой единый пафос, к которому пафос каждого
отдельного произведения относится как часть к целому, как оттенок,
видоизменение главной идеи, как одна из ее бесчисленных сторон. И это
относится не к одним односторонним поэтам, каков был, например, Байрон,
но также и к таким, которых произведения удивляют своею многосторон-
ностию и многоразличием направлений, каков, например, Шекспир. И это
очень естественно: всякая личность единична; у ней может быть много
интересов и направлений, но всегда под преобладающим влиянием одного
главного; а так как личность есть живой и непосредственный источник
творческой деятельности, то и все произведения поэта должны быть
запечатлены единым духом, проникнуты единым пафосом. И вот этот-то пафос,
различный в полноте творческой деятельности поэта, есть ключ к его
личности и к его поэзии. Первым делом, первою задачею критика должна быть
разгадка, в чем состоит пафос произведений поэта, которого взялся он
быть изъяснителем и оценщиком. Без этого он может раскрыть некоторые
частные красоты или частные недостатки в произведениях поэта, наго-
254
ворить много хорошего a propos к ним; но значение поэта и сущность его
поэзии останутся для него так же тайною, как и для читателей, которые
думали бы найти в его критике разрешение этой тайны. Сверх того, он
рискует быть или пристрастным хвалителем, или, что одно и то же,
пристрастным порицателем поэта, приписать ему достоинства и недостатки,
которых нет, или не заметить тех, которые в нем есть. Но главное — он
всегда ошибется в общем выводе своих исследований о поэте. [...]
Тайна пушкинского стиха была заключена не в искусстве «сливать
послушные слова в стройные размеры и замыкать их звонкою рифмою»,
но в тайне поэзии. Душе Пушкина присущна была прежде всего та
поэзия, которая не в книгах, а в природе, в жизни,— присущно художество,
печать которого лежит на «полном творении славы». Разум — это дух
жизни, душа ее; поэзия — это улыбка жизни, ее светлый взгляд,
играющий всеми переливами быстро сменяющихся ощущений. Бывают
женщины, одаренные от природы редкою красотою, но которых строго
правильные черты лица поражают какою-то сухостью, а движения лишены
грации: такие женщины могут быть по-своему ослепительно блестящи
и возбуждать удивление; но их появление не заставит ничье сердце
забиться от неведомого волнения, их красота не родит любви, а красота, не
сопутствуемая харитою любви, лишена жизни, лишена поэзии. Так точно
и природа и жизнь возбуждали бы только холодное удивление, если б они
не были насквозь проникнуты поэзиею; не любовью — небесным огнем
жизни, а холодною сыростью могилы веяло бы от них. Пусть светила
небесные образуют собою стройные миры: не тем только возвышают они
душу созерцающего их человека, но поэзиею своего таинственного
мерцания, но дивною красотою живой игры своих бледно-огнистых лучей: в их
стройном ходе Пифагор видел не одну математику в факте, но и слышал
гармонию миров... Если б солнце только грело и светило, оно было бы не
более как огромный фонарь, огромная печка; но оно проливает на землю
яркий, весело дрожащий, радостно играющий луч, и земля встречает этот
луч улыбкою, а в этой улыбке — невыразимое очарование, неуловимая
поэзия... Природа полна не одних органических сил — она полна и
поэзии, которая наиболее свидетельствует о ее жизни; в ее вечном
движении, в колыхании ее лесов, в трепете серебристого листа, на котором
любовно играет луч солнца, в ропоте ручья, в веянии ветра, волнующего
золотистую жатву, разлит для человека таинственный блеск и слышатся
ему живые голоса, то грустные и одинокие, как звуки Эоловой арфы, то
веселые и радостные, как песнь взвивающегося под небеса жаворонка...
Человек еще более исполнен поэзии. Отчего вам так хочется расцеловать
этого ребенка, шумно играющего на лугу, отчего так пленяют вас и его
блестящие чистою радостию глаза, его дышащая блаженством улыбка,
живость и резвость его движений? Что общего между вами, измученным
жизнью, опытом и житейскими заботами, вами, человеком пожилым и
мудрым, и между им — ничего не понимающим, почти бессознательным
существом? Зачем же, торопливо бежа по важному делу, с озабоченным видом,
255
вы вдруг остановились на лугу, забыв ваши важные дела, и с улыбкою
умиления смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояснело,
забота на миг слетела с него, и улыбка счастия на мгновение осветила
ваше угрюмое лицо, как луч солнца, проникнувший сквозь щель в мрачное
подземелье и трепетно заигравший на его сыром полу?.. Оттого, что вид
этого дитяти пахнул на вас поэзиею жизни... Вот прекрасная, молодая
женщина: в чертах лица ее вы не находите никакого определенного
выражения — это не олицетворение чувства, души, доброты, любви,
самоотвержения, возвышенности мыслей и стремлений, словом, ничто не говорит
вам в этом лице ни о каком резко выпечатавшемся нравственном качестве:
оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью — и больше ничего; вы
не влюблены в эту женщину и чужды желанию быть любимым ею, вы
спокойно любуетесь прелестью ее движений, грациею ее манер,— и в то
же время в ее присутствии сердце ваше бьется как-то живее, и кроткая
гармония счастия мгновенно разливается в душе вашей... Отчего это, если
не оттого, что красота сама по себе есть качество и заслуга, и притом еще
великая? Прекрасна и любезна истина и добродетель, но и красота также
прекрасна и любезна, и одно другого стоит, одно другого заменить не
может, но то и другое в одинаковой степени составляет потребность нашего
духа. Вот почему древние греки в своем поэтическом политеизме
обожествили не только истину, знание, могущество, мудрость, доблесть,
справедливость, целомудрие, но и красоту, сопровождаемую харитами любви
и желания...
[...] Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической —
внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность. К этому
прибавим мы, что если всякое человеческое чувство уже прекрасно по тому
самому, что оно человеческое (а не животное), то у Пушкина всякое
чувство еще прекрасно, как чувство изящное. Мы здесь разумеем не
поэтическую форму, которая у Пушкина всегда в высшей степени прекрасна;
нет, каждое чувство, лежащее в основании каждого его стихотворения,
изящно, грациозно и виртуозно само по себе: это не просто чувство
человека, но чувство человека-художника, ч.еловека-артиста. Есть всегда что-
то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во
всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творения, можно
превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно
полезно для молодых людей обоего пола. Ни один из русских поэтов не
может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образовате-
лем юного чувства. Поэзия его чужда всего фантастического,
мечтательного, ложного, призрачно-идеального; она вся проникнута насквозь
действительностью; она не кладет на лицо жизни белил и румян, но
показывает ее в ее естественной, истинной красоте; в поэзии Пушкина есть
небо, но им всегда проникнута земля. [...]
Там ж«, стр. 305-307, 311-313, 314-315, 321-322,
339.
256
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В 1843 ГОДУ
[...] Роман и повесть выше сатиры. Их цель — изображать верно, а не
карикатурно, не преувеличенно. Произведения искусства, они должны не
смешить, не поучать, а развивать истину творчески верным изображением
действительности. Не их дело рассуждать, например, об отеческой власти
и сыновнем повиновении: их дело — представить или норму
истинных семейственных отношений, основанных на любви, на общем
стремлении ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на
взаимном уважении к своему человеческому достоинству, к своим
человеческим правам; или изобразить уклонение от этой нормы — произвол
отеческой власти, для корыстных расчетов истребляющей в детях любовь
к истине и добру, и необходимое следствие этого — нравственное
искажение детей, их неуважение, неблагодарность к родителям. Если ваша
картина будет верна — ее поймут и без ваших рассуждений. Вы были
только художником и хлопотали из того, чтоб нарисовать возникшую
в вашей фантазии картину как осуществление возможности,
скрывавшейся в самой действительности; и кто ни посмотрит на эту картину,
всякий, пораженный ее истинностью, и лучше почувствует и сознает сам
все то, что вы стали бы толковать и чего бы никто не захотел от вас
слушать... Только берите содержание для ваших картин в окружающей
вас действительности и не украшайте, не перестраивайте ее, а
изображайте такою, какова она есть на самом деле, да смотрите на нее глазами
живой современности, а не сквозь закоптелые очки морали, которая
была истинна во время оно, а теперь превратилась в общие места,
многими повторяемые, но уже никого не убеждающие... Идеалы скрываются
в действительности; они — не произвольная игра фантазии, не выдумки,
не мечты; и в то же время идеалы — не список с действительности,
а угаданная умом и воспроизведенная фантазиею возможность того или
другого явления. Фантазия есть только одна из главнейщих
способностей, условливающих поэта; но она одна не составляет поэта; ему нужен
еще глубокий ум, открывающий идею в факте, общее значение в частном
явлении. Поэты, которые опираются на одну фантазию, всегда ищут
содержания своих произведений за тридевять земель, в тридесятом
царстве, или в отдаленной древности; поэты, вместе с творческою
фантазиею обладающие и глубоким умом, находят свои идеалы вокруг себя.
И люди дивятся, как можно с такими малыми средствами сделать так
много, из таких простых материалов построить такое прекрасное
здание...
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений,
т. VIII, 1955, стр. 89.
9 «Историяэстетики»,т.4 (I полутом) 2^7
ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ
[...] Да, народность в поэте есть такой же талант, как и способность
творчества. Если надо родиться поэтом, чтоб быть поэтом,— то надо и
родиться народным, чтоб выразить своею личностью характеристические
свойства своих соотечественников. Правда, в строгом смысле никто,
принадлежа народу, не может не быть народным, да та беда, что в
одном черты народности обозначены слабо, вяло и незаметно, а другой
представляет собою хотя и резко, но зато не такие стороны народности,
которыми можно было бы гордиться. [...]
Так как способность быть народным есть своего рода талант, то она
имеет свои бесконечные степени, подобно всякому таланту. Тут есть
таланты обыкновенные и великие, есть гении. Это зависит от степени,
в которой известная личность выражает собою дух своей нации.
Организация одного вмещает в себе лучшие, высшие стороны национального
духа; организация другого обнимает собою менее характеристические
стороны народности; один выражает собою многие, другой весьма
немногие стороны субстанции своего народа. Оттого в поэтах со стороны
народности такая же разница, как и в поэтах со· стороны таланта.
Пушкин поэт народный, и Кольцов поэт народный,— однако же расстояние
между обоими поэтами так огромно, что как-то странно видеть их имена,
поставленные рядом. И эта разница между ними заключается в объеме
не одного таланта, но и самой народности. В том и другом отношении
Кольцов относится к Пушкину, как бьющий из горы светлый и
холодный ключ относится к Волге, протекающей большую половину России
и поящей миллионы людей. Но, во всяком случае, качество народности
есть великое качество в поэте: и Кольцов переживет многих поэтов,
которые пользовались несравненно высшею против него славою, но
которые не были народны. Народный поэт есть явление действительное
в философском значении этого слова: если б даже поэтический талант
его был не огромен, он всегда опирается на прочное основание — на
натуру своего народа, и во внимании к нему выражается акт
самосознания народа. Поэт же, талант которого лишен национальной струи,
всегда более или менее есть явление временное и преходящее: это дерево,
сначала пышно раскинувшее свои ветви, но потом скоро засохшее от
бессилия глубоко пустить свои корни в почву. Поэтому народность в
поэте есть своего рода гениальность, не всегда в смысле глубины и
многосторонности, но всегда в смысле оригинальности. В самом деле, что же
составляет первую, самую резкую черту гения, если не эта особенность,
не эта оригинальная самобытность, которая всегда открывает своею дея-
тельностию совершенно новую сферу мысли, которую талант по следам
гения только разрабатывает, но под оригинальную форму которой он не
может подделаться?..
[...] Если мы сказали, что поэзия Кольцова относится к поэзии Пуш-
кина^ как родник, который поит деревню, относится к Волге, которая
258
поит более чем половину России,— то поэзия Крылова и в эстетическом
и в национальном смысле должна относиться к поэзии Пушкина, как
река, пусть даже самая огромная, относится к морю, принимающему
в свое необъятное лоно тысячи рек, и больших и малых. В поэзии
Пушкина отразилась вся Русь, со всеми ее субстанциальными стихиями, все
разнообразие, вся многосторонность ее национального духа. Крылов
выразил — и надо сказать, выразил широко и полно — одну только сторону
русского духа — его здравый, практический смысл, его опытную
житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию. [...]
Там же, стр. 569—571.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В 1845 ГОДУ
[...] Если бы нас спросили, в чем состоит существенная заслуга новой
литературной школы,— мы отвечали бы: в том именно, за что нападает
на нее близорукая посредственность или низкая зависть,— в том, что
от высших идеалов человеческой природы и жизни она обратилась к так
называемой «толпе», исключительно избрала ее своим героем, изучает
ее с глубоким вниманием и знакомит ее с нею же самою. Это значило
повершить окончательно стремление нашей литературы, желавшей
сделаться вполне национальною, русскою, оригинальною и самобытною;
это значило сделать ее выражением и зеркалом русского общества,
одушевить ее живым национальным интересом. Уничтожение всего
фальшивого, ложного, неестественного долженствовало быть необходимым
результатом этого нового направления нашей литературы, которое
вполне обнаружилось с 1836 года, когда публика наша прочла «Миргород»
и «Ревизора». С тех пор весь ход нашей литературы, вся сущность ее
развития, весь интерес ее истории заключились в успехах новой
школы. [.. J
В. Г, Белинский, Полное собрание сочинений,
т. IX, 1955, стр. 388.
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1847 ГОДА
Статья первая
[...] Остается упомянуть еще о нападках на современную литературу
и на натурализм вообще с эстетической точки зрения во имя чистого
искусства, которое само себе цель и вне себя не признает никаких целей.
В этой мысли есть основание, но ее преувеличенность заметна с первого
взгляда. Мысль эта чисто немецкого происхождения: она могла родиться
только у народа созерцательного, мыслящего и мечтающего и никак не
могла бы явиться у народа практического, общественность которого для
всех и каждого представляет широкое поле для живой деятельности. Что
такое чистое искусство,— этого хорошо не знают сами поборники его,
и оттого оно является у них каким-то идеалом, а не существует факти-
9*
259
чески. Оно, в сущности, есть дурная крайность другой дурной крайности,
то есть искусства дидактического, поучительного, холодного, сухого,
мертвого, которого произведения не иное что, как риторические упражнения
на заданные темы. Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно
быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и
направления общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни
было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно
современными вопросами, но если в нем нет поэзии,— в нем не может быть ни
прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить
в нем,— это разве прекрасное намерение, дурно выполненное. Когда
в романе или повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего
типического,— как бы верно и тщательно ни было списано с натуры все, что
в нем рассказывается, читатель не найдет тут никакой натуральности, не
заметит ничего верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут
перемешиваться между собою в его глазах; в рассказе он увидит путаницу
непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы
искусства. Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, то есть
владеть искусством писца или писаря, надобно уметь явления
действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Хорошо
и верно изложенное следственное дело, имеющее романтический интерес,
не есть роман и может служить разве только материалом для романа, то
есть подать поэту повод написать роман. Но для этого он должен
проникнуть мыслию во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные
побуждения, заставившие эти лица действовать так, схватить ту точку
этого дела, которая составляет центр круга этих событий, дает им смысл
чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе. А это может
сделать только поэт. Кажется, чего бы легче было верно списать портрет
человека. И иной целый век упражняется в этом роде живописи, а все не
может списать знакомого ему лица так, чтобы и другие узнали, чей это
портрет. Уметь списать верно портрет есть уже своего рода талант, но
этим не оканчивается все. Обыкновенный живописец сделал очень сходно
портрет вашего знакомого; сходство не подвергается ни малейшему
сомнению в том смысле, что вы не можете не узнать сразу, чей это портрет,
а все как-то недовольны им, вам кажется, будто он и похож на свой
оригинал и не похож на него... Но пусть с него же снимет портрет Тыранов
или Брюллов, и вам покажется, что зеркало далеко не так верно повторяет
образ вашего знакомого, как этот портрет, потому что это будет уже не
только портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не
одно внешнее сходство, но вся душа оригинала. Итак, верно списывать
с действительности может только талант, и как бы ни ничтожно было
произведение в других отношениях, но чем более оно поражает верностию
натуре, тем несомненнее талант его автора. [...]
Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть
искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном
искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего
260
с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная.
Такого искусства никогда и нигде не бывало. Без всякого сомнения, жизнь
разделяется и подразделяется на множество сторон, имеющих свою
самостоятельность; но эти стороны сливаются одна с другою живым образом,
и нет между ними резкой разделяющей их черты. Как ни дробите жизнь,
она всегда едина и цельна. Говорят, для науки нужен ум и рассудок, для
творчества — фантазия, и думают, что этим порешили дело начисто, так
что хоть сдавай его в архив. А для искусства не нужно ума и рассудка?
А ученый может обойтись без фантазии? Неправда! Истина в том, что
в искусстве фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль,
а в науке — ум и рассудок. Бывают, конечно, произведения поэзии, в
которых ничего не видно, кроме сильной блестящей фантазии; но это вовсе
не общее правило для художественных произведений. В творениях
Шекспира не знаешь, чему больше дивиться — богатству или творческой
фантазии, или богатству всеобъемлющего ума. Есть роды учености, которые
не только не требуют фантазии, в которых эта способность могла бы
только вредить; но никак этого нельзя сказать об учености вообще.
Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь
созданный мир: может ли же оно быть какою-то одинокою,
изолированною от всех чуждых ему влияний деятельностию? Может ли поэт не
отразиться в своем произведении как человек, как характер, как натура,—
словом, как личность? Разумеется, нет, потому что и самая способность
изображать явления действительности без всякого отношения к самому
себе — есть опять-таки выражение натуры поэта. Но и эта способность
имеет свои границы. Личность Шекспира просвечивает сквозь его
творения, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру,
как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтера
Скотта невозможно не увидеть в авторе человека более замечательного
талантом, нежели сознательно широким пониманием жизни, тори,
консерватора и аристократа по убеждению и привычкам. Личность поэта не есть
что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких влияний извне. Поэт
прежде всего — человек, потом гражданин своей земли, сын своего
времени. Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на
других. Шекспир был поэтом старой веселой Англии, которая в
продолжение немногих лет вдруг сделалась суровою, строгою, фанатическою.
Пуританское движение имело сильное влияние на его последние произведения,
наложив на них отпечаток мрачной грусти. Из этого видно, что, родись он
десятилетиями двумя позже,— гений его остался бы тот же, но характер
его произведений был бы другой. Поэзия Мильтона явно произведение его
эпохи: сам того не подозревая, он в лице своего гордого и мрачного сатаны
написал апофеозу восстания против авторитета, хотя и думал сделать
совершенно другое. Так сильно действует на поэзию историческое движение
обществ. Вот отчего теперь исключительно эстетическая критика, которая
хочет иметь дело только с поэтом и его произведением, не обращая
внимания на место и время, где и когда писал поэт, на обстоятельства, подго-
261
товившие его к поэтическому поприщу и имевшие влияние на его
поэтическую деятельность, потеряла теперь всякий кредит, сделалась
невозможною. [...]
Мы видели, что и греческое искусство только ближе всякого другого
к идеалу так называемого чистого искусства, но не осуществляет его
вполне; что же касается до новейшего искусства, оно всегда было далеко
от этого идеала, а в настоящее время еще больше отдалилось от него; но
это-то и составляет его силу. Собственно художественный интерес не мог
не уступить место другим важнейшим для человечества интересам, и
искусство благородно взялось служить им в качестве их органа. Но от этого
нисколько не перестало быть искусством, а только получило новый
характер. Отнимать у искусства право служить общественным интересам —
значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит — лишать его
самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то
сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев. Это значит даже
убивать его, чему доказательством может служить жалкое положение
живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него жизни,
с закрытыми глазами на все живое, современное, действительное, это
искусство ищет вдохновения в отжившем прошедшем, берет оттуда
готовые идеалы, к которым люди давно уже охладели, которые никого уже не
интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия.
Платон считал унижением, профанациею науки приложение
геометрии к ремеслам. Это понятно в таком восторженном идеалисте и
романтике, гражданине маленькой республики, где общественная жизнь была
так проста и немногосложна, но в наше время она не имеет даже
оригинальности милой нелепости. Говорят, Диккенс своими романами сильно
способствовал в Англии улучшению учебных заведений, в которых все
основано было на беспощадном дранье розгами и варварском обращении
с детьми. Что ж тут дурного, спросим мы, если Диккенс действовал в этом
случае как поэт? Разве от этого романы его хуже в эстетическом
отношении? Здесь явное недоразумение: видят, что искусство и наука не одно
и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в
способе обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами,
поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же. Политико-
эконом, вооружась статистическими числами, доказывает, действуя на ум
своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в
обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и
таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изображением
действительности, показывает в верной картине, действуя на фантазию своих
читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много
улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один
доказывает, другой показывает, и оба убеждают, только один логическими
доводами, другой — картинами. Но первого слушают и понимают немногие,
другого — все. Высочайший и священнейший интерес общества есть его
собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов.
262
Путь к этому благосостоянию — сознание, а сознанию искусство может
способствовать не меньше науки. Тут и наука и искусство равно
необходимы и ни наука не может заменить искусства, ни искусство науки.
Дурное, ошибочное понимание истины не уничтожает самой истины.
Если мы видим иногда людей, даже умных и благонамеренных, которые
берутся за изложение общественных вопросов в поэтической форме, не
имея от природы ни искры поэтического дарования, из этого вовсе не
следует, что такие вопросы чужды искусству и губят его. [...] Теперь многих
увлекает волшебное словцо: «направление»; думают, что все дело в нем,
и не понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое направление
гроша не стоит без таланта, а во-вторых, самое направление должно быть
не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего, прежде
всего должно быть чувством, инстинктом, а потом уже, пожалуй, и
сознательною мыслию,— что для него, этого направления, так же надобно
родиться, как и для самого искусства. Идея, вычитанная или услышанная
и, пожалуй, понятая как должно, но не проведенная через собственную
натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал
не только для поэтической, но и всякой литературной деятельности. Как ни
списывайте с натуры, как ни сдабривайте ваших списков готовыми идеями
и благонамеренными «тенденциями», но если у вас нет поэтического
таланта,— списки ваши никому не напомнят своих оригиналов, а идеи
и направления останутся общими риторическими местами. [...]
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений,
т. X, 1956, стр. 302—306, 310—342.
А. И. ГЕРЦЕН
1812-1870
Выдающийся представитель русской революционной демократии —
общественный деятель, философ, писатель — Александр Иванович Герцен был одним из
крупнейших мыслителей XIX века. В. И. Ленин писал о Герцене, что «в крепостной
России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в
уровень с величайшими мыслителями своего времени» 1. Философская мысль Герцена
вышла за пределы метафизического материализма. Герцен сумел оценить
замечательное завоевание немецкой идеалистической философии конца XVIII — начала
XIX века — диалектику. Он понял, что диалектика Гегеля представляет собой
«алгебру революции», и использовал диалектику для обоснования борьбы против
крепостничества и самодержавия, против общественного порядка, основанного на
неравенстве и эксплуатации. Как отмечал Ленин, Герцен «вплотную подошел к
диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом» 2.
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 256,
2 Τ ам же.
263
В письмах «К старому товарищу» Ленин видел свидетельство того, что в своем
идейном развитии Герцен шел от иллюзий «надклассового» буржуазного
демократизма «к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата» '.
С начала 30-х годов Герцен был социалистом; в 50—60-х годах он проповедовал
теорию «русского социализма», утверждавшую возможность для России прийти
к социализму, минуя стадию капитализма, путем развития «общинных начал»
жизни русского крестьянства. Теория «русского социализма» была утопической, но за
утопически-социалистической формой этой теории имелось реальное и для своего
времени глубоко прогрессивное историческое содержание — боевой демократизм,
она отражала революционность крестьянской демократии в России.
Революционные убеждения Герцена, его философский материализм и
диалектика, его взгляды на пути развития России и Западной Европы к социализму были
тем теоретическим основанием, на котором развивались его эстетические
воззрения.
Один из главных мотивов эстетики Герцена, непосредственно связанный с
борьбой против идеализма и религии,— утверждение красоты реального, чувственного
мира. Герцен протестует против попыток идеализма «подавить духом, логикой
природу»* против религиозного осуждения телесной красоты. Эстетика Герцена анти-
аскетична, ее идеал — гармоническая полнота жизни человека, «одействотворение»
заложенных в человеке возможностей. Как своеобразное «одействотворение» этих
возможностей рассматривает Герцен эстетическое наслаждение и художественную
деятельность. Он исходит при этом из понимания человека как социального
существа; только такой взгляд на человека дает, по его убеждению, возможность
объяснить и эстетическое восприятие и художественное творчество. Хотя
идеалистическое понимание истории неизбежно ограничивало мысль Герцена, тем не
менее в его суждениях о закономерностях развития искусства был ряд интересных
и ценных мыслей. К их числу принадлежат мысли о связи той или иной
исторической формы искусства с породившей ее исторической «почвой», о неповторимой
художественной ценности каждого этапа в развитии искусства, о сложном и про*
тиворечивом характере прогресса в искусстве, о преемственности в развитии
художественной деятельности. Все размышления Герцена об историческом развитии
искусства пронизаны идеей связи искусства с общественной жизнью, отражения
в искусстве потребностей эпохи, активного участия искусства в решении
жизненных вопросов.
Значительное место в эстетике Герцена занимала тема враждебности
капитализма искусству. Только социальный переворот, который покончит с «царством
капитала», может, по его мнению, открыть путь для свободного и широкого
развития искусства. Исторические судьбы и перспективы развития художественной
культуры человечества Герцен связывал, таким образом, с социалистическим
преобразованием общества. Вместе с тем в мыслях Герцена о судьбах развития
искусства сказались пережитая им после революции 1848 года «духовная драма», его
пессимизм и скептицизм относительно перспектив развития Западной Европы.
1 В. И. Л е н и н, Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 257.
264
Чрезвычайно ценным материалом для характеристики принципов эстетики
Герцена является его анализ развития русской литературы XVIII—XIX веков.
В суждениях Герцена о русской литературе раскрывается его понимание
народности искусства, оригинальности передовой русской литературы, ее связи с
освободительным движением, закономерности утверждения в ней реализма.
ДИЛЕТАНТИЗМ В НАУКЕ
Статья вторая. Дилетанты-романтики
[...] Классицизм и романтизм принадлежат двум великим прошедшим;
с каким бы усилием их ни воскрешали, они останутся тенями усопших,
которым нет места в современном мире. Классицизм принадлежит миру
древнему, так, как романтизм средним векам. Исключительного владения
в настоящем они иметь не могут, потому что настоящее нисколько не
похоже ни на древний мир, ни на средний. Для доказательства достаточно
бросить самый беглый взгляд на них.
Греко-римский мир был, по превосходству, реалистический; он любил
и уважал природу, он жил с нею заодно, он считал высшим благом
существовать; космос был для него истина, за пределами которой он ничего не
видал, и космос ему довлел именно потому, что требования были
ограниченны. От природы и чрез нее достигал древний мир до духа и оттого не
достиг до единого духа. Природа есть именно существование идеи в много-
различии; единство, понятое древними, была необходимость, фатум,
тайная, миродержавная сила, неотразимая для земли и для Олимпа; так
природа подчинена законам необходимым, которых ключ β ней, но не для нее.
Космогония греков начинается хаосом и развивается в олимпийскую
федерацию богов, под диктатурою Зевса; не дойдя до единства, они,
республиканцы, охотно остановились на этом республиканском управлении
вселенной. Антропоморфизм поставил богов очень близко к людям. Грек,
одаренный высоким эстетическим чувством, прекрасно постигнул
выразительность внешнего, тайну формы; божественное для него существовало
облеченным в человеческую красоту; в ней обоготворялась ему природа,
и далее этой красоты он не шел. В этой жизни заодно с природой была
увлекательная прелесть и легкость существования. Люди были довольны
жизнию. Ни в какое время не были так художественно уравновешены
элементы души человеческой. Дальнейшее развитие духа было
необходимым шагом вперед, но оно не могло иначе быть, как на счет плоти, тела,
формы: оно было выше, но должно было пожертвовать античной грацией.
Жизнь людей в цветущую эпоху древнего мира была беспечно ясна, как
жизнь природы. Неопределенная тоска, мучительные углубления в себя,
болезненный эгоизм — для них не существовали. Они страдали от
реальных причин, лили слезы от истинных потерь. Личность индивидуума
терялась в гражданине, а гражданин был орган, атом другой, священной,
обоготворяемой личности — личности города. Трепетали не за свое «я», а за
265
«я» Афин, Спарты, Рима: таково было широкое, вольное воззрение греко-
римского мира, человечески прекрасное в своих границах. Оно должно
было уступить иному воззрению, потому что оно было ограниченно.
Древний мир поставил внешнее на одну доску с внутренним — так оно и есть
в природе, но не так в истине — дух господствует над формой. Греки
думали, что они вываяли все, что находится в душе человеческой; но в ней
осталась бездна требований, усыпленных, не развитых еще, для которых
резец несостоятелен; они поглотили всеобщим личность, городом —
гражданина, гражданином — человека; но личность имела свои неотъемлемые
права, и, по закону возмездия, кончилось тем, что индивидуальная,
случайная личность императоров римских поглотила город городов. Апотеоза
Неронов, Клавдиев и деспотизм их — были ироническим отрицанием
одного из главнейших начал эллинского мира в нем самом. Тогда
наступило время смерти для него и время рождения иного мира. Но плод жизни
эллино-римской не мог и не должен был погибнуть для человечества. Он
прозябал пятнадцать столетий для того, чтоб германский мир имел время
укрепить свою мысль и приобрести умение воспользоваться им. В этот
промежуток расцвел и поблек романтизм — с своей великой истиной
и с своей великой односторонностью.
Романтическое воззрение не должно принимать ни за всеобще
христианское, ни за чисто христианское: оно — почти исключительная
принадлежность католицизма; в нем, как во всем католическом, спаялись два
начала -— одно, почерпнутое из Евангелия, другое — народное, временное,
более всего германическое. Туманная, наклонная к созерцанию и
мистицизму фантазия германских народов развернулась во всем своем
бесконечном характере, приняв в себя и переработав христианство; но с тем вместе
она придала религии национальный цвет, и христианство могло более
дать, нежели романтизм мог взять; даже то, что было взято ею, взято одно-
сторонно и, развившись,— развилось за счет остальных сторон. Дух,
рвавшийся на небо из-под стрелок готических соборов, был совершенно
противоположен античному. Основа романтизма — спиритуализм,
трансцендентность. Дух и материя для него не в гармоническом развитии, а в борьбе,
в диссонансе. Природа — ложь, не истинное; все естественное отринуто.
Духовная субстанция человека «краснела оттого, что тело бросает тень» 1.
Жизнь, постигнув себя двойственностию, стала мучиться от внутреннего
раздора и искала примирения в отречении одного из начал. Постигнув
свою бесконечность, свое превосходство над природою, человек хотел
пренебрегать ею, и индивидуальность, затерянная в древнем мире, получила
беспредельные права; раскрылись богатства души, о которых тот мир и не
подозревал. Целью искусства сделалась не красота, а одухотворение.
Громкий смех пирующего Олимпа прекратился; ждали со дня на день
преставления света, вечность которого была догмат классического воззрения. Все
вместе разливало что-то величественно-грустное на действия и мысли; но
1 Данте, Восход в рай.
266
в этой грусти была неодолимая прелесть темных, неопределенных,
музыкальных стремлений и упований, потрясающих заповеднеишие струны
души человеческой. Романтизм был прелестная роза, выросшая у
подножия распятия, обвившаяся около него, но корни ее, как всякого
растения, питались из земли. Этого романтизм знать не хотел; в этом было для
него свидетельство его низости, не достоинства,— он стремился отречься
от корней своих. Романтизм беспрестанно плакал о тесноте груди
человеческой и никогда не мог отрешиться от своих чувств, от своего сердца; он
беспрестанно приносил себя в жертву — и требовал бесконечного возна «
граждения за свою жертву; романтизм обоготворял субъективность — пре
давая ее анафеме, и эта самая борьба мнимо примиренных начал
придавала ему порывистый и мощно увлекательный характер его. Если мы
забудем блестящий образ средних веков, как нам втеснила его романтическая
школа, мы увидим в них противоречия самые страшные, примиренные
формально и свирепо раздирающие друг друга на деле. Веря в божественное
искупление, в то же время принимали, что современный мир и человек под
непосредственным гневом божиим. Приписывая своей личности права
бесконечной свободы, отнимали все человеческие условия бытия у целых
сословий; их самоотвержение было эгоизмом, их молитва была корыстная
просьба, их воины были монахи, их архиереи были военачальники;
обоготворяемые ими женщины содержались как узники,— воздержность от
наслаждений невинных и преданность буйному разврату, слепая
покорность и беспредельное своеволие. Только и речи было, что о духе, о
попрании плоти, о пренебрежении всем земным, и — ни в какую эпоху страсти
не бушевали необузданнее и жизнь не была противоположнее убеждению
и речам, формализмом, уловками, себяоболыцением примиряясь с сове-
стию (например, покупая индульгенции). То было время лжи явной,
бесстыдной. Светская власть, признавая папу за пастыря, богом
установленного, унижаясь перед ним формально, вредила ему всеми силами,
беспрестанно повторяя о своем повиновении. Папа, раб рабов божиих, смиренный
пастырь, отец духовный,— стяжал богатства и материальные силы. В такой
жизни было что-то безумное и горячечное. Долго человечество не могло
оставаться в этом неестественно напряженном состоянии. Истинная жизнь,
непризнанная, отринутая, стала предъявлять свои права; сколько ни
отворачивались от нее, устремляясь в бесконечную даль,— голос жизни был
громок и родственен человеку, сердце и разум откликнулись на него.
Вскоре к нему присоединился другой сильный голос — классический мир
восстал из мертвых. Романские народы, в которых никогда и не погибала
закваска римская, бросились с восторгом на дедовское наследие.
Движение, совершенно противоположное духу средних веков, стало заявлять свое
бытие во всех областях деятельности человеческой. Стремление отречься от
прошедшего во что бы то ни стало — обнаружилось: захотели подышать на
воле, пожить. [...] Обратились к древнему миру; к его искусству
чувствовалась симпатия; хотели усвоить его зодчество, ясное, открытое, как
чело юноши, гармоничное, «как остывшая музыка». Но много было про-
267
жито после Рима и Греции, и опыт, глубоко запавший в душу, говорил
в то же время, что ни периптер греков, ни римская ротонда не выражают
всей идеи нового века. Тогда построили «Пантеон на Парфеноне» \
и, неопытные, боясь прямой линии, исказили пилястрами, уступами и
выступами античную простоту; переворот этот в зодчестве был шагом назад
искусства и шагом вперед человечества. Своевременность его доказала вся
Европа: все богатые города построили свои храмы Петра. Готические
церкви оставили недостроенными для того, чтобы воздвигать церкви в стиле
восстановления. Одна Германия, по превосходству готическая, оставалась
долее верною своему зодчеству — но она мало воздвигала в эту эпоху:
глубокие раны и истощение не дозволяли ей много строить. Против таких
всеобщих фактов возражать нечего; надо стараться их понять;
человечество грубо не ошибается целыми эпохами. Храм нового стиля
свидетельствовал об окончании средних веков и их воззрения. Готическая
архитектура сделалась невозможною после храма Петра: она сделалась
прошедшею, анахронизмом.— Пластические искусства освобождались, в свою
очередь. Готическая церковь делала иные требования на живопись, нежели
храм Петра. Византизм выражает один из существенных моментов
готической живописи. Неестественность положения и колорита, суровое
величие; отрешающее от земли и от земного, намеренное пренебрежение
красотою и изяществом — составляет аскетическое отрицание земной красоты;
образ — не картина: это слабый очерк, намек; но художественная натура
итальянцев не могла долго удержаться в пределах символического
искусства и, развивая его далее и далее, ко времени Льва X, с своей стороны,
вышла из преобразовательного искусства в область чисто
художественную. Великие, вечные типы dei divini maestri2 облекли во всю красоту
земной плоти небесное, и идеал их — идеал человека преображенного, но
человека. Рафаэлевы мадонны представляют апотеозу девственно женской
формы, но его мадонны не супранатуральные, отвлеченные существа,
это — преображенные девы. Живопись, поднявшись до высочайшего
идеала, стала снова твердой ногой на землю, а не оставила ее. Византийская
кисть отреклась от идеала земной человеческой красоты древнего мира.
Итальянская живопись, развивая византийскую, в высшем моменте своего
развития отреклась от византизма и, по-видимому, возвратилась к тому же
античному идеалу красоты, но шаг был совершен огромный; в очах нового
идеала светилась иная глубина, нежели в открытых глазах без зрения
греческих статуй. Итальянская кисть, возвращая жизнь искусству, придала ему
всю глубину духа, развитого словом божиим. В поэзии совершался свой
переворот. Рыцарство в поэзии теряет свою созерцательную важность и
феодальную гордость. Ариосто, играя, улыбаясь, рассказывает о своем Орланде;
Сервантес со злой иронией объявляет миру бессилие и несвоевременность
1 Выражение о музыке принадлежит Шеллингу; «Пантеон на Парфеноне» —
сказал о храме Петра В. Гюго.
2 Божественных мастеров (итал.).
268
его; Бокаччио раскрывает жизнь католического монаха; Рабле идет еще
дальше с отважной дерзостью француза. Протестантский мир дает
Шекспира. Шекспир — это человек двух миров. Он затворяет
романтическую эпоху искусства и растворяет новую. Гениальное раскрытие
субъективности человеческой во всей глубине, во всей полноте, во всей
страстности и бесконечности, смелое преследование жизни до заповедней-
ших тайников ее и обличение найденного не составляет романтизма, а
переходит его. Главный характер романтизма выражается сердечным
стремлением куда-то, непременно грустным, потому что «там никогда не будет
здесь». Он вечно стремится оставить грудь; ему нет примирения в ней.
Для Шекспира грудь человека — вселенная, которой космологию он
широко набрасывает мощной и гениальной кистью. Во Франции и в Италии
в это время возрастал и усиливался ложный классицизм. Палладий в своем
сочинении об архитектуре с презрением говорит о готизме; слабые и
бесцветные подражания древним писателям ценились выше исполненных
поэзии и глубины песней и легенд средних веков. Античное увлекало
своею человечественностью, своим примирением в жизни, в красоте. Через
античное выработывалось новое.
[...] Романтизм и классицизм должны были найти гроб свой в новом
мире, и не один гроб — в нем они должны были найти свое бессмертие.
Умирает только одностороннее, ложное, временное, но в них была и
истина — вечная, всеобщечеловеческая; она не может умереть, она поступает
в майорат старшим рода человеческого. Вечные элементы, классические
и романтические, без всяких насильственных средств живы; они
принадлежат двум истинным и необходимым моментам развития духа
человеческого во времени; они составляют две фазы, два воззрения, разнолетние
и относительно истинные. Каждый из нас, сознательно или бессознательно,
классик или романтик, по крайней мере был тем или другим. Юношество,
время первой любви, неведения жизни, располагает к романтизму;
романтизм благотворен в это время: он очищает, облагораживает душу, выжигает
из нее животность и грубые желания; душа моется, расправляет крылья
в этом море светлых и непорочных мечтаний, в этих возношениях себя
в мир горний, поправший в себе случайное, временноег ежедневность.
Люди, одаренные светлым умом более, нежели чувствительным сердцем,—
классики по внутреннему строению духа, так, как люди созерцательные,
нежные, томные более, нежели мыслящие,— скорее романтики, нежели
классики. Но от этого до существования исключительных школ —
бесконечное расстояние.
[...] Кто нынче говорит о романтиках, кто занимается ими, кто знает
их? Они поняли ужасный холод безучастья и стоят теперь с словами
черного проклятья веку на устах — печальные и бледные, видят, как рушатся
замки, где обитало их милое воззрение, видят, как новое поколение
попирает мимоходом эти развалины, как не обращает внимания на них,
проливающих слезы; слышат с содроганием веселую песнь жизни современной,
которая стала не их песнью, и с скрежетом зубов смотрят на век суетный,
269
занимающийся материальными улучшениями, общественными вопросами,
наукой, и страшно подчас становится встретить среди кипящей,
благоухающей жизни — этих мертвецов, укоряющих, озлобленных и не
ведающих, что они умерли!
А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах,
т. III, М., йзд-во Академии наук СССР, 1954, стр. 29—
33, 34-36, 37, 41-42.
КАПРИЗЫ И РАЗДУМЬЕ
I
По поводу одной драмы
[...] Безотходный дух критики овладел и театром; мы его приносим
с собою в партер. Сочинитель пишет пьесу для того, чтоб пояснить свое
сомнение,— и, вместо того чтоб отдохнуть от действительной жизни, глядя
на воспроизведенную искусством, мы выходим из театра задавленные
мыслями, тяжелыми и неловкими. Это понятно. Театр — высшая инстанция
для решения жизненных вопросов. Кто-то сказал, что сцена —
представительная камера поэзии. Все тяготящее, занимающее известную эпоху, само
собою вносится на сцену и обсуживается страшной логикой событий и
действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей. Это
обсуживание приводит к заключениям не отвлеченным, но трепещущим
жизнию, неотразимым и многосторонним. Тут не лекция, не поучение,
поднимающее слушателей в сферу отвлеченных всеобщностей, в бесстрастную
алгебру, мало относящуюся к каждому потому именно, что она относится
ко всем. На сцене жизнь схвачена во всей ее полноте, схвачена в
действительном осуществлении лицами, на самом деле, en flagrant délit*, с ее
общечеловеческими началами и частно-личными случайностями, с ее
ежедневною пошлостью и с ее грозной, всепожирающей страстью, скрытой
под пыльной плевою мелочей, как огонь под золой Везувия. Жизнь
схвачена и между тем не остановлена; напротив, стремительное движение
продолжается, увлекает зрителя с собой, и он с прерывающимся дыханием,
боясь и надеясь, несется вместе с развертывающимся событием до
крайних следствий его — и вдруг остается один. Лица исчезли, погибли; он,
переживая их жизнь, успел полюбить их, взойти в их интересы. Удар,
разразившийся над ними, рикошетом был удар в него. Такая страстная
близость зрителя и сцены делает сильную, органическую связь между ними;
по сцене можно судить о партере, по партеру о сцене. Партер — не чужой
сцене: он вроде хора греческой трагедии; он не вне драмы, а обнимает ее
волнами жизни, атмосферой сочувствия, которая оживляет актера; и сцена,
1 На месте преступления (франц.).
270
с своей стороны,— не чужая зрителю: она переносит его не дальше, как
в его собственное сердце. Сцена всегда современна зрителю, она всегда
отражает ту сторону жизни, которую хочет видеть партер. [...]
А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. II, 1954,
стр. 50—51.
ПИСЬМА ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДЫ
Письмо третье. Греческая фило^фия
[...] Вступая в мир Греции, мы чувствуем, что на нас веет родным
воздухом,— это Запад, это Европа. Греки первые начали протрезвляться от
азиатского опьянения и первые ясно посмотрели на жизнь, нашлись в ней;
они совершенно дома на земле — покойны, светлы, люди. В «Илиаде»,
в «Одиссее» мы можем узнать знакомое, родственное, а не в «Магабга-
рате», не в «Саконтале». Мне всякий раз становится тяжко и неловко,
когда читаю восточные поэмы: это не та среда, в которой свободно дышит
человек, она слишком просторна и в то же время слишком узка; их
поэмы — давящие сновидения, после которых человек просыпается,
задыхаясь в лихорадочном состоянии, и все еще ему кажется, что он ходит по
косому полу, около которого вертятся стены и мелькают чудовищные
образы, не несущие ничего утешительного, ничего родного. Чудовищные
фантазии восточных произведений были так же противны грекам, как
чудовищные размеры каких-нибудь Мемнонов в семьдесят метров ростом;
греки никогда не смешивали высокого с огромным, изящного с
подавляющим; греки везде побеждали отвлеченную категорию количества — на
полях марафонских, в статуях Праксителя, в героях поэм и в светлых
образах олимпийцев. Они постигли, что тайна изящного — в высокой
соразмерности формы и содержания, внутреннего и внешнего; они поняли,
что в природе все развитое блестит не огромностию чрева, а, совсем
напротив, сосредоточивается до крайне необходимого соответствия наружного
внутреннему; где наружное слишком велико — внутреннее бедно: моря,
горы, степи велики, а конь, олень, голубь, райская птичка малы» Мысль
высокой, музыкальной, ограниченной и именно потому бесконечной
соразмерности — чуть ли не главная мысль Греции, руководившая ее во всем;
она-то проявилась в том изящном созвучии всех сторон афинской жизни,
которое поражает нас своею художественною прелестью. Идея красоты
была для греков безусловною идеею; она снимала в самом деле
противоположность духа и тела, формы и содержания; иссекая свои статуи, грек
всякий раз иссекал примирительное сочетание тех начал, которые
необузданно поддавались распаленной фантазии на Востоке. Мир греческий,
в известном очертании, из которого он не мог выйти, не перейдя себя, был
чрезвычайно полон; у него в жизни была какая-то слитность, то
неуловимое сочетание частей, та гармония их, пред которыми мы склоняемся,
271
созерцая прекрасную женщину; до этой слитности, до этой виртуозности
в жизни, науке, учреждениях новый мир не дошел: это тайна, которую он
не сумел похитить из греческих саркофагов. [...]
А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. III,
стр. 143—144.
ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ
Письмо третье
Париж, июня 20 1847 г.
[...] Наконец я увидел Расина дома, увидел Расина с Рашелыо — и
научился понимать его. Это очень важно, более важно, нежели кажется с
первого взгляда,— это оправдание двух веков, то есть уразумение их вкуса.
Расин встречается на каждом шагу с 1665 года и до Реставрации; на нем
были воспитаны все эти сильные люди XVIII века. Неужели все они
ошибались, Франция ошибалась,, мир ошибался? Робеспьер возил свою Елео-
нору в Théâtre Français и дома читал ей «Британника», наскоро
подписавши дюжины три приговоров. Людовик XVI в темном и мрачном
заточении читал ежедневно Расина с своим сыном и заставлял его твердить на
память... И действительно, есть нечто поразительно величавое в стройной,
спокойно развивающейся речи расиновских героев; диалог часто убивает
действие, но он изящен, но он сам действие; чтоб это понять, надобно
видеть Расина на сцене французского театра: там сохранились предания
старого времени,— предания о том, как созданы такие-то роли Тальмой,
другие Офреном, Жорж...
Актеры с некоторой робостью выступают в расиновских трагедиях, это
их пробный камень; тут невозможно ни одно не художественное движение,
ни один мелодраматический эффект, тут нет надежды ни на группу, ни на
декорации, тут два-три актера — как статуи на пьедестале: все устремлено
на них. Сначала дикция их, чрезвычайно благородная и выработанная,
может показаться изысканной, но это не совсем так; торжественность эта,
величавость, рельефность каждого стиха идет духу расиновских трагедий.
Пожалуй, некоторые позы на парфенонских барельефах можно тоже
назвать изысканными, именно потому, что ваятели исключили все
случайное и оставили вечные спокойные формы; жизнь, поднимаясь в эту сферу,
отрешается от всего возмущающего красоту ее проявления, принимает
пластический и музыкальный строй; тут движение должно быть грацией,
слово — стихом, чувство — песнью.
Вы более любите иной мир — мир, воспроизводящий жизнь во всей ее
истине, в ее глубине, во всех изгибах света и тьмы,— словом, мир
Шекспира, Рембрандта,— любите его, но разве это мешает вам остановиться
перед Аполлоном, перед Венерой? Что за католическая исключительность!
Пониманье Бетховена разве отняло у вас возможность увлекаться «Севиль-
ским цирюльником»?
272
Входя в театр смотреть Расина, вы должны знать, что с тем вместе вы
входите в иной мир, имеющий свои пределы, свою ограниченность, но
имеющий и свою силу, свою энергию и высокое изящество в своих
пределах. Какое право имеете вы судить художественное произведение вне его
собственной почвы, даже вне исторической, национальной почвы? Вы
пришли смотреть Расина — отрешитесь же от фламандского элемента: это
отрасль итальянской школы; берите его таким, чтоб он дал то, что он
хочет дать, и он даст много прекрасного. Конечно, он не удовлетворит
всему, чего жаждет ваша душа, но позвольте же еще раз спросить: а весь
греческий Олимп, а все греческие типы, статуи, герои трагедий
удовлетворяют вас? Нет, нет и нет! Я это испытал на себе. В греческих статуях везде
выражается спокойное наслаждение, торжество меры, торжество
равновесия, торжество красоты, но с тем вместе вы видите, что покой достигнут,
потому что требование было не полно, потому что олимпийцы
удовлетворялись немногим. Одно из величайших достоинств греческого ваяния —
полнейшее отрешение чувственной формы от всего чувственного. Венера
Медицейская так же мало говорит чувственности, как мадонны Рафаэля;
но зато в греческом искусстве нет того знойного сладострастия, которое мы
находим, например, в страстных глазах, особо рассеченных и суженных
к вискам, египетских изваяний. С другой стороны, в греческом искусстве
нет и не могло быть элемента, развитого миром христианским,— элемента
романтического, того сосредоточенного в духе, того глубоко
страдальческого, неудовлетворенного, жаждущего, стремящегося, который вы можете
вполне изучить в комнатах Катерины Медичи, где расставлены
испанские картины. Для греков мы делаем почетное исключение, мы их судим
как греков в их сфере, будемте так же судить Расина, Корнеля —
обогатимте себя и ими.
А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. V, 1955, стр.
50-52.
Письмо пятое
Рим, декабрь 1847 г.
[...] Вторая великая сторона Рима — это обилие изящных
произведений, той гениальной оконченности, той вечной красоты, перед которой
человек останавливается с благоговением, со слезою, тронутый,
потрясенный до глубины души, очищенный тем, что видел, и примиренный со
многим — так, как это было со всеми людьми в самом деле, приходившими со
всех концов мира на поклонение изящному в Ватикане, в Капитолии...
и так, как это будет со всеми людьми грядущих веков до тех пор, пока
время пощадит эти великие залоги человеческой мощи. Когда мучительное
сомнение в жизни точит сердце, когда перестаешь верить, чтоб люди могли
быть годны на что-нибудь путное, когда самому становится противно
и совестно жить — я советую идти в Ватикан. Там человек успокоится
и снова что-нибудь благословит в жизни. Ватикан не похож на все прочие
273
галереи: это пышные палаты, украшенные изящными произведениями,
а не выставка картин и статуй.
[...] Чем больше приглядываешься к великому произведению, тем
меньше удивляешься ему; это-то и необходимо, удивление мешает
наслаждаться. Пока картина или статуя поражает, вы не свободны, ваше чувство
не легко, вы не нашлись, не возвысились до нее, не сладили с нею, она вас
подавляет, а быть подавленному величием — не высокое эстетическое
чувство. Пока человек еще порабощен великим произведеним, произведения
более легкие доставляют более наслаждения, потому что они соизмеримее,
даются без труда, в каком бы расположении человек ни был. Что трудного
понять, оценить головки Карла Долчи, Марата? Они так милы, так
изящны, что нет возможности их не понять. Великие картины, напротив,
часто сначала притесняют, иногда являются порывы взбунтоваться против
них; но когда вы однажды ознакомились с таким произведением, тогда
только вы оцените разницу того наслаждения, которое вы приобрели от
Карла Долчи или Греза и, с другой стороны, от Бонарроти, Лаокоона,
Аполлона Бельведерского... Я очень долго не мог сколько-нибудь
отчетливо сладить с «Страшным судом», меня ужасно рассеивали частные
группы, к тому же картина довольно почернела и я все попадал в капеллу
в туманные дни. Как-то на днях, выходя вон из капеллы, я остановился
в дверях, чтоб посмотреть еще раз на картину,— первое, что меня
остановило на этот раз, было лицо и положение богородицы. Христос является
торжествующим, мощным, непреклонным, синий свет остановившейся
молнии освещает его; давно умершие поднялись, все ожило — начинается суд,
кара, и в это время существо кроткое, испуганное окружающим, робко
прижимается к нему, глядит на него, и в ее глазах видна мольба, не
желание справедливости, а желание милосердия.
Как глубоко понял Бонарроти христианский смысл девы! Вот она, всех
скорбящих заступница, готовая своей робкой рукой остановить поднятую
руку сына, и когда от этой группы я стал переходить к окружающему,
огромная картина сплавилась в нечто единое, бесконечное множество
фигур со стороны, по бокам получили смысл, которого я прежде не мог
понять, который теперь начинаю подозревать,— и с этого дня я перестал
анализировать каждую фигуру, перестал удивляться знанию остеологии
и миологии Микеланджело.
Там же, стр. 86—88.
С ТОГО БЕРЕГА
III. VII год республики единой и нераздельной
[...] Все мельчает и вянет на истощенной почве — нету талантов, нету
творчества, нету силы мысли,— нету силы воли; мир этот пережил эпоху
своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как время Рафаэля
и Бонарроти, как время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустрии
274
проходит, она пережита так, как блестящая эпоха аристократии; все
нищают, не обогащая никого; кредиту нет, все перебиваются с дня на день*
образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся,
все боятся, все живут как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались
общими; никто не берет оседлости; все на время, наемно, шатко. [...]
А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. VI, 1955,
стр. 57—58,
О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ
III
Петр I
[...] Тогда как Державин сквозь ореол славы, окружавшей трон, видел
одну лишь императрицу, Фонвизин, ум сатирический, видел изнанку
вещей; он горько смеялся над этим полуварварским обществом, над его
потугами на цивилизованность. В произведениях этого писателя впервые
выявилось демоническое начало сарказма и негодования, которому
суждено было с тех пор пронизать всю русскую литературу, став в ней
господствующей тенденцией. В этой иронии, в этом бичевании, не щадящих
ничего, даже личность самого автора, мы находим какую-то радость мести,
злорадное утешение; этим смехом мы порываем связь, существующую
между нами и теми амфибиями, которые, не умея ни сохранить свое
варварское состояние, ни усвоить цивилизацию, только одни и удерживаются
на официальной поверхности русского общества. Неутомимый протест
неотступно преследовал эту аномалию. Он был горячим, беспрестанным.
Анализ общественной патологии определил преобладающий характер
современной литературы. То было новое отрицание существующего
порядка вещей, которое вырвалось, наперекор монаршей воле, из глубины
пробудившегося сознания,— крик ужаса каждого молодого поколения,
опасающегося, что его могут смешать с этими выродками. [...]
А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. VII, М., 1956,
стр. 189.
IV
1812-1825
[...] У народа, лишенного общественной свободы, литература —-
единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего
возмущения и своей совести.
Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры, давно
утраченные другими странами Европы. Революционные стихи Рылеева
и Пушкина можно найти в руках у молодых людей в самых отдаленных
областях империи. Нет ни одной благовоспитанной барышни, которая не
275
знала бы их наизусть, ни одного офицера, который не носил бы их в своей
полевой сумке, ни одного поповича, который не снял бы с них дюжину
копий. В последние годы пыл этот значительно охладел, ибо они уже
сделали свое дело: целое поколение подверглось влиянию этой пылкой
юношеской пропаганды.
[...] Незадолго до мрачного царствования, которое началось на русской,
а продолжалось на польской крови, появился великий русский поэт
Пушкин, а появившись, сразу стал необходим, словно русская литература не
могла без него обойтись. Читали других поэтов, восторгались ими, но
произведения Пушкина — в руках у каждого образованного русского, и он
перечитывает их всю свою жизнь. Его поэзия — уже не проба пера, не
литературный опыт, не упражнение: она — его призвание, и она
становится зрелым искусством; образованная часть русской нации обрела в нем
впервые дар поэтического слова.
Пушкин как нельзя более национален и в то же время понятен
иностранцам. Он редко подделывается под просторечие русских песен, он
передает свою мысль такой, какой она возникает в нем. Подобно всем
великим поэтам, он всегда на уровне своего читателя; он становится величавым,
мрачным, грозным, трагичным, стих его шумит, как море, как лес,
раскачиваемый бурею, и в то же время он ясен, прозрачен, сверкает, полон
жаждой наслаждения и душевных волнений. Русский поэт реален во всем,
в нем нет ничего болезненного, ничего от того преувеличенного
патологического психологизма, от того абстрактного христианского спиритуализма,
которые так часто встречаются у немецких поэтов. Муза его не бледное
создание с расстроенными нервами, закутанное в саван, а пылкая
женщина, сияющая здоровьем, слишком богатая подлинными чувствами, чтобы
искать поддельных, и достаточно несчастная, чтобы иметь нужду в
выдуманных несчастьях. У Пушкина была пантеистическая и эпикурейская
натура греческих поэтов, но был в его душе и элемент вполне
современный. Углубляясь в себя, он находил в недрах души горькую думу
Байрона, едкую иронию нашего века.
В Пушкине видели подражателя Байрону. Английский поэт
действительно оказал большое влияние на русского. Общаясь с сильным и
привлекательным человеком, нельзя не испытать его влияния, нельзя не созреть
в его лучах. Сочувствие ума, который мы высоко ценим, дает нам
вдохновение и новую силу, утверждая то, что дорого нашему сердцу. Но от этой
естественной реакции далеко до подражания. После первых своих поэм,
в которых очень сильно ощущается влияние Байрона, Пушкин с каждым
новым произведением становится все более оригинальным; всегда глубоко
восхищаясь великим английским поэтом, он не стал ни его клиентом, ни
его паразитом, ни traduttore, ни traditore К [...J
Там же, стр. 198, 201—202.
] Ни переводчиком, ни предателем (итал.).
276
ν
Литература и общественное мнение
после 14декабря 1825года
[...] Два поэта, которых мы имеем в виду и которые выражают новую
эпоху русской поэзии,— это Лермонтов и Кольцов. То были два мощных
голоса, доносившиеся с противоположных сторон.
[...] Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу
Лермонтова. Он написал энергическую оду, в которой, заклеймив низкие интриги,
предшествовавшие дуэли,— интриги, затеянные министрами-литераторами
и журналистами-шпионами,— воскликнул с юношеским негодованием:
«Отмщенье, государь, отмщенье!» Эту единственную свою
непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ.
[...] Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были
слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим
великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать,
сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои
мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного
либерализма, идеи прогресса,— то были сомнения, отрицания, мысли, полные
ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасения
в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз
скептицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная, печальная
мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это не
отвлеченная мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии; нет,
раздумье Лермонтова — его поэзия, его мученье, его сила.
[...] Кольцов был истинный сын народа... Наконец проявил себя
подлинный его дар; он создал народные песни, их немного, но каждая — шедевр.
Это настоящие песни русского народа. В них чувствуется тоска, которая
составляет характерную их черту, раздирающая душу печаль, бьющая
через край жизнь (удаль молодецкая). Кольцов показал, что в душе
русского народа кроется много поэзии, что после долгого и глубокого сна
в его груди осталось что-то живое.
[...] Гоголь, не будучи, в отличие от Кольцова, выходцем из народа по
своему происхождению, был им по своим вкусам и по складу ума. Гоголь
полностью свободен от иностранного влияния; он не знал никакой
литературы, когда сделал уже себе имя. Он больше сочувствовал народной
жизни, нежели придворной, что естественно для малоросса.
[.·.] Рассказы, с которыми впервые выступил Гоголь, представляют
собою серию подлинно прекрасных картин, изображающих нравы и
природу Малороссии,— картин, полных веселости, изящества, живости
и любви. [...] Перейдя от своих малороссов и казаков к русским, Гоголь
оставляет в стороне народ и принимается за двух его самых заклятых
врагов: за чиновника и за помещика. Никто и никогда до него не написал
такого полного курса патологической анатомии русского чиновника.
Смеясь, он безжалостно проникает в самые сокровенные уголки этой
277
нечистой, зловредной души. Комедия Гоголя «Ревизор», его роман
«Мертвые души» — это страшная исповедь современной России, под стать
разоблачениям Кошихина в XVII веке.
[...] «Мертвые души» потрясли всю Россию.
Предъявить современной России подобное обвинение было необходимо.
Это история болезни, написанная рукою мастера. Поэзия Гоголя — это
крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием
пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся
лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы
в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила
возрождения. Тот, кто откровенно сознается в своих слабостях и недостатках,
чувствует, что они не являются сущностью его натуры, что он не поглощен
ими целиком, что есть еще в нем нечто не поддающееся,
сопротивляющееся падению, что он может еще искупить прошлое и не только поднять
голову, но, как в трагедии Байрона, стать из Сарданапала-неженки —
Сарданапалом-героем. [...]
Там же, стр. 224—230.
НОВАЯ ФАЗА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
[...] Оживленная деятельность, вызванная пробуждением после смерти
Николая, не породила великих произведений, но она замечательна
многообразием усилий, воодушевлением, множеством затронутых вопросов.
Не следует, кроме того, забывать, что эта эпоха оставила нам одну
страшную книгу, своего рода carmen horrendum !, которая всегда будет
красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как
надпись Данте над входом в ад: это «Мертвый дом» Достоевского, страшное
повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя
своей закованной рукой образы сотоварищей-каторжников, он создал из
описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонарроти.
Наряду с этой книгой ужасов мы должны поставить драму Островского
«Гроза».
В этой драме автор проник в глубочайшие тайники неевропеизирован-
ной русской жизни и бросил внезапно луч света в неведомую дотоле душу
русской женщины, этой молчальницы, которая задыхается в тисках
неумолимой и полудикой жизни патриархальной семьи. Островский уже
раньше избирал предметом своих произведений социальный слой,
лежащий ниже образованного общества, и выводил на сцену потрясающие
своей правдивостью образы. Глядя на героев, которых он выловил в
стоячих и разлагающихся водах купеческой жизни, на всех этих спившихся
отцов семейства, на этих воров, осеняющих себя крестным знамением, на
этих негодяев л плутов, тиранов и холопов, думаешь, что находишься за
1 Песнь ужаса (латин.).
278
пределами человеческой жизни, среди медведей и кабанов. И однако, как
низко ни пал этот мир, что-то говорит нам, что для него есть еще
спасенье, что оно таится в глубине его души, и это что-то, это ignotum 1
чувствуется в «Грозе». Тут подразумевается оправдание; голос с неба не
возвещает, как в «Фаусте» Гёте, отпущения грехов, но все же и печать
и читатели были потрясены.
А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. XVIII, 1959,
стр. 219—220.
БЫЛОЕ И ДУМЫ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Москва, Петербург и Новгород (1840—1847)
Глава XXV
[...] Протестация, отрицание, ненависть к родине, если хотите, имеют
совсем иной смысл, чем равнодушная чуждость. Байрон, бичуя
английскую жизнь, бегая от Англии, как от чумы, оставался типическим
англичанином. Гейне, старавшийся из озлобления за гнусное политическое
состояние Германии офранцузиться, оставался истым немцем. Высший
протест против юдаизма — христианство — исполнено юдаического
характера. Разрыв Северо-Американских Штатов с Англией мог развить войну
и ненависть, но не мог сделать из североамериканцев не-англичан.
Люди вообще отрешаются от своих физиологических воспоминаний
и от своего наследственного склада очень трудно; для этого надобно или
особенную бесстрастную стертость, или отвлеченные занятия.
Безличность математики, внечеловеческая объективность природы не вызывают
этих сторон жизни, не будят их; но как только мы касаемся вопросив
жизненных, художественных, нравственных, где человек не только
наблюдатель и следователь, а вместе с тем и участник, там мы находим
физиологический предел, который очень трудно перейти с прежней
кровью и прежним мозгом, не исключив из них следы колыбельных
песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружавшего строя.
Цоэт и художник в истинных своих произведениях всегда народен.
Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем
творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного
характера, и выражает их глубже и яснее, чем сама история народа.
Даже отрешаясь от всего народного, художник не утрачивает главных
черт, по которым можно узнать, чьих он. Гёте — немец и в греческой
«Ифигении» и в восточном «Диване». Поэты в самом деле, по римскому
выражению,— «пророки»; только они высказывают не то, чего нет и что
будет случайно, а то, что неизвестно, что есть в тусклом сознании масс,
что еще дремлет в нем.
1 Неизвестное (латин.).
279
Все, что искони существовало в душе народов англосаксонских,
перехвачено, как кольцом, одной личностью,— и каждое волокно, каждый
намек, каждое посягательство, бродившее из поколенья в поколенье, не
отдавая себе отчета, получило форму и язык.
Вероятно, никто не думает, чтобы Англия времен Елизаветы,
особенно большинство народа понимало отчетливо Шекспира; оно и теперь
не понимает отчетливо — да ведь они и себя не понимают отчетливо. Но
что англичанин, ходящий в театр, инстинктивно, по сочувствию понимает
Шекспира, в этом я не сомневаюсь. Ему на ту минуту, когда он слушает,
становится что-то знакомее, яснее. Казалось бы, народ, такой способный
на быстрое соображение, как французы, мог бы тоже понять Шекспира.
Характер Гамлета, например, до такой степени общечеловеческий,
особенно в эпоху сомнений и раздумья, в эпоху сознания и каких-то измен
великому в пользу ничтожного и пошлого, что трудно себе представить,
чтоб его не поняли. Но, несмотря на все усилия и опыты, Гамлет чужой
для француза. [...]
А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. IX, 1956,
стр. 36—37.
ПИСЬМО О СВОБОДЕ ВОЛИ
[...] Задача физиологии — исследовать жизнь, от клетки и до
мозговой деятельности; кончается она там, где начинается сознание, она
останавливается на пороге истории. Общественный человек ускользает от
физиологии; социология же, напротив, овладевает им, как только он
выходит из состояния животной жизни.
Итак, физиология остается по отношению к междуличным явлениям
в положении органической химии по отношению к самой физиологии. Без
сомнения, обобщая, упрощая, сводя факты к их наипростейшему
выражению, мы доходим до движения, и мы, быть может, находимся на верном
пути; однако мы теряем мир отдельных явлений, многоразличный,
своеобразный, детализированный,— тот мир, в котором мы живем и который
единственно реален.
Все явления исторического мира, все проявления агломерированных,
сложных, обладающих традицией, высокоразвитых организмов имеют
в своей основе физиологию, но переступают за ее пределы.
Возьмем к примеру эстетику. Прекрасное, конечно, не ускользает от
законов природы; невозможно ни создать его без материи, ни ощущать
его без органов чувств; но ни физиология, ни акустика не могут создать
теорию художественного творчества, искусства.
Память, передающаяся от поколения к поколению, традиционная
цивилизация — все, что явилось следствием человеческого общежития
и исторического развития,— произвели нравственную среду, обладающую
своими началами, своими оценками, своими законами весьма реальными,
хотя и мало поддающимися физиологическим опытам.
280
[...] Каждый звук производится колебаниями воздуха и рефлексами
слуха, но он приобретает для нас иную ценность (или существование,
если хочешь) в единстве музыкальной фразы. Струна обрывается, звук
исчезает, но, пока она не оборвалась, звук не принадлежит исключительно
миру вибраций, но также и миру гармонии, в недрах которого он является
эстетической реальностью, входя в состав симфонии, предоставляющей
ему возможность вибрировать, доминирующей над ним, поглощающей его
и продолжающейся дальше.
А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. XX, I960,
стр. 440—442.
Н. П. ОГАРЕВ
1813-1877
В истории русского освободительного движения и передовой русской мысли
имя Николая Платоновича Огарева стоит рядом с именем его великого друга
А. И. Герцена. Как и Герцен, Огарев принадлежал к младшему поколению
дворянских революционеров; он был разбужен к сознательной жизни восстанием
декабристов и с юных лет решил отдать жизнь борьбе против крепостничества и
самодержавия. Пройдя, как и Герцен, школу гегелевской философии и убедившись
в несостоятельности идеализма, Огарев в середине 40-х годов утвердился на
позициях «философского реализма», то есть материализма, рассматривая материализм
как философское основание своей общественной теории. От идей, характерных для
дворянских революционеров, Огарев пришел к идеям
революционно-демократическим, стал сторонником социалистического общественного идеала. Преследуемый
царским правительством, он в 1856 году уехал в Лондон к Герцену, где принял
самое активное участие в изданиях основанной Герценом Вольной русской
типографии; ему принадлежала инициатива издания знаменитого «Колокола». В 50—60-х
годах Огарев развивал вместе с Герценом утопическую теорию «русского
социализма». В историю русской культуры Огарев вошел и как поэт; в его поэтическом
творчестве большое место занимала гражданская лирика.
Среди работ Огарева наибольший интерес для истории эстетики представляют
его предисловия к «Думам» Рылеева, изданным в лондонской типографии Герцена
в 1860 году, и к сборнику «Русская потаенная литература XIX века», изданному
там же в 1861 году, особенно же статья «Памяти художника», опубликованная
в «Полярной звезде» в 1859 году и посвященная памяти выдающегося русского
художника А. А. Иванова.
Основная идея, которая пронизывает эти работы Огарева,—идея связи
искусства с общественной жизнью. Развивая эту идею, Огарев блестяще критикует
взгляды сторонников «чистого искусства», показывает теоретическую
несостоятельность этих взглядов и их практический вред для развития искусства. Интересны
и оригинальны аргументы, выдвинутые Огаревым в защиту «политического
содержания» в искусстве. Идея связи искусства с общественной жизнью лежит в основе
281
и концепции истории русской литературы у Огарева: в русской литературе XIX века
Огарев видит отражение потребностей общественного развития страны, выражение
протеста против самодержавно-крепостнических порядков. Именно критическим
направлением передовой русской литературы XIX века, ее освободительными
устремлениями объясняет Огарев ее огромное значение в духовной жизни русского
общества.
ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА
(1859)
Два года тому назад Иванов приезжал в Лондон. Картина его была
окончена, художник жаждал новой деятельности и ни к чему не
приступал; он был задумчив и печален. Религиозное настроение, под влиянием
которого он начал своего Иоанна, исчезло прежде окончания картины.
Тщетно он искал вдохновения в христианском мире; он смотрел на
картины великих мастеров, чувствовал в них присутствие религиозной жизни,
но в себе не находил, идти по той же дороге было невозможно,— он больше
не верил. Ему предлагали работу в России, работу на византийский
манер; но тут уже ему предстояло не только без веры трудиться над
религиозными предметами, но даже забыть и те изящные формы,
выработанные художниками в эпоху Возрождения, забыть не только мадонны
Рафаэля и Тициана и святых Доминикина, но даже фигуры
староитальянской и старонемецкой школы, Джотто и Гольбейна, где, несмотря на
плоскость рисунка, поражает живое, человеческое выражение лиц; ему
приходилось бы писать пучеглазых богородиц коричневого цвета,
изменить искусству без внутренней веры в религиозную святыню. Художник
не мог лгать сам с собою и, несмотря на стесненные обстоятельства,
отказался от работы в храме Спасителя на Пречистенке. Хотя бедно, но
проживет как-нибудь, проживет независимо и напишет новую картину не по
чуждой заданной теме, а по внутреннему влечению, по своему
вдохновению.
Но где же найти это вдохновение? Религиозный мир закрылся,
христианские идеалы побледнели. Какие же идеалы у нового мира, у
современного мира? Где его вера? Где его герои? Перед каким величавым
образом современное человечество может остановиться и взглянуть с
упованием? На каком величавом образе остановится мысль художника с
любовью и верою? — «Дайте мне живую мысль, дайте мне живую тему для
картины,— говорил художник,— или скажите: что?., искусство погибло
в наше время?., погибло безвозвратно от недостатка жизни в современном
человечестве или оттого, что жизнь не нуждается в искусстве и все
интересы деятельности движутся вне художественного мира».— На этот
запрос отвечать было нелегко; а запрос был страшно искренен, в нем
слышался крик сердечной боли, действительного, глубокого отчаяния. [...]
...Этот запрос гораздо глубже выходит из жизни, чем может
показаться многим ученым эстетикам, укачавшимся, как в лодочке, в теории
282
«искусства ради искусства». Этот запрос показывает, что художник не
может отделиться от общественной жизни и что искусство нераздельно
с ее содержанием. Древнее искусство пало с богами Олимпа;
христианское искусство пало, несмотря на провозглашение «иммакулатной
концепции»; самое провозглашение «иммакулатной концепции» могло
случиться только потому, что христианство пало; прежде она была не нужна,
верилось и без нее. Художник, исторически связанный с образами,
завещанными великими мастерами, привыкший к этим образам, перестает
чувствовать то настроение, которое произвело их; он даже начинает смотреть
на эти оригиналы только с точки зрения искусного выполнения, с точки
зрения техники, а их внутренняя жизнь для него уже недоступна; сам он
производит только бездушные копии. Даже техника великих мастеров
ускользает из-под его усталой кисти, потому что и для техники
необходимо живое вдохновение. Художник не сразу понимает, что дело в том,
что он уже не религиозен, потому что его общественная среда не
религиозна; ему еще кажется, что он верит; он ходит в церковь, он
промывает себе глаза святой водою; но он натягивает на себя благоговение,
глаза его не веселей смотрят после святой воды. И в толпе, которая
кругом него, он видит что-то затверженное, какое-то бессмысленное
повторение когда-то живого слова или просто лицемерие. Его поражает
смешное, или уродливое, или нравственно гадкое. Он еще усильно цепляется
сам за затверженные образы, ему с ними жаль расстаться, но как скоро
он принимается за дело, он чувствует немогуту. «Искусство ради
искусства», помимо общественного содержания, не в состоянии вдохновить его;
это посторонняя, натянутая идейка, а не внутренняя сила, которая
просится наружу. [...]
Сама теория искусства ради искусства могла явиться только в эпоху
общественного падения. Искусство, как одно из занятий человека и
отличное от других занятий, не могло не обратить на себя внимания
мыслителей как дело особое, но неодолимо возникающее из человеческой жизни.
Что же такое искусство? Искусство — подражание природе, отвечали они
во время оно. Впоследствии более глубокомысленная наука с улыбкой
презрения взглянула на это наивное определение. Она сказала:
искусство есть воспроизведение действительности. Надо сойти с ума, чтоб не
узнать того же простодушного определения в новой докторской мантии.
Действительно, искусство есть подражание природе, потому что, кроме
природы, ничего нет; действительно, искусство есть воспроизведение
действительности, потому что, кроме действительности, ничего нет. Чем
ближе художник подсмотрел природу, чем больше он сделал так, как бы
сделала сама природа, тем лучше его произведение, тем больше он
воспроизвел действительность. Но это относится к выполнению, это уменье, это
почти техника. Почему в художнике явилась потребность произвести что-
нибудь? Вот в чем вопрос. Какие это жизненные соки, которые
просились выразиться в его произведении, которые толкали его к созданию?
Что формы должны быть верны природе, сомнения нет; иных форм
283
художник знать не может; но эта жизнь, которая вынуждала художника
к произведению, откуда она взялась? Она взялась из среды
общественности; художник только потому и стремился к созданию, что вся
общественная жизнь дышала в нем, не давала ему покоя, ему надо было
производить, потому что ему надо было сказать то, что он живо понял,
прочувствовал, внес в себя, чем переполнился из общественной жизни, будь
то верование, будь то негодование, будь то восторг или скорбь живая; но
помимо общественности и помимо своего взгляда на нее — он ничего не
сделает. А если вы из общественности ничего не вынесли — ни глубокого
верования, ни жажды перестройки, ни великого эпоса, ни великой скорби,
ни страстного упования, ни рыдающего смеха,— какой же вы
художник? Пожалуй, доводите искусство до самой утонченной оконченности,
и копируйте природу, и воспроизводите действительность с мельчайшей
подробностью; да жизни-то вы не вдохнете в свое произведение, и ваша
работа «искусства ради», не вызываемая общей жизнью, которая била бы
в вас живым ключом, ваша работа будет абстрактная работа или
холодненькая мелочь. [...]
Когда бомбардировали Данциг, Теодор Амедей Гофман, знаменитый
автор «Кота Мура», ныне редко и трудно читаемого, сидел в погребке
и, не принимая никакого участия в защите города, в движении людей,
шедших под картечь и ядра, писал, помнится, фантастические рассказы
der Serapions Brüder 1.— Гофман пренебрегал общественным движением
в пользу так называемого искусства. Но для этого надо было иметь в
жилах не кровь человеческую, а немецкую слизь. В нашей литературе,
в наше время, время русского возрождения, такая же партия лимфы,
золотушное дитя схоластических эстетик, хочет отрешенность искусства
от общественных вопросов выдать за нечто достойное уважения. Да где же
они нашли действительное искусство, отрешенное от общественных
вопросов? Не в эпоху ли Возрождения, когда религиозная идея была
внутреннею общественною задачею? Разве то, что тогда было сделано великого
в литературе и искусстве, не проникнуто современным интересом
общества? И разве общественная задача мешала многосторонности
художника? Возьмите Бонарроти, который в одно время строит храм, строит
крепость, и рисует страшный суд, и создает энергическую фигуру Моисея;
разве он не проникнут всей живой задачей своей современной
общественности, со всеми ее надеждами и всеми страданиями. Ту же задачу
проводит Дант. Под влиянием религиозной общественности создалась и
развилась музыка, восходя от одинокой молитвы до общественной молитвы,
до хора. Когда Реформация пошатнула веру и общество схватилось за
свои внутренние вопросы в противоположность небесным, искусство из
церкви перешло на сцену. Откуда выросло трагическое величие
Шекспира, как не из общественного скептицизма? Откуда в живописи явилась
трагическая глубина Рембрандта? Откуда взялась страшная возможность
1 Серапионовых братьев.
284
у Моцарта создать «Дон Жуана», с одной стороны, и «Requiem» — с
другой, как не из того же проникновения художника скептицизмом
общественной жизни? — Когда французская революция пела «Марсельезу»,
не стукнул ли Гёте по христианскому миру первой частью «Фауста»? Не
прогремела ли с плачем и торжеством Героическая симфония? Видите ли,
как великие мастера связаны с общественною жизнью, как они возникают
из нее и говорят за нее. Вероятно, во все эти времена были и бездарные
художники, работавшие на те же темы; но разве эти бездарности
доказывают, что искусству должно отстраниться от общественных вопросов
и жить в себе самом, то есть жить без содержания, чтобы не быть
бездарным? Что общественные задачи проникнуты общечеловеческим
содержанием — об этом спору нет, иначе они и не были бы общественными
задачами; что помимо общественных интересов есть личные интересы,
которые тоже проникнуты общечеловеческим содержанием,— и об этом
спору нет, иначе эти личности были бы вне человеческого мира; но
границ-то этих между личностями и общественностью в жизни не
существует, потому что личность человеческая есть личность общественная. Не
только люди, сгруппированные вместе, невольно примыкают к
общественным интересам, но даже тот святой, который в пустыне питался
собственными испражнениями, и он был проникнут общественной задачей,
которая тогда была задача религиозная. Если литераторы требуют от
искусства, чтобы оно было хуже этого святого и отрешилось от
общественных интересов,— какое же содержание они ему дадут?
Абстрактно-общечеловеческое? Или то мелкое, дрянно-личное, к которому они стремятся
иметь сочувствие вместо отвращения? Но в первом случае они навяжут
искусству создание тусклого урода, а во втором — щепетильное
разрисовывание лилипутских картинок с лилипутскими людишками, с
лилипутскими чувствиецами, с лилипутскими деревцами, облачками, домиками
и пр. Да где же они нашли общечеловеческое содержание помимо
общественности, помимо взгляда художника на общественность, помимо его
участия в ней? Не у Шекспира ли? Не у Аристофана ли или у Гоголя?
Не у Пушкина ли в «Онегине» или в «Борисе Годунове»? Ну! так пусть
же они перечтут их и поймут, что все эти великие художники слова
проникнуты участием к своей современной общественности, и пусть же нам
больше не выдают фарфоровой размазни японского чайника за
художественные идеалы.
[...] К юношам обращаюсь я, которым теперь предстоит взойти на
поприще литературы. Пусть они не верят золотушному равнодушию,
пусть смело вносят в искусство и общественные страдания и все элементы
живой общественной жизни,— и долой с русского слова пыльный шквал
немецкой схоластики, долой крохотное самонаслаждение за углом — вне
общественной жизни.
[...] Если элемент грациозности простодушно, искренно удовлетворяет
вас, и вы не по теории и не по устали бежите от общественных
страданий и общественных надежд, а просто, как дитя, с улыбкой смотрите на
285
зкйзнь,— пишите genre, пишите картинки. Пишите пейзаж, если в вас
есть чувство природы и то простодушно-религиозное уважение к ней,
которое не допустит солгать ради эффекта. Если это направление в вас
искренно, ваши картинки будут по крайней мере милы. Но если вы в них
хотите найти спасение от глубокой внутренней боли, то, конечно, не
найдете, потому что это будет только pis aller *, и ваше произведение будет
не искренно. А искренность одно из главных условий искусства;
искренняя вера создала великие религиозные картины, искреннее сомнение
произвело Гамлета. Только искренности в «искусстве ради искусства» вы не
найдете, потому что самое это понятие не искренно и носит в себе заднюю
мысль уменья и риторства, а не понятие полноты жизни, которой
необходимо выражение.
Вам надо веры,— ее нет в обществе; создать ее будет тщетное
искание, когда для нее нет почвы в действительности. Искание во что б ни
стало не есть жизнь; не искать же, в самом деле, чего-нибудь живого
и великого, представляя на картине курс всеобщей истории, как Корне-
лиус. Если старый мир гибнет и вы это глубоко чувствуете, вы еще
найдете в себе иную силу, силу проклятия; вашей фантазии явятся мощные
образы, которые потрясут даже это бессильное общество; большинство
станет с ненавистью рукоплескать вам, и немало страдальцев с любовью
протянут вам руку. Чего вы боитесь уродливых фраков на вашей картине?
Да разве вы не видите вокруг себя трагической изящности рубища и из-за
скаредных фигур лавочников — энергический образ народа, гласящего:
«И моя пора приходит!»
Будьте искренни с общественным содержанием, выстрадайте его,
и, если в вас есть талант художника, вы найдете, что делать, потому что
у вас будет что сказать. [...]
Н. П. Огарев, Избранные социально-политические
и философские произведения в 2-х томах, т. I, М.,
Госполитиздат, 1952, стр. 292, 294, 297, 303.
ПРЕДИСЛОВИЕ
[К СБОРНИКУ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА»]
(1861)
[...] Мы не устраняем — как еще недавно было общепринятым
мнением — возможность совпадения политического содержания с изящно-
поэтической формой. Мы убеждены, что в нее способно облечься всякое
живое содержание. Красота женщины, колыхание моря, любовь и
ненависть, философское раздумье, тоска Петрарки, подвиг Брута, восторг
Галилея перед великим открытием и чувство, внесенное в скромный труд
Оуэна,— все это составляет для человека поэтическое отношение к жизни.
1 На худой конец (франц.).
2Я6
Математическая формула скорости падения тел, как общее отвлеченное
понятие, остается сама по себе, в своей истине, помимо живого человека;
но живая жажда знания, сила вдумывания, преданность Ньютона своей
задаче были поэзией его жизни и не враждебны кисти художника. Не
будь поэзии в действии и созерцании человека, в самой рефлексии, столь
гонимой немецкой эстетикой,— и надо бы исключить драму из области
искусства и лирический монолог Фауста подвергнуть опале. И кто то
может верить, чтобы живое стремление к общественному благу,
лирическая перестройка общественных отношений и сопряженные с ними
политические ненависти и восторги были недоступны для художественной
формы? Дело не в невозможности поэтического слова для политического
содержания, а в силе таланта самого поэта. [...]
...Нам кажется, что приходит пора свести эстетическую критику
с метафизических подмостков на живое поле истории, перестать
уклоняться от живого впечатления, навеянного поэтическим произведением,
искажая это впечатление мыслью, что произведение не подходит под
вечные условия искусства; пора объяснять себе силу этого впечатления
силой, с которой исторические и биографические данные вызвали в душе
поэта его создание. Истинность поэмы гораздо больше основана на
исторической обстановке и личности поэта, в взаимном действии которых вся
искренность произведения, чем на вечных началах искусства; а вечных
начал искусства, помимо его технической стороны, нет. Техническая
сторона искусства вечно одна и та же: никогда живопись не уклонится
безнаказанно от законов перспективы, от линий человеческого тела, даже
в самых фантастических образах чертей и ангелов; никогда музыка
безнаказанно не уклонится от естественных условий гармонии; никогда поэзия
безнаказанно не отшатнется от естественности образов и выражений и от
гармонии стиха. Законы техники вечны, как законы природы, которых
они повторение в искусстве. Чем сильнее талант, тем он больше обладает
техникой и умеет ею пользоваться. Но форма и содержание
произведений меняются с историческим складом народов и обстоятельств;
физиологически неизбежные трагедия и комедия жизни остаются в роде
человеческом, но образ жизни меняется и кладет свою печать на форму
произведений; религиозный, научный, политический и общественный взгляд
па вещи меняется и дает иное содержание. Греческий хор исчез из
трагедии, потому что исчез образ жизни эллинов; католический взгляд Данта
не имеет ничего общего с миросозерцанием Гамлета. [...]
Там же, стр. 416, 436—437.
МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ
1. Искусство — явление историческое, следственно, содержание его
общественное, форма же берется из форм природы. Для того чтобы
оправдать теорию «искусства ради искусства», надо сказать, что форма
287
исчерпывает г задачу, что форма все, а содержание равнодушно. Русско-
немецкие мыслители очень напирают на общечеловеческое содержание
в противоположность общественному. Тут опять название играет роль
понятия и, как всякое мнимое понятие, выражает неопределенность
и пустоту. Что такое общечеловеческое? Общее всем людям, то есть
просто: человеческое. Да с знаменитого homo sum et nihil humanum a me
alienum puto 2 — все, что входит в человеческую деятельность, есть
человеческое или общечеловеческое; под это название подходят равно явления
и отношения общественные, и отношения лица к лицу, и лица к природе
и необходимости. Мысль и чувство — совершенно общечеловеческие
явления и совершенно общественные, потому что человек не в стаде
немыслим; даже грустное чувство, возбуждаемое отшельничеством, основано на
оторванности от стада. Отличительно человеческое — это сознание; а
сознание равно может проявляться и в искусстве, и в науке, и в жизни, то
есть в устройстве стада. Сознание есть понимание отношений,
выраженное мыслью, то есть словом; понятие отношений, будь оно понятие
аналогии или разнородности предметов, всегда сводится на уравновешивание,
на понятие меры, гармонизирование и потому не обходится без
количественной категории. Приведение в меру (гармонизирование) в науке есть
отыскание закона известных отношений, будь это закон аналогии или.
разницы, совпадения или расторжения, жизни или смерти. В искусстве
гармонизирование есть отыскание красоты отношений, будь это красота
жизни или смерти, блаженства или ужаса.
Сознание, не дошедшее до степени понятия, мысли, есть чувство.
В науке чувство не имеет места, потому что предмет и цель науки —
понятие, теория. В искусстве чувство имеет место, потому что предмет
и цель его — красота, изящное, для которого достаточно впечатления,
без теории. Наука — понятие о природе, искусство — подражание
природе. Наука — воспроизведение действительности в понятии; искусство —
воспроизведение действительности в подражании.
Но сознание, равно на степени понятия или чувства, совершается
посредством чувств, есть явление физиологическое. Поэтому искусство
имеет физиологические отделы: искусство слуха, искусство зрения и3
общее искусство, искусство мысли, слова, то есть музыка, живопись
и4 поэзия. Как все в природе, ни одно искусство не обходится без
количественной категории, требует меры, изящного гармонизирования
отношений. Отношения звуков составляют собственно гармонию; отношение
линий — образы; поэзия вмещает и то и другое + мысль — в слове...
Н. П. Огарев, Избранные социально-политические
и философские произведения, т. II, 1956, стр. 42—44.
1 Далее зачеркнуто: «содержание». (Прим. сост.)
2 Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (латин.; Теренций).
3 Далее зачеркнуто: «искусство, собственно, мысли». (Прим. сост.)
* Далее зачеркнуто: «литера[тура]» (Прим. сост.)
288
H. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
1828-1889
Выдающийся революционный демократ, материалист и социалист-утопист,
Николай Гаврилович Чернышевский является центральной фигурой в русской
домарксистской эстетике. «Чернышевский,— писал В. И. Ленин,— единственный
действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до
88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить
жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но
Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться
до диалектического материализма Маркса и Энгельса» *. Продолжая национальные
традиции эстетической мысли Белинского и Герцена, Чернышевский выступил в тот
период в России также как замечательный продолжатель идей французских
просветителей (теория «разумного эгоизма») и последователь Фейербаха. «Н. Г.
Чернышевский,— замечает В. И. Ленин,— выступал в русской литературе еще в 50-х
годах прошлого века, как сторонник Фейербаха, но наша цензура не позволяла ему
даже упомянуть имя Фейербаха»2. Чернышевский явился создателем цельной
системы оригинальных эстетических взглядов, имевших существенное влияние на
развитие русской общественной мысли и искусства, в ряде моментов оказавшись
непосредственным предшественником марксистской эстетики и критики в России.
Основной работой Чернышевского в области эстетики считается его
магистерская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности»,
защищенная им в Петербургском университете 10 мая 1855 года. Защита диссертации, по
свидетельству современников, вылилась в демонстрацию «умственного движения»
революционно настроенной части русской разночинной интеллигенции тех лет.
Центральной идеей диссертации, ее пафосом является «эстетическая
реабилитация действительности», стремление показать генетическую связь эстетики с
жизнью, непосредственную «заинтересованность» эстетического переживания.
В своеобразной, полемически заостренной форме «эстетической реабилитации
действительности» у Чернышевского проявилась идея демократизации эстетики,
ориентации искусства на преимущественное изображение жизни русских
«простолюдинов» или изображение жизни преимущественно с точки зрения интересов
«простолюдинов». Таким образом, «эстетическая реабилитация действительности»,
«апология действительности» в свою очередь находила у Чернышевского свое
эстетическое оправдание в утверждении народности искусства, в углублении его
реализма и в отрицании традиций дворянско-салонного и ложно-романтического
искусства той поры (см. рецензию Чернышевского на рассказы Н. Успенского, его статьи
о романах и повестях М. Авдеева и Евг. Тур). Эстетика Чернышевского явилась
теоретической основой для разработки им и Добролюбовым прогрессивных для того
времени принципов «реальной критики», согласно которой задача критики явлений
искусства определяется возможностью «толковать о явлениях самой жизни на
основании литературного произведения» (Н. А. Добролюбов).
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 384.
2 Там же, стр. 381.
10 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) 289
Демократизация эстетики имела у Чернышевского вследствие утопической
узости, крестьянского характера его социалистических идеалов и метафизической
ограниченности философии во многом еще односторонний характер, что проявлялось
порой в известной недооценке им специфики художественного творчества, красоты
искусства. Всячески подчеркивая роль реалистического направления в русской
литературе тех времен (так называемое «гоголевское» направление, «натуральная
школа»), Чернышевский и в еще большей степени близкие к нему критики и
теоретики искусства из революционно-демократического лагеря 60-х годов, следуя
логике литературной борьбы, подчас неправомерно противопоставляли этому
направлению «пушкинское», тем самым заметно обедняя уже и само понятие реализма
в искусстве и литературе. С точки зрения социологической подобное
противопоставление «гоголевского» направления (как активно гражданского и
критического) «пушкинскому» (как в основном формотворческому) было связано у идеологов
русской революционной демократии 60-х годов с известной недооценкой ими
дворянской революционности и дворянской культуры в целом.
С точки зрения гносеологической противоречивость эстетической теории
Чернышевского и ее непоследовательность обусловливается антропологизмом
материалистической философии мыслителя. В. И. Ленин отмечал, что «узок термин
Фейербаха и Чернышевского «антропологический принцип» в философии. И
антропологический принцип и натурализм суть лишь неточные, слабые описания
материализма»1. В силу своей антропологической и метафизической ограниченности
и та критика, которой подверг Чернышевский в своей диссертации объективно-
идеалистическую эстетику Гегеля, в известной мере проходила мимо цели,
поскольку сводилась к отрицанию эстетической теории великого немецкого
мыслителя в целом. Утверждая, что прекрасное вполне объективно по своей сущности
(«прекрасный в действительности предмет остается в наших глазах таким, каков
он в действительности, и вся его материальная сторона остается при нем...» 2,
Чернышевский приходит к мысли, согласно которой критерий истинности красоты
коренится в нормах вкуса «здоровой натуры» человека, в его «естественных
потребностях», и т. п. Как пишет Чернышевский в известной Авторецензии на свою
диссертацию, «из понятий, предлагаемых г. Чернышевским, следует... что прекрасное
и возвышенное действительно существуют в природе и человеческой жизни. Но
с тем вместе следует, что наслаждение теми или другими предметами, имеющими
в себе эти качества, непосредственно зависит от понятий наслаждающегося
человека: прекрасно то, в чем мы видим жизнь, сообразную с нашими понятиями
о жизни, возвышенно то, что гораздо больше предметов, с которыми сравниваем его
мы» 3. С антропологизмом Чернышевского связана в конечном счете и его
своеобразная деэстетизация искусства, стремление поставить искусство «ниже»
действительности. «...Из определения «прекрасное есть жизнь»,—пишет Чернышевский,—
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 64.
2 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, Мм Гослитиздат,
1949, стр. 157.
3 Там же, стр. 114—115.
290
будет следовать, что истинная, высочайшая красота есть именно красота,
встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством...» '.
Чернышевский отрицает всякую самоценность искусства. «Пусть,— говорит
он,— искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае
отсутствия действительности быть некоторою заменою ее...»2. Вообще, согласно
Чернышевскому, искусство может играть выдающуюся роль в жизни лишь тех
народов, для которых закрыты по тем или иным причинам другие — более
действенные сферы общественной активности.
Это положение в своей полемической заостренности было направлено против
теории «чистого искусства» и «искусства для искусства» (Ап. Григорьев, А. В.
Дружинин). Вместе с тем подобное утверждение явилось основой для известной
недооценки Чернышевским специфики искусства, его относительной эстетической
суверенности в ряду других форм общественного сознания, что у эпигонов великого
мыслителя приводило впоследствии к принципиальному игнорированию
эстетической сущности искусства, к отождествлению задач искусства и публицистики
(М. А. Антонович, В. Зайцев, отчасти Н. В. Шелгунов и П. Н. Ткачев). Однако,
отстаивая реалистическое направление в современном искусстве, сам Чернышевский
в своей литературно-критической практике не склонен был отождествлять реализм
β натурализмом, уделяя серьезное внимание проблеме типизации в искусстве и
эстетическому идеалу художника.
Что касается эстетической теории, то она, по мнению Чернышевского, являясь
частью философии, также «может представить некоторый интерес для мысли»,
именно «потому, что решение задач ее зависит от решения других, более
интересных вопросов...» 3.
Ряд высказываний Чернышевского выявляет очень интересную черту
эстетических воззрений этого мыслителя. Есть основание полагать, что, настаивая на
«крайностях» своей эстетической системы, сам Чернышевский в то же время в ряде
случаев понимал или был очень близок к пониманию меры ограниченности многих
ее сторон, полагая, очевидно, что известный эстетический «аскетизм», неизбежный
и необходимый для революционного идеолога в определенной исторической
ситуации, имеет вместе с тем все-таки исторически относительный и преходящий
характер. Отсюда и заметное расхождение многих теоретических построений
Чернышевского и целого ряда конкретных литературно-критических оценок, зачастую вскры-
1Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 14.
Рецензия Чернышевского на свою магистерскую диссертацию «Эстетические
отношения искусства к действительности» была опубликована им под
псевдонимом «Н. П-ъ» в журнале «Современник» в 1855 году. Необходимость
выступления с подобного рода статьей определялась в глазах Чернышевского,
занимавшего к тому времени в редакции журнала достаточно уже видное
положение, по всей видимости, его желанием более подробно осветить некоторые из тех
положений, которые в диссертации он не мог затронуть или затрагивал лишь
вскользь (например, вопрос о связи его эстетической теории с материалистической
философией вообще), и отсутствием в тогдашней русской периодической печати
хоть сколько-нибудь серьезных откликов на диссертацию.
2Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 90.
3 Там же, стр. 95.
10*
291
вающих несколько иную тенденцию, недостаточно представленную или почти не
представленную в его эстетической системе (см., например, оценку ряда
некрасовских произведений в известном письме к поэту).
Эстетические взгляды Чернышевского, в основе своей оставшиеся неизменными
в течение всей жизни великого мыслителя, претерпели все же известную эволюцию.
По мере становления художественно-критического дарования философа вульгарно-
материалистическая тенденция, столь заметная в его ранних
теоретико-эстетических выступлениях, была потеснена более реалистическим отношением к
искусству; метафизика абстрактно ригористических требований к художественному
творчеству уступала место пониманию живой противоречивости творческого акта.
Развитие философских взглядов Чернышевского, дальнейшая эволюция его
эстетической теории, в частности, были стеснены, в значительной мере даже
приостановлены условиями глухой и очень длительной ссылки, хотя общее
направление этой эволюции, как уже сказано, представляется плодотворным. Правда,
эстетические идеи Чернышевского в последний период его творчества зачастую изложены
им в сложно зашифрованных литературных произведениях, написанных в ссылке,
и до сих пор не поддаются достаточно убедительному истолкованию.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(Диссертация)
[...] Задачею автора было исследовать вопрос об эстетических
отношениях произведений искусства к явлениям жизни, рассмотреть
справедливость господствующего мнения, будто бы истинно прекрасное, которое
принимается существенным содержанием произведений искусства, не
существует в объективной действительности и осуществляется только
искусством. С этим вопросом неразрывно связаны вопросы о сущности
прекрасного и о содержании искусства. Исследование вопроса о сущности
прекрасного привело автора к убеждению, что прекрасное есть — жизнь.
После такого решения надобно было исследовать понятия возвышенного
и трагического, которые, по обыкновенному определению прекрасного,
подходят под него, как моменты, и надобно было признать, что
возвышенное и прекрасное — не подчиненные друг другу предметы искусства. Это
уже было важным пособием для решения вопроса о содержании
искусства. Но если прекрасное есть жизнь, то сам собою решается вопрос об
эстетическом отношении прекрасного в искусстве к прекрасному в
действительности. Пришедши к выводу, что искусство не может быть обязано
своим происхождением недовольству человека прекрасным в
действительности, мы должны были отыскивать, вследствие каких потребностей
возникает искусство, и исследовать его истинное значение. Вот главнейшие
из выводов, к которьдм привело это исследование:
1) Определение прекрасного: «прекрасное есть полное проявление
общей идеи в индивидуальном явлении» —- не выдерживает критики; оно
292
слишком широко, будучи определением формального стремления всякой
человеческой деятельности.
2) Истинное определение прекрасного таково: «прекрасное есть
жизнь»; прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором
он видит жизнь, как он ее понимает; прекрасный предмет — тот предмет,
который напоминает ему о жизни.
3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности,
должно отличать от совершенства формы, которое состоит в единстве
идеи и формы, или в том, что предмет вполне удовлетворяет своему
назначению.
4) Возвышенное действует на человека вовсе не тем, что пробуждает
идею абсолютного; оно почти никогда не пробуждает ее.
5) Возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов
или гораздо сильнее явлений, с которыми сравнивается человеком.
6) Трагическое не имеет существенной связи с. идеею судьбы или
необходимости. В действительной жизни трагическое большею частью
случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов. Форма
необходимости, в которую облекается оно искусством,— следствие
обыкновенного принципа произведений искусства: «развязка должна вытекать
из завязки», или неуместное подчинение поэта понятием о судьбе.
7) Трагическое по понятиям нового европейского образования есть
«ужасное в жизни человека».
8) Возвышенное (и момент его, трагическое) не есть видоизменение
прекрасного; идеи возвышенного и прекрасного совершенно различны
между собою; между ними нет ни внутренней связи, ни внутренней
противоположности.
9) Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии.
Образы фантазии — только бледная и почти всегда неудачная переделка
действительности.
10) Прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно.
11) Прекрасное в объективной действительности совершенно
удовлетворяет человека.
12) Искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить
недостатки прекрасного в действительности.
13) Создания искусства ниже прекрасного в действительности не
только потому, что впечатление, производимое действительностью, живее
впечатления, производимого созданиями искусства: создания искусства
ниже прекрасного (точно так же, как ниже возвышенного, трагического,
комического) в действительности и с эстетической точки зрения.
14) Область искусства не ограничивается областью прекрасного
в эстетическом смысле слова, прекрасного по живой сущности своей, а не
только по совершенству формы: искусство воспроизводит все, что есть
интересного для человека в жизни.
15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляет
характеристической- черты искусства в эстетическом смысле слова
(изящна
ных искусств); прекрасное как единство идеи и образа, или как полное
осуществление идеи, есть цель стремления искусства в обширнейшем
смысле слова или «уменья», цель всякой практической деятельности
человека.
16) Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова
(изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно
высказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты
живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь
нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими
глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели
случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими
воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до
некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни,
которых не имели мы случая испытать или наблюдать в
действительности.
17) Воспроизведение жизни — общий, характеристический признак
искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства
имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и
значение приговора о явлениях жизни.
Н. Г. Чернышевский, Полное собрание
сочинений в Ιδ-ти томах, т. II, М., Гослитиздат, 1949,
стр. 90—92.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Соч. Н. Чернышевского, Спб., 1855
(Авторецензия)
[...] Автор рассматриваемой нами книги думает, что при тесной
зависимости эстетики от общих наших понятий о природе и человеке с
изменением этих понятий должна подвергнуться преобразованию и теория
искусства. [...] Автор положительно уверен, что теория искусства должна
получить новый вид,— мы готовы предположить, что это так и должна
быть, потому что трудно устоять отдельной части общего философского
здания, когда оно все перестраивается. В каком же духе должна
измениться теория искусства? «Уважение к действительности жизни,
недоверчивость к априорическим, хотя б и приятным для фантазии,
гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке»,
говорит он, и ему кажется, что «необходимо привести к этому знаменателю
и наши эстетические убеждения». Чтобы достичь этой цели, сначала он
подвергает анализу прежние понятия о сущности прекрасного,
возвышенного, трагического, об отношении фантазии к действительности, о
превосходстве искусства над действительностью, о содержании и
существенном значении искусства, или о потребности, из которой происходит
стремление человека к созданию произведений искусства. Обнаружив,
294
как ему кажется, что эти понятия не выдерживают критики, он из
анализа фактов старается извлечь новые понятия, по его мнению, более
соответствующие общему характеру идей, принимаемых наукою в наше
время. Литература и поэзия имеют для нас, русских, такое огромное
значение, какого, можно сказать наверное, не имеют нигде, и потому
вопросы, которых касается автор, заслуживают, кажется нам, внимания
читателей. [...]
Действительно, эстетика может представить некоторый интерес для
мысли, потому что решение задач ее зависит от решения других, более
интересных вопросов, и мы надеемся, что с этим согласится каждый,
знакомый с хорошими сочинениями по этой науке. Но г. Чернышевский
слишком бегло проходит пункты, в которых эстетика соприкасается
с общею системою понятий о природе и жизни. Излагая господствующую
теорию искусства, он почти не говорит о том, на каких общих основаниях
она построена, и разбирает по листочку только ту ветвь «мысленного
древа» (следуя примеру некоторых доморощенных мыслителей,
употребим выражение «Слова о полку Игореве»), которая специально его
занимает, не объясняя нам, что это за дерево, породившее такую ветвь, хотя
известно, что подобные умолчания нимало не выгодны для ясности. Точно
так же, излагая собственные эстетические понятия, он подтверждает их
только фактами, заимствованными из области эстетики, не излагая общих
начал, из приложения которых к эстетическим вопросам образовалась его
теория искусства, хотя, по собственному выражению, только «приводит
эстетические вопросы к тому знаменателю, который дается
современными понятиями науки о жизни и мире». Это, по нашему мнению,
важный недостаток, и он причиною того, что внутренний смысл теории,
принимаемой автором, может для многих показаться темным, а мысли,
развиваемые автором, принадлежащими лично автору,— на что он, по
нашему мнению, не может иметь ни малейшего притязания: он сам говорит,
что если прежняя теория искусства, им отвергаемая, сохраняется доселе
в курсах эстетики, то «взгляд, им принимаемый, постоянно
высказывается в литературе и в жизни» (стр. 92). Он сам говорит: «Воззрение
на искусство, нами принимаемое, проистекает из воззрений,
принимаемых новейшими немецкими эстетиками (и опровергаемых автором),
и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого
определяется общими идеями современной науки. Итак,
непосредственным образом связано оно с двумя системами идей — начала нынешнего
века, с одной стороны, последних (двух,— прибавим от себя)
десятилетий — с другой» (стр. 90). Как же после этого, спрашиваем мы, не
изложить, насколько то нужно, этих двух систем общего воззрения на мир?
Ошибка, совершенно непонятная для каждого, кроме, быть может, самого
автора, и, во всяком случае, чрезвычайно ощутительная.
Приняв на себя роль простого излагателя теории, предлагаемой
автором, рецензент должен исполнить то, что должен был бы сделать, но не
сделал он сам для объяснения своих мыслей.
295
В последнее время довольно часто различаются «действительные,
серьезные, истинные» желания, стремления, потребности человека от
«мнимых, фантастических, праздных, не имеющих действительного
значения в глазах самого человека, их высказывающего или воображающего
иметь их». В пример человека, у которого очень развиты мнимые,
фантастические стремления, на самом деле совершенно ему чуждые, можно
указать превосходное лицо Грушницкого в «Герое нашего времени». Этот
забавный Грушницкий из всех сил хлопочет, чтобы чувствовать то, чего
вовсе не чувствует, достичь того, чего ему, в сущности, вовсе не нужно.
Он хочет быть ранен, он хочет быть простым солдатом, хочет быть
несчастлив в любви, приходить в отчаяние и т. д.,— он не может жить, не
обладая этими обольстительными для него качествами и благами. Но
какою горестью поразила б его судьба, если б вздумала исполнить его
желания! Он отказался бы навсегда от любьи, если б думал, что какая бы
то ни было девушка может не влюбиться в него. Он втайне мучится тем,
что он еще не офицер, не помнит себя от восторга, когда получает
известие о желанном производстве, и с презрением бросает свой прежний
костюм, которым на словах так гордился. В каждом человеке есть частица
Грушницкого. Вообще, у человека при фальшивой обстановке бывает
много фальшивых желаний. Прежде не обращали внимания на это важное
обстоятельство и, как скоро замечали, что человек имеет наклонность
мечтать о чем бы то ни было, тотчас же провозглашали всякую прихоть
болезненного или праздного воображения коренною и неотъемлемою
потребностью человеческой природы, необходимо требующею себе
удовлетворения. И каких неотъемлемых потребностей ни находили в человеке!
Все желания и стремления человека объявлены были безграничными,
ненасытными. Теперь это делается с большею осмотрительностью. Теперь
рассматривают, при каких обстоятельствах развиваются известные
желания, при каких обстоятельствах они затихают. В результате оказался
очень скромный, но с тем вместе и очень утешительный факт: в
сущности, потребности человеческой природы очень умеренны; они достигают
фантастически громадного развития только вследствие крайности, только
при болезненном раздражении человека неблагоприятными
обстоятельствами, при совершенном отсутствии сколько-нибудь порядочного
удовлетворения. Даже самые страсти человека «кипят бурным потоком» только
тогда, когда встречают слишком много препятствий; а когда человек
поставлен в благоприятные обстоятельства, страсти его перестают
клокотать и, сохраняя свою силу, теряют беспорядочность, всепожирающую
жадность и разрушительность. Здоровый человек вовсе не прихотлив.
[...] Надобно только заметить, что под «здоровьем» человека здесь
понимается и нравственное здоровье. Горячка, жар бывает вследствие
простуды; страсть, нравственная горячка, такая же болезнь и так же
овладевает человеком, когда он подвергся разрушительному влиянию
неблагоприятных обстоятельств. За примерами ходить не далеко: страсть, по
преимуществу «любовь», какая описывается в сотнях трескучих рома-
296
нов, теряет свою романтическую бурливость, как скоро препятствия
отстранены и любящаяся чета соединилась браком; значит ли это, что
муж и жена любят друг друга менее сильно, нежели любили в бурный
период, когда их соединению мешали препятствия? Вовсе нет; каждому
известно, что если муж и жена живут согласно и счастливо, то взаимная
привязанность их усиливается с каждым годом и наконец достигает
такого развития, что они буквально «не могут жить друг без друга»,
и если одному из них случится умереть, то для другого жизнь навеки
теряет свою прелесть, теряет в буквальном смысле слова, а не только на
словах. А между тем эта чрезвычайно сильная любовь действительно не
представляет ничего бурного. Почему? Потому только, что ей не мешают
препятствия. Фантастически неумеренные мечты овладевают нами
только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. [...]
Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только
хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда
не заняты чувства: отсутствие удовлетворительной обстановки в
действительности — источник жизни и фантазии. Но едва делается
действительность сносною, скучны и бледны кажутся нам перед нею все мечты
воображения. Этот неоспоримый факт, что самые роскошные и
блестящие, по-видимому, мечты забываются и покидаются нами, как
неудовлетворительные, как скоро окружают нас явления действительной жизни,
служит несомненным свидетельством того, что мечты воображения далеко
уступают своею красотою и привлекательностью тому, что представляет
нам действительность. В этом понятии состоит одно из существеннейших
различий между устаревшим миросозерцанием, под влиянием которого
возникли трансцендентальные системы науки, и нынешним воззрением
науки на природу и жизнь. Ныне наука признает высокое превосходство
действительности перед мечтою, узнав бледность и
неудовлетворительность жизни, погруженной в мечты фантазии; без строгого исследования
принимали, что мечты воображения в самом деле выше и
привлекательнее явлений действительной жизни. В литературной области это прежнее
предпочтение мечтательной жизни выразилось романтизмом.
[...] Но действительно ли силы нашей фантазии так слабы, что не
могут вознестись выше предметов и явлений, которые мы знаем из опыта?
В этом очень легко убедиться. Пусть каждый попробует вообразить себе,
например, красавицу, черты лица которой были бы лучше, нежели черты
прекрасных лиц, виденных им в действительности,— каждый, если
только внимательно будет рассматривать образы, создать которые силится
его воображение, заметит, что эти образы нисколько не лучше лиц,
которые мог он видеть своими глазами, что можно только думать: «я хочу
вообразить себе человеческое лицо прекраснее живых лиц, которые я
видел», но в самом деле представить себе в воображении что-либо
прекраснее этих лиц он не может. Воображение, если захочет возвыситься над
действительностью, будет рисовать только чрезвычайно неясные, смутные
очерки, в которых мы ничего определенного и действительно привлека-
297
тельного не можем уловить. То же самое повторяется и во всех других
случаях. [..,] Я могу представить себе солнце гораздо большим по
величине, нежели каково оно кажется в действительности, но ярче того, как
оно являлось мне й действительности, я не могу его вообразить. Точно так
же я могу представить себе человека выше ростом, толще и т. д., нежели
те люди, которых я видел; но лица прекраснее тех лиц, которые случалось
мне видеть в действительности, я не могу вообразить. Между тем
говорить можно все, что захочется; можно сказать: железное золото, теплый
лед, сахарная горечь и т. д.— правда, воображение наше не может себе
представить теплого льда, железного золота, и потому фразы эти остаются
для нас совершенно пустыми, не представляющими для фантазии
никакого смысла; но если не вникнуть в то обстоятельство, что подобные
праздные фразы остаются непостижимы для фантазии, напрасно
усиливающейся представить предметы, о которых они говорят, то, смешав
пустые слова с доступными для фантазии представлениями, можно
подумать, будто бы «мечты фантазии гораздо богаче, полнее, роскошнее
действительности».
По этой-то ошибке доходили до мнения, что фантастические (нелепые,
и потому темные для самой фантазии) мечты должны быть считаемы
истинными потребностями человека. Все высокопарные, но, в сущности,
не имеющие смысла сочетания слов, какие придумываются праздным
воображением, были объявлены в высочайшей степени привлекательными
для человека, хотя на самом деле он просто забавляется ими от нечего
делать и не воображает себе под ними ничего, имеющего ясный смысл.
Было даже объявлено, что действительность пуста и ничтожна пред
этими мечтами. В самом деле, какая жалкая вещь — действительное
яблоко в сравнении с алмазными и рубиновыми плодами Аладдиновых
садов, какие жалкие вещи действительное золото и действительное железо
в сравнении с золотым железом, этим дивным металлом, который блестящ
и не подвержен ржавчине, как золото, дешев и тверд, как железо! Как
жалка красота живых людей, наших родных и знакомых, в сравнении
с красотою дивных существ воздушного мира, этих невыразимо
прекрасных сильфид, гурий, пери и им подобных! Как же не сказать, что
действительность ничтожна перед тем, к чему стремится фантазия? Но при
этом упущено из виду одно: мы решительно не можем себе представить
этих гурий, пери и сильфид иначе как с очень обыкновенными чертами
действительных людей, и сколько бы мы ни твердили своему
воображению: «представь мне нечто прекраснее человека!» — оно все-таки
представляет нам человека, и только человека, хотя и говорит хвастливо, что
воображает не человека, а какое-то более прекрасное существо; или, если
порывается создать что-нибудь самостоятельное, не имеющее себе
соответствия в действительности, в бессилии падает, давая нам такой
туманный, бледный и неопределенный фантом, в котором ровно ничего нельзя
рассмотреть. Это заметила наука в последнее время и признала основным
фактом и в науке и во всех остальных областях человеческой деятель-
298
ности, что человек не может вообразить себе ничего выше и лучше того,
что встречается ему в действительности. А чего не знаешь, о чем не
имеешь ни малейшего понятия, того нельзя и желать. [...]
Но если так важно различать мнимые, воображаемые стремления,
участь которых — оставаться смутными грезами праздной или болезненно
раздраженной фантазии, от действительных и законных потребностей
человеческой натуры, которые необходимо требуют удовлетворения, то
где же признак, по которому безошибочно могли бы мы делать это
различение? Кто будет судьею в этом, столь важном случае? — Приговор дает
сам человек своею жизнью; «практика», этот непреложный пробный камень
всякой теории, должна быть руководительницею нашею и здесь. Мы
видим, что одни из наших желаний радостно стремятся навстречу
удовлетворению, напрягают все силы человека, чтобы осуществиться в
действительной жизни,— это истинные потребности нашей природы. Другие
желания, напротив, боятся соприкосновения с действительною жизнью,
робко стараются укрываться от нее в отвлеченном царстве мечтаний —
это мнимые, фальшивые желания, которым не нужно исполнение, которые
и обольстительны только под тем условием, что не встречают
удовлетворения себе, потому что, выходя на «белый свет» жизни, они обнаружили бы
свою пустоту и непригодность для того, чтобы на самом деле
соответствовать потребностям человеческой природы и условиям его наслаждения
жизнью. «Дело есть истина мысли». Так, например, на деле узнается,
справедливо ли человек думает и говорит о себе, что он храбр,
благороден, правдив. Жизнь человека решает, какова его натура, она же решает,
каковы его стремления и желания. [...] Практика — великая разоблачи-
тельница обманов и самообольщений не только в практических делах,
но также в делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята она
существенным критериумом всех спорных пунктов. «Что подлежит спору
в теории, на чистоту решается практикою действительной жизни».
Но понятия эти остались бы для многих неопределенны, если бы мы не
упомянули здесь о том, какой смысл имеют в современной науке слова
«действительность» и «практика». Действительность обнимает собою не
только мертвую природу, но и человеческую жизнь, не только настоящее,
но и прошедшее, насколько оно выразилось делом, и будущее, насколько
оно приготовляется настоящим. Дела Петра Великого принадлежат
действительности; оды Ломоносова принадлежат ей не менее, нежели его
мозаичные картины. Не принадлежат ей только праздные слова людей,
которые говорят: «я хочу быть живописцем» — и не изучают живописи,
«я хочу быть поэтом» — и не изучают человека и природу. Не мысль
противоположна действительности,— потому что мысль порождается
действительностью и стремится к осуществлению, потому составляет
неотъемлемую часть действительности,-— а праздная мечта, которая родилась от
безделья и остается забавою человеку, любящему сидеть сложа руки
и зажмурив глаза. Точно так же и «практическая жизнь» обнимает собою
299
не одну материальную, но и умственную и нравственную деятельность
человека.
Теперь может быть ясно различие между прежними,
трансцендентальными системами, которые, доверяя фантастическим мечтам, говорили, что
человек ищет повсюду абсолютного и, не находя его в действительной
жизни, отвергает ее как неудовлетворительную, которые ценили
действительность на основании туманных грез фантазии, и между новыми
воззрениями, которые, признав бессилие фантазии, отвлекающейся от
действительности, в своих приговорах о существенной ценности для человека
различных его желаний руководятся фактами, которые представляет
действительная жизнь и деятельность человека.
Г. Чернышевский совершенно принимает справедливость современного
направления науки и, видя, с одной стороны, несостоятельность
прежних метафизических систем, с другой стороны, неразрывную связь их
с господствующею теориею эстетики, выводит из этого, что
господствующая теория искусства должна быть заменена другою, более сообразною
с новыми воззрениями науки на природу и человеческую жизнь. [...]
Существенное значение эстетическая теория автора имеет именно как
приложение общих воззрений к вопросам частной науки, потому он
[рецензент] думает, что будет стоять именно в средоточии дела, рассматривая, до
какой степени верно сделано автором это приложение. И для читателей,
по мнению рецензента, будет интереснее эта критика с общей точки
зрения, потому что самая эстетика имеет для неспециалистов интерес только
как часть общей системы воззрений на природу и жизнь. [...]
Господствующая теория, поставляя целью человеческих желаний
абсолютное и ставя желания человека, не находящие себе удовлетворения
в действительности, выше тех скромных желаний, которые могут
удовлетворяться предметами и явлениями действительного мира, прилагает это
общее воззрение, которым объясняется в ней происхождение всех
умственных и нравственных деятельностей человека, и к происхождению
искусства, содержанием которого она почитает «прекрасное». Прекрасное,
встречаемое человеком в действительности, говорит она, имеет важные
недостатки, уничтожающие красоту его; а наше эстетическое чувство
ищет совершенства; потому для удовлетворения требованию
эстетического чувства, не удовлетворяющегося действительностью, фантазия наша
возбуждается к созданию нового прекрасного, которое не имело бы
недостатков, искажающих красоту прекрасного в природе и жизни. Эти
создания творческой фантазии осуществляются произведениями искусства,
которые свободны от недостатков, губящих красоту действительности,
и потому, собственно говоря, только произведения искусства истинно
прекрасны, между тем как явления природы и действительной жизни
имеют только призрак красоты. Итак, прекрасное, создаваемое
искусством, гораздо выше того, что кажется (только кажется) прекрасным
в действительности.
300
Это положение подтверждается резкою критикою прекрасного,
представляемого действительностью, и критика эта старается обнаружить
в нем множество недостатков, искажающих его красоту.
Г. Чернышевский, как поставляющий действительность выше грез
фантазии, не может разделять мнение, будто бы прекрасное, создаваемое
фантазиею, выше по красоте своей, нежели явления действительности.
В этом случае он, прилагая к данному вопросу свои основные убеждения,
будет иметь на своей стороне всех, разделяющих эти убеждения, и
против себя всех, которые держатся прежних мнений о том, что фантазия
может возноситься выше действительности. Рецензент, соглашаясь в
общих научных убеждениях с г. Чернышевским, должен также признать
справедливость его частного вывода, что действительность по красоте
своей выше созданий фантазии, осуществляемых искусством.
Но должно доказать это,— и г. Чернышевский для исполнения этой
обязанности сначала пересматривает упреки, делаемые прекрасному
живой действительности, и старается доказать, что недостатки,
поставляемые ему в вину господствующею теориею, не всегда в нем находятся,
а если и находятся, то вовсе не в такой искажающей громадности, как
полагает эта теория. Потом он рассматривает, свободны ли от этих
недостатков произведения искусства, и старается показать, что все упреки,
делаемые прекрасному живой действительности, прилагаются также к
созданиям искусства и почти все эти недостатки бывают в них более грубы
и сильны, нежели каковы они в прекрасном, которое дается нам живою
действительностью. От критики искусства вообще он переходит к анализу
отдельных искусств и также доказывает, что ни одно искусство — ни
скульптура, ни живопись, ни музыка, ни поэзия, не могут давать нам
произведений, которые представляли бы нечто такое прекрасное, которому не
нашлось бы в действительности соответствующих прекрасных явлений,
и ни одно искусство не может создать произведений, равных по красоте
этим соответствующим явлениям действительности. Но мы должны
и здесь заметить, что автор опять делает очень важный недосмотр,
перечисляя и опровергая упреки прекрасному в действительности только в том
виде, как изложены они Фишером, и не пополняя этих упреков теми,
которые высказаны Гегелем. Правда, у Фишера критика прекрасного
живой действительности гораздо полнее и подробнее, нежели у Гегеля;
но у Гегеля при всей его краткости мы встречаем два упрека, которые
забыты Фишером и которые чрезвычайно глубоки,— Ungeistigkeit u
Unfreiheit (недуховность, несознательность, или бессмысленность, и
несвобода) всего прекрасного в природе. Надобно прибавить, однако, что эта
неполнота в изложении, составляя вину автора, не вредит сущности
защищаемых им воззрений, потому что забытые автором упреки могут
быть легко отстранены от прекрасного в действительности и обращены на
прекрасное в искусстве тем же самым способом и почти теми же
фактами, которые находим у г. Чернышевского по поводу упреков в
непреднамеренности. Столь же важно другое упущение: в обзоре отдельных
301
искусств автор забыл мимику, танцы и сценическое искусство — он
должен был рассмотреть их, хотя б и считал, подобно другим эстетикам,
отраслью пластического искусства (die Bildnerkunst), потому что
создания этих искусств совершенно отличны по характеру от статуй.
Но если произведения искусства ниже действительности, то из каких
же оснований возникло мнение о высоком превосходстве искусства над
явлениями природы и жизни? Автор отыскивает эти основания в том, что
предмет ценится человеком не только по его внутреннему достоинству,
а также по редкости и трудности его получения. Прекрасное в природе
и жизни является без особенных забот с нашей стороны, и его очень
много; прекрасных произведений искусства очень мало, и они
производятся не без труда, иногда чрезвычайно напряженного; кроме того, человек
ими гордится, как делом подобного себе человека,— как для француза
французская поэзия (в сущности, очень слабая) кажется лучшею в мире,
так для человека искусство вообще приобретает особенную любовь,
потому, что оно — дело человека, в его пользу говорит пристрастие
к своему, родному; кроме того, искусство, подчиняясь вместе с
художниками мелочным прихотям человека, на которые не обращают внимания
природа и жизнь, и тем самым унижаясь, искажаясь, приобретает, как
всякий льстец, любовь очень многих; наконец, произведениями
искусства мы наслаждаемся когда хотим, то есть когда расположены вникать
в их красоты и наслаждаться ими, а прекрасные явления природы и
жизни очень часто проходят мимо нас в такое время, когда наше внимание
и симпатия обращены на другие предметы; кроме того, автор исчисляет
еще несколько оснований слишком высокого мнения о достоинстве
искусства. Эти объяснения не совершенно полны,— автор забыл очень важное
обстоятельство: мнение о превосходстве искусства над
действительностью — мнение ученых, мнение философской школы, а не суждение
человека вообще, чуждого систематических убеждений; масса людей,
правда, ставит искусство очень высоко, быть может, выше, нежели давало
бы ему на то право одно внутреннее достоинство, и это пристрастие
удовлетворительно объясняется указаниями автора; но масса людей вовсе не
ставит искусство выше действительности, напротив, она и не думает
сравнивать их по достоинству, а если должна будет дать ясный ответ, то
скажет, что природа и жизнь прекраснее искусства. Одни только
эстетики, да и то не всех школ, ставят искусство выше действительности,
и такое мнение, составившееся вследствие особенных, им только
принадлежащих воззрений, должно быть объясняемо этими воззрениями. Именно,
эстетики псевдоклассической школы предпочитали искусство
действительности потому, что вообще страдали болезнью своего века и
кружка — искусственностью всех привычек и понятий: они не в одном
искусстве, но и во всех сферах жизни боялись и дичились природы как она
есть, любили только прикрашенную, «умытую» природу. А мыслители
господствующей ныне школы ставят искусство, как нечто идеальное, выше
природы и жизни, которые реальны, потому что вообще не успели еще
302
освободиться от идеализма, несмотря на гениальные порывы к реализму,
и идеальную жизнь ставят вообще выше реальной.
Возвращаемся к теории г. Чернышевского. Если искусство не может
сравниться с действительностью по красоте своих произведений, то оно
не может быть обязано своим происхождением недовольству нашему
красотою действительности и стремлению создать нечто лучшее,— в таком
случае человек давно бросил бы искусство как нечто совершенно не
достигающее своей цели и бесплодное,— говорит он. Потому потребность,
вызывающая искусство, должна быть не та, как полагает господствующая
теория. До сих пор все, разделяющие с г. Чернышевским основные понятия
о человеческой жизни и природе, вероятно, скажут, что выводы его
последовательны. Но мы не хотим решать, совершенно ли верно приисканное
им объяснение потребности, рождающей искусство; представляем его
собственными словами этот вывод, чтобы дать читателям полную
возможность судить о его несправедливости или справедливости.
«Море вполне прекрасно; смотря на него, мы не думаем быть им
недовольны в эстетическом отношении. Но не все люди живут близ моря;
многим не удается ни разу в жизни взглянуть на него, а им также
хотелось бы полюбоваться на море,— и для них являются картины,
изображающие море. Конечно, гораздо лучше смотреть на самое море, нежели
на его изображение; но за недостатком лучшего человек довольствуется
л худшим, за недостатком вещи — ее суррогатом. И тем людям, которые
могут любоваться морем в действительности, не всегда, когда хочется,
можно смотреть на море,— они вспоминают о нем; но фантазия слаба, ей
нужна поддержка, напоминание,— и, чтоб оживить свои воспоминания
о море, чтобы яснее представлять его в своем воображении, они смотрят
на картину, изображающую море. Вот единственная цель и значение
очень многих (большей части) произведений искусства: дать возможность,
хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в
действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом
деле; служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание
о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из
опыта и любят вспоминать о нем. (Оставляем пока выражение:
«прекрасное есть существенное содержание искусства»; впоследствии мы подста-
новим вместо термина «прекрасное» другой, которым содержание
искусства определяется, по нашему мнению, точнее и полнее.) Итак, первое
значение искусства, принадлежащее всем без изъятия произведениям
его,— воспроизведение природы и жизни. Отношение их к
соответствующим сторонам и явлениям действительной жизни таково же, как
отношение гравюры к той картине, с которой она снята, как отношение портрета
к лицу, им изображаемому. Гравюра снимается с картины не потому,
чтобы картина была нехороша, а именно потому, что картина очень
хороша; так действительность воспроизводится искусством не для
сглаживания недостатков ее, не потому, что сама по себе действительность не
довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думает
SOS
быть лучше картины,— она гораздо хуже ее в художественном
отношении; так и произведение искусства никогда не достигает красоты или
величия действительности; но картина одна, ею могут любоваться только
люди, пришедшие в галерею, которую она украшает; гравюра расходится
в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею,
когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не вставая с своего дивана,
не скидая своего халата; так и предмет, прекрасный в действительности,
доступен не всякому и не всегда; воспроизведенный (слабо, грубо,
бледно — это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, он доступен
всегда и всякому. Портрет человека делается не для того, чтобы сгладить
недостатки его лица (что нам за дело до этих недостатков? они для нас
незаметны или милы), но для того чтобы доставить нам возможность
любоваться на это лицо даже и тогда, когда оно на самом деле не перед нашими
глазами; такова же цель и значение произведений искусства вообще; они
не поправляют действительность, не украшают ее, а воспроизводят,
служат ей суррогатом».
Автор признает, что теория воспроизведения, им предлагаемая, не
есть нечто новое: подобный взгляд на искусство господствовал в
греческом мире; но с тем вместе он утверждает, что его теория существенно
различна от псевдоклассической теории подражания природе, и
доказывает это различие, приводя критику псевдоклассических понятий из Геге-
левой эстетики: ни одно из возражений Гегеля, совершенно
справедливых относительно теории подражания природе, не прилагается к теории
воспроизведения; потому и дух этих двух воззрений, очевидно,
существенно различен. В самом деле, воспроизведение имеет целью помочь
воображению, а не обманывать чувства, как того хочет подражание, и не
есть пустая забава, как подражание, а дело, имеющее реальную цель.
Нет сомнения, что теория воспроизведения, если заслужит внимания,
возбудит сильные выходки со стороны приверженцев теории творчества.
Будут говорить, что она ведет к дагерротипичной копировке
действительности, против которой так часто вооружаются; предупреждая мысль о
рабской копировке, г. Чернышевский показывает, что и в искусстве человек
не может отказаться от своего — не говорим права, это мало,— от своей
обязанности пользоваться всеми своими нравственными и умственными
силами, в том числе и воображением, если хочет даже не более как верно
скопировать предмет. Вместо того чтобы восставать против «дагерро-
типного копирования»,— прибавляет он,— не лучше ли было бы говорить
только, что и копировка, как и всякое другое человеческое дело, требует
понимания, требует способности отличать существенные черты от не
важных? «Мертвая копировка» — говорят обыкновенно; но человек не
может скопировать верно, если механизм его руки не направляется
живым смыслом: нельзя сделать даже верного facsimile, не понимая
значения копируемых букв.
Но словами: «искусство есть воспроизведение явлений природы и
жизни» — определяется только способ, каким создаются произведения искус-
304
ства; остается еще вопрос о том, какие же явления воспроизводятся
искусством; определив формальное начало искусства, нужно для полноты
понятия определить и реальное начало или содержание искусства.
Обыкновенно говорят, что содержанием искусства служат только прекрасное
и его соподчиненные понятия — возвышенное и комическое. Автор
находит такое понятие слишком узким и утверждает, что область искусства —
все интересное для человека в жизни и природе. Доказательство этого
положения мало развито и составляет самую неудовлетворительную часть
в изложении г. Чернышевского, который, кажется, считает этот пункт
слишком ясным и почти не нуждающимся в доказательствах. Мы не
оспариваем самого вывода, который принимается автором, а недовольны
только его изложением. Он должен был привести гораздо более
примеров, которые подтверждали бы его мысль, что «содержание искусства не
ограничивается тесными рамками прекрасного, возвышенного и
комического»,— легко было найти тысячи фактов, доказывающих эту
справедливую мысль, и тем более виноват автор, что мало позаботился о том.
Но если очень многие произведения искусства имеют только один
смысл — воспроизведение интересных для человека явлений жизни, то
очень многие приобретают кроме этого основного значения другое,
высшее — служить объяснением воспроизводимых явлений; особенно должно
сказать это о поэзии, которая не в силах обнять всех подробностей, потому,
по необходимости выпуская из своих картин очень многие мелочи, тем
самым сосредоточивает наше внимание на немногих удержанных
чертах,— если удержаны, как и следует, черты существенные, то этим самым
для неопытного глаза облегчается обзор сущности предмета. В этом иные
видят превосходство поэтических картин перед действительностью, но
выпущение всех несущественных подробностей и передача одних
главных черт — не особенное качество поэзии, а общее свойство разумной
речи: и в прозаическом рассказе бывает то же самое.
Наконец, если художник — человек мыслящий, то он не может не
иметь своего суждения о воспроизводимых явлениях, оно волею или
неволею, явно или тайно, сознательно или бессознательно отразится на
произведении, которое, таким образом, получает еще третье значение —
приговора мысли о воспроизводимых явлениях. Это значение чаще, нежели
в других искусствах, мы находим в поэзии.
Соединяя все сказанное,— заключает г. Чернышевский,— мы получим
следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства —
воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто,
особенно в поэзии, выступает на первый план также объяснение жизни,
приговор о явлениях ее. Искусство относится к действительности
совершенно так же, как история; различие по содержанию только в том, что
история говорит о жизни общественной, искусство — о жизни
индивидуальной, история — о жизни человечества, искусство — о жизни
человека (картины природы имеют только значение обстановки для явлений
человеческой жизни или намека, предчувствия об этих явлениях. Что
305
касается различия по форме, автор определяет его так: история, как
и всякая наука, заботится только о ясности, понятности своих картин;
искусство — о жизненной полноте подробностей). Первая задача
истории — передать прошедшее; вторая,— исполняемая не всеми
историками,— объяснить его, произнесть о нем приговор; не заботясь о второй
задаче, историк остается простым летописцем, и его произведение только
материал для истинного историка или чтение для удовлетворения
любопытства; исполняя вторую задачу, историк становится мыслителем, и его
творение приобретает научное достоинство. Совершенно то же самое
надобно сказать об искусстве. Ограничиваясь воспроизведением явлений
жизни, художник удовлетворяет нашему любопытству или дает пособие
нашим воспоминаниям о жизни. Но если он притом объясняет и судит
воспроизводимые явления, он становится мыслителем, и его
произведение к художественному своему достоинству присоединяет еще высшее
значение — значение научное.
От общего определения содержания искусства натурален переход
к частным элементам, входящим в состав этого содержания, и мы здесь
изложим взгляды автора на прекрасное и возвышенное, в определении
сущности которых он не согласен с господствующею теориею, потому что
она в этих случаях перестала соответствовать настоящему развитию
науки. Анализировать эти понятия он должен был потому, что в
обыкновенном их определении находится непосредственный источник мысли
о превосходстве искусства над действительностью; они служат в
господствующей теории связью между общими идеалистическими началами
и частными эстетическими мыслями. Автор должен был очистить эти
важные понятия от трансцендентальной примеси, чтобы привесть их
в согласие с духом своей теории.
Господствующая теория имеет две формулы для выражения своего
понятия о прекрасном: «прекрасное есть единство идеи и образа» и
«прекрасное есть полное проявление идеи в отдельном предмете»; автор
находит, что последняя формула говорит о существенном признаке не идеи
прекрасного, а того, что называется мастерским произведением
искусства или всякой вообще человеческой деятельности, а первая формула
слишком широка: она говорит, что прекрасные предметы те, которые
лучше других в своем роде; но есть многие роды предметов, не
достигающие красоты. Потому он признает оба господствующие выражения не
совершенно удовлетворительными и принужден искать более точного
определения, которое, как ему кажется, находит в формуле: «прекрасное
есть жизнь; прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою,
какова она должна быть по нашим понятиям; прекрасен тот предмет,
который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни.
Представим здесь существенную часть анализа, на котором опирается этот
вывод,— разбор принадлежностей человеческой красоты, как ее понимают
различные классы народа.
306
«Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть», у простого народа
состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но
вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается
понятие о работе; жить без работы нельзя, да и скучно было бы. Следствием
жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до
изнурения сил, у сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица
и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным
понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская
девушка при сытной пище будет довольно плотна — это также
необходимое условие сельской красоты: светская «полувоздушная» красавица
кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него
неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу»
следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть:
если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого»
сложения, и народ считает толстоту недостатком. У сельской красавицы
не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много
работает,— об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших
песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не
найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением
цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия
жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной
работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько
поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе
жизни крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением
мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым
следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки — они признак
такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов
общества,— жизни без физической работы; если у светской женщины большие
руки и ноги, это признаки или того, что она дурно сложена, или того, что она
не из старинной хорошей фамилии. По этому же самому у светской
красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная
болезнь — и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних
органах, приливает к мозгу, нервная система и без того уже
раздражительна от всеобщего расслабления в организме, неизбежное следствие
всего этого — продолжительные головные боли и разного рода
нервические расстройства; что делать? и болезнь интересна, чуть не завидна,
когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье,
правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому
что и в довольстве и в роскоши плохо жить без здоровья,— вследствие
того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть
привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость,
вялость, томность также имеют в глазах их достоинство (красоты), как
скоро кажутся следствием роскошно бездейственного образа жизни.
Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских
людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного
307
общества, у которых материальной нужды и физической усталости не
бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия
материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей»,
которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни,
без того монотонной и безцветной. А от сильных ощущений, от пылких
страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью,
бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком,
что она много жила?
Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Бще милей.
Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак
искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек
чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается
в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о
котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение
в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми;
и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что
у него прекрасные, выразительные глаза... Взглянем на противоположную
сторону предмета, рассмотрим, отчего человек бывает некрасив. Причину
некрасивости общей фигуры человека всякий укажет в том, что человек,
имеющий дурную фигуру,— «дурно сложен». Уродливость — следствие
болезни или пагубных случаев, от которых особенно легко уродуется
человек в первое время развития. Если жизнь и ее проявление — красота,
очень естественно, что болезнь и ее следствия — безобразие. Но человек,
дурно сложенный,— также урод, только в меньшей степени, и причины
«дурного сложения» те же самые, которые производят уродливость, только
слабее их. Горбатость — следствие несчастных обстоятельств, при которых
совершалось развитие человека; но сутуловатость — та же горбатость,
только в меньшей степени, и должна происходить от тех же самых причин.
Вообще, худо сложенный человек — до некоторой степени искаженный
человек: его фигура говорит нам не о жизни, не о счастливом развитии,
а о тяжелых сторонах развития, о неблагоприятных обстоятельствах. От
общего очерка фигуры переходим к лицу. Черты его бывают нехороши
или сами по себе, или по своему выражению. В лице не нравится нам
«злое», «неприятное» выражение, потому что злость — яд, отравляющий
нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выражению, а по
самым чертам; они бывают некрасивы в том случае, когда лицевые кости
дурно организованы, когда хрящи и мускулы в своем развитии более или
менее носят отпечаток уродливости, то есть когда первое развитие
человека совершалось в неблагоприятных обстоятельствах».
Господствующая теория признает, что красота в царстве природы —
то, что напоминает нам о человеке и его красоте; потому ясно, что если
S08
в человеке красота есть жизнь, то и о красоте природы должно сказать
то же самое. Анализ, которым г. Чернышевский подтверждает свое понятие
о существенном значении прекрасного, мы упрекнем в том, что выражения,
употребляемые автором, могут ввести в недоумение,— инстинктивно или
сознательно человек замечает связь красоты с жизнью? Само собою
разумеется, что большею частью это бывает инстинктивно. Напрасно автор
не позаботился указать это важное обстоятельство.
Различие между принимаемым и отвергаемым у автора воззрениями
на прекрасное очень важно. Если прекрасное есть «полное проявление
идеи в отдельном существе», то прекрасного в действительных предметах
нет, потому что идея вполне проявляется только целым мирозданием,
а в отдельном предмете вполне осуществиться не может; из этого будет
следовать, что прекрасное в действительность вносится только нашею
фантазиею, что поэтому истинная область прекрасного — область
фантазии, а потому искусство, осуществляющее идеалы фантазии, стоит выше
действительности и имеет своим источником стремление человека создать
прекрасное, которого не находит он в действительности. Напротив, из
понятия, предлагаемого автором: «прекрасное есть жизнь», следует, что
истинная красота есть красота действительности, что искусство (как
и полагает автор) не может создавать ничего равного по красоте явлениям
действительного мира, и происхождение искусства легко тогда
объясняется по теории автора, которую мы изложили выше.
Подвергая критике выражения, которыми определяется в
господствующей эстетической системе понятие возвышенного,— «возвышенное есть
перевес идеи над формою» и «возвышенное есть то, что пробуждает в нас
идею бесконечного»,— автор приходит к заключению, что и эти
определения неверны,— он находит, что предмет производит впечатление
возвышенного, вовсе не возбуждая идеи бесконечного. Потому автор опять
должен искать другого определения, и ему кажется, что все явления,
относящиеся к области возвышенного, обнимаются и объясняются
следующею формулою: «Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем
сравнивается нами». Так, например, говорит он, Казбек — величественная
гора (хотя вовсе не представляется чем-то безграничным или
бесконечным) , потому что гораздо выше пригорков, которые мы привыкли видеть;
так, Волга — величественная река, потому что гораздо шире маленьких
рек; любовь — возвышенная страсть, потому что гораздо сильнее
ежедневных мелочных расчетов и интриг; Юлий Цезарь, Отелло,
Дездемона — возвышенные личности, потому что Юлий Цезарь гораздо гениальнее
обыкновенных людей, Отелло любит и ревнует, Дездемона любит гораздо
сильнее обыкновенных людей.
Из господствующих определений, отвергаемых г. Чернышевским,
следует, что прекрасное и возвышенное в строгом смысле не встречаются
в действительности и вносятся в нее только нашею фантазиею; из
понятий, предлагаемых г. Чернышевским, следует, напротив, что прекрасное
и возвышенное действительно существуют в природе и человеческой
309
жизни. Но с тем вместе следует, что наслаждение теми или другими
предметами, имеющими в себе эти качества, непосредственно зависит от
понятий наслаждающегося человека: прекрасно то, в чем мы видим жизнь,
сообразную с нашими понятиями о жизни, возвышенно то, что гораздо
больше предметов, с которыми сравниваем его мы. Таким образом,
объективное существование прекрасного и возвышенного в действительности
примиряется с субъективными воззрениями человека.
Понятию трагического, которое составляет важнейшую отрасль
возвышенного, автор также дает новое определение, чтобы очистить его от
трансцендентальной примеси, которою опутано оно в господствующей
теории, связывающей его с понятием судьбы, внутренняя пустота которого
доказана теперь наукою. Удаляя, сообразно требованию науки, из
определения трагического всякую мысль о судьбе или необходимости,
неизбежности, автор понимает трагическое просто как «ужасное в жизни человека».
Понятие комического (пустота, бессмысленность формы, лишенной
содержания или имеющей претензию на содержание, несоразмерное ее
ничтожеству) господствующей теориею развито так, что соответствует
характеру современной науки, потому автор не имеет нужды изменять
его,— оно уже и в обыкновенном своем выражении совершенно
гармонирует с духом его теории. Таким образом, задача, которую предложил
себе автор,— привести основные эстетические понятия в соответствие
с настоящим развитием науки, исполнена, насколько то было доступно
силам автора, и он заключает свое исследование так:
«Апология действительности сравнительно с фантазиею, стремление
доказать, что произведения искусства решительно не могут выдержать
сравнения с живою действительностью,— вот сущность моего трактата.
Говорить об искусстве так, как говорит автор, не значит ли унижать
искусство? — Да, если доказывать, что искусство ниже действительной жизни
по художественному совершенству своих произведений, значит унижать
искусство; но восставать против панегириков не значит еще быть
хулителем. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для
нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это
не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее —
понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека
свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его:
для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего
эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести по
мере сил эту драгоценную действительность и ко благу человека
объяснить ее».
Заключение, по нашему мнению, не довольно развитое. Оно оставляет
еще для многих повод предполагать, будто бы значение искусства на самом
деле уменьшается, когда отвергаются безграничные панегирики
безусловному достоинству его произведений и когда вместо неизмеримо
высоких трансцендентальных источников и целей источником и целью
искусства поставляются потребности человека. Напротив, именно этим и
310
возвышается реальное значение искусства, потому что таким объяснением
дается ему неоспоримое и почетное место в числе деятельностей, служащих
на благо человеку, а быть во благо человеку — значит иметь полное право
на высокое уважение со стороны человека. Человек преклоняется пред
тем, что служит ему во благо. Он называет хлеб — «хлеб-батюшка» за то,
что питается им; он называет землю — «матушка-земля» за то, что она
кормит его. Отец и мать! Все панегирики ничто пред этими священными
именами, все высокопарные похвалы — пустота и ничтожность пред
чувством сыновней любви и благодарности. Так и наука достойна этого
чувства, потому что служит на благо человеку, так и искусство достойно его,
когда служит на благо человеку. А оно много, много блага приносит ему;
потому что произведение художника, особенно поэта, достойного этого
имени,— «учебник жизни», по справедливому выражению автора, и такой
учебник, которым с наслаждением пользуются все люди, даже и те,
которые не знают или не любят других учебников. Этим высоким, прекрасным,
благодетельным значением своим для человека должно гордиться
искусство.
Г. Чернышевский сделал, по нашему мнению, очень прискорбную
ошибку, не развив подробнее мысль о практическом значении искусства,
о его благодетельном влиянии на жизнь и образованность. Конечно, он
этим эпизодом переступал бы границы своего предмета; но иногда такие
нарушения систематически необходимы для объяснения предмета. Теперь,
несмотря на то, что сочинение г. Чернышевского все проникнуто
уважением к искусству за его великое значение для жизни, могут найтись люди,
которые не захотят видеть этого чувства, потому что нигде не посвящено
ему нескольких отдельных страниц; могут подумать, что он не ценит
по достоинству благодетельного влияния искусства на жизнь или
преклоняется перед всем, что представляет действительность. Как думает об этом
г. Чернышевский или как будут в этом случае думать о нем другие, для
нас все равно: он оставил недосказанными свои мысли и должен отвечать
за такое упущение. Но мы должны объяснить то, что забыл объяснить он,
чтобы характеризовать отношения современной науки к действительности.
Действительность, нас окружающая, не есть нечто однородное и одно-
характерное по отношениям своих бесчисленных явлений к потребностям
человека. Понятие это мы встречаем и у г. Чернышевского: «Природа,—
говорит он,— не знает о человеке и его делах, о его счастии и погибели;
она бесстрастна к человеку, она не друг и не враг ему» (стр. 28); «часто
человек страдает и погибает без всякой вины со своей стороны» (стр. 30);
природа не всегда соответствует его потребностям; потому человек для
спокойствия и счастия своей жизни должен во многом изменять
объективную действительность (стр. 99), чтобы приспособить ее к потребностям
своей практической жизни (стр. 59). Действительно, в числе явлений,
которыми окружен человек, очень много таких, которые неприятны или
вредны ему; отчасти инстинкт, еще более наука (знание, размышление,
опытность) дают ему средства понять, какие явления действительности
311
хороши и благоприятны для него, потому должны быть поддерживаемы
и развиваемы его содействием; какие явления действительности, напротив,
тяжелы и вредны для него, потому должны быть уничтожены или по
крайней мере ослаблены для счастия человеческой жизни; наука же дает
ему и средства для исполнения этой цели. Чрезвычайно могущественное
пособие в этом оказывает науке искусство, необыкновенно способное
распространять в огромной массе людей понятия, добытые наукою, потому
что знакомиться с произведениями искусства гораздо легче и
привлекательнее для человека, нежели с формулами и суровым анализом науки. В этом
отношении значение искусства для человеческой жизни неизмеримо
огромно. Не говорим о наслаждении, доставляемом человеку его
произведениями, потому что толковать о высокой цене эстетического наслаждения
для человека — дело совершенно излишнее: об этом значении искусства
и без того говорят уже слишком много, забывая другое, более существенное
значение искусства, которое занимает теперь нас.
Наконец, г. Чернышевский, нам кажется, сделал также очень важную
ошибку, не объяснив отношения современного положительного или
практического миросозерцания к там называемым «идеальным» стремлениям
человека,— и здесь также часто случается необходимость восставать
против недоразумений. Положительность, принимаемая наукою, не имеет
ничего общего с тою пошлою положительностью, которая господствует
в сухих людях и которая противоположна идеальным, но здоровым
стремлениям. Мы видели, что современное миросозерцание считает науку
и искусство такими же насущными потребностями человека, как пищу
и дыхание. Точно так же оно благоприятно всем другим высшим
стремлениям человека, которые имеют основание в голове или сердце человека.
Голова и сердце так же необходимы для истинно человеческой жизни, как
желудок. Если голова не может жить без желудка, то и желудок умрет
с голоду, когда голова не будет приискивать ему питания. Этого мало.
Человек — не улитка, он не может жить исключительно только для
наполнения желудка. Жизнь умственная и нравственная (развивающаяся
надлежащим образом тогда, когда здоров организм, то есть материальная
сторона человеческой жизни идет удовлетворительно) — вот истинно
приличная человеку и наиболее привлекательная для него жизнь.
Современная наука не разрывает человека по частям, не искажает его прекрасного
организма хирургическими ампутациями, признает равно нелепыми и
пагубными устарелые стремления ограничивать человеческую жизнь одною
головою или одним желудком. Оба эти органа равно необходимо
принадлежат человеку, и равно существенна для человека жизнь и того и
другого органа. Потому-то благородные стремления ко всему высокому и
прекрасному признает наука в человеке столь же существенными, как
потребность есть и пить. Она так же любит,— потому что наука не отвлеченна
и не холодна: она любит и негодует, преследует и покровительствует,—
она так же любит благородных людей, которые заботятся о нравственных
потребностях человека или скорбят, видя, как часто они не
удовлетворяя
ряются, как любит и тех людей, которые заботятся о материальных
потребностях своих собратий. [...]
Там же, стр. 93—118.
О ПОЭЗИИ
Сочинение Аристотеля. Перевел, изложил
и объяснил Б. Ордынский. Москва, 1854
[...] Ныне довольно много найдется людей, не считающих эстетику
наукою, заслуживающею особенного внимания, готовых даже сказать, что
эстетика ни к чему не ведет и ни на что не нужна и что пустоту ее мешает
видеть разве только темнота ее. Но, с другой стороны, едва ли из этих
многих найдется хоть один, который бы не говорил с улыбкою сострадания
о Лагарпе, что «у этого действительно умного и ученого историка
литературы нет никаких прочных и определенных оснований для оценки
писателей», и который бы не примолвил с сожалением о Мерзлякове, что «этот
критик, действительно замечательный по тонкости вкуса, к несчастью, был
только «русским Лагарпом» и потому наделал русской критике, может
быть, больше вреда, нежели пользы». Такие отзывы, от которых не
откажется, вероятно, ни один из современных недоброжелателей эстетики,
дочти избавляют нас от надобности защищать необходимость этой науки
от людей, столь сильно к ней не расположенных и, однако ж, не
сомневающихся в необходимости «ясных и твердых общих начал» для критика
или историка литературы. Что ж такое и понимается под эстетикою, если
не система общих принципов искусства вообще и поэзии в особенности?
Мы очень хорошо понимаем, что эстетика заслуживала сильнейших
преследований в те времена, когда из-за нее позабывали об истории литературы,
на двадцати пяти листах толкуя об «отличных», «очень хороших»,
«посредственных» и «плохих» строфах какой-нибудь оды, а кончив эту
сортировку, опять на стольких же листах разбирали «сильные» или
«неправильные» выражения в этих «отличных», «посредственных» и т. д.
строфах. [...]
Будем же благодарны эстетике за то, что она избавила нас от труда
читать и писать подобные суждения о Державине и Карамзине. Повторяем:
мы понимали бы вражду против эстетики, если б она сама была враждебна
истории литературы; но, напротив, у нас всегда провозглашалась
необходимость истории литературы; и люди, особенно занимавшиеся
эстетическою критикою, очень много — больше, нежели кто-нибудь из наших
нынешних писателей,— сделали и для истории литературы. У нас эстетика
всегда признавала, что должна основываться на точном изучении фактов,
и упреки в отвлеченной неосновательности содержания могут идти к ней
так же мало, как, например, к русской грамматике. Если же прежде она
не заслуживала вражды со стороны приверженцев исторического
исследования литературы, то еще менее может заслуживать ее теперь, когда вся-
313
кая теоретическая наука основывается на возможно полном и точном
исследовании фактов. Но мы готовы предполагать, что у нас многие
ошибаются еще относительно современных понятий о том, что такое теория
и что такое философия. У нас еще многие думают, что у современных
мыслителей господствуют трансцендентальные идеи об «априорическом
знании», «развитии науки самой из себя», ohne Voraussetzung и т. п.;
смеем их уверить, что, по мнению современных мыслителей, эти понятия
были очень хороши и, главное, необходимо нужны как переходная ступень
в свое время, назад тому сорок, тридцать или, пожалуй, даже двадцать
лет, но не теперь: теперь они устарели, признаны односторонними и
недостаточными. Смеем уверить, что истинно современные мыслители
понимают «теорию» точно так же, как понимает ее Бэкон, а вслед за ним
астрономы, химики, физики, врачи и другие адепты положительной науки.
Правда, по этим новым понятиям не написано еще, сколько нам известно,
формального «курса эстетики»; но понятия, которые будут лежать в его
основании, уж достаточно обозначились и развились в отдельных
маленьких статьях и эпизодах больших сочинений. Смеем даже утверждать, что
и прежние, ныне устарелые курсы так называемой трансцендентальной
эстетики основывают свои положения на гораздо большем числе фактов,
нежели думают их противники. Вспомните, что в главнейшем из этих
курсов, составляющем всего три тома, историческая часть занимает почти
два, и большая половина третьего наполнена также историческими
подробностями. Но мы не хотим предполагать, чтоб противники эстетики в
частности или теорий вообще нуждались в этих напоминаниях; не желая
представлять их людьми, отсталыми от современного движения мысли, мы,
скорее, предположим другую, чрезвычайно лестную причину
нерасположения к эстетике: неприятели ее видят в ней теорию отвлеченную и
бесплодную и преследуют ее из сильной приверженности к знаниям «живым»,
имеющим какое-нибудь серьезное значение для так называемых
жизненных вопросов. С этой точки зрения, как увидим ниже, Платон нападал
не на эстетику (это было бы еще не так важно, да притом эстетики в Пла-
тоново время и не существовало, кроме той, отрывки которой рассеяны
в его же собственных сочинениях),— нет, он нападал на самое искусство,
и мы только сожалеем, что искусство заслуживало до некоторой степени
его нападений, но не можем не сочувствовать и Платону. Если же поэзия,
литература, искусство признаются предметом такой важности, что история,
например, литературы должна быть предметом всеобщего внимания
и изучения, то и общие вопросы о сущности, значении, влиянии поэзии,
литературы, искусства должны иметь огромный интерес, потому что от
разрешения их зависит взгляд наш на предмет; а именно для того, чтоб
образовался ясный и правильный взгляд, нужны факты. Зачем же и знать
их, если не для того, чтоб делать из них выводы? Словом: нам кажется,
что весь спор против эстетики основывается на недоразумении, на
ошибочности понятий о том, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая
наука вообще. История искусства служит основанием теории искусства,
314
потом теория искусства помогает более совершенной, более полной
обработке истории его; лучшая обработка истории послужит дальнейшему
совершенствованию теории, и так далее, до бесконечности будет
продолжаться это взаимодействие на обоюдную пользу истории и теории, пока
люди будут изучать факты и делать из них выводы, а не обратятся в
ходячие хронологические таблицы и библиографические реестры, лишенные
потребности мыслить и способности соображать. Без истории предмета нет
теории предмета; но и без теории предмета нет даже мысли о его истории,
потому что нет понятия о предмете, его значении и границах. Это так же
просто, как то, что дважды два — четыре, а единица есть единица; но мы
знаем людей, доказывающих, посредством Ньютонова бинома, что единица
равняется двум... [...J
Эстетика наука мертвая! Мы не говорим, чтоб не было наук живей ее;
но хорошо было бы, если б мы думали об этих науках. Нет, мы
превозносим другие науки, представляющие гораздо менее живого интереса.
Эстетика наука бесплодная! В ответ на это спросим: помним ли мы еще
о Лессинге, Гёте и Шиллере, или уж они потеряли право на наше
воспоминание с тех пор, как мы познакомились с Теккереем? Признаем ли мы
достоинство немецкой поэзии второй половины прошедшего века?..
Но, может быть, некоторые восстают не против самой пользы и
необходимости теоретических выводов, а против стеснения их в узкие рамки
системы? Прекрасное побуждение к вражде, если б только оно имело какое-
нибудь основание, если б кто-нибудь* из современных людей смотрел на
чью бы то ни было систему какой бы то ни было науки как на вечное
вместилище всей истины. [...] Систематичность науки не представляет
препятствий к ее развитию. Учите нас, и чем больше нового будет в вашей
новой системе, тем больше будет вам славы. А не приведенными в одно
стройное целое истинами неудобно пользоваться: кто составил систему
науки, тот один сделал науку общедоступною, и его понятия разольются
в массе, хотя бы у других были понятия гораздо глубже, нежели у него;
что не формулировано, то остается бездейственным.
И лучший пример того, какое важное условие для плодотворности
мыслей система, представляет нам «Пиитика», или, как называет ее
г. Ордынский, «Сочинение Аристотеля о поэзии». Аристотель первый
изложил в самостоятельной системе эстетические понятия, и его понятия
господствовали с лишком две тысячи лет; а у Платона больше, нежели
у него, найдется истинно великих мыслей об искусстве; может быть, даже
его теория не только глубже, но и полнее Аристотелевой, но она не
облечена в систему и до новейшего времени не обращала на себя почти
никакого внимания.
Чтоб показать, какой интерес и в наши времена еще имеют
эстетические понятия этих людей, живших до нас за две тысячи двести лет,
попробуем изложить в кратком очерке самые общие, самые отвлеченные
вопросы их эстетики: «об источнике и значении искусства». Конечно, в
современной теории решение этих вопросов представляет гораздо более
315
живого и интересного, но... кто, по вашему мнению, выше: Пушкин или
Гоголь? Я вчера слышал спор об этом, и на него готовы отвечать Платон
и Аристотель. В самом деле, решение зависит от понятия о сущности
и значении искусства. Послушаем же мнения об этом предмете наших
великих учителей в деле эстетического суда. Если сущность искусства
действительно состоит, как нынче говорят, в идеализации; если цель его
«доставлять сладостное и возвышенное ощущение прекрасного», то в
русской литературе нет поэта, равного автору «Полтавы», «Бориса Годунова»,
«Медного всадника», «Каменного гостя» и всех этих бесчисленных
благоуханных стихотворений; если же от искусства требуется еще нечто другое,
тогда... но в чем же кроме этого может состоять сущность и значение
искусства?
Итак, в чем состоит сущность искусства? Что именно делает живописец,
изображая пейзаж или группу людей, поэт, изображая в лирическом
стихотворении восторги или страдания любви, в романе или драме — людей
с их страстями и характерами? «Он идеализирует природу и людей.
Сущность искусства состоит в создании идеалов,— отвечает господствующая
ныне эстетическая теория, — в человеке есть предчувствие и потребность
чего-то лучшего и полнейшего, нежели бледная и скудная
действительность («проза жизни», по выражению дюжинных романистов), которой
не удовлетворяется его бессмертный дух. Это лучшее и полнейшее (идеал)
живо постигается художником и передается жаждущему человечеству
в созданиях искусства». Прежняя теория искусства говорила не так:
«искусство — больше ничего, как подражание тому, что мы видим в
действительности; картины, статуи, романы, драмы — больше ничего, как
копии с подлинников, представляемых художнику действительностью».
Эта теория, над которою ныне смеются, потому что знают ее только
в искаженной переделке Буало и Баттё, действительно достойной
осмеяния, известна под названием Аристотелевой. В самом деле, Аристотель
признавал ее справедливою: в тех отделениях его трактата «О поэтическом
искусстве», в которых находятся общие соображения о происхождении
и сущности искусства вообще и поэзии в частности, основная мысль
действительно та, что «искусство есть подражание». Но совершенно
несправедливо было бы считать Аристотеля творцом «теории подражания»: она,
по всей вероятности, господствовала еще задолго до Сократа и Платона,
а развита у Платона гораздо глубже и многостороннее, нежели у
Аристотеля. Полагая основанием своих понятий об искусстве мысль, что оно
«состоит в подражании», Платон не ограничивается теми довольно
недалекими приложениями коренного принципа, какими довольствуется
Аристотель. Поэзия есть подражание, говорит Аристотель; следовательно,
трагедия есть подражание действиям великих людей, комедия —
подражание действиям низких людей; других выводов не найдем у него. Платон,
напротив, извлекает из своего понятия об искусстве живые, блестящие,
глубокомысленные заключения, опираясь на свою аксиому, он определяет
значение искусства в жизни человеческой, его отношение к другим
направят
лениям деятельности; вооружаясь ею, Платон уличает искусство в
бедности, слабости, бесполезности, ничтожестве. Его сарказмы жестоки
и метки, может быть, односторонни, особенно для нашего времени, но во
многом справедливы и благородны при всей своей односторонности. Но,
чтоб объяснить презрение Платона к искусству, надобно сказать несколько
слов о существенном направлении его учения.
Платона многие считают каким-то греческим романтиком, вздыхающим
о неведомом и туманном, чудном и прекрасном крае, стремящимся «туда,
туда» (dahin, dahin), неизвестно куда, только далеко, далеко от людей
и земли... Платон был вовсе не таков. Действительно, он был одарен
возвышенною душою, и все благородное и великое увлекало его до
энтузиазма; но он не был праздным мечтателем, думал не о звездных мирах,
а о земле, не о призраках, а о человеке. И прежде всего Платон думал
о том, что человек должен быть гражданином государства, не мечтать о
ненужных для государства вещах, а жить благородно и деятельно,
содействуя материальному и нравственному благосостоянию своих сограждан.
Благородная, но не мечтательная, не умозрительная (как для Аристотеля),
а деятельная, практическая жизнь была для него идеалом человеческой
жизни. Не с ученой или артистической, а с общественной и нравственной
точки смотрел он на науку и на искусство, как и на все. Не человек живет
для того, чтоб быть артистом или ученым (как думали многие великие
философы, между прочим, Аристотель), а наука и искусство должны
служить для блага человека. После этого понятно, как Платон должен
был смотреть на искусство, которое большею частью служит (должно ли
служить, это — другой вопрос), а во время Платона почти исключительно
служило прекрасною, с тем вместе чрезвычайно дорогою и, может быть,
очень благородною забавою, но все-таки забавою для людей, которым
нечего делать, кроме того как любоваться на более или менее
сладострастные картины и статуи да упиваться мелодиею более или менее
сладострастных стихов. «Искусство—забава»: этим решено для Платона все.
А что он не клеветал на искусство, признавая его забавою, лучше всего
свидетельствует нам один из серьезнейших поэтов Шиллер, конечно, не
враждебными глазами смотревший на свое искусство: Кант, по его
мнению, совершенно справедливо называет искусство игрою (или забавою,
das Spiel), потому что, «только играя, человек вполне человек»1.
Представим же теперь мнения Платона о значении искусства, выпуская, однако,
слишком жесткие из его нападений.
Искусства, говорит Платон, бывают двух родов: производительные
и подражательные (по нашей терминологии: практические или
технические и изящные). Первые производят что-нибудь нужное для жизни,
годное для употребления. Сюда принадлежат, например, земледелие,
ремесла, гимнастика, дающая человеку силы, и медицина, дающая ему
здоровье. Им полное уважение. Но какое сравнение могут выдержать
1 [Ф. Шиллер], Об эстетическом воспитании человека, письмо 15 и след.
317
с ними подражательные искусства (впредь мы, сообразно нынешней
терминологии, будем называть их изящными), которые не дают человеку
ничего, кроме обманчивых, ни в какое употребление не годных копий
с действительных предметов? Их значение ничтожно. К чему они служат?
К приятному, но бесполезному препровождению времени. Это игра пустая
в глазах серьезного человека. Но иные игры (например, гимнастические)
имеют серьезную цель; изящные искусства ее не имеют. Нет, они
стараются только забавлять; они только хотят угодить толпе; они
принадлежат к одному разряду занятий с реторикою (искусством подбирать
красные слова) и софистикою (искусством говорить не полезное, а
приятное слушателям), с парикмахерским и поварским искусствами. И живопись*
и музыка, и поэзия, даже возвышенная и превозносимая трагедия —
искусства угодничества, лести, потому что стараются только об удовольствии,
а не о пользе толпы (заметим, что подобным же образом смотрит на
изящные искусства автор «Эмиля» и «Новой Элоизы»; Кампе, знаменитый
немецкий педагог, также говорит: «выпрясть фунт шерсти полезнее,
нежели написать том стихов»). А между тем как высоко ставят себя эти
ничтожные искусства! Живописец, например, говорит, что создает
и деревья, и людей, и землю, и море! да еще как скоро — в одну минуту! —
и потом продает вам и землю и море за золотую монету. Правда, его
создания не стоят и медной, потому что они пустые призраки, годные лишь
на то, чтоб обманывать ребятишек. И эти фокусники еще не хотят
признавать себя подражателями — нет, они говорят вам о творчестве! (Из
этого видим, что идея, служащая основанием господствующей ныне
эстетической теории, существовала уже и при Платоне: «искусство есть
творчество».) И могут ли они дать что-нибудь кроме плохой, неверной
копии? Ведь художнику нет дела до внутреннего содержания: ему нужна
только оболочка; он довольствуется поверхностным знанием поверхности
предмета: ее копирует он; дальше ее ничего не знает (новейшая эстетика,
согласно с этими художниками или, скорее, с едкими сарказмами Платона,
говорящего за них, признает, что «прекрасное, существенное содержание
искусства — призрак, пустой призрак», ein Schein, ein reiner Schein и что
искусство имеет дело только с поверхностью, оболочкою предмета, die
Oberfläche). Устройство человеческого тела известно врачу—живописец
его не знает. Так и поэт не знает основательно жизни и сердца
человеческого: это знание достигается только глубоким изучением философии (по
нынешней терминологии «только путем науки» ), а не отрывочными
наблюдениями собственной опытности, слишком неполной и поверхностной,
И заслуживают ли даже имени искусства эти гордые изящные искусства?
Нет! Чтоб моя деятельность достойна была имени искусства, мне
необходимо иметь ясное сознание о том, что я делаю,— художник не имеет его.
Столяр, делая стол, знает, что, зачем и как он делает: живописец и поэт
сами не знают истинной природы предметов, которым подражают. Их
искусство не искусство, а слепая работа по темному инстинкту, наудачу;
они называют это «вдохновением»; на самом деле с вдохновением соеди-
318
няется у них невежество самоучки. Изящные искусства — пустая игра,
ке заслуживающая имени искусства.
Полемика Платона против искусства чрезвычайно сурова, правда, но
порождена высоким и благородным взглядом на человеческую
деятельность. И легко было бы показать, что многие из строгих обличений
Платоновых продолжают быть справедливыми и в отношении к современному
искусству. Но гораздо приятнее говорить за искусство, нежели против
искусства, и потому, отказываясь от тяжелой обязанности указывать
и в новейшем искусстве те слабые стороны, которые общи ему с греческим,
мы постараемся только показать, какими соображениями могут быть
в наше время смягчены некоторые из безусловных приговоров Платона
о ничтожности значения изящных искусств.
Платон восстает против искусства за то, что оно бесполезно для
человека. Не будем опровергать этого страшного упрека устарелою мыслью,
что «искусство должно существовать для искусства», что «делать
искусство служителем человеческих нужд значит унижать его» и т. п. Мысль
эта имела смысл тогда, когда надобно было доказывать, что поэт не должен
писать великолепных од, не должен искажать действительности в угоду
различным произвольным и приторным сентенциям. К сожалению, для
этого она появилась уж слишком поздно, когда борьба была кончена;
а теперь и подавно она ни к чему не нужна: искусство успело уж отстоять
свою самостоятельность и должно думать о том, как ею пользоваться.
«Искусство для искусства» — мысль такая же странная в наше время, как
«богатство для богатства», «наука для науки» и т. д. Все человеческие
дела должны служить на пользу человеку, если хотят быть не пустым
и праздным занятием: богатство существует для того, чтобы им
пользовался человек, наука для того, чтоб быть руководительницею человека;
искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу,
а не на бесплодное удовольствие. «Но именно эстетическое наслаждение
само по себе приносит существенное благо человеку, смягчая его сердце,
возвышая его душу...». Мы не хотим выводить серьезное значение
искусства и из этой мысли — справедливой, но еще мало говорящей в пользу
искусства. Конечно, наслаждение произведениями искусства, как и
всякое (непреступное) удовольствие, производит в человеке светлое,
радостное расположение духа; а радостный и довольный человек, конечно,
добрее и лучше, нежели недовольный и мрачный. И мы согласны, что,
выходя из картинной галереи или из театра, человек чувствует себя и
добрее и лучше (по крайней мере на полчаса, пока не разлетелось
эстетическое довольство); но точно так же и из-за сытного обеда человек встает
сниходительнее, добрее того, каков был с отощавшим желудком.
Благодетельное влияние искусства как искусства (независимо от такого или
иного содержания его произведений) состоит почти исключительно в том,
что искусство вещь приятная; подобное же благодетельное качество
принадлежит всем другим приятным занятиям, отношениям, предметам, от
которых зависит «хорошее расположение духа». Здоровый человек гораздо
319
менее эгоист, гораздо добрее, нежели больной, всегда более или менее
раздражительный и недовольный; хорошая квартира также больше
располагает человека к доброте, нежели сырая, мрачная, холодная; спокойный
человек (то есть находящийся не в неприятном положении) добрее,
нежели раздосадованный, и т. д. И надобно сказать, что практические,
житейские, серьезные условия довольства своим положением действуют
на человека сильнее и постояннее, нежели приятные впечатления,
доставляемые искусством. Для большинства людей оно — только развлечение,
то есть довольно ничтожная вещь, не могущая принести серьезного
довольства. И, взвесив хорошенько факты, мы убедимся, что многие самые
не блестящие, обыденные развлечения больше вносят довольства и
благорасположения в человеческое сердце, нежели искусство: если б явился
между нами Платон, вероятно, сказал бы он, что, например, сиденье на
завалине (у поселян) или вокруг самовара (у горожан) больше развило
в нашем народе хорошего расположения духа и доброго расположения
к людям, нежели все произведения живописи, начиная с лубочных картин
до «Последнего дня Помпеи». Польза, приносимая искусством как одним из
источников довольства развитию всего хорошего в человеке, несомненна,
но ничтожна в сравнении с пользою, приносимою другими благоприятными
отношениями и условиями жизни; потому и не хотим мы указывать на
нее для того, чтоб показать высокое значение искусства в жизни. Правда,
обыкновенно влияние искусства на нравственное развитие понимают не
так, как мы его представили, и говорят, будто бы эстетическое
наслаждение не просто как источник хорошего расположения духа смягчает сердце,
а непосредственно возвышает и облагораживает душу по возвышенности
и благородству предметов и чувств, которыми прельщаемся мы в
произведениях искусства; обыкновенно говорят, что представляющееся нам
«прекрасным» в искусстве есть уж по этому самому благородное и
возвышенное. Но мы, решительно не желая касаться щекотливого вопроса
о серьезном значении существенного содержания в большей части
произведений искусства, не хотели даже выписывать грозных нападений
Платона на искусство за его содержание: тем менее сами будем вдаваться
в эти нападения. Напомним только, что искусство должно угождать
требованиям публики, а большинство, смотрящее на него как на развлечение,
конечно, требует от развлечения не возвышенности или благородства
содержания, а грациозности, интересности, забавности, даже легкости.
Один из серьезнейших и благороднейших поэтов нашего времени говорит
в предисловии к своим песням: «Я хотел бы воспевать вовсе не любовь;
но кто стал бы читать мои песни, если б их содержание было серьезно?
Поэтому, написав несколько серьезных песен, которые одни хотел бы я
писать, я должен был потопить их во множестве любовных песенок для
того, чтоб вместе с этими приманками публика поглотила и здоровую
пищу». Таково почти всегда положение художника, имеющего серьезное
и благородное направление (не хотим прибавлять, что не все из
художников имеют его). Кому эти краткие намеки покажутся недостаточными,
320
тот пусть потрудится припомнить, что главнейшее содержание поэзии
(самого серьезного из искусств) — «любовь», то есть влюбленность, очень
далекая от истинной любви и очень мало имеющая серьезного значения.
Обыкновенная забота искусства — заинтересовать, завлечь, чем и как —
все равно.
Но если, стремясь к этой цели, искусство почти всегда позабывает
о других, важнейших целях, то надобно признаться, что завлекает огромную
массу оно очень удачно и этим самым, вовсе о том не думая, содействует
распространению образованности, ясных понятий о вещах — всего, что
приносит умственную, а потом принесет и материальную пользу людям.
Искусство или, лучше сказать, поэзия (одна только поэзия, потому что
другие искусства очень мало делают в этом отношении) распространяет
в массе читателей огромное количество сведений и, что еще важнее,
знакомство с понятиями, вырабатываемыми наукою,— вот в чем заключается
великое значение поэзии для жизни.
В наше время странно уже — хотя, быть может, и вовсе еще не
излишне — пускаться в подробные объяснения того, что такое наука, в чем
состоит и как велико ее значение для жизни. В науке хранятся плоды
опытности и размышлений человеческого рода, и главнейшим образом
на основании науки улучшаются понятия, а потом нравы и жизнь людей.
Но открытия и соображения науки приносят действительную пользу только
тогда, когда разливаются в массе публики. Наука сурова и неманчива
в своем настоящем виде; она не привлечет толпы. Наука требует от своих
адептов очень много приготовительных познаний и, что еще реже
встречается в большинстве — привычки к серьезному мышлению. Поэтому,
чтоб проникнуть в массу, наука должна сложить с себя форму науки.
Ее крепкое зерно должно быть перемолото в муку и разведено водою для
того, чтоб стать пищею вкусною и удобоваримою. Это достигается
«популярным» изложением науки. Но и популярные книги еще не исполняют
всего, что нужно для распространения понятий о науке в большинстве
публики: они предлагают чтение легкое, но не заманчивое, а большинство
читателей хочет, чтоб книга была сладким десертом. Это обольстительное
чтение представляют ему романы, повести и т. д. Без всякого сомнения,
очень немногие беллетристы думают, подобно Вальтеру Скотту,
употреблять свой талант именно для распространения образованности между
читателями. Но как из разговора с образованным человеком
малообразованный всегда вынесет какие-нибудь новые сведения, хотя бы разговор и не
касался, по-видимому, ничего серьезного, так и из чтения романов,
повестей, по крайней мере исторических, даже стихотворений, которые
пишутся людьми, во всяком случае стоящими по образованности выше,
нежели большинство их читателей, масса публики, не читающая ничего,
кроме этих романов и повестей, узнает многое. И нет никакого сомнения,
что не только «Юрий Милославский», но даже и «Леонид, или Некоторые
черты» и т. д. значительно распространили круг сведений своих читателей.
Если популярные книги перечеканивают в ходячую монету тяжелый сли-
321
ток золота, выплавленный наукою* то поэзия пускает в ход мелкие
серебряные деньги, которые обращаются и там, куда редко заходит золотая
монета, и которые все-таки имеют свою неотъемлемую ценность. Поэзия
как распространительница знаний и образованности имеет чрезвычайно
важное значение для жизни. «Забава» ею приносит пользу умственному
развитию забавляющегося, потому, оставаясь забавою для массы
читателей, поэзия получает серьезное значение в глазах мыслителя.
Итак, принуждены будучи признать справедливость очень многих
нападений Платона на искусство, мы, однако, вправе сказать, что поэзия
имеет высокое значение для образованности и идущего вслед за нею
улучшения нравов и материального благосостояния; она имеет это значение
даже и тогда, когда не заботится о нем. Но много было поэтов, которые
сознательно и серьезно хотели быть служителями нравственности и
образованности, понимали, что вместе с талантом получили они обязанность
быть наставниками своих сограждан. Были такие поэты и во время
Платона; достоверно мы знаем с этой стороны Аристофана. «Поэт — учитель
взрослых», говорит он,— и все его комедии проникнуты самым серьезным
направлением. Излишне и говорить о том, какое важное практическое
значение получает поэзия в их руках. Но если Платон впадает в
односторонность, считая поэзию только пустою забавою, то за ним остается
заслуга, что он смотрел на искусство в связи с жизнью; а оправдание его
порицаниям находится в понятиях об искусстве большей части
художников и даже философов, которые полагают, что значение искусства не
зависит от его житейской пользы, что «служить каким бы то ни было
интересам, кроме собственных, унизительно и пагубно для искусства»,
что «оно само себе цель», что «доставлять эстетическое наслаждение —
единственное назначение искусства». Эти господствующие воззрения
действительно отнимают у искусства всякое дельное значение, превращают
его в пустую игру и вполне заслуживают грозных изобличений Платона,
доказывающего, что, отказываясь от практического значения для жизни,
искусство, как и всякое дело, не имеющее такого значения, становится
пустою забавою в глазах мыслителя.
Аристотель, уступая Платону в возвышенности требований, гораздо
снисходительнее, даже с любовью смотрит на искусство, особенно на
поэзию и музыку; его понятия о значении музыки и поэзии не так
поучительны, как Платоновы, но гораздо многостороннее — правда, с тем вместе
иногда и мелочны.
Первую пользу искусства для человека (потому что и Аристотель
требует от искусства пользы) он видит именно в том, в чем Платон находит
причину бледности и ничтожности произведений искусства сравнительно
с живою действительностью — в том, что искусство есть подражание.
«Стремление к подражанию, которое служит источником искусств,
находится в непосредственной связи с любознательностью. Любознательность»
заставляющая сравнивать копию с подлинником,— причина и того
удовольствия, которое доставляют нам произведения искусства: подражая
322
предмету, а потом сравнивая подражание с оригиналом, мы изучаем
предмет, изучаем его легко и скоро; в этом тайна наслаждения, приносимого
искусством». Итак, искусство находится в ближайшем родстве с
важнейшим и высочайшим стремлением человеческого духа; потому что
Аристотель ставит науку выше жизни, умственную деятельность выше
практической: образ мыслей, очень легко рождающийся у людей, для которых
наука — главнейшая цель жизни. Искусству этим объяснением его
происхождения назначается очень почетное место среди возвышенных
направлений человеческого духа; но объяснение страсти к подражанию из
любознательности не выдерживает критики. Подражаем вообще мы из
желания сделать, а не узнать что-нибудь; подражание — не теоретическое,
а практическое стремление. Справедливо только то, что иногда (довольно
редко) мы читаем произведения поэзии из желания познакомиться с
нравами людей, с обычаями народов, далеких от нас, и т. п.; но и читаем мы
произведения поэзии обыкновенно вовсе не по этому побуждению, а
возникают они решительно не из желания поэта уяснить себе какой-нибудь
вопрос (как пишутся ученые трактаты): стремление создавать (чрез
подражание или «воспроизведение», как выражаются ныне),
производить — источник поэтической деятельности; восхищение творческим талан-
томг удовольствие, происходящее от сознания гениальности
человеческой,— источник наслаждения, доставляемого нам произведениями
искусства. Не указываем других источников искусства и наслаждения
искусством, потому что это отвлекло бы нас далеко от Аристотеля (точно так же
и выше, пополняя мнения Платона, мы ограничились указанием одной
только стороны высокого значения искусства, чтобы не вдаваться в
излишние подробности).
Но если Аристотель односторонним образом объясняет стремление
человека к подражанию и происхождение искусства, то нельзя не отдать
ему полной справедливости за то, что он старается отыскать для искусства
высокое значение в области умственной деятельности; и если нельзя
согласиться с его мнением об источнике искусства вообще, то нельзя без
удивления видеть, как верно определяет он отношение поэзии к
философии: поэзия, изображающая человеческую жизнь с общей точки зрения,
представляющая не случайные и ничтожные мелочи ее, а то, что есть
в жизни существенного и характеристического, чрезвычайно много имеет,
как думает Аристотель, философского достоинства. Она в этом отношении
даже гораздо выше, по его мнению, нежели история, которая без разбора
должна описывать и важное и не важное, и существенное,
характеристическое и случайные, не имеющие никакого внутреннего значения факты;
поэзия гораздо выше истории также и потому, что представляет все во
внутренней связи, между тем как история без всякой внутренней связи,
по хронологическому порядку рассказывает разнородные факты, не
имеющие между собою ничего общего. В поэтической картине— смысл и связь;
в истории — множество не говорящих ничего нужного подробностей, и нет
связи; она дает не картины, а только отрывки картин. [...]
И*
323
Ученый отдает искусству справедливость до такой степени, что ставит
его выше науки (правда, не своей специальной науки). Явление
замечательное... Но мнение Аристотеля об истории требует объяснения: оно
приложимо только к тому виду истории, который был известен в его
время,—это была не собственно история, а летопись. У Геродота
действительно нет никакой внутренней связи: все девять книг его «Истории»
наполнены эпизодами; он хочет, собственно, писать историю «войны персов
с греками» — и успевает начать рассказ о ней только в шестой книге.
Ему хочется поговорить обо всем, что только ему известно из истории,
и нравов знакомых ему народов. Его метод таков: персы воевали с
египтянами: поговорим о египтянах — и следует целая книга о Египте же;
воевали они также со скифами: поговорим о скифах — и следует целая
книга о скифах и Скифии. В каждом эпизоде у него опять новые эпизоды,
вплетенные почти так: у египтян главный город Мемфис — описание
Мемфиса ; я также был в Мемфисе — описание того, что он видел в
Мемфисе; между прочим, был я там в одном храме — описание храма; в этом
храме видел я жреца — описание жреца и его одежды; жрец этот говорил
со мною о том-то — рассказывается, что говорил ему жрец; но другие
говорят об этом не так — рассказывается, как говорят об этом другие,
и т. д. и т. д. Геродот рассказчик, бывалый человек, и его история похожа
на простодушные, интересные, но бессвязные рассказы всех бывалых
людей. Фукидид — чисто летописец, правда, ученый и глубокомысленный,
но располагающий свою «Историю Пелопонесской войны» таким образом:
в шестую зиму войны произошло в Аттике вот что; в эту же зиму в Пело-
понессе произошло вот что; в то же время на Корцире произошло вот что;
во Фракии произошло тогда же вот что; на Лесбосе — вот что, и т. д.
В следующее затем лето произошло в Аттике то-то и то-то, в Пелопонессе
то-то и то-то, и т. д. У Фукидида еще меньше внутренней связи между
рассказами, нежели у Геродота; даже ни одно событие не рассказано за
один раз: начало, середина и конец его разбросаны в разных книгах по
«зимам» и «летам». Очень понятно, как много мелочного и решительно
ненужного для характеристики главного события и главных деятелей
находится в подобных «историях». Форму науки история приняла только
в наше время; у новейших великих историков всегда господствует строгое
единство; у них не найдется ненужных мелочей, приводятся факты
и черты, только «имеющие общее значение», которого требует Аристотель,
то есть только необходимые для характеристики века и людей*
Эти выписки достаточно показывают проницательность и
многосторонность Аристотелева ума; но при всей своей гениальности часто он впадает
в мелочность от всегдашнего своего стремления найти глубокое
философское объяснение не только главным явлениям, но и всем их подробностям.
Это стремление, выразившееся в аксиоме одного новейшего философа,
соперника Аристотелева: «все действительное разумно и все разумное
действительно», часто заставляло обоих мыслителей придавать важное
значение мелочным фактам только потому, что эти факты хорошо
ПОДХОДЯ*
дили под их систему. Превосходный пример этого представляет выписанное
нами место из Аристотеля. Совершенно справедливо определяя, что поэзия
изображает не мелочи, а общее, характеристическое, в чем находит
Аристотель подтверждение своего понятия? — в том, что комики всегда,
а трагики иногда дают характеристические имена действующим лицам,
то есть и в оставленном ныне обыкновении выводить на сцену Воровати-
ных, Правдиных, Прямосудовых, Коршуновых, Разлюляевых
(весельчаки), Бородкиных (живущие по старым обычаям), Стародумов и т. д.
На нескольких страницах излагаем мы мнения Платона и Аристотеля
о «подражательных искусствах», несколько десятков раз пришлось нам
употребить слово «подражание», и, однако, до сих пор еще ни разу не
встретили читатели обычного выражения «подражание природе» — отчего
это? Неужели Платон и особенно Аристотель, учитель всех Баттё, Буало
и Горациев, поставляют сущность искусства не в подражании природе, как
привыкли все мы дополнять фразу, говоря о теории подражания?
Действительно, и Платон и Аристотель считают истинным содержанием искусства,
и в особенности поэзии, вовсе не природу, а человеческую жизнь. Им
принадлежит великая честь думать о главном содержании искусств именно
то самое, что после них высказал уже только Лессинг и чего не могли
понять все их последователи. У Аристотеля в «Пиитике» нет ни слова
о природе: он говорит о людях, их действиях, событиях с людьми, как
о предметах, которым подражает поэзия. Дополнение: «природе» могло
быть принято в пиитиках только тогда, когда процветала вялая и
фальшивая описательная поэзия (которая едва ли не грозит снова войти в моду)
и неразлучная с ней дидактическая поэзия — роды, которые изгоняются
Аристотелем из поэзии. Подражание природе чуждо истинному поэту,
главный предмет которого — человек. «Природа» выступает на первый
план только в пейзажной живописи, и фраза «подражание природе»
послышалась в первый раз из уст живописца; но и живописец произнес
ее не в том смысле, какой получила она у современников Дезульер и
Делили: когда Лизипп (рассказывает Плиний), еще будучи юношею, спросил
у знаменитого в то время живописца Эвпомпа: кому из прежних великих
художников надобно подражать? — Эвпомп отвечал, указывая на толпу
людей, среди которой они стояли: «не художникам надобно подражать,
а самой природе». Ясно, он говорил о том, что живая действительность
должна служить материалом и образцом для художника, а не о «садах»,
которые воспевал Делиль, и не об «озерах», которые описывались Уорд-
свортом и Уильсоном с братиею.
Из этого можно убедиться, что многие возражения, делаемые против
теории подражания, относятся, собственно, не к ней, а к той искаженной
форме, в какой представляли ее теоретики псевдоклассической школы.
Здесь не место высказывать личные убеждения, и потому не будем
доказывать, что, по нашему мнению, называть искусство воспроизведением
действительности (заменяя современным термином неудачно передающее
смысл греческого mimesis слово «подражание») было бы вернее, нежели
325
думать, что искусство осуществляет в своих произведениях нашу идею
совершенной красоты, которой будто бы нет в действительности. Но нельзя
не выставить на вид, что напрасно думают, будто бы, поставляя верховным
началом искусства воспроизведение действительности, мы заставим его
«делать грубые и пошлые копии и изгоняем из искусства идеализацию».
Чтоб не вдаваться в изложение мнений, не общепринятых в нынешней
теории, не будем говорить о том, что единственная необходимая
идеализация должна состоять в исключении из поэтического произведения
ненужных для полноты картины подробностей, каковы бы ни были эти
подробности; что если понимать под идеализациею безусловное «облагорожение»
изображаемых предметов и характеров, то она будет равняться
чопорности, надутости, фальшивому драматизированию. Но вот выписка из
Аристотелевой «Пиитики», доказывающая, что идеализация, даже в
последнем смысле, очень хорошо может входить в систему эстетики,
признающую основным началом поэзии подражание или воспроизведение:
«Так как трагедия есть подражание лучшим (воспроизводит действия
и приключения людей с великими, а не мелочными характерами, сказа-
ли бы мы теперь; но Аристотель говорит, увлекаясь Эсхилом и Софоклом:
людей, лучших, нежели обыкновенные люди), то должны (трагики)
подражать хорошим портретистам: они, передавая кого-нибудь в настоящем
виде, делают портрет похожим и вместе красивее. Так и поэту, когда он
подражает сердитым, ленивым и другие недостатки в характере имеющим
(то есть воспроизводит их характеры), следует таковых облагораживать».
«Распалась поэзия на два рода (говорит далее Аристотель) по
характеру поэтов: люди солидные описывали высокие дела возвышенных по
характеру людей и сначала писали гимны, потом трагедии; люди
легкомысленные описывали людей «низких»: они сочиняли сначала ямбы
(сатиры), потом комедии». Опять какая односторонность! Платону было
простительно, говоря об отсутствии серьезного нравственного значения
в произведениях искусства, не упомянуть нам о прекрасном исключения,
о комедиях Аристофана — вражда Аристофана против Сократа извиняла
молчание преданного ученика Сократова. Но Аристотель, не могший
иметь никакого горького воспоминания против Аристофана, также не хочет
замечать высокого значения комедии.
Мысль, что «искусство состоит в подражании» живой действительности
и преимущественно воспроизводит человеческую жизнь, беспрекословно
считалась справедливою в Древней Греции. Платон и Аристотель
одинаково полагали ее в основание своих эстетических понятий; они до того
были уверены, как и все их современники, в неоспоримой истине этого
начала, что везде высказывают его как аксиому, не думая доказывать его.
На чем же основано, что именем «Платоновой» называют совершенно
другую теорию искусства, решительно противоположную излагаемой
Платоном,— теорию, объясняющую начало искусства так: «идея прекрасного,
присущая духу человеческому, не находя себе соответствия и
удовлетворения в действительном мире, заставляет человека создавать искусство,
326
в котором находит она себе полное осуществление»? И кто из мыслителей,
в самом деле, первый высказал начала такой теории?
В первый раз «идеальное начало» искусства было высказано Плотином,
одним из тех туманных мыслителей, которые называются неоплатониками.
У них нет ничего простого, ясного — все таинственно, невыразимо; у них
нет ничего положительного, действительного — все заоблачно и
мечтательно; все их понятия... но мы ошибаемся: у них нет понятий, потому
что понятие есть нечто определенное, доступное простому уму; у них
какие-то грезы, которым нет нигде соответствующих предметов, которые
постигаются только в состоянии экстаза, когда посредством искусственного
образа жизни, неестественного напряжения ума человек погружается
в таинственный мир, не доступный никаким чувствам. Грезы эти
величественны, но величественны только для освободившейся от власти рассудка
фантазии; малейшее прикосновение положительной, ясной мысли
уничтожает их. Неоплатоники—люди, хотевшие соединить древнюю греческую
философию с таинственными азиатскими философемами, придать мечтам
распаленной египетской и индийской фантазии форму науки; из этого
соединения образовалось у них нечто еще более странное и фантастическое,
нежели самые индийские и египетские мудрования. Мысль, возникшая
на такой заоблачной почве, едва ли может надолго овладеть
положительными и светлыми понятиями народов, у которых есть опытная наука, все
подвергающая анализу. Но здесь не место излагать наши понятия об
«идеальном начале» искусства: довольно и того, что мы сказали, как странен
источник, из которого взято оно. Излагать идеи Плотина о сущности
прекрасного мы также не будем, отчасти уж потому, что излагать их значило
бы почти то же самое, что излагать господствующие ныне эстетические
начала. Впрочем, едва ли справедливо называем мы «современными»
мнения об идеальном начале искусства: та система понятий, которой они
принадлежали, уже оставлена всеми; она имела только переходное
значение и ныне забыта вместе с романтизмом, своим порождением. И если
эстетические понятия, разнесенные по свету Шлегелями и их
сподвижниками, принятые потом и их противниками, еще не заменились в новейших
эстетиках другими понятиями, то это единственно потому, что нынешняя
наука, обращенная на другие вопросы, едва касалась эстетических.
Неоплатоники переделали Платонову философию на египетский лад:
но, будучи совершенно различно от Платоновой философии по своей
сущности, учение их сохранило черты наружного сходства с нею. Вот причина,
по которой Платону было приписано многое, вовсе ему не принадлежащее,
в том числе и учение об идеальном начале искусства. Его понятия о
красоте под влиянием системы неоплатоников были смешаны с понятиями
его об искусстве, между тем как красоту видит он в живой
действительности, еще высшую красоту находит в идеях и поступках мудреца; из
последнего очевидно, что его «прекрасное» вообще то, что мы в
обыкновенном разговорном языке называем «прекрасным» (добродетель
прекрасна; патриотизм — прекрасное чувство; прекрасно иметь благородный
327
образ мыслей; цветущий сад — прекрасен и т. д.), а не то «прекрасное»,
о котором говорит эстетика и которое состоит в совершенстве материальной
формы, вполне лроявляющей свое внутреннее содержание.
Но возвратимся к Аристотелю и его «Пиитике». В ней кроме
изложенного нами учения о происхождении искусства вообще, от которого
поспешно переходит он к специальному вопросу о трагедии, мы находим
еще довольно много мнений, имеющих интерес и для нашего времени.
Скажем несколько слов о них. Мнений же, прилагающихся только к
греческой поэзии, имеющих теперь только историческое значение, мы не
должны касаться по нашему плану; точно так же должны мы пройти
молчанием множество прекрасных мыслей о сущности драматической
поэзии, потому что ныне их справедливость известна всем; и если
нынешние драматурги не всегда с ними соображаются в своих произведениях,
то единственно по недостатку сил или искусства: такова, например, мысль
о том, что в драме (Аристотель говорит это о трагедии) самое
существенное — действие, при недостатке которого пьеса непременно будет слаба,
как бы ни велики были другие ее достоинства; требование, чтоб в пьесе
господствовало строжайшее единство действия (считаем излишним
повторять давно всеми высказываемую мысль, что, кроме единства действия,
Аристотель не требует никаких других единств), и т. д.
Очень часто случается слышать мнение, что события из действительной
жизни именно так, как случились, не должны быть изображаемы в поэзии;
что, например, исторический роман должен непременно переделывать
исторические события по требованиям. искусства, «потому что
исторический факт в своей наготе не имеет никогда достаточного внутреннего
единства и сцепления между частями». Аристотель приходит к этому
вопросу по поводу исторических трагедий и решает его так: для поэзии
необходимо, чтоб подробности действия вытекали необходимо одна
из другой и чтоб их сцепление было правдоподобно; некоторым
из действительно случившихся событий ничто не препятствует удов-*
летворять этому требованию: все в них развилось по необходимости:
и все правдоподобно — почему же не брать их поэту в их истинном виде?
К чему же после этого служат все эти вымышленные герои, заслоняющие
настоящих героев и введенные только затем, чтоб своими выдуманными
приключениями «придать поэтическое единство» изображению эпохи, как
будто нельзя было найти истинно поэтических событий в жизни настоящих
героев романа? Но мода на исторические романы прошла, и потому
обратим наше замечание на рассказы и драмы из современного быта: к чему
это бесцеремонное драматизирование действительных событий, которое
так часто встречается в романах и повестях? Выберите связное и
правдоподобное событие и расскажите его так, как оно было на самом деле: если
ваш выбор будет недурен (а это так легко!), то ваша не переделанная
из действительности повесть будет лучше всякой переделанной «по
требованиям искусства», то есть обыкновенно — по требованиям литературной
эффектности. Но в чем же тогда выкажется ваше «творчество»? В том, что
328
вы сумеете отделить нужное от ненужного, принадлежащее к сущности
события от постороннего.
Фальшивое понятие о необходимости связи между развязкою и
завязкою было источником ложного понятия о сущности трагического в
нынешней эстетике. Трагическое событие обыкновенно представляют
происходящим под влиянием какой-то особенной «трагической судьбы», по
которой сокрушается все великое и прекрасное. Аристотель, которому понятие
«рока» было гораздо ближе, нежели нам, ничего не говорит о
вмешательстве судьбы в участь героев трагедии. Но герои трагические обыкновенно
погибают? Это очень просто объясняется у него тем, что трагедия имеет
целью возбудить чувства ужаса и сострадания; а если развязка будет
счастлива, то это впечатление будет сглажено ею, хотя бы и было
пробуждено предыдущими сценами. Вы возразите, что лица, погибающие
в конце, представляются в начале трагедии мощными, счастливыми и т. д.?
Это так же просто объясняется у Аристотеля тем, что контраст поражает
сильнее однообразности: увидев здорового — мертвым, счастливого —
погибающим, зрители сильнее проникаются ужасом и состраданием, нежели
тогда, когда этого контраста недостает. И Аристотель совершенно
справедлив, не вводя «судьбы» в понятие трагического: эта внешняя,
посторонняя сила только ослабляет внутреннюю связь событий, придавая им
направление, не вытекающее из сущности действия,— вот эстетический
вред «судьбы» в трагедии. Поэзия должна изображать человеческую
жизнь — пусть же она не искажает ее картин посторонними примесями.
Наконец, последнее замечание: главнейшую разницу между
Гомеровыми эпопеями и позднейшими трагедиями Аристотель поставляет только
в том, что «Илиада» и «Одиссея» гораздо длиннее трагедий и не имеют
такого строгого единства действия, какое необходимо для трагедий:
эпизоды в трагедиях неуместны, в эпопее не вредят красоте целого. Но
различия по направлению, по духу, по характеру содержания между
трагедиями и Гомеровыми поэмами Аристотель не замечает никакого (различие
в способе изложения, конечно, он видит очень хорошо). Напротив, он,
очевидно, предполагает существенную тождественность эпического и
трагического содержания, говоря, что из «Илиады» или «Одиссеи» можно сделать
по нескольку трагедий. Надобно ли считать недосмотром Аристотеля
несогласие его в этом случае с новейшими эстетиками, полагающими
существенное различие между содержанием эпическим и драматическим?
Может быть; но, скорее, можно думать, что наши эстетики полагают
слишком глубокое различие по содержанию между эпическою и драматическою
поэзиею, которые у греков, очевидно, различались одна от другой более
формою, нежели содержанием. В самом деле, беспристрастно подумав об
этом вопросе (а наши эстетики явно пристрастны к драматической форме,
«высочайшей форме поэзии»), едва ли не должно будет заключить, что
если многие сюжеты повестей и романов не годятся для драмы, то едва ли
есть драматическое произведение, сюжет которого не мог бы так же
хорошо (или еще лучше) быть рассказан в эпической форме. Да и то, что
329
некоторые повести и романы (очень хорошие, но мало заключающие
в себе действия и много лишних эпизодов и разглагольствований, чего.
конечно, нельзя считать достоинством и в эпическом произведении) не
могли быть обращены в сносные пьесы,— не происходит ли главным
образом оттого, что скука, очень сносная и отчасти даже приятная наедине,
в удобные для этого часы, становится несносною, когда усиливается скукою
тысячи скучающих, подобно вам, в душной атмосфере театра? Если
присоединить к этому десятки других обстоятельств того же рода — например,
неудачность всех аранжировок вообще, упущение из виду со стороны
повествователя всех сценических условий, стеснительность самой
драматической формы,— то увидим, что негодность для сцены многих пьес,
переделанных из повестей, достаточно объясняется и без предположения
существенного различия между эпическим и драматическим сюжетом.
К «последнему» замечанию позволяем себе прибавить еще одно, уже
решительно последнее. Аристотель ставит трагиков выше Гомера и,
признавая при всяком случае всевозможные достоинства в его поэмах,
находит, однако, что трагедии Софокла и Бврипида несравненно
художественнее их по форме (и глубже по содержанию, мог бы он прибавить). Не
следует ли и нам по его прекрасному примеру без ложного подобострастия
смотреть на Шекспира? Лессингу было натурально ставить его выше всех
поэтов, существовавших на земле, и признавать его трагедии
геркулесовыми столбами искусства. Но теперь, когда мы имеем самого Лессинга,
Гёте, Шиллера, Байрона, когда прошли причины восставать против
слишком усердных подражателей французским писателям, стало, может быть,
уже не столь естественно отдавать Шекспиру бесконтрольную власть над
нашими эстетическими убеждениями и кстати и некстати приводить
в пример всего прекрасного его трагедии, находя в них все прекрасным.
Ведь Гёте признает же «Гамлета» нуждающимся в переделке? И, может
быть, Шиллер не выказал неразборчивости вкуса, переделав наравне
с Шекспировым «Макбетом» и Расинову «Федру». Мы беспристрастны
к давно прошедшему: зачем же так долго медлить признавать и недавно
прошедшее веком высшего, нежели прежнее, развития поэзии? Разве ее
развитие не идет рядом с развитием образованности и жизни?
Мы старались показать, что, несмотря на односторонность некоторых
положений, мелочность многих фактов и выводов и — главнейший
недостаток — преобладание формализма над живым учением о прекрасном
в поэзии как следствие развитого наукою таланта и благородного образа
мыслей (требования, гораздо сильнее высказанные у Платона, нежели
у Аристотеля),— что, несмотря на все эти недостатки, сочинение
Аристотеля «О поэтическом искусстве» имеет еще много живого значения и для
современной теории и достойно было служить основанием для всех
последующих эстетических понятий до Вольфа и Баумгартена или даже до
Лессинга и Канта (теории Гогарта, Борка и Дидро не имели большого
значения, встретив мало сочувствия). [,..]
Там же, стр. 263—284.
330
ПИСЬМО H. А. НЕКРАСОВУ
от 5 ноября 1856 года
[...] Сочувствие публики к Вам очень сильное,— сильнее, нежели
предполагал я даже, упрекаемый Вами в пристрастии к Вашим стихотворениям.
Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор»
ют «Мертвые души» имели такой успех, как Ваша книга. Мне очень
хотелось написать о Ваших стихотворениях...
Вы находите, что в прежнем письме я преувеличил достоинство Ваших
стихотворений,— напротив, я выражался слишком слабо, как вижу теперь,
перечитав Ваши стихотворения. Такого поэта, как Вы, у нас еще не было.
Пушкин, Лермонтов, Кольцов, как лирики, не могут идти в сравнение
с Вами.
Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении Вашей тенденциею,—
тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других,—
притом же я вовсе не исключительный поклонник тенденции,— это так
кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда
нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа
мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не.составляют еще всего
в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное
горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту,
знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда
отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для
меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые
вопросы — не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются
пьяницами,— я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие [же] права,
как и поэзия мысли,— лично для меня первая привлекательнее последней,
и потому, например, лично для меня Ваши пьесы без тенденции производят
сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею.
«Когда из мрака заблужденья...»,
«Давно отвергнутый тобою...»,
«Я посетил твое кладбпще...»,
«Ах ты, страсть роковая, бесплодная...» —
и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать
никакая тенденция. Я пустился в откровенности,— но только затем, чтобы
сказать Вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно
с политической точки зрения. Напротив,— политика только насильно
врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или по крайней мере
хотело бы жить не ею.
Не подумайте также, что я увлекаюсь общим мнением,— я люблю
противоречить ему, если только можно. Восторг других возбуждает во мне
потребность противоречия,— но что же делать, когда другие справедливы?
Нельзя же отказаться от своего мнения только потому, что оно
разделяется другими.
331
Не думайте, что мне легко или приятно признать Ваше превосходство
над другими поэтами,— я старовер по влечению своей натуры и признаю
новое, только вынужденный решительною невозможностью отрицать его.
Я люблю Пушкина, еще больше Кольцова,— мне вовсе нет особенной
приятности думать: «поэты, которые доставили мне столько часов восторга,
превзойдены» — но что делать? Нельзя же отрицать истины только потому,
что она лично мне не совсем приятна.
Словом, я чужд всякого пристрастия к Вам — напротив, Ваши
достоинства признаются мною почти против воли,— по крайней мере с некоторою
неприятностью для меня.
[...] Мне хотелось бы поговорить много о Ваших стихотворениях — не
с политической, а с поэтической точки зрения. А между тем негде
напечатать эту статью. В «Современнике» я написал только: «Читатели, конечно,
не могут ожидать, чтобы «Совр.» представил суждение о ст[ихотворе]ниях
одного из. своих редакторов...»
[...] Кстати, в XI № «Отечественных записок» продолжаются выходки
против моих статей — на это я не буду отвечать, как и вообще не буду
отвечать на то, что касается лично только меня.[...] Мне действительно не
хотелось начинать и не хочется продолжать полемики. Но когда надобно
защищать Григоровича], Остр[овского], Толстого] и Тургенева], я буду
писать с возможною ядовитостью и беспощадностью — кроме журнальных
соображений тут есть и нравственная причина: как сметь чернить такого
благороднейшего человека, как Тургенев? Это низко и глупо. Да и
Григорович], Толстой имеют права на уважение, и защищать их —
обязанность добросовестности, а не один расчет.[.,.]
Н. Г. Чернышевский, Полное собрание
сочинений, т. XIV, 1949, стр. 321—323, 325, 326.
Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
1836-1861
Николай Александрович Добролюбов — знаменитый русский литературный
критик и публицист, друг и соратник Чернышевского, один из крупнейших
представителей революционно-демократической эстетики. В 1856 году, будучи студентом
Главного педагогического института в Петербурге, познакомился с Чернышевским
и начал сотрудничать в «Современнике»; с начала 1858 года возглавлял критико-
библиографический отдел «Современника».
Литературно-эстетические взгляды Добролюбова опирались на его
материалистические философские убеждения. Деятельность Добролюбова, развертывавшаяся
в период назревания в России революционной ситуации, вдохновлялась ожиданием
народной революции, стремлением распространить в среде передовой
интеллигенции революционные идеи. Эта революционная позиция Добролюбова определила
332
его подход к проблемам эстетики и литературной критики. В основу его
эстетических воззрений легло убеждение в том, что главная роль в жизни и развитии
общества принадлежит народу, трудящимся массам, и потому любое явление
общественной жизни, в том числе и искусство, должно быть понято и оценено в его
отношении к интересам и потребностям этих масс.
В эстетике Добролюбова своеобразно выразилось характерное для всей
революционно-демократической эстетики стремление органически соединить в
целостной концепции реализма понятия правдивости искусства и его народности,
выяснить связь и взаимозависимость этих понятий. В художественной правде, то
есть в образном раскрытии «натурального смысла» явлений действительности,
Добролюбов видел необходимое условие произведения искусства. Самый талант
художника он понимал как способность чувствовать и изображать жизненную правду
явлений. Но «натуральный смысл» жизненных фактов определяется тем значением,
которое они имеют в народной жизни; таким образом, верное воспроизведение этого
«смысла» явлений уже само по себе дает возможность составить такое
представление о действительности, которое отвечает интересам народа. Чем шире круг
общественно важных явлений, охваченный художником, чем глубже проникает
художник в смысл этих явлений и чем живее изображены они им, тем полнее и ярче
выражаются в его творчестве «естественные стремления народа». Соответствие
идей, объективно содержащихся в художественном произведении, «естественным
стремлениям народа» и является для Добролюбова «мерою достоинства» писателя
или отдельного произведения.
Признание внутренней связи художественной правды с «естественными
стремлениями народа» служило Добролюбову основанием для вывода, что правдивое
отображение жизни в искусстве отвечает интересам народа и в том случае, если
сам художник не принадлежит к «партии народа в литературе». «Реальная
критика» Добролюбова была блестящим образцом использования художественной силы
русской реалистической литературы для пропаганды революционных идей.
ТЕМНОЕ ЦАРСТВО
(Сочинения А. Островского. Два тома. Спб., 1859 г.)
[...] В произведениях талантливого художника, как бы они ни были
разнообразны, всегда можно примечать нечто общее, характеризующее все
их и отличающее их от произведений других писателей. На техническом
языке искусства принято называть это миросозерцанием художника. Но
напрасно стали бы мы хлопотать о том, чтобы привести это миросозерцание
в определенные логические построения, выразить его в отвлеченных
формулах. Отвлеченностей этих обыкновенно не бывает в самом сознании
художника; нередко даже в отвлеченных рассуждениях он высказывает
понятия, разительно противоположные тому, что выражается в его
художественной деятельности,— понятия, принятые им на веру или добытые
им посредством ложных, наскоро, чисто внешним образом составленных
333
силлогизмов. Собственный же взгляд его на мир, служащий ключом
к характеристике его таланта, надо искать в живых образах, создаваемых
им. Здесь-то и находится существенная разница между талантом
художника и мыслителя. В сущности, мыслящая сила и творческая способность—
обе равно присущи и равно необходимы — и философу и поэту. Величие
философствующего ума и величие поэтического гения равно состоят в том,
чтобы при взгляде на предмет тотчас уметь отличить его существенные
черты от случайных, затем правильно организовать их в своем сознании
и уметь овладеть ими так, чтобы иметь возможность свободно вызывать их
для всевозможных комбинаций. Но разница между мыслителем и
художником та, что у последнего восприимчивость гораздо живее и сильнее. Оба
они почерпают свой взгляд на мир из фактов, успевших дойти до их
сознания. Но человек с более живой восприимчивостью, «художническая
натура», сильно поражается самым первым фактом известного рода,
представившимся ему в окружающей действительности. У него еще нет
теоретических соображений, которые бы могли объяснить этот факт; но он видит,
что тут есть что-то особенное, заслуживающее внимания, и с жадным
любопытством всматривается в самый факт, усваивает его, носит его в своей
душе сначала как единичное представление, потом присоединяет к нему
другие, однородные факты и образы и, наконец, создает тип, выражающий
в себе все существенные черты всех частных явлений этого рода, прежде
замеченных художником. Мыслитель, напротив, не так скоро и не так
сильно поражается. Первый факт нового рода не производит на него живого
впечатления; он большею частию едва% примечает этот факт и проходит
мимо него, как мимо странной случайности, даже не трудясь его усвоить
себе. (Не говорим, разумеется, о личных отношениях: влюбиться,
рассердиться, опечалиться — всякий философ может столь же быстро, при первом
же появлении факта, как и поэт.) Только уже потом, когда много
однородных фактов наберется в сознании, человек с слабой восприимчивостью
обратит на них наконец свое внимание. Но тут обилие частных
представлений, собранных прежде и неприметно покоившихся в его сознании, дает
ему возможность тотчас же составить из них общее понятие и, таким
образом, немедленно перенести новый факт из живой действительности в
отвлеченную сферу рассудка. А здесь уже приискивается для нового понятия
надлежащее место в ряду других идей, объясняется его значение, делаются
из него выводы и т. д. При этом мыслитель — или, говоря проще, человек
рассуждающий — пользуется, как действительными фактами, и теми
образами, которые воспроизведены из жизни искусством художника. Иногда
даже эти самые образы наводят рассуждающего человека на составление
правильных понятий о некоторых из явлений действительной жизни. Таким
образом, совершенно ясным становится значение художественной
деятельности в ряду других отправлений общественной жизни: образы, созданные
художником, собирая в себе, как в фокусе, факты действительной жизни,
весьма много способствуют составлению и распространению между
людьми правильных понятий о вещах.
334
Отсюда ясно, что главное достоинство писателя-художника состоит
в правде его изображений; иначе из них будут ложные выводы, составятся
по их милости ложные понятия. Но как понимать правду художественных
изображений? Собственно говоря, безусловной неправды писатели никогда
не выдумывают: о самых нелепых романах и мелодрамах нельзя сказать,
чтобы представляемые в них страсти и пошлости были безусловно ложны,
то есть невозможны, даже как уродливая случайность. Но неправда
подобных романов и мелодрам именно в том и состоит, что в них берутся
случайные черты действительной жизни, не составляющие ее сущности, ее
характерных особенностей. Они представляются ложью и в том
отношении, что если по ним составлять теоретические понятия, то можно прийти
к идеям совершенно ложным. Есть, например, авторы, посвятившие свой
талант на воспевание сладострастных сцен и развратных похождений;
сладострастие изображается ими в таком виде, что если им поверить, то в нем
одном только и заключается истинное блаженство человека. Заключение,
разумеется, нелепое, хотя, конечно, и бывают действительные люди,
которые по степени своего развития и неспособны понять другого блаженства,
кроме этого... Были другие писатели, еще более нелепые, которые
превозносили доблести воинственных феодалов, проливавших реки крови, сожп-
гавших города и грабивших вассалов своих. В описании подвигов этих
грабителей не было прямой лжи; но они представлены в таком светег
с такими восхвалениями, которые ясно свидетельствуют, что в душе
автора, воспевавшего их, не было чувства человеческой правды. Таким
образом, всякая односторонность и исключительность уже мешает полному
соблюдению правды художником. Следовательно, художник должен или
в полной неприкосновенности сохранить свой простой, младенчески
непосредственный взгляд на весь мир, или (так как это совершенно невозможно
в жизни) спасаться от односторонности возможным расширением своего
взгляда посредством усвоения себе тех общих понятий, которые
выработаны людьми рассуждающими. В этом может выразиться связь знания
с искусством. Свободное претворение самых высших умозрений в живые
образы и вместе с тем полное сознание высшего, общего смысла во всяком,
самом частном и случайном факте жизни — это есть идеал,
представляющий полное слияние науки и поэзии и доселе еще никем не достигнутый.
Но художник, руководимый правильными началами в своих общих
понятиях, имеет все-таки ту выгоду пред неразвитым или ложно развитым
писателем, что может свободнее предаваться внушениям своей
художественной натуры. Его непосредственное чувство всегда верно указывает
ему на предметы; но когда его общие понятия ложны, то в нем неизбежно
начинается борьба, сомнения, нерешительность, и если произведение его
и не делается оттого окончательно фальшивым, то все-таки выходит
слабым, бесцветным и нестройным. Напротив, когда общие понятия художника
правильны и вполне гармонируют с его натурой, тогда эта гармония и
единство отражаются и в произведении. Тогда действительность отражается в
произведении ярче и живее, и оно легче может привести рассуждающего
335
человека к правильным выводам и, следовательно иметь более значения
для жизни...
[...] Признавая главным достоинством художественного произведения
жизненную правду его, мы тем самым указываем и мерку, которою
определяется для нас степень достоинства и значения каждого литературного
явления. Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя в самую
сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях
различные стороны жизни,— можно решить и то, как велик его талант. Без
этого все толкования будут напрасны. Например, у г. Фета есть талант,
и у г, Тютчева есть талант: как определить их относительное значение?
Без сомнения, не иначе как рассмотрением сферы, доступной каждому из
них. Тогда и окажется, что талант одного способен во всей силе проявиться
только в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы;
а другому доступна, кроме того, и знойная страстность, и суровая энергии
и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и
вопросами нравственными, интересами общественной жизни. В показании
всего этого и должна бы, собственно, заключаться опенка таланта обоих
поэтов. Тогда читатели и без всяких эстетических (обыкновенно очень
туманных) рассуждений поняли бы, какое место в литературе
принадлежит и тому и другому поэту. Так мы полагаем поступить и с
произведениями Островского. Все предыдущее изложение привело нас до сих пор
к признанию того, что верность действительности, жизненная правда
постоянно соблюдаются в произведениях Островского и стоят на первом плане,
впереди всяких задач и задних мыслей. Но этого еще мало: ведь и г. Фет
очень верно выражает неопределенные впечатления природы, и, однако ж,
отсюда вовсе не следует, чтобы его стихи имели большое значение в
русской литературе. Для того чтобы сказать что-нибудь определенное о
таланте Островского, нельзя, стало быть, ограничиться общим выводом, что он
верно изображает действительность; нужно еще показать, как обширна
сфера, подлежащая его наблюдениям, до какой степени важны те стороны
фактов, которые его занимают, и как глубоко проникает он в них. Для
этого-то и необходимо реальное рассмотрение того, что есть в его
произведениях.
[...] Не сравнивая значения Островского с значением Гоголя в истории
нашего развития, мы заметим, однако, что в комедиях Островского, под
влиянием каких бы теорий они ни писались, всегда можно найти черты
глубоко верные и яркие, доказывающие, что сознание жизненной правды
никогда не покидало художника и не допускало его искажать
действительность в угоду теории. А если так, то, значит, и основные черты
миросозерцания художника не могли быть совершенно уничтожены рассудочными
ошибками. Он мог брать для своих изображений не те жизненные факты,
в которых известная идея отражается наилучшим образом, мог давать им
произвольную связь, толковать их не совсем верно; но если
художническое чутье не изменило ему, если правда в произведении сохранена,—
критика обязана воспользоваться им для объяснения действительности, равно
336
как и для характеристики таланта писателя, но вовсе не для брани его за
мысли, которых он, может быть, еще и не имел. Критика должна сказать:
«Вот лица и явления, выводимые автором; вот сюжет пьесы; а вот
смысл, какой, по нашему мнению, имеют жизненные факты, изображаемые
художником, и вот степень их значения в общественной жизни». Из этого
суждения само собою и окажется, верно ли сам автор смотрел на созданные
им образы. Если он, например, силится возвести какое-нибудь лицо во
всеобщий тип, а критика докажет, что оно имеет значение очень частное
и мелкое,— ясно, что автор повредил произведению ложным взглядом на
героя. Если он ставит в зависимости один от другого несколько фактов,
а по рассмотрении критики окажется, что эти факты никогда в такой
зависимости не бывают, а зависят совершенно от других причин,— опять
очевидно само собой, что автор неверно понял связь изображаемых им
явлений. Но и тут критика должна быть очень осторожна в своих
заключениях: если, например, автор награждает в конце пьесы негодяя или
изображает благородного, но глупого человека,— от этого еще очень
далеко до заключения, что он хочет оправдывать негодяев или считает всех
благородных людей дураками. Тут критика может рассмотреть только:
точно ли человек, выставляемый автором как благородный дурак,
действительно таков по понятиям критики об уме и благородстве,— и затем:
такое ли значение придает автор своим лицам, какое имеют они в
действительной жизни?
Таковы должны быть, по нашему мнению, отношения реальной критики
к художественным произведениям; таковы в особенности должны они быть
к писателю при обозрении целой его литературной деятельности. Говоря
об отдельном произведении, критика может увлечься частностями и
ставить в вину писателю то, что им лишь недостаточно выяснено. Но при
общей характеристике частности могут остаться в стороне, и на первом
плане является изображение общего миросозерцания писателя, как оно
выразилось во всей массе его произведений. А как оно выразилось, это
определяется теми предметами и явлениями, которые привлекали к себе
его внимание и сочувствие и послужили материалами для его
изображений. [...]
Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в 9-ти
томах, т. 5, М.~Л., Гослитиздат, 1962, стр. 22—24,
28—29, 70—71.
КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?
(«Накануне», повесть И. С. Тургенева,
«Русский вестник», 1860 г., № 1)
[...] Мы знаем, что чистые эстетики сейчас же обвинят нас в
стремлении навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту.
Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нет, мы ничего автору не навязываем,
337
мы заранее говорим, что не знаем, с какой целью, вследствие каких
предварительных соображений изобразил он историю, составляющую
содержание повести «Накануне». Для нас не столько важно то, что хотел
сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненамеренно,
просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни. Мы дорожим
всяким талантливым произведением именно потому, что в нем можем
изучать факты нашей родной жизни, которая без того так мало открыта
взору простого наблюдателя.
[...] Что падает, что побеждает, что начинает водворяться и преобладать
в нравственной жизни общества,— на это у нас нет другого показателя,
кроме литературы, и преимущественно художественных ее произведений.
Писатель-художник, не заботясь ни о каких общих заключениях
относительно состояния общественной мысли и нравственности, всегда умеет,
однако же, уловить их существеннейшие черты, ярко осветить и прямо
поставить их пред глазами людей размышляющих. Вот почему и полагаем
мы, что как скоро в писателе-художнике признается талант, то есть уменье
чувствовать и изображать жизненную правду явлений, то уже в силу этого
самого признания произведения его дают законный повод к рассуждениям
о той среде жизни, о той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое
произведение. И меркою для таланта писателя будет здесь то, до какой
степени широко захвачена им жизнь, в какой мере прочны и многообъят-
ны те образы, которые им созданы.
Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 6,
1963, стр. 96—97.
ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ
(«Гроза»· Драма в пяти действиях А. Н, Островского, Спб., 1860 г.)
[...] Очевидно, что критика, делающаяся союзницей школяров и
принимающая на себя ревизовку литературных произведений по параграфам
учебников, должна очень часто ставить себя в такое жалкое положение:
осудив себя на рабство пред господствующей теорией, она обрекает себя
вместе с тем и на постоянную бесплодную вражду ко всякому прогрессу,
ко всему новому и оригинальному в литературе. И чем сильнее новое
литературное движение, тем более она против него ожесточается и тем яснее
выказывает свое беззубое бессилие. Отыскивая какого-то мертвого
совершенства, выставляя нам отжившие, индифферентные для нас идеалы,
швыряя в нас обломками, оторванными от прекрасного целого, адепты подобной
критики постоянно остаются в стороне от живого движения, закрывают
глаза от новой, живущей красоты, не хотят понять новой истины,
результата нового хода жизни. Они смотрят свысока на все, судят строго, готовы
обьинять всякого автора за то, что он не равняется с их chefs-cToeuvres,
и нахально пренебрегают живыми отношениями автора к своей публике
338
и к своей эпохе. Это все, видите ли, «интересы минуты»—можно ли
серьезным критикам компрометировать искусство, увлекаясь такими
интересами! Бедные, бездушные люди! как они жалки в глазах человека,
умеющего дорожить делом жизни, ее трудами и благами. Человек
обыкновенный, здравомыслящий берет от жизни, что она дает ему, и отдает ей, что
может; но педанты всегда забирают свысока и парализируют жизнь
мертвыми идеалами и отвлечениями. Скажите, что подумать о человеке,
который при виде хорошенькой женщины начинает вдруг резонировать, что
у нее стан не таков, как у Венеры Милосской, очертание рта не так
хорошо, как у Венеры Медицейской, взгляд не имеет того выражения, какое
находим мы у рафаэлевских мадонн, и т. д. и т. д. Все рассуждения и
сравнения подобного господина могут быть очень справедливы и остроумны, но
к чему могут привести они? Докажут ли они вам, что женщина, о которой
идет речь, не хороша собой? В состоянии ли они убедить вас даже в том,
что эта женщина менее хороша, чем та или другая Венера? Конечно, нет,
потому что красота заключается не в отдельных чертах и линиях, а в общем
выражении лица, в том жизненном смысле, который в нем проявляется.
Когда это выражение симпатично мне, когда этот смысл доступен и
удовлетворителен для меня, тогда я просто отдаюсь красоте всем сердцем и
смыслом, не делая никаких мертвых сравнений, не предъявляя претензий,
освященных преданиями искусства. И если вы хотите живым образом
действовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту,— то умейте
уловить в ней этот общий смысл, это веяние жизни, умейте указать и
растолковать его мне: тогда только вы достигнете вашей цели. То же самое
и с истиною: она не в диалектических тонкостях, не в верности отдельных
умозаключений, а в живой правде того, о чем рассуждаете. Дайте мне
понять характер явления, его место в ряду других, его смысл и значение
в общем ходе жизни, и поверьте, что этим путем вы приведете меня к
правильному суждению о деле гораздо вернее, чем посредством всевозможных
силлогизмов, подобранных для доказательства вашей мысли...
[...] Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы
принимаем то, насколько служат они выражением естественных стремлений
известного времени и народа. Естественные стремления человечества,
приведенные к самому простому знаменателю, могут быть выражены в двух
словах: «чтоб всем было хорошо». Понятно, что, стремясь к этой цели,
люди, по самой сущности дела, сначала должны были от нее удалиться:
каждый хотел, чтоб ему было хорошо, и, утверждая свое благо, мешал
другим; устроиться же так, чтоб один другому не мешал, еще не умели. Так
неопытные танцоры не умеют распорядиться своими движениями и
беспрестанно сталкиваются с другими парами, даже в довольно пространной
зале. После, попривыкши, они станут лучше расходиться даже и в зале
меньшего объема и при большем количестве танцующих. Но пока они не
приобрели ловкости, до тех пор, разумеется, и невозможно допустить,
чтобы в зале пускались в вальс многие пары, чтобы не переколотиться друг
об друга; необходимо многим пережидать, а самым неловким и вовсе
339
отказаться от танцев и, может быть, сесть за карты, проиграть, и даже
много... Так было и в устройстве жизни: более ловкие продолжали
отыскивать свое благо, другие сидели, принимались за то, за что не следовало,
проигрывали; общий праздник жизни нарушался с самого начала; многим
стало не до веселья; многие пришли к убеждению, что к веселью только
те и призваны, кто ловко танцует. А ловкие танцоры, устроившие свое
благосостояние, продолжали следовать естественному влечению и забирали
себе все больше простора, все больше средств для веселья. Наконец они
теряли меру; остальным становилось от них очень тесно, и они вскакивали
со своих мест и подпрыгивали — уже не затем, чтобы танцевать хотели,
а просто потому, что им даже сидеть-то стало неловко. А между тем в этом
движении оказалось, что и между ними есть люди, не лишенные некоторой
легкости,— и те пробовали вступить в круг веселящихся. Но
привилегированные, первоначальные танцоры смотрели на них уже очень
неприязненно, как на непризванных, и не пускали их в круг. Начиналась борьба,
разнообразная, долгая, большею частию неблагоприятная для новичков;
их осмеивали, отталкивали, их осуждали платить издержки праздника,
у них отнимали их дам, а у дам кавалеров, их совсем прогоняли с праздника.
Но чем хуже становится людям, тем они сильнее чувствуют нужду, чтоб
было хорошо. Лишениями не остановишь требований, а только
раздражишь; только принятие пищи может утолить голод. До сих пор поэтому
борьба не кончена; естественные стремления, то как будто заглушаясь, то
появляясь сильнее, все ищут своего удовлетворения. В этом состоит
сущность истории.
Во все времена и во всех сферах человеческой деятельности появлялись
люди, настолько здоровые и одаренные натурою, что естественные
стремления говорили в них чрезвычайно сильно, незаглушаемо. В практической
деятельности они часто делались мучениками своих стремлений, но никогда
не проходили бесследно, никогда не оставались одинокими, в общественной
деятельности они приобретали партию, в чистой науке делали открытия,
в искусствах, в литературе образовали школу. Не говорим о деятелях
общественных, которых роль в истории всякому должна быть понятна
после того, что мы сказали на предыдущей странице. Но заметим, что
и в деле науки и литературы за великими личностями всегда сохранялся
тот характер, который мы обозначили выше,—- сила естественных, живых
стремлений. С искажением этих стремлений в массе совпадает водворение
многих нелепых понятий о мире и человеке; эти понятия в свою очередь
мешали общему благу.
Чтобы не заходить далеко, вспомним, сколько зла причинили
человечеству нелепости фетишизма и всякого рода космогонические бредни, а
потом астрологические и кабалистические мистерии на разные лады. Люди
чистой науки, делавшие астрономические и физические открытия или
установлявшие новые философские начала, умели слушать голос
естественных, здравых требований ума и помогали человечеству избавляться от
тех или других искусственных комбинаций, вредивших устройству общего
340
благоденствия. С каждым из этих людей человечество делало новый шаг
в развитии правильных, естественных понятий, и по важности этих шагов
можем мы определять личное достоинство каждого деятеля. То же самое
прилагается и к людям прикладных знаний, техникам, механикам,
агрономам, врачам и пр. То же видим и в области искусств, и в литературе.
Литератору до сих пор предоставлена была небольшая роль в этом
движении человечества к естественным началам, от которых оно отклонилось.
По существу своему литература не имеет деятельного значения, она только
или предполагает то, что нужно сделать, или изображает то, что уже
делается и сделано. В первом случае, то есть в предположениях будущей
деятельности, она берет свои материалы и основания из чистой науки; во
втором — из самых фактов жизни. Таким образом, вообще говоря, литература
представляет собою силу служебную, которой значение состоит в
пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она пропагандирует. В
литературе, впрочем, являлось до сих пор несколько деятелей, которые в своей
пропаганде стоят так высоко, что их не превзойдут ни практические
деятели для блага человечества, ни люди чистой науки. Эти писатели были
одарены так богато природою, что умели как бы по инстинкту
приблизиться к естественным понятиям и стремлениям, которых еще только искали
современные им философы с помощью строгой науки. Мало того: то, что
философы только предугадывали в теории, гениальные писатели умели это
схватывать в жизни и изображать в действии. Таким образом, служа
полнейшими представителями высшей степени человеческого сознания в
известную эпоху и с этой высоты обозревая жизнь людей и природы и рисуя
ее перед нами, они возвышались над служебного ролью литературы и
становились в ряд исторических деятелей, способствовавших человечеству
в яснейшем сознании его живых сил и естественных наклонностей. Таков
был Шекспир. Многие из его пьес могут быть названы открытиями в
области человеческого сердца; его литературная деятельность подвинула общее
сознание людей на несколько ступеней, на которые до него никто не
поднимался и которые только были издали указываемы некоторыми
философами. И вот почему Шекспир имеет такое всемирное значение: им
обозначается несколько новых ступеней человеческого развития. Но зато
Шекспир и стоит вне обычного ряда писателей; имена Данте, Гёте, Байрона
часто присоединяются к его имени, но трудно сказать, чтоб в каждом из
них так полно обозначалась целая новая фаза общечеловеческого
развития, как в Шекспире. Что же касается до обыкновенных талантов, то для
них именно остается та служебная роль, о которой мы говорили. Не
представляя миру ничего нового и неведомого, не намечая новых путей в
развитии всего человечества, не двигая его даже и на принятом пути, они
должны ограничиваться более частным, специальным служением: они
приводят в сознание масс то, что открыто передовыми деятелями человечества,
раскрывают и проясняют людям то, что в них живет еще смутно и
неопределенно. Обыкновенно это происходит не так, впрочем, чтобы литератор
заимствовал у философа его идеи, потом проводил их в своих произведениях.
341
Нет, оба они действуют самостоятельно, оба исходят из одного начала —
действительной жизни, но только различным образом принимаются за
дело. Мыслитель,, замечая в людях, например, недовольство настоящим
их положением, соображает все факты и старается отыскать новые начала,
которые бы могли удовлетворить возникающие требования. Литератор-
поэт, замечая то же недовольство, рисует его картину так живо, что общее
внимание, остановленное на ней, само собою наводит людей на мысль о том,
что же именно им нужно. Результат один, и значение двух деятелей было
бы одно и то же; но история литературы показывает нам, что, за немногими
исключениями, литераторы обыкновенно опаздывают. Тогда как
мыслители, привязываясь к самым незначительным признакам и неотступно
преследуя попавшуюся мысль до самых последних ее оснований, нередко
подмечают новое движение в самом еще ничтожном его зародыше,—
литераторы по большей части оказываются менее чуткими: они подмечают
и рисуют возникающее движение тогда уже, когда оно довольно явственно
и сильно. Зато, впрочем, они ближе к понятиям массы и больше имеют
в ней успеха: они подобны барометру, с которым всякий справляется,
между тем как метеоролого-астрономических выкладок и предвещаний никто
не хочет знать. Таким образом, признавая за литературою главное
значение пропаганды, мы требуем от нее одного качества, без которого в ней
не может быть никаких достоинств, именно — правды. Надо, чтобы факты,
из которых исходит автор и которые он представляет нам, были переданы
тверно. Как скоро этого нет, литературное произведение теряет всякое
значение, оно становится даже вредным, потому что служит не к
просветлению человеческого сознания, а, напротив, еще к большему помраченью.
И тут уже напрасно стали бы мы отыскивать в авторе какой-нибудь талант,
кроме разве таланта враля. В произведениях исторического характера
правда должна быть фактическая; в беллетристике, где происшествия
вымышлены, она заменяется логическою правдою, то есть разумной
вероятностью и сообразностью с существующим ходом дел.
Но правда есть необходимое условие, а еще не достоинство
произведения. О достоинстве мы судим по широте взгляда автора, верности
понимания и живости изображения тех явлений, которых он коснулся. И
прежде всего, по принятому нами критерию, мы различаем авторов, служащих
представителями естественных, правильных стремлений народа, от
авторов, служащих органами разных искусственных тенденций и требований.
Мы уже видели, что искусственные общественные комбинации, бывшие
следствием первоначальной неумелости людей в устройстве своего
благосостояния, во многих заглушили сознание естественных потребностей.
В литературах всех народов мы находим множество писателей, совершенно
преданных искусственным интересам и нимало не заботящихся о
нормальных требованиях человеческой природы. Эти писатели могут быть и не
лжецы; но произведения их тем не менее ложны, и в них мы не можем
признать достоинств, разве только относительно формы. Все, например,
певцы иллюминаций, военных торжеств, резни и грабежа по приказу
342
какого-нибудь честолюбца, сочинители льстивых дифирамбов, надписей и
мадригалов — не могут иметь в наших глазах никакого значения, потому
что они весьма далеки от естественных стремлений и потребностей
народных. В литературе они то же в сравнении с истинными писателями, что
в науке астрологи и алхимики пред истинными натуралистами, что сонники
пред курсом физиологии, гадательные книжки пред теорией вероятностей.
Между авторами, не удаляющимися от естественных понятий, мы
различаем людей, более или менее глубоко проникнутых насущными
требованиями эпохи, более или менее широко обнимающих движение, совершающееся
в человечестве, и более или менее сильно ему сочувствующих. Тут степени
могут быть бесчисленны. Один автор может исчерпать один вопрос, другой
десять, третий может все их подвести под один высший вопрос и его
поставить на разрешение, четвертый может указать на вопросы, которые
поднимаются еще за разрешением этого высшего вопроса, и т. д. Один может
холодно, эпически излагать факты, другой с лирической силой ополчаться
на ложь и воспевать добро и правду. Один может брать дело с поверхности
и указывать надобность внешних и частных поправок; другой может
забирать все с корня и выставлять на вид внутреннее безобразие и
несостоятельность предмета или внутреннюю силу и красоту нового здания,
воздвигаемого при новом движении человечества. Сообразно с широтою взгляда
и силою чувства авторов будет разниться и способ изображения предметов
и самое изложение у каждого из них. Разобрать это отношение внешней
формы к внутренней силе уже нетрудно; самое главное для критики —-
определить, стоит ли автор в уровень с теми естественными стремлениями,
которые уже пробудились в народе или должны скоро пробудиться по
требованию современного порядка дел; затем — в какой мере умел он их
донять и выразить и взял ли он существо дела, корень его, или только
внешность, обнял ли общность предмета или только некоторые его стороны.
Считаем излишним распространяться о том, что мы здесь разумеем не
теоретическое обсуждение, а поэтическое представление фактов жизни.
В прежних статьях об Островском мы достаточно говорили о различии
отвлеченного мышления от художнического способа представления.
Повторим здесь только одно замечание, необходимое для того, чтобы поборники:
чистого искусства не обвинили нас опять в навязыванье художнику
«утилитарных тем». Мы нисколько не думаем, чтобы всякий автор должен был
создавать свои произведения под влиянием известной теории; он может быть
каких угодно мнений, лишь бы талант его был чуток к жизненной правде.
Художественное произведение может быть выражением известной идеи
не потому, что автор задался этой идеей при его создании, а потому, что
автора его поразили такие факты действительности, из которых эта идея
вытекает сама собою. Таким образом, например, философия Сократа
и комедии Аристофана в отношении к религиозному учению греков
служат выражением одной и той же общей идеи — разрушения древних
верований; но вовсе нет надобности думать, что Аристофан задавал себе
именно эту цель для своих комедий: она достигается у него просто картиною
343
греческих нравов того времени. Из его комедий мы решительно
убеждаемся, что в то время, когда он писал, царство греческой мифологии уже
прошло, то есть он практически приводит нас к тому, что Сократ и Платон
доказывают философским образом. Такова и вообще бывает разница в
способе действия произведений поэтических и собственно теоретических. Она
соответствует разнице в самом способе мышления художника и
мыслителя: один мыслит конкретным образом, никогда не теряя из виду частных
явлений и образов, а другой стремится все обобщить, слить частные
признаки в общей формуле. Но существенной разницы между истинным
знанием и истинной поэзией быть не может: талант есть принадлежность
натуры человека, и потому он, несомненно, гарантирует нам известную
силу и широту естественных стремлений в том, кого мы признаем
талантливым. Следовательно, и произведения его должны создаваться под
влиянием этих естественных, правильных потребностей натуры; сознание
нормального порядка вещей должно быть в нем ясно и живо, идеал его прост
и разумен, и он не отдаст себя на служение неправде и бессмыслице, не
потому, чтобы не хотел, а просто потому, что не может,— не выйдет у него
ничего хорошего, если он и вздумает понасиловать свой талант. Подобно
Валааму, захочет он проклинать Израиля, и против его воли в
торжественную минуту вдохновения в его устах явятся благословения вместо
проклятий. А если и удастся ему выговорить слово проклятия, то оно лишено
будет внутреннего жара, будет слабо и невразумительно. Нам нечего
ходить далеко за примерами; наша литература изобилует ими едва ли
не более всякой другой. Возьмите хоть Пушкина и Гоголя: как бедны
и трескучи заказные стихотворения Пушкина; как жалки аскетические
попытки Гоголя в литературе! Доброй воли у них было много, но
воображение и чувство не давали достаточно материала для того, чтобы сделать
истинно поэтическую вещь на заказные, искусственные темы. Да и не
мудрено: действительность, из которой почерпает поэт свои материалы
и свои вдохновения, имеет свой натуральный смысл, при нарушении
которого уничтожается самая жизнь предмета и остается только мертвый остов
его. С этим-то остовом и принуждены были всегда оставаться писатели,
хотевшие вместо естественного смысла придать явлениям другой,
противный их сущности.
[...] Читатели «Современника» помнят, может быть, что мы поставили
Островского очень высоко, находя, что он очень полно и многосторонне
умел изобразить существенные стороны и требования русской жизни.
Другие авторы брали частные явления, временные, внешние требования
общества и изображали их с большим или меньшим успехом, как,
например, требование правосудия, веротерпимости, здравой администрации,
уничтожения откупов, отменения крепостного права и пр. Иные авторы брали
более внутреннюю сторону жизни, но ограничивались очень тесным кругом
и подмечали такие явления, которые далеко не имели общенародного
значения. Таково, например, изображение в бесчисленном множестве
повестей людей, ставших по развитию выше окружающей их среды, но
344
лишенных энергии, воли и погибающих в бездействии. Повести эти имели
значение, потому что ясно выражали собою негодность среды, мешающей
хорошей деятельности, и хотя смутно сознаваемое требование
энергического применения на деле начал, признаваемых нами за истину в теории.
Смотря по различию талантов, и повести этого рода имели больше или
меньше значения, но все они заключали в себе тот недостаток, что попадали
лишь в небольшую (сравнительно) часть общества и не имели почти
никакого отношения к большинству. Не говоря о массе народа, даже в средних
слоях нашего общества мы видим гораздо больше людей, которым еще
нужно приобретение и уяснение правильных понятий, нежели таких,
которые с приобретенными идеями не знают, куда деваться. Поэтому значение
указанных повестей и романов остается весьма специальным и
чувствуется более для кружка известного сорта, нежели для большинства.
Нельзя не сознаться, что дело Островского гораздо плодотворнее: он захватил
такие общие стремления и потребности, которыми проникнуто все русское
общество, которых голос слышится во всех явлениях нашей жизни,
которых удовлетворение составляет необходимое условие нашего дальнейшего
развития. Мы не станем теперь повторять того, о чем говорили подробно
в наших первых статьях; но кстати заметим здесь странное недоумение,
происшедшее относительно наших статей у одного из критиков «Грозы» —
г. Аполлона Григорьева. Нужно заметить, что г. А. Григорьев — один из
восторженных почитателей таланта Островского; но — должно быть, от
избытка восторга — ему никогда не удается высказать с некоторой
ясностью, за что же именно он ценит Островского. Мы читали его статьи
и никак не могли добиться толку. Между тем, разбирая «Грозу», г.
Григорьев посвящает нам несколько страничек и обвиняет нас в том, что мы
прицепили ярлычки к лицам комедий Островского, разделили все их на
два разряда: самодуров и забитых личностей, и в развитии отношений
между ними, обычных в купеческом быту, заключили все дело нашего
комика. Высказав это обвинение, г. Григорьев восклицает, что нет, не в
этом состоит особенность и заслуга Островского, а в народности. Но в чем
же состоит народность, г. Григорьев не объясняет, и потому его реплика
показалась нам очень забавною. Как будто мы не признавали народности
у Островского! Да мы именно с нее и начали, ею продолжали и кончили.
Мы искали, как и насколько произведения Островского служат выражением
народной жизни, народных стремлений: что это, как не народность? Только
что мы не кричали про нее с восклицательными знаками через каждые две
строки, а постарались определить ее содержание, чего г. Григорьеву не
заблагорассудилось ни разу сделать. А если б он это попробовал, то, может
быть, пришел бы к тем же результатам, которые осуждает у нас, и не стал
бы попусту обвинять нас, будто мы заслугу Островского заключаем в
верном изображении семейных отношений купцов, живущих по старине.
Всякий, кто читал наши статьи, мог видеть, что мы вовсе не купцов только
имели в виду, указывая на основные черты отношений, господствующих
в нашем быте и так хорошо воспроизведенных в комедиях Островского»
345
Современные стремления русской жизни в самых обширных размерах
находят свое выражение в Островском, как комике, с отрицательной
стороны. Рисуя нам в яркой картине ложные отношения со всеми их
последствиями, он чрез то самое служит отголоском стремлений, требующих
лучшего устройства. Произвол с одной стороны и недостаток сознания
прав своей личности с другой,— вот основания, на которых держится все
безобразие взаимных отношений, развиваемых в большей части комедий
Островского; требования права, законности, уважения к человеку — вот
что слышится каждому внимательному читателю из глубины этого
безобразия. Что же, разве вы станете отрицать обширное значение этих
требований в русской жизни?
[...] Существование этих требований так ясно, что даже в литературе
нашей они выразились немедленно, как только оказалась фактическая
возможность их проявления. Сказались они и в комедиях Островского,
с полнотою и силою, какую мы встречали у не многих авторов.
[...] Чтобы не распространяться об этом, заметим одно: требование
права, уважение личности, протест против насилия и произвола вы находите
во множестве наших литературных произведений последних лет; но в них
большею частию дело не проведено жизненным, практическим образом,
почувствована отвлеченная, философская сторона вопроса и из нее все
выведено, указывается право, а оставляется без внимания реальная
возможность. У Островского не то: у него вы находите не только
нравственную, но и житейскую, экономическую сторону вопроса, а в этом-то и
сущность дела. У него вы ясно видите, как самодурство опирается на толстой
мошне, которую называют «божиим благословением», и как безответность
людей перед ним определяется материальною от него зависимостью. Мало
того, вы видите, как эта материальная сторона во всех житейских
отношениях господствует над отвлеченною и как люди, лишенные
материального обеспечения, мало ценят отвлеченные права и даже теряют ясное
сознание о них. В самом деле — сытый человек может рассуждать
хладнокровно и умно, следует ли ему есть такое-то кушанье; но голодный рвется
к пище, где ни завидит ее и какова бы она ни была. Это явление,
повторяющееся во всех сферах общественной жизни, хорошо замечено и понято
Островским, и его пьесы яснее всяких рассуждений показывают
внимательному читателю, как система бесправия и грубого, мелочного эгоизма,
водворенная самодурством, прививается и к тем самым, которые от него
страдают; как они, если мало-мальски сохраняют в себе остатки энергии,
стараются употребить ее на приобретение возможности жить
самостоятельно и уже не разбирают при этом ни средств, ни прав.
[...] «Гроза» есть, без сомнения, самое решительное произведение
Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней
до самых трагических последствий; и при всем том большая часть
читавших и видавших эту пьесу соглашается, что она производит впечатление
менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского (не говоря,
разумеется, об его этюдах чисто комического характера). В «Грозе» есть
346
даже что-то освежающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему
мнению, фон пьесы, указанный нами и обнаруживающий шаткость и
близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисующийся на
этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, которая открывается нам
в самой ее гибели.
Дело в том, что характер Катерины, как он исполнен в «Грозе»,
составляет шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но
и во всей нашей литературе. Он соответствует новой фазе нашей народной
жизни, он давно требовал своего осуществления в литературе, около него
вертелись наши лучшие писатели; но они умели только понять его
надобность и не могли уразуметь и почувствовать его сущности; это сумел
сделать Островский. Ни одна из критик на «Грозу» не хотела или не умела
представить надлежащей оценки этого характера; поэтому мы решаемся
еще продлить нашу статью, чтобы с некоторой обстоятельностью изложить,
как мы понимаем характер Катерины и почему создание его считаем так
важным для нашей литературы.
Русская жизнь дошла наконец до того, что добродетельные и
почтенные, но слабые и безличные существа не удовлетворяют общественного
сознания и признаются никуда не годными. Почувствовалась неотлагаемая
потребность в людях хотя бы и менее прекрасных, но более деятельных
и энергичных. Иначе и невозможно: как скоро сознание правды и права,
здравый смысл проснулись в людях, они непременно требуют не только
отвлеченного с ним согласия (которым так блистали всегда
добродетельные герои прежнего времени), но и внесения их в жизнь, в деятельность.
Но чтобы внести их в жизнь, надо побороть много препятствий,
подставляемых Дикими, Кабановыми и т. п.; для преодоления препятствий нужны
характеры предприимчивые, решительные, настойчивые. Нужно, чтобы
в них воплотилось, с ними слилось то общее требование правды и права,
которое наконец прорывается в людях сквозь все преграды, поставленные
Дикими-самодурами. Теперь большая задача представлялась в том, как же
должен образоваться и проявиться характер, требуемый у нас новым
фазисом общественной жизни. Задачу эту пытались разрешать наши писатели,
но всегда более или менее неудачно. Нам кажется, что все их неудачи
происходили от того, что они просто логическим процессом доходили до
убеждения, что такого характера ищет русская жизнь, и затем кроили его
сообразно со своими понятиями о требованиях доблести вообще и русской
в особенности.
[...] Не так понят и выражен русский сильный характер в «Грозе». Он
прежде всего поражает нас своею противоположностью всяким самодурным
началам. Не с инстинктом буйства и разрушения, но и не с практической
ловкостью улаживать для высоких целей свои собственные делишки, не
с бессмысленным трескучим пафосом, но и не с дипломатическим
педантским расчетом является он перед нами. Нет, он
сосредоточенно-решителен, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры
в новые идеалы и самоотвержен — в том смыслв5 что ему лучше гибель,
347
нежели жизнь при тех началах, которые ему противны. Он водится
не отвлеченными принципами, не практическими соображениями, не
мгновенным пафосом, а просто натурою, всем существом своим. В этой
цельности и гармонии характера заключается его сила и существенная
необходимость его в то время, когда старые, дикие отношения, потеряв всякую
внутреннюю силу, продолжают держаться внешнею механическою
связью. Человек, только логически понимающий нелепость самодурства
Диких и Кабановых, ничего не сделает против них уже потому, что пред
ними всякая логика исчезает; никакими силлогизмами вы не убедите цепь,
чтоб она распалась на узнике, кулак, чтобы от него не было больно
прибитому; так не убедите вы и Дикого поступать разумнее, да не убедите и его
домашних — не слушать его прихотей: приколотит он их всех, да и
только,— что с этим делать будешь? Очевидно, что характеры, сильные одной
логической стороной, должны развиваться очень убого и иметь весьма
слабое влияние на жизненную деятельность там, где всею жизнью
управляет не логика, а чистейший произвол. Не очень благоприятно господство
Диких и для развития людей, сильных так называемым практическим
смыслом. Что ни говорите об этом смысле, но, в сущности, он есть не что
иное, как уменье пользоваться обстоятельствами и располагать их в свою
пользу. Значит, практический смысл может вести человека к прямой и
честной деятельности только тогда, когда обстоятельства располагаются
сообразно с здравой логикой и, следовательно, с естественными
требованиями человеческой нравственности. Но там, где все зависит от грубой
силы, где неразумная прихоть нескольких Диких или суеверное упрямство
какой-нибудь Кабановой разрушает самые верные логические расчеты
и нагло презирает самые первые основания взаимных прав, там уменье
пользоваться обстоятельствами очевидно превращается в уменье
применяться к прихотям самодуров и подделываться под все их нелепости, чтобы
и себе проложить дорожку к их выгодному положению. Подхалюзины
и Чичиковы — вот сильные практические характеры «темного царства»:
других не развивается между людьми чисто практического закала под
влиянием господства Диких. Самое лучшее, о чем можно мечтать для этих
практиков, это уподобление Штольцу, то есть уменье обделывать кругленько
свои делишки без подлостей; но общественный живой деятель из них
явится. Не больше надежд можно полагать и на характеры патетические, живу-
гцие минутою и вспышкою. Их порывы случайны и кратковременны; их
практическое значение определяется удачей. Пока все идет согласно их
надеждам, они бодры, предприимчивы; как скоро противодействие сильно,
они падают духом, охладевают, отступаются от дела и ограничиваются
бесплодными, хотя и громкими восклицаниями. И так как Дикой и ему
подобные вовсе не способны отдать свое значение и свою силу без
сопротивления, так как их влияние врезало уже глубокие следы в самом быте
и потому не может быть уничтожено одним разом, то на патетические
характеры нечего и смотреть как на что-нибудь серьезное· Даже при самых
благоприятных обстоятельствах, когда бы видимый успех ободрял их, то
348
есть когда бы самодуры могли понять шаткость своего положения и стали
делать уступки,— и тогда патетические люди не очень много бы сделали!
Они отличаются тем, что, увлекаясь внешним видом и ближайшими
последствиями дела, никогда почти не умеют заглянуть в глубину, в самую
сущность дела. Оттого они очень легко удовлетворяются, обманутые какими-
нибудь частными, ничтожными признаками успеха их начал. Когда же
ошибка их станет ясною для них самих, тогда они делаются
разочарованными, впадают в апатию и ничегонеделанье. Дикой и Кабанова
продолжают торжествовать.
Таким образом перебирая разнообразные типы, являвшиеся в нашей
жизни и воспроизведенные литературою, мы постоянно приходили к
убеждению, что они не могут служить представителями того общественного
движения, которое чувствуется у нас теперь и о котором мы — по
возможности подробно — говорили выше. Видя это, мы спрашивали себя: как же,
однако, определяются новые стремления в отдельной личности? какими
чертами должен отличаться характер, которым совершится решительный
разрыв со старыми, нелепыми и насильственными отношениями жизни?
В действительной жизни пробуждающегося общества мы видели лишь
намеки на решение наших вопросов, в литературе — слабое повторение
этих намеков; но в «Грозе» составлено из них целое, уже с довольно
ясными очертаниями; здесь является перед нами лицо, взятое прямо из жизни,
но выясненное в сознании художника и поставленное в такие положения,
которые дают ему обнаружиться полнее и решительнее, нежели как бывает
в большинстве случаев обыкновенной жизни. Таким образом, здесь нет
дегерротипной точности, в которой некоторые критики обвиняли
Островского; но есть именно художественное соединение однородных черт,
проявляющихся в разных положениях русской жизни, но служащих
выражением одной идеи.
Там же, стр. 302—303, 307—313, 315—317, 319—320,
334—335, 337-339.
ЗАБИТЫЕ ЛЮДИ
Сочинения Ф. М. Достоевского. Два тома. Москва, 1860.
«Униженные и оскорбленные», ром. в 4-х частях
Ф. М. Достоевского, «Время», 1861, I—II.
[...] Но ведь мы знаем, что художник — не пластинка для фотографии,
отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных
произведениях и жизни не было и смысла не было. Художник дополняет
отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в
душе своей частные явления, создает одно стройное целое из
разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных, по-
349
видимому, явлениях, сливает и перерабатывает в общности своего
миросозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой
действительности. Оттого истинный художник, совершая свое создание, имеет его в
душе своей целым и полным, с началом и концом его, с его сокровенными
пружинами и тайными последствиями, непонятными часто для логического
мышления, но открывшимися вдохновенному взору художника. Такими
именно истинный художник представляет свои создания и для других; они
для всех делаются просты, понятны, законны. Вещи, самые чуждые для
нас в нашей привычной жизни, кажутся нам близкими в создании
художника: нам знакомы, как будто родственные, и мучительные искания
Фауста, и сумасшествие Лира, и ожесточение Чайльд-Гарольда; читая их,
мы до того подчиняемся творческой силе гения, что находим в себе силы
даже из-под всей грязи и пошлости, обсыпавшей нас, просунуть голову на
свет и свежий воздух и сознать, что действительно — создание поэта верно
человеческой природе, что так должно быть, что иначе и быть не может...
Разумеется, не все гении, и не от всех можно ожидать подобного эффекта,
но все же до известной степени он есть и в каждом художественном
произведении, и притом поэты с меньшим талантом обыкновенно являются
публике с созданиями, в которых и идеи отразились сравнительно меньшей
важности и обширности; но все же хоть что-нибудь, хоть в самых
маленьких размерах, но отразилось что-нибудь полно и самобытно: иначе нечего
искать в произведении и признаков художественного таланта. [...]
Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 9, 1963,
стр. 233—234.
УТРО. ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК
[...] Под теориею чистой художественности или искусства для
искусства разумеется вовсе не то, когда от литературных произведений
требуется соответствие идеи и формы и художественная отделка внешняя; к этой
теории вовсе не принадлежит то, когда в писателе хотят видеть живую
восприимчивость и теплое сочувствие к явлениям природы и жизни, и
уменье поэтически изображать их, переливать свое чувство в читателя.
Нет, такие требования предъявляет всякий здравомыслящий человек,,
и только на основании их всякая, самая обыкновенная критика произносит
свой суд о таланте писателя. Требования поборников «искусства для
искусства» не то: они хотят — ни больше, ни меньше, как того, чтобы
писатель-художник удалялся от всяких жизненных вопросов, не имел никакого
рассудочного убеждения, бежал от философии, как от чумы, и во что бы то
ни стало — распевал бы, как птичка на ветке, по выражению Гёте, которое
постоянно было их девизом. Остаток здравого смысла не дозволял, однако
же, поклонникам чистой художественности высказывать свои требования
слишком прямо и бесцеремонно. У них доставало рассудка, чтобы
сообразить, что их требования, если их выразить без всяких прикрытий, будут
350
смахивать на требование от писателя того, чтобы он весь век оставался
круглым дураком. Поэтому они до сих пор старались смягчать свою
теорию разными ограничениями и поэтическими обиняками; а противников
своих старались выставить кулаками и если не Чичиковыми, то по малой
мере Собакевичами, которые не умеют понимать ничего прекрасного и не
имеют высокой страсти ни к чему, кроме приобретения материальной
пользы. Благодаря таким эволюциям мнения их получали вид довольно
приличный и обманывали даже многих людей не совсем глупых.
Г. Алмазов * поступает иначе: он не хочет никаких прикрытий и
ограничений и высказывает свои задушевные идеи en toutes lettres. Недаром же
в «Москвитянине» провозглашалась искренность критики! С полной
искренностью г. Алмазов объявляет, что практическая, да и всякая жизнь
противоположна поэзии, так как жизнь есть ряд беспрерывных изменений,
а истинный поэт должен говорить о том, что неизменно. «Он говорит
только о том, о чем призван говорить! О боге, красоте, сердце
человеческом — о том, что неизменно, вечно, что нужно для всех веков и народов»
(стр. 163). Еще резче выражается г. Б. А. о том же предмете в своем
«Взгляде на литтературу 1858 г.». Упомянув о том, что у нас все теперь
хлопочут об общественных улучшениях, в литературе раздаются споры
о вопросах практической важности, г. Б. А. продолжает: «но как бы ни
были полезны эти хлопоты, какие бы прекрасные надежды ни звучали
в этом шуме и спорах, от них бежит поэзия, не терпящая никаких хлопот
и требований» (стр. 57). Далее, опрокидываясь на утилитарную литера-
ТУРУ> г. Б. А. язвительно замечает: «но поклонники чистого искусства
должны все это переносить без ропота и при мысли о современном
состоянии нашей литературы утешать себя следующей перифразою слов Крылова
из басни «Певцы» (то есть в самом-то деле не «Певцы», а «Музыканты»):
Они немножко и дерут,
Но все с прекрасным направленьем.
И этот очень удачный сарказм обращен на современную литературу
не за то, что она слаба (она действительно слаба), а просто за то, что
занимается общественными вопросами. Г. Б. А. решительно не хочет
признать, чтобы в общественной жизни могло быть что-нибудь поэтическое:
он находит поэзию только в неизменном, то есть в неподвижном и
мертвом...
Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 4,
1962, стр. 128-129.
1 Б. Н. Алмазов (1827—1876) — русский поэт и критик, сторонник «чистого
искусства». В 1851—1856 гг.— член «молодой редакции» славянофильского журнала
«Москвитянин». (Прим. сост.)
351
СТИХОТВОРЕНИЯ ИВАНА НИКИТИНА
Спб., 1860
[...] Простые явления простой жизни, насущные требования
человеческой природы, неукрашенное, нормальное существование людей
неразвитых — мы не умеем воспринять поэтически: нам нужно, чтоб все это
непременно облимонено было разными сантиментами и подсахарено
утонченным изяществом,— тогда мы примемся, пожалуй, за этот лимонад. До
Пушкина отвращение от всякого естественного чувства и верного
изображения обыкновенных предметов простиралось до того, что самую природу
старались искажать согласно извращенному вкусу образованной публики.
Пушкин долго возбуждал негодование своей смелостью находить поэзию
не в воображаемом идеале предмета, а в самом предмете, как он есть. Но
сила его таланта, уменье чуять, ловить и воссоздавать естественную
красоту предметов победили дикое упорство фантазеров, и в этом-то
приближении к реализму в природе состоит величайшая литературная заслуга
Пушкина. После него мы стали требовать и от поэзии верности
изображений; после Гоголя это требование усилилось и церенесено от явлений
природы и к явлениям нравственной жизни. Но все еще мы далеко не дошли
до того, чтоб в поэзию допустить всякий предмет, всякое жизненное
чувство; мы отводим для большей части неидеализированных проявлений
натуры область сатиры и далее их не пускаем, называя их «низшими». Я живо
помню слова моего бывшего профессора словесности, полагавшего лирике
такие пределы: «Предметом лирического стихотворения не может быть,
например, досада на то, что я сижу зимой в нетопленной комнате и не
имею сапогов, чтобы выйти на улицу; но может быть, например, сожаление
о смерти друга, восторг при виде великолепного здания, торжественной
процессии и т. п.». Тогда я не мог понять и усвоить всю тонкость этого
различия; но потом, изучив ближе нашу литературу, уразумел лучше
слова почтенного наставника. Дело, оказывается, в том, что претендовать на
поэзию могут только люди, совершенно обеспеченные материально, или —
еще лучше — люди, наслаждающиеся комфортом жизни. Они-то именно
и бывают в состоянии развивать в себе, а следовательно, понимать и в
других те тончайшие, неуловимые, призрачные стремления, печали и
радости, которые составляют содержание поэзии. Люди же бедные, рабочие,
простые, неизбежно оставаясь грубыми и практическими людьми,
очевидно, не способны к деликатным ощущениям и потому должны гибнуть
под тяжестью презренной прозы своей жизни, погрязать в мелочных,
корыстных расчетах и ни под каким видом не посягать на поэзию. Кто бес-
пристрасно пересмотрит все, что у нас называется по преимуществу
поэтическим, то есть всю область нашей лирики, тот согласится, конечно, что
этот сибаритский взгляд до сих пор в ней господствует. И в этом нельзя,
разумется, винить отдельные личности поэтов: весь строй нашей жизни
сложился так, что даже человек, который рад бы душою взяться за
простые мотивы нормальной жизни, не осмеливается решиться на это из
352
боязни профанировать искусство. На первый раз у всякого из
представления обыденных образов выходит памфлет или просто ругательство; нужно
выработать в душе твердое убеждение в необходимости и возможности
полного исхода из настоящего порядка этой жизни, для того чтобы
получить силу изображать ее поэтическим образом, хотя бы и тоном сатиры.
Тогда только обычно неприятные картины грязной нищеты и
соединенных с нею обманов, пошлостей, невежества и даже преступлений
предстанут нам в своем настоящем свете, когда мы добьемся мыслию или
инстинктом до истинных причин их не в одной натуре того или другого
лица, а в целом строе окружающей его жизни. Тогда только сумеем мы
отделить нормальное, человеческое, законное в этих явлениях от всего
насильного, искусственного, случайно им навязанного, и только тогда со
светлой мыслью и с горячим чувством можем мы приступить к
поэтическому воспроизведению этих явлений.
[...] Теперь жизнь со всех сторон предъявляет свои права, реализм
вторгается всюду, назло мистификаторам всякого рода. Жизненный реализм
должен водвориться и в поэзии, и ежели у нас скоро будет замечательный
поэт, то, конечно, уж на этом поприще, а не на эстетических тонкостях.
Восход солнца, пение птичек, блаженство сладострастья, неопределенное
томление о чем-то, воспоминания из мифологии, истории и т. п. теперь
могут быть изображены очень хорошо и доставить минутный успех поэту;
но никогда не привлекут к нему того живого, деятельного и
энергетического сочувствия, которое всегда появляется в обществе к людям нужным
в известную эпоху, не даром живущим на свете.
[...] Дело поэзии — жизнь, живая деятельность, вечная борьба ее и
вечное стремление человека к достижению гармонии с самим собою и с
природой. Давно замечен разлад человека со всем окружающим, и давно
поэзия изображала его. Но причины разлада искали прежде то в
таинственных силах природы, то в дуалистическом устройстве человеческого
существа, и сообразно с этим поэзия разработывала внешнюю природу
и психологический антагонизм человека. Теперь более простой взгляд
входит в общее сознание: обращено внимание на распределение благ
природы между людьми, на организацию общественных отношений. Во всех
науках поэтому разработывается понятие об обществе; поэзия (в
обширном смысле) тоже давно взялась за этот предмет: роман, создание нового
времени, наиболее распространенный теперь изо всех видов поэтических
произведений, прямо вытек из нового взгляда на устройство общественных
отношений как на причину всеобщего разлада, который тревожит теперь
всякого человека, задумавшегося хоть раз о смысле своего существования.
В лирике нашей мы видели до сих пор только начатки и попытки в этом
роде, но отсюда вовсе не следует, чтобы новое содержание поэзии было
недоступно для лирики или несовместно с нею. Нет, оно рано или поздно
овладеет всей областью поэзии; оно одушевит собою и лирику, но только
несколько позднее. Вслед за открытием, что человек мучится и томится,
увлекается и падает, подымается и веселится — не от власти темных сил
12 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) 353
и неизбежной судьбы и не оттого, что в нем сидят два противные начала,
а просто от большей или меньшей неправильности общественных условий,
под которыми он живет,— вслед за этим сознанием необходимо должно
было последовать изучение всех общественных неправильностей. Для
такого изучения прежде всего оказался весьма удобным роман и вообще
эпический род; вместе с тем и драма, прежде имевшая своей задачей
раскрытие психологического антагонизма, также подверглась существенному
изменению и под влиянием новых воззрений превратилась тоже в
изображение общественных отношений. Теперь очередь за лирикой: она давно
уже порывается в ту же область, то прямо избирая эпический сюжет для
маленького стихотвореньица, то пытаясь воспевать чувства,
возбужденные в душе известными явлениями общественной жизни. [...]
Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 6,
стр. 166-167, 168, 176-177.
Н. А. НЕКРАСОВ
1821-1877
Крупнейший поэт русской революционной демократии Николай Алексеевич
Некрасов был страстным поборником общественной роли искусства. Его идеал —
поэт-гражданин, верный сын отечества, выражающий интересы родины и народа.
Активно борясь против идей «чистого искусства», Некрасов призывал поэтов
обратиться к изображению бедствий народной жизни, обрушить свой гнев на
угнетателей, бороться с самодержавием и крепостничеством за свободу и процветание
родины. Он постоянно подчеркивал значение связи литературы с современностью,
актуальности поднимаемых в ней вопросов и был пропагандистом правдивого,
идейно целенаправленного, социально заостренного искусства.
«Нет науки для науки, нет искусства для искусства — все они существуют для
общества, для облагорожения, для возвышения человека, для его обогащения
знанием и материальными удобствами жизни» . Эти слова отчетливо выражают
понимание Некрасовым сущности и назначения литературы и искусства.
Будучи поборником передового, революционно-демократического содержания
литературы, Некрасов огромное значение придавал отточенной художественной
форме, поискам «стиля, отвечающего теме».
Воззрения Некрасова — важное звено в развитии русской
революционно-демократической эстетики. Они тесно связаны с учением Белинского^ Чернышевского
и Добролюбова.
354
* * *
Блажен незлобливый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;
Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе —
Сей пытки творческого духа;
Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.
Дивясь великому уму,
Его не гонят, не злословят,
И современники ему
При жизни памятник готовят...
Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.
Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.
Его преследуют хулы;
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.
И, веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья,—
И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.
355
Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!
Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и
писем, т. I, М., ГИХЛ, 1948, стр. 65—66.
ПОЭТ И ГРАЖДАНИН
[...] Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь...
Иди и гибни безупречно,
Умрешь недаром; дело прочно,
Когда под ним струится кровь...
А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что не имущий хлеба
Не стоит вещих струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер бог в душе людей,
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!
Будь гражданин! служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви;
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи. [...]
(1856)
Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем,
т. II, 1948, стр. 11—12.
ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ (1855)
[...] Литература наша в последнее время при многих своих хороших
сторонах неприятно поражает своим всетерпящим равнодушием, апатиею,
неопределенностию в воззрении своем на такие явления действительности,
о которых, собственно, не должно быть двух разноречивых мнений.
Доказательств этому, к сожалению, слишком много. Станем ли оправдывать
такие повести, которые, представив, например, в данных обстоятельствах
любовь, принесенную в жертву расчету, малодушно отходят в сторону и
356
предоставляют публике решить: хорошо это или худо и т. д.? А таких
повестей теперь довольно, и мы выбрали еще самый не резкий пример; но
ограничимся им; его достаточно, чтоб нас поняли, и спросим: достойна ли
литературы подобная уклончивость? и к чему она? В обществе еще бывают
обстоятельства, где вы принуждены подавать иногда руку человеку
двусмысленному, назвать тот или другой факт не тем именем, которого он
заслуживает,— в литературе не существует такого неудобства. Литература
не должна наклоняться в уровень с обществом в его темных или
сомнительных явлениях. Во что бы ни стало, при каких бы обстоятельствах ни
было, она должна ни на шаг не отступать от своей цели — возвысить
общество до своего идеала — идеала добра, света и истины! [...] Если б искусство,
перестав служить истине единой и вечной, начало служить истине
относительной, идея добра и зла, нравственности и порока смутно стала бы
представляться... Какова бы ни была собственно русская литература и
теперешняя ее деятельность, не забудем, что она во всей своей массе служит
представительницею умственной жизни народа — и будем больше уважать ее,
будем служить ей осмотрительнее! Не забудем, что все те, которые с
университетской или с другой учебной скамейки унесли с собою в отдаленные
и разнообразные пределы отечества большую или меньшую частицу любви
к науке, к литературе, уважения и доверия к умственному труду, все они
следят за вашею деятельностью, ищут в ней разъяснения волнующих их
вопросов, поддержки своим благородным убеждениям, оружия против
невежества и закоренелости! И чем более дадим мы здоровой и
плодотворной пищи их любознательности, их благородной жажде света и истины, тем
прочнее и дольше удержат они в сердце своем любовь ко всему доброму,
справедливому и прекрасному, любовь, так беспощадно охлаждаемую дей-
ствительностию,— и тем благодетельнее будет, в свою очередь, их влияние
на тот круг, в среде которого поставлены они судьбою действовать и
морально первенствовать! [...]
Н. А. Некрасов., Полное собрание сочинений и
писем, т. IX, 1950, стр. 324—326.
[ЗАМЕТКИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ]
[...] Сравнение — поэзия, картина — поэзия, событие может быть
поэтично, природа — поэзия, чувство — поэзия, а мысль — всегда проза, как
плод апализа, изучения, холодного размышления,—но следует ли из этого,
что поэзия должна обходиться без мысли? Дело в том, что эта мысль-проза
в то же время — сила, жизнь, без которых, собственно, и нет истинной
поэзии.
И вот из гармонического сочетания этой мысли-прозы с поэзией и
выходит настоящая поэзия, способная удовлетворить взрослого человека, и — в
этом задача поэта. [...]
Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и
писем, т. XII, 1953, стр. 105.
357
ЭЛЕГИЯ (Α. Η. ЕРАКОВУ)
Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая — «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна,—
Не верьте, юноши! не стареет она.
О, если бы ее могли состарить годы!
Процвел бы божий мир!.. Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет муза,
И в мире нет прочней, прекраснее союза!..
Толпе напоминать, что бедствует народ
В то время, как она ликует и поет,
К народу возбуждать вниманье сильных мира —
Чему достойнее служить могла бы лира?..
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба... [...]
(1874)
Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и
писем, т. II, стр. 392.
ПОДРАЖАНИЕ ШИЛЛЕРУ. П. ФОРМА
Форме дай щедрую дань
Временем: важен в поэме
Стиль, отвечающий теме.
Стих, как монету, чекань
Строго, отчетливо, честно,
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.
(1877)
Там же, стр. 439.
M. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
1826-1889
Эстетические воззрения Михаила Бвграфовича Салтыкова-Щедрина ясно
проявились в его художественных произведениях, но он активно выступал как кри-
358
тик и публицист, пропагандист революционно-демократических идей в русском
искусстве. Вслед за своим учителем Белинским Щедрин был убежденным
сторонником критического реализма. Он разделял взгляды своих друзей и
единомышленников — Чернышевского и Добролюбова.
Важнейшим вопросом, волновавшим Щедрина, был вопрос о взаимоотношении
художника и общества. Писатель считает, что передовое мировоззрение является
непременным условием художественного творчества. Отсутствие его или даже
нечеткость, по мысли Щедрина, «всю творческую деятельность художника сводит к нулю» *.
В своих статьях Щедрин отстаивал общественный характер^ искусства. Он
утверждал, что «талант писателя-художника тогда только развивается и крепнет,
когда его исследования встречают свободный доступ ко всем общественным сферам,
ко всем вопросам, занимающим общество» 2.
Будучи сторонником революционного тенденциозного искусства, Щедрин
энергично выступал против концепции «чистого искусства», полагая при этом, что
творчество апологетов «чистого искусства» тоже тенденциозно, но это — вредная
тенденция. Щедрин вскрывает подлинную природу «чистого искусства» и
антинародный его характер.
Писатель высмеивает «тунеядное празднословие», «мотыльковую поэзию», для
него существует лишь искусство, в основе которого лежит глубокий нравственный
смысл.
Щедрину чужд натурализм, «механическое списывание с натуры». «Мы
замечаем,—писал он,— что произведения реальной школы нам нравятся, возбуждают
в нас участие, трогают нас и потрясают, и это одно уже служит достаточным
доказательством, что в них есть нечто большее, нежели простое умение копировать» 3.
Только открывая сокровенный смысл подлинной жизни, реализм может «войти
в искусство как основной и преобладающий его элемент» 4. Воззрения натуралистов
Щедрин язвительно сравнивал с воззрениями будочников. Беспощадной критике
подверг писатель и так называемый «антинигилистический» роман.
Основным видом художественной деятельности Щедрина была сатира, и
писатель придавал большое - значение проблемам специфики сатирического
произведения, роли гротеска, типизации, назначения и объекта художественного
произведения. В частности, по мнению Щедрина, важность гиперболы объясняется тем, что
«ничто так ярко не характеризует того или другого направления, как так
называемые крайности его» 5.
Эстетические воззрения Щедрина — новый и очень важный этап в развитии
революционно-демократической эстетики.
1 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VIII, M.t
Гослитиздат, 1937, стр. 423.
2 Τ ам же, стр. 463.
3Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. V, М.,
1937, стр. 174.
4 Τ а м же.
5 Н. Щедрин (M. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VIII,
стр. 390.
359
НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. МАЙКОВА
(1864)
Для всех очевидно, что искусство мало-помалу начинает расширять
свои пределы и допускать в свою область такие элементы, которые долгое
время считались ему чуждыми. Искусство жило отдельною от дел сего
мира жизнью; оно направлено было исключительно к тому, чтобы
украшать и утешать, и, надо сказать правду, исполняло свою задачу очень
исправно, то есть обманывало и обольщало, насколько хватало у него сил.
Будучи плодом досужества, оно обращалось исключительно к досужеству
же; услаждало досуги досужих людей, и это сообщало ему тот чистенький,
аристократический характер, который составляет необходимую
принадлежность всякого рода успокоительных веяний и усладительных снов.
[...] По мере вторжения в сферу досужества новых сил прежние
отношения искусства к жизни делаются все более и более невозможными.
Жизнь заявляет претензию стать исключительным предметом для
искусства, и притом не праздничными безмятежно-идиллическими и сладостными,
но и будничными, горькими, режущими глаза сторонами. Мало того: она
претендует, что в этих-то последних сторонах и заключается самая «суть»
человеческой поэзии, что игривые ландшафты и надзвездные пространства
хотя и могут еще, по нужде, оставаться более или менее приятными
аксессуарами, но действительного, истинно человеческого содержания
искусству ни под каким видом дать не могут. Искусство, следуя этой
теории, принимает характер преимущественно человеческий или, лучше
сказать, общественный (так как человек, изолированный от общества,
немыслим) и чем ближе вглядывается в жизнь, чем глубже захватывает
вопросы, ею выдвигаемые, тем достойнее носит свое имя.
Такой крутой переворот в понятиях о значении искусства необходимо
требует новых деятелей, которые, конечно, и являются; но он до того
жизнен и силен, что охватывает собой даже и тех старых
поэтов-художников, которые до тех пор пели исключительно о счастье птиц. Всем хочется
приобщиться к движению, ибо благодаря своей жизненности оно всех
затрагивает за живое, всех неслышно в себя втягивает. [...]
Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание
сочинений в 20-ти томах, т. V, М., 1937, стр. 369—372.
НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
(1864)
[...] Издавна принято видеть в литературе не что иное, как выражение
понятий, стремлений и верований той общественной среды, в которой она
живет и действует. Это верное определение вместе с тем заключает в себе и
совершенно ясную характеристику обязанностей литературы относительно
общества. Если последнее недоумевает и находится на распутий, если оно
360
чувствует свои прежние силы упраздненными, а новых еще не сознает, то
литература обязывается вызвать из тьмы эти новые силы, указать на них
обществу и убедить его, что отныне его существование фаталистически
с ними связано. Никаких других обязанностей литература иметь не может
и не вправе дать обществу ничего иного, кроме того, что таится в нем
самом. Все эти скромные деятели, на которых свысока смотрят наши
выдохшиеся и выболтавшиеся литературные авторитеты, в сущности,
делают единственно почтенное дело, которое доступно в настоящее время
для литературы. Они не лгут и не клевещут на жизнь и не выдают за
истину праздных фантазий подкупленного воображения, но скромно собирают
материалы для будущего творчества, ничего не прибавляя и ничего не
утаивая.
Да, старое искусство падает. Привыкши заявлять свою силу только
в мире вымыслов и более или менее искусственных построений, оно
приходит наконец к сознанию, что вымысел уже никого не удовлетворяет, что
общество жаждет не выдумок, а настоящей жизни, той самой, которая
покамест проявляет себя в отрывках и осколках. Это сознание наводит
многих жрецов на мысль об обновлении, но, увы! на этом поприще с ними
повторяется история, случившаяся с малороссом, у которого спрашивали,
что бы он сделал, если б был царем? «Украл бы сто рублей и утек бы!»
отвечал малоросс. Именно так поступают и представители нашего старого
искусства, ищущие обновиться. Они подозревают, что вокруг них
порождается что-то новое, и, весьма естественно, желают приобщиться к этому
новому; но, приступая к этой новой жизни, они всецело оставляют при
себе свое прежнее миросозерцание и по-старому продолжают думать, что
высшее в мире благо меряется обладанием ста рублей. Понятно, какой
сумбур должен вносить в их произведения этот сторублевый взгляд на
жизнь, которой фонды уже значительно поднялись; понятно, какое тупое
недоумение должно охватывать их самих при взгляде на новые, доселе
им не известные движения жизни. Но понятно также, что, стремясь
создать монумент, они в действительности созидают лишь невзрачное
убежище для застигнутых врасплох проходящих.
[...] Уважение к народу (принимая это выражение в смысле массы)
и служение его интересам представляет, как известно, один из тех богатых
жизненных идеалов, которые могут наполнить собою все содержание
человеческой мысли и деятельности. Это истина, которую могут отрицать лишь
очень ограниченные люди, не понимающие, что все общественные идеалы,
как бы ни было велико их разнообразие, все-таки в окончательном
результате сливаются и сосредоточиваются в одном великом понятии о народе как
о конечной цели всех стремлений и усилий, порабощающей себе даже те
высшие представления о правде, добре и истине, которые успело
выработать человечество.
Н. Щедрин (M. Е. Салтыков), Полное собрание
сочинений, т. VI, М., 1941, стр. 208—209, 213.
361
НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ
(1868)
[...] Взятая в общем фокусе, литература есть тот очаг общественной
мысли, который служит представителем не только насущной физиономии
и насущных потребностей общества, но и тех стремлений, которые в
данную минуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее
существуют бесспорно и должны определить будущую его физиономию.
Она приводит эти стремления в ясность, она отыскивает для них
надлежащие формы, и в особенности важны ее заслуги в этом смысле там, где
замечается недостаток в публичности и где, следовательно, общество
представляет собой не что иное, как собрание разрозненных единиц. Очень
понятно, что такого рода задача может быть выполнена только под
условием известной умственной подготовки, и потому весьма естественно,
что к литературному труду привлекаются лучшие силы общества и что,
в строгом смысле, общественною интеллигенцией может быть названа
не другая какая-нибудь среда, а именно и исключительно среда
литературная.
[...] Литература наша — и это приносит ей величайшую честь — никогда
не предавалась неправде сознательно; напротив того, она постоянно
обнаруживала в этом отношении похвальную брезгливость. Типы, созданные
Гоголем и Тургеневым, были, несомненно, представителями реальной
правды своего времени; все дело в том, что круг этой правды был слишком
ограничен, чтобы дать место достаточному разнообразию мотивов. Нам
могут возразить, что человек сам по себе, в каком бы тесном кругу его ни
заключили, представляет такой разнообразный нравственный мир, в
котором легко найдется место для всевозможных качественных определений.
Но это положительно несправедливо, ибо, исходя из этой теории, мы можем
дойти наконец до дикого человека, до тюрьмы. Чем меньше разнообразия
представляет среда, в которой обращается человек, тем менее дает она
ему впечатлений и тем скуднее становится его нравственный мир.
Некоторые качественные определения могут развиваться не вполне, другие —
получить развитие фальшивое, третьи — совсем заглохнуть. Постепенно
уединяясь, человек может наконец дойти до крайней умственной и
нравственной ограниченности, которая едва ли и не составляет единственный
источник разочарования и озлобления, нередко замечаемого в людях,
к удивлению, признаваемых даже стоящими выше толпы. Следовательно,
не вина писателей, а ограниченность самого круга правды, трудность,
с которой сопряжен был доступ в него освежающей струе, вот
действительная причина бедности мотивов, которою страдала наша литература
сороковых годов. Но приемы их были верны, отношение к изображаемому миру
честно, и в этом смысле предания, которые она оставила молодому
литературному поколению, заслуживают полного уважения. Эти предания
гласят нам: во-первых, что с словом надобно обращаться честно; во-вторых,
что есть нечто худшее, нежели самая худая действительность,— это
предав
намеренная ложь на нее. Можно ли сказать что-нибудь более этого? Можно
ли наметить задачу более серьезную и более трудную для выполнения?
Н. Щедрин (M. Е. Салтыков), Полное собрание
сочинений, т. VIII, М., 1937, стр. 51, 56—57.
УЛИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
(1869)
[...] Литература и пропаганда — одно и то же. Как ни стара эта истина,
однако ж она еще так мало вошла в сознание самой литературы, что
повторить ее вовсе не лишнее. Всякая светлая мысль, брошенная литературою,
всякая новая истина, добытая ею, находит слишком большое количество
прозелитов, чтоб можно было не дорожить этим присущим ей качеством
побеждать мрак и покорять людей, наиболее упорствующих в
предрассудках. Точно то же приблизительно должно сказать и о заблуждениях.
Литература, пропагандирующая бессознательность и беспечальное житие на
авось, конечно, не может иметь особенных шансов навсегда покорить мир
своему влиянию, но она может значительно задержать дело прогресса я
наносить ему по временам такие удары, которые будут тем
чувствительнее, что представители прогресса все-таки люди и в этом качестве к
перенесению ударов не всегда равнодушны.
В особенности важно, в смысле образовательном, влияние той отрасли
литературы, которая называется беллетристикою, потому собственно, что
эта отрасль есть наиболее доступная пониманию большинства. Конечно,
беллетристика не дает читателю той полноты и уверенности знания, к
которым приведет его наука путем доказательств, но влияние беллетристики
все-таки может быть благотворным в том отношении, что она
предрасполагает к исканию истины и заставляет читателя скептически отнестись к тем
неосознанным аксиомам, которыми он до того руководился. По нашему
мнению, это заслуга немаловажная, и только совсем лишенные смысла
люди могут называть беллетристику, как орудие пропаганды, литературою
легкого поведения. Эти люди, очевидно, не понимают, что дело совсем не
в названии и что можно, пожалуй, отыскать и науку легкого поведения,
то есть ту самую, которая служит популяризированию первоначальных
истин, без знакомства с которыми невозможно, однако ж, дальнейшее
движение общества на поприще знания. И беллетристика и наука в этом
случае, конечно, заслуживают название «легких», но воспитательное их
значение от того нисколько не умаляется.
Каждое произведение беллетристики, не хуже любого ученого
трактата, выдает своего автора со всем его внутренним миром. Читая роман,
повести, сатиру, очерк, мы без труда можем определить не только
миросозерцание автора, но и то, в какой степени он развит или невежествен.
Ошибочно думают те, которые утверждают, что интерес беллетристического
произведения исчерпывается одною художественною стороною, одною
363
авторскою способностью живо схватывать признаки того или другого
явления. Выбор явления в этом случае далеко не индифферентен, как равно
не индифферентно д отношение к нему автора... Интерес
беллетристического произведения, при равных художественных силах, всегда
пропорционален степени умственного развития автора.
Что касается до миросозерцания, то хотя в большей части случаев
благодаря еще ходячему учению, будто художественная сила сама по себе
индифферентна, оно не высказывается столь резко, как умственная
развитость и неразвитость авторов, но так как ледяная кора, дававшая
возможность скрывать человеческие симпатии и антипатии, с каждым днем,
с каждым часом становится тоньше и тоньше, то и шансы утаивать их
делаются все менее и менее доступными. Олимпическое равнодушие к
текущим (или, как обыкновенно говорится, временным) интересам
действительности понятно только тогда, когда интересы эти устраиваются сами
собою, идут своим чередом, по раз заведенному порядку (так было у нас
при крепостном праве) ; но когда действительность втягивает в себя
человека усиленно, когда наступает сознание, что без нашего личного участия
никто нашего дела не сделает, да и само собою оно ни под
каким видом не устроится, тогда необходимость сознать себя гражданином,
необходимость принимать участие в общем течении жизни, а
следовательно, и иметь определенный взгляд на явления ее представляется
настолько настоятельною, что едва ли кто-нибудь может уклониться от нее.
И чем пристальнее художник вникает в эти текущие интересы, которые он
не без презрительной улыбки именовал временными, тем более убеждается,
что это суть интересы не менее важные, нежели те, которые он,
переносясь в другую сферу, несколько напыщенно называл вечными, и что, в
конечном анализе, не может существовать того мелкого человеческого
интереса, который бы не был интересом вечным уже по тому одному, что он
интерес человеческий.
Эта необходимость относиться к явлениям жизни под тем или иным
углом зрения, укрепленная воспитанием и всею совокупностью жизненных
условий, нимало не может служить стеснением для творческой
деятельности художника, а, напротив того, открывает ей новые горизонты,
оплодотворяет ее, дает ей смысл. Художник становится существом не только
созерцающим, но и мыслящим, не только страдательно принимает своею
грудью лучи жизни, но и резонирует их. Ничто в такой степени не
возбуждает умственную деятельность, не заставляет открывать новые стороны
предметов и явлений, как сознательные симпатии или антипатии. Без этой
подстрекающей силы художественное воспроизведение действительности
было бы только бесконечным повторением описания одних и тех же
признаков. Нам могут, конечно, сказать, что в этих симпатиях и антипатиях
именно и находится источник всевозможных преувеличений,— такое
возражение, конечно, во многих случаях не лишено будет правдивости, но
в том-то и дело, что от этих преувеличений должно предостеречь писателя
то чувство меры, то критическое отношение к жизненному материалу,
364
в которых, собственно, и заключается мерило истинной силы художника.
Как бы то ни было, однако ж, впадет ли художник в преувеличения или
остережется от них, это обстоятельство может иметь влияние только на
критическую оценку его произведения. В первом случае произведение
будет менее современно, во втором — более. Но закон, в силу которого
писатель-беллетрист не может уклониться от необходимости относиться
к действительности под определенным углом зрения, остается
непререкаемым, и избегнуть его имеет право лишь тот, кто в то же время заявляет
право и на полное невнимание публики.
[...] Искусство имеет не более прав на человека, нежели общество с его
арсеналом законов, обычаев и условных приличий. Искусству не
возбраняется, конечно, проникать во внутреннюю храмину человека, но
экскурсии такого рода могут быть терпимы только в таком случае, когда
художник наверное знает, что он найдет в этой храмине то именно, что ему
нужно, и когда плодом таких экскурсий будет доказательство, то есть соединение
в одном живом образе таких типических черт, из которых ни одна другую
не исключает, ни одна другой не противоречит. Если художник вместо
живого образа находит только сухой перечень мыслей человека, то это
значит, что он забрался в такую сферу, которая ему не под силу, ибо эта
сфера, не изобилуя внешними признаками, поддается только самому тонкому
наблюдению и, во всяком случае, требует, чтобы наблюдатель стоял на
одном уровне с наблюдаемым. [...] Мысль есть функция крайне неуловимая
и колеблющаяся; чтобы иметь возможность с уверенностью сказать, что вот
такая-то мысль составляет существенное и жизненное достояние такого-
то субъекта (а только под таким условием она может подлежать какому бы
то ни было суду), надобно, чтобы она выразилась или в целом ряде
повторительных действий, или хотя и в одиночном действии, но настолько
характерном и решительном, что оно дает поворот целой жизни, или же, наконец,
в полной и строго соглашенной теории. Покуда художник не успел добыть
ни первого, <ни другого, ни третьего, дело его будет неверно, и как бы ни
был пространен и разнообразен перечень мыслей, которыми он обогатит
своего героя, какие бы он ни делал усилия, чтобы уверить читателя, что
герой его мыслит именно так, как об этом свидетельствуется в книжке,
читатель не поверит ему. Он скажет: я верю только тому, что вижу и в чем
убеждаюсь; я не считаю себя вправе ни одобрять, ни порицать таких
мыслей, которые ничем себя не проявили, которые могли зародиться случайно
и умереть в следующую минуту после их зарождения.
Общество, которое в этом смысле можно назвать художником в высшем
значении этого слова, именно так и поступает. Оно простирает свои
притязания на внутренний мир человека только в той мере, в какой этот мир
заявляет себя во внешности, и награждает или карает лишь то, что
действительно обнаружило себя добром или злом. Конечно, нельзя отрицать его
права останавливаться и на некоторых частных признаках этого
внутреннего мира, но, подмечая эти частности, оно получает основание только для
одного и притом самого недостаточного из всех актов, в которых выра-
365
жается способность анализировать и обсуждать человеческие действия,
а именно: для предчувствия и много-много для подозрения. Как бы ни
казалось вероятным предчувствие или подозрение, все-таки оно только
вероятно, а не достоверно. Отсутствие этой достоверности делает очертания
неясными, вводит в них враждебный элемент сомнения. Материал, добытый
этим неверным путем, может дать повод к дальнейшему исследованию,
возбудить желание увеличить ту сумму признаков, которая отчасти уже
собрана, но ни в каком случае не будет достаточным и прочным
материалом для суда. Поэтому общество, обыкновенно столь строгое к
человеческим действиям, гораздо более осторожно и осмотрительно относительно
человеческой мысли. Оно знает, что для действий нет ни возврата, ни
поправки и что мысль, напротив того, воспитывается, развивается и,
следовательно, сама себя каждоминутно поправляет.
Повторяем: примеры истинно художественной силы и приемы
общественного суда в этом случае совершенно одинаковы. Как та, так и другой
тогда только действительно овладевают своим предметом, когда из области
гадательного и произвольного вступают в область достоверности.
Подтасовать признаки, нанизать их целую нить легко может любой адвокат, но
ложь этой подтасовки немедленно обнаружится в тех перерывах, которые
всегда влечет за собой преднамеренная подтасовка и которых не наполнит
искусство самое кропотливое. Мы знаем, что в азбуках найдется довольно
всяких сентенций, с помощью которых можно и возвеличить и убить
человека, но для этого надобно, чтобы эти сентенции, по малой мере, были
предъявлены не в виде истрепанных листочков, случайно заблудившихся
в письменном столе того человека, которого внутренний мир мы положили
себе задачей раскрыть.
Там же, стр. 116—119, 134—136.
ИТОГИ
(1871)
[...]Здоровая традиция всякой литературы, претендующей на
воспитательное значение, заключается в подготовлении почвы будущего. Исследуя
нравственную природу человека, литература не может не касаться и тех
общественных комбинаций, среди которых человек проявляет свою
творческую силу. Хотя с исторической точки зрения эти комбинации
представляют не что иное, как создание самого человека, но то же историческое
тяготение сделало их настолько плотными, что и они в свою очередь могут
или вредить или споспешествовать человеческому развитию. Если б
источник творчества иссяк, то человеку оставалось бы сложить руки и с
покорностью ожидать, ударов судьбы; но изменяемость общественных форм, для
всех видимая и несомненная, доказывает совершенно противное и
предрекает человеческому творчеству обширное будущее. Ежели современный
366
человек зол, кровожаден, завистлив и алчен, если высшие интересы
человеческой природы он подчиняет интересам второстепенным, то это еще
не устраняет возможности такой общественной комбинации, при которой
эти свойства встретят иное применение, а следовательно, примут и иную
складку. Это — искомое, но такое искомое, которое нимало не
противоречит элементам, составляющим человеческую природу, ибо для всякого
наблюдателя общественных явлений и теперь уже ясно, что одно и то же
свойство на разных ступенях общественной иерархии проявляет себя
совершенно различным образом, смотря по тому, в какой обстановке она
находится. Содействовать обретению этого искомого и, не успокоиваясь на
тех формах, которые уже выработала история, провидеть иные, которые
хотя еще не составляют наличного достояния человека, но тем не менее
не противоречат его природе и, следовательно, рано или поздно могут
сделаться его достоянием,— в этом заключается высшая задача
литературы, сознающей свою деятельность плодотворною.
Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего
человека. Утопизм не пугает ее, потому что он может запугать и поставить
в тупик только улицу. Типы, созданные литературой, всегда идут далее
тех, которые имеют ход на рынке, и потому-то именно они и кладут
известную печать даже на такое общество, которое, по-видимому, всецело
находится под гнетом эмпирических тревог и опасений. Под влиянием этих
новых типов современный человек незаметно для самого себя получает
новые привычки, ассимилирует себе новые взгляды, приобретает новую
складку, одним словом — постепенно вырабатывает из себя нового
человека. [...]
Н. Щедрин (M. Е. Салтыков), Полное собрание
сочинений, т. VII, Л., 1935, стр. 454—455.
«СНОПЫ» Я. П. ПОЛОНСКОГО
(1871)
[...] ...Мы утверждаем, что неясность миросозерцания есть недостаток
настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю.
В этом нас убеждают примеры таких великих и общепризнанных
художников, как Сервантес, Гёте, Шиллер, Байрон и другие, которые всегда
полагали в основу своих произведений действительные стремления и нужды
человечества и, сверх того, умели с полною ясностью определить свои
отношения к этим стремлениям и нуждам. Если произведения этих писателей
имели в свое время громадное воспитательное значение, если это значение
и поныне не утратило своей силы, то объяснения этого факта следует
искать именно в их тенденциозности, в том, что они беседовали с
читателями не о сновидениях, а раскрывали перед ними ту жизненную
разрозненность и смуту, под гнетом которых страдало и страдает человечество.
«Дон-Кихот», «Чайльд-Гарольд», «Фауст», «Разбойники» — все это произ-
367
ведения в высшей степени тенденциозные, и, стало быть, требуя от
литературного деятеля, чтобы он избегал оговорок и с полною ясностью
определял свои отношения к вещам мира сего, мы не только не являемся
отрицателями здоровых преданий искусства, но, напротив того, не
отступаем от них ни на шаг. [...]
...Без ясно сознанной идеи художественное произведение является
сбродом случайностей, в котором даже искусно начертанные образы теряют
значительную долю своей цены, потому что не существует органической
связи, которая объяснила бы их участие в общей экономии
художественного произведения... Нет предвзятой идеи (не в смысле пригибания живых
лиц требуем мы предвзятой идеи, а в смысле общих намерений
произведения) — нет и животворящего духа. Разрозненность, случайность, вялость—
вот характеристические качества произведений, отвергающих так
называемую тенденциозность, и не выкупятся эти недостатки никакими
подробностями, как бы искусно и ловко они ни были составлены.
Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание
сочинений, т. VIII, стр. 423—425.
«ЦЫГАНЕ» В. КЛЮШНИКОВА
(1871)
[...] Может ли творить художник, не обладающий никаким
миросозерцанием? Поборники свободы искусства не только отвечают на этот вопрос
утвердительно, но даже полагают, что безразличное отношение к
воспроизводимым явлениям есть наилучшее положение, о котором художник может
мечтать. Мы тоже, со своей стороны, думаем, что это положение очень
выгодное; но для того, чтобы достигнуть его, по нашему мнению,
необходимы два условия. Во-первых, чтобы художник исключил из области
искусства целую категорию явлений умственного и нравственного мира,
законности существования которых, однако ж, отрицать нельзя; и, во-вторых,
чтобы он ограничил сферу искусства одними физическими отправлениями,
то есть низвел уровень искусства до уровня того мира петухов (как,
например, герой разбираемого романа Зарницын) и других низших организмов,
которые действительно живут одною бессознательною жизнью и, конечно,
уже никакого миросозерцания иметь не могут. Что явления нравственного
и умственного мира не могут подлежать воспроизведению человека,
лишенного миросозерцания, это явствует уже из того, что, прежде чем
воспроизводить такие явления, необходимо их понять и оценить, а это невозможно
сделать без собственного миросозерцания. Нравы же и обычаи петухов
действительно можно воспроизводить и без миросозерцания, потому что
тут идет речь лишь о физических отправлениях, для воспроизведения
которых достаточно одной сцособности копировать с прибавкой мелкой,
низменной наблюдательности. [...]
Там же, стр. 453.
368
ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ. КАРТИНЫ НАРОДНОГО БЫТА
С. МАКСИМОВА
(1871)
[...] Талант писателя, художника тогда только развивается и крепнет,
когда его исследования встречают свободный доступ ко всем общественным
сферам, ко всем вопросам, занимающим общество. Но этого еще мало:
самый угол зрения его на исследуемые предметы должен быть изъят от
какого бы то ни было давления. Диккенсы, Шпильгагены, Жорж Занды
вводят за собой читателя всюду и притом не скрывают от него своих
симпатий и антипатий. Никто не удивляется этому, никто не называет их за
это ни нигилистами, ни попирателями авторитетов. Они свободны в своих
воззрениях, свободны в своем творчестве, и потому всякий вправе
требовать, чтобы воззрения их были проведены последовательно и чтобы
творчество их было действительное, живое творчество, а не азбучное. [...]
Там же, стр 463.
КРУГЛЫЙ ГОД
(1879)
[...] Все знания, которыми ты обладаешь, даны тебе литературой; все
понятия, суждения, правила, все, чем ты руководишься в жизни, все
выработано ею. Даже понятие о неблагонамеренности литературы, и то ты
почерпал из нее, а никак не додумался бы до него непосредственно, потому
что, повторяю, без литературы ты ходил бы на четвереньках и лакал бы
болотную воду. Как это ни странно покажется для тебя, но без литературы
не существовало бы ни живописи, ни музыки, ни искусств вообще, потому
что она все разложила, и свет и звук, и она же все сочетала. Не будь того
светоча, который она всюду приносит с собой, и звуки, и краски, и линии —
все было бы смешение, хаос. Даже техника искусств, и та обязана тою
или другою степенью своего совершенства посредничеству литературы,
потому что искусство само по себе немо и разъединено, одна литература
имеет привилегию «гласить во все концы», она одна имеет дар всех
соединять под сению своею, всем давать возможность вкусить от сладостей
общения...
Я страстно и исключительно предан литературе; нет для меня образа
достолюбезнее, достохвальнее, дороже образа, представляемого
литературой; я признаю литературу всецело, со всеми уклонениями и
осложнениями, даже с московскими кликушами. Порою эти осложнения бывают
мучительны, но ведь они пройдут, исчезнут, растают, и, наверное, одни
только усилия честной мысли останутся незыблемыми — таково мое
глубокое убеждение. Не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу,
в ее животворящую мощь — мне было бы больно жить. Я так сжился
с представлением, что литература есть то единственное, заповедное убе-
369
жище, где мысль человеческая имеет всю возможность остаться честною
и незапятнанною, что всякое вторжение в эту сферу, всякая тень
подозрения, накидываемая на нее, кажутся мне жестокими и ничем не
оправданными. Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми
сладкими волнениями ее, всеми утешениями; но я уверен, что не я один,
лично обязанный, а и всякий, кто сознает себя человеком, не может не
понимать, что вне литературы нет ни блага, ни наслаждения, ни даже
самой жизни.
Там же, стр. 219—22Q, 223.
«ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ»
(1882)
[...] Всем нынче стало известно, что слово тогда только оказывает
надлежащее действие, когда оно высказано горячо и проникнуто убеждением, но
что же, кроме совести и основанного на ней миросозерцания, может дать
ему эти качества?..
Писатель не крот, который в темной норе выполняет свое
провиденциальное назначение, а существо общественное и общительное, для
которого полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что
совесть его находится в соответствии с совестью его ближних. [...]
Н. Щедрин (M. Е. Салтыков), Полное собрание
сочинений, т. XIV, М., 1936, стр. 460.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ
(1863)
f..J Одна из главных обязанностей художника заключается в устройстве
внутреннего мира его героев. Человек есть организм сложный, а потому
и внутренний его мир до крайности разнообразен; следовательно, тот
писатель, который населит этот мир признаками совершенно однообразными,
который исчерпает его одной или немногими нотами,— тот писатель,
говорим мы, быть может, нарисует картину очень резкую и даже в известном
смысле рельефную, но вместе с тем, наверное, и безобразную. Нет того
человека на свете, который был бы сплошь злодеем или сплошь
добродетельным, сплошь трусом или сплошь храбрецом и т. д. У самого плохого
индивидуума имеются свои проблески сознания, свои возвраты, свои, быть
может, неясные, но тем не менее отнюдь не выдуманные порывания
к чему-то такому, что зовется справедливостью и добром. Эта-то
нравственная невыдержанность и составляет ту общечеловеческую основу, на
которой художественное чувство, с одной стороны, мирится с безобразием
известных жизненных типов, а с другой стороны, не допускает себя
расплываться в море безразличия и отвлеченностей. Если художник не
370
проникнется этим условием всецело, если он будет видеть в людях носителей
ярлыков или представителей известных фирм, то результатом его работы
будут не живые люди, а тени или по меньшей мере мертвые тела. [...]
Что реализм есть действительно господствующее направление в нашей
литературе — это совершенно справедливо... Но дело в том, что мы иногда
ошибочно понимаем тот смысл, который заключается в слове «реализм»,
и охотно соединяем с ним понятие о чем-то вроде грубого, механического
списывания с натуры, подобно тому как многие с понятием о
материализме соединяют понятие о всякого рода физической сытости.
Это, однако ж, не так. Мы замечаем, что произведения реальной
школы нам нравятся, возбуждают в нас участие, трогают нас и потрясают,
и это одно уже служит достаточным доказательством, что в них есть нечто
большее, нежели простое умение копировать. И действительно, ум
человеческий с трудом удовлетворяется одною голою передачей внешних
признаков; он останавливается на этих признаках только случайно, и притом
лишь на самое короткое время. Везде, даже в самой ничтожной
подробности, он допытывается того интимного смысла, той внутренней жизни,
которые одни только и могут дать факту действительное значение и силу.
Очевидно, что если б реализм не отвечал этой потребности, то он ни под
каким видом н.е мог бы войти в искусство как основной и преобладающий
его элемент.
И в самом деле, истинный реализм не только не потворствует
исключительности и односторонности, но даже положительно враждебен им. Таким
образом, имея в виду человека и дела его, он берет его со всеми его
определениями, ибо все эти определения равно реальны, то есть равно законны
и равно необходимы для объяснения человеческой личности. Обращаться
с ними грубо, выставлять напоказ только те из них, которые сами по себе
выдаются наиболее резко, он не имеет права под опасением впасть в
противоречие с самим собою, под опасением оказаться совершенно
несостоятельным перед тем делом, которое, собственно, и составляет его задачу.
Точно таким же образом, приступая к воспроизведению какого-либо факта,
реализм не имеет права ни обойти молчанием его прошлое, ни отказаться от
исследования (быть может, и гадательного, но тем не менее вполне
естественного и необходимого) будущих судеб его, ибо это прошедшее и
будущее хотя и закрыты для невооруженного глаза, но тем не менее
совершенно настолько же реальны, как настоящее. Конечно, очерчивая таким
образом значение реализма в искусстве, мы очень хорошо понимаем, что
рисуем идеал очень трудно достижимый, но дело не в том, в какой степени
легко или трудно достается та или другая задача искусства, а в том, чтобы
отыскать мерило, которое дало бы нам возможность с большею или
меньшею безошибочностью обращаться с произведениями человеческой мысли
и отдавать себе отчет в том впечатлении, которое они на нас производят.
Н. Щедрин (M. Е. Салтыков), Полное собрание
сочинений, т. V, стр. 163—164, 173—174.
371
СТИХОТВОРЕНИЯ Α. ΦΕΤΑ
(1863)
[...] Это вообще участь всех сильных и энергических талантов—вести за
собой длинный ряд подражателей и последователей, которые охотно овла-
девают пышною ризой богатого патрона, но, не будучи в состоянии
совладать с нею, расщипывают ее по кусочкам. Там, где патрон отзывается на
многочисленные и разнообразные запросы жизни, клиенты его выбирают
какой-нибудь один мотив, и притом по большей части самый слабенький*
и, овладевши им, изувечивают его вконец. И несмотря на то, что в
некоторых из этих второстепенных деятелей отнюдь нельзя отрицать присутствия
таланта, бессилие и ограниченность этого последнего скажется непременно,
и скажется очень скоро. В двух, трех пьесах он выльется весь, со всем
своим внутренним содержанием, и затем вся его дальнейшая поэтическая
деятельность будет не более как повторением задов, иногда даже очень
неловким. [...]
Там же, стр. 552.
РОЛЛА. ПОЭМА А. МЮССЕ
(1864)
[...] Мы думаем, что поэзия сама по себе представляет одну из законных
отраслей умственной человеческой деятельности и что она ничуть не
враждебна ни знанию, ни истине. В подтверждение этой мысли мы можем
привести множество примеров, которые прямо доказывают, что чем выше
и многообъемлющее поэтическая сила, тем реальнее и истиннее ее
миросозерцание. [...]
Там же, стр. 392.
СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ
(1883)
Я надеюсь, что читатель отнесется ко мне снисходительно. Но ежели бы
он напомнил мне об ответственности писателя перед читающей публикой,
то я отвечу ему, что ответственность эта взаимная. По крайней мере
я совершенно искренно убежден, что в большем или меньшем понижении
литературного уровня читатель играет очень существенную роль.
Мысль о солидарности между литературой и читающей публикой не
пользуется у нас кредитом. Как-то чересчур охотно предоставляют у нас
писателю играть роль вьючного животного, обязанности нести бремя
всевозможных ответственностей. Но сдается, что недалеко время, когда для
читателя само собой выяснится, что добрая половина этого бремени должна
пасть и на него.
Н. Щедрин (Μ. Е. Салтыков), Полное собрание
сочинений, т. XV, М., 1940, стр. 295.
372
НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД
(1863)
[...]Не в укор будь сказано критикам-эстетикам, современная русская
критика, приступая к оценке произведений известного писателя, никак не
может оставаться равнодушною к его личности или, лучше сказать, к тому
живому нравственному образу, которого присутствие слышится в его
произведениях. Может быть, это отношение критики к автору и ненормальное;
может быть, оно и в самую оценку литературных произведений вносит
известную долю пристрастия; может быть, оно даже отвлекает критику
от прямой ее задачи и уносит совсем в другую сторону... Все это очень и
очень может быть. Но не надо забывать, что и вообще, и во всякое время
критика современная не может быть критикою потомства, а тем менее
это возможно в такое тревожное и горячее время, какое мы переживаем.
Что там ни говорите, а сфера изящного точно так же следует своим
историческим законам, как и всякая другая сфера человеческой деятельности;
и она подлежит историческим колебаниям, и она фаталистически следует
за интересами жизни и не над нею господствует, не ей предлагает готовое
содержание, но сама у нее это содержание вымаливает. Недаром же самые
рьяные служители так называемого искусства для искусства наперерыв
друг перед другом стараются заявить, что и им не чужды общественные
вопросы; недаром же в настоящее время ни один роман, ни одна повесть
не смеют появиться в свет без какой-нибудь хоть крошечной, хоть невы-
зревшей социальной тенденции; стало быть, иначе нельзя. Но если сам
автор считает невозможным не приурочить себя к тому или другому
общественному направлению, если сам автор громко вопиет: не смешивайте
меня вот с такой-то и с такой-то личностью — я вот кто, вот мои
убеждения, вот мое нравственное или политическое «я», то тем менее возможно
обойти это обстоятельство критике. Производительные силы литературы
находятся в тревожном и напряженном состоянии — весьма естественно,
что эта тревога, эта напряженность охватывает и критика. Автор
стремится показать свету все, что у него накопилось на дне взволнованной
души, а также и все, чего там не накопилось,— критик не имеет ни
малейшего права не сказать своего слова об этом накопленном и ненакопленном;
он должен самому взволнованному автору разъяснить, почему одно
накопилось, другое не накопилось. Тревожное время, тревожная
литература, тревожная и критика. [...]
Н. Щедрин (M. Е. Салтыков), Полное собрание
сочинений, т. V, стр. 259, 260.
Д. И. ПИСАРЕВ
1840-1868
Литературно-критическая и публицистическая деятельность Дмитрия
Ивановича Писарева началась в 1858 г. в журнале «Рассвет». Наиболее важный и плодо-
373
творный ее период относится ко времени сотрудничества Писарева в видном
органе демократической журналистики 60-х годов — журнале «Русское слово» (1861—
1866). Написанная в начале 1862 года и напечатанная в подпольной типографии
статья «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти», содержавшая
прямой революционный призыв к уничтожению царского самодержавия, повлекла
за собой в июле 1862 года арест Писарева и заключение в Петропавловской
крепости, продолжавшееся свыше четырех лет. Многие статьи, опубликованные в
«Русском слове», были написаны Писаревым в заключении. Кроме статей о русской
и западноевропейской литературе XIX века (о произведениях Пушкина,
Островского, Льва Толстого, Достоевского, Щедрина, Чернышевского, Генриха Гейне и других
писателей) перу Писарева принадлежит ряд статей по вопросам философии,
истории, естествознания, политической экономии.
В истории русской эстетики XIX века Писарев занимает своеобразное место.
Причисляя себя к последователям школы Белинского и действительно продолжая
борьбу своих предшественников за идейность и реализм в литературе, Писарев
вместе с тем в решении ряда важных эстетических проблем отступает от
завоеваний революционно-демократической эстетики предшествующего периода и сам
признается, что во многом расходится с Белинским и Добролюбовым.
Своеобразие эстетической позиции Писарева проявилось во взглядах на
прекрасное. Писарев считал прекрасное субъективной категорией: представления
о прекрасном целиком определяются, по его мнению, личными взглядами и
вкусами. Отсюда он делал вывод, что эстетика как наука о прекрасном невозможна,
ибо нельзя привести разнообразные личные вкусы к обязательному единству. Он
пытался при этом доказать, что проповедуемые им взгляды на прекрасное и на
эстетику содержались уже в диссертации Чернышевского, хотя и не были
высказаны автором «Эстетических отношений искусства к действительности»
совершенно ясно и открыто. Писарев ошибался, приписывая Чернышевскому стремление
«разрушить» эстетику как науку. Неверно трактовал он и понятие прекрасного
у Чернышевского: хотя автору «Эстетических отношений» и не удалось в его
определении прекрасного выяснить органическое единство объективного и
субъективного моментов, однако основной тенденцией его при определении прекрасного и
других эстетических категорий было как раз стремление установить такое единство-
Порой Писарев употреблял понятие «эстетика» и «эстетический» в более
широком смысле: он обозначал ими отношение к действительности, основанное не на
размышлении и рациональном критическом анализе, а на бессознательных
влечениях, инстинкте, привычке. Понимаемая таким образом «эстетика» рассматривалась
им как противоположность «реализма», то есть мировоззрения, в основе которого
лежат «сознательность, анализ, критика» (см., например, статью «Реалисты»).
На первый план в понимании искусства и его задач в современную эпоху
Писарев выдвигал принцип общественной пользы; мерилом этой «пользы» было для
него участие в разрешении основного вопроса современности — вопроса «о голодных
и раздетых людях». Вопрос об уничтожении нищеты и улучшении благосостояния
трудящихся масс столь важен, что на нем следует сосредоточить все внимание
общества; необходима поэтому «экономия умственных сил», то есть нужно
отбросить все то, что так или иначе не способствует его решению. Писарев считал, что
374
литература может сыграть значительную роль в решении этого важнейшего вопроса:
правдиво отображая жизнь общества, литература привлекает внимание к острым
общественным проблемам, будит человеческую мысль, возбуждает желание активно
участвовать в усовершенствовании общественных отношений. За другими же видами
искусства Писарев не признавал возможности плодотворного участия в решении
коренных проблем современности.
Придавая решающее значение в историческом прогрессе науке, Писарев
упрощенно трактовал соотношение между искусством и наукой: роль писателей
сводилась им, в сущности, к популяризации передовых идей общественной и
естественнонаучной мысли. Отошел Писарев и от историзма в эстетике-и литературной
критике.
При несомненной односторонности, прямолинейности, упрощенном толковании
многих эстетических проблем, при всех серьезных ошибках, допущенных
Писаревым в оценке ряда явлений русской литературы (такой ошибкой была, в частности,
нигилистическая оценка творчества Пушкина), в эстетике Писарева отразились его
талант, смелость и оригинальность его мысли, ее революционный характер.
РЕАЛИСТЫ
(1864)
XXIV
Последовательный реализм безусловно презирает все, что не приносит
существенной пользы; но слово «польза» мы принимаем совсем не в том
узком смысле, в каком его навязывают нам наши литературные
антагонисты. Мы вовсе не говорим поэту: «шей сапоги», или историку: «пеки
кулебяки», но мы требуем непременно, чтобы поэт как поэт и историк как
историк приносили каждый в своей специальности действительную пользу.
Мы хотим, чтобы создания поэта ясно и ярко рисовали перед нами те
стороны человеческой жизни, которые нам необходимо знать для того,
чтобы основательно размышлять и действовать. Мы хотим, чтобы
исследование историка раскрывало нам настоящие причины процветания и упадка
отживших цивилизаций. Мы читаем книги единственно для того, чтобы
посредством чтения расширить пределы нашего личного опыта. Если книга
в этом отношении не дает нам ровно ничего, ни одного нового факта, ни
одного оригинального взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она
ничем не шевелит и не оживляет нашей мысли, то мы называем такую
книгу пустою и дрянною книгою, не обращая внимания на то, писана ли
она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда с искренним
доброжелательством готовы посоветовать, чтобы он принялся шить сапоги
или печь кулебяки.
Постараемся же теперь обсудить вопрос: каким образом поэт, не
переставая быть поэтом, может принести обществу и человечеству
действительную и несомненную пользу? Само собою разумеется, что название «поэт»
прилагается здесь не к одним стихотворцам, а вообще ко всем художникам,
375
создающим образы посредством слова. Прежде всего скажу откровенно:
я решительно не признаю так называемого бессознательного и бесцельного
творчества. Я подозреваю, что это просто миф, созданный эстетическою
критикою для пущей таинственности. В древности, когда поэт был певцом
и импровизатором, тогда, пожалуй, еще можно было допустить, что его
осеняло вдохновение и что он сам не отдавал себе ясного отчета в том, как
и зачем слагалась его песня. Но теперь, когда поэт носит не хламиду и
лавровый венок, а сюртук и круглую шляпу, теперь, когда он не поет, а пишет
и печатает, теперь, говорю я, уже поздно видеть в поэте близкого
родственника исступленной дельфийской пифии. Поэт прежде всего такой же член
гражданского общества, как и каждый из нас. [...] Когда общество доходит
до известной высоты развития, тогда оно начинает требовать от своих членов,
чтобы у них были определенные и сознательные убеждения и чтобы они
держались за свои убеждения. Кроме обыкновенной честности является
тогда еще высшая честность, честность политическая. Воспитавши в самом
себе великое чувство политической честности, общество начинает вменять
его в обязанность каждому из своих членов, и тем более таким людям,
которые, опираясь на свои умственные дарования, приовоивают себе право
действовать словом или пером на развитие общественных убеждений. [...]
Но одной голой честности и великого самородного таланта еще
недостаточно, чтобы быть мировым поэтом. Самородки, подобные Бернсу или
Кольцову, остаются навсегда блестящими, но бесплодными явлениями.
Истинный, «полезный» поэт должен знать и понимать все, что в данную
минуту интересует самых лучших, самых умных и самых просвещенных
представителей его века и его народа. Понимая вполне глубокий смысл
каждой пульсации общественной жизни, поэт, как человек страстный
и впечатлительный, непременно должен всеми силами своего существа
любить то, что кажется ему добрым, истинным и прекрасным, и ненавидеть
святою и великою ненавистью ту огромную массу мелких и дрянных
глупостей, которая мешает идеям истины, добра и красоты облечься в плоть
и кровь и превратиться в живую действительность. Эта любовь,
неразрывно связанная с этою ненавистью, составляет и непременно должна
составлять для истинного поэта душу его души, единственный и
священнейший смысл всего его существования и всей его деятельности. «Я пишу не
чернилами, как другие, — говорит Берне, -г- я пишу кровью моего сердца
и соком моих нервов». Так, и только так, должен писать каждый писатель.
Кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки.
Поэт, самый страстный и впечатлительный из всех писателей, конечно,
не может составлять исключение из этого правила. А чтобы действительно
писать кровью сердца и соком нервов, необходимо беспредельно и глубоко
сознательно любить и ненавидеть. А чтобы любить и ненавидеть и чтобы
эта любовь и эта ненависть были чисты от всяких примесей личной
корысти и мелкого тщеславия, необходимо много передумать и многое
узнать. А когда все это сделано, когда поэт охватил своим сильным умом весь
великий смысл человеческой жизни, человеческой борьбы и человеческого
376
горя, когда он вдумался в причины, когда он уловил крепкую связь
между отдельными явлениями, когда он понял, что надо и что можно
сделать, в каком направлении и какими пружинами следует действовать на
умы читающих людей, тогда бессознательное и бесцельное творчество
делается для него безусловно невозможным. Общая цель его жизни
и деятельности не дает ему ни минуты покоя; эта цель манит и тянет его
к себе; он счастлив, когда видит ее перед собою яснее и как будто ближе;
он приходит в восхищение, когда видит, что другие люди понимают его
пожирающую страсть и сами с трепетом томительной надежды смотрят
вдаль, на ту же великую цель; он страдает и злится, корда цель исчезает
в тумане человеческих глупостей и когда окружающие его люди бродят
ощупью, сбивая друг друга с прямого пути.
И вы, господа эстетики, хотите, чтобы такой человек, принимаясь за
перо, превращался в болтливого младенца, который сам не ведает, что
и зачем лепечут его розовые губы! Вы хотите, чтобы он бесцельно тешился
пестрыми картинками своей фантазии именно в те великие и священные
минуты, когда его могучий ум, развертываясь в процессе творчества, льет
в умы простых и темных людей целые потоки света и теплоты! Никогда
этого не бывает и быть не может. Человек, прикоснувшийся рукою к древу
познания добра и зла, никогда не сумеет и, что всего важнее, никогда не
захочет возвратиться в растительное состояние первобытной невинности.
Кто понял и прочувствовал до самой глубины взволнованной души
различие между истиною и заблуждением, тот волею и неволею в каждое из
своих созданий будет вкладывать идеи, чувства и стремления вечной
борьбы за правду.
Итак, по моему мнению, истинный поэт, принимаясь за перо, отдает
себе строгий и ясный отчет в том, к какой общей цели будет направлено
его новое создание, какое впечатление оно должно будет произвести на
умы читателей, какую святую истину оно докажет им своими яркими
картинами, какое вредное заблуждение оно подроет под самый корень. Поэт —
или великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный «рыцарь духа»,
как говорит Генрих Гейне, или же ничтожный паразит, потешающий
других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства.
Середины нет. Поэт — или титан, потрясающий горы векового зла, или же
козявка, копающаяся в цветочной пыли. И это не фраза. Это строгая
психологическая истина. Действительно, каждый эстетик, конечно, согласится
со мною, что искренность есть необходимейшее качество поэта. Драма,
роман, поэма, лирическое стихотворение, в которых хоть сколько-нибудь
проглядывают натянутые и обязательные отношения автора к его
предмету,— ни под каким видом не могут быть названы поэтическими
произведениями. Это риторические упражнения на заданные темы, а ритор и поэт,
разумеется, не имеют между собою ничего общего. [...]
Искренность необходима; но поэт может быть искренним или в полном
величии разумного миросозерцания, или в полной ограниченности мыслей,
знаний, чувств и стремлений. В первом случае он — Шекспир, Дант, Бай-
377
рон, Гёте, Гейне. Во втором случае он — г. Фет.— В первом случае он
носит в себе думы и печали всего современного мира. Во втором — он поет
тоненькою фистулою о душистых локонах и еще более трогательным
голосом жалуется печатно на работника Семена. Вы не думайте, господа, что
свистящая журналистика ухватилась так крепко за работника Семена
по ребяческому пристрастию к бесплодному зубоскальству. Работник
Семен — лицо замечательное. Он непременно войдет в историю русской
литературы, потому что ему назначено было провидением показать нам
обратную сторону медали в самом яром представителе томной лирики.
Благодаря работнику Семену мы увидели в нежном поэте, порхающем
с цветка на цветок, расчетливого хозяина, солидного bourgeois и мелкого
человека. Тогда мы задумались над этим фактом и быстро убедились в том,
что тут нет ничего случайного. Такова должна быть непременно изнанка
каждого поэта, воспевающего «шепот, робкое дыханье, трели соловья». [...]
XXV
В числе титанов я назвал Гёте и Гейне. [...]
Пример Гете доказывает как нельзя очевиднее, что всякая умственная
деятельность велика и плодотворна только до тех пор, пока она остается
неразлучною с искренностью и твердостью глубокого убеждения. Гёте
велик именно только в той сфере, в которой он действовал с полным и
естественным воодушевлением, не стесняясь никакими житейскими расчетами,
и этот Гете, великий Гёте, совершенно подходит под мое определение поэта
и с полною справедливостью может быть назван «полезным» поэтом, хотя,
конечно, не в том смысле, в каком могут быть названы полезными поэтами
Барбье, Беранже, Леопарди, Джусти, Шелли, Томас Гуд и другие
двигатели общественного сознания. Эти люди были поэтами текущей минуты;
они будили в людях ощущение и сознание настоятельных потребностей
современной гражданской жизни; они любили живых людей и возились
постоянно с их действительными глупостями и страданиями. А Гёте никого
не любил, кроме самого себя и своих собственных идей; он нисколько не
заботился об интересах человеческих обществ, и, несмотря на то, он все-
таки принес и еще долго будет приносить своими произведениями много
пользы тем самым человеческим обществам, к которым он был совершенно
равнодушен. Только пустые и мелкие люди могут оставаться бесполезными,
а великие умственные силы непременно приносят пользу, даже своими
ошибками. Гёте никогда не был и не будет любимым поэтом читающих
масс; вследствие этого он никогда не будет действовать прямо и
непосредственно на умственную жизнь массы, потому что на эту жизнь действует
только тот, кто любит массу. Но эти наставники и руководители масс,
люди различные между собою по своим дарованиям, но тесно
связанные друг с другом единством святой любви и честных стремлений,
эти люди, питающие других своими идеями, часто нуждаются сами
в умственном подкреплении и обновлении. Эти люди — мыслящие и
просвещенные работники, но совсем не мировые гении. Они по своему уму
378
и развитию способны понимать Гёте, но у них, разумеется, недостало бы
сил произвести то, что он произвел. Для них-то его сочинения составляют
огромную гальваническую батарею, которая постоянно снабжает их
утомляющиеся мозги новыми электрическими силами. Они читают Гёте и
глубоко задумываются над его страницами, и ум их растет и крепнет в этой
живительной работе. А приобретенный таким образом запас свежей
энергии и новых умственных сил отправляется все-таки вниз по течению, в то
живое море, которое называется массою и в которое тем или другим путем
рано или поздно вливаются, подобно скромным ручьям, или бурным
потокам, или величественным рекам, все наши мысли, все наши труды
и стремления. И холодный тайный советник и кавалер фон Гёте действует
таким образом, и сильно действует, на пользу бедных и простых ближних
посредством тех идей и ощущений, которые он возбуждает своими
произведениями в тесном кругу своих избранных и высокоразвитых
читателей. [...]
XXVI
А теперь потолкуем о Гейне. Мне кажется, этого писателя каждый
истинный сын XIX века должен любить совсем особенною, нежною,
исключительною, почти болезненною любовью. Мне кажется, все умственное
развитие человека можно сразу измерить и обсудить, смотря по тому, как
и насколько он понимает поэтическую деятельность Генриха Гейне. Этот
писатель — самый новейший из мировых поэтов; он всех ближе к нам по
времени и по всему складу своих чувств и понятий. Он целиком
принадлежит нашему веку; он воплотил в себе даже все его слабости и смешные
стороны; даже расстроенные и разбитые нервы Гейне указывают ясно на
его кровное родство с тем великим и просвещенным веком, в котором
средневековые костры и плахи сменились пенсильванскими общеполезными
учреждениями для производства умалишенных и в котором феодальные
права уступили место мануфактурному пауперизму. Гейне — поэт
капризного, раздражительного, нетерпеливого и непоследовательного века. Он сам
весь состоит из противоречий, и сам себя дразнит этими противоречиями,
и даже не пробует помирить их между собою, и сам то плачет, то смеется над
своими ощущениями, то вдруг кидается в борьбу жизни и с полною силою
юношеской горячности и мужественного убеждения объясняет людям
различие между остатками прошедшего и живыми проблесками будущего.
И этою последнею, живительною стороною своей деятельности Гейне также
целиком принадлежит к нашему веку, который все-таки лучше всех
прошедших веков и в котором все-таки, несмотря ни на какие глупости и
подлости, химия и физиология подняли человеческий ум на беспримерную
и для наших предшественников непостижимую высоту самостоятельного
знания.
Вот и соображайте, какого рода результат должен получиться, когда
человеку приходится жить при ежеминутном столкновении таких
несовместимых крайностей. Разумеется, должно получиться нечто вроде горя-
379
чего льда и сухой воды; и в человеческом характере действительно
встречаются ежеминутно такие вопиющие внутренние противоречия, которые
сильно смахивают на сухую воду и горячий лед. Нам эти противоречия,
порожденные всем складом европейской жизни, должны быть особенно
дороги и интересны; нам необходимо внимательно изучать эту патологию
нашего ума и характера, потому что только внимательное изучение болезни
дает нам возможность отыскать лекарство. Вот тут-то именно никто не
может заменить обществу великого поэта. Никакое научное исследование
не определит вам душевную болезнь целой эпохи с такою ясностью, с какою
нарисует ее великий художник. Тут вполне оправдывается глубокая мысль
Пьера Леру о том, что поэты из века в век возвещают человечеству его
страдания. Потом, когда поэт собрал в один фокус, в одну ярко
освещенную картину все разрозненные симптомы господствующей болезни века,—
тогда начинается работа мыслителей, которые анализируют вопрос во всех
его отдельных подробностях и выводят явления настоящей минуты из
отдаленных и глубоко затаившихся исторических, бытовых и
экономических причин. Лирика Гейне есть не что иное, как неподражаемо полная
и правдивая картина тех чувств и мыслей, тех тревог и огорчений, тех
чередующихся припадков энергии и апатии, среди которых тратят свою
жизнь лучшие люди XIX века. [...]
XXVII
Литературные противники нашего реализма простодушно убеждены
в том, что мы затвердили несколько филантропических фраз и во имя этих
афоризмов отрицаем сплошь все то, из чего нельзя изготовить обед, сшить
платье или выстроить жилище голодным и прозябшим людям. Понимая
нас таким образом, они, конечно, должны были ожидать, что мои
размышления о науке и искусстве будут заключать в себе бесконечные упреки
Шекспиру, Гёте, Гейне и другим подобным негодяям за трату драгоценного
времени на непроизводительные занятия. Они ожидали, вероятно, что я так
и пойду косить без разбору: Шекспир — не Шекспир, Гёте — не Гёте, черт
мне не брат, все дураки и знать никого не хочу. Такому направлению моих
умозрений они были бы несказанно рады, потому что, разумеется, подобная
премудрость не поколебала бы в умах читателей ни одной буквы из старого
эстетического кодекса. Теперь, когда они увидят, что я взялся за дело
совсем не таким косолапым манером,— им сделается очень досадно, и они
начнут звонить в своих журналах, что реалисты доврались до чертиков
и теперь поневоле поворачивают оглобли назад.
И все это будет с их стороны голая выдумка. Все мысли, высказанные
мною в этой статье, совершенно последовательно вытекают из того, что
я говорил во всех моих предыдущих статьях. [...] Эти негодяи были прежде
всего чрезвычайно умные люди, а я и теперь, и прежде, и всегда был
глубоко убежден в том, что мысль, и только мысль, может переделать и
обновить весь строй человеческой жизни. Все то безусловно полезно, что
заставляет нас задумываться и что помогает нам мыслить. Конечная цель
380
всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека
все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос
о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего,
о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать; но вопрос этот и сам
по себе так громаден и так сложен, что на его разрешение требуется вся
наличная сила и зрелость человеческой мысли, все напряжение
человеческой энергии и любви и весь запас собранных человеческих знаний;
излишку оказаться не может, а, напротив, оказывается до сих пор
громадный недочет, который поневоле будут пополнять рабочие силы следующих
столетий.
Стало быть, мы вовсе не расположены откидывать годный материал
из любви к процессу откидывания. Это был бы с нашей стороны
нелепейший ригоризм и формализм, если бы мы вздумали браковать гениальную
мысль на том основании, что она проведена в поэме или в романе, а не
в теоретическом рассуждении. Если бы мы рассуждали таким образом, то
нам пришлось бы поставить критические статьи г. Эдельсона выше романа
«Отцы и дети». Но мы рассуждаем совершенно иначе. Мы твердо убеждены
в том, что каждому человеку, желающему сделаться полезным работником
мысли, необходимо широкое и всестороннее образование, в котором Гейне,
Гёте, Шекспир должны занять свое место наряду с Либихом, Дарвином
и Ляйелем.— Ничто так сильно не расширяет весь горизонт наших понятий
о природе и о человеческой жизни, как близкое знакомство с величайшими
умами человечества, к какой бы отдельной области знания или творчества
ни относилась деятельность этих первоклассных представителей нашей
породы. Но, во-первых, знакомясь с этими титанами, надо непременно
сохранять в отношении к ним полную самостоятельность своей собственной
мысли, а иначе придется принимать за чистое золото даже то, что
составляет грязное пятно в произведении титана. Во-вторых, и это главное, надо
знакомиться только с настоящими титанами и преспокойно проходить,
не кивая головою, мимо многих и премногих кумиров, выставляемых на
поклонение толпы усердными историками различных литератур. [...]
Из всего, что я говорил с самого начала этой статьи, читатель видит
ясно, что я отношусь с глубоким и совершенно искренним уважением
к первоклассным поэтам всех веков и народов. Задача реалистической
критики в отношении ко всей массе литературных памятников,
оставленных нам отжившими поколениями, состоит именно в том, чтобы выбрать из
этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию,
и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться с этим отборным
материалом. Такая обширная задача не по силам одному человеку, но я,
со своей стороны, постараюсь все-таки со временем подвинуть это дело
вперед, представляя моим читателям ряд критических статей о тех
писателях, которых чтение я считаю необходимым для общего литературного
образования каждого мыслящего человека.
В этой статье я, разумеется, могу только указать на эту задачу и
ограничиться неопределенным обещанием.— Но у реалистической критики есть
381
и другая задача, может быть еще более серьезная. Делая строгую оценку
литературным трудам прошедшего, она должна еще внимательнее и строже
следить за развитием литературы в настоящем. Здесь на ней лежит
обязанность быть несравненно более разборчивою и требовательною. Когда ми
говорим, например, о Шекспире, мы просто берем у него то, что находим
в наличности. Что есть — за то спасибо; чего нет — не взыщите; на нет
и суда нет. Наряжать над Шекспиром следствие по тому вопросу, был ли он
прогрессистом или ретроградом,— смешно, нелепо и несправедливо по той
простой причине, что люди XVI века еще не имели понятия о таком
прогрессе, который охватывает все отправления общественной жизни и все
отрасли человеческого мышления. Но если бы в наше время появился
поэт с громадным талантом и если бы он, подобно Шекспиру, посвятил
лучшие силы своего таланта на создавание исторических драм, то
реалистическая критика имела бы полное право отнестись очень сурово к тому
обстоятельству, что колоссальный талант отвертывается от интересов
живой действительности и уходит в область «беспечального созерцания»,
изобретенного «Отечественными записками» или «Петербургскими
ведомостями».
Я твердо убежден в том, что настоящий поэт, родившийся в XIX веке
и получивший здоровое человеческое образование, не может быть ни
ретроградом, ни индифферентистом. Стало быть, если в произведениях
даровитого человека будут проглядывать допотопные тенденции или холодное
равнодушие к живым потребностям современности,— реалистическая
критика обязана внимательно разобрать причины такого ненормального
и вредного явления. При ближайшем рассмотрении дела непременно
окажется или полное невежество данного субъекта, или односторонность
развития, или слабоумие, или молчалинство, или вообще что-нибудь способное
испортить и сбить с пути самые лучшие задатки литературного дарования.
Эти результаты ближайшего исследования реалистическая критика должна
выставить напоказ в самых ярких красках, для того чтобы публика
перестала обольщаться таким оракулом, который говорит ей вредную
галиматью или по крайней мере отвлекает ее внимание от полезного дела·
В наше время можно быть реалистом и, следовательно, полезным
работником, не будучи поэтом; но быть поэтом и в то же время не быть глубо^
ким и сознательным реалистом — это совершенно невозможно. Кто не
реалист, тот не поэт, а просто даровитый неуч, или ловкий шарлатан, или
мелкая, но самолюбивая козявка. От всей этой назойливой твари
реалистическая критика должна тщательно оберегать умы и карманы читающей
публики.
XXVIII
[...] Самым могущественным средством для правильного развития
общественного мнения является, конечно, общественная жизнь. Когда
общество заботится о собственных интересах, тогда оно быстро выучивается
контролировать поступки и убеждения своих отдельных членов. Но так
382
как развитие общественной жизни зависит не от литературы, а от
исторических обстоятельств, то мне незачем и распространяться об этом
щекотливом предмете.
Вторым средством, гораздо менее могущественным, но все-таки не
совсем ничтожным, является влияние литературы. Задавать обществу
психологические задачи, показывать ему столкновения между различными
страстями, характерами и положениями, наводить его на размышления о
причинах этих столкновений и о средствах устранить подобные неприятности,
заставлять его сочувствовать в книге тому лицу или поступку, против
которого оно (общество) вооружилось бы в действительной жизни
вследствие своих закоренелых предубеждений,— все это значит формировать
общественное мнение, значит говорить обществу: вглядывайся,
вдумывайся в свою собственную жизнь, выметай из нее хоть понемногу тот мусор
ложных понятий, на котором живые люди, твои же собственные члены,
спотыкаются и ломают себе ноги!
В решении чисто психологических вопросов роман незаменим;
напротив того, в решении чисто социальных вопросов роман должен уступить
первое место серьезному исследованию. Но так как чисто социальный
интерес почти всегда сплетается с интересом чисто психологическим, то
роман может принести очень много пользы даже для разъяснения
социального вопроса. Представьте себе, например, что вас поразили вседневные
явления вопиющей человеческой бедности. Если вы со своей стороны
хотите сделать вашим умственным трудом что-нибудь для облегчения
этого зла, то вы, разумеется, должны изучить причины и видоизменения
бедности, собрать как можно больше сырых фактов и достоверных
статистических цифр, привести все эти материалы в порядок и вывести ваши
посильные практические заключения. Труд ваш окажется, таким образом,
серьезным исследованием и деловым проектом. Его прочитают и обдумают
те люди, которые имеют возможность и желание осуществлять в
действительной жизни общеполезные идеи кабинетных мыслителей. [...] Но
бедность порождает разврат и преступление, а общество обрушивается всею
тяжестью своего гнета и презрения на тех людей, которые споткнулись
на трудном пути и которые могли бы снова подняться на ноги, если бы их
не давило в грязь все, что их окружает, и все, что благодаря более
благоприятным случайностям успело сохранить наружный вид чистоты и
безукоризненности.
Если вас поразила эта чисто психологическая сторона бедности, то вы
напишете роман, и созданные вами картины заставят многих из ваших
читателей задуматься над тою кровавою несправедливостью или, проще,
над тою поразительною тупостью, которую мы, люди добродетельные,
обнаруживаем ежедневно в наших отношениях к умственным и
нравственным болезням голодного и раздетого человека. Романы Диккенса и
Виктора Гюго направляются вовсе не к тому, чтобы разжалобить толстых
филистеров и выпросить у них копеечку на пропитание вдов и сирот; эти
романы доказывают нам с разных сторон полную логическую несостоя-
383
тельность всех наших обиходных понятий о пороке и преступлении. Капля
долбит камень non vi, sed saepe cadendo (не силою, но часто
повторяющимся падением), и романы незаметно произведут в нравах общества
и в убеждениях каждого отдельного лица такой радикальный переворог,
какого не произвели бы без их содействия никакие философские трактаты
и никакие ученые исследования.— Поэтому каждый последовательный
реалист видит в Диккенсе, Теккерее, Троллопе, Жорж Занде, Гюго —
замечательных поэтов и чрезвычайно полезных работников нашего века. Эти
писатели составляют своими произведениями живую связь между
передовыми мыслителями и полуобразованною толпою всякого пола, возраста
и состояния. Они — популяризаторы разумных идей по части психологии
и физиологии общества, а в настоящую минуту добросовестные и
даровитые популяризаторы по крайней мере так же необходимы, как
оригинальные мыслители и самостоятельные исследователи.
Мы вовсе не требуем от романистов, чтобы все они непременно
описывали страдания бедняков или показывали нам человека в преступнике.
По нашему мнению, каждый романист, разрешающий какую-нибудь
психологическую задачу, поставленную естественным течением
действительной жизни, приносит обществу существенную пользу и по мере сил своих
исполняет обязанность честного гражданина и развитого человека.
Частная жизнь и семейный быт наравне с экономическими и общественными
условиями нашей жизни должны обращать на себя постоянное внимание
мыслящих людей и даровитых писателей. Чтобы упрочить за собою
глубочайшее уважение реалистов, романист или позт должен только постоянно
так или иначе служить живому делу действительной, современной жизни.
Он не должен только превращать свою деятельность в бесцельную забаву
праздной фантазии. [...]
Д. И. Писарев, Сочинения в 4-х томах, т. 3, М.,
Гослитиздат, 1956, стр. 92—101, 104—108, 112—114.
М. А. АНТОНОВИЧ
1835-1918
Максим Алексеевич Антонович выступил как активный последователь и
продолжатель Чернышевского и Добролюбова в русской эстетике и литературной
критике, популяризируя наследие своих учителей. Но и эстетическая теория и приемы
литературно-критической деятельности Антоновича существенно отличны от
эстетических и литературно-критических позиций Добролюбова и особенно
Чернышевского.
Пытаясь в изменившихся после поражения освободительного движения в 60-х
годах XIX века условиях общественной действительности, на новом этапе
освободительного движения в стране, сохранить верность каждой букве наследия
384
«шестидесятников», Антонович не сумел подняться до понимания путей дальнейшего
развития принципов революционной эстетики, оказавшись таким образом более
эпигоном, нежели действительным продолжателем своих великих учителей. Косность
эстетической позиции Антоновича, приемы его литературно-критической
деятельности, часто даже этически несостоятельные, скоро привели его к почти полной
самоизоляции в русской литературе, содействуя возникавшему тогда заметному
ослаблению влияния передовых сил русского общества на крупнейших писателей
того времени (Тургенев, Достоевский, Л. Толстой, Чехов).
Антонович неоднократно (в разных статьях и по разным поводам)
формулировал свое эстетическое кредо. Им написана и специальная работа, посвященная
изложению и интерпретации эстетической теории Чернышевского («Современная
эстетическая теория»). Основной смысл и содержание искусства, согласно
Антоновичу, заключается прежде всего в иллюстрировании определенных идей; что же
касается эстетической «стороны» художественного произведения, то она должна
учитываться эстетикой лишь постольку, поскольку не противоречит основной
задаче художественного произведения — быть рупором известной тенденции.
Антонович, таким образом, почти полностью отождествляет задачи и сущность
искусства с задачами и сущностью публицистики.
Отбрасывая мысль Чернышевского о «воспроизведении жизни» как
«характеристическом признаке» искусства, Антонович приходит к противопоставлению
в искусстве идейности и художественности, «поэтичности» и «тенденциозности».
Понимая «художественность» как внешнюю оболочку произведения, а не как
специфическую форму отражения действительности, Антонович тем самым
отказывается от рассмотрения объективного содержания явления искусства. Так
противопоставление идейности и художественности приводит Антоновича к
противопоставлению идейности и правдивости в искусстве, в конечном счете — к отходу от
утверждения реалистичности произведения как главного критерия его
идейно-художественной ценности. В практике своих литературно-критических выступлений
Антонович отходит от принципов «реальной критики» Чернышевского и
Добролюбова.
Известный драматизм личной судьбы и творческой биографии Антоновича
определялся тем, что субъективно он всегда оставался искренним приверженцем
вульгаризируемых им принципов эстетической теории Чернышевского, воспринимая
неприязненное отношение к своим выступлениям как выражение повального
ретроградства русской общественности тех лет. В течение своей долгой жизни
Антонович чем дальше — тем больше расходился с революционными силами русского
общества в понимании задач искусства и места художника в общественной жизни,
СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
[...] Какая же эстетическая теория изложена в книге «Эстетические
отношения искусства к действительности»? Эта теория, как выражаются
о ней ее противники, уничтожает самостоятельность искусства, порабощает
его утилитарности, требуя от него полезных практических результатов,
13 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) 385'
и в то же время утверждает, что натуральное яблоко лучше нарисованного.
Такие определения теории, хотя они выходят и из враждебных уст,
довольно верны, а главное, наглядны и осязательны. [...] Искусству
предъявляются подобные же требования, как науке и знанию. [...] Так же верно
и [...] определение, что по этой теории яблоко натуральное лучше
нарисованного, то есть вообще природа лучше искусства, изображающего эту
природу, и действительность лучше искусства даже в эстетическом
отношении, не говоря уже о других отношениях, что жизнь лучше, чем
мертвый образ ее, произведенный фантазиею художника. [...] Для
распространения здравых практических идей искусство, в особенности поэзия, имеет
могучие средства, в некоторых отношениях даже более действительные,
чем те, какими обладает наука, имеющая своей специальной задачей
разъяснение всех вообще явлений; [...] в художественном произведении
пропагандируемая идея представляется в живых образах, в лицах; вместо сухих
доказательств приводятся житейские случаи, наглядные примеры. [...] Идея,
проводимая посредством художественного произведения, сильнее действует
на человека и глубже запечатлевается в нем, чем та же идея, облеченная
в отвлеченную форму ученого трактата. [...] Вообще всегда поэзия служила
одним из главных орудий публицистики. [...].
Достоинство идеалов измеряется не тем, возможно ли или невозможно
их осуществление в известную, данную минуту, а другими их качествами,
то есть их естественностью, разумностью и справедливостью. Самый
рациональнейший и справедливейший идеал может быть неосуществимой
утопией при данных условиях действительности, не представляющей в себе
решительно нисколько или весьма мало материалов, необходимых для
осуществления идеала; но такая его неосуществимость ничего не говорит
против его внутреннего достоинства, а свидетельствует только о
неудовлетворительности и недостатках данной действительности, и в таком случае
по изложенной теории не идеал должен смягчаться и делать уступки
данной действительности, а, напротив, действительность должна изменяться
и по возможности приближаться к идеалу. [...]
«Современник», 1865, № 3.
АСМОДЕЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
[...]Если смотреть на роман [ «Отцы и дети» И. С. Тургенева] с точки
зрения его тенденций, то он и с этой стороны так же неудовлетворителен,
как и в художественном отношении. О качестве тенденций нечего пока
сказать, а главное, проводятся они очень неловко, так что цель автора не
достигается. Стараясь набросить невыгодную тень на молодое поколение,
автор слишком уж погорячился, перепустил, как говорится, и уже стал
выдумывать такие небылицы, что верится им с большим трудом — и
обвинение кажется пристрастным. Но все недостатки романа выкупаются
386
одним достоинством, которое, впрочем, не имеет художественного
значения, на которое не рассчитывал автор и которое, значит, принадлежит
бессознательному творчеству.Поэзия, конечно, всегда хороша и заслуживает
полного уважения; но недурна также и прозаическая правда, и она имеет
право на уважение; мы должны радоваться художественному
произведению, которое хотя и не дает нам поэзии, но зато содействует правде.
В этом смысле последний роман г. Тургенева — вещь превосходная; он не
дает нам поэтического наслаждения, даже действует на чувство неприятно;
но он хорош в том отношении, что в нем г. Тургенев обнаружил себя
ясно и вполне определенно и тем раскрыл нам истинный смысл
своих прежних произведений, сказал без околичностей и напрямки то
последнее слово, которое в прежних его произведениях было смягчено
и затушевано разными поэтическими прикрасами и эффектами,
скрывавшими его истинное значение [...]
«Современник», 1862, №3.
МИСТИКО-АСКЕТИЧЕСКИЙ РОМАН
Достоевский принадлежит к числу тех наших, так сказать,
дореформенных художников, на которых не имела никакого влияния критика добро-
любовской школы. Талант Достоевского развился, окреп и установился
еще до Добролюбова, и к критике последнего Достоевский всегда относился
отрицательно. Да по своему огромному самомнению он и неспособен был
принимать к сведению замечания критики и пользоваться ее указаниями.
Значит, критика шестидесятых годов нимало не повинна в тех фазах
развития, через которые проходил талант Достоевского и характер его
литературного творчества.
С самого начала Достоевский был истым художником, представителем
искусства для искусства. В первых его произведениях до шестидесятых
годов не было заметной тенденциозности. Правда, Добролюбов в
большинстве типов, изображенных в этих произведениях, нашел общую мысль,
общую всем им черту и всех их отнес к категории «забитых людей», у
которых пострадало человеческое достоинство. Но эта мысль принадлежит
самому Добролюбову, а не Достоевскому, который вовсе не задавался этой
мыслью и брал для изображения типы, руководствуясь не какими-нибудь
соображениями и целями, а художественным инстинктом или тактом, и он,
вероятно, сам удивился, когда ему сказали, что его типы в большинстве
принадлежат к категории забитых людей в смысле Добролюбова,— Но чем
дальше, тем произведения его становились все тенденциознее, и тенденция
их направлялась в сторону «Русского вестника» до такой степени заметно
и явственно, что другие журналы, печатая его произведения, конфузились,
извинялись, делали оговорки. Наконец, последнее произведение его,
которое мы имеем в виду рассмотреть [«Братья Карамазовы»], есть верх
тенденциозности; его как-то странно и называть романом. Это трактат
13:
387
в лицах; действующие лица не разговаривают, а произносят
рассуждения, и притом большею частью на одну и ту же, очевидно, излюбленную
автором, тему теологическую, или, лучше, мистико-аскетического
свойства... Это даже не новая вариация на старую тему, а просто та же тема,
которую всегда развивали и развивают все обскуранты и ретрограды,
противящиеся всяким улучшениям во внешнем быте и общественном
положении и состоянии людей. [...]■
«Новое обозрение», 1881, № 3.
Н. В. ШЕЛГУНОВ
1824-1891
Виднейший демократический публицист Николай Васильевич Шелгунов был
активным литературным критиком и значительным представителем русской
эстетической мысли последней трети XIX века.
Видный ученый, профессор по лесному законодательству, Шелгунов в середине
50-х годов познакомился с идеями Герцена, стал близким другом
поэта-революционера М. Л. Михайлова, а затем вошел в тесный контакт с подпольной организацией
«Земли и воли». По обвинению во вредном образе мыслей и в сношении с
государственными преступниками Шелгунов провел почти пятнадцать лет сначала
в Петропавловской крепости, а потом в ссылке.
Еще до ареста Шелгунов начал выступать с критическими и
публицистическими статьями в журнале «Русское слово». Впоследствии он возглавил критический
отдел демократического журнала «Дело».
В своей эстетике Шелгунов был близок идеям Белинского, Чернышевского,
Добролюбова. Во многих работах он пропагандировал взгляды своих учителей,
отстаивал концепции революционной демократии.
Одним из центральных вопросов, волновавших Н. В. Шелгунова, был вопрос
о носителе положительных идеалов, «новом человеке». Критик выступил против
идеализации героя 40-х годов — «лишнего человека», он отрицал за лишними людьми
право считаться положительными героями.
Шелгунов активно поддерживал в своих работах молодых
писателей-разночинцев, особенно Помяловского и Решетникова. Именно основываясь на их
произведениях, критик выдвинул теорию народного реализма. Реализм, по мысли Шелгунова,
есть «формула прогресса и прогрессивного мышления».
Шелгунов всегда называл себя учеником Чернышевского. На его взгляды
оказала огромное воздействие и деятельность Д. И. Писарева.
Во многих своих работах (например, «Русские идеалы, герои и типы»,
«Бессилие мысли и сила жизни», «О добролюбовцах и писаревцах») Шелгунов сумел дать
превосходный анализ русской прогрессивной реалистической литературы.
Но Шелгунов не всегда понимал значение широкого художественного
обобщения.
388
Натурализм Золя представлялся Шелгунову вершиной реализма. В то же время
Шелгунов не смог объективно оценить творчество Гончарова, Тургенева,
Островского. А Щедрина Шелгунов упрекал в бесплодном скептицизме.
Убежденная борьба против реакционных явлений в искусстве, отстаивание
эстетических традиций революционных демократов — все это было причиной того,
что Шелгунов стал одной из центральных фигур домарксистской эстетической
мысли в России.
О РУССКОЙ МЫСЛИ И ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 40 ЛЕТ
[...] Таково уж свойство идей; они, точно бациллы, развиваются до
бесконечности в благоприятной для них среде. Конечно, если умственная
среда не подготовлена, то и идейные бациллы не будут множиться. Но
несомненно то, что верная идея, хотя и медленно, будет расти, шириться
и пролагать себе путь. Такой, например, идеей была брошенная в
общество мысль, что «прекрасное есть жизнь», что искусство служит только
жизни, что оно напоминает своим произведением о том, что интересно для
нас, и знакомит с теми сторонами жизни, которых нам не было случая
наблюдать или испытывать, что художественная форма не спасает
произведение искусства от сострадательной улыбки, если оно важностью своей
идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: да стоило ли трудиться над
пустяками? — что бесполезное не имеет права на уважение, что человек
сам себе цель, но что дела человека должны иметь цель в потребности
человека, а не в самих себе. Мысли эти явились истинным откровением
и проходят затем ниточкой через всю работу русской мысли во все ее
последующее время.
Таков рост нашего общественного мышления. Если бы каждый русский
человек понимал это, а каждый русский писатель растолковывал это
непонимающим, то никакого шатания мысли у нас бы не было. Но мы именно
потеряли ниточку, и не читатель потерял, а писатель. Что же такой
потерявший дорогу писатель может дать читателю? Какие могут быть у него
темы, какие могут быть у него мысли? [...]
Н. В. Шелгунов, Избранные
литературно-критические статьи, М., «ЗиФ», 1928, стр. 30.
ТАЛАНТЛИВАЯ БЕСТАЛАННОСТЬ
[...] Уже и во времена Белинского чувствовалось, что писателю кроме
таланта нужно иметь еще нечто и что это нечто важнее самого таланта
и составляет его силу. [...]
Что это такое за нечто и почему только в нем сила писателя, только
в нем сила его таланта? Это нечто есть понимание жизни, понимание
389
общественных потребностей и социальных стремлений. Это нечто есть
смысл руководящий; это нечто есть ум. Если у автора нет светлого,
прогрессивного ума — его не спасет никакой талант.
Что такое писатель, как не обществейный деятель; что такое писатель,
как не интеллектуальная сила, как не путеводная звезда, за которой идут
те, кто понимать и рассуждать безошибочно не в состоянии?
Чему же служит в этом случае талант, и для чего он нужен? [...]
Никто не живет в пространстве. У всякого человека есть свое место
на земле, свои мысли, свой опыт, свое мировоззрение, свой круг
деятельности. У каждого человека есть, что он любит, и есть, что он ненавидит,
и эта ненависть и любовь скажутся в каждом его произведении, если он
талант. Подборами сцен, характеров, обстоятельств талант выразит
непременно себя, выкажет свою душу, постарается передать вам свои симпатии
и антипатии, поставит вас на свою точку зрения, и это-то будет идеей его
труда, его произведения. Поэтому чисто объективное поэтическое
творчество, в котором бы не высказался писатель как человек, как член
общества, совершенно немыслимо; ибо каждый писатель, как бы он ни был
силен как поэт и художник, прежде всего человек, существо, привязанное
к земле, к людям, стремящееся к личному счастью. Дурак, как бы он ни
был талантлив, обнаружит немедленно свою дурковатость социальной
бесполезностью своего произведения, и эта бесполезность будет опять его
идеей. Без идеи, без мысли никакое произведение невозможно. И эта
социальная мысль или нечто, как выражается Белинский, есть единственное
мерило таланта, есть основная его сила. Не силой поэтического творчества
определяется размер таланта, а силой воодушевляющей его мысли, силой
ее социальной, прогрессивной полезности.
Неужели талант и искусство нужны только для того, чтобы рисовать
необычайно живописно всякие житейские бесполезности? Поэт рисует
вам необычайно верно завывание ветра в пустыне или ночной вой
шакалов. Если при описании этих сцен у вас в уме не возникает никакой
полезной параллели, к чему служит такое описание? Станете ли вы читать
книгу, не возбуждающую в вас никакого интереса? А что такое интерес,
как не ваше ближайшее отношение к жизни? Во всем вы ищете себя, во
всем вы ищете ответов на свои вопросы.
Описание природы имеет смысл настолько, насколько рисует ум или
глупость коллективной жизни человека, силу и власть человека над этой
природой. Почему весьма хитро измышленная статья г. Страхова «О
жителях луны» осталась незамеченной, несмотря на всю ловкость ее
логического построения? А только потому, что вам нет никакого дела до жителей
луны, пока к ним не будет проведена железная дорога. Описание природы
вам важно лишь в прогрессивно историческом смысле, то есть насколько
человек в борьбе с природой торжествует или падает в бессилии. Природа
важна для нас настолько, насколько человек зависит от нее.
Безотносительной природы нет, и как бы ни были велики ураганы у жителей луны
г. Страхова, вам нет до них никакого дела, пока лунный ураган не заденет
390
вас, пока он не заставит вас справиться о целости крыши вашего дома или
не заставит вас подумать о более теплом одеяле.
Степной город г. Гончарова важен для вас не потому, что в вашем
воображении возникает картина знойной пустыни с собаками, лежащими
ленивыми кучами, и с людьми, истомленными жаром до того, что им
трудно высморкаться; важен он вам потому, что возбуждает ассоциацию идей
социального характера, рисует вам спячку мозга, покой могилы, отсутствие
активности, дичь, невежество, отсталость. Вам хочется понять, почему
эти люди так жалки, так глупы и бедны, почему для них счастье в том,
в чем каждый умственно развитой человек увидел бы свое несчастие?
Но вот тут-то и возникает истинная задача таланта. Пусть он стоит за
занавесом, и вы не замечаете его приемов. Но талант должен представить
вам именно все те данные, которые должны возбудить в вас правильное
прогрессивно-социальное мышление. Талант должен подобрать все факты,
все обстоятельства, все особенности, чтобы сконцентрировать ваши мысли
в известном, точно определенном направлении и привести вас к
правильному логическому выводу. Все постороннее, мешающее быстроте и силе
вашего мышления в данном направлении, будет уже не задачей таланта,
а признаком бесталанности. Для чего вам нужно знать, что собака, прежде
чем легла, повернулась несколько раз вокруг себя или что куры прыгали
в испуге на стену, если эти факты не помогают вашему мышлению в
известном данном направлении и не усиливают вашего социального вывода?
Пропустите их — проиграете или выиграете вы в своем знании? Если
умственное безразличие несомненно, то к чему приводить факты, только
мешающие вашему мышлению, только затемняющие его своею
постороннею примесью?
Талант есть только та сила, которая умеет концентрировать данные для
известного положительного вывода, и непременно вывода высокой
общественной полезности, вывода, очищающего понятия и имеющего
руководящее значение. Талант есть сила образного изображения в широко
захватывающих картинах, сильнее действующих на воображение, борьбы и
умственного торжества человека над мраком и невежеством. Борьба может быть
с природой, борьба может быть социальная, но все ради этой борьбы, все
ради торжества света над тьмою. В иной форме, в ином значении талант
немыслим, ибб он иначе талантливая бесталанность, красивое пустословие,
поэтическая безделка. Если обыкновенному человеку рассказать
обыкновенным, простым языком о пытке и ее гнусности, рассказ может пропасть
холостым зарядом; но вот талант, поэт, живописец изобразит вам пытку
с такими подробностями, физиологически верными и
сконцентрированными, что у вас захватывает дух, точно вас самого жарят на огне или
распинают на кресте, и вы проникаетесь негодованием против изуверства
и глубоким сочувствием к страдающим,— вот в чем талант, вот в чем его
задача. Если талант не имеет подобной прогрессивной, просвещающей
тенденции —- он не талант, а неудавшаяся сила. [...].
Там же, стр. 38, 42—44.
391
НАРОДНЫЙ РЕАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ
[...] Когда явился Пушкин и заговорил своей простой русской живой
речью и о русских, образованная Россия увидела в нем свое восходящее
солнце, а историки русской литературы назвали это время «пушкинским
периодом». После «пушкинского» явился период «гоголевский», потом
царствовал Тургенев,— и всех их сменило на наших глазах другое
поколение, другая умственная сила, перед которой умолкают и стоят в тени
и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Тургенев, и Гончаров, и Писемский.
Старая крепостная и барская Россия уступает свою дорогу новой России.
Люди литературного труда — лучшая интеллигенция страны. Они
всегда стоят во главе умственного движения, они — его светочи и
руководители. Таким был и Пушкин, обратившийся первый к русской жизни и
бравший из нее материал для своего творчества. Это обращение к русской
жизни и кладет на произведения Пушкина печать народности. Но
народность того времени была народностью аристократическою. Татьяны,
Онегины, Печорины — все это сливки общества. Сливки жили своей жизнью.
Для них были гимназии, университеты, академии, гвардия; они
пользовались жизнью, украшенною разными утонченными наслаждениями
и большим досугом, позволявшим культивировать в себе разные идеальные
стремления, мечты и порывы. Пушкин, обратившийся к русским сюжетам,
показал всю пустоту этой жизни, может быть и сам недостаточно понимая
ее ничтожность и дрянность. Поэтому-то Татьяна и Онегин, взятые
Пушкиным из жизни, в то же время являются и героями, идеальными
образцами, действительностью, профильтрованною через поэтическое творчество,
через тогдашнее передовое русское мировоззрение.
Онегин, переродившийся в Печорина,— еще образнее и идеальнее, но
зато и патологичнее, потому что решительно не знает, куда пристроить
ему свои силы и стремления. Вокруг — пусто, решительно пусто. Мысль
и чувство стремятся к деятельности, но где и что делать? Тратятся силы
на пустяки, и скучающий Печорин бежит, бежит, сам не зная — куда,
только чтобы успокоить жажду деятельности, потребность мысли и
чувства.
Еще бесплоднее праздный идеализм в образе Рудина. Никаких
действительных жизненных интересов, никакого полезного дела. И эта
безысходная праздность, чуждая практических интересов, наказывает сама себя
разъедающей рефлексией, исключительной, пожирающей мозговой
деятельностью, ничем не удовлетворяющейся, ни на чем не успокаивающейся,,
не связанной ни с чем никакими прочными солидарными узами. Рудин
тоже бежит...
Попытка Гоголя к реальному творчеству оказалась неудачной, потому
что в той жизни, где он искал его, истинный, здоровый реализм был
невозможен. Оттого-то гоголевские типы — отрицательные образы, и все
гоголевское творчество несет в себе отрицательный характер, особенно
резко обрисовавшийся у его последователей — писателей натуральной
392
школы. Гоголевский юмор скрашивает и согревает несколько
действительность; но, например, под грубой рукой Писемского отрицательное
отношение является чем-то подавляющим, глушащим, тяжелым до
невыносимости. У Гоголя вы видите русскую глупость, у Писемского — русскую
мерзость.
Но где же положительное отношение к жизни? Где же живые и
здоровые ростки действительности? Их нет! Их не дал ни один русский
беллетрист того времени. Все их герои и типы — всегда отрицательные образы;
это не такие идеалы, к которым люди должны стремиться, а, напротив,
такие, к каким стремиться не следует. Переберите всех героев, начиная
с Онегина,— захотели ли бы вы быть хотя одним из них? Нет! Ясно, что
положительное творчество не удалось еще ни одному русскому
беллетристу. А отчего? Оттого ли, что писатели не сумели найти идеала, или же
не было для него материалов в самой жизни? Его не было в жизни. Вся
жизнь общества была ненормальной, все общественные отношения были
искусственной путаницей социальных и экономических отношений, в
которых не могла зародиться здоровая, правильная деятельность ни в области
мысли, создавшей Рудиных, ни в сфере дела, приводившей к Собакевичам,
Чичиковым и Ноздревым. Таким образом, не удовлетворявший реализм
с его Чичиковыми заставлял искать фор*мулы прогресса в идеализме,
а идеализм, в свою очередь, приводил к Рудину. Где же искать спасения,
чтобы не походить на белку в колесе? Но в момент этого раздумья застало
Россию освобождение крестьян, которое привело снова к реализму, но на
этот раз иному.
Новый русский реализм есть реакция прежнего привилегированного
сословного идеализма; он есть один из видов той реакции, которая и в
самом идеализме выделила протестующих, недовольных и ищущих
Печориных, Рудиных. Но протест Рудиных был протест пассивный,
безрезультатный. Рудины сами по себе не значили ничего и не могли создать ничего,
потому что сами в себе носили сзое собственное отрицание. Рудины —
патологический продукт общественного организма, неспособного
производить здоровых людей. Вот почему жизнь, вступившая на новый путь,
отвернулась от Печориных, Рудиных, Лаврецких, как она отвернулась
от Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых. Разница между Собакевичами
и Чичиковыми, с одной стороны, и Рудиными, с другой, в том, что
первые изображают собой практическое довольство, подчиняющееся
существующему факту и эксплуатирующее его в свою пользу. Рудины же —
критическое отношение к тому же факту, но отношение, по
малочисленности — а следовательно, и по бессилию — не переходящее в дело.
Но неужели русский интеллект сошел на нуль? Неужели ему нет
жизненной формулы? На нуль интеллект не сошел, но он действительно не
нашел еще себе формулы. Вот причина, почему все мыслящее, ищущее
и жаждущее недовольно современной беллетристикой. Беллетристы не
виноваты здесь ни в чем, и жаловаться на отсутствие талантов —
неосновательно. В таланте Тургенева, Гончарова, Писемского никто не сомневается.
393
Отчего же эти талантливые люди не дают нового типа? Вы думаете —
оттого, что они его не умеют подметить; но ведь подметил же Тургенев
Базарова, подметил же Гончаров Марка Волохова. Новый положительный
тип не подмечается только потому, что он еще не народился в самой
жизни. Базаровский реализм кончился разбродом мысли и пришел к
новому исканию. Теперь русская мысль зреет, набирается новых фактов
и проверяет себя ими; положительную формулу, в которой она
выражается, можно назвать проверкой. Наше время как бы повторяет
сороковые годы. С одной стороны, мы видим измененное и исправленное издание
Рудина, с другой — Чичикова, переродившегося Горюнова. Современных
беллетристов можно укорить только в одном — в бесплодной попытке
выискать непременно положительный тип, тогда как перед нами стоит
новый размышляющий Рудин.
Там же, стр. 101—103.
М. Л. МИХАЙЛОВ
1829-1865
Писатель и известный революционный деятель Михаил Ларионович Михаилов
пользовался в начале 60-х годов большой популярностью как критик и публицист.
На его эстетические воззрения решающее воздействие оказала эстетика Белинского,
принципы реализма, выдвинутые критиком в 40-е годы. В статьях и рецензиях
1859—1861 годов М. Михайлов сформулировал свои взгляды на литературу и
искусство. Несмотря на расхождения с Чернышевским и Добролюбовым в понимании
значения и целей искусства, Михайлов, защищая идейность и реализм, выступал, по
существу, как их союзник в эстетических спорах 60-х годов.
Михайлов отстаивал самостоятельность искусства, независимость его от
узкоутилитарных временных задач. В то же время он резко полемизировал с защит·
никами теории «искусства для искусства», подчеркивал познавательное значение
искусства (сближая его в этом отношении с наукой), его влияние на жизнь
общества, его связь с насущными вопросами современности.
Ставя перед искусством высокую цель воздействия на общество и воспитания
его, Михайлов считал, что этой цели может служить только реалистическое
искусство, ибо оно актуально по своей природе. Основным критерием эстетического
достоинства художественного произведения служит «верное изображение
действительности». Реализм в современном искусстве, утверждал Михайлов, может возникнуть
только на основе прогрессивного мировоззрения, глубокого понимания явлений
жизни, общественных противоречий.
Большой интерес представляют статьи Михайлова, связанные с его творческой
практикой,— о значении поэзии и «задаче лирического поэта», причем
высказанные здесь взгляды близки1 суждениям Н. П. Огарева в предисловии к сборнику
«Русская потаенная литература XIX века» (1861). Для Михайлова поэзия — прежде
394
всего важнейший фактор морально-политического воспитания. Он считал поэзию
обязанной активно вмешиваться в жизнь, служить задачам революционной борьбы
и подчеркивал, что в антагонистическом обществе литература, как и искусство, «не
может не быть разделена на враждебные партии, как и самое общество, не может
не участвовать точно так же в борьбе» К «Влияние на читателя» — одна из главных
целей, к которой должен стремиться поэт. Возможность и сила этого влияния
определяются правдивостью чувств, выраженных в поэтическом произведении,
непосредственностью, органичностью для поэта высказанных мыслей. Самую
художественность поэзии Михайлов ставил в зависимость от глубины и подлинности
переживания, гражданской нравственной чистоты его.
[ЗАЩИТА РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА]
Время, когда литературная критика ограничивалась важными
рассуждениями о слоге и грамматической правильности языка разбираемых
произведений, не обращая большого внимания на их внутренний смысл, давно
миновало. Красота стиля, благозвучные фразы, стройное согласование
слов и проч. и проч.— могли, разумеется, дорого цениться в такую пору,
когда язык не был еще достаточно выработан для принятия в себя
серьезного содержания. Тогда, конечно, могло иметь значение большее или
меньшее уменье покорять своей мысли этот еще грубый и неподатливый
материал. Но это время даже для русской литературы — время давно
прошедшее. Теперь никто не способен повторять с восторгом, как музыку
какую-нибудь, фразы вроде: «Раздался звук вечевого колокола, и дрогнули
сердца в Новегороде», или восхищаться звукоподражательною красотой
стишков вроде: «От топота копыт пыль по полю летит». Мало того, никого
не удивит в поэме звучность стиха и богатство рифмы, в комедии или
романе — меткость языка действующих лиц. Заставить говорить в повести
крестьянина крестьянским языком, мещанина — мещанским и т. д. не
составляет уже ровно никакой заслуги в наше время. Ведь я не стану
изображать лиц, которых никогда не видал и не слыхал. А если я их видел
и слышал да у меня есть хоть малая доля художественного такта, то что же
тут такого особенного, что я крестьянскую девушку не заставляю
выражаться языком «Бедной Лизы» и что какой-нибудь староста Ефим у меня
просто-напросто староста Ефим, а не добродетельный Фрол Силин.
Надеюсь, что никто не станет осыпать меня за это похвалами. Все это еще
не достоинства при известной степени развития литературы.
Предположим, что я до тонкости изучил, знаю всю обстановку изображаемых мною
лиц, что они говорят у меня точь-в-точь так, как в действительности, что
самый строгий судья отдаст мне в этом полную справедливость; но если
1 М. Л. Михайлов, Сочинения в 3-х томах, т. Ill, М., Гослитиздат, 1958,
стр. 196.
395
я в этой обстановке, в этом языке видел только предмет для своей
копировки и не вдумался в самую жизнь, проявившуюся и в том и в другом,
всякий назовет мертвечиной мое изображение и скажет мне: «Уж лучше
бы вы не так все подробно рассказывали, а дали мне всего две-три, да
самые яркие подробности; лучше бы вы не так рабски верно передавали
эти фразы и выражения, да я бы узнал из них что-нибудь побольше того,
что в Усть-Сысольске, Царевококшайске или где там хотите говорят гоже
вместо хорошо, надысъ вместо на днях и т. п.». Изображение русского быта
«Казака Луганского» может быть вернее в мелких подробностях
изображений того же быта Тургенева; но за всю кипу сочинений г. Даля нельзя
отдать одного рассказа из «Записок охотника». Скажут: все зависит от
таланта. Разумеется, талант великое дело; но и развитие в уровень с
требованиями времени и понимание явлений жизни, а не мелочная их
копировка — что-нибудь да значат. Или это пустяки?
К пластическим искусствам критика нашего времени может и должна
быть еще строже, чем к литературе. Русской живописи, например, нечего
трудиться над своею материальной стороной так, как трудилась русская
литература над языком. В этом отношении все народы — земляки, и что
сделано по этой части итальянцами, фламандцами, французами, того нам
делать сызнова нечего. Нам надо продолжать пройденный европейским
искусством путь, а не повторять его. Само собою разумеется, характер
нашего искусства должен быть иной, как иная у нас национальность, иная
история, иные географические условия. Космополитизм невозможен пока
еще и в живописи. Зурбаран мог явиться только в монашеской Испании;
Жерар Доу и Метсу не нашли бы в Италии пищи своему тихому
вдохновению. Каков будет характер русской живописи, судить еще нельзя; но что
мы не ограничимся только повторением сделанного до нас, в этом нам
порукой картина Иванова, за которою осталось первое место на выставке,
как во всем, что до сих пор произвела русская живопись. [...]
Сколько ни старались мы хоть в чем-нибудь из всей массы
выставленных картин найти органическую связь с общим ходом и развитием
искусства, связи этой мы нигде не видали. Казалось, они создались как-то
особняком, совершенно отдельно от всего, что было до них; ничто не
приурочивает их ни к нашему времени, ни к нашему обществу; это какие-то
случайные явления, не вызванные никакою потребностью. Везде работа
руки, нигде работы мысли. [...]
...На каждом шагу вас поражают видимые и часто очень успешные
старания нарисовать атлас, сукно, бархат, мех так, чтобы купец, подойдя
к картине, без ошибки мог сказать, что атлас, сукно или бархат,
изображенные на ней, стоят столько-то рублей аршйн и даже изготовлены на
такой-то фабрике. Это качество, пожалуй, не было бы совершенно лишним,
если б на него художники смотрели только как на средство к произведению
большего эффекта целым картины; но в том-то и беда, что оно,
по-видимому, служит часто целью, и при чрезвычайной живости костюма вы не
находите никакой жизни в самых лицах. Страннее всего видеть это на
портам
ретах, где, кажется, все внимание художника должно бы быть обращено
на лицо оригинала. [...]
Портретов на выставке вообще очень много; но почти все они относятся
гораздо больше к ремеслу, чем к искусству. Им место скорее на окнах
портретного живописца, чем на художественной выставке. Исключениями
кажутся нам только — женский портрет (г-жи Аладьиной), князя
Черкасского, не лишенный жизни и выражения, и в особенности портрет генерала
Ермолова, написанный г. Дмитриевым-Мамоновым. Не говоря уже о том,
что мы видим в последних полное отсутствие рутины, совершенное
пренебрежение всякими аксессуарами, смелость и силу рисовки, перед нами,
кроме того,— живое, почти говорящее лицо, живое и говорящее именно
потому, что художник не вырисовывал каждого волоска и каждой
морщинки с тщательностью мелкого ремесленника, отделывающего
орнаменты к вещи, назначения которой он совсем не понимает. Эта пунктуальность,
эта мелочная верность — не то же ли самое и в живописи, как в
литературе? Напоминаем читателю то, что мы сказали в начале нашей статьи.
Предаваясь такой тщательной копировке, художник мало-помалу
перестает быть художником. Деятельность его превращается в какое-то
машинное производство. Конечно, машинные кружева ровнее и глаже ручных, да
лучше ли они от этого и дороже ли ценятся? [...]
Нужно ли также повторять, что старинное схоластическое определение
«искусство есть украшенное воспроизведение природы» давно признано
годным разве для китайцев. Где-то на вывеске французского парикмахера
в Петербурге, не то на Невском, не то на Морской, крупно написано
золотом по темному фону: «L'art embellit la nature» l. Вот куда пошла эта
эстетика, и никто не находит ее неуместной в девизе какого-нибудь мосье
Жоржа или Эмиля. И между тем перед многими из выставленных картин
пришлось нам вспомнить об этом куаферском лозунге. Савояры в лентах
и шелку, крестьянские дети, чистотою и щеголеватостью похожие на тех
кукол, которых водят гулять в шелковых рубашках и бархатных
поддевках по Летнему саду,— все это так и мечется в глаза своей яркой
несообразностью. И опять-таки не столько виноват недостаток наблюдательности
или наглядного знакомства с жизнью, сколько недостаток серьезного
художественного образования. Только оно (разумеется, при общем развитии)
направит наблюдательность на достойные предметы и укажет в
окружающей художника жизни яркое не одним атласом и бархатом...
До сих пор не редкость увидать изумленное лицо у художника, когда
ему говорят, что в его картине нет мысли. Иной готов спросить, какая же
может быть мысль, например, хоть в грязных уличных мальчиках Мури-
льо? Ясно, что он разумеет под мыслью в художественном произведении
не жизненную правду его, а какой-то дидактизм, вообще несвойственный
искусству. [..,]
«Искусство украшает природу» (франц.).
S97
Мы [...] не имеем притязания быть законодателями; но желали бы,
чтобы наши художники не пренебрегали строгим изучением истории своего
искусства и не возвращались в своих произведениях из XIX века в XII;
чтобы, кроме того, современное состояние просвещения не было для них
делом посторонним; чтобы они были гражданами своей страны и своего
времени, а не какими-то идеальными космополитами без роду и племени;
чтобы предметом их искусства был человек, а не халаты, которые он носит;
чтобы их вдохновляли история и движение современного общества, а не
отживший сентиментализм, жизнь, а не сказочный мир; чтобы они
оставили битую колею рутины и вышли на простор, где шаги их будут тверже
и кругозор шире; чтобы — одним словом — они были прежде всего
современными людьми, если хотят быть современными художниками! [...]
Художественная выставка в Петербурге (1859).—
М. Л. Михайлов, Сочинения в 3-х томах, т. HI, М.,
Гослитиздат, 1958, стр. 34—44.
[ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ]
[...] Дело искусства не обличать, а анализировать и воспроизводить
в художественно верной картине факты действительности. Суд художника
над общественными явлениями заключается в самом изображении их.
С заданною себе целью изыскивать в обществе наиболее заметные в
данную минуту недостатки и карать их искусство теряет свою живучесть, свое
широкое влияние, не ограничиваемое кратким периодом времени. При
желании действовать непосредственно и мгновенно на уродливые явления,
встречаемые в известную эпоху в обществе, художнику следует оставить
стеснительные в этом случае рамки романа, драмы, поэмы; пусть он
превратится тогда в публициста и высказывает ясно и прямо, без всяких
околичностей то, для чего в произведении фантазии ему поневоле придется
насиловать факты, нарушать гармонию действия, придавать характерам
лишние черты и проч. Сатиры вроде ювеналовских возможны в наше
время только в такой форме. Мы знаем публицистов с могучим
художественным талантом; этот талант сохранит надолго их произведения, часто по
существу своему приуроченные только к известному времени. Но вздумай
они вместо чисто публицистской деятельности избрать этот
промежуточный род, называемый обличительными повестями, значение их много бы
убавилось. Разумеется, художник скажется всюду, не только в
обличительной повести, но даже и в фельетоне, да того целого, стройного, ясного
воссоздания действительности, которое мы находим в романистах без так
называемых «задач», в подобном произведении уж никак не будет. Правда,
в наш век, когда каждый норовит встать под знамя какой-нибудь партии,
такие цельные, непосредственные художнические натуры становятся
398
редки. Но тем драгоценнее они для нас и тем выше наслаждение,
доставляемое нам их произведениями.
К числу такого рода редких в наше время художников следует
присоединить г. Писемского. Читая любое из его произведений, вы видите, что
автор человек мыслящий, человек, глубоко понимающий смысл жизни и ее
явлений; но нигде не проглянет его желание навязать вам свою мысль,
свой взгляд на лица и события, которые проходят перед вашими глазами
в его произведениях. В этом великое и важное сходство искусства и жизни.
Как в том, так и в другом не моралисты нас учат, а ход и развитие
событий. Как моралист, объясняя явления жизни, выводит из них законы
нравственности, так дело критика уяснить смысл художественного
произведения. Сам художник, взявшись за эту роль, непременно убавит
жизненности в созданных им лицах; заставляя их действовать для проведения
какой-нибудь заданной мысли, он, независимо от воли своей, придаст им или
чересчур идеальный, или чересчур мрачный колорит, смотря по большему
или меньшему сочувствию его к тем или другим лицам. Надо, чтобы мысль
жила в художнике, была в нем плотью и кровью, и тогда из явлений жизни
поразят его и будут им воспроизведены в художественном изображении
именно те, которые совпадают с его взглядом на мир или противоречат
ему. Яркость красок, определенность и жизненность типов находятся в
прямой зависимости от сочувствия к правильному ходу жизни, от
скорбного чувства при нарушении ее гармонии, одушевляющих художника.
Глубина его мысли, глубина его сердечного понимания скажутся в
образах, которые обманут вас полнотою жизни, кипящей в них, так что
вы готовы будете принять их за самое жизнь. Слово «обманут» в этом
случае, впрочем, непригодно. Искусство, повторим, та же жизнь; мы не
поставим его выше жизни, как это делают некоторые крайние эстетики, но
должны признать, что действие его на личное совершенствование
человека, как и действие науки, глубже и полнее, чем действие
непосредственного соприкосновения с жизнью. Жизнь оставалась бы роковым
хаотическим омутом, если б ею не правили святые, присущие душе
человека силы, проявлением которых служат наука и искусство. Представляя
нам яркую картину наших темных и полудиких страстей, наших тупых и
неразумных общественных антагонизмов, не дает ли искусство светлых
упований сердцу, не раскрывает ли нам широкого горизонта на иную
гармонию жизни, к которой, сбиваясь с пути, падая, ошибаясь, но все-
таки подвигается человечество? Английский поэт Теннисон в одной пьесе
своей, сравнивая бессознательную песню птицы с песнью человека,
говорит, что песня человека оттого так бодра, что он поет о том, чем будет мир,
когда над ним пройдут годы... [...]
Дело критики [...] уяснять смысл художественных произведений. Это
определение слишком обще и вследствие этого слишком неопределенно.
Скажем яснее: жизнь, воспроизведенная художником в его создании,
должна стать предметом строгого суда критики. Само собою разумеется, прежде
чем произнести суд, следует определить, в какой мере верно действитель-
399
ности воспроизведена жизнь художником. Последняя задача составляет
так называемую эстетическую сторону критики; она имеет значение
преимущественно для автора. Первая задача, то есть суд над художественным
произведением как над явлением жизни, дает критике значение
общественное. Соединение в одном лице качеств, нужных для правильного решения
той и другой задачи, представляет для нас идеал критического дарования.
Таких высоких критиков не много во всех литературах. В нашей только
у Белинского критика вместе с эстетическим характером принимала и
характер общественный. Смерть унесла его в пору зрелости и силы мысли,
именно в то время, как эти две стороны начали приходить в нем в
равновесие. Нечего рассказывать, какая путаница в критике нашей пошла с его
смерти, хотя самые разногласные теории ведут свое начало от него же.
Эстетики ухватились за эстетические теории Белинского, дидактики
принялись развивать его же положения об общественном значении искусства,
и те и другие развили эти стороны до безобразных и смешных крайностей.
Горькая судьбина. Драма в четырех действиях
А. Писемского (I860).—Там же, стр. 98—101.
[...] Надо только, чтобы поэт черпал содержание своих произведений из
глубины своей собственной жизни, своего собственного опыта. Только не-
умытная правда сделает их художественным достоянием каждого; только
при полной искренности поэта узнает читатель в его страданиях свои
собственные страдания, в его радостях — свои собственные радости и
переживет с ним свою собственную жизнь. Стоит воображению поэта бросить
немножко неверный свет на чувства, волнующие его сердце, и выражение
их незаметным образом утрачивает свою правдивость, а с нею и влияние
на читателя. [...]
Другой источник вдохновения современного поэта — это негодование
на дикие судьбы нашего общества, сменяющее подчас грусть,
порожденную тем же печальным хаосом, окружающим нас. [...]
Последняя драма Виктора Гюго (I860).—Там же,
стр. 81—82.
СТОРОННИКИ
ЗИСГОГО ЖЖЮСЛВК.
СЛАВЯНОФИЛЫ
Теория «чистого искусства» или «искусства для искусства»
играла видную роль в идейно-художественной борьбе
40—60-х годов. Эта теория выражала
либерально-дворянские тенденции литературного развития и
противостояла учению революционных демократов.
Движение сторонников «чистого искусства» возникло
в конце 40-х годов и в дальнейшем получило широкое
развитие. Оно возглавлялось либерально-дворянскими
деятелями Дружининым и Анненковым, к нему примыкали Григорович,
Боткин и одно время Тургенев, его программные идеи излагались в стихах
Тютчева, Майкова, Фета, А. К. Толстого, Полонского, Щербины.
Сторонники «чистого искусства» считали себя «пушкинским» направлением в
литературе, противопоставляя свои взгляды «гоголевскому» направлению,
«натуральной школе».
Сторонники «чистого искусства» стремились увести искусство от
разоблачения пороков современной общественной жизни в сферу отвлеченных
нравственно-эстетических идеалов, призывая его к выражению «вечных
истин», к служению неизменным добру и красоте. «Дидактическохму»
пониманию искусства они противопоставляли «артистическое», считая, что
401
художник создан не для «житейского волненья», а для «звуков сладких и
молитв».
При этом сторонники «чистого искусства» опирались на Пушкина,
интерпретируя его стихотворение «Поэт» и все его творчество в духе задач
своего направления. Но позиция «искусства для искусства» имела у
Пушкина совсем другой социальный смысл, нежели у Дружинина, Майкова,
Фета, А. Толстого. Провозглашая независимость искусства от обыденной
жизни, Пушкин отгораживался этим от требований «светской черни», от
попыток самодержавно-придворных кругов подчинить его творчество своим
интересам. На деле же он был поэтом-борцом, связавшим свою судьбу
с передовыми, демократическими идеалами эпохи. В отличие от этого
у сторонников «чистого искусства» 40—60-х годов позиция автономности
искусства противопоставлялась задачам революционной общественной
борьбы и демократическим учениям, приобретая тем самым отчетливо
выраженный консервативный общественный смысл.
Чувство природы, любовь, дружба, нравственно-философские
размышления о смысле жизни, углубление в содержание внутреннего мира,
созерцание и осмысление красоты искусства — вот преимущественная тематика
поэтов «чистого искусства». «Чистое искусство» не было на деле
«чистым» — его «чистота» проявлялась в полемической заостренности против
общественной темы в искусстве в ее непосредственном, пропагандистском
выражении. Эстетические декларации сторонников «чистого искусства»
получали преимущественно поэтическое выражение. Так, стихотворение
Я. Полонского «Поэту-гражданину» (1864) обращено к Н. А. Некрасову
и является ответом на призывы к гражданственности в поэзии. Полонский
выражает неверие в возможность влияния поэта на «толпу» (народ):
О гражданин с душой наивной!
Боюсь, твой грозный стих судьбы не пошатнет.
Толпа угрюмая на голос твой призывный,
Не откликаяся, идет...
Завершает же он это стихотворение призывом к вечным ценностям жизни.
Нет правды без любви к природе,
Любви к природе нет без чувства красоты,
Я Познанью нет пути нам без пути к свободе,
Труда — без творческой мечты»..
Несмотря на противоречивость творческих устремлений, связанных
преимущественно с романтическим самоуглублением и наслаждением
красотой природы и искусства, поэты этого направления многого достигли
в области пейзажной и любовной лирики, в жанрах философской
медитации и песни-романса, в развитии стиха и изобразительных средств поэзии.
Эти их достижения сохраняют за произведениями Фета, Майкова,
Полонского значительное место в русской поэзии.
В. В. ВАНСЛОВ
402
* * *
Славянофильство — течение русской мысли, быстро сложившееся
(в трудах А. С. Хомякова, П. Киреевского, К. С. Аксакова и других),
расцветшее и столь же быстро разложившееся, оставив место для
многочисленных своих эпигонов, период деятельности которых, напротив,
продолжался необыкновенно долго,— это течение занимало значительное, весьма
важное место в русской общественной жизни в 40—50-е годы.
Деятельность славянофилов (начинателей и классиков этого движения) пришлась
на критический период в истории России, когда для страны стала
ощутима «опасность» идти по западноевропейскому, капиталистическому пути,
но когда «своеобразие» крепостнической России еще совсем не было
утрачено. Славянофилы очень тонко чувствовали трагическую кризисность
русской действительности, совмещавшую такие кричащие противоположности:
эти два начала и пути, которые, как казалось славянофилам, стояли перед
Россией и между которыми нужно было выбирать, представлялись одно —
исконно русским, составляющим природу русской культуры; другое —
западноевропейским, наносным и еще только поверхностным,
представлявшим опасность пока как тенденция. Эти два начала всю мировую
историю для славянофилов раскололи надвое: естественно было свой
исторический опыт обобщать и переносить на всякую эпоху. В огромном
разнообразии исторических форм культуры славянофилы видели два основных
типа, причем А. С. Хомяков с его универсальными знаниями пытался
проследить их и выявить на всем протяжении всемирной истории. Было
вполне естественно, что мысль славянофилов направлялась к истории, к исто-
рико-типологическим занятиям, которые совсем не безынтересны для
истории научной методологии. Судьбы России и их проекция на огромные
масштабы истории — основная идея всех философских, исторических и
литературных работ славянофилов. Эта идея и тема у славянофилов
оказалась типологически сходной с теми национальными задачами, которые
разрабатывались у немецких романтиков в сходных исторических условиях
(те же два пути развития, то же столкновение и то же противоречивое
взаимосуществование двух противоположных тенденций),— отсюда у
славянофилов продолжение немецкого романтизма и в философском и в
историческом плане. Как философская проблема — идея целостности
(цельность культуры как замкнутой системы со своими законами, органичность
культуры), историческая проблема — замкнутые типы культуры, их
повторяемость. Как и у немецких романтиков социальные взгляды в
исходных своих моментах консервативны — для славянофилов важно замкнуть
размыкающиеся системы, то есть, например, цельность русской культуры
(определенных общественных отношений), «заражаемую»
западноевропейскими началами (то есть порождающую новые общественные
отношения), снова свести к самой себе, выявить «исконные» начала и их уже
сознательно сохранять, «консервировать»; также замкнуть и
западноевропейскую культуру, оставить ее в себе и для себя. Философские взгляды
403
славянофилов, если рассмотреть их в плане социальном, как выражение
социальных взглядов, воспроизведут те же тенденции и с еще большей
ясностью, поскольку собственно социальный смысл их доктрины не был
вполне ясен славянофилам, В философии проблема замкнутости целого
и его приоритета перед динамикой развития, проблема интуитивного,
цельного знания, иррационализм — все метаморфозы того же социального
консерватизма (хотя такой угол зрения не снимает и не ставит даже вопроса
о ценности философии славянофилов, взятой как таковая).
Славянофилы с их стремлением к последовательности и философскому
оправданию своих тезисов всегда были на подозрении у официальной
России. Консерватизм официальных идеологов России, стремившихся сделать
народ послушным и безответным орудием той политики, которая
учитывала и динамику развития общества в той мере, в какой это развитие
отвечало интересам государственности, отличался от консерватизма
славянофилов, рассматривавших народ (то есть в первую очередь крестьянство)
как носителя истинной, исконной, цельной и конкретной культуры.
Проблема «народности», центральная в общественной мысли 30—50-х годов,
решавшаяся по-своему всеми — от Белинского до графа Уварова,—
славянофилами ставилась оригинально, специфично Ч «Жизненное начало
(то есть органичность, цельность культуры.— А. М.) утрачено нами,—
писал А. С. Хомяков,— но оно утрачено только нами, принявшими ложное
полузнание по ложным путям. [....] Жизнь наша цела и крепка. Она
сохранена, как неприкосновенный залог, тою многострадавшею Русью, которая
не приняла еще в себя нашего скудного полупросвещения. Эту жизнь мы
можем восстановить в себе: стоит только ее полюбить искреннею любо-
вию» 2. Характерно в этой связи отрицание народности за всей русской
литературой послепетровского времени, то есть как раз времени,
«принявшего полупросвещение».
Как цельность культуры обеспечивается и определяется верой, так
цельность, жизненность, действенность искусства (в первую очередь
литературы) обеспечивается словом, языком, который славянофилы в полном
соответствии с романтическими представлениями понимали как выраже-
1 Точка сближения славянофилов с официальными идеологами народности
могла быть в том, что славянофилы религию считали моментом, определяющим
сущность культуры. Именно тип религии решительно влияет на характер целого. Вера
определяет жизнь и историю страны. По словам И. Киреевского, «в цельном
мышлении, при каждом движении души, все ее струны должны быть слышны в
полном аккорде, сливаясь в один гармонический звук. Ибо православно-верующий
знает, что для цельной истины нужна цельность разума, и искание этой цельности
составляет постоянную задачу его мышления» (пит. по кн.: Н. Л. Бродский,
Ранние славянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы, М.,
1910, стр. XLV). Но принципиальное отличие славянофильских идей от
официальной формулы «православия, самодержавия, народности», именно в понимании
народа и в противоположности славянофильской философской метафизики
практическому догматиаму и идейной выхолощенности пресловутой формулы.
2 А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, т. I, М., 1861, стр. 91.
404
ние духа народа 1. Как писал К. С. Аксаков, «в слове более всето
выражается необходимое соединение общечеловеческого с народным.
Общечеловеческого слова нет, а есть слово народное; но слово народное может
быть полезным всякому человеку в силу общечеловеческого своего
значения. Итак, слово непременно народно; а следовательно, и высшее
искусство, искусство в слове, поэзия, для которого слово не есть средство, но
часть самого его творческого создания, необходимо соединено с
народностью» 2. Говоря об искусстве как выражении народного духа,
славянофилы приходили к той же неконкретности и недиалектичности* что и
поздний Толстой: по словам К. С. Аксакова, «истинное произведение поэзии,
непременно народное, должно быть таково, чтоб оно могло нравиться не
некоторым только, а всему народу, который чувствует, что он в нем
выражается» 3.
Славянофилы при всем их консерватизме и тяготении к первозданной
дельности культуры 4 активно участвовали в общественных столкновениях
ж литературной борьбе своего времени — оружием этого времени.
Народность искусства и для них (как и для Белинского) совсем не означала
этнографизма и воспроизведения одних только внешних средств характера
человека. Именно поэтому славянофилы защищали общественный,
общественно-полемический и конкретный характер произведений искусства.
Поэтому славянофилы выступали и против чисто внешнего копирования
народного характера и одновременно против отхода от задач настоящего
времени. «Общественный интерес — вот что должно быть задачей
литературных произведений»,— так вполне ясно и недвусмысленно К. С. Аксаков
писал о целях литературы 5. При этом вряд ли нужно оговаривать, что все
общественные интересы славянофилы воспринимали в контексте своей
1 Ср. в третьем томе настоящего издания суждения о языке и искусстве в
переписке немецких романтиков А. фон Арнима и Я. Гримма. Славянофилы ценили
язык и искусство также и за то обнаружение и воспроизведение конкретной
цельности бытия, которое, по их мнению, происходит в слове. «Изящное искусство есть
деятельность духа человеческого, представляющая истину в образе, или другими
словами: деятельность художественная. В искусстве мысль является не как мысль,
постигаемая лишь умом (принимаем это слово в смысле формы), но как образ,
видимый очами, доступный слуху, наружно или внутренно... Если исчезнет образ,
то исчезнет и искусство. Только когда соблюдена середина между тусклою
вещественностью и прозрачной тонкостью формы, создание искусства может быть
художественным» (К. С. Аксаков, цит. яо кн.: Н. Л. Бродский, Ранние
славянофилы..., стр. 137).
2 Н. Л. Бродский, Ранние славянофилы»., стр. 138.
3 Τ а м же, стр. 139. «Художество...— писал А. С. Хомяков,— не есть
произведение единичного духа, но произведение духа народного в одном каком-либо лице»
(А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, -т. I, стр. 96).
4 К. С. Аксаков писал торжественным слогом о народе, имея в виду глубину
его традиций, их неподвижную устойчивость: «...народ, имеющий кое-что в своих
воспоминаниях, имеющий как народ тяжесть и твердость действительности в своих
движениях и переходах...» (цит. по кн.: Н. Л. Бродский, Ранние славянофилы...,
стр. 132).
5 Τ а м же, стр. 135.
405
консервативной утопии — возвращения к предполагаемой цельности
народной культуры. Истинная поэзия (как и всякое изящное искусство)
народна,— пояснял К. С. Аксаков позицию славянофилов,— но это не
значит, что предметом поэзии должно быть только народное. Напротив:
предметом поэзии может быть весь мир, все человечество. Народность
заключается в самом соверцании, в самом создании поэзии» 1. В своем
понимании литературы славянофилы были чужды всякой точки зрения
«искусства для искусства» и, напротив, склонялись к некоторой «утилитарной»
концепции искусства: по словам того же К. С. Аксакова, «... есть эпохи
в жизни народной, когда при всяком, даже поэтическом, произведении
является вопрос: что этим доказывается? Таковы эпохи исканий,
исследований, трудовые эпохи постижения и решения общих вопросов. Такова
наша эпоха» 2.
Позиция ранних славянофилов с их концепциями общественной роли
искусства в конкретных условиях их времени отличалась большой
сложностью и противоречивостью. Сама действительность вела к тому, что
выявились и положительные и негативные моменты их концепции, и при этом
с большой полнотой. Но если их концепция и могла оказаться
диалектической — в самой диалектике жизни, то по существу в ней преобладали
моменты метафизические, элементы абстрактности, идущие от
абсолютизации целого ряда понятий (таких, как «народ»), содержание которых не
было ясно раскрыто славянофилами, от статической концепции культуры,
от очевидного консерватизма общественных убеждений3.
Процесс развития (распада) славянофильства, процесс его
самопознания (то есть осознания его представителями исторически объективных
целей славянофильства) привел к тому, что уже через несколько
десятилетий после начала самого движения (с 70-х годов) славянофильство,
с одной стороны, дало фигуру Владимира Соловьева, мыслителя сложного,
весьма противоречивого и интересного в смешении своих прогрессивных
взглядов и заблуждений, философа очень и очень критичного к
славянофилам и предпосылкам их мировоззрения, а с другой стороны,
Константина Леонтьева, человека, в совершенно ясной и сознательной форме
представившего все реакционные тенденции славянофильства, обнажившего
их,— поскольку они были ведь с самого начала. Ультрареакционность
К. Леонтьева интересна тем, что в ней предпосылки славянофильства
развиваются с логической последовательностью и откровенностью, не
оставляющей желать ничего лучшего. Идеи славянофильства, взятые в
новых, конкретных условиях 70-х годов, раскрываются как последовательная
защита уже ушедших в прошлое общественных условий (крепостничества)
1 Н. Л. Б ρ о д с к и й, Ранние славянофилы..., стр. 139.
2 Там же, стр. 135.
3 Общественно-политические взгляды славянофилов, их роль в общественной
борьбе своего времени подробно раскрыты в книге польского ученого А. Валицкого
о русских «консервативных утопиях» (A. Walicki, Wkrçgu konserwatiwnej utopii,
Warszawa, 1964).
406
и той дворянской культуры, которая воспринимается уже как чистый
эстетизм и из которой выбрасываются все некогда исторически прогрессивные
элементы. Эту формальную дворянскую культуру и имеет в виду К.
Леонтьев, когда говорит о славянской культуре, взвешивая судьбы славянских
народов и переродившуюся идею «культурной целостности». «...Не столько
сами славяне важны, сколько то, что в них есть особенного славянского,
отделяющего нас от Запада... Славянофил истинный не славян во что бы
то ни стало и во всех формах должен любить, а именно это особое
культурно славянское...— писал К. Леонтьев в своей автобиографии. И
далее: — Дело в своей культуре, а вовсе не в славянах» х. Так в процессе
своего исторического развития славянофильская мысль пришла к
самоотрицанию.
К. Леонтьев интересен еще и тем, что он так же логично завершил и
историческую концепцию славянофилов, в том числе и концепцию развития
искусства, впервые, может быть, ясно изложив циклическую схему развития
культуры в откровенно реакционном духе 2. К. Леонтьев выступает
против демократизма современной культуры, а в области искусства — против
реализма, против демократизации литературы. В истории всякой культуры
он находит три периода — период первоначальной простоты, период
цветущей сложности, период смешения и вторичного упрощения. Современность
К. Леонтьев рассматривает как безусловное падение культуры3.
«Примером вторичного упрощения всех прежних европейских стилей,— пишет
К. Леонтьев,— может служить современный реализм литературного
искусства. В нем есть нечто и эклектическое (то есть смешанное), и
приниженное, количественно павшее, плоское. Типические представители великих
стилей поэзии все чрезвычайно несходны между собою: у них чрезвычайно
много внутреннего содержания, много отличительных признаков, много
индивидуальности... В настоящее время, особливо после 48 года, все сме-
шаннее и сходнее между собою: общий стиль — отсутствие стиля и
отсутствие субъективного духа, любви, чувства. Диккенс в Англии и Жорж-Занд
во Франции (я говорю про ее старые вещи), как они ни различны друг от
друга, но были оба последними представителями сложного единства, силы,
богатства, теплоты. Реализм простой наблюдательности уже потому беднее,
проще, что в нем уже нет автора, нет личности, вдохновения, поэтому он
пошлее, демократичнее, доступнее всякому бездарному человеку, и
пишущему и читающему. Нынешний объективный, безличный всеобщий
реализм есть вторичное смесительное упрощение, последовавшее за теплой
объективностью Гёте, Вальтер-Скотта, Диккенса и прежнего Жорж-Занда,
1 Автобиография Константина Леонтьева.—«Литературное наследство», №22—
24, Мм 1935, стр. 445. Курсив всюду К. Леонтьева.
2 Продолжателем К. Леонтьева на Западе был О. Шпенглер с его «Закатом
Европы».
3 Здесь К. Леонтьев выступает предшественником многочисленных буржуазных
теоретиков искусства, не приемлющих и не понимающих современного искусства.
407
больше ничего» !. Так завершился органически протекавший процесс
развития, саморазоблачения и отрицания славянофильства.
А. В. МИХАЙЛОВ
И. В. КИРЕЕВСКИЙ
1806-1856
Иван Васильевич Киреевский — критик, публицист и философ. В его развитии
и творческой деятельности можно установить два периода, хотя последние не
разделены четкой гранью.
В начале 20-х годов Киреевский принадлежал к левому крылу любомудров.
Он с увлечением читал Гельвеция, высоко оценивал Робеспьера. После поражения
декабристов Киреевский заметно поправел, но все же вплоть до середины 30-х
годов оставался сторонником европеизации России, критиковал тех, кто хотел
развивать национальное «за счет европейских нововведений».
В 40-е и 50-е годы Киреевский — один из виднейших идеологов
славянофильства. Теперь он усматривает залог самобытного и правильного развития России
в русском патриархальном быте, созданном «по понятиям прежней образованности».
Деятельность Киреевского как критика и теоретика литературы протекала
в основном в первый период. Выступив в печати в 1828 году статьей «Нечто о
характере поэзии Пушкина», Киреевский выдвинулся в число наиболее ярких
деятелей русской философской эстетики. Много внимания уделяет он проблеме смены
литературных форм («периодов»), вызванной развитием «человеческого духа».
Характерные признаки последней, высшей формы — это «уважение к
действительности», равное внимание ко всем сторонам и «минутам жизни», а не только к одним
ее «вершинам», как это было свойственно эстетике классицизма и романтизма,
В статье «Обозрение русской словесности за 1829 год» (1830) Киреевский называет
этот период пушкинским.
Понимание Киреевским третьей, высшей формы развития поэзии связано с его
реалистическими исканиями. Отсюда проницательная критика субъективности
романтического метода типа Байрона или Руссо (в то время художественный метод
Руссо часто воспринимался как аналог байроновского метода).
Отход Киреевского от «философии тождества» в начале 30-х годов обострил его
интерес к специфике искусства. Киреевский теперь склонен придавать большее
значение интуиции как в построении художественного образа, так и в деятельности
критика, постигающего произведение,— это «прекрасно-непонятное — силою
сочувствия и сопереживания».
В размышлениях Киреевского о природе художественного чувства, о методе
эстетики много ценного. Но в них чувствуется и зародыш его позднейшего
мистического умонастроения.
1 К. Леонтьев, Собрание сочинений, т* V, М., 1912, стр. 195.
408
Во второй период своей деятельности Киреевский отошел от критики, от
проблем эстетики, по-видимому не придавая искусству такого значения, как раньше.
В это время возрастает его интерес к духовной, христианско-православной
литературе.
ПИСЬМО А. С. ХОМЯКОВУ
от 15 июля 1840 года
[...] Мысль моя та, что логическое сознание, переводя дело в слово,
жизнь в формулу, схватывает предмет не вполне, уничтожает его действие
на душу. Живя в этом разуме, мы живем на плане, вместо того чтобы жить
в доме, и, начертав план, думаем, что состроили здание. Когда же дойдет
дело до настоящей постройки, нам уже тяжело нести камень вместо
карандаша. Оттого, говоря вообще, в наше время воля осталась почти только
у необразованных или у духовно образованных.— Но так как в наше время
волею или неволею человек мыслящий должен провести свои познания
сквозь логическое иго, то по крайней мере он должен знать, что здесь не
верх знания, и есть еще ступень, знание гипер-логическое, где свет не
свечка, а жизнь. Здесь воля растет вместе с мыслию.— Ты поймешь меня
без распространений. Этим, между прочим, объясняется факт, который
каждый из нас испытал тысячу раз, что мысль до тех пор занимает нас
горячо и плодоносно, покуда мы не выскажем ее другому. Тогда внимание
наше от предмета живого обратится к его изображению, и мы удивляемся,
отчего вдруг он перестает на нас действовать, забывая, что цветок на
бумаге не растет и не пахнет. Покуда мысль ясна для разума или доступна
слову, она еще бессильна на душу и волю. Когда же она разовьется до
невыразимости, тогда только пришла в зрелость. Это невыразимое,
проглядывая сквозь выражение, дает силу поэзии и музыке и пр. Оттого есть
только одна минута, когда произведение искусства действует вполне. Во
второй раз после этой минуты оно действует слабее, покуда наконец совсем
перестанет действовать, так что песня в десятый раз сряду уже несносна,
картина над письменным столом почти как песочница, оттого что сила не
в выражении. Через несколько времени та же картина и песня могут
действовать на нас по-прежнему или еще сильнее, только надобно не
ограничиваться их впечатлением, а внимать их отношению к своей
неразгаданной душе. И чем более человек найдет в душе неразгаданного, тем он
глубже постиг себя. Чувство вполне высказанное перестает быть чувством.
И в этом смысле также справедливо слово: где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше!
И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений
в 2-х томах, т. I, М., 1911, стр. 67.
409
ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ЗА 1829 г,
(1830)
[...] История в наше время есть центр всех познаний, наука наук,
единственное условие всякого развития; направление историческое обнимает
все. Политические мнения для приобретения своей достоверности должны
обратиться к событиям, следовательно, к истории: так Тьерри, чтобы
защитить некоторые положения в парламенте, написал Историю Франции.
Философия, сомкнувши круг своего развития сознанием тожества ума и
бытия, устремила всю деятельность на применение умозрений к
действительности, к событиям, к истории природы и человека. Математика
остановилась в открытии общих законов и обратилась к частным приложениям,
к сведению теории на существенность действительности. Поэзия,
выражение всеобщности человеческого духа, должна была также перейти в
действительность и сосредоточиться в роде историческом. [...]
И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений
в 2-х томах, т. И, М., 1911, стр. 19.
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК
(1832)
[...] Итак, чтобы определить эту соответственность между требованиями
текущей минуты и настоящим состоянием поэзии, надобно найти общие
качества, которые бы равно были свойственны всем писателям,
пользующимся незаслуженными успехами. Ибо чем менее таланта в счастливом
писателе, тем более обнаруживает он требования своей публики.
По моему мнению, в самых изысканностях и нееетественностях, в
отвратительных картинах, перемешанных с лирическими выходками, в
несообразности тона с предметом, одним словом, во всем, что называют
безвкусием у большей части счастливых писателей нашего времени,— заметны
следующие отличительные качества:
1-е. Больше восторженности, чем чувствительности.
2-е. Жажда сильных потрясений, без уважения к их стройности.
3-е. Воображение, наполненное одною действительностью во всей
наготе ее.
Постараемся соединить в уме эти три качества и спросим самих себя:
что предполагают они в человеке, который ищет их в поэзии?
Без сомнения, качества сии предполагают холодность, прозаизм,
положительность и вообще исключительное стремление к практической
деятельности. То же можно сказать и о большинстве публики в самых
просвещенных государствах Европы.
Вот отчего многие думают, что время поэзии прошло и что ее место
заступила жизнь действительная. Но неужели в этом стремлении к жизни
действительной нет своей особенной поэзии? — Именно из того, что жизнь
410
вытесняет поэзию, должны мы заключить, что стремление к жизни и к
поэзии сошлись и что, следовательно, час для поэта жизни наступил.
И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений, т. I,
стр. 91.
НЕЧТО О ХАРАКТЕРЕ ПОЭЗИИ ПУШКИНА
(1828)
Утешительно в постепенном развитии поэта замечать беспрестанное
усовершенствование; но еще утешительнее видеть сильное влияние,
которое поэт имеет на своих соотечественников. Не многим, избранным
судьбою, досталось в удел еще при жизни наслаждаться их любовью. Пушкин
принадлежит к их числу, и это открывает нам еще одно важное качество
в характере его поэзии: соответственность с своим временем.
Мало быть поэтом, чтобы быть народным: надобно еще быть
воспитанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять надежды
своего отечества, его стремление, его утраты,— словом, жить его жизнью
и выражать его невольно, выражая себя. Пусть случай такое счастье; но
не так же ли мало зависят от нас красота, ум, прозорливость, все те
качества, которыми человек пленяет человека? И ужели качества сии
существеннее достоинства: отражать в себе жизнь своего народа?
И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений,
т. И, стр. 13.
ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ЗА 1829 г.
[...] Всякое подражание по системе должно быть холодно и бездушно.
Только подражание из любви может быть поэтическим и даже
творческим. Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть самих
себя? И не оттого ли мы и любим образец наш, что находим в нем черты,
соответствующие требованиям нашего духа? Вот отчего новейшие всегда
остаются новейшими во всех удачных подражаниях древним; скажу более:
нет ни одного истинно изящного перевода древних классиков, где бы не
легли следы такого состояния души, которого не знали наши праотцы по
уму. Чувство религиозное, коим мы обязаны христианству; романтическая
любовь — подарок арабов и варваров; уныние — дитя Севера и
зависимости; всякого рода фанатизм — необходимый плод борьбы вековых
неустройств Европы с порывами к улучшению; наконец, перевес мысленности
над чувствами и оттуда стремление к единству и сосредоточенью — вот
новые струны, которые жизнь новейших народов натянула на сердце
человека. Напрасно думает он заглушить их стон, ударяя в лиру Греции; они
невольно отзываются на его песню, и вместо простого звука является
аккорд. [...]
Там же, стр. 30—31.
411
ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ЗА 1831 г.
(1832)
[...] Большая часть трагедий, особенно новейших, имеет предметом дело
совершающееся или долженствующее совершиться. Трагедия Пушкина
«Борис Годунов» развивает последствия дела уже совершенного, и
преступление Бориса является не как действие, но как сила, как мысль,
которая обнаруживается мало-помалу, то в шепоте царедворца, то в тихих
воспоминаниях отшельника, то в одиноких мечтах Григория, то в силе и
успехах Самозванца, то в ропоте придворном, то в волнениях народа, то,
наконец, в громком ниспровержении неправедно царствовавшего дома. Это
постепенное возрастание коренной мысли в событиях разнородных, но
связанных между собой одним источником, дает ей характер сильно
трагический и таким образом позволяет ей заступить место господствующего
лица, или страсти, или поступка.
Такое трагическое воплощение мысли более свойственно древним, чем
новейшим. Однако мы могли бы найти его и в новейших трагедиях,
например в «Мессинской невесте», в «Фаусте», в «Манфреде»; но мы боимся
сравнений: где дело идет о созидании новом, пример легче может сбить,
чем навести на истинное воззрение. [...]
Там же, стр. 46.
О СТИХОТВОРЕНИЯХ г. ЯЗЫКОВА
(1834)
[...] На некоторой степени совершенства искусство само себя
уничтожает, обращаясь в мысль, превращаясь в душу.
Но эта душа изящных созданий — душа нежная, музыкальная, которая
трепещет в звуках и дышет в красках,— неуловима для разума. Понять ее
может только другая душа, ею проникнутая. Вот почему критика
произведений образцовых должна быть не столько судом, сколько простым
свидетельством; ибо зависит от личности и потому может быть произвольною,
и основана на сочувствии, и потому должна быть пристрастною.
Что же делать критикам систематическим, которые хотят доказывать
красоту и заставляют вас наслаждаться по правилам, указывая на то, что
хорошо, и на то, что дурно? — Им в утешение остаются произведения
обыкновенные, для которых есть законы положительные, ясные, не подлежащие
произвольному толкованию,— и надобно признаться, что это утешение
огромное; ибо в литературе каждого народа встречаете вы немногих поэтов-
двигателей, тогда как все другие только следуют данному ими
направлению, подлежа критике одним искусством исполнения, но не душою
создания.
Несколько светильников, окруженных тысячью разбитых зеркальных
кусков, где тысячу раз повторяется одно и то же,— вот образ литературы
412
самых просвещенных народов. Сколько же приятных занятий для того,
кто захочет исчислять все углы отражений света на этих зеркальных
обломках.
Но если вообще то, что мы называем душой искусства, не может быть
доказано посредством математических доводов, но должно быть прямо
понято сердцем либо просто принято на веру,— то еще менее можно
требовать доказательств строго математических там, где дело идет о поэте
молодом, которого произведения хотя и носят на себе признаки поэзии
оригинальной, но далеко еще не представляют ее полного развития. [...]
Там же, стр. 82—83.
ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ЗА 1831 г.
[...] Художественное совершенство, как образованность, есть качество
второстепенное и относительное; иногда оно, как маска на скелете, только
прикрывает внутреннюю безжизненность; иногда, как лицо благорожден-
ной души, оно служит ее зеркалом и выражением; но, во всяком случае,
его достоинство не самобытное и зависит от внутренней, его одушевляющей
поэзии. Потому, чтобы оценить, как должно, поэму Баратынского,
постараемся определить общий характер его поэзии, и посмотрим, как она
выразилась в его последнем произведении. [...]
Там же, стр. 49.
А. С. ХОМЯКОВ
1804-1860
Алексей Степанович Хомяков принадлежал к числу блестяще и всесторонне
образованных русских людей своего времени. Знания Хомякова охватывали и
философию, и богословие, и историю: он оставил большое количество трудов,
включающих и абстрактно-философские и посвященные конкретным вопросам хозяйства
и техническим изобретениям. Несколько томов его исторических заметок
представляют и поныне значительный интерес (интересна его классификация религий,
интересно философское истолкование «языка религий» и т. д.).
В области литературы и искусства А. С. Хомяков положил основание
определенному кругу славянофильских представлений. Именно Хомяков может считаться
классиком славянофильского направления. Говоря о соотношении индивидуального
и народного в художественном творчестве, Хомяков почти до предела доводит
наивное понимание коллективизма творчества, растворяя индивидуальное в
нивелированном целом. Хомяков же с категоричной определенностью пишет о
бесплодности духовной жизни на Западе — с резкостью, как никто до него. В то же время
Хомяков высоко оценивал перспективы и возможности русского искусства, причем
в этой высокой оценке он предвосхищает позднейшее превознесение русского
искусства (в некоторой степени за счет недооценки западного), как оно имело место,
например, у В. В. Стасова. Тем не менее Хомяков весьма проницательно и
справедливо, при этом одним из первых, оценил оперу М. Глинки «Иван Сусанин»
413
(первоначальное название — «Жизнь за царя»). В 1844 году Хомяков написал об
этой опере статью в «Москвитянине», где говорил о ней как о «явлении вполне
русском и созданном из конца в конец духом жизни и истории русской». Эту статью
Хомяков закончил следующими словами: «...это произведение останется
бессмертным не только как первая русская опера, но и как вполне русское созданье. Новая
эра не будет уже довольствоваться пастичьями и подражаниями старым формам,
этим мертвым торжеством баварского искусства. Она создаст новые живые формы,
полные духовного смысла, в живописи и зодчестве,— были бы только художники
вполне русские и жили бы вполне русскою жизнию. Словесность и музыка дали
уже великий пример в Гоголе и Глинке.— Нет человечески истинного без истинно
народного!» 1
О ВОЗМОЖНОСТИ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ школы
(1847)
[...] Не ив ума одного возникает искусство. Оно не есть произведение
одинокой личности и ее эгоистической рассудочности. В нем сосредоточивается
и выражается полнота человеческой жизни с ее просвещением, волею
и верованием. Художник не творит собственною своею силою: духовная
сила народа творит в художнике. Поэтому очевидно, что всякое художество
должно быть и не может не быть народным. Оно есть цвет духа живого,
восходящего до сознания, или, как я уже сказал,— образ самосознающейся
жизни. У нас, при разрыве между жизнию и знанием — оно невозможно.
Конечно, по-видимому, можно бы обойтись и без искусств: найдутся
многие, которые или не дорожат ими, или не видят в них никакой
необходимости, хотя могут и умеют ими наслаждаться по-своему, как хорошим
столом, устрицами и другими отрадами роскошного комфорта. Эта черта
(довольно общая во Франции, всегда готовой возводить всякое ремесло до
художества, потому что она всегда низводит художество до ремесла) не
слишком редка и у нас. Спорить не об чем: всякой волен в своих вкусах
и желаниях. Быть может, жаль бы было лишить всякой художественной
будущности народ, который дал такие прекрасные задатки искусству в
звуке и слове и который даже в живописи и зодчестве давал великие
обещания, понятные всякому истинному художнику, изучавшему наши старые
иконы и строения; но тут еще беда невелика. Важно то, что народ,
способный к художествам, не может лишиться иначе их развития, как утратив
целость и здравие своей внутренней жизни. Он обречен на бессилие в
науке, так же как и в искусстве; ибо наука, как я уже сказал, тесно
связана с жизнию. [...]
А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, т. Ï,
М., 1861, стр. 75-76.
1 А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, т. I, М., 1861, стр. 418.
414
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ И. В. КИРЕЕВСКОГО:
О характере просвещения Европы
и его отношении к просвещению России
(1852)
f...] Многие унижают сознание, утверждая, что только то, что человек
творит бессознательно, представляет всю искреннюю полноту его жизни,
будучи плодом всей его внутренней сущности, а не делом часто
обманывающего, всегда холодящего, а иногда мертвящего рассуждения. Другие,
признавая сознание необходимым условием всякого дела разумного и
нравственного, полагают, что его не нужно искать по тому самому, что оно
всегда присутствует при всяком действии человека, не опьяненного какою-
нибудь страстью. Первым отсутствие сознания покажется скорее
достоинством, чем недостатком, вторым — чистою невозможностью. Думаю, что и
те и другие будут неправы. Первые смешивают идею сознания с идеею
предварительного и одностороннего рассуждения и не понимают сознания
полного, присущего всякой мысли, которая облекает себя в дело,—
сознания, еще не отделяющегося, хотя и способного отделиться от дела. Это
сознание, еще не уясненное, не определившееся для самого себя, не может
отсутствовать ни при каком деле разумном: без него человек обращается
просто в одну из живых сил природы, движимых невольными
побуждениями и не подчиненных никакому нравственному закону: он не человек.
Он сам не мог бы понимать своего дела, если бы не сознавал его в самое
время совершения; он находился бы, наконец, в том незавидном состоянии,
в которое приводят людей иные болезни, пьянство или крайний испуг.
Правда, часто называют бессознательными прекраснейшие явления
мысленного мира, как, например, художественные творения, но в этом случае
слово неясно выражает мысль. Художник действительно имеет полное
сознание того, что хочет творить, и самое его творение есть только
воплощение сознанного. Если бы ваятель не знал и не видел перед своим
внутренним зрением того Аполлона или Зевса, которого он намерен выбить из
мрамора, где бы остановился его резец? Он, очевидно, стал бы крошить
камень, покуда оставался бы хоть один не искрошенный кусок. Предел
работы определяется предшествующим сознанием. Художественная воля
задумывает, художественное воображение созидает, художественная
критика сопровождает и одобряет творение. Это, кажется, ясно. Итак,
собственно бессознательным можно назвать только то разумное дело, в
котором не отсутствует сознание, но в котором оно не отделилось и не получило
самостоятельности: в этом ограниченном смысле, но только в нем,
справедливо высокое уважение к бессознательным выражениям волящего
разума или разумеющей воли; ибо отдельная самостоятельность сознания,
законная после дела, не должна ему предшествовать: иначе она обессилит
или убьет самое дело своей ограниченностью и склонностью к рассудочной
односторонности. Она последнее и замыкающее звено в цепи духовных
явлений и не должна становиться на такое место, которое ей не следует.
415
Это особенно явно в произведениях художественных, потому что они
требуют полного согласия и стройности душевных сил и не допускают
извращения в последовательности их проявления. [...]
Там же, стр. 248-249.
ПИСЬМО В ПЕТЕРБУРГ ПО ПОВОДУ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
(1845)
[...] Мы называем свою словесность и считаем ряды более или менее
почетных имен, и эта словесность по мысли и слову доступна только тем,
которые и по внутренней жизни и даже по наружности уже расторгли
живую цепь преданий старины; зато и бледное слово и бледная мысль
обличают чужеземное происхождение привитого растения. Были, без сомнения,
и в словесности нашей явления, которые кажутся исключениями; но эти
явления суть только отдельные произведения или только части
произведений, и никогда, до нашего времени, не было ни одного поэта (в стихах или
прозе), который бы во всей целости своих творений выступил как человек
вполне русский, как человек вполне свободный от примеси чужой. Конечно,
тупа та критика, которая не слышит русской жизни в Державине,
Языкове и особенно в Крылове, а в Жуковском, в Пушкине и еще более, может
быть, в Лермонтове не видит живых следов старорусского песенного слова
и которая не замечает, что эти следы всегда живо и сильно потрясают
русского читателя, согревая ему сердце чем-то родным и чего он сам не
угадывает. Тупа та критика, которая не сознает во всей нашей словесности
характера особенного и принадлежащего только нам. Но этот характер
никогда не развивался вполне: он робко выглядывал из-под чужих форм,
не сознавая себя, иногда и стыдясь самого себя. Нашему времени было
предоставлено услышать наконец голос художника вполне свободного,
вполне самостоятельного. Трудно сказать, чем он спасен,— силою ли своего
внутреннего духа, особенностию ли прекрасной, истинно художнической
области, в которой он родился и которая была менее северных областей
захвачена нашей умственною жизнию прошедшего столетия? Во всяком
случае, он принадлежит будущей эпохе, а не прошедшей. В нашу он
является великим исключением, мало еще понятным для большой части
читателей, получивших от образованности завидное право быть судьями.
Художество звука подвергалось той же участи, как художество слова.
Оба они были богаты и самобытны у нас в своем народном развитии, богаче,
чем у какого другого народа; оба обеднели с введением в Россию новых
художественных стихий, которыми не овладела еще вполне русская жизнь:
но и в музыке, как и в словесности, наступило духовное освобождение,
и великий художник пробудил заснувшую силу нашего музыкального
творчества. Но мы еще боимся верить своему мелодическому богатству:
привычные к подражанию и к коленопреклонению перед чудными образцами
западного художества, мы не смеем еще думать, что нам предстоит попри-
416
ще оригинального развития, что мы должны найти свое выражение для
своего внутреннего чувства. Разумная потребность искусства самобытного
для нас ясна и зовет нас на подвиг, а вековая покорность перед чуждыми
образцами останавливает наши шаги и холодит нашу надежду. Так, еще
недавно просвещенный знаток и горячий любитель музыки обещал нам
новое русское искусство, составленное из итальянской мелодии, немецкой
гармонии и французской драматичности, как будто бы не к этой цели (за
исключением сомнительной французской драматичности) стремится
всякий художник во всяком западном народе, как будто бы не ее достиг
Моцарт в своем Дон-Джиованни. Странная была бы наша оригинальность,
оригинальность всеподражанья, оригинальность художественного
эклектизма. Такая музыкальная будущность могла бы порадовать какой-нибудь
народ, никогда не создавший ни одной живой мелодии, например
французов. Но можно ли ее обещать нам, детям славянского племени, племени
самого богатого из всех европейских племен разнообразною, самобытною
и глубоко сердечною песнию? Разве те чувства, которыми жили мы
исстари, заглохли совсем? Разве звуки, которые так верно и художественно
выражали эти чувства, могут когда-нибудь сделаться нам чужими? Разве
когда-нибудь может перерваться та чудная, тайная цедь, которая
связывает русскую душу с русской песней? А какой-нибудь закон иноземной
мелодии, то есть иноземной души (ибо мелодия есть также ее слово), может
быть нам роднее нашей родной?
Художество звука и художество слова были нашим достояньем
издревле; они изменились с измененьем жизни, но беспрестанно в них
прорывались родное чувство и родная мысль. Художество формы явилось нам как
новая стихия, как новый мир деятельности духовной, совершенно чуждой
нашей старине. Если и была когда-нибудь в России школа живописи, и если
высокие произведения, недавно отысканные на стенах наших старых
церквей в Киеве и Владимире, действительно принадлежали художникам
русским, а не византийским, то по крайней мере цепь преданья была так
совершенно разорвана в продолжение стольких веков, что она не могла
представить никакого руководства для новой художественной школы.
Поэтому живопись была нововведеньем вполне. Не без славы стали мы на
новое поприще, не без гордого удовольствия можем мы сказать, что
художники наши занимают едва ли не первое место между всеми художниками
современной Европы, за исключением одной Германии (хотя и это
исключение сомнительно); но добросовестная критика, отдавая справедливость
прекрасным произведениям, созданным в России и отчасти русскими,
может и должна спросить: принадлежат ли они вполне России? созданы ли
они русским духом? Фламандец, вступая в свою национальную галерею,
узнает в ней себя. Он чувствует, что не его рукою, но его душою, его
внутренней жизнью живут и дышат волшебные произведения Рубенса или
Рембрандта. Эти грубые и тяжело-материальные формы — это его
фламандское воображенье; эта добродушная и веселая простота — это его
фламандский характер; эти солнечные лучи, эта чудная светотень, схвачея-
417
ные и увековеченные кистью,— это его фламандская радость и любовь.
То же самое чувствует и немец перед своими Гольбейяами и Дюрерами,
сухими, скудными, но полными задумчивости и глубокомыслия. То же
самое чувствует итальянец перед своим Леонардом, перед Микеланджело,
перед своим Рафаэлем, перед всеми этими царями живописи, перед всеми
этими чудесами очерка и выражения, которых едва ли когда-нибудь
достигнет другой какой народ, которых без сомненья никто не превзойдет. Что же
общего между русской душою и российскою живописью? Рожденная на
краю России, на перепутий ее с Западом, выращенная чужою мыслию,
чужими образцами, под чужим влиянием, носит ли она на себе хоть
признаки русской жизни? в ней узнает ли себя русская душа? Глядя на
произведения российских живописцев, мы любуемся ими как достоянием
всемирным, мы называем их своими, а чувствуем получужими. Растения без
воздуха и без земли, выведенные на стекле под соломенной настилкой,
согретые солнцем тепличным. Говорят, что где-то в Европе живет наш
художник, человек, исполненный жара и любви, давно обдумывающий
чудные произведения, произведения стиля нового и великого, и что он готовит
нам новую школу. Правда ли это или нет — мы не знаем. Но покуда в
нашей живописи мы видим только признак художественных способностей,
залог прекрасного будущего, а русского художества видеть не можем.
И все это не укор нашим литераторам, нашим компонистам, нашим
живописцам. Они заслуживают от нас дань признательности, многие даже
удивления. Но мир художества, так же как и большая часть нашего
просвещения и нашего быта, доказывает всю трудность, всю медленность
усвоения чуждых начал и всю неизбежность временного (да, смело можно
сказать, только временного) раздвоения. [...]
Там же, стр. 426—429.
СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ
(1859)
[...] Снова перечувствовать прошедшее и другим рассказать
перечувствованное — вот его [С. Т. Аксакова] единственная задача: опять мысль
о художестве остается вовсе в стороне. Правда, он уже знал, что таким
путем достигается художественная цель, но это значение не управляет им:
не к этой цели стремится он. Само воспоминание, оживающее в его душе,
и люди, с которыми он этим воспоминанием делится: вот его цель, и
искусство дается ему свободно, как будто в награду за простоту стремлений. Оно
приходит, как приходило к древним векам, не исканное и не сознанное.
В этом-то и состоит неподражаемая искренность произведений
первоначальной поэзии и поэзии народной, искренность, скоро забытая даже миром
античным, снова отысканная средними веками и забытая новым. Мысль
о художестве уничтожает прямоту отношений между художником и
предметом его, внося постороннее и отчасти рассудочное начало, разрушитель-
418
ное для внутренней их гармонии. Великая правда, сознанная Германией)
о свободе художества, в Германии же породила великую ложь — учение
о свободе художника. Напротив, художество потому только и свободно, что
художник под неволею. Для него во всякое время только и может быть
один предмет, и относится он к этому предмету всегда именно так, а не
иначе. Беда, если вместо того, чтоб высказывать это свое искреннее
отношение, он вздумает себя спрашивать: «да хорошо ли, красиво ли то, что
я именно такгляжу на свой предмет?» Тут уже холод, актерство, ложь. [...]
Там же, стр. 666—667.
ОТВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
сказанный действительному] ч[лену] гр. Л. Н. Толстому,
на его вступительное слово, в заседании 4 февраля 1859 г.
Общество любителей российской словесности, включив вас, граф Лев
Николаевич, в число своих действительных членов, с радостию
приветствует вас как деятеля чисто художественной литературы. Это чисто
художественное направление защищаете вы в своей речи, ставя его высоко над
всеми другими временными и случайными направлениями словесной
деятельности. Странно было бы, если бы общество вам не сочувствовало в этом;
но позвольте мне сказать, что правота вашего мнения, вами столь искусно
изложенного, далеко не устраняет прав временного и случайного в области
слова. То, что всегда справедливо; то, что всегда прекрасно; то, что
неизменно, как самые коренные законы души,— то, без сомнения, занимает и
должно занимать первое место в мыслях, побуждениях и, следовательно, в
речи человека. Оно, и оно одно, передается поколением поколению, народом
народу как дорогое наследие, всегда множимое и никогда не забываемое.
Но, с другой стороны, есть, как я имел уже честь сказать, постоянное
требование самообличения в природе человека и в природе общества, есть
минуты, и минуты важные в истории, когда это самообличение получает
особенные, неопровержимые права и выступает в общественном слове
с большею определенности») и с большей резкостию. Случайное и
временное в историческом ходе народной жизни получает значение всеобщего,
всечеловеческого уже и потому, что все поколения, все народы могут
понимать и понимают болезненные стоны и болезненную исповедь одного
какого-нибудь поколения или народа. Права словесности, служительницы
вечной красоты, не уничтожают прав словесности обличительной, всегда
сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся
целительницею общественных язв. Есть бесконечная красота в
невозмутимой правде и гармонии души, но есть истинная, высокая красота и в
покаянии, восстановляющем правду и стремящем человека или общество к
нравственному совершенству.
Позвольте мне прибавить, что я не могу разделять мнения, как мне
кажется, одностороннего, германской эстетики. Конечно, художества
14*
419
вполне свободно: в самом себе оно находит оправдание и цель. Но свобода
художества, отвлеченно понятого, нисколько не относится к внутренней
жизни самого художника. Художник не теория, не область мысли и
мысленной деятельности: он человек, всегда человек своего времени,
обыкновенно лучший его представитель, весь проникнутый его духом и его
определившимися или зарождающимися стремлениями. По самой
впечатлительности своей организации, без которой он не мог бы быть художником,
он принимает в себя, и более других людей, все болезненные, так же как
и радостные, ощущения общества, в котором он родился. Посвящая себя
всегда истинному и прекрасному, он невольно словом, складом мысли
и воображения отражает современное в его смеси правды, радующей душу
чистую, и лжи, возмущающей ее гармоническое спокойствие. Так
сливаются две области, два отдела литературы, о которых мы говорили; так
писатель, служитель чистого художества, делается иногда обличителем,
даже без сознания, без собственной воли и иногда против воли. Вас самих,
граф, позволю я привести в пример. Вы идете верно и неуклонно по
сознанному и определенному пути; но неужели вы вполне чужды тому
направлению, которое назвали обличительною словеоностию? Неужели хоть
бы в картине чахоточного ямщика, умирающего на печке в толпе
товарищей, по-видимому равнодушных к его страданиям, вы не обличили какой-
нибудь общественной болезни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть,
неужели вы не страдали от этой мозолистой бесчувственности добрых, но
не пробужденных душ человеческих? Да,— и вы были, и вы будете
невольно обличителем.
Идите с богом по тому прекрасному пути, который вы избрали! идите
с тем же успехом, которым вы увенчались до сих пор, или еще с большим,
ибо ваш дар не есть дар преходящий и скоро исчерпываемый; но верьте,
что в словесности вечное и художественное постоянно принимает в себя
временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что все
разнообразные отрасли человеческого слова беспрестанно сливаются в одно
гармоническое целое.
Там же, стр. 678—680.
С. П. ШЕВЫРЕВ
1806-1864
Степан Петрович Шевырев — историк литературы, критик и поэт. Профессор
русской словесности в Московском университете.
Во второй половине 20-х годов Шевырев разделял некоторые положения
философской эстетики. Он считал, что возможны две формы («направления») поэзии:
историческая и субъективно-романтическая. В развитии Пушкина, по мнению Ше-
вырева, романтический период сменился новым, отмеченным печатью
оригинально
ности и самобытности (третья глава «Евгения Онегина» и особенно «Борис
Годунов»). В 30-е годы Шевырев отходит от философской эстетики.
Положительное значение имела выдвинутая Шевыревым идея исторического
построения теории искусства, которую он стремился развить в двух своих трудах:
«История поэзии» (1835) и «Теория поэзии в историческом развитии у древних
и новых народов» (1836).
Решая вопрос о соотношении фактов и теории, Шевырев допускал
симптоматичное противоречие. С одной стороны, он подчеркивал первенствующую роль
фактов для эстетики, «теории поэзии». Но, с другой стороны, в своих критических
работах он отказывался признавать эту роль за явлениями современной литературы
и считал, что критика выполняет сдерживающую функцию: «Торжествует
исключительно наука (то есть наука о литературе, поэтика.— Ю. Л/.): освободишь искусство,
буйствует искусство: восставить на него науку,— вот ее назначение». В этом
уже сказывалось недоверие Шевырева к развивающемуся реалистическому
направлению в русской литературе.
В своей трактовке комического Шевырев защищал мысль о «безвредности»
комического, о том, что «истинно смешное» проистекает из безвредной ошибки,
недоразумения и т. д.
Из позднейших работ Шевырева следует назвать еще написанную на основе
первоисточников «Историю русской словесности, преимущественно древней»
(1846—1860)—один из первых обобщающих трудов по истории древней русской
литературы.
ИСТОРИЯ поэзии
(1835)
[...] Нельзя не заметить двоякого способа наблюдать словесность. Сии
два способа принадлежат двум народам, которые преимущественно перед
прочими занимаются общей историей европейской словесности.
Прибавлю еще, что сии способы наблюдения тесно связаны с образом мыслей
и характером этих наций. Французы смотрят на словесность в связи ее
с обществом; они видят в ней живое выражение жизни общественной
Представитель этого воззрения есть Вильмен. Сим способом воззрения
связывается история словесности с историей политической; оживляет сию
последнюю, отражая в себе историю современных нравов; обличает
причины многих событий, без нее непонятных. Но, с другой стороны, нельзя
не признать односторонности такого взгляда.— Эстетическое и
философское воззрение на словесность здесь совершенно принесены в жертву. Все
произведения получают важность только в том отношении, как
действовали на жизнь общественную. Мы не видим в них независимого выражения
мысли человека, из себя развивающейся; здесь мысль всегда запутана
в отношениях общественных, всегда жертва общества, эхо гостиной или
площади, а не голос души. Особенно невыгодно такое воззрение для поэ-
421
зии: мы не можем посредством его оценить произведения в его внутреннем
эстетическом достоинстве; ибо поэзию видим не свободным искусством,
а служащим свету, входящим в его цели, интриги, крайности. [...]
С. П. Ш е в ы ρ е в, История поэзии, М., 1835, стр. 6—7.
ТЕОРИЯ ПОЭЗИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
У ДРЕВНИХ И НОВЫХ НАРОДОВ
(1836)
[...] История наук важна повсюду, но особенную имеет важность в
нашем отечестве, которое, заключая европейское образование, должно
представить и в науках знание полное, всестороннее, окончательное. Для того
чтобы какая-нибудь наука принялась корнем на нашей почве и принесла
впоследствии русский плод, необходимо, чтобы почва сия была удобрена
историческим ее изучением: ибо избрание доброго и лучшего в науке,
о чем мы должны пещись для нашего отечества, и местное применение
оной к нашим народным свойствам и потребностям возможны только при
сравнительном изучении ее развития у всех предшествовавших нам
народов. История науки только может служить прочным основанием для ее
здания и ручаться за его неколебимость. [...]
Греция представила нам сначала все образцы поэзии, потом теорию.
Отсюда не ясно ли следует, что и в науке знание образцов, история поэзии
должна предшествовать ее теории; что настоящая теория может быть
создана только вследствие исторического изучения поэзии, которому можем
мы предпослать предчувствие теории в том же роде, как мы нашли оное
в поэтических мифах Греции? Как было на деле в истории, так должно
быть и в науке.
В заключение развития поэзии греческой мы увидели две
противоположные теории, из которых Платонова была теорией идеи, Аристотелева
теорией формы, и обе соответствовали двум стихиям искусства. Мы
заключили, что совершенство науки должно заключаться во взаимном
примирении обеих теорий, с равными от каждой уступками. [...]
С. П. Ш е в ы ρ е в, Теория поэзии в историческом
развитии у древних и новых народов, М., 1836»
стр. 367—368.
А. А. ГРИГОРЬЕВ
1822-1864
Поэт и литературный критик 40—60-х годов Аполлон Григорьев прошел
сложный путь идейно-творческого развития. В юности увлекался романтизмом шеллин-
гианского толка, но в своих первых литературных работах выступал против роман-
422
тического субъективизма и высказывал идеи об общественном назначении
искусства, близкие Белинскому и «натуральной школе». В начале 50-х годов А. Григорьев
сотрудничает в «молодой редакции» «Москвитянина» и сближается со
славянофилами. Хотя он критиковал реакционные утопии и архаические тенденции во
взглядах вождя славянофилов 40-х годов А. Хомякова (в частности, идеализацию
патриархальной общины, мысль о растворении личности в общине и др.), он относил
себя в «младшему поколению славянофилов». Это направление, будучи более
демократическим в сравнении со «старшими славянофилами», вместе с тем
идеализировало начала патриархальности, сохранившиеся в купеческо-мещанской среде.
Оно создало предпосылки для последующего «почвенничества». В этот период во
взглядах А. Григорьева обнаруживаются тенденции, сближающие его и со
сторонниками «чистого искусства».
Стремление к «надпартийности», к примирению враждующих взглядов, к
«средней линии» между революцией и самодержавно-крепостнической реакцией,
неверие в революционное изменение общества — все это принципиально отличает
литературно-эстетическую деятельность А. Григорьева от русских революционных
демократов. Вместе с тем в литературно-критических статьях А. Григорьева содержится
немало ценных суждений о творчестве Гоголя, Некрасова, Тургенева, Островского,
Толстого и других русских писателей, а также интересных мыслей на эстетические
темы.
О НАЦИОНАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА
А. Н. ОСТРОВСКОГО
Литература бывает народна в обширном смысле слова, когда она в своем
миросозерцании отражает взгляд на жизнь, свойственный всему народу,
определившийся только с большею точностью, полнотою и, так сказать,
художественностью в передовых его слоях; в типах — разнообразные, но
общие, присущие общему сознанию, сложившиеся цельно и полно типы
или стороны народной личности; в формах — красоту по народному
пониманию, выработавшемуся до художественности представления, будь это
красота греческая, итальянская, фламандская, все равно; в языке — весь
общий язык народа, развившийся на основании его коренных
этимологических и синтаксических законов, следовательно, не язык касты, с одной
стороны, и не язык местностей — с другой. Чтобы не оставить и малейшего
повода к недоразумениям, должно прибавить, что под передовыми слоями
народа разумею я тоже не касты и не слои, случайно выдвинувшиеся,
а верхи самобытного народного развития, ростки, которые сама из себя
дала жизнь народа.
В тесном смысле литература бывает народна, когда она или 1)
приноравливается к взгляду, понятиям и вкусам неразвитой массы для ее
воспитания, или 2) изучает эту массу, как terram incognitam 1, ее нравы,
понятия, язык, как нечто особенное, диковинное, чудное, ознакомливая со всем
1 Неведомую землю (латин.)·
423
этим особенным, чудным развитые и, может быть, пресытившиеся
развитием слои. Во всяком случае, в том или в другом, существование такого
рода народной литературы предполагает исторический факт
разрозненности в народе, предполагает то обстоятельство, что народное развитие шло
не путем общим, цельным, а раздвоенным.
Первого рода народность есть то, что на точном и установившемся
языке цивилизации зовется nationalité; второго рода то, что на нем же в не
слишком давние времена получило определенный термин: popularité,
littérature populaire.
В первом смысле народность литературы, как национальность, является
понятием безусловным, в самой природе лежащим.
Во втором народная литература, как littérature populaire, есть нечто
относительное, нечто, обязанное своим происхождением болезненному
в известной степени состоянию общественного организма, и притом — вовсе
не искусство, которое прежде всего свободно и никаких внешних
поучительных, воспитательных, научных и социальных целей не допускает.
Народная литература в этом, то есть в тесном смысле относится не к
художеству, а к педагогике или естественной истории. [...]
Собрание сочинений Аполлона Григорьева под ред.
В. Ф. Саводника, вып.И, М., 1915, стр. 57—58.
РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО
Истинная существенная сила явлений искусства вообще и поэзии в
особенности заключается в органической связи их с жизнью, с
действительностью, которым они служат более или менее осмысленным и отлитым
в художественные формы выражением. А так как никакая жизнь, никакая
действительность немыслимы без своей народной, то есть национальной
оболочки, то проще будет сказать, что сила эта заключается в органической
связи с народностью.
Идея национализма в искусстве вовсе не так узка, как это покажется,
может быть, ярым поборникам прогресса. Она вовсе не исключает, конечно,
«общечеловечности», да и не может ее исключать. Основы общечеловеч-
ности лежат даже в растительных, по-видимому исключительных явлениях
искусства, то есть, например, в поэтическом мире народных сказаний
и мифических представлений, связанных у всей индо-кавказской расы
довольно очевидною, а у рас вообще хотя и скрытою, но все-таки
необходимо существующею нитью. Чем шире развивается национальность, тем
более амальгамируется она с другими национальностями, хотя вместе с тем
не теряет своей особенности в жизни и искусстве на самых верхах своего
развития.
Собрание сочинений Аполлона Григорьева под ред*
В. Ф. Саводника, вып. 12, М., 1916, стр. 27—28.
424
А. В. ДРУЖИНИН
1824-1864
Александр Васильевич Дружинин — литературный критик, публицист, прозаик
и переводчик. Во второй половине 50-х годов он выступил как последователь и
пропагандист теории «чистого искусства», свободного от политических, социальных и
национальных задач своего времени, которое «служит само себе целью» и основано
на «одних идеях вечной красоты, добра и правды» *. Статьей «А. С. Пушкин и
последнее издание его сочинений» (1855) — своеобразной декларацией принципов
«искусства для искусства» — началась ожесточенная полемика Дружинина с
революционно-демократическим направлением в искусстве. Знаменем в борьбе за «чистое
искусство» становится Пушкин — в изображении Дружинина «незлобный,
любящий, великий поэт», чье творчество раскрывает в жизни «сторону спокойную,
радостную и родственную душе нашей» 2. В традициях Пушкина критик видит
«противодействие» сатирическому «излишне реальному» гоголевскому направлению, где,
как он считает, «поэзии нет» 3.
В другой полемической статье — «Критика гоголевского периода русской
литературы и наши к ней отношения» (1856) —Дружинин формулирует свой взгляд на
сущность двух противоположных теорий в искусстве: «артистической» (то есть
теории «чистого искусства») и «дидактической», как он называл революционно-
демократическую эстетическую теорию. Защищая «артистическую» теорию,
Дружинин опирается на три имени, выдвинутые еще молодым Белинским,— Гомера,
Шекспира и Гёте. Но в романтической эстетике Белинского 30-х годов эти поэты
воплощали «объективное», «непосредственное» творчество, необходимое для
передачи полноты жизненного содержания. Эстетизм и эпикуреизм Дружинина в
подходе к искусству, внеисторичность его воззрений, наоборот, ограничивали это
содержание и лишали искусство познавательной ценности. Он неустанно выступает
против представителей критического реализма в искусстве, враждебных, по его
утверждению, «и веселому смеху и светло-поэтическим сторонам современности»;
в их созданиях критик видит лишь «мрачные картины преднамеренно
зачерненной действительности»4. Творения же «чистого искусства», заявляет он, «светлы,
успокоительны и прелестны» 5.
Справедливо утверждая высокое значение искусства в жизни, в нравственном
развитии общества, Дружинин в то же время полагает его задачу только
в «смягчении» души. Таким образом, в эстетических принципах, выдвигавшихся
критиком, как и в конкретных его эстетических оценках, проявлялись
политические «охранительные» тенденции, присущие критику-либералу.
1 А. В. Дружинин, Собрание сочинений, т. VII, Спб., 1865, стр. 214.
2 Τ ам же, стр. 61, 58.
3 Там же, стр. 59.
4 Τ а м же, стр. 265.
* Τ ам же, стр. 136.
425
[ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА]
[...] В деле просветления и прочного возвышения человека чистое
искусство играет блистательную роль, которой ни отвергнуть, ни заменить никто
не в силах. В сказанном деле пути искусства неприметны для невежества.
Произведения Рафаэля внушили тысячам, миллионам людей мысли,
смягчающие душу, и тем исполнили свое назначение; несколько пушкинских
песен, обойдя всю Россию, пробудив поэтическое сознание в массах
соотечественников наших,— через смягчение и расширение понятий, ими
причиненное, сделали заслугу, до какой не дойдешь ни с каким
сухо-дидактическим дифирамбом. Не на частные проявления общественной жизни
должна быть направлена магическая сила искусства, но на внутреннюю
сторону человека, на кровь его крови, на мозг его мозга. Медленно,
неуклонно, верно совершает чистое искусство свою всемирную задачу и,
переходя от поколения к поколению, силой своею просветляя внутренний
организм человеков, ведет к изменениям во временной и частной жизни
общества. Тот, кто не признает этой истины, имеет полное право не
уважать искусства и глядеть на него как на стклянку духов или чашку кофе
после обеда. Никакого mezzo-termine 1 тут быть не может. Признавать
чистое искусство «роскошью жизни» — можно только ценителю, шаткому
в своих взглядах. Искусство не есть роскошь жизни, точно так же как
солнце, не дающее никому ни гроша, а между тем живящее всю вселенную.
Есть люди, не любящие солнца, но едва ли кто-нибудь зовет его роскошью
жизни. В отношении к человеческим недугам и порокам искусство
действует как воздух благословенных стран, пересоздавая весь организм в
больных людях, укрепляя их грудь и восстановляя физические органы,
пораженные изнурением. [...]
Очерки из крестьянского быта. Соч. А. Ф. Писемского
(1857).—А. В. Дружинин, Собр. соч., т. VII, Спбм
1865, стр. 283-284.
[ТЕОРИЯ ИСКУССТВА ДЛЯ ИСКУССТВА]
[...] Все критические системы, тезисы и воззрения, когда-либо
волновавшие собою мир старой и новой поэзии, могут быть подведены под две
вечно одна другой противодействующие теории, из которых одну мы
назовем артистическою, то есть имеющую лозунгом чистое искусство для
искусства, и дидактическую, то есть стремящуюся действовать на нравы, быт
и понятия человека через прямое его поучение. [...]
Теория артистическая, проповедующая нам, что искусство служит
и должно служить само себе целью, опирается на умозрения, по нашему
убеждению, неопровержимые. Руководясь ею, поэт, подобно поэту,
воспетому Пушкиным, признает себя созданным не для житейского волнения,
1 Среднего (итал.).
426
но для молитв, сладких звуков и вдохновения. Твердо веруя, что интересы
минуты скоропреходящи, что человечество, изменяясь непрестанно, не
изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он
в бескорыстном служении этим идеям видит свой вечный якорь. Песнь его
не имеет в себе преднамеренной житейской морали и каких-либо других
выводов, применимых к выгодам его современников, она служит сама себе
наградой, целью и значением. Он изображает людей, какими их видит, не
предписывая им исправляться, он не дает уроков обществу или если дает
их, то дает бессознательно. Он живет среди своего возвышенного мира
и сходит на землю, как когда-то сходили на нее олимпийцы, твердо помня,
что у него есть свой дом на высоком Олимпе. Мы нарочно изображаем
поэта, проникнутого крайней артистической теорией искусства, так, как
привыкли его изображать противники этой теории.
На первый взгляд положение дидактического поэта кажется
несравненно блистательнейшим и завиднейшим. Для писателя, отторгшегося от
вечных и неизменимых законов изящного, для поэта, бросившегося, по
дивному выражению Гоголя, в волны мутной современности, по-видимому,
и путь шире и источников вдохновения несравненно более, чем для
служителей чистого искусства. Он смело примешивает свое дарование к
интересам своих сограждан в данную минуту, служит политическим,
нравственным и научным целям первостепенной важности, меняет роль
спокойного певца на роль сурового наставника и идет со своей лирой в толпе
волнующихся современников,— не как гость мира и житель Олимпа, а как
труженик и работник на общую пользу. Здравомыслящий и практически
развитый поэт, отдавшись дидактике, может произвести много полезного
для современников — этого мы отвергать не будем. [...]
В нашем подразделении все дидактики равны по своему поэтическому
значению, ибо следуют одной и той же теории, приносящей одни и те же
результаты. Каждый из них желает прямо действовать на современный
быт, современные нравы и современного человека. Они хотят петь, поучая,
и часто достигают своей цели, но песнь их, выигрывая в поучительном
отношении, не может не терять многого в отношении вечного искусства. [..:]
Изложив по возможности сущность обеих теорий, перейдем к их
историческому значению. Во все года, во все века и во всех странах видим мы
одно и то же. Незыблемо и твердо стоят поэты, чтители искусства чистого,
голос их раздается из столетия в столетие, между тем как голоса
дидактиков (часто благородные и сильные голоса) умирают, едва прокричавши
кое-что, и погружаются в пучину полного забвения. Дидактики-моралисты,
несмотря на сатиры и насмешки, возбуждаемые их трудами, еще играют
некоторую роль в словесности благодаря вечному
нравственно-философскому элементу в их деятельности, но дидактики, приносящие свой
поэтический талант в жертву интересам так называемой современности,
вянут и отцветают вместе с современностью, которой служили. В великом
наступательном движении человека и общества — десятки годов,
составляющие срок жизни целого человеческого поколения,— есть атом, минута,
427
кратчайший срок из вечно переходной эпохи. То, что сегодня было ново,
смело и плодотворно,— завтра старо и неприменимо, и что еще грустнее—
не нужно обществу! Горе поэту, променявшему вечную цель на цель
временную; горе мореходцу, доверчиво бросившему свой единственный якорь
не в твердое дно, а в наносную отмель без устойчивости и крепости!
И странное дело,— и странная сила чистого гения,— поэты-олимпийцы,
цоэты так невозмутимые, поэты, удалявшиеся от житейских тревог и не
мыслящие поучать человека,— делаются его вожатаями, его наставниками,
его учителями, его прорицателями в то самое время, когда жрецы
современности теряют все свое значение! К ним народы приходят за духовной пищею
и отходят от них, просветлев духом, подвинувшись на пути просвещения.
Их чтит потомство, давно позабывшее возгласы поэтов-дидактиков,
служителей элемента преходящего. Их каждое слово умягчает душу смертного,
с ними сбывается сказание про Орфея, под вдохновенные песни которого
города строились сами, битвы прекращались, люди подавали руки друг
другу и даже дикие звери забывали свою жестокость. Добро, красота и
правда, вдохновлявшие этих поэтов, отражались во всех их
произведениях. И произведения эти, пропетые в минуту вдохновения, набросанные
для одного наслаждения, без всякой поучительной цели, стали зерном
общего поучения, основанием наших познаний, наших добрых помыслов,
наших великих деяний!
Переходя к примерам, мы затрудняемся только их обилием. Раскройте
книги Гомера и задумайтесь над этими дивными творениями. Гомер,
одинокий слепец, не поучал никого и не делал никаких наставлений своим
современникам. Он принимал факты жизни, как он нашел их, не указывая
нам ни на какие недостатки, не изобретая никаких утопий, не делая
никаких поучительных рассуждений. Мы читали недавно, что один из новых
французских писателей замышляет сделать Ферсита героем драмы с
современными воззрениями,— посмотрим, сколько лет проживет новый Фер-
сит, воскрешенный дидактиком нового времени! Гомер не стоит ни на
стороне Ферсита, ни на стороне Одиссея, но и Одиссей и Ферсит знакомы
всякому грамотному человеку и не забудутся, пока просвещение не
перестанет существовать. Без малейшего стремления поучать кого бы то ни
было Гомер есть учитель всего рода человеческого, Александр
Македонский возил «Илиаду» во все свои походы, и через тысячу лет великие люди
следующего тысячелетия станут плакать над «Илиадою», учиться из
«Илиады». [...]
Возьмем второй пример,— из второго поэта, почти столь же великого,
как Гомер, и одинаково с ним удаленного от всяких дидактических
помыслов. Шекспир, по-видимому, мог бы взяться за роль учителя своих
современников, образование его было обширно, время его не могло назваться
временем первобытных песнопений, при нем умер Бэкон, Реформация
торжествовала в Англии. Несмотря на то, Шекспир жил и умер олимпийцем
в отношении поэзии, по жизни он, всего вероятнее, был человеком
минуты, философом настоящего, мирным и веселым жителем всего, что вокруг
428
него творилось. Шекспир не мог разбирать, например, римской истории
с точки зрения девятнадцатого столетия и хитро приисканными выводами
сеять политические мысли в умах читателя. А между тем возьмите его
«Кориолана», эту драму, для охарактеризования которой мы не находим
слов на языке, ибо это не драма, а пророчество! Прочитайте это
произведение для поучения собственно, и вы не поверите глазам своим, вам будет
казаться, что какой-то «исполин из человеков» только вчерашний день
написал «Кориолана», что в нем каждое слово, каждый характер навеяны
недавними европейскими событиями, которых величавым свидетелем еще
так недавно была наша великая Россия! Разве геройское упрямство
Кориолана, его ненависть к безумной черни, его нежное сердце, прикрытое
железной бронею государственного мужа, не разъяснят вам многих
вопросов, о которых было столько писано и столько еще будет писано? Разве
слепое безумство черни, изгнавшей своего спасителя, не поразит вас собою?
Разве вы не увидите в римском воине одного из тех суровых героев, о
которых Томас Карлейль недавно читал целые лекции? Кто не увидит в драме
«Кориолан» целого курса политической мудрости, тот никогда не будет
видеть ничего далее своего носа. Драма, сочиненная беззаботным Виллиа-
мом в несколько дней времени, есть драгоценная скрижаль для правителей,
экономистов, друзей человечества, мыслителей, государственных мужей,
пекущихся о своей родине!
Третий великий поэт, чтитель искусства чистого, представитель
артистической теории во всей ее современности, жил между нами, хотя мы
еще были детьми, когда он угас во всем своем величии. Это Гёте, Наполеон
мысли, величайший гений поэзии, величайший представитель нашего
столетия. Влияние Гёте только что начинается, оно продлится на
тысячелетия и не скоро еще будет оценено в точности. Для нашего примера Гёте
замечателен тем, что пережил на одной своей родине две нео-дидактиче-
ские школы, в ребяческом своем безумии усиливавшиеся сбросить с
пьедестала того певца, которого один час жизни стоил всего их эфемерного
существования.
Критика гоголевского периода русской литературы
и наши к ней отношения (1856).— Там же,
стр. 214—219.
[ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ]
[...] Певцы высокоталантливые, и в числе их автор «Русалки», имели
свою теорию романтизма, не вполне высказанную ими самими, но
проявлявшуюся в их лучших творениях. По их идее, в слове «романтизм»
заключалась вся вдохновенная, поэтическая сторона жизни, с ее нежностью
и обаятельной прелестью, сторона, почти убитая поэтами XVIII столетия,
скованная ложным классицизмом, но существовавшая всегда и только
забываемая на время. Древнейшие и величайшие поэты были романтиками
беспрестанно, не делаясь оттого фантазерами и не вредя правде своих
429
произведений. Гомер, описывая прощание Гектора с Андромахой или
видение Ахиллеса на берегу моря,— является романтиком. Софокл был
романтиком в последних сценах «Антигоны»; Данте, описывая смерть Франчески
или свое свидание с бесплотною Беатриче; Шекспир — во всех почти своих
драматических произведениях; Тасс и Ариост — в поэмах. В романтизме
нам надо видеть поэзию из поэзии, высший полет вдохновения, не
фантазию и не действительность, а какой-то волшебный рубеж, на котором и
действительность и фантазия сливаются в нечто целое, прекрасное и сверх
того правдивое. [...] Историк может говорить нам, что люди известной
эпохи были грубы, дики и даже глупы,— но поэт имеет право открывать
в них высоко поэтические стремления и быть правым настолько же,
насколько прав и противоречащий ему историк. Раз добравшись до
сокровеннейших струн сердца человеческого, поэт находится в области, ему
принадлежащей, и может смело идти по пути, им избранному. Натура человека
всегда одинакова; поэзия жизни во всех веках одна и та же, только надо
быть истинным поэтом и иметь великую силу на понимание натуры
человеческой.
А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений
(1855).— Там же, стр. 76—77.
[МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ХУДОЖНИКА]
[...] Теория независимого и свободного творчества [...] вовсе не
исключает здравого и даже современного поучения, как о том думают иные
поклонники поучительных теорий искусства. Никакое художественное
создание, если оно хорошо выполнено, не проходит даром для читателя,
имеющего ум, фантазию и восприимчивость сердца. Кто-то сказал весьма
остроумно и глубоко: «пусть человек, благородно мыслящий, напишет мне
десять строк, хотя бы о закате солнца,— по этим десяти строкам всякий
тотчас же узнает человека, мыслящего благородно». Всякий сильный
талант, творящий свободно, имеет свое почти волшебное значение, до
которого не доберешься путем сухого умствования. Пусть только читатель
захочет поучиться, он найдет целый курс житейской мудрости в творениях
каждого истинного поэта. Иначе и быть не может, потому что
миросозерцание каждого талантливого, просвещенного и благонамеренного писателя
само собой высказывается во всем, над чем бы он ни трудился. Ему нет
никакой надобности связывать себя известными формулами и поучительными
стремлениями: он должен передавать явления окружающего его мира так,
как ясное зеркало передает предметы, перед ним поставленные. Затемните
ясность зеркальной поверхности, и все образы будут вам казаться в
безобразном виде. [...]
Не следует предполагать, чтобы мы были защитниками вялого
бесстрастия в искусстве, того бесстрастия, которое превращает художество
в дагерротипную работу и ведет к полному отрешению поэта от инте-
430
ресов житейских. Если б мы даже и проповедовали подобное
бесстрастие, труд наш прошел бы даром, ибо во всей истории европейской
литературы, древней и новой, не бывало, нет и не будет истинных поэтов,
отрешенных от мира с его интересами. На дагерротипную работу способны
лишь люди бесталанные,— во всяком художественном изображении
изображается всегда и человек, его творящий, и среда, в которой этот человек
обращался. Наша критическая теория есть теория беспристрастного и
свободного творчества, понятая не в смысле узких ее почитателей, но в смысле,
какой ей давали вожди и решители важнейших литературных дел, поэты
высочайшего значения: Шиллер, Гёте, Крабб, Вордсворт и'Кольридж. Эта
теория, часто опровергаемая эфемерными противниками, редко понятая
самими критиками и в особенности мало известная в нашей литературе,
твердо стоит одна изо всех критических теорий и, нам кажется, будет
стоять вечно. По широте своей она совокупляет в себе многое, что
поверхностным критикам кажется противоположностями; она совмещает в себе
идеи, по-видимому, несовместимые, ибо учит нас свободе творчества и
никогда не мешает развиваться таланту на каком бы то ни было пути, если
этот путь им избран искренно. Она требует всестороннего развития
поэтических сил человека, и в ее лозунге — всесторонность — находится
прибежище для всякого писателя, делающего свое дело свободно. Она идет лишь
против вассальства в творчестве, против временных авторитетов,
вовлекающих искусство в мир, непричастный искусству, против элементов чуждых
поэзии, но усиленно вводимых в область, одной поэзии доступную. Наша
теория придерживается известных слов Лессинга: у всякого человека свой
слог и свой нос. Каков бы нос ни был, нельзя и не следует его резать! Но
прикладным и фальшивым носам эта теория не дает пощады, потому что
все фальшивое и прикладное в искусстве служит ко временному ущербу
истины и самостоятельности искусства.
«Метель» и «Два гусара». Повести графа Л. Н.
Толстого (1856).— Там же, стр. 184—187.
[ПОЭТ И ТОЛПА]
[...] Толпа должна возвышаться до поэта, точно так же как возвышается
она до великого художника, великого музыканта—до Галилея, до Рафаэля,
до Бетховена. Толпа должна возвышаться до поэта, не поэт спускаться до
толпы, а под именем толпы (это необходимое дополнение к словам нашим)
разумеем мы вовсе не бессмысленный народ, не vile multitude1 но собрание
людей положительных, развитых в общественном отношении.
Бессмысленный народ, взятый как толпа, никогда не станет в противоречие с поэтом,
никогда не будет сбивать его с дороги, обусловленной призванием: для
1 Презренная толпа (франц.).
431
такого дела в грубой толпе слишком мало анализа или требовательности.
Напротив того, поэту гораздо вреднее приговоры толпы мыслящей, толпы
прозаически разумной, толпы, пропитанной современной мудростью.
Относительно такой толпы поэт обязан держать себя строго, упрямо,
независимо. Деля с нею житейские заботы и интересы, он обязан хранить для
себя самого свое дарование во всей его прямоте, во всей его целости, во
всей его непосредственности. И счастлив бывает поэт, гордо проносящий
свое слово сквозь толпу положительных интересов, современных
возбуждений и побуждений! Ему никто не скажет, что он закопал талант свой
в землю, променял вековечные законы мира поэзии на шаткие
положительные законы житейской практичности.
Повести и рассказы И. С. Тургенева (1857).—Там же,
стр. 314.
А. Н. МАЙКОВ
1821-1897
Поэт Аполлон Майков отрицал общественное служение искусства и стремился
к выражению в искусстве абсолютного идеала «вечной красоты». Майков, вместе
со Щербиной и Фетом, был представителем «антологического» жанра в поэзии
40—60-х годов, в котором аффектированной страстности эпигонского романтизма
противопоставлялась гармонически уравновешенная созерцательность,
рационалистически холодноватый «пластический» стиль.
Приветствуя ранние стихотворения Майкова за «поэзию простоты» и
«пластические, благоуханные, грациозные образы», Белинский в то же время осуждая
поэта за узость взгляда и отрыв от современности, советуя обратиться ему к «миру
нравственному», к социальной тематике.
Начиная с 50-х годов А. Майков сближается со славянофильством, разделяет
теории панславизма и «официальной народности».
Первые два из публикуемых ниже стихотворений отчетливо выражают мысль
поэта об искусстве, далеком от треволнений жизни и общественной борьбы.
Обосновывая свои идеи, Майков, как и другие сторонники «искусства для искусства»,
опирался на Пушкина, отвлекаясь от социально-исторической конкретности его
взглядов. Но, как известно, Пушкин не был апологетом «чистого искусства», и его стихи
о «поэте» и «толпе» были направлены против требований «светской черни»
подчинить поэзию служению ее вкусам и догмам. Во второй же половине XIX века идеи
«чистого искусства» были направлены непосредственно против
революционно-демократической идеологии.
В стихотворении Майкова «Октава» заметно влияние эстетики русского шел-
лингианства с его идеями рационалистической направленности искусства и про-
никнутости природы художественным началом, которое угадывается поэтом и
воплощается в его творчестве. Вместе с тем лирические пейзажи в стихотворениях
432
Майкова имели прогрессивное значение в развитии русской поэзии. Белинский
отмечал в них «мягкую, нежную кисть молодого поэта».
* « »
«Не отставай от века» — лозунг лживый,
Коран толпы. Нет: выше века будь!
Зигзагами он свой свершает путь,
И вкривь и вкось стремя свои разливы.
Нет! мысль твоя пусть зреет и растет,
Лишь в вечное корнями углубляясь,
И горизонт свой ширит, возвышаясь
Над уровнем мимобегущих вод!
Пусть их напор неровности в ней сгладит,
Порой волна счастливый даст толчок,—
А золота крупинку мчит поток —
Оно само в стихе твоем осядет.
(1889)
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПУШКИНА
Его стихи читая — точно я
Переживаю некий миг чудесный —
Как будто надо мной гармонии небесной
Вдруг понеслась нежданная струя...
Нездешними мне кажутся их звуки:
Как бы влиясь в его бессмертный стих,
Земное все — восторги, страсти, муки —
В небесное преобразилось в них!
(1887)
ОКТАВА
Гармонии стиха божественные тайны
Не думай разгадать по книгам мудрецов:
У брега сонных вод, один бродя, случайно,
Прислушайся душой к шептанью тростников,
Дубравы говору; их звук необычайный
Почувствуй и пойми... В созвучии стихов
Невольно с уст твоих размерные октавы
Польются, звучные, как музыка дубравы.
(1841)
433
СОМНЕНИЕ
Пусть говорят — поэзия мечта,
Горячки сердца бред ничтожный,
Что мир ее есть мир пустой и ложный,
И бледный вымысл — красота;
Пусть нет для мореходцев дальних
Сирен опасных, нет дриад
В лесах густых, в ручьях кристальных
Золотовласых нет наяд;
Пусть Зевс из длани не низводит
Разящей молнии поток,
И на ночь Гелиос не сходит
К Фетиде в пурпурный чертог;
Пусть так! но в полдень листьев шепот
Так полон тайны, шум ручья
Так сладкозвучен, моря ропот
Глубокомыслен, солнце дня
С такой любовию приемлет
Пучина моря, лунный лик
Так сокровен, что сердце внемлет
Во всем таинственный язык;
И ты невольно сим явленьям
Даруешь жизни красоты,
И этим милым заблужденьям
И веришь и не веришь ты!
(1839)
А. Н. Майков, Избранные произведения, Л., 1957,
стр. 254, 255, 61, 83.
Ф. И. ТЮТЧЕВ
1803-1873
Мировоззрение выдающегося поэта-лирика Федора Ивановича Тютчева лишь
отчасти соприкасается со взглядами сторонников «чистого искусства», хотя
поэтическое творчество его имеет с ними немало общего. Он в значительной мере примыкал
и к словянофилам, разделяя доктрину резкого противопоставления общественного
развития Руси и западного мира, отрицая рассудочность и индивидуализм как
порождение западной цивилизации и воспевая стихийное нравственное братство людей
как якобы исконное начало русской национальной жизни. Однако в творчестве
Тютчева мы почти не найдем гражданской проблематики, и жизнь человека осознается
в нем прежде всего в соотношении с жизнью природы. Это роднит Тютчева с
поэтами «чистого искусства», хотя концепция природы у него своеобразная, более
близкая к зарубежному романтизму шеллингианского толка. Считая, что природа наде-
434
лена будто бы реальной духовной сущностью, то есть понимая ее в духе
романтического пантеизма, Тютчев противопоставлял эфемерность, неустойчивость и
мимолетность человеческого существования вечной, таинственной, непознаваемой в своей
сущности природе. Это противопоставление нередко принимало в его поэзии
трагический характер. Вместе с тем Тютчев воспел и романтическую красоту природы как
выражение ее «духовной жизни».
В стихотворении «Поэзия» Тютчев выражает взгляд на «орфическое»
назначение искусства, призванного «лить примирительный елей» на «бушующее море»
человеческих страстей. В этом сказались либерально-консервативные,
примирительные тенденции его мировоззрения. В этом же стихотворении выражен типичный
для сторонников «чистого искусства» романтический взгляд на поэзию как на
«небесное» начало, просветляющее земное: так формировалось отношение к
искусству как к эстетическому убежищу от зол и треволнений жизни, развитое другими
сторонниками «чистого искусства».
Однако в эпистолярном наследии Тютчева есть и высказывания,
противоречащие этой теории. Поэт утверждает, что поэзии необходимо «иметь корни в земле»,
приветствует произведения, где «картина верна».
ПОЭЗИЯ
Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.
(1848?)
Ф. И. Тютчев, Стихотворения, М., «Художественная
литература», 1935, стр. 160.
ИЗ ПИСЬМА И. С. ГАГАРИНУ
от 3 мая 1836 года
Г·..] Чтобы поэзия процветала, ей нужно иметь корни в земле.
Замечательно, что вся Европа наводнена потоком лирики; это происходит
главным образом от очень простой причины: от усовершенствованного
механизма языков и стихосложения. Всякий человек в известном возрасте
жизни является лирическим поэтом, стоит только развязать ему язык. [...]
Там же, стр. 294.
435
ИЗ ПИСЬМА И. С. ГАГАРИНУ
от 7 июля 1836 года
[...] Теперь в России в каждом полугодии появляются произведения
несравненно лучшие. Еще недавно я с истинным наслаждением прочитал
три повести Павлова, особенно последнюю. Кроме художественного
таланта, достигающего редкой зрелости, я особенно был поражен возмужалостью
и зрелостью русской мысли. Она сразу направилась к самой сердцевине
общества: мысль свободная схватилась прямо с роковыми общественными
вопросами, и притом не утратила художественного беспристрастия.
Картина верна, и в ней нет ни пошлости, ни карикатуры. Поэтическое чувство
не исказилось напыщенностью выражений. Мне приятно воздать честь
русскому духу; его стремлению быть чуждым риторики, которая является
язвой или, вернее, первородным грехом французского ума. [...]
Там же, стр. 295.
А. К. ТОЛСТОЙ
1817-1875
Своим поэтическим, прозаическим и драматическим творчеством Алексей
Константинович Толстой во многом опровергал ту теорию «искусства для искусства/),
сторонником которой он себя объявлял. Принадлежа к высшей дворянской знати,
А. К. Толстой был врагом демократического движения. Но одновременно он отрицал
и бюрократический режим самодержавия, осуждая его в своих сатирических
произведениях и противопоставляя ему историческое прошлое России.
Эстетические взгляды А. К. Толстого во многом отражают романтические
настроения его лирики. Будучи представителем «пушкинского» направления,
противостоящего «гоголевскому», А. К. Толстой чуждается в своей лирике гражданских
мотивов и выражает впечатления от природы, чувство любви, философские
размышления. На поэтическое творчество он смотрит как на озарение свыше,
выводящее поэта из ряда обыденной жизни. Это убеждение он декларирует
в стихотворении «Поэт» (1850), которое навеяно Пушкиным, но не лишено
мистических элементов в понимании поэтического вдохновения. В стихотворении
«Тщетно, художник, ты мнишь...» (1856), близком по мысли некоторым стихам Тютчева
и Майкова, выражено романтико-идеалистическое, идущее от Шеллинга
представление о художественной одухотворенности объективного мира, всех его явлений,
образный смысл которых прозревается художником, составляя основу его
творчества. Подобный же взгляд нашел отражение отчасти и в поэме «Иоанн Дамаскин»
(1858), где искусство рассматривается как «тень таинственных красот, которых
вечное виденье в душе избранника живет».
436
Теория «чистого искусства» у А. К. Толстого приняла явно выраженный
романтический оттенок, связанный с его оппозиционностью самодержавно-бюрократиче*
скому строю и одновременно враждебностью к демократическим кругам, что
порождало стремление замкнуться в созерцании природы, красоты, искусства и
противопоставить современности патриархальное прошлое России.
ПОЭТ
В жизни светской, в жизни душной
Песнопевца не узнать!
В нем личиной равнодушной
Скрыта божия печать.
В нем таится гордый гений,
Душу в нем скрывает прах,
Дремлет буря вдохновений
В отдыхающих струнах.
Жизни ток его спокоен,
Как река среди равнин,
Меж людей он добрый воин
Или мирный гражданин.
Но порой мечтою странной
Он томится одинок;
В час великий, в час нежданный
Пробуждается пророк.
Свет чела его коснется,
Дрожь по жилам пробежит,
Сердце чутко встрепенется —
И исчезнет прежний вид.
Ангел, богом вдохновенный,
С ним беседовать слетел,
Он умчался дерзновенно
За вещественный предел...
Уже, вихрями несомый,
Позабыл он здешний мир,
В облаках под голос грома
Он настроил свой псалтырь,
437
Мир далекий, мир незримый
Зрит его орлиный взгляд,
И от крыльев херувима
Струны мощные звучат!
(1850)
А. К. Толстой, Полное собрание стихотворений, Л.,
«Советский писатель», 1937, стр. 77—78.
* * *
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку.
Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса;
Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву,
Ласковый, царственный взор из-под мрака бровей громоносных?
Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который,
В древнегерманской одежде, но в правде глубокой вселенской,
С образом сходен предвечным своим от слова до слова!
Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный,
Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов,
Плач неутешной души над погибшей великою мыслью,
Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса?
Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья.
Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный.
О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем,
Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен,
Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье,
И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки
Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины,
Выйдут из мрака всё ярче цвета, осязательней формы,
Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье...
Ты ж в этот миг и внимай и гляди, притаивши дыханье,
И, созидая потом, мимолетное помни виденье!
(1856)
Там же, стр. 121.
438
Α. Α. ФЕТ
1820-1892
Творчество Фета, составившее значительный вклад в развитие русской
лирической поэзии, далеко выходит за рамки 40—60-х годов, хотя сложилось оно
именно в этот период.
Фет рисует как светлую и радостную сферу бытия мир природы, любовных
переживаний, эстетических впечатлений, противостоящий невзгодам и прозе
обыденной жизни. Его поэзия откровенно эмоциональна и направлена на фиксацию
тонких и непосредственных душевных движений. Ему несвойственны
философичность и пессимизм поэзии Тютчева. Выдающееся значение имеет пейзажная лирика
Фета. Изысканностью и разнообразием ритмики и строфики, музыкальностью сти~
ха, элементами алогичности и символики Фет во многом подготовил поэзию Блока.
Эстетика Фета развивает идеи теории «чистого искусства». Выражение
гражданских интересов он рассматривает как покушение на свободу творчества,
гражданскую поэзию считает псевдопоэзией. Художник, по Фету, призван выражать
лишь прекрасное, отблеск которого лежит на явлениях природы и душевной жизни
людей, и открывать на него глаза другим людям.
Только пчела узнает в цветке затаенную сладость,
Только художник на всем чует прекрасного след.
Как и другие сторонники «чистого искусства», Фет пытался опираться на
односторонне и искаженно трактованного Пушкина. В понимании поэтического
вдохновения он не был чужд элементов мистики.
Фет увлекался философией Шопенгауэра и сделал перевод его главного
сочинения «Мир как воля и представление» на русский язык. Однако в его поэзии и
эстетических воззрениях это увлечение не нашло существенного выражения.
ПСЕВДОПОЭТУ
Молчи, поникни головою,
Как бы представ на страшный суд,
Когда случайно пред тобою
Любимца муз упомянут!
На рынок! Там кричит желудок,
Там для стоокого слепца
Ценней грошовый твой рассудок
Безумной прихоти певца.
Там сбыт малеванному хламу,
На этой затхлой площади,—
Но к музам, к чистому их храму,
Продажный раб, не подходи!
439
Влача по прихоти народа
В грязи низкопоклонный стих,
Ты слова гордого свобода
Ни разу сердцем не постиг.
Не возносился богомольно
Ты в ту свежеющую мглу,
Где беззаветно лишь привольно
Свободной песне да орлу.
(1866)
Α. Α. Φ е т, Полное собрание стихотворений, Л.,
«Советский писатель», 1959, стр. 297.
МУЗА
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких а молитв.
Пушкин
Ты хочешь проклинать, рыдая и стеня,
Бичей подыскивать к закону.
Поэт, остановись! не призывай меня,—
Зови из бездны Тизифону!
Пленительные сны лелея наяву,
Своей божественною властью
Я к наслаждению высокому зову
И к человеческому счастью.
Когда, бесчинствами обиженный опять,
В груди заслышишь зов к рыданью,—
Я ради мук твоих не стану изменять
Свободы вечному призванью.
Страдать! — Страдают все — страдает темный зверь,
Без упованья, без сознанья,—
Но перед ним туда навек закрыта дверь,
Где радость теплится страданья.
Ожесточенному и черствому душой
Пусть эта радость незнакома.
Зачем же лиру бьешь ребяческой рукой,
Что не труба она погрома?
440
К чему противиться природе и судьбе? —
На землю сносят эти звуки
Не бурю страстную, не вызовы к борьбе,
А исцеление от муки.
8 мая 1887
Там же, стр. 306—307.
* * *
Как беден наш язык! — Хочу и не могу.—
Не передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною.
Напрасно вечное томление сердец,
И клонит голову маститую мудрец
Пред этой ложью роковою.
Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,
Летит за облака Юпитера орел,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.
11 июня 1887
Там же, стр. 308—309.
ПОЭТАМ
Сердце трепещет отрадно и больно,
Подняты очи и руки воздеты.
Здесь на коленях я снова невольно,
Как и бывало, пред вами, поэты.
В ваших чертогах мой дух окрылился,
Правду провидит он с высей творенья;
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопенье.
Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.
441
С торжищ житейских, бесцветных и душных,
Видеть так радостно тонкие краски,
В радугах ваших, прозрачно-воздушных,
Неба родного мне чудятся ласки.
5 июня 1890
Там же, стр. 119-120.
ьсшутскт
ИДЕИ
второй половины
НАЧАЛА
ВЕКА
АИТЕPATYPA
И АИТЕРАТУРНАЯ
КРИТ И К А
^^—«^^ воеобразие развития эстетической мысли в России выра-
^^г^ ^^И жается в том, что эстетические идеи всегда были
объекту j том ожесточенной борьбы, глубоко затрагивавшей судь-
Ш1 бы искусства, его роль в общественном развитии. Особая
щ| острота этой борьбы связана с особенностями истории
mV России, которая вплоть до Октябрьской революции не
^Х^ ^Ш могла освободиться от давящего пресса самодержавия
^^^^^^ и деспотизма и от пут регламентации, истоки которых
восходили к феодальной системе (несмотря на бурный процесс
капитализации, усилившийся в конце XIX века). «Литература у народа, не
имеющего политической свободы,— единственная трибуна, с высоты которой
он может заставить услышать крик своего негодования и своей
совести»,— эти слова Герцена, относящиеся к 1851 году, сохраняли свою
силу и в дальнейшем, на протяжении многих десятилетий. Этой особой
ролью литературы можно объяснить огромное внимание, которое
уделялось русскими писателями и критиками вопросам эстетики не только
в статьях и художественных произведениях, но и в письмах. Дело здесь
не только в том, что, как правило, писатели обычно стремятся определить
445
свое эстетическое кредо. Если в первой половине XIX века вопросы
эстетики чаще находили место в специальных сочинениях чисто
теоретического характера, то во второй половине века происходит тесное
объединение эстетических, философского характера проблем с конкретными
вопросами метода, литературных направлений, литературного развития
и литературной борьбы. В эстетику все активнее вторгаются политика,
этика, размышления о судьбах народа переплетаются с раздумьями
о путях искусства на переломе старой и новой эпох. Это относится и к
такому трактату, как «Что такое искусство?» Л. Н. Толстого. Вопросы
эстетики связываются также с судьбами культуры человечества, с вопросами
о будущем искусства в век научного прогресса. Характерен в этом
отношении, например, диалог П. Л. Лаврова «Кому принадлежит будущее?» —
о взаимоотношении науки и художественного творчества; диалог этот
вызвал в свое время много споров и в какой-то мере не потерял своего
значения и сегодня.
Характеристики основной направленности эстетических суждений
литераторов второй половины XIX века, представленных в этом разделе,
даны во вступительных статьях к каждой подборке. Мы отметим кратко
некоторые основные черты, которые характеризуют развитие
эстетической мысли этого периода.
Ведущей и сохраняющей свою ценность линией развития эстетической
мысли и на этом этапе остается обоснование взглядов, согласно которым
искусство является сложным и своеобразным отражением
действительности, духовной отраслью, призванной сыграть огромную роль в
общественно-историческом развитии. Эти взгляды отстаивались в борьбе с
ложными, реакционными представлениями о прекрасном как о категории,
будто бы никак не связанной с жизненной борьбой. Далеко не всегда
прогрессивные идеи опирались в суждениях тех или иных писателей на
сознательно усвоенные материалистические представления; чаще всего
они рождались в живой практике художественного творчества, под
влиянием законов самой жизни, зачастую носили характер
стихийно-материалистический, нередко совмещались с иными философско-эстетиче-
скими влияниями, были противоречивыми. Но если выделить ведущую
тенденцию в суждениях по эстетике таких разных художников слова, как
Тургенев, Гончаров, Островский, Достоевский, Гаршин, Успенский,
Чехов, Короленко, то окажется, что больше всего их волновали именно
вопросы, которые непосредственно связаны с проблемами реализма,
взаимоотношения «объекта» с его отражением в искусстве, идеи и формы,
сущности образности, общественной и эстетической функции творчества,
критерия художественности. Порой суждения, представленные в этом
разделе, могут показаться далекими от непосредственных философских
аспектов эстетики, но все же в целом они являются ценным материалом
для характеристики развития эстетической мысли. Тот или иной писатель
может даже демонстративно заявлять о своем равнодушии к специальным
вопросам философии и эстетики, но в его взглядах на искусство исследо-
446
ватель может обнаружить определенный философско-эстетический
эквивалент и даже осознанную или стихийную (пусть непоследовательную)
принадлежность к одному из лагерей — материалистическому или
идеалистическому — в самом подходе к вопросам искусства. Специфика
художественного творчества, процесса творчества заставляет писателя так
или иначе решать в своей практике вопрос о соотношении искусства и
действительности, признавать источник искусства в окружающей
действительности или же утверждать, что он находится вне ее, в «надмирном»
«божественном откровении», в сфере «чистого сознания», утонченном
субъективизме и т. д. Это выясняет и общеэстетическуюнозицию
писателя. Разумеется, есть такие системы идеалистические, в которых
имеются элементы материализма, и, наоборот, системы материалистические,
но с элементами идеализма. Однако определить эти элементы и их
«удельный вес» в данной системе мы можем исходя только из двух основных
линий философии — третьей линии нет. Так, например, Достоевский,
справедливо считая верность и точность отражения действительности
в искусстве «азбукой и орфографией искусства», вместе с тем отступал от
этого принципа, когда истолковывал его как отражение независимой от
реальных условий, никакими объективными условиями не
детерминированной человеческой души. С другой стороны, Александр Блок, так до
конца и не преодолевший свои идеалистические воззрения, все же под
влиянием действительности, движимый горячей заинтересованностью
судьбами родины и народа, пришел к новым взглядам на роль
искусства и художника, считая его священным долгом связь с реальной жизнью,
необходимость для него дышать «воздухом современности».
Характерной чертой развития эстетической мысли конца XIX—начала
XX века является необычайная острота идейно-философской борьбы
и пестрота ее извилистого и сложного фронта. Возникновение марксизма,
распространение и развитие его в России усилило атаки разнообразных
представителей философии и эстетики на материалистические идеи во
всех областях идеологии. Перспектива революционной ломки
общественных отношений, рост пролетариата, образование марксистской партии —
все это по-своему отразилось в области эстетики и литературы.
Энциклопедизму материалистической мысли в трудах Плеханова, резко
критиковавшего идеалистическую эстетику, боевому пафосу статей и суждений
Ленина по вопросам философии, культуры, искусства противостояли
различные сторонники и пропагандисты идеалистических теорий от Вл.
Соловьева и Д. Мережковского до рядовых популяризаторов модернизма,
подвизавшихся на страницах «будничной» буржуазной прессы.
Характерно, однако, что крупнейшие писатели, связанные так или иначе с
символизмом, и прежде всего Александр Блок и Валерий Брюсов, нашли
в себе силы и мужество для резкой критики теорий, уводивших
художников «в никуда», и, связав свое творчество и свою судьбу с будущим,
Ьнесли ценный вклад в понимание ряда вопросов, стоящих на границе
эстетики и теории художественного творчества.
447
Особо следует сказать о своеобразии эстетики писателей и
литературных критиков народничества. В прошлом литературно-эстетические
взгляды народников чаще всего получали отрицательную оценку. Между
тем и в литературно-эстетических взглядах народников отразились
свойственные их идеологии черты демократизма, а не только реакционно-
утопической доктрины. Разумеется, необходимо при оценке этих взглядов
учитывать этапы и фазы эволюции народничества, которое в итоге
выродилось в буржуазный либерализм. Но характерно, что Ленин в своей
обобщенной характеристике одного из виднейших идеологов
народничества — Н. К. Михайловского отметил не только отрицательные, но и
положительные черты его деятельности, его великую историческую заслугу
как горячего сторонника свободы и угнетенных народных масс, хотя и
разделявшего все слабости буржуазно-демократического движения
(«Народники о Н. К. Михайловском»). Эту оценку Ленина следует отнести и к
выступлениям Михайловского по вопросам литературы и эстетики, прежде
всего в период расцвета его литературно-критической деятельности, когда
он отстаивал демократические традиции русской литературы и выступал
против сторонников символизма, «искусства .для искусства».
Одновременно в деятельности Михайловского и других народников не могли не
сказаться идеи идеалистической «субъективной социологии».
Материалы, представленные в этом разделе нашей антологии,
позволяют воссоздать основные черты развития эстетической мысли в трудах
и суждениях писателей и критиков второй половины XIX—начала XX
века из разных лагерей, находившихся в состоянии острой борьбы.
Вместе с тем материалы свидетельствуют о том, что непреходящую ценность
сохраняют эстетические идеи и суждения, связанные с отстаиванием и
развитием великих традиций реалистической литературы и эстетики и теми
задачами искусства, для которого главным и основным является
служение народу и человечеству, делу новаторского изменения и
революционного преобразования мира.
Б. С. МЕЙЛАХ
И. С. ТУРГЕНЕВ
1818-1883
Эстетические воззрения Ивана Сергеевича Тургенева проявились в его
художественных сочинениях, в многочисленных статьях, рецензиях, отзывах и в
письмах, содержащих большой историко-литературный материал.
Уже в 40-е годы Тургенев присоединился к полемике с романтизмом,
носившей не только литературный, но и политический характер. Выступая против
романтизма и считая, что он уже сыграл былую положительную роль и сейчас
должен быть заменен новым направлением — реализмом, Тургенев критиковал роман-
448
тизм за отсутствие социальной проблематики. Он полагал, что общественные
вопросы должны лежать в основе всякого искусства. Тургенев был необычайно
восприимчивым и чутким художником, он умел разглядеть «нарождающийся тип»
и схватить его характерные черты. Это умение он ценил и в других
художниках.
Одной из важнейших проблем эстетической программы Тургенева является
проблема народности искусства. Подлинная народность должна, по его мнению,
лежать в основе всякого художественного произведения, а «подделываться» под
народный тон, вообще под народность — так же неуместно и бесплодно, как и
подчиняться чуждым авторитетам» К Тургенев призывал художников проникнуться духом,
бытом, языком народа. Значение творчества Пушкина, например, он видел именно
в полном совпадении мыслей и чувств Пушкина с мыслями и чувствами русского
народа. Для Тургенева народность была существенным критерием общественной
ценности художника.
Отстаивая принципы реалистического творчества во многих работах, Тургенев
придавал большое значение социальной значимости искусства. Но в 60-е годы,
разойдясь с «Современником», он выступил не только против Чернышевского
и Добролюбова, но и против революционно-демократической концепции искусства.
Придавая большое значение форме художественного произведения, писатель
полагал, что бессмертно лишь то искусство, в котором высокие гуманистические
идеалы выражены с высокой художественностью. «Непосредственная, несомненная
общепонятная красота — необходимая принадлежность всякого художественного
создания»2. Тургенев считал художественную выразительность непременным
условием создания типического характера.
В своих многочисленных статьях писатель дал характеристику античному
искусству, творчеству Шекспира, Сервантеса, Гёте, посвятил многие работы русской
литературе. Широко известна его речь о Пушкине в 1880 году.
Исключительно важны высказывания Тургенева о мастерстве писателя, о
работе над стилем и прежде всего о русском языке, его богатстве, художественных
возможностях и выразительности.
Либеральные взгляды наложили, естественно, отпечаток на многие его оценки,
тем не менее теоретические высказывания Тургенева сыграли огромную
прогрессивную роль в истории русской эстетической мысли.
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА А. С. ПУШКИНУ В МОСКВЕ
(1880)
[...] Художество, принимая это слово в том обширном смысле,
который включает в его область и поэзию,— художество как воспроизведение,
1 И. С. Тургенев, Собрание сочинений в 12-ти томах, т. 11, М., Гослитиздат.
1956, стр. 214.
2 Τ а м же, стр. 16.
15 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) &4&
воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и
определяющих его духовную и нравственную физиономию,— составляет одно из
коренных свойств человека. Уже предчувствуемое и указанное в самой
природе, художество — искусство — является, правда, тоже как
подражание, но уже одухотворенное в самой ранней поре народного
существования, как нечто отличительно человеческое. Дикарь каменного периода,
начертавший концом кремня на приспособленном обломке кости
медвежью или лосиную голову, уже перестал быть дикарем, животным. Но
только тогда, когда творческой силою избранников народ достигает
сознательно полного, своеобразного выражения своего искусства, своей
поэзии — он тем самым заявляет свое окончательное право на собственное
место в истории; он получает свой духовный облик и свой голос — он
вступает в братство с другими, признавшими его народами. Недаром же
Греция называется родиной Гомера, Германия — Гёте, Англия — Шекспира.
Мы не думаем отрицать важность других проявлений народной жизни —
в сфере религиозной, государственной и др.; но ту особенность, на
которую мы сейчас указывали,— дает народу его искусство, его поэзия.
И этому нечего удивляться: искусство народа — его живая, личная душа,
его мысль, его язык в высшем значении слова; достигнув своего полного
выражения, оно становится достоянием всего человечества даже больше,
чем наука, именно потому, что оно — звучащая, человеческая, мыслящая
душа и душа не умирающая, ибо может пережить физическое
существование своего тела, своего народа. Что нам осталось от Греции? Ее душа
осталась нам! Религиозные формы, а за ними научные, также переживают
народы, в которых они проявились, но в силу того, что в них есть общего,
вечного; поэзия, искусство — в силу того, что есть в них личного, живого.
[...] Всякое искусство есть возведение жизни в идеал: стоящие на
почве обычной, ежедневной жизни остаются ниже того уровня. Это
вершина, к которой надо приблизиться. И все-таки Гёте, Мольер и
Шекспир — народные поэты в истинном значении слова, то есть
национальные. Позволим себе сравнение: Бетговен, например, или Моцарт,
несомненно национальные, немецкие композиторы, и музыка их по
преимуществу немецкая музыка; между тем ни в одном из их произведений вы не
найдете следа не только заимствований у простонародной музыки, но даже
сходства с нею, именно потому, что эта народная, еще стихийная музыка
перешла к ним в плоть и кровь, оживотворила их и потонула в них так
же, как и самая теория их искусства,— так же, как исчезают, например,
правила грамматики в живом творчестве писателя. В иных, еще более
отдаленных от той ежедневной почвы, более в себе замкнутых отраслях
искусства самое название «народный» — немыслимо. Есть национальные
живописцы: Рафаэль, Рембрандт; народных живописцев нет. Заметим
кстати, что выставлять лозунг народности в художестве, поэзии,
литературе свойственно только племенам слабым, еще не созревшим или же
находящимся в порабощенном, угнетенном состоянии. Поэзия их должна
служить другим, конечно, важнейшим целям — сбережению самого их
450
существования. Слава богу, Россия не находится в подобных условиях;
она не слаба и не порабощена другому племени. Ей нечего дрожать за
себя и ревниво сберегать свою самостоятельность; в сознании своей силы
она даже любит тех, кто указывает ей на ее недостатки. [...]
И. С. Тургенев, Собрание сочинений в 12-ти томах,
т. И, М., 1956, стр. 212—213, 215.
«ФАУСТ», ТРАГЕДИЯ. СОЧ. ГЁТЕ
(1845)
[...] Счастлив тот, кто может свое случайное создание (всякое
создание отдельной личности случайно) возвести до исторической
необходимости, означить им одну из эпох общественного развития; но велик тот, кто,
подобно Гёте, выразил собою всю современную жизнь — и в созданиях,
в образах проводит пред глазами своего народа то, что жило в груди
каждого, но часто не могло высказаться даже словом... Одно лишь настоящее,
могущественно выраженное характерами или талантами, становится
неумирающим прошедшим... [...]
Там же, стр. 36—37.
ПРЕДИСЛОВИЕ [К СОБРАНИЮ РОМАНОВ
В ИЗДАНИИ 1880 ГОДА]
[...] Всякий писатель, не лишенный таланта (это, конечно, первое
условие),— всякий писатель, говорю, старается прежде всего верно
и живо воспроизводить впечатления, вынесенные им из собственной
и чужой жизни, всякий читатель имеет право судить, насколько он в этом
успел и где ошибся; но кто имеет право указывать ему, какие именно
впечатления годятся в литературу и какие — нет? Коли он правдив —
значит, он прав; а коли у него нет таланта — никакая «объективность» ему
не поможет. У нас теперь развелись сочинители, которые сами почитают
себя «бессознательными творцами» — и выбирают всё «жизненные»
сюжеты; а между тем насквозь проникнуты именно этой злополучной
«тенденцией». Всем известно изречение: поэт мыслит образами; это
изречение совершенно неоспоримо и верно; но на каком основании вы, его
критик и судья, дозволяете ему образно воспроизводить картину природы, что
ли, народную жизнь, цельную натуру (вот еще жалкое слово!); а коснись
он чего-нибудь смутного, психологически сложного, даже болезненного —
особенно если это не частный факт, а выдвинуто из глубины недр своих
тою же самой народной, общественной жизнью,— вы кричите: стой! Это
никуда не годится, это рефлексия, предвзятая идея, это политика!
публицистика! Вы утверждаете, что у публициста и у поэта задачи разные...
Нет! Они могут быть совершенно одинаковы у обоих; только публициет
15*
451
смотрит на них глазами публициста, а поэт — глазами поэта. В деле
искусства вопрос: как? — важнее вопроса: что? Если все отвергаемое вами —
образом, заметьте: образом — ложится в душу писателя — то с какой
стати вы заподазриваете его намерения, почему выталкиваете его вон из
того храма, где на разубранных алтарях восседают жрецы
«бессознательного» искусства — на алтарях, перед которыми курится фимиам, часто
зажженный собственными руками этих самых жрецов? Поверьте: талант
настоящий — никогда не служит посторонним целям и в самом себе
находит удовлетворение; окружающая его жизнь дает ему содержание — он
является ее сосредоточенным отражением; но он так же мало способен
написать панегирик, как и пасквиль... В конце концов — это ниже его.
Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те,
которые другого, лучшего не умеют.
Там же, стр. 409—410.
ПИСЬМО К В. Л. КИГНУ
(1876)
[...] Что касается до вопроса — есть ли в Вашем таланте
объективность, то я на это вот что скажу: если Вас изучение человеческой
физиономии, чужой жизни интересует больше, чем изложение собственных
чувств и мыслей; если, например, Вам приятнее верно и точно передать
наружный вид не только человека, но простой вещи, чем красиво и горячо
высказать то, что Вы ощущаете при виде этой вещи или этого человека,—
значит, Вы объективный писатель и можете взяться за повесть или роман.
Что же касается до труда, то без него, без упорной работы всякий
художник непременно останется дилетантом: нечего тут ждать так
называемых благородных минут вдохновения; придет оно — тем лучше; а ты все-
таки работай. Да не только над своей вещью работать надо, над тем,
чтобы она выражала именно то, что Вы хотели выразить, и в той мере
и в том виде, как Вы этого хотели: нужно еще читать, учиться
беспрестанно, вникать во все окружающее, стараться не только уловлять жизнь
во всех ее проявлениях, но и понимать ее, понимать те законы, по
которым она движется и которые не всегда выступают наружу; нужно сквозь
игру случайностей добиваться до типов — и со всем тем всегда оставаться
верным правде, не довольствоваться поверхностным изучением, чуждаться
эффектов и фальши. Объективный писатель берет на себя большую
ношу: нужно, чтобы его мышцы были крепки... Прежде я так работал,
и то не всегда, теперь я обленился, да и устарел... Вот сколько я
наговорил — а в результате выходит одно: есть у Вас объективный талант —
так есть. А нет его — Вы себе его не добудете. Но чтоб узнать, имеется
ли он, надо попробовать на деле, а там видно будет. [...]
И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. 12, М., 1958,
стр. 492—493.
452
ПЕРГАМСКИЕ РАСКОПКИ
[...] Какое счастье для народа обладать такими поэтическими,
исполненными глубокого смысла религиозными легендами, какими обладали
греки, эти аристократы человеческой породы. Победа несомненная,
окончательная — на стороне богов, на стороне света, красоты и разума, но
темные, дикие земные силы еще сопротивляются и бой не кончен. [...] Все
эти — то лучезарные, то грозные, живые, мертвые, торжествующие,
гибнущие фигуры, эти извивы чешуйчатых змеиных колец, эти
распростертые крылья, эти орлы, эти кони, оружия, щиты, эти летучие одежды, эти
пальмы и эти тела, красивейшие человеческие тела во всех положениях,
смелых до невероятности, стройных до музыки,— все эти
разнообразнейшие выражения лиц, беззаветные движения членов, это торжество злобы,
и отчаяние, и веселость божественная, и божественная жестокость — все
это небо и вся эта земля — да это мир, целый мир, перед откровением
которого невольный холод восторга и страстного благоговения пробегает
до всем жилам. И вот еще что: при виде всех этих неудержимо свободных
чудес куда деваются все принятые нами понятия о греческой скульптуре,
об ее строгости, невозмутимости, об ее сдержанности в границах своего
специального искусства, словом, об ее классицизме,— все эти понятия,
которые, как несомненная истина, были передаваемы нам нашими
наставниками, теоретиками, эстетиками, всей нашей школой и наукой? —
Правда, нам по поводу, например, Лаокоона или умирающего Гладиатора,
наконец фарнезского Быка говорили о том, что и в древнем искусстве
проявлялось нечто напоминающее то, что гораздо позже называлось
романтизмом и реализмом; упоминали о родосской школе ваяния, даже
о пергамской школе; но тут же замечали, что все эти произведения уже
носят некоторый оттенок упадка, доходящего, например, в фарнезском
Быке до рококо; толковали о границах живописи и ваяния и о нарушении
этих границ; но какая же может быть речь об упадке перед лицом этой
«Битвы богов с гигантами», которая и по времени своего происхождения
относится к лучшей эпохе греческой скульптуры — к первому столетию
досле Фидиаса? Да и как подвести эту «Битву» под какую-либо рубрику?
Конечно, «реализм» — уж если взять это слово,— реализм некоторых
подробностей изумителен, там попадаются обуви, складки тканей,
переливы кудрей, даже вихры шерсти над копытами коней, оттенка которых
не перещеголяют самые новейшие итальянские скульпторы, а уж на что
они теперь в этих делах мастера! Конечно, «романтизм», в смысле
свободы телодвижения, поз, самого сюжета, в устах иного французского
педанта получил бы название всклокоченного — «échevelé»; но все эти
реальные детали до того исчезают в общем целостном впечатлении,— вся эта
бурная свобода романтизма до того проникнута высшим порядком и
ясным строем высокохудожественной, идеальной мысли, что нашему
брату — эпигону только остается преклонить голову и учиться,— учиться
снова, перестроив все, что он до сих пор считал основной истиной своих
453
соображений и выводов. Повторяю, эта «Битва богов», действительно,
откровение, и когда — не раньше, однако, года или двух — воздвигнется
наконец перед нами этот «алтарь», все художники, все истинные
любители красоты должны будут ходить к нему на поклонение. [...]
И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. И, стр.399,
400-402.
ГАМЛЕТ И ДОН-КИХОТ
(1857-1859)
'[...] Одновременное появление «Дон-Кихота» и «Гамлета» нам
показалось знаменательным. Нам показалось, что в этих двух типах воплощены
две коренные противоположные особенности человеческой природы — оба
конца той оси, на которой она вертится. Нам показалось, что все люди
принадлежат более или менее к одному из этих двух типов, что почти
каждый из нас сбивается либо на Дон-Кихота, либо на Гамлета. Правда,
в наше время Гамлетов стало гораздо более, чем Дон-Кихотов, но и Дон-
Кихоты не перевелись.
Объяснимся.
Все люди живут — сознательно или бессознательно — в силу своего
принципа, своего идеала, то есть в силу того, что они почитают правдой,
красотою, добром. Многие получают свой идеал уже совершенно
готовым, в определенных, исторически сложившихся формах; они живут,
соображая жизнь свою с этим идеалом, иногда отступая от него под
влиянием страстей или случайностей,— но они не рассуждают о нем, не
сомневаются в нем; другие, напротив, подвергают его анализу собственной
мысли. Как бы то ни было, мы, кажется, не слишком ошибемся, если
скажем, что для всех людей этот идеал, эта основа и цель их
существования находится либо вне их, либо в них самих, другими словами — для
каждого из нас либо собственное «я» становится на первом месте, либо
нечто другое, признанное им за высшее. Нам могут возразить, что
действительность не допускает таких резких разграничений, что в одном и том
же живом существе оба воззрения могут чередоваться, даже сливаться до
некоторой степени, но мы и не думали утверждать невозможность
изменений и противоречий в человеческой природе; мы хотели только указать
на два различные отношения человека к своему идеалу. [...]
Там же, стр. 169—170.
«ЗАПИСКИ РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ» С. Т. А[КСАКО]ВА
(1852)
[...] Человека не может не занимать природа, он связан с ней тысячью
неразрывных нитей; он сын ее; сочувствие, которое возбуждает в душе
454
жизнь существ низших, столь похожих на человека своим внешним видом,
внутренним устройством, органами чувств и ощущений, несколько
напоминает тот живой интерес, который каждый из нас принимает в развитии
младенца. Все мы, точно, любим природу — по крайней мере никто не
может сказать, что он ее положительно не любит; но и в этой любви
часто бывает много эгоизма. А именно: мы любим природу в отношении
к нам; мы глядим на нее как на пьедестал наш. Оттого, между прочим,
в так называемых описаниях природы то и дело либо попадаются
сравнения с человеческими душевными движениями («и весь невредимый
хохочет утес» и т. п.), либо простая и ясная передача внешних явлений
заменяется рассуждениями по их поводу.
[...] Бывают тонко развитые, нервические,
раздражительно-поэтические личности, которые обладают каким-то особенным воззрением на
природу, особенным чутьем ее красот; они подмечают многие оттенки, многие
часто почти неуловимые частности, и им удается выразить их иногда
чрезвычайно счастливо, метко и грациозно; правда, большие линии картины
от них либо ускользают, либо они не имеют довольно силы, чтобы
схватить и удержать их. Про них можно сказать, что им более всего доступен
запах красоты, и слова их душисты. Частности у них выигрывают насчет
общего впечатления. К подобным личностям не принадлежит г. А[ксако]в,
и я очень этому рад. Он и тут не хитрит, он не подмечает ничего
необыкновенного, ничего такого, до чего добираются «немногие»; но то, что он
видит, видит он ясно, и твердой рукой, сильной кистью пишет стройную
и широкую картину. Мне кажется, что такого рода описания ближе к делу
и вернее: в самой природе нет ничего ухищренного и мудреного, она
никогда ничем не щеголяет, не кокетничает; в самых своих прихотях она
добродушна. Все поэты с истинными и сильными талантами не
становились в «позитуру» пред лицом природы; они не старались, как говорится,
«подслушать, подсмотреть» ее тайны; великими и простыми словами
передавали они ее простоту и величие: она не раздражала их, она их
воспламеняла; но в этом пламени не было ничего болезненного. Вспомните
описания Пушкина, Гоголя, или хотя то знаменитое место в «Короле Лире»,
где Эдгар описывает слепому Глостеру крутой морской берег, который
будто падает отвесно у самых его ног. [...]
Там же, стр. 154—155, 158.
«ПЛЕМЯННИЦА». РОМАН, СОЧ. ЕВГЕНИИ ТУР
(1851)
[...] Бывают таланты двоякого рода: таланты сами по себе,
независимые, как бы отделенные от личности самого писателя, и таланты, более
или менее тесно связанные с нею. Мы не хотим этим сказать, чтобы
таланты, названные нами независимыми, могли бы быть лишены постоян-
455
ной внутренней связи с жизнию вообще — этого вечного источника
всякого искусства — и личностью писателя в особенности. Мы не верим в эти
так называемые объективные таланты, которые будто сваливаются бог
весть откуда в чью-нибудь голову и сидят себе там, изредка чирикая,
как птица в клетке; но, с другой стороны, мы не можем не чувствовать,
что, например, лица Гоголя стоят, как говорится, на своих ногах, как
живые, и что если есть между ними и творцом их необходимая духовная
связь, то сущность этой связи остается для нас тайной, разрешение кото^
рой подпадает уже не критике, а психологии. В талантах же второго
разряда, или, говоря безобиднее, в талантах другого рода, связь эта
чувствуется читателем, произведения их, пожалуй, тоже могут стоять на своих
ножках, но рука, их поставившая, от них не отнимается, пульс их бьется
не своею кровью, вера в их существование сопрягается с некоторым
усилием. Они живы не потому, чтобы в них самостоятельно
сосредоточивалось живое начало, а потому, что их пустил в ход все-таки живой человек;
зато эти произведения обыкновенно отличаются искренностью,
задушевностью и теплотою; недостаток мастерства и оконченности выкупается
другими интересами. В них, может быть, меньше· истины, но сочувствия
они часто возбуждают больше, особенно если в них есть то, без чего все
в искусстве ничтожно,— если в них есть личная правда. Разумеется, что
в нашем подразделении нет ничего абсолютного: было бы смешно
подводить бесконечное разнообразие художественных личностей под какие-то
неподвижные графы; но общий смысл проведенной нами границы нам
кажется верным и сообразным с действительностью. [...]
Там же, стр. 119—120.
ПИСЬМО К. Н. ЛЕОНТЬЕВУ
(1855)
[...] Старайтесь (Вы мне позволите быть откровенным с Вами)
быть как можно проще и яснее в деле художества; Ваша беда — какая-
то запутанность хотя верных, но уже слишком мелких мыслей, какое-то
ненужное богатство задних представлений, второстепенных чувств и
намеков. [...] Вспомните, что как ни тонко и многосложно внутреннее
устройство какой-нибудь ткани в человеческом теле, кожи, например, но ее
вид понятен и однороден; как медик, Вы должны сочувствовать этому
сравнению; а у Вас иногда теряешься, и сами Вы в самом себе теряетесь.
Глядите больше кругом себя и возитесь меньше с самим собою. [...]
И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. 12,
стр. 177-178.
456
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
[...] Не однажды слышал я и читал в критических статьях, что я в моих
произведениях «отправляюсь от идеи» или «провожу идею»; иные меня
за это хвалили, другие, напротив, порицали; со своей стороны, я должен
сознаться, что никогда не покушался «создавать образ», если не имел
исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно
примешивались и прикладывались подходящие элементы. Не обладая большою
долею свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве,
по которой я бы мог твердо ступать ногами. Точно то же произошло
и с «Отцами и детьми»; в основание главной фигуры, Базарова, легла одна
поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер
незадолго до 1860 года.) В этом замечательном человеке воплотилось —
на мои глаза — то едва народившееся еще бродившее начало, которое
потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня
этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно, я на
первых порах сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета — и
напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как
бы желая проверить правдивость собственных ощущений. Меня смущал
следующий факт: ни в одном произведении нашей литературы я даже
намека не встречал на то, что мне чудилось повсюду; поневоле возникало
сомнение: уж не за призраком ли я гоняюсь? Помнится, вместе со мною
на острове Уайте жил один русский, человек одаренный весьма тонким
вкусом и замечательной чуткостью на то, что покойный Аполлон
Григорьев называл «веяньями» эпохи. Я сообщил ему занимавшие меня
мысли и с немым изумлением услышал следующее замечание: «Да ведь
ты, кажется, уже представил подобный тип... в Рудине?» Я промолчал:
что было сказать? Рудин и Базаров — один и тот же тип!
[...] Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни — есть
высочайшее счастие для литератора, даже если эта истина не совпадает
с его собственными симпатиями. Позволю себе привести небольшой
пример. Я — коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не
скрывал и не скрываю, однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием
вывел в лице Паншина (в «Дворянском гнезде») все комические и
пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого
«разбить его на всех пунктах». Почему я это сделал — я, считающий
славянофильское учение ложным и бесплодным? Потому, что в данном случае —
таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь, а я прежде
всего хотел быть искренним и правдивым. Рисуя фигуру Базарова,
я исключил из круга его симпатий все художественное, я придал ему
резкость и бесцеремонность тона — не из нелепого желания оскорбить
молодое поколение (!!!), а просто вследствие наблюдений над моим знакомым,
доктором Дмитриевым] и подобными ему лицами. «Эта жизнь так
складывалась»,— опять говорил мне опыт, может быть ошибочный, но, по-
457
вторяю, добросовестный; мне нечего было мудрить — и я должен был
именно так нарисовать его фигуру. Личные мои наклонности тут ничего
не значат; но, вероятно, многие из моих читателей удивятся, если я скажу
им, что, за исключением воззрений Базарова на художества, я разделяю
почти все его убеждения. А меня уверяют, что я на стороне «Отцов»...
я, который в фигуре Павла Кирсанова даже погрешил против
художественной правды и пересолил, довел до карикатуры его недостатки, сделал
его смешным! [...]
Вся причина недоразумений, вся, как говорится, «беда» состояла
в том, что воспроизведенный мною базаровский тип не успел пройти через
постепенные фазисы, через которые обыкновенно проходят литературные
типы. На его долю не пришлось — как на долю Онегина или Печорина —
эпохи идеализации, сочувственного превознесения. В самый момент
появления нового человека — Базарова — автор отнесся к нему критически...
объективно. Это многих сбило с толку, и кто знает! — в этом была, быть
может, если не ошибка, то несправедливость. Базаровский тип имел по
крайней мере столько же права на идеализацию, как предшествовавшие
ему типы. Я сейчас сказал, что отношения автора к выведенному лицу
сбили читателя с толку: читателю всегда неловко, им легко овладевает
недоумение, даже досада, если автор обращается с изображаемым
характером как с живым существом, то есть: видит и выставляет его худые
и хорошие стороны, а главное, если он не показывает явной симпатии
или антипатии к собственному детищу. Читатель готов рассердиться: ему
приходится не следить по начертанному уже пути, а самому протаривать
дорожку. «Очень нужно трудиться! — невольно рождается в нем мысль.—
Книги существуют для развлечения, не для ломанья головы; да и что
стоило автору сказать, как мне думать о таком-то лице, как он сам о нем
думает!» А если отношения автора к этому лицу свойства еще более
неопределенного, если автор сам не знает, любит ли он или нет
выставленный характер (как это случилось со мною в отношении к Базарову,
ибо то «невольное влечение», о котором я упоминаю в моем Дневнике,—
не любовь),— тогда уже совсем плохо! Читатель готов навязать автору
небывалые симпатии или небывалые антипатии, чтобы только выйти из
неприятной «неопределенности».
[...] Нужно постоянное общение со средою, которую берешься
воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неумолимая в отношении
к собственным ощущениям; нужна свобода, полная свобода воззрений
и понятий — и, наконец, нужна образованность, нужно знание! [...]
[...] Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад,
это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в челе
которых блистает опять-таки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим
458
могущественным орудием; в руках умелых оно ъ состоянии совершать
чудеса! — Даже тем, которым не по вкусу «философские отвлеченности»
и «поэтические нежности», людям практическим, в глазах которых язык
не что иное, как средство к выражению мысли, как простой рычаг,—
даже им скажу я: уважайте по крайней мере законы механики,
извлекайте из каждой вещи всю возможную пользу! — А то, право, пробегая
иные вялые, смутные, бессильно-пространные разглагольствования в
журналах, читатель невольно должен думать, что именно рычаг-то вы
заменяете первобытными подпорками, что вы возвращаетесь к младенчеству
самой механики... [...]
И, С. Тургенев, Собрание сочинений, т. 10, 1956,
стр. 346—347, 349-351, 354, 357.
И. А. ГОНЧАРОВ
1812—1891
Суждения Ивана Александровича Гончарова по общим вопросам литературы
и искусства отражают его творческую практику писателя-реалиста и вместе с тем
обобщают достижения передовой русской литературы третьей четверти XIX века.
Борясь с идеями «чистого искусства», с одной стороны, и тенденциями натурализма,
с другой, Гончаров раскрывает и обосновывает сущность реалистического метода.
Отображение типического, правда жизни, обусловливающая воспитательное значение
искусства, художественность, состоящая в гармоническом сочетании идейности и
образности,— таковы основы реализма в понимании писателя. Реализм, по его мнению,
«одна из капитальных сторон искусства».
В юности Гончаров примыкал к «натуральной школе» и испытал влияние
Белинского, хотя отдал и некоторую дань теории «чистого искусства», процветавшей
в кружке А. Майкова. В 60-е годы Гончаров прочно становится в эстетике на
реалистические позиции и понимает «объективность творчества», за которую он всегда
ратовал, уже не как отрицание тенденциозности, а как глубину и пластическое
совершенство в изображении жизни. Особое значение в выполнении задачи
правдивого отображения действительности Гончаров придавал роману —
господствующему жанру литературы его времени — и несправедливо нападал на сатиру как
жанр, неспособный якобы отразить закономерности социальной жизни.
Помимо литературы Гончаров уделял в своих эстетических высказываниях
внимание театру и живописи. Его статьи «Опять «Гамлет» на русской сцене» и
«Миллион терзаний» продолжают борьбу Гоголя за передовое театральное искусство.
В статье «Христос в пустыне. Картина г. Крамского» Гончаров показывает единство
литературы и живописи в искании правды жизни и анализирует специфические
пути ее отражения в каждом из искусств. Эстетическое обоснование
реалистической природы художественного творчества Гончаров проводил с большой
убежденностью и ясностью. Оно во многом сохраняет свое актуальное значение для
наших дней.
459
НАМЕРЕНИЯ, ЗАДАЧИ И ИДЕИ РОМАНА «ОБРЫВ»
(1876?)
[...] И всякий из йас, насколько есть таланта, стремится к верному и по
возможности полному изображению жизни. Талант имеет то драгоценное
свойство, что он не может лгать, искажать истину; художник перестает
быть художником, как скоро он станет защищать софизм, а еще менее,
если он вздумает изображать сознательно ложь. Перестает он также быть
художником и в таком случае, если удалится от образа и станет на почву
мыслителя, умника, или моралиста и проповедника. Его дело изображать
и изображать.
Таким образом, изображать одно хорошее, светлое, отрадное в
человеческой природе — значит скрадывать правду, то есть изображать неполно
и потому неверно. А это будет монотонно, приторно и сладко. Света без
теней изобразить нельзя. Мрак без света изобразить легко, и искусство
давно уже стало на отрицательный путь, то есть перестало льстить людям,
отыскивая в них одни хорошие стороны и забывая мрачные. Гоголь
справедливо сказал, что если бы он в «Ревизоре» допустил хоть одно
безупречное лицо, все зрители непременно подвели бы себя под него, и ни один,
даже про себя, не взял бы на свою долю ни одной дурной черты
порочных лиц.
Как скоро допустим, что на искусстве лежит серьезный долг —
смягчать и улучшать человека, то мы должны допустить, что прежде всего
оно должно представлять ему нельстивое зеркало его глупостей,
уродливостей, страстей, со всеми последствиями, словом — осветить все
глубины жизни, обнажить ее скрытые основы и весь механизм,— тогда с
сознанием явится и знание, как остеречься. [...]
И. А. Гончаров, Собрание сочинений в 8-ми томах,
т. 8, М., Гослитиздат, 1955, стр. 211—212.
ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ «ОБРЫВ»
(1869)
[...] Искусство объективно смотрит на жизнь, не терпит никакой лжи
и натяжек.
«Искусство для искусства» — бессмысленная фраза, если в ней
выражается упрек, обращаемый к художникам, строго и объективно
относящимся к искусству. Он справедлив единственно в отношении к
бездарным художникам, то есть не художникам, а тем личностям, которые иод
влиянием «раздражения пленной мысли» творят то, в чем нет ни
«правды», ни «жизни», упражняясь из любви к процессу собственного своего
искусства. [...]
Грустно [...] мне как художнику, что и в этой Бабушке и в Вере,
и в падении их, и, наконец, в Волохове — современная публика и
критика видели только портреты, кисти, краски и прочее.
460
Некоторые говорят — это типы: а если типы, замечу я, то ведь они,
значит, изображают коллективные черты целых слоев общества, а слои,
в свою очередь, изображают жизнь уже не индивидуумов, а целых групп
общества — на группах же отражается и современная им жизнь! [...]
Там же, стр. 161—162, 168.
ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
(1869-1879)
[...] «Художник мыслит образами»,— сказал Белинский,— и мы видим
это на каждом шагу, во всех даровитых романистах.
Но как он мыслит — вот давнишний, мудреный, спорный вопрос! Одни
говорят — сознательно, другие — бессознательно.
Я думаю, и так и этак: смотря по тому, что преобладает в художнике,
ум или фантазия и так называемое сердце?
Он работает сознательно, если ум его тонок, наблюдателен и
превозмогает фантазию и сердце. Тогда идея нередко высказывается
помимо образа. И если талант не силен, она заслоняет образ и является тен-
денциею.
У таких сознательных писателей ум досказывает, чего не договаривает
образ,— и их создания бывают нередко сухи, бледны, неполны; они
говорят уму читателя, мало говоря воображению и чувству. Они убеждают,
учат, уверяют, так сказать, мало трогая.
И наоборот — при избытке фантазии и при — относительно меньшем
против таланта — уме образ поглощает в себе значение, идею; картина
говорит за себя, и художник часто сам увидит смысл — с помощью
тонкого критического истолкователя, какими, например, были Белинский
и Добролюбов.
Редко в лице самого автора соединяются и сильный объективный
художник и вполне сознательный критик. [...]
Прежде всего надо вспомнить и уяснить себе следующее положение
искусства: если образы типичны, они непременно отражают на себе —
крупнее или мельче — и эпоху, в которой живут, оттого они и типичны.
То есть на них отразятся, как в зеркале, и явления общественной жизни,
и нравы, и быт. А если художник сам глубок, то в них проявляется и
психологическая сторона. [...]
Ученый ничего не создает, а открывает готовую и скрытую в природе
правду, а художник создает подобия правды, то есть наблюдаемая им
правда отражается в его фантазии и он переносит эти отражения в свое
произведение. Это и будет художественная правда.
Следовательно, художественная правда и правда действительности —
не одно и то же. Явление, перенесенное целиком из жизни в произведение
искусства, потеряет истинность действительности и не станет художест-
461
вениою правдою. Поставьте рядом два-три факта из жизни, как они
случились, выйдет неверно, даже неправдоподобно.
Отчего же это? Именно оттого, что художник пишет не прямо с
природы и с жизни, а создает правдоподобия их. В этом и заключается
процесс творчества! [...]
Пособием художника всегда будет фантазия, а целью его, хотя и
несознательною, пассивною или замаскированною, стремление к тем или
другим идеалам, хоть бы, например, к усовершенствованию наблюдаемых им
явлений, к замене худшего лучшим. [...]
Там же, стр. 69—70, 72, 106.
А. Н. ОСТРОВСКИЙ
1823-1886
Эстетические воззрения Александра Николаевича Островского формировались
под прямым воздействием русских революционных демократов. Его творчество
и убеждения складывались под влиянием Белинского и Гоголя. Крупнейший
русский драматург был убежденным поборником художественного реализма. Он
отстаивал «обличительное направление» в русской литературе, призывал изображать
«правду жизни», писать «для всего народа». Именно в этом коренится, по мнению
Островского, источник воспитательного воздействия искусства Поэт открывает
людям в жизни новое, учит понимать ее, любить прекрасное.
В 50-е годы Островский был близок к славянофилам. Но под влиянием
революционного подъема начала 60-х годов он вновь сближается с демократическим
лагерем, сотрудничает с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным. В это время в его
творчестве усиливаются антикрепостнические и антибуржуазные мотивы.
Островский боролся с безыдейным, развлекательным, «модным» буржуазным
искусством. Он отстаивал «серьезное содержание» искусства, понимая под ним
правдивое изображение современного общества и постановку важных нравственных
и социальных вопросов.
С первых шагов своей творческой деятельности Островский был связан с
Малым театром, где увидело свет большинство его пьес.
Островский мечтал утвердить в театре «родную русскую школу» и считал, что
только связь с жизнью народа обусловливает великую идейно-художественную
функцию искусства. Требования художественности Островский подчинял задачам
реализма, связывал их со значительностью идейного содержания произведения.
Большой интерес представляют собою высказывания Островского о специфике
драматургии, театра, творчества актера.
Будучи сторонником «естественной и выразительной игры на сцене»,
Островский боролся за реализм в театральном искусстве. Он требовал достижения
актерского ансамбля и обстановки, «близкой к жизненной правде». Мысли Островского
об актерском переживании и перевоплощении, его борьба со штампами, за реализм
сценического образа отчасти предвосхищают учение Станиславского.
462
«ОШИБКА», ПОВЕСТЬ ГОСПОЖИ ТУР
[...] Литература каждого образованного народа идет параллельно с
обществом, следя за ним на различных ступенях его жизни. Каким же
образом художество следит за общественною жизнью? Нравственная жизнь
общества, переходя различные формы, дает для искусства те или другие
типы, те или другие задачи. Эти типы и задачи, с одной стороны,
побуждают писателя к творчеству, затрагивают его; с другой, дают ему
готовые, выработанные формы. Писатель или узаконивает оригинальность
какого-нибудь типа как высшее выражение современной жизни, или,
прикидывая его к идеалу общечеловеческому, находит определение его
слишком узким, и тогда тип является комическим. [...] Отличительная черта
русского народа, отвращение от всего резко определившегося, от всего
специального, личного, эгоистически отторгшегося от общечеловеческого,
кладет и на художество особенный характер; назовем его характером
обличительным. Чем произведение изящнее, чем оно народнее, тем больше
в нем этого обличительного элемента. [...] Пусть не подумают, что мы,
признав нравственный, обличительный характер за русской литературой,
считаем произведения, наполненные сентенциями и нравственными
изречениями, за изящные; совсем нет: такие произведения у нас уважаются
гораздо меньше, чем у других народов, и сами являются предметом
насмешки и глумления. Хотя недовольство каким-нибудь условным
определением жизни выражается в сентенциях, в отвлеченных нравственных
положениях, но публика ждет от искусства облечения в живую, изящную
форму своего суда над жизнью, ждет соединения в полные образы
подмеченных у века современных пороков и недостатков, которые являются ей
сухими и отвлеченными. И художество дает публике такие образы и этим
самым поддерживает в ней отвращение от всего резко определившегося,
не позволяет ей воротиться к старым, уже осужденным формам, а
заставляет искать лучших, одним словом, заставляет быть нравственнее. Это
обличительное направление нашей литературы можно назвать
нравственно-общественным направлением. [...]
А. Н. Островский, Полное собрание сочинений
в 16-ти томах, т. XIII, М., Гослитиздат, 1952, стр. 139—141.
«ТЮФЯК», ПОВЕСТЬ А. Ф. ПИСЕМСКОГО
(1851)
[...] Эта повесть истинно художественное произведение. Мы можем
сказать это смело, потому что она удовлетворяет всем условиям
художественности. Вы видите, что в основании произведения лежит глубокая
мысль (о которой мы поговорим ниже), и вместе с тем так ясно для
вас, что зачалась она в голове автора не в отвлеченной форме -= в виде
463
сентенции, а в живых образах и домысливалась только особенным
художественным процессом до более типичного представления; с другой
стороны — в этих живых образах и для первого взгляда как будто случайно
сошедшихся в одном интересе эта мысль ясна и прозрачна. Едва ли
нужно повторять, что высказапное нами составляет единственное условие
художественности. [...]
Там же, стр. 151.
ЗАСТОЛЬНОЕ СЛОВО О ПУШКИНЕ
(1880)
[...] ПерЕая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все,
что может поумнеть. Кроме наслаждения, кроме форм для выражения
мыслей и чувств, поэт дает и самые формулы мыслей и чувств. Богатые
результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим
достоянием. Высшая творческая натура влечет и подравнивает к себе
всех. Поэт ведет за собой публику в незнакомую ей страну изящного,
в какой-то рай, в тонкой и благоуханной атмосфере которого
возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства. Отчего с таким
нетерпением ждется каждое новое произведение от великого поэта?
Оттого, что всякому хочется возь«ышенно мыслить и чувствовать вместе
с ним; всякий ждет, что вот он скажет мне что-то прекрасное, новое, чего
нет у меня, чего недостает мне; но он скажет, и это сейчас же сделается
моим. Вот отчего и любовь и поклонение великим поэтам; вот отчего
и великая скорбь при их утрате; образуется пустота, умственное
сиротство: некем думать, некем чувствовать. [...]
Там же, стр. 164—165.
«ЛУЧШИЙ АЛЬКАЛЬД - КОРОЛЬ»
(1877)
[...] Натуральность не главное качество, оно достоинство только
отрицательное; главное достоинство есть выразительность, экспрессия. Кто же
похвалит картину за то, что лица в ней нарисованы натурально,— этого
мало, нужно, чтобы они были выразительны...
Реализм не есть что-нибудь новое, но есть ни более, ни менее как
настоящее творчество. [...]
Там же, стр. 162.
О РОМАНЕ Ч. ДИККЕНСА «ДОМБИ И СЫН»
[...] Для того чтобы быть народным писателем, мало одной любви
к родине,— любовь дает только энергию, чувство, а содержания не дает;
464
надобно еще знать хорошо свой народ, сойтись с ним покороче,
сродниться. Самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение
своей народности, а воспроизведение ее в художественных формах —
самое лучшее поприще для творческой деятельности. Изучение изящных
памятников древности, изучение новейших теорий искусства пусть будет
приготовлением художнику к священному делу изучения своей родины,
пусть с этим запасом выходит он в народную жизнь, в ее интересы и
ожидания. [...]
Там же, стр. 137.
ЗАПИСКА О ПОЛОЖЕНИИ ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
(1881)
[...] Драматическая поэзия ближе к народу, чем все другие отрасли
литературы. Всякие другие произведения пишутся для образованных
людей, а драмы и комедии — для всего народа; драматические писатели
должны всегда это помнить, они должны быть ясны и сильны. Эта
близость к народу нисколько не унижает драматической поэзии, а напротив,
удваивает ее силы и не дает ей опошлиться и измельчать. История
оставила название великих и гениальных только за теми писателями, которые
умели писать для всего народа, и только те произведения пережили
века, которые были истинно народными у себя дома; такие произведения со
временем делаются понятными и ценными и для других народов, и
наконец, и для всего света.
У нас есть русская школа живописи, есть русская музыка,
позволительно нам желать и русской школы драматического искусства. [...]
А. Н. Островский, Полное собрание сочинений,
т. XII, 1952, стр. 123.
О ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
(1881-1882)
[...] Актер есть пластический художник; а можно ли быть не только
художником, но и порядочным ремесленником, не изучив техники своего
искусства или ремесла? Актером родиться нельзя, точно так же как
нельзя родиться скрипачом, оперным певцом, живописцем, скульптором,
драматическим писателем; родятся люди с теми или другими
способностями, с тем или другим призванием, а остальное дается артистическим
воспитанием, упорным трудом, строгой выработкой техники. Нельзя быть
музыкантом, не имея тонкого слуха; но одного слуха мало, надо еще
изучить технику какого-нибудь инструмента, покорить его так, чтоб
он издавал чисто, верно и с надлежащей экспрессией те звуки, которые
465
требуются тонким слухом. Рожденному с тонким зрением, чтоб быть
живописцем, нужно прежде всего приучить свою руку решительно и точно
передавать те контуры, которые видит или видел его тонкий глаз.
Призванным к актерству мы считаем того, кто получил от природы тонкие
чувства слуха и зрения и вместе с тем крепкую впечатлительность. При
таких способностях у человека с самого раннего детства остаются в душе
и всегда могут быть вызваны памятью все наружные выражения почти
каждого душевного состояния и движения; он помнит и бурные,
решительные проявления страстных порывов: гнева, ненависти, мести, угрозы,
ужаса, сильного горя, и тихие, плавные выражения благосостояния,
счастия, кроткой нежности. Он помнит не только жест, но и тон каждого
страстного момента: и сухой звук угрозы, и певучесть жалобы и мольбы,
и крик ужаса, и шепот страсти. Кроме того, в душе человека, так
счастливо одаренного, создаются особыми психическими процессами
посредством аналогий такие представления, которые называются творческими.
Человек с артистическими способностями по некоторым данным —
описаниям, изваяниям, картинам — может вообразить себе во всех внешних
проявлениях и жизнь чуждой ему народности и веков минувших. По весь
этот запас, весь этот богатый материал, хранящийся в памяти или
созданный художественными соображениями, еще не делает актера; чтобы быть
артистом — мало знать, помнить и воображать,— надобно уметь. Как
живо ни воображай себе художник Юлия Кесаря или Жанну д'Арк, но
если он рисует плохо, то у него на картине выйдет что-нибудь другое,
а не Кесарь и не Жанна д'Арк. Точно то же и в актерстве. Чтобы стать
вполне актером, нужно приобресть такую свободу жеста и тона, чтобы
при известном внутреннем импульсе мгновенно, без задержки, чисто реф-
лективно следовал соответственный жест, соответственный тон. Вот это-то
и есть истинное сценическое искусство, оно-то только и доставляет
поднимающее, чарующее душу эстетическое наслаждение. Зритель только
тогда получает истинное наслаждение от театра, когда он видит, что
актер живет вполне и целостно жизнью того лица, которое он
представляет, что у актера и форму и самый размер внешнего выражения дает
принятое им на себя и ставшее обязательным для каждого его жеста
и звука обличье. С первого появления художника-актера на сцену уже
зритель охватывается каким-то особенно приятным чувством, на него веет
со сцены живой правдой; с развитием роли это приятное чувство
усиливается и доходит до полного восторга в патетических местах и при
неожиданных поворотах действия; зала вдруг оживает; сначала — шепот
одобрения, потом — рукоплескания и крики делаются единодушными. Все мы
знаем характеры, выведенные Шекспиром. Что же нас манит и вечно
будет манить смотреть на сцене эти характеры? Что мы смотреть будем?
Мы смотреть будем живую правду. Великий художник дал нам характеры;
но мы понимаем их отвлеченно, аналитически, умом, а живое, конкретное
представление этих характеров в нас неполно, односторонне, неясно,
смутно (иначе мы сами были бы великими художниками); нам нужно,
466
чтоб другой художник оживил перед нами эти характеры, чтобы он жил
полным человеком в тех рамках, какие дал ему художник. Вы знаете, что
говорит Ромео перед балконом Джульетты; но вы не знаете, как он
говорит, как он живет в это время; вы желаете иметь живую иллюстрацию
к этой сцене и проверить правдивость ее своим непосредственным
чувством. Поэтому понятно, что публика отнесется очень холодно к этой сцене,
когда перед ней неумелый актер будет более или менее толково читать
свою роль, которую она и без него знает; понятен также и восторг,
который вдруг овладевает публикой, когда она видит перед собой уже не
актера, а именно юношу Ромео, который весь проникнут избытком
страсти и который грудным шепотом, где каждое слово есть продолженный
вздох, передает переполнившую его душу любовь в душу жаждущей
любви Джульетты. При художественном исполнении слышатся часто не
только единодушные аплодисменты, а и крики из верхних рядов: «это
верно», «так точно». Слова: «это верно», «так точно» — только наивны,
а совсем не смешны; то же самое говорит партер своим «браво», то же
самое «это верно», «так точно» повторяют в душе своей все образованные
люди. Но с чем верно художественное исполнение, с чем имеет
точное сходство? Конечно, не с голой обыденной действительностью;
сходство с действительностью вызывает не шумную радость, не восторг,
а только довольно холодное одобрение. Это исполнение верно тому
идеально-художественному представлению действительности, которое
недоступно для обыкновенного понимания и открыто только для высоких
творческих умов. Радость и восторг происходят в зрителях оттого, что
художник поднимает их на ту высоту, с которой явления представляются
именно такими. Радость быть на такой высоте и есть восторг, и есть
художественное наслаждение; оно только и нужно, только и дорого
и культурно и для отдельных лиц и для целых поколений и наций. При
талантливых и хорошо подготовленных исполнителях художественные
дьесы не перестают нравиться и оказывать влияние на публику; они
вечны, как вечны все высокие, изящные произведения. Оттого-то и
устанавливается всегда такая близость, такая родственная связь между
актерами-художниками, исполнителями, и авторами-художниками,
творцами. [...]
Там же, стр. 165—167.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
1821-1881
Федор Михайлович Достоевский — один из величайших русских писателей
XIX века — оказал влияние своим творчеством не только на дальнейшее развитие
русской литературы, но и на мировую литературу. Его стиль, художественная
манера продолжают волновать творческое воображение писателей и эстетиков и тогда,
467
когда художественная культура в различных странах мира вступила во вторую
половину XX века. Достоевский оставался на протяжении сорокалетнего творческого
пути убежденным реалистом, и свою реалистическую эстетику он воплощал не только
в художественных творениях, но и в литературно-критических статьях, которые
публиковал в своем журнале «Время» в 60-е годы, в выступлениях на
литературные темы, которые включал в свой «Дневник писателя», издававшийся им в 70-е
годы, и в обширных письмах, адресованных друзьям и единомышленникам. Все
эти высказывания были у Достоевского, как правило, полемически воинствующими,
рождавшимися в споре с воззрениями своих современников.
Можно утверждать, что у Достоевского была своя настойчиво
пропагандируемая им эстетическая система, совокупность воззрений на сущность искусства, свое
понимание реализма в литературе, свой взгляд на соотношение искусства и
действительности, на роль художника и его назначение. Он, в отличие от сторонников
теории «искусства для искусства», утверждал: «Искусство всегда современно и
действительно, никогда не существовало иначе, главное, не может иначе существовать».
Оно всегда связано с реальной действительностью, и поэтому общественная роль
художника необычайно велика и в нравственном и в социально-философском
развитии народа. В этом смысле суждения Достоевского совпадали с эстетическими
воззрениями русских революционных демократов — Белинского, Добролюбова,
Чернышевского. Художественные творения самого Достоевского были столь насыщены
острой социально-политической проблематикой, и по своим демократичности и
гуманизму, по своей антидворянской и антибуржуазной направленности так близки
революционным демократам, несмотря на реакционные политические воззрения
писателя, что послужили для Добролюбова материалом для написания одной из
лучших его статей «Забитые люди». Вместе с тем Достоевский яростно спорил
с Добролюбовым по существенным вопросам эстетики, хотя и высоко оценивал
талант критика. Этому спору и посвящена важнейшая статья Достоевского об
искусстве «Г. -бов и вопрос об искусстве» 1861 года, которую мы помещаем в нашем
издании с некоторыми сокращениями. В ней художник выступает как против
сторонников «искусства для искусства», так и против утилитаристского подхода к
искусству (Добролюбова). Достоевский полагал, что нельзя измерять полезность искусства
мерой непосредственного отражения текущих явлений жизни. Самая красота,
отраженная в искусстве, по мнению Достоевского, воспитывает человека
эстетически, а в конечном счете и граждански. Поэтому он был противником
навязывания писателям тем, задач, тенденций извне. Внутренняя свобода художника
единственно в состоянии обеспечить художественное совершенство, без чего никакая
прогрессивная и гражданская идея не достигает своей воспитательной цели в
искусстве.
Исходя из этого, Достоевский спорит и со сторонниками «чистого искусства» —
Дудышкиным и другими, защищая обличительный талант Щедрина, но
одновременно возражает против ограничения искусства обличительными целями, или, как
писали в его время,— «гоголевским направлением». Полемические выпады
Достоевского против Добролюбова были результатом того, что
революционно-демократическая критика в своей пропаганде гоголевского направления иногда приходила
к некоторой недооценке значения поэзии. Поэтому на протяжении всей своей
46S
деятельности Достоевский отстаивал высшее, подлинно народное значение
Пушкина. Он подчеркивал в нем национальный русский характер, который тем и
отличается, что одновременно может постичь и национальный колорит других народов,
и воспринять высшие достижения мировой культуры, и быть универсально
разносторонним. Абсолютное единство содержания и формы, которое он видел в
творениях Пушкина, обеспечивает ему непреходящую в веках эстетическую и
нравственную ценность.
Таким образом, полемически заостренное утверждение Достоевского, что
«искусство само себе цель» и «красота полезна, потому что она красота», не содержало
в себе той тенденции, которую привносили в эту формулу сторонники
идеалистической эстетики.
Однако, справедливо подчеркивая национальное и тем самым мировое
значение Пушкина, Достоевский вносил в трактовку его творений свои «почвеннические»
идеи о религиозной миссии русского народа и необходимости смирения перед
«народной правдой».
В своем понимании реализма Достоевский выступал против приземления
искусства до фотографической точности, до натуралистического воспроизведения
жизни. Он называл себя «реалистом в высшем смысле», полагая при этом, что
художник имеет право на вымысел, граничащий с фантастикой, на экспрессивность
художественных средств, на символику, глубже обнажающую сущность жизненных
закономерностей, чем «зеркальное отражение». Достоевский в своих письмах и в
рецензии на выставку в Академии художеств 1861 года подчеркивал, что правда
художественная не тождественна правде жизни, но выше, глубже ее. «Прежде надо
одолеть трудности передачи правды действительной, чтобы потом подняться на
высоту правды художественной» *,— писал он. Силу художественной правды
Достоевский связывал с личностью художника, придавая огромное значение его
субъективному восприятию мира, его художественному идеалу. Причем личность художника
обнаруживается не только в изображении текущей жизни, но и в исторических
жанрах. На материале анализа картины художника Н. Ге Достоевский показывал
неуместность приемов жанровой живописи в исторических картинах, ибо тогда
нарушается не только художественная, но и историческая правда в произведениях
искусства.
В этом смысле Достоевский толковал соотношение исключительного,
обыденного и типичного. Он высоко ценил исключительность психологических положений
в новеллах Эдгара По. Достоевский полагал также, что реализм допускает не
только изображение того, что есть, но открывает возможность проникнуть в грядущее,
увидеть в зародыше настоящей жизни тенденции будущего. Об этом он писал
неоднократно в «Дневнике писателя». В эпилоге к своему роману «Подросток» он
отстаивал право писателя, «одержимого тоской по текущему», «угадывать... и
ошибаться». Само творчество Достоевского является подтверждением того, как
эстетические принципы художника и своеобразное понимание им реализма нашли свое
глубокое воплощение в его гениальных романах.
1 Ф. М. Достоевский, Собрание художественных произведений, т. XIII,
М.—Л., 1930, стр. 532.
469
Г. -БОВ И ВОПРОС ОБ ИСКУССТВЕ
(1861)
[...] Одним из самых важных литературных вопросов мы считаем
теперь вопрос об искусстве. Этот вопрос разделяет многих из современных
писателей наших на два враждебных лагеря. Таким образом
разъединяются силы. Нечего распространяться о вреде, который заключается во
всяком враждебном разногласии. А дело уже доходит почти до вражды.
[...] Одни говорят и учат, что искусство служит само себе целью и в
самой сущности своей должно находить себе оправдание. И потому вопроса
о полезности искусства, в настоящем смысле слова, даже и быть не
может. Творчество — основное начало каждого искусства, есть цельное,
органическое свойство человеческой природы и имеет право существовать
и развиваться уже по тому одному, что оно есть необходимая
принадлежность человеческого духа. Оно так же законно в человеке, как ум, как
все нравственные свойства человека и, пожалуй, как две руки, как две
ноги, как желудок. Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое.
Конечно, ум, например, полезен,— так можно выразиться: плохо без ума.
Полезны в этом же смысле человеку и руки и ноги! В этом же смысле
полезно человеку и творчество.
Но как нечто цельное, органическое, творчество развивается само из
себя, неподчиненно и требует полного развития; главное — требует
полной свободы в своем развитии. Поэтому всякое стеснение, подчинение,
всякое постороннее назначение, всякая исключительная цель,
поставленная ему, будут незаконны и неразумны. Если б ограничить творчество
или запретить творческим и художественным потребностям человека
заниматься — ну, чем бы, например? — ну, хоть выражением известных
ощущений; запретить человеку всю творческую его деятельность,
которую бы возбуждали в нем известные явления природы: восход солнца,
морская буря и проч. и проч.,— то все это было бы нелепым, смепшым
и незаконным стеснением человеческого духа в его деятельности и
развитии.
Это говорит одна партия — партия защитников свободы и полной
неподчиненности искусства.
«Разумеется, все это было бы нелепым стеснением», ответят
утилитаристы λ (другая партия, учащая тому, что искусство должно служить
человеку прямой, непосредственной, практической и даже определенной
обстоятельствами пользой),— разумеется, всякое подобное стеснение без
разумной цели, а единственно по прихоти — есть дикая и злая глупость.
Но согласитесь сами (могут они прибавить) — вдруг, например, идет
сражение — вы один из сражающихся; вместо того чтоб помогать своим
1 Утилитаристами Достоевский называл представителей
революционно-демократической критики, и в первую очередь основного литературного критика
журнала «Современник» — Н. А. Добролюбова. (Прим. сост.).
470
товарищам в битве, вам, как артисту в душе, вдруг понравилась картина
сражения; вы бросите оружие, вынимаете карандаш, бумагу и начинаете
срисовывать поле битвы. Хорошо вы делаете? Разумеется, вы имеете
полное право предаваться вашим вдохновениям; но разумна ли будет ваша
художественная деятельность в такую минуту?
Одним словом, заключают они, мы не отвергаем вашей теории о
свободе развития творчества; но эта свобода должна быть по крайней мере
хоть разумная.
[...] Возьмем еще пример.
Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно
в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне
погибает; домы разваливаются и проваливаются; имущество гибнет;
всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял — или имение, или семью.
Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от
ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный
португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского
«Меркурия» (тогда все издавались «Меркурии»). Номер журнала,
появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в
несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов;
надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые известия о
погибших, о пропавших без вести и проч. и проч. И вдруг — на самом
видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря! \
Да еще мало того: тут же, в виде послесловия к поэмке, приложено
в прозе всем известное поэтическое правило, что тот не поэт, кто не
в состоянии выскочить вниз головой из четвертого этажа (для каких
причин? — я до сих пор этого не понимаю; но уж пусть это непременно надо,
чтоб быть поэтом; не хочу спорить). Не знаю наверно, как приняли бы
свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы
всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он
написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трелей соловья
1 Достоевский приводит целиком стихотворение А. А. Фета (1850), вызвавшее
широкий отклик в литературных кругах и многочисленные пародии. (Прим. сост.).
471
накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья
появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев
не только не осталось охоты наблюдать —
В дымных тучках пурпур розы
или
Отблеск янтаря,—
но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок
поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни.
Разумеется, казнив своего поэта (тоже очень небратски), они все
непременно бы кинулись к какому-нибудь доктору Панглосу 1 за умным
советом, и доктор Панглос тотчас же и без большого труда уверил бы их всех,
что это очень хорошо случилось, что они провалились, и что уж если они
провалились, то это непременно к лучшему. И доктора Панглоса никто
бы не разорвал за это в клочки; напротив, дали бы ему пенсию и
провозгласили бы его другом человечества. Ведь так все идет на свете.
Заметим, впрочем, следующее; положим, лиссабонцы и казнили своего
любимого поэта, но ведь стихотворение, на которое они все рассердились
(будь оно хоть и о розах и янтаре), могло быть великолепно по своему
художественному совершенству. Мало того, поэта-то они б казнили,
а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы на площади
памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур
розы» в частности. Выходит, что не искусство было виновато в день
лиссабонского землетрясения. Поэма, за которую казнили поэта, как
памятник совершенства поэзии и языка, принесла, может быть, даже и немалую
пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и
чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения.
Стало быть, виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший
искусством в ту минуту, когда было не до того. Он пел и плясал у гроба
мертвеца... Это, конечно, было очень нехорошо и чрезвычайно глупо с его
стороны; но виноват опять-таки он, а не искусство.
Одним словом, утилитаристы требуют от искусства прямой,
немедленной, непосредственной пользы, соображающейся с обстоятельствами,
подчиняющейся им, и даже до такой степени, что если в данное время обще^
ство занято разрешением, например, такого-то вопроса, то искусство (по
учению некоторых утилитаристов) и цели не может задать себе иной, как
разрешение этого же вопроса. Если рассматривать это соображение
о пользе не как требование, а только как желание, то оно, по нашему
мнению, даже похвально, хотя мы и знаем, что все-таки это соображение
не совсем верно. Если, например, все общество озабочено разрешением
] Доктор Панглос — смешной философ в одной сказке Вольтера,
доказывающий, что все на свете происходит к лучшему. (Прим. сост.).
472
какого-нибудь важного внутреннего вопроса, то, разумеется, принято было
бы желать, чтоб и все силы общества согласно направлены были к
достижению всеобщей цели, а следовательно, чтоб и искусство прониклось этой
же идеей и тоже послужило бы общей пользе. Какое-нибудь общество,
доложим, на краю гибели; все, что имеет сколько-нибудь ума, души,
сердца, воли, все, что сознает в себе человека и гражданина, занято одним
вопросом, одним общим делом. Неужели ж тогда только между одними
поэтами и литераторами не должно быть ни ума, йи души, ни сердца, ни
любви к родине и сочувствия всеобщему благу?
[...] Защитники «искусства для искусства», собственно, за то и
сердятся на утилитаристов, что они, предписывая искусству определенные
цели, тем самым разрушают само искусство, посягая на его свободу, а
разрушая так легко искусство, стало быть, не ценят его и, следовательно, не
понимают даже, к чему оно может быть полезно,— они толкуют прежде
всего о пользе. Потому, говорят защитники искусства,— если б
утилитаристы только знали, какая великая польза заключается в искусстве для
всего человечества, то они бы несколько более ценили его и не обращались
бы с ним с таким неуважением. И в самом деле (продолжают они), если б
даже смотреть на искусство с одной вашей точки зрения, то есть со
стороны одной полезности, то ведь еще неизвестен в подробности
нормальный исторический ход полезности искусства в человечестве. Трудно
измерить всю массу пользы, принесенную и до сих пор приносимую всему
человечеству, например, «Илиадой» или Аполлоном Бельведерским,
вещами, по-видимому, совершенно в наше время ненужными.
[...] Обличительная литература возбуждает негодование сторонников
чистого искусства. С одной стороны, это имеет некоторое основание:
большей частью произведения обличительной литературы до того худы, что
более вредны, чем полезны всеобщему делу, и если мы с своей стороны
признаем, что нападки на эти произведения отчасти и дельны, то
единственно только в этом смысле. Но в том-то и беда, что нападки на них
идут не с одной этой стороны и не в этом смысле. Негодование заходит
далее: обвиняется сам г. Щедрин, родоначальник обличительной
литературы, несмотря на то, что г. надворный советник Щедрин во многом из
своих обличительных произведений — настоящий художник. Мало того:
гонится весь обличительный род искусства, как будто между
обличительными писателями даже и не может появиться истинного художника,
гениального писателя, поэта, самая специальность которого именно и
будет состоять в обличении. Следственно, из вражды к противникам
сторонники чистого искусства идут против самих себя, против своих же
принципов, а именно — уничтожают свободу в выборе вдохновения. А за эту
свободу они-то бы и должны стоять.
С другой стороны, утилитаристы, не посягая явно на
художественность, в то же время совершенно не признают ее необходимости.
«Была бы видна идея, была бы только видна цель, для которой
произведение написано,— и довольно; а художественность дело пустое,
473
третьестепенное, почти ненужное». Вот как думают утилитаристы. А так
как произведение нехудожественное никогда и ни под каким видом не
достигает своей цели; мало того: более вредит делу, чем приносит пользы,
то, стало быть, утилитаристы, не признавая художественности, сами же
более всех вредят делу, а следственно, идут прямо против самих себя,
потому что они ищут не вреда, а пользы.
Нам скажут, что мы это все выдумали, что утилитаристы никогда не
шли против художественности. Напротив: не только шли, но мы заметили,
что им даже особенно приятно позлиться на иное литературное
произведение, если в нем главное достоинство — художественность. Они,
например, ненавидят Пушкина, называют все его вдохновения — вычурами,
кривляньями, фокусами и фиоритурами, а стихотворения его —
альбомными побрякушками 1. Даже самое появление Пушкина в нашей
литературе они считают как будто чем-то незаконным. Мы вовсе не
преувеличиваем. Все это почти ясно выражено г. -бовым в некоторых
критических статьях его прошлого года. Заметно еще, что г. -бов начинает
высказываться с каким-то особенным нерасположением йог. Тургеневе 2,
самом художественном из всех современных русских писателей.
[...] Кстати сделаем еще одно нотабене. Чем познается
художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по
возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она
воплощена. Скажем еще яснее: художественность, например, хоть бы
в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах
романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же
понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое
произведение. Следственно, попросту: художественность в писателе есть
способность писать хорошо. Следственно, те, которые ни во что не ставят
художественность, допускают, что позволительно писать нехорошо. А уж если
согласятся, что позволительно, то ведь отсюда недалеко и до того, когда
просто скажут: что надо писать нехорошо. Да чуть ли и не говорят.
[...] Во-первых, прежде всего уверяем вас, что, несмотря на любовь
к художественности и к чистому искусству, мы сами алчем, жаждем
хорошего направления и высоко его ценим. И потому поймите наше главное;
мы на Марко Вовчка 3 нападаем вовсе не потому, что он пишет с
направлением; напротив, мы его слишком хвалим за это и готовы бы радоваться
его деятельности. Но мы именно за то нападаем на автора народных рас-
1 Достоевский имеет в виду статью Добролюбова «Александр Сергеевич
Пушкин», напечатанную в 1858 г. (Прим. сост.).
2 Статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день» о романе И. С.
Тургенева «Накануне» напечатана в 1860 г. (Прим. сост.).
3 Марко Вовчок — псевдоним украинской писательницы М. А. Маркович.
Ее книге «Рассказы из народной жизни» посвящена статья Добролюбова «Черты
для характеристики русского простонародья» (опубликована в «Современнике»
в 1860 г.), ответом на которую и явилась статья Достоевского «Г. -бов и вопрос
об искусстве», напечатанная в журнале «Время» в 1861 г. (Прим. сост.).
474
сказов, что он не умел хорошо сделать свое дело, сделал его дурно и тем
повредил делу, а не принес ему пользу. [...] То-то и есть, что
художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый
бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления
в образах именно того самого дела, о котором вы хлопочете, самым
деловой, если хотите вы, деловой человек. Следственно,
художественность в высочайшей степени полезна, и полезна именно с вашей
точки зрения. Что же вы ее презираете и преследуете, когда ее именно
нужно поставить на первый план, прежде всяких требований? «Прежде
всяких требований — нельзя, говорите вы, потому что прежде всего
нужно дело»; но ведь и о деле нужно говорить дельно, умеючи. Ведь
и в дельном человеке не много пользы, если он не умеет высказываться.
Это все равно, если у вас, например, под командой куча солдат, народ
надежный, хороший; вдруг тревога: все вскакивают, надевают ранцы,
амуницию, хватаются за оружие. «Скорее! Скорее! — командуете вы,—
бросайте ранцы, патроны, не нужно: только опоздаем со всеми лишними
сборами; и оружия не нужно,— кто что успел захватить, с тем и марш!» Вы
действительно поспеваете вовремя на место, занимаете его, но ведь ваши
солдаты без оружия и без амуниции, куда они годятся? Дело-то сделано,
да ведь нехорошо сделано. Или, например, перед вами крепость; вам
нужно ее атаковать, и вот вы требуете непременным условием, чтобы
ваши солдаты, все до одного, были хромые. Писатель без таланта — тот же
хромой солдат. Неужели же вы предпочтете для выражения вашей мысли
заику?
Но вы улыбаетесь, вам смешно слушать, что вас же как будто учат
тому, что вы сами не только отлично знаете, но давным-давно уже в своем
месте высказали. В одной из ваших статей вы говорите: «пожалуй, пусть
будет произведение художественное, но будь оно и современное». И в
другой статье: «Если вы хотите живым образом действовать на меня, хотите
заставить меня полюбить красоту,— то умейте уловить в ней этот общин
смысл, это веяние жизни, умейте указать и растолковать его мне; тогда
только вы достигнете вашей цели». Коротко и ясно; вы не отвергаете
художественности, но требуете, чтоб художник говорил о деле, служил
общей пользе, был верен современной действительности, ее потребностям,
ее идеалам. Желание прекрасное. Но такое желание, переходящее в
требование, по-нашему, есть уже непонимание основных законов искусства
и его главной сущности — свободы вдохновения. Это значит просто не
признавать искусства как органического целого. В том-то вся и ошибка
в этом сбивчивом вопросе, которая привела нас к недоумениям,
несогласиям и, что всего хуже, к крайностям. Вы как будто думаете, что
искусство не имеет само по себе никакой нормы, никаких своих законов, что
им можно помыкать по произволу, что вдохновение у всякого в кармане
по первому востребованию, что оно может служить тому-то и тому-то
и пойти по такой дороге, по которой вы захотите. А мы верим, что у
искусства собственная, цельная, органическая жизнь и, следовательно, основ-
475
ные и неизменные законы для этой жизни. Искусство есть такая же
потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и
творчества, воплощающего ее,— неразлучна с человеком, и без нее человек,
может быть, не захотел бы жить на свете. Человек жаждет ее, находит
и принимает красоту без всяких условий, а так, потому только, что она
красота, и с благоговением преклоняется перед нею, не спрашивая, к чему
она полезна и что можно на нее купить. И, может быть, в этом-то и
заключается величайшая тайна художественного творчества, что образ
красоты, созданный им, становится тотчас кумиром, без всяких условий.
А почему он становится кумиром? Потому, что потребность красоты
развивается наиболее тогда, когда человек в разладе с действительностью,
в негармонии, в борьбе, то есть когда наиболее живет, потому что человек
наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается;
тогда в нем и проявляется наиболее естественное желание всего
гармонического, спокойствия, а в красоте есть и гармония и спокойствие. Когда же
находит то, чего добивается, то на время для него как бы замедляется
жизнь, и мы видели даже примеры, что человек, достигнув идеала своих
желаний, не зная куда более стремиться, удовлетворенный по горло,
впадал в какую-то тоску, даже сам растравлял в себе эту тоску, искал другого
идеала в своей жизни и от усиленного пресыщения не только не ценил
того, чем наслаждался, но даже сознательно уклонялся от прямого пути,
раздражая в себе посторонние вкусы, нездоровые, острые,
негармонические, иногда чудовищные, теряя такт и эстетическое чутье здоровой
красоты и требуя вместо нее исключений.
[...] Мы уже сказали в начале нашей статьи, что нормальные,
естественные пути полезного нам не совсем известны, по крайней мере не
исчислены до последней точности. Как, в самом деле, определить ясно
и бесспорно, что именно надо делать, чтоб дойти до идеала всех наших
желаний и до всего того, чего желает и к чему стремится все
человечество? Можно угадывать, изобретать, предполагать, изучать, мечтать и
рассчитывать, но невозможно рассчитать каждый будущий шаг всего
человечества, вроде календаря. Поэтому как и определить совершенно верно, что
вредно и полезно? Но не только о будущем, мы даже не можем иметь
точных и положительных сведений о всех путях и уклонениях, одним
словом, о всем нормальном ходе полезного даже и в прошедшем нашем. Мы
изучаем этот путь, догадываемся, строим системы, выводим следствия, но
все-таки календаря и тут не составим, и история до сих пор не может
считаться точной наукой, несмотря на то, что факты почти все перед нами.
И потому, как, например, вы определите, вымеряете и взвесите, какую
пользу принесла всему человечеству «Илиада»? Где, когда, в каких
случаях она была полезна, чем, наконец, какое именно влияние она имела на
такие-то народы, в такой-то момент их развития и сколько именно было
этого влияния (ну, хоть фунтов, пудов, аршин, километров, градусов
и проч. и проч.)? А ведь если мы этого не можем определить, то очень
возможно, что можем ошибиться и теперь, когда будем строго и
решило
тельно определять людям занятия и указывать искусству нормальные
пути полезности и настоящего его назначения.., [...] Ведь чем гнусно
занятие «Илиадой» и подражание ей в искусстве в наше время, по
взгляду противников чистого искусства? Тем, что мы, точно мертвецы,
точно все пережившие, или точно трусы, боящиеся нашей будущей
жизни, наконец,— точно равнодушные изменники тех из нас, в
которых еще осталась жизненная сила и которые стремятся вперед,
точно энервированные до отупения, до непонимания, что и у нас есть
жизнь,— в каком-то отчаянии бросаемся в эпоху «Илиады» и создаем
себе таким образом искусственную действительность, жизнь, которую не
мы создавали и не мы проживали, мечту, пустую и соблазнительную,—
и, как низкие люди, заимствуем, воруем нашу жизнь у давно-прошедшего
времени и прокисаем в наслаждении искусством, как никуда не годные
подражатели! Согласитесь сами, что направление утилитаристов с точки
зрения подобных упреков в высшей степени благородно и возвышенно.
Оттого-то мы им так и сочувствуем; оттого-то их и хотим уважать. Беда
только в том, что это направление и эти упреки неверны. Не говоря уже
о том, что мы говорили о потребности красоты, и о том, что у человечества
уже определились отчасти ее вековечные идеалы (так что все это уже
стало всемирной историей и связано общечеловечностью с настоящим
и с будущим навеки и неразрывно),— не говоря уже о том, заметим
утилитаристам, что ведь можно относиться к прошедшей жизни и к
прошедшим идеалам и не наивно, а исторически. При отыскании красоты человек
жил и мучился. Если мы поймем его прошедший идеал и то, чего этот
идеал ему стоил, то, во-первых, мы выкажем чрезвычайное уважение ко
всему человечеству, облагородим себя сочувствием к нему, поймем, что
это сочувствие и понимание прошедшего гарантирует нам же, в нас же
присутствие гуманности, жизненной силы и способность прогресса и
развития. Кроме того, можно относиться к прошедшему и (так сказать)
байронически. В муках жизни и творчества бывают минуты не то чтоб
отчаяния, но беспредельной тоски, какого-то безотчетного позыва,
колебания, недоверия и вместе с тем умиления перед прошедшими,
могущественно и величаво законченными судьбами исчезнувшего человечества.
В «этом энтузиазме» (байроническом, как называем мы его) перед
идеалами красоты, созданными прошедшим и оставленными нам в вековечное
наследство, мы изливаем часто всю тоску о настоящем, и не от бессилия
перед нашей собственной жизнью, а, напротив, от пламенной жажды
жизни и от тоски по идеалу, которого в муках добиваемся.
[...] Теперь приступим к нашему главному и окончательному ответу
на ваш справедливый вопрос о том, почему искусство не всегда
совпадает своими идеалами с идеалом всеобщим и современным; яснее: почему
искусство не всегда верно действительности?
Ответ на этот вопрос у нас готов.
Мы сказали уже, что вопрос об искусстве, по нашему мнению, не
так поставлен в настоящее время, дошел до крайности и запутался от
477
взаимного ожесточения обеих партий. То же самое повторяем мы и
теперь. Да, вопрос не так поставлен, и по-настоящему спорить не о чем,
потому что: Искусство всегда современно и действительно, никогда не
существовало иначе и, главное, не может иначе существовать.
Теперь постараемся ответить на все возражения.
Во-первых, если нам иногда кажется, что искусство уклоняется от
действительности и не служит полезным целям, то это только потому, что
мы не знаем путей полезности искусства (о чем уже мы говорили),
и, кроме того, от излишнего жара в наших желаниях немедленной, прямой
и непосредственной пользы; то есть, в сущности, от горячего сочувствия
к общему благу. Такие желания, конечно, похвальны, но иногда
неразумны и похожи на то, как если б дитя, увидя солнце, потребовало, чтоб
ему сейчас его сняли с неба и дали.
Во-вторых, потому нам иногда кажется, что искусство уклоняется от
действительности, что действительно есть сумасшедшие поэты и прозаики;
которые прерывают всякое сношение с действительностью, действительно
умирают для настоящего, обращаются в каких-то древних греков или
средневековых рыцарей и прокисают в антологии или в средневековых
легендах.
Такое превращение возможно; но поэт-художник, поступивший таким
образом, есть сумасшедший вполне. Таких не много.
В-третьих, наши поэты и художники действительно могут уклоняться
с настоящего пути или вследствие непонимания своих гражданских
обязанностей, или вследствие неимения общественного чутья, или от
разрозненности общественных интересов, от несозрелости, от непонимания
действительности, от некоторых исторических причин, от не совсем еще
сформировавшегося общества, оттого, что многие — кто в лес, кто по дрова,
и потому с этой стороны призывы, укоры и разъяснения г. -бова в
высочайшей степени почтенны. [...] И знаете еще что: мы уверены что в
русском обществе этот позыв к общечеловечности, а следовательно, и
отклик его творческих способностей на все историческое и
общечеловеческое и вообще на все эти разнообразные темы,— был даже наиболее
нормальным состоянием этого общества, по крайней мере до сих пор, и,
может-быть, в нем вековечно останется. Мало того: нам кажется, что
этот всечеловеческий отклик в русском народе даже сильнее, чем во всех
других народах, и составляет его высшую и лучшую характерность.
Вследствие петровской реформы, вследствие нашего усиленного
переживания вдруг многих разнообразных жизней, вследствие инстинкта все-
жизненности и творчество наше должно было проявиться у нас так
характерно, так особенно, как ни в каком народе. Ведь вы восстаете почти
против нормального нашего состояния. Все литературы европейских
народов были нам почти родные, почти наши собственные, отразились
в русской жизни вполне как у себя дома.
[...] — Но что вы нас учите!—скажут нам утилитаристы.—Мы очень
хорошо без вас знаем, насколько все это нам было полезно, как связь
478
с Европой, когда мы вдвигались в общечеловечество; знаем очень
хорошо, потому что мы сами из всего этого вышли. Но теперь нам покамест
не надо никакого общечеловечества и никаких исторических законов.
У нас теперь своя домашняя стирка, черное белье выполаскивается,
набело переделывается; теперь у нас повсюду корыта, плеск воды, запах
мыла, брызги и замоченный пол. Теперь надо писать не про маркиза
Позу, а про свои дела, про известные вопросы, про гласность, про
полезность, про Крутогорск, про темное царство !. Мы ответим на это так: во-
первых, определить, что именно надо и что не надо, на вес или цифрами,
довольно трудно; можно загадывать, можно рассчитывать, позволительно
и законно пробовать на деле: так ли выйдет по расчету? желать,
убеждать и увещевать других к общей деятельности,— все это законно и в
высшей степени полезно. Но писать в «Современнике» указы, но требовать,
но предписывать — пиши, дескать, вот непременно об этом, а не об этом,—
и ошибочно и бесполезно (хотя уж по тому одному, что ведь не
послушаются. Конечно, робкого народу у нас много: беда как иные боятся критики!
Да и самолюбие: отстать от передовых не хочется,— вот и пишут с
направлением, да так как пишут-то не по своему вдохновению, то и
выходит все почти дрянь; но деспотизм нашей критики пройдет; станут писать
по охоте, будут более сами по себе и, может быть, и в обличительном роде
напишут что-нибудь прекрасное. Давай-то бог!) К тому же ведь можно
ошибиться. Ведь, может быть, именно то, что наши прогрессивные умы
считают несовременным и неполезным, и есть современное и полезное.
Больной не может быть в одно и то же время и больным и врачом. Можно
сознавать себя больным, сознавать, что мне нужно лекарство, даже
вообще можно сказать, какое именно нужно лекарство, но рецепта до
последней точности себе самому прописать нельзя. А если поэзия, слово,
литература есть тоже лекарство, то ведь отчасти есть и мерка: что
именно в поэзии хорошо, а что неподходяще? Эта мерка в том: чем
более симпатии возбуждает в массе поэт, тем, стало быть, он наиболее
оправдывает свое явление. Конечно, тут могут быть большие ошибки,
капитальные уклонения, примеры были: масса иногда в данный момент
и не знает, чего ей нужно, что именно надо любить, чему
симпатизировать. Но эти уклонения сами собой скоро проходят, и общество всегда
само отыскивает потерянный путь. А главное в том, что искусство всегда
в высшей степени верно действительности,— уклонения его мимолетные,
скоропреходящие; оно не только всегда верно действительности, но и не
может быть неверно современной действительности. Иначе оно не
настоящее искусство. В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда
современно, насущно-полезно. Если оно занимается антологией, стало
1 Достоевский имеет в виду трагедию Ф. Шиллера «Дон Карлос», «Губернские
очерки» M. Е. Салтыкова-Щедрина, где действие происходит в городе Крутогорске,
и статью Добролюбова «Темное царство», посвященную разбору пьес А. Н.
Островского. (Прим. сост.).
479
быть, еще нужна антология1; уклонения и ошибки могут быть, но,
повторяем, они преходящи. Искусства же несовременного, не
соответствующего современным потребностям и совсем быть не может. Если оно и есть,
то оно не искусство; оно мельчает, вырождается, теряет силу и всякую
художественность.
[...] И потому первое дело: не стеснять искусства разными целями, не
предписывать ему законов, не сбивать его с толку, потому что у него
и без того много подводных камней, много соблазнов и уклонений,
неразлучных с исторической жизнью человека. Чем свободнее будет оно
развиваться, тем нормальнее разовьется, тем скорее найдет настоящий и
полезный свой путь. А так как интерес и цель его одна с целями человека^
которому оно служит и с которым соединено нераздельно, то чем
свободнее будет его развитие, тем более пользы принесет оно человек
честву.
Поймите же нас: мы именно желаем, чтоб искусство всегда
соответствовало целям человека, не разрознивалось с его интересами, и если мы
и желаем наибольшей свободы искусству, то именно веруя в то, что чем
свободнее оно в своем развитии, тем полезнее оно человеческим
интересам. Нельзя предписывать искусству целей и симпатий. К чему
предписывать, к чему сомневаться в нем, когда оно, нормально развитое, и без
ваших предписаний, по закону природы, не может идти в разлад
потребностям человеческим? Оно не потеряется и не собьется с дороги. Оно
всегда было верно действительности и всегда шло наряду с развитием
и прогрессом в человеке. Идеал красоты, нормальности у здорового
общества не может погибнуть; и потому оставьте искусство на своей дороге
и доверьтесь тому, что оно с нее не собьется. Если и собьется, то тотчас
же воротится назад, откликнется на первую же потребность человека.
Красота есть нормальность, здоровье. Красота полезна, потому что она
красота, потому что в человечестве — всегдашняя потребность красоты
и высшего идеала ее. Если в народе сохраняется идеал красоты и потреб*
ность ее, значит, есть и потребность здоровья, нормы, а следственно, тем
самым гарантировано и высшее развитие этого народа. Частный человек
не может угадать вполне вечного всеобщего идеала,— будь он сам
Шекспир,— а следственно, не может предписывать ни путей, ни цели
искусству. [...]
Ф. М. Достоевский, Собрание художественных
произведений, т. XIII, М.— Л., 1930, стр. 62—95.
1 Антологическая лирика на мотивы Древней Греции и Рима разрабатывалась
поэтами Н. Щербиной, А. Майковым, которых в 60-е годы относили к поэтам
«искусства для искусства». (Прим, сост.).
480
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ
IX. По поводу выставки
(1873)
[...] Надо побольше смелости нашим художникам, побольше
самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. Вот почему, я
думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих.
По-видимому, современные наши художники даже боятся исторического рода
живописи и ударились в жанр как в единый истинный и законный исход
всякого дарования. Мне кажется, что и художник как будто предчувствует,
что (по понятиям его) придется ему непременно «идеальничать» в
историческом роде, а стало быть, лгать. «Надо изображать действительность как
она есть», говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да
и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку
недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее,
пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не
бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы
снять с него портрет, приготавливается, вглядывается. Почему он это
делает? А потому, что он знает на практике, что человек не всегда на себя
похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот
момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и
захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает
тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем
предстоящей действительности! Идеал ведь тоже действительность, такая же
законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не
знают того. Вот, например, «Гимн пифагорейцев» Бронникова: иной
художник-жанрист (и даже из самых талантливых) удивится даже, как
возможно современному художнику хвататься за такие темы. А между
тем такие темы (почти фантастические) так же действительны и так же
необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.
Что такое, в сущности, жанр? Жанр есть искусство изображения
современной, текущей действительности, которую перечувствовал художник
сам лично и видел собственными глазами, в противоположность
исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными
глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде.
(Сделаю Nota bene: мы говорим: «видели собственными глазами». Ведь
Диккенс никогда не видел Пиквика собственными глазами, а заметил его только
в многоразличии наблюдаемой им действительности, создал лицо и
представил его как результат своих наблюдений. Таким образом, это лицо так
же точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс
и взял только идеал действительности.) Между тем у нас именно
происходит смешение понятий о действительности. Историческая
действительность, например, в искусстве, конечно, не та, что текущая (жанр) —
именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно
психолога, и он объяснит вам, что если воображать прошедшее событие
Iß «История эстетики», т. 4 (1 полутом)
и особливо давно прошедшее, завершенное, историческое (а жить и не
воображать о прошлом нельзя), то событие непременно представится в
законченном его виде, то есть с прибавкою всего последующего его
развития, еще и не происходившего в тот именно исторический момент, в
котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому
сущность исторического события и не может быть представлена у художника
точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности.
Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что
ему, может быть, поневоле придется «идеальничать», что, по его
понятиям, значит лгать. Чтоб избегнуть мнимой ошибки, он придумывает
(случаи бывали) смешать обе действительности — историческую и текущую;
от этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой. По моему
взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах Н. Ге.
Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму,
он сделал совершенный жанр. Всмотритесь внимательнее: это
обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, но разве это
Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень
огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти
доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его
друзья утешать его, но, спрашивается: где же и при чем тут
последовавшие восемнадцать веков христианства? Как мояшо, чтобы из этой
обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г. Ге, собравшихся
поужинать, произошло нечто столь колоссальное.
Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут
даже и правды жанра нет, тут все фальшивое. [...]
Ф. М. Достоевский, Собрание художественных
произведений, т. XI, 1929, стр. 77—79.
ПИСЬМО А. МАЙКОВУ
(1868)
[...] Совершенно другие понятия я имею о действительности и
реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего.
Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в
последние десять лет в нашем духовном развитии,— да разве не закричат
реалисты, что это фантазия! между тем это исконный, настоящий реализм!
Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает. Ну, не
ничтожен ли Любим Торцов, в сущности,— а ведь это все, что только
идеального позволил себе их реализм. Глубок реализм — нечего сказать!
Ихним реализмом — сотой доли реальных, действительно случившихся
фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже
факты. [...]
Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, М.— Л., 1930,
стр. 150«
482
ПИСЬМО H. СТРАХОВУ
(1869)
[...] У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве),
и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным,
то для меня иногда составляет самую сущность действительности.
Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм,
а даже напротив.— В каждом номере газет вы встречаете отчет о самых
действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они
фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они
действительность, потому что они факты. Кто же будет их замечать, их разъяснять
и записывать? Они поминутны и ежедневны, а не исключительны. Ну
что ж это будет, если глубина идеи наших художников не пересилит
в изображениях их глубину идеи, например, Райского (Гончарова)? Что
такое Райский? Изображается по-казенному псевдорусская черта, что все
начинает человек, задается большим и не может кончить даже малого?
Экая дряхлая, пустенькая мысль, да и совсем даже неверная! Клевета на
русский характер при Белинском еще. И какая мелочь и низменность
воззрения и проникновения в действительность. И все одно да одно. Мы всю
действительность пропустим этак мимо носу. [...]
Там же, стр. 169.
ТРИ РАССКАЗА ЭДГАРА ПО
(1861)
[...] Он [Э. По] почти всегда берет самую исключительную
действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или
психологическое положение, и с какою силою проницательности, с какою
поражающею верностью рассказывает он о состоянии души этого человека! Г·..]
Ф. М. Достоевский, Собрание художественных
произведений, т. XIII, стр. 523.
ПИСЬМО И. ТУРГЕНЕВУ
(1864)
[...] Форма Ваших «Призраков» ] превосходна. Ведь если в чем-нибудь
тут сомневаться, так это, конечно, в форме. Итак, все дело будет состоять
в вопросе: имеет ли право фантастическое существовать в искусстве? Ну,
кто же отвечает на подобные вопросы! Если что в «Призраках» и можно бы
1 Повесть И. С. Тургенева «Призраки» напечатана в журнале братьев Ф. М.
и М. М. Достоевских «Эпоха» в 1864 г. (Прим. сост.).
16*
483
покритиковать, так это то, что они не совсем вполне фантастичны. Еще бы
больше надо. Тогда бы смелости больше было. [...1
Ф. М. Достое в с к и й, Письма, т. I, 1928, стр. 344.
ВЫСТАВКА В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(1861)
[...] Нет, не то требуется от художника, не фотографическая верность,
не механическая точность, а кое-что другое, больше, шире, глубже.
Точность и верность нужны, элементарно необходимы, но их слишком мало;
и верность покамест только еще материал, из которого потом создается
художественное произведение; это орудие творчества. В зеркальном
отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или, лучше сказать,
видно, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически.
Истинный художник этого не может: в картине ли, в рассказе ли, в
музыкальном ли произведении непременно виден будет он сам; он отразится
невольно, даже против своей воли, выскажется со всеми своими взглядами,
со своим характером, со степенью своего развития. Это не требует и
доказательства. Пусть два человека рассказывают о каком-нибудь одном, хоть,
например, обыкновенном уличном событии. Очень часто из другой
комнаты, даже вовсе не видя самих рассказчиков, можно угадать и сколько
которому лет, и в какой службе который из них служит, в гражданской
или в военной, и который из двух более развит, и даже как велик чин
каждого из них. Эпического, безучастного спокойствия в наше время нет
и быть не может; если б оно было, то разве только у людей, лишенных
всякого развития, или одаренных чисто лягушечьей натурой, для которых
никакое участие невозможно, или, наконец, у людей, вовсе выживших из
ума. Так как в художнике нельзя предполагать этих трех печальных
возможностей, то зритель и вправе требовать от него, чтобы он видел природу
не так, как видит ее фотографический объектив, а как человек. В старину
сказали бы. что он должен смотреть глазами телесными и, сверх того,
глазами души, или оком духовным. [...]
Из этой картины 1 очевидно, что Якоби, ученик Академии, употребил
все свои силы, все старание, чтобы правильно, верно, точно передать
действительность. Это весьма полезное, необходимое старание и весьма
похвальное для ученика Академии. Но это покамест еще только механическая
сторона искусства, его азбука и орфография. Конечно, и тем и другим
надо овладеть совершенно, прежде нежели приступить к художественному
творчеству. Прежде надо одолеть трудности передачи правды
действительной, чтобы потом подняться на высоту правды художественной.
Ф. М. Достоевский, Собрание художественных
произведений, т. XIII, стр. 531—532.
1 Картина В. И. Якоби «Привал арестантов»; была экспонирована на выставке
в Академии художеств в 1861 г. (Прим. сост.).
484
РАССКАЗЫ H. УСПЕНСКОГО
(1861)
[...] Если бессознательно описывать один материал, то мы ничего не
узнаем; но приходит художник и передает нам свой взгляд об этом
материале и расскажет нам, как это явление называется, и назовет нам людей,
в нем участвующих, и иногда так назовет, что имена эти переходят в тип,
и, наконец, когда все поверят этому типу, то название его переходит
в имя нарицательное для всех, относящихся к этому типу людей. Чем
сильнее художник, тем вернее и глубже выскажет он свою мысль, свой
взгляд на общественное явление и тем более поможет общественному
сознанию. Разумеется, тут почти всего важнее, как сам-то художник
способен смотреть, из чего составляется его собственный взгляд,— гуманен
ли он, прозорлив ли, гражданин ли, наконец, сам художник? В этом
заключается задача и назначение художества, а вместе с тем определяется
ясно и роль, которую имеет искусство в общественном развитии.
Там же, стр. 550, 551.
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ
(1876)
[...] Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на
первый взгляд факт действительной жизни,— и если только вы в силах
и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь
в том-то и весь вопрос: на чей глаз и кто в силах? Ведь не только чтоб
создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только
приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Для иного наблюдателя
все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того
понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит.
Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что
(случается даже и нередко),— не в силах, наконец, их обобщить и
упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться,— он прибегает
к другого рода упрощению и просто запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб
погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только
две противоположности; но между ними помещается весь наличный смысл
человеческий. Но разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления,
не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное
видимо текущее, да и то по наглядке, а концы и начала — это все еще
пока для человека фантастическое. [...]
Ф. М. Достоевский, Собрание художественных
произведений, т. XI, стр. 423.
485
Β. M. ГАРШИН
1855-1888
В художественно-эстетической концепции Всеволода Михайловича Гаршина
нашли яркое отражение передовые взгляды писателя на искусство и его роль в
современной жизни. Гаршин был сторонником искусства безпощадного, тревожного,
показывающего зло в самых вопиющих его проявлениях, воспроизводящего
«драматические моменты русской жизни». Выступая с позиций революционных
демократов, писатель отдавал предпочтение социально значительному искусству, ценя
силу его идейного и эмоционального воздействия на широкие общественные круги.
Только такое правдивое искусство, по мысли Гаршина, могло пробудить совесть
людей, вывести их из состояния обывательского равнодушия.
Рассказ «Художники» (1879) является как бы эстетической декларацией
Гаршина. Этот рассказ сюжетно построен как чередующиеся дневниковые записи ху;
дожника-демократа Рябинина и представителя «чистого искусства» Дедова. В
сюжете, очень точно воспроизводящем атмосферу художественной жизни 70-х годов,
в образе художника Рябинина и в постановке вопроса о судьбах искусства в
капиталистическом обществе заметно влияние идей передвижничества, с которым его
связывали не только общие эстетические воззрения, но и личная дружба с такими
его виднейшими представителями, как И. Е. Репин и Н. А. Ярошенко.
Размышления Рябинина об искусстве, которое тревожило бы зрителя, «ударяя по сердцам
с неведомой силой», его защита «мужицкой полосы» в искусстве, стремление
изображать «трудящегося человека» — все это совпадает с
художественно-эстетическими взглядами самого Гаршина. «Искусство для искусства» всегда было чуждо
писателю. При оценке произведений искусства связь с интересами и запросами
народа являлась для Гаршина решающим критерием. Стремление к народности
искусства характерно для всей деятельности писателя. Гаршин отрицательно
оценивал и натуралистические тенденции, заметно проникавшие в искусство 70—80-х
годов и особенно усилившиеся в связи с ростом общественно-политической
реакции.
Свое кредо критика Гаршин сформулировал во вступлении к своей наиболее
интересной статье «Заметки о художественных выставках» (1887). Гаршин требовал
от художественного критика искреннего, глубокого и полного раскрытия
многообразия чувств и переживаний, порождаемых произведением искусства. Такие
критические статьи, по его мнению, помогают зрителю полнее воспользоваться тем
«духовным материалом», который дают художественные произведения, а
художникам увидеть, достигли ли они поставленной перед собой цели. Он утверждал, что
именно это, а не оценка творческих достоинств необходимо художникам,
стремящимся выяснить отношение к себе зрителя, как «нехудожника к художнику».
«Заметки о художественных выставках» были задуманы как начало цикла
статей об искусстве, о творчестве Репина и Сурикова, которых он считал крупными
мастерами русской живописи. Этому намерению писателя помешала его
трагическая гибель.
486
ХУДОЖНИКИ
(1879)
V. Д е д о в
[...] Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит
заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный; всю дорогу
назад молчал. А сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого
рабочего-глухаря. Что за идея! Что за поэзия в грязи! Здесь я могу сказать,
никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не сказал бы при всех:
по-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве — чистое уродство. Кому
нужны эти пресловутые репинские «Бурлаки»? Написаны они прекрасно,
нет спора; но ведь и только. Где здесь красота, гармония, изящное? А не
для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство?
То ли дело у меня! Еще несколько дней работы, и будет кончено мое
тихое «Майское утро». Чуть колышется вода в пруде, ивы склонили на
него свои ветви; восток загорается; мелкие перистые облачка окрасились
в розовый цвет. Женская фигурка идет с крутого берега с ведром за водой,
спугивая стаю уток. Вот и все; кажется, просто, а между тем я ясно
чувствую, что поэзии в картине вышло пропасть. Вот это — искусство! Оно
настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу.
А рябининский «Глухарь» ни на кого не подействует уже потому, что
всякий постарается поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить
себе глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное
дело! Ведь вот в музыке не допускаются режущие ухо, неприятные
созвучия; отчего ж у нас, в живописи, можно воспроизводить положительно
безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Л., он
напишет статейку и кстати прокатит Рябинина за его картину. И стоит,
VI. Рябинин
Уже две недели, как я перестал ходить в академию: сижу дома и
пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идет успешно.
Следовало бы сказать не хотя, а тем более, что идет успешно. Чем ближе она
подвигается к концу, тем все страшнее и страшнее кажется мне то, что
я написал. И кажется мне еще, что это — моя последняя картина.
Вот он сидит передо мною в темном углу котла, скорчившийся в три
погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его
совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые
дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его
одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на
всклоченной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому
струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на
измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся
страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря
487
напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе.
Насколько можно было выразить это напряженное усилие, я выразил.
Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины,
прямо против нее. Я доволен ею; ничто мне так не удавалось, как эта
ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит.
Это — не написанная картина, это — созревшая болезнь. Чем она
разрешится, я не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего уже
будет писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями
и типичнейшими физиономиями, вся эта «богатая область жанра» — на
что мне теперь она? Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем,
если только подействую...
Сделал опыт: позвал Дедова и показал ему картину. Он сказал только:
«Ну, батенька», и развел руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча
простился и ушел. Кажется, подействовало... Но ведь он все-таки —
художник.
И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь
и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда
мне даже слышатся удары молота... Я от него сойду с ума. Нужно его
завесить. [...]
В. Га ρ шин, Сочинения, М.—Л., 1951, стр. 95—97.
ПИСЬМО В. М. ЛАТКИНУ
(1885)
[...] Для меня прошло время страшных отрывочных воплей, каких-то
«стихов в прозе», какими я до сих пор занимался: материалу у меня
довольно, и нужно изображать не свое «я», а большой внешний мир. Но
старая манера навязла в перо, и оттого-то первая вещь с некоторым
действием и попыткою ввести в дело нескольких лиц решительно не удалась.
Что вещь вышла не «реальная», о том я не забочусь. Бог с ним, с этим
реализмом, натурализмом, протоколизмом и прочим. Это теперь в расцвете
или, вернее, в зрелости, и плод внутри уже начинает гнить. Я ни в каком
случае не хочу дожевывать жвачку последних пятидесяти — сорока лет,
и пусть лучше разобью себе лоб в попытках создать себе что-нибудь новое,
чем идти в хвосте школы, которая из всех школ, по моему мнению, имела
меньше всего вероятия утвердиться на долгие годы. Ибо она-то и
представляет чистое «искусство для искусства» не в философском смысле
этого слова, а в скверном. Для нее нет ни правды (в смысле
справедливости), ни добра, ни красоты, для нее есть только интересное и
неинтересное, «заковыристое и незаковыристое». [...]
В. М. Гаршин, Полное собрание сочинений в 3-х
томах, т. III, М.—Л., «Academia», 1934, стр. 356—357.
488
ЗАМЕТКИ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ
(1887)
[...] Что такое толпа по отношению к художнику? Чем он отличается
от нее? То, что я скажу, конечно, азбучная истина, но я считаю нужным
сказать ее, ну, хотя бы «для перехода», и заранее прошу извинения у тех,
кто скажет мне: да это мы очень хорошо и без вас знаем. Художник, по
сравнению с толпой, есть человек, который лучше видит и может передать
другим то, что он видит. Сколько тысяч людей проходит ежедневно перед
драгоценнейшим материалом для художественного творчества, не замечая
его или созерцая бессознательно. Первое, что думает каждый прочитавший
или увидевший высокое создание искусства,— как это похоже, как это
верно, как это знакомо, и тем не менее я в первый раз увидел это, сознал
это. Художник увидел, понял, поставил перед глазами, и видят все, до сих
пор слепые. Маленький слепой щенок, тыкающий мордочкой направо
и налево и, растопырив слабые лапки, не находящий молока, когда чья-
нибудь рука возьмет за шиворот и сунет его в блюдечко и он, успокоенный,
начинает лакать молоко, должен чувствовать такую же благодарность,
какую чувствует наше сердце, сердце человека толпы, открывающего новый
мир чужими глазами и трудом. О, жалок был бы круг наших
представлений, если бы мы были предоставлены только своим личным пяти чувствам
и мозг наш перерабатывал бы только пищу, ими добытую. Часто один
мощный художественный образ влагает в нашу душу более, чем добыто
многими годами жизни; мы сознаем, что лучшая и драгоценнейшая часть
нашего «я» принадлежит не нам, а тому духовному молоку, к которому
приближает нас мощная рука творчества. Отсюда и благодарность,
отсюда и
...сей фимиам пахучий,
Цветы и лавры...
которые мы подносим и которыми мы осыпаем людей, одаренных от бога
властью раскрывать наше сердце и влагать в него новые миры. [...]
В. Г аршин, Сочинения, 1951, стр. 367.
Г. И. УСПЕНСКИЙ
1843-1902
На мировоззрение Глеба Успенского большое влияние оказали взгляды
революционных демократов. В 70-е годы и последующие десятилетия Г. Успенский
примыкал к народничеству. В согласии с традицией прогрессивной русской
реалистической эстетики Г. Успенский выступал за активную социальную роль
литературы. В 80—90-е годы он боролся также против натурализма и мещанского
мелкотемья, за реалистические традиции русской литературы.
489
Большое внимание в своей литературно-критической деятельности Г.
Успенский уделял народному творчеству, ратовал за создание художественно
полноценной литературы для народа, отстаивал выражение в литературе народных
интересов. Призывая писателей к тщательному изучению действительности, научному
подходу к ней, Г. Успенский требовал от искусства правдивости, типичности,
простоты.
В очерке «Выпрямила» наиболее полно выявляется понимание Успенским
общественно-воспитательного значения искусства. Прекрасное для него не
существует вне общественно значимого, идейно ценного. Венера Милосская потому и
«выпрямила» жизнь бедного, забитого, дошедшего до отчаяния школьного учителя
Тяпушкина, что дала ему «ощущение счастья быть человеком». Полемизируя со
сторонниками «чистого искусства», Г. Успенский утверждает, что красота античной
статуи заключена в ее нравственно облагораживающем влиянии на человека, в
пробуждении в нем творчески активного отношения к жизни, в развитии лучших
сторон его существа.
«ВЫПРЯМИЛА»
(1885)
[...] Мне было чрезвычайно тяжело, тяжко, одиноко до последней степени,
и весь я ощущал, что в результате всей виденной мною «правды»
получилось ощущение какой-то холодной, облипающей тело, промозглой дряни.
Что-то горькое, что-то страшное и в то же время несомненно подлое
угнетало мою душу; без цели и без малейшего определенного желания идти
по той или другой улице я исходил по Парижу десятки верст, нося в своей
душе этот груз горького, подлого и страшного, и совершенно неожиданно
доплелся до Лувра; без малейшей нравственной потребности вошел я
в сени музея; войдя в музей, я машинально ходил туда и сюда,
машинально смотрел на античную скульптуру, в которой, разумеется, по моему,
тяпушкинскому, положению ровно ничего не понимал, а чувствовал только
усталость, шум в ушах и колотье в висках, и вдруг в полном недоумении,
сам не знаю почему, пораженный чем-то необычным, непостижимым,
остановился перед Венерой Милосской, в той большой комнате, которую всякий
бывший в Лувре знает и, наверное, помнит во всех подробностях.
Я стоял перед ней, смотрел на нее и непрестанно спрашивал самого
себя: «Что такое со мной случилось?» Я спрашивал себя об этом с первого
момента, как только увидел статую, потому что с этого же момента я
почувствовал, что со мною случилась большая радость... До сих пор я был
похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку.
Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то
кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую
руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного,
искалеченного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками
оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было
чувствительности, заставило всего «хрустнуть» именно так, когда человек растет,
490
заставило также бодро проснуться, не ощущая даже признаков
недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм
свежестью и светом.
Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, отчего это
так вышло? Что это такое? Где и в чем тайна этого твердого, покойного,
радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося
в меня? И решительно не мог ответить себе ни на один вопрос; я
чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы
определить животворящую тайну этого каменного существа [...].
С этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо
необходимость, неизбежность самого, так сказать, безукоризненного поведения:
сказать что-нибудь не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не
обидеть человека, смолчать о чем-нибудь нехорошем, затаив его в себе,
сказать пустую, ничего не значащую фразу единственно из приличия,
делать какое-нибудь дело, которое могло бы отозваться в моей душе
малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим образом стеснить
чужую душу, теперь, с этого памятного дня, сделалось немыслимым; это
значило потерять счастье ощущать себя человеком, которое мне стало
знакомо и которое я не смел желать убавить даже на волосок. Дорожа моей
душевной радостью, я не решался часто ходить в Лувр и шел туда только
в таком случае, если чувствовал, что могу «с чистою совестью» принять
в себя животворную тайну. Обыкновенно я в такие дни просыпался рано,
уходил из дому без разговоров с кем бы то ни было и входил в Лувр
первым, когда еще никого там не было. И тогда я так боялся потерять
вследствие какой-нибудь случайности способность во всей полноте ощущать то,
что я ощутил здесь, что я при малейшей душевной нескладице не решался
подходить к статуе близко, а придешь, заглянешь издали, увидишь, что
она тут, та же самая, скажешь сам себе: «Ну, слава богу, еще можно жить
на белом свете!» — и уйдешь.
И все-таки я бы не мог определить, в чем заключается тайна этого
художественного произведения и что именно, какие черты, какие линии
животворят, «выпрямляют» и расширяют скомканную человеческую душу.
Я постоянно думал об этом и все-таки ничего не мог бы передать и
высказать определенного. Не знаю, долго ли бы я протомился так, если бы одно
совершенно случайное обстоятельство не вывело меня, как мне кажется,
на настоящую дорогу и не дало мне наконец-таки возможности ответить
себе на неразрешимый для. меня вопрос: в чем тут дело, в чем тайна?
[...] Всякий раз, когда я чувствовал неодолимую потребность
«выпрямить» мою душу и идти в Лувр взглянуть, «все ли там благополучно»,
я никогда так ясно не понимал, как худо, плохо и горько жить человеку
на белом свете сию минуту. Никакая умная книга, живописующая
современное человеческое общество, не дает мне возможности так сильно, так
сжато и притом совершенно ясно понять «горе» человеческой души, «горе»
всего человеческого общества, всех человеческих порядков, как один только
взгляд на эту каменную загадку. Правда, я еще не могу найти связи между
491
этой загадкой, выпрямляющей мою душу, и мыслью о том, как худо жить
человеку, являющейся непосредственно вслед за ощущением, даваемым
загадкой, но я положительно знаю собственным своим опытом, что в то же
мгновение, когда я почувствую себя «выпрямленным», я немедленно же
почему-то начинаю думать о том, как несчастлив человек, представляю
себе все несчастье этой шумящей за стенами Лувра улицы, и невольно,
в смысле этого «человеческого горя», начинаю группировать все мною
пережитое, виденное, слышанное до последней минуты сегодняшнего дня
включительно, но не ощущаю ни малейшей возможности сосредоточиться
хотя на одну минуту на каких-нибудь частностях собственно женской
красоты видимой мною загадки. [...]
И как бы вы тщательно ни разбирали этого великого создания с точки
зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что
творец этого художественного произведения имел какую-то другую,
высшую цель.
Да, он потому (так стало казаться мне) и закрыл свое создание до
чресл, чтобы не дать зрителю права проявить привычные, шаблонные
мысли, ограниченные пределами шаблонных представлений о женской
красоте.
Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем
народам вековечйо и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную
красоту человеческого существа, ознакомить человека — мужчину, женщину,
ребенка, старика — с ощущением счастия быть человеком, показать всем
нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть
прекрасными — вот какая огромная цель овладела его душой и руководила рукой.
Он брал то, что для него было нужно, и в мужской красоте и в женской,
не думая о поле, а пожалуй, даже и о возрасте, и ловя во всем этом только
человеческое; из этого многообразного материала он создавал то истинное
в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию
минуту нет ни в ком, ни в чем и нигде, но что есть в то же время в
каждом человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную
перчатку, а не на распрямленную.
И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое существо будет
распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка, не
разрешая вопроса, тем не менее рисует в вашем воображении бесконечные
перспективы человеческого совершенствования, человеческой будущности
и зарождает в сердцах живую скорбь о несовершенстве теперешнего
человека.
Художник создал вам образчик такого человеческого существа, которое
вы, считающий себя человеком и живя в теперешнем человеческом
обществе, решительно не можете себе представить способным принять малейшее
участие в том порядке жизни, до которого вы дожили. Ваше воображение
отказывается представить себе это человеческое существо в каком бы то
ни было из теперешних человеческих положений, не нарушая его красоты.
Но так как нарушить эту красоту, скомкать ее, искалечить ее в теперешний
492
человеческий тип — дело немыслимое, невозможное, то мысль ваша,
печалясь о бесконечной «юдоли» настоящего, не может не уноситься
мечтою в какое-то бесконечно светлое будущее. И желание выпрямить,
высвободить искалеченного теперешнего человека для светлого будущего,
даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает
в душе.
Г. И. Успенский, Полное собрание сочинений,
т. X, кн. 1, М.— Л., 1953, стр. 262—272.
Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ
1842-1904
Известный деятель русской литературы и общественной мысли Николай
Константинович Михайловский в 1865 году начал сотрудничать в журнале
«Книжный вестник», а четыре года спустя был привлечен Некрасовым в «Отечественные
записки». Здесь он стал ближайшим соратником Некрасова и Щедрина.
Михайловский был связан с революционными кругами. Под влиянием идей
Чернышевского он участвовал в создании кооперативной артели. Он был
сотрудником нелегального органа «Народная воля». После закрытия «Отечественных
записок» участвовал в различных либеральных изданиях, а в 1894 году возглавил
народнический журнал «Русское богатство».
В своем мировоззрении Михайловский многое воспринял у Чернышевского
и Добролюбова, но его взгляды значительно расходились со взглядами его
предшественников. Он стоял на позиции субъективной социологии, рассматривая
личность как критерий прогресса.
Теории Михайловского легли в основу многих ошибочных идей народничества.
В. И. Ленин считал, что Михайловский в философии «сделал шаг назад от
Чернышевского» 1. В то же время Ленин называл Михайловского «одним из лучших
представителей и выразителей взглядов русской буржуазной демократии в последней
трети прошлого века» 2.
В своих эстетических воззрениях Михайловский во многом был близок
Чернышевскому. Он считал теорию «чистого искусства» антидемократической.
Решительно выступал критик против натурализма, против «бесстрастной анатомии».
Но в работах о Толстом, Тургеневе, Достоевском, в которых Михайловский давал
обстоятельный анализ их произведений, он не сумел вскрыть социальную природу
их творчества. Ограниченность его эстетического мышления сказалась, например,
и в том, что он не понял значения творчества Чехова. Большую ценность
представляют работы Михайловского об Успенском и Щедрине, где раскрыто значение
творчества писателей-демократов.
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 335.
2 Τ а м ж е, т. 20, стр. 99.
493
ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ЗАМЕТОК
(1874)
Я скажу только несколько слов, собственно, в разъяснение моего
определения поэта и поэзии, пожалуй искусства вообще.
Я не верю в так называемое чистое искусство или искусство для
искусства. Не то чтобы я ему не сочувствовал или не одобрял его, я в него
именно не верю, я полагаю, что его никогда не было, нет и не будет, как
не было, нет и не будет безусловной справедливости, то есть
справедливости для справедливости, объективной морали, то есть морали для морали,
науки для науки. То, что понимается под всеми этими категориями, есть
не более как замаскированное служение данному общественному строю.
Эстетическая способность, способность познавания, способность этическая,
идеалы красоты, личной нравственности и общественной справедливости
переплетены друг с другом самым тесным образом и бесчисленными
перекрещивающимися нитями. Древний грек, художник по преимуществу,
преклоняясь перед красотою Фидиева создания, преклонялся не перед одной
красотой и дрожала в нем не только эстетическая струнка. Он
преклонялся в статуе, в картине, в поэтическом произведении перед всем строем
античной жизни. Он чуял в них и отблеск своей гражданской и
политической свободы и рабства четырех пятых населения всей Греции. Да,
в статуе Фидия и в картине Апеллеса отразилось это рабство, ибо оно
составляло одно из условий их создания. Отсюда следует, что Фидий
и Апеллес умели говорить за других, но эти другие составляли лишь одну
пятую долю их соотечественников. Мысли, чувства и, главное, интересы
только этой дроби формулировали они в своих прекрасных образах. Раб
их не понимал, не мог понимать, не хотел, да и они не хотели, чтобы он их
хоть когда-нибудь понял, потому что, пойми он их, греческой культуре
конец. Пойми он, какое оскорбление, какая несправедливость к нему
кроется в каждом изгибе тела прекрасной статуи, эту статую постигла бы
участь Вандомской колонны. Божественный лик Сикстинской Мадонны
вонючий и развратный раб изрежет ножом, с негодованием говорит один
из греков «Бесов» г. Достоевского. Я понимаю это негодование, но понимаю
и раба, хоть, конечно, не этим путем достигнется его нравственная и
физическая чистота. Но все-таки его движения так понятны. Ламартин еще
в сороковых, помнится, годах предсказывал разрушение, при известных
обстоятельствах, Вандомской колонны. А ведь не бог знает какой пророк
был. А Прудон по этому поводу спокойно заметил: да, вот тоже ваши
произведения будут изорваны.
Итак, служение чистой красоте не существует, а то, что называется
этим именем, есть служение интересам группы людей, усвоившей себе
соответственные понятия о красоте, воспитавшей в себе известную
комбинацию эстетической и познавательной способности. Комбинация эта,
удовлетворявшая древних греков, оставив по себе великие памятники,
рассыпалась прахом; кости носителей ее истлели, и даже лопух растет уже
494
не из них. Возможны, конечно, и ныне редкие экземпляры, повторившие
в себе вследствие особенных обстоятельств эту комбинацию. Но это будут
тепличные растения, потому что, если бы каким-нибудь чудом сложились
развеянные по миру частицы настоящего, заправского древнего грека,
если бы он, гордый решитель судеб своей родины и свободный слуга ее,
явился среди нас, ему пришлось бы вторично умереть от удушья в нашей
канцелярско-казарменной атмосфере.
Н. К. Михайловский, Литературно-критические
статьи, М., 1957, стр. 55—56.
ЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ
Область искусства допускает, даже в величайших своих созданиях,
множество условностей и, следовательно, искусственности. Если,
например, иметь в виду только требования жизненной правды во всей их
полноте и неумолимости, то видимая зрителями тень отца Гамлета окажется
совершенной бессмыслицей. Попробуйте устранить все подобные
условности, и во всех отраслях искусства — камня на камне не останется. Очень
забавны те новаторы «реалисты» и «натуралисты» разных мастей, которые
требуют, чтобы художник — поэт, беллетрист, музыкант, живописец —
копировал природу; чтобы, например, беллетрист с точностью рассказал,
сколько раз в день его герой высморкался; чтобы оперный оркестр
гнусящими звуками изображал гнусный характер поющего на сцене злодея,
и т. п. Как будто это возможно! У нас, например, одно время музыкальные
новаторы во имя жизненной правды гнали собственно пение и возводили
на пьедестал речитатив. Оно, конечно, в жизни так не бывает, чтобы
умирающий человек пел сладкозвучным голосом или чтобы какие-
нибудь три заговорщика в самую важную для их дела минуту занимались
пением, и притом непременно один басом, другой баритоном, третий
тенором. Этого не бывает, но ведь и речитативом тоже никто не говорит
в жизни. [...]
Итак, некоторая искусственность или насильственность со стороны
автора в ущерб жизненной правде может быть допущена. Но если уже
она есть, в уме читателя возник вопрос — зачем, то необходимо приискать
ответ и затем судить произведение, а может быть, и автора с точки зрения
этого ответа.
Там же, стр. 241—242.
Г. И. УСПЕНСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК
(1889)
Успенский начал свою литературную деятельность отрывками и
обрывками и не только не отделался от этой юношеской манеры, но с течением
495
времени точпо укрепился в сознании законности и необходимости этого
рода литературы.
[...] Для Успенского обрывочность его писаний как-то логически
связывалась с характером их темы. Но такой логической связи, очевидно, нет.
При чем тут, собственно, «мужик», это мы увидим впоследствии. А теперь
заметим только, что сам по себе мужик, может быть, и во всех
литературах, в том числе и в нашей, действительно бывал предметом
воспроизведения в драме, романе, повести, вообще «изящной словесности» в ее
законченных формах. Как бы кто ни смотрел на роман Зола «La terre» ! или на
драму Толстого «Власть тьмы», но ведь это, во всяком случае, не отрывки
и очерки. Да и почему бы в самом деле драма, роман, повесть из
мужицкого быта невозможны? Очевидно, дело в этом случае отнюдь не в мужике,
а в самом Успенском. И надо же себе объяснить, почему это так выходит,
почему человек такого большого таланта и такой искренней вдумчивости
не овладел законченностью формы. Казалось бы, законченность эта совсем
уж пустое дело при наличности художественного дарования. Посмотрите
кругом — и вы увидите, что люди, в которых есть только
микроскопические крупицы таланта, а иной раз и тех нет, десятки раз прекрасно
справляются сначала с первой главой первой части, потом пишут вторую главу
и т. д. и, наконец, твердою рукою подписывают: «Конец такой-то и
последней части». Должно быть, это штука не хитрая. Не думаю, чтобы нашелся
человек, отрицающий талант Успенского, но возьмем самого в этом
отношении строгого и придирчивого судью, какого вы только себе представить
можете. Все-таки же он не уравняет его с авторами бесчисленных вполне
законченных романов и повестей, сотнями появляющихся в литературе
и тем же числом немедленно погружающихся в море забвения. И, однако,
эти авторы могут написать законченное произведение, а Успенский не
мог. Любопытно ведь это.
Далее, с какой стати высокодаровитый беллетрист занимается
публицистикой? Дело здесь не в формальных подразделениях литературы, не
в департаментах каких-нибудь или министерствах, с присвоенными каждому
из них особыми мундирами, а в экономии и естественном распределении
литературных сил. Публицистикой можем заниматься и мы, лишенные
творческой способности. Конечно, было бы очень хорошо, если бы каждый
публицист обладал и поэтической силой, которая была бы подспорным
средством высокой важности, а каждый художник, я думаю, даже должен
быть публицистом в душе. Вообще, чем богаче и разностороннее
внутренняя природа писателя и его средства воздействия на общество, тем,
разумеется, лучше. Пусть писатель будет одинаково богат и творческою силою
тг силою логического анализа, пусть он даже предъявляет плоды той или
другой силы на бумаге. Мильтон написал «Потерянный рай», но он же
написал и «Защиту английского народа»; в нашей литературе автор романа
«Кто виноват?» был публицистом и т. д. Подобных примеров можно при-
1 «Земля» (франц.).
496
вести довольно много. Но когда читателю предлагается смешение
публицистики с беллетристикой в тех пропорциях, какие усвоил себе
Успенский, то читатель, можно наверное сказать, находится в относительном
проигрыше. Назначение логического анализа — разрезать, расчленять
живые явления; назначение поэтического творчества, напротив,—
воссоздавать их именно в их живой цельности. Оба эти процесса могут иметь
место в голове одного и того же богато одаренного писателя, но в
исполнении на бумаге, в одном и том же произведении, им очень трудно ужиться
рядом, не нанося друг другу ущерба. Последние произведения Успенского
имеют, бесспорно, большую цену, что уже видно из того обилия разговоров,
которые вызывала почти каждая его статья. Но нельзя все-таки не
пожалеть, что он не давал простора своей огромной художественной
способности. [...]
Аскетическое отношение Успенского к пейзажу, к физиономиям
действующих лиц и т. и. есть дело формы, но она вполне соответствует
некоторым аскетическим чертам в самом содержании его писаний. Облекаясь
в «черную схиму» как художник, он и как публицист и мыслитель нередко
зовет нас вроде как в пустыню. Так и тут. На дне каждого рассказа или
очерка Успенского лежит глубокая драма. Из этого в связи с некоторыми
дурно понятыми обобщениями его (об них потом) иные считают себя
вправе вывести заключение об его пессимизме. Ничего не может быть
ошибочнее. Успенский не прячет ни от себя, ни от людей зла, которое
видит на каждом шагу. Но пессимизм, как мрачная философия отчаяния,
как уверенность в окончательном торжестве зла, ему совершенно чужд
уже просто в силу стихийных свойств его таланта, складывающего драму
из комических черт. Для безысходно мрачного взгляда на жизнь слишком
велик запас смеха, которым он владеет. То особенное сочетание
трагического и комического, которое ему свойственно, дает ему как бы две точки
опоры в пространстве и одинаково гарантирует его и против плоского
оптимизма и против ноющего пессимизма. Спрашивается, не есть ли эта
счастливая способность видеть вещи одновременно с двух сторон,
трагической и комической, эта стихийная гарантия против односторонней
роскоши комизма и трагизма — не есть ли она драгоценнейший задаток
именно внутренней гармонии, равновесия писателя? Фактический
отрицательный ответ, к сожалению, слишком очевиден. Но этим отрицательным
ответом нельзя удовлетвориться. Пусть печальные внешние условия
помешали гармоническому развитию писателя, пусть этому способствовали
некоторые природные его свойства,— сложная штука душа человеческая,
и разные, прямо враждебные друг другу течения в ней сталкиваются.
Но человек, так счастливо поставленный относительно комического и
трагического элементов жизни, должен по крайней мере дорожить гармонией
и равновесием, жадно и страстно искать их кругом себя, оскорбляться
отсутствием их, радоваться их присутствию. Эта лихорадочная работа
будет, может быть, тем интенсивнее, когда в самом-то писателе есть
богатые задатки уравновешенности, но при этом он по собственному мучитель-
497
ному опыту знает, как тяжело отсутствие стройного порядка в душе.
Можно думать, что такой счастливый и вместе с тем несчастный писатель
именно сюда направит все свои силы, именно здесь будет искать и своего
идеала и своей мерки добра и зла. Так оно и есть у Успенского.
Там же, стр. 321—323, 344—345.
ОБ ИБСЕНЕ
(1896)
Не всякое страдание может стать сюжетом трагедии, и не всегда и не
всякий художник может найти для страдания трагическое освещение. Для
этого страдание должно получить прежде всего общечеловеческий
характер. Шестидесятилетняя старуха может влюбиться в двадцатилетнего
юношу и глубоко страдать от неразделенной любви, но это явление
слишком исключительное и ненормальное, чтобы удержаться на высоте
трагедии. Такая героиня по необходимости будет все время ходить по краю
пропасти, отделяющей трагическое от смешного, отвратительного и
жалкого. По этой же причине темы исторические [...] или с сильной
этнографической окраской требуют для трагической обработки либо выдающегося
художественного таланта, либо такого проникновения какою-нибудь
общечеловеческою идеей, которое выдвигало бы ее из слишком нам чуждой,
исторической и этнографической, обстановки на первый план. Иначе это
будет в лучшем случае, может быть, очень верная драматизированная
историческая хроника или этнографическая картина, но не трагедия.
А в худшем случае произойдет опять то же хождение по краю пропасти,
отделяющей трагическое от жалкого, отвратительного и комического. Дело
не в любви или какой бы то ни было другой страсти как таковой. Всякая
страсть может получить «трагическое значение», если она становится
источником страдания достаточно возвышенного, чтобы отражать в себе
нечто общечеловеческое и вызывать в нас сострадание. И трагедия в
основных своих чертах никогда не выбивалась и не может выбиться из
пределов, указанных ей еще греческими трагиками: это — столкновение
личности, личной воли и личного разума с роковыми стихийными силами
необходимости, так или иначе понимаемыми. Меняются-взгляды на
относительное значение борющихся элементов, меняются моральные выводы
из столкновения, меняются требования, предъявляемые тою или другою
литературного школою относительно исхода трагедии, но сущность
«трагического в жизни и в искусстве» остается неизменною от греческих
классиков до Ибсена. Это не мешает, конечно, каждому художнику
вносить нечто свое, оригинальное в постановку и разработку трагического
сюжета.
Н. К. Михайловский, Отклики, т. 1, Спб., 1904,
стр. 470.
498
П. Л. ЛАВРОВ
1823-1900
Петр Лаврович Лавров один из вождей и идеологов русского народничества.
Был профессором математики, одним из редакторов «Артиллерийского журнала»,
редактором «Энциклопедического словаря». В 1866 году был арестован и предан
суду в связи с каракозовским делом. Бежал из вологодской ссылки и поселился
в Париже, где сблизился с многими участниками Парижской коммуны.
Познакомившись с Марксом и Энгельсом, стал членом I Интернационала. С 1873 по 1877 год
редактировал журнал «Вперед» — орган русского народничества. После убийства
Александра II сблизился с народовольцами.
В философии П. Л. Лавров был эклектиком и стоял на позициях
позитивистского агностицизма. Процесс истории Лавров рассматривал с точки зрения
субъективной социологии.
В течение долгого времени в вопросах эстетики Лавров разделял положения
чистого искусства. Критерием ценности произведения он считал степень
наслаждения, которое доставляется «прекрасной формой». Значительно меньшую роль
Лавров отводил содержанию, но считал, что «форма не есть единственное условие
художественного творчества».
В 70-е годы взгляды Лаврова на искусство претерпевают серьезную эволюцию.
В статьях «Последовательные люди» (1872), «Кому принадлежит будущее» (1874)
Лавров высказывается за искусство идейное как одно из средств борьбы за свободу.
Он пишет: «Бессодержательное искусство для нас не существует; наши поэты ста-
яовятся в ряды партии движения или партии реакции, но общее презрение
поразило бы между нами того художника, который стал бы в настоящее время играть
искусством в защиту всех политических девизов, а не поставил бы слово, кисть,
резец орудием борьбы за определенное мировоззрение»!.
От защиты «чистого искусства» Лавров перешел к критике этой теории, хотя
всегда говорил о важности «стройности формы».
Лавров переносил свои субъективистские воззрения в истории и социологии и на
оценку и исследование, произведений искусства. Он видел в художественном
произведении не отражение реальной жизни, а показ действительности с точки зрения
соответствия его идеалу.
ТРИ БЕСЕДЫ О СОВРЕМЕННОМ ЗНАЧЕНИИ
ФИЛОСОФИИ
Многие отвергают теорию искусств, отождествляя ее с их историею.
Эстетика, как особенная наука, не имеет для многих смысла. «Что
нравится одному, то не нравится другому», говорят они. Им можно возразить,
что самые ощутительные истины науки не всегда схватываются необра-
1 П. Л. Лавров, Избранные сочинения, т. Ill, М., 1934, стр. 126.
499
зованными умами. Надо развить в себе мышление, чтобы отличить вероят-
нейшее от наименее вероятного, чтобы наши желания и предрассудки
не имели влияния на наши суждения о предметах. Это еще в большей
мере относится к прекрасному. Развейте в себе вкус, понимание красоты,
устраните личные расположения и неприязни, жизненные цели, расчеты
и стремления: вероятно, ваши суждения о красоте не будут так различны,
как теперь. Впрочем, я не имею ни времени, ни желания вдаваться здесь
в разбор теории прекрасного. Впечатления прекрасного существуют.
Сравните их, разберите их, выделите то, что к ним примешивается из других
областей,— и факты, вами полученные, будут фактами эстетики.
Не вдаваясь в полемику, можно, кажется, принять, что стройная форма
и патетическое действие художественного произведения суть два элемента,
в которых проявляется его достоинство. Как ни священны нам
изображения, начертанные живописцем, но если их форма уродлива, то искусство
их не признает. Как ни благородны, как ни современны мысли,
высказанные стихотворцем, но если он пишет деревянными стихами, если он не
уловил стройной формы, он никогда поэтом не будет. Об этих стихотворцах,
сильных в жизненных вопросах, но слабых в форме, можно повторить
слова Буало: «Это такой прекрасный человек, зачем он не пишет
прозою?» Чтобы убедиться, что форма есть существенное, необходимое
условие наслаждения искусством, кажется, довольно противопоставить
произведение, облеченное в прекрасную форму, но чуждое веем жизненным,
затрагивающим вопросам, другому, которое проникнуто живою мыслию,
но отличается пренебрежением формы. Разница бросается в глаза даже
в поэзии, где споры о форме и содержании бывают самые упорные. [...]
Стройная форма есть существенное и необходимое условие
художественного творчества. Она рисуется в фантазии художника, требуя
неумолимо себе воплощения; она есть единственная цель художника, если он
в самом деле художник.
Но форма не есть единственное условие художественного творчества.
Если бы оно было так, то пластические искусства перешли бы к геометрии,
музыка ограничилась бы учением о гармонии, и Гогарт, говоривший
ρ линии наибольшей красоты, наибольшей прелести, указал бы единственно
верный путь к искусству. Но оно не так. Самая изящная геометрическая
фигура, самое гармоническое сочетание звуков еще не прекрасны; они
только стройны; они могут быть сами по себе целью художника, могут
удовлетворять его как художника, могут быть оценены равными ему
художниками как вполне удовлетворительные; они как этюды могут быть
превосходными образцами для учеников — и только.
В них недостает патетического начала, которое одно, выливаясь
в стройную форму, делает ее прекрасною. Что такое мелодия? что такое
лирический порыв? что такое драматизм? Это есть потрясающее
человеческое начало, выходящее из личности художника и передающееся
помощью его произведений массе зрителей и слушателей. Художник
преследует форму и только форму, но он человек: он знает, верит, чувствует,
500
желает, его внутренний мир невольно и бессознательно соприсутствует
при его процессе творчества, и его стройная форма одушевляется его
внутреннею жизнью. Эта форма есть не безличный результат
бессознательной природы, она есть сознательное произведение
художника-человека. Она потрясает массу его братий-людей настолько, насколько в ней
есть человеческого, и ее стройность запечатлевает ее в воображении
поколений, сообщает ей неизгладимое существование среди общества, делает
ее двигателем этого общества, чего она никогда не достигла бы, оставаясь
только патетическим выражением. Антигона, леди Макбет, Гретхен,
Одиссей, Гамлет, Пимен живут среди нас, преследуют нас штстоянно, входя
в нашу жизнь, делаясь более действительными, чем многие из наших
знакомых, которых мы помним лишь тогда, когда они составляют реальный
предмет нашего наблюдения.
Неизбежное увлечение всех событий нашей жизни в невозвратимое
прошедшее делает нас снисходительными или равнодушными ко всему,
совершающемуся в жизни, конечно, если наш интерес не затронут. Но
другое дело — вечно живые образы искусства, они не умирают, не стареются,
не изменяются; они переживут нас и детей наших; перед глазами вашей
внучки восстанет образ Елены с ее неувядающей юностью, и пойдет она
в часовню ждать Инсарова, и забьется сильнее очарованное сердце молодой
читательницы назло всем пуританам и пуританкам ложной нравственности.
Эта стройная живучесть художественных идеалов, это повторение все
той же незабвенной истории их заставляет нас с ожесточением спорить
за эти идеалы или против них. Мы спорим здесь о бессмертных личностях.
Итак, в этих идеалах свободного искусства, в этих высших результатах
творчества чистое искусство требует одной формы, но неудержимая сила
жизни чрез посредство личности, создающей формы, вносит в них
содержание и потрясает массы помощью этого содержания. Мы до сих пор
говорили о творчестве сознательном и свободном, но нам стоит сделать
два шага, чтобы перейти в другую область, тесно соприкасающуюся с
первой. Эта область, с одной стороны, стесняет мало-помалу свободу
художника, предписывая ему свои идеалы, а с другой, она сливается, как мы
уже говорили, с первоначальным бессознательным творчеством и потому
носит на всем своем протяжении следы неполного сознания. Вы, мм. гг.,
уже догадались, что я говорю об области мифологии, о том пестром
царстве, где произошли первые метафоры народного языка, поверья и
предрассудки, наполняющие жизнь простонародья, и от которых мы далеко
еще не избавились вполне, о царстве, где живут Серый волк и Баба-яга,
гномы и феи, которые так знакомы детям, наконец, о царстве, где высится
ареопаг образов, перед которыми падали ниц народы, о царстве Зевеса,
Аримана, Тора, у алтаря которых молилось человечество своему желанию
справедливости, своей страсти к красоте, своей жажде истины, своему
страху неизвестного будущего. Эти мифологические гиганты, воплощение
истории человечества, так близко подходят к свободным идеалам
искусства, что трудно сказать, принадлежит ли Афина Фидия и Мадонны
501
Рафаэля более к области религиозного творчества, чем к независимым
идеалам художника; но, восходя к их источникам, к их постепенному
развитию в мысли человечества, мы заметим, как эти цельные образы
стушевываются, теряют свою личность, разлагаются на отдельные отвлеченные
черты и, наконец, обращаются в ряд вопросов практической жизни или
точной науки. [...]
Истинный художник вносит смело свое патетическое состояние в
форму, пред ним носящуюся, литератор создает новое слово для новой мысли;
мыслитель создает, если нужно, новую космогонию, новую метафизику;
ученый создает новую систематику. Заметьте: если нужно. Тут дело лишь
в том, что человек относится к существующим формам искусства или
научного творчества не как идолопоклонник к своему кумиру, но как
свободно развивающаяся личность к продуктам и средствам своего развития.
Он их обсуждает и подвергает их критике во имя знания. Эта критика
не есть творчество, но она дополняет творчество, доставляя ему жизнь
и развитие; она есть философия в творчестве. Художник и мыслитель
настолько философ в своих созданиях, насколько он критически относится
к существующим формам творчества, как чужим, так и своим собственным.
Постоянное внесение всего своего знания, всего своего бытия в свои
создания—это есть условие философии в творчестве. Без нее всюду рутина и
неподвижность; она представляет вечную борьбу с созданным во имя
создающегося. И тогда, когда мы принимаем уже существующие формы, мы их
принимаем во имя критики, после борьбы с ними, признав их
удовлетворительными, но признав за собою право отыскать новые формы в случае
нужды. Как бы ни был привлекателен кумир, если он кумир, то он вреден
и должен быть разрушен. Все заслуживает уважения лишь настолько,
насколько сознано после критики как достойное уважения. Знаменитый
Бэкон, которого философия легла в основание естествознания, в первой
же книге своего знаменитого «Нового Органона» показывает вред,
приносимый призраками (идолами) развитию человечества. Борьбу с ними он
считает обязанностью, но в другом месте сознает, что для этого нет
правила, но требуется лишь общая осторожность ума. Это именно есть
требование всегдашней неумолимой критики. [...]
П. Л. Лавров, Философия и социология. Избранные
произведения в двух томах, т. II, М., 1965, стр. 537—
550.
ЛАОКООН, или О ГРАНИЦАХ ЖИВОПИСИ И ПОЭЗИИ
Соч. Лессинга
Человек живет не одним хлебом, не одними потребностями знания,
благоденствия и справедливости. Есть еще потребности столь же
неотступные, столь же живучие и тем более сильные, чем выше и полнее развит
человек, в котором они присутствуют. Это — потребности эстетические.
Одною своею частью, требованием стройности, они невыделимы из всех
остальных сторон человеческой жизни. Для ученого, для законодателя,
502
для эпикурейца, как для стоика,— стройность в науке, в праве, в
наслаждениях, в исполнении долга есть само собою разумеющийся элемент, хотя
этот элемент не принадлежит к самой сущности фактического знания,
справедливости, прямой пользы или добродетели; он есть начало
художественное. Тем не менее без него наука, чувственное наслаждение,
нравственность, право теряют свою привлекательность, свою чарующую силу;
мало того: они разрушаются, делаются собранием атомов из органического
целого. И все-таки стройность не исчерпывает эстетических требований
человека. Он находится в известном настроении духа, он хочет воплотить
его в форму, хочет сообщить другим, хочет распространить около себя
грусть или веселье, торжественность или восприимчивость, он хочет
тронуть или взволновать своего ближнего, подействовать не только на ум, но
и на его чувство, подготовить волнением души, настроением духа действие
представления, которое затем следует. Патетическое действие
мимики, звука голоса, музыкального мотива, коротких или длинных
периодов речи оратора, какого-нибудь слова, повторенного через известный
промежуток времени, патетическое действие стиля писателя, группировки
представлений, предшествующих главному предмету сочинения, обаяние
стиха, усиливающего мысль всей музыкальностью своего ритма,— все это
ежедневные факты, неизвестные лишь тем, кто не хочет видеть их значения
и вникать в последнее. Все это явления патетической стороны искусства,
выражающейся последовательно как в насмешливой улыбке или в
дрожащем голосе, так в музыкальном падении строфы, которая сама собою
врезывается в память читателя. Эти явления до такой степени независимы
от начал паучной, юридической, нравственной деятельности, что многие
лица, слишком исключительно посвятившие себя последним, доходят до
отрицания необходимости первых. Конечно, это показывает только
недостаточный анализ прочих сфер жизни, потому что вне патетических
явлений человеческая деятельность лишается своего живого корня.
Убеждение, что я поступаю так, как должно, страстное самозабвение ученого,
для которого пролетают часы, умолкают животные потребности, когда он
следит за преобразованием какой-нибудь формулы, за движением светила,
за образующимся осадком в реторте, за развитием клеточки под
микроскопом, готовность жертвовать всем во имя долга, для политической
цели — все это патетические настроения духа, возбуждаемые и
ослабляемые окружающими явлениями. Затем остается еще область искусства,
высшая и самая исключительная, достояние великих художников и для
последних доступная не всегда, а для большинства публики составляющая
наибольший источник художественного наслаждения. Это область идеала,
создание художником личностей столь же живых, как личности природы,
но имеющих пред последними преимущество, что мы их узнаем именно
в характеристические моменты. Эти лица делаются неизменными членами
общества, в котором родились, более действительными, чем самые люди,
его составляющие: последние получают отблески созданного идеала, не
могут его выделить из своей жизни, во имя этих идеалов судят и осуждают
503
друг друга, развивают свои нравственные представления, даже изменяют
свои юридические постановления и в своих художественных идеалах
передают потомству лучшие цветки своей жизни.
Стройность, пафос, идеал — эти три начала искусства в его двух видах,
как жизненного творчества и как свободного художества, составляют
весьма важный элемент бытия человека вообще, и только правильная
оценка этого элемента может уяснить многие стороны исторической жизни
обществ или указать на возможные решения вопросов будущего. Так,
мифология, это великое искусство неразвитого общества, живущее до сих
пор в человечестве, что это такое? где разгадка этого мирового явления
вне эстетики? Нелепость, говорят люди с готовыми шаблонами. Но этот
ответ есть сам по себе нелепость, потому что отрицает факт
действительный, не объясняя его.
Без объяснения мифологии история есть изуродованный, отрывочный
рассказ или повествование о сумасшествии предков для полоумных
потомков. Вне эстетики где объяснение человеческого достоинства этого
созданного идеала, который идет пред действительным человеком, говоря
безостановочно: за мной! за мной! несмотря ни на лишения, ни на жертвы,
ни на утомление человека? Отчего человеку необходим культ, празднества,
торжества, церемонии? где возможность решения противоречий жизни?
какой смысл метафизик, толкующих ряду внимательных поколений о
предметах, навеки недоступных человеку? Все это вопросы, разрешимые только
тогда, когда мы оценим надлежащим образом эстетические элементы
человеческой жизни и их историческое влияние. [...]
Вот произведение искусства. Это ряд очерков, переливов света и тени,
красок, поражающих наше зрение. Это ряд звуков, воспринимаемых
слухом. Это ряд представлений вещественных и отвлеченных, возбуждаемых
в нас словом. Пред этим произведением три человека. Один видит в первый
раз произведение искусства; другой любит эстетическое наслаждение
между прочим; третий специалист в деле того самого искусства, которому
принадлежит рассматриваемое произведение. Первый, может быть,
восхищается тем, что оскорбляет вкус обоих его товарищей, и первые два могут
оставаться холодны там, где последний будет в восторге. Пусть первые
два лица имеют чаще случай наслаждаться эстетически. Пусть сравнят
сто, тысячу однородных произведений, в которых общее мнение
специалистов признало действительно художественное достоинство. Их внимание
изощрится. То, что ускользало от него, будет его останавливать. То, что
нравилось прежде, станет казаться пошлым; они признают незамеченные
красоты. И, не передавая друг другу своего мнения, не слушая проповеди
хвалителей и хулителей, они будут мало-помалу сходиться в мнениях
между собою и с третьим своим товарищем. Это постепенное соглашение
дает смысл понятию о законах вкуса, о теории изящного. Оно же
показывает, что есть возможность воспитать свой вкус, что есть некоторый
истинный, нормальный вкус, к которому по мере совершенства своей
организации, своего развития, своего упражнения подходят более или менее
504
частные мнения. Как же получить закон этой науки изящного? Конечно,
наблюдением. Изучая произведения искусства, которые в разные времена
восхищали общества людей и их образованнейших представителей, мы
можем получить данные для того, чтобы заключить, что для человека
прекрасно вообще. Исследуя психологический процесс, которым приходит
человек к наслаждению прекрасным, в отличие от наслаждения
желательным, полезным, истинным, справедливым, мы придем к определению,
выделению прекрасного из групп прочих идей, составляющих нормы
человеческой деятельности. При подобном изучении мы найдем в искусстве
элемент постоянный, определенный, подлежащий научному исследованию,
приближающийся к спокойствию науки. Этот элемент требует от человека
воспитания вкуса для наслаждения прекрасным и подчиняет вкус, не
подчиняясь ему. Найдем также начало изменяющееся, личное,
доставляющее наиболее наслаждения, но зато ведущее к непримиримым спорам.
Найдем в искусстве и начало эфемерное, волнующее общество в данное
мгновенье и не имеющее никакого значения назавтра. Наконец, можем
приблизительно определить тот род творчества, в котором художник может
всего полнее удовлетворить условиям прекрасного. Можно, кажется,
формулировать современные результаты подобного изучения в следующих
положениях: 1) Начало стройности есть начало всякого изящного
произведения, независимое от личного вкуса и соглашающее все мнения по мере
их развития; но оно есть эстетическое начало, распространяющееся и вне
искусства. Это есть научное начало искусства, но, предаваясь ему
исключительно, делаясь безличным, искусство делается холодным,
безжизненным, сближается с знанием и теряет свою существенную особенность,
2) Начало пафоса есть жизненное начало искусства, от которого зависит
его увлекательная сила, его обаяние. В нем отражается личность
художника, и оно действует на личность ценителей. Это личное начало искусства
имеет следствием разнообразие впечатлений, производимых последним,
и разнообразие мнений. Преследуя исключительно пафос, художник легко
впадает в безобразие, в аффектацию, в натянутость и вводит свои
произведения в процесс эфемерных явлений общественной жизни. 3) Начало
общественных идеалов есть историческое начало искусства, содействует
или противодействует его успеху в массе публики, но в то же время
сообщает произведению искусства всю эфемерность публицистики, допуская
самые разнообразные мнения о произведении, из начал, совершенно не
зависящих от искусства. 4) Художественные идеалы доставляют
произведению высшую красоту, соединяя в возможной мере в себе стройность
и пафос, которые взаимно умеряют друг друга. Эти художественные
идеалы производят наиболее сильное и продолжительное действие на массу
ценителей и являются не только образцами искусства всех времен, но
образцами нравственных идеалов своего времени; посредством их
художник делается непреднамеренно двигателем в истории человечества. [...]
Художник, живя в обществе, находясь под влиянием его требований,
не может быть совершенно чужд его временных влечений, его
нравственное
ных, политических, религиозных споров. Он становится в ряды одной
партии или сознательно выделяется из всех партий. Он в своих
произведениях отражает определенный нравственный, политический, религиозный
идеал. Это начало, чуждое его личности, им не усвоенное, но механически
прибавленное к его личным убеждениям, тяготеет на его произведениях.
Искусство перестает стремиться к красоте, сзоей единственной цели. Оно
подчиняется внешней потребности, оно вносит нестройность неусвоенного
верования в свои произведения и перестает быть искусством. Оно делается
одним из средств общественной жизни. «Тем лучше,— говорят иные
теоретики.— Горе искусству, чуждому жизни. Она одна действительна, и ей все
должно служить. Художник прежде всего член общества и принадлежит
ему всею своею деятельностью. Когда она полезна, то она оправданна.
Прочь бесстрастная аристократия художников, которые лепят торс Венеры,
взирая с презрением на братий-плебеев, сражающихся и умирающих за
благо отечества. Поклонение ненужной красоте есть разврат чувств, измена
гражданскому достоинству». Да, вы правы, ответим мы, но в борьбе
партий — куда должен стать художник? Всякая партия предполагает, что она
защищает истину. Если художник усвоил себе одно из господствующих
убеждений, если он в данную минуту проникся этим убеждением и
воплотил его в стройное произведение — тем лучше для партии, которой он
подал руку. Он создал прекрасное произведение в духе известной партии,
не для полемики во имя ее, а потому, что временно это было его
убеждение, стройно соглашенное им с образами внешнего мира. Это не
пропаганда, а нечто личное, художественное, и материалист рядом с
христианином придет восхищаться головой Иоанна, проповедующего в пустыне. Если
же художник не убедился, а служит партии случайным отголоском, если
непереваренный общественный вопрос воплощает в своем произведении,
то поверьте, произведение выйдет холодное или натянутое, в обоих
случаях плохое, и действие от него будет самое ограниченное, в случае самой
лучшей отделки это будет эфемерный успех, или succès d'estime. Пусть
уж лучше он тогда в самом деле дерется с неприятелем, пусть пишет
журнальные статьи, но оставьте его в спокойную минуту лепить торс
Венеры. Горе тому художнику или ученому, который вне искусства или
науки не сочувствует ничему житейскому, который, оставив свою
мастерскую и свою лабораторию, не находит в своей душе созвучия для
общественного вопроса, который не хочет знать современной борьбы и во время
боя на площади следит за кристаллизацией соли или описывает летнюю
ночь. Если у него в теле есть сила, а в душе гражданское чувство, он бросит
реторту, перо и палитру и пойдет в битву на самом деле. Но искусство
и наука останутся для него и должны остаться вне вопросов жизни. Они
сами составляют каждое для себя самостоятельную цель.
П. Л. Лавров, Этюды о западной литературе, Пг.,
«Колос», 1923, стр. 6—8, 43—45, 52—53.
506
ШЕКСПИР В НАШЕ ВРЕМЯ
[...] Эстетическое наслаждение, доставляемое нам самыми
замечательными произведениями искусства, весьма различно, смотря по тому, создано
ли оно нашим современником, участником наших житейских забот и
волнений, или художником иной страны и иного времени, которому был более
или менее чужд наш духовный мир, перед творческою мыслью которого
стояли иные вопросы. Это наслаждение различно еще и по самому роду
произведения, созданного художником, по тому, принял ли он орудием
своего творчества мир, его окружавший, воспроизведя его именно в тех
характеристических чертах, которые были восприняты им, художником,
из этого мира, или мир условный, созданный из знания прошлого или
фантастических преданий, с одной стороны, и той доли современных
художнику верований и житейских аксиом, без которых самое изящное
произведение исторического или фантастического характера не могло бы
найти себе отзвука в эпоху художника да, в сущности, не могло бы и
создаться в его воображении. Мы иначе наслаждаемся «Ревизором» Гоголя,
«Охотниками» Перова или «Бурлаками» Репина, «Новью» Тургенева или
«Коробейниками» Некрасова, чем величайшими произведениями
современных иностранных художников, а тем более художников иных эпох,
иначе, чем сценами Л. Толстого из общества времен Александра I, или
картинами Ге или Крамского из жизни Петра или из евангельской эпохи,
или статуями Антокольского, даже чем «Историею одного города» нашего
сатирика. Здесь я совершенно устраняю возможные несогласия о большей
или меньшей отделке и законченности художественной формы в
упомянутых произведениях и останавливаюсь только на элементе патетизма,
в них заключающемся и вводящем зрителя, читателя или слушателя
в душевный мир художника. Гармоничность, отделка и законченность
избранной формы есть всегда первое и неизбежное условие
художественного творчества, без которого оно перестает быть художественным; но
лишь очень немногие гастрономы искусства способны наслаждаться
исключительно достоинствами художественной формы. Здоровое наслаждение
искусством требует всегда еще другого, жизненного элемента.
От современного нам художника, создающего в наших глазах образы
или душевные настроения из окружающего нас мира, мы требуем прежде
всего художественной правды. Созданные им образы или душевные
настроения не только должны заключать в себе характеристические черты
личностей и настроений, действительно существующих, более чисто и
выпукло, чем мы видим в настоящей, смешанной и всегда немножко пошлой
действительности, но должны заключать именно самые характеристические
черты той самой доли действительности, которую художник сделал
предметом своей творческой деятельности, то есть то, что мы — публика,
читатели, зрители, слушатели — считаем самым характеристичным в данной
сфере окружающего нас мира. Отсюда споры и недовольства, вызываемые
самыми замечательными произведениями искусства, во имя того, что автор
507
не осветил ту сторону действительности, которая нам кажется самою
характеристичною. Романист нарисовал борьбу двух общественных групп
и выставил ярко и выпукло нравственное превосходство одной над другою.
Но нравственные герои его интеллектуально слабы. Представители обеих
групп кричат против «неправды» произведения. «Это ложно,— говорят
одни,— между нами есть честные и искренние люди, и это настолько
характеристично, что без этого роман становится не правдивым
воссозданием действительности, но карикатурою, произведением, может быть,
и художественным, но относящимся к условному фантастическому миру».
«Это ложно,— говорят другие,— мы не только нравственно стоим выше
наших врагов, но многие из нас суть высшие представители современной
интеллектуальной силы, и это настолько характеристично, что актер, не
указав этого, нарисовал фантастическую картину действительности». Мы
удовлетворены лишь тогда, когда те самые жгучие вопросы жизни,
которые мучат нас дни и ночи, встанут перед нами в образе, созданном
фантазиен) художника, в лирическом его настроении, более выпуклые, более
живые, чем в нашем собственном уме, подавленном спутанностью
житейских мелочей, пошлостью обыденных примесей к самым серьезным
задачам. Да, это так, говорим мы, и переживаем в течение нескольких минут
или нескольких часов лучшую долю собственных душевных мучений,
душевных радостей, отдыхая на ярком изображении того, что для нас
составляет нравственную жизнь, даже тогда, когда эта жизнь нам доставляет
одни мучения. В этом отдохновении на чистом звуке того, что вызывает
большею частью страдание в смешанном шуме жизни, заключается тайна
искусства, которую еще не разгадали современные психологи, но когда-
нибудь разгадают. Наибольшее эстетическое наслаждение нам всегда
доставляет не полное отвлечение от забот действительности, как думают
многие, но наиболее яркое, выпуклое и живое воплощение этих самых
забот в художественную форму. Чем более мы переживаем собственной
внутренней жизни в данном произведении, чем непосредственно понятнее
нам его духовное содержание, тем действие его сильнее, и художественная
законченность отделки становится в этом случае самым могучим орудием
для укрепления в нас наших нравственных побуждений и самым лучшим
лекарством против раздражения, вызываемого в нас мелкими
препятствиями, ошибками, недочетами, которые оказываются при обыденном
опыте.
Впрочем, по мнению некоторых критиков, весь мир искусства есть
мир условный и драматическое искусство требует в особенности этой
условности. Некоторое преувеличение размеров, изменение действительной
перспективы, полагают эти критики, неизбежно во всяком произведении,
особенно же в драме. Может быть, тут есть значительная доля правды.
Может быть и то, что сторонники этого мнения в некоторой мере
смешивают два процесса совсем различных. Характеристические черты
действительности в художественном произведении выделяются из мутного мира
реальной, наблюдаемой жизни, как чистый музыкальный звук выделяется
508
из смешанного шума голосов. Вне этого выделения нет искусства, как нет
чистого музыкального звука. Но выделенные из жизненной пошлости
характеристические черты действительности остаются или могут, кажется,
остаться в том же правдивом отношении одна к другой, в каком они были
и в жизни, как музыкальные звуки выражают более чисто и патетично
то самое душевное настроение, которое заключается в речи, произнесенной
обыкновенным голосом. Впрочем, я не имею в виду останавливаться здесь
на этом спорном вопросе. Оставляя, следовательно, в стороне разбор того,
насколько в художественное произведение, почерпнутое из современной
жизни, входит условности, присущей самому процессу художественного
творчества, мы неизбежно должны признать значительную долю
условности для тех произведений, которые переносят нас в мир, более или менее
отдаленный от нас по времени, или в мир, сознательно измененный
автором: мир сказки, утопии, карикатуры. Здесь, чтобы наслаждаться, надо
иметь возможность последовать за автором в мир, им созданный. Надо для
мира исторического, чтобы знание и понимание читателя, зрителя или
слушателя было близко к уровню знания и понимания художника. Надо,
чтобы мир сказки, утопии или карикатуры, в который вводит нас
художник, был нам или привычен, или вполне ясен в своих недействительных
особенностях, или соответствовал нашему личному стремлению
представить одну долю этого мира в радужных красках утопического ореола,
другую — в насмешливых искажениях карикатуры. Здесь художник,
живущий среди нас, усвоивший наравне с нами известный угол зрения на
прошедшее человечества (угол зрения, всегда обусловленный злобою дня),
проникнутый одинаково с нами желанием возвеличить одни явления и
порывы человеческой природы и унизить другие, создает вместе с ними
условный мир прошлого (всегда с примесью нашего настоящего) или
желательный нам мир радужной утопии и желчной или юмористической
сатиры. Мы наслаждаемся здесь художественною правдою иного рода,
правдою, с которою художник уловил наш угол зрения на ту или другую
эпоху, на ту или другую легенду, правдою, с которой он осуществил наше
желание восхищаться одним и унизить другое. Поэтому, если наше знание
и понимание прошлого расходятся с историческим кругозором художника,
все равно, стоит ли он выше или ниже нас в этом отношении, то его
историческое воссоздание оставит нас холодными, наше эстетическое
наслаждение пропадает. Если он идеализирует то, что нас возмущает, пишет
желчную карикатуру на то, чему мы живо сочувствуем, мы возмущены, его
условный мир преувеличения нам противен. Жизненно правдивыми,
реалистическими картинами мы еще можем наслаждаться в известной мере
даже тогда, когда мы находим, что в них не заключается полной правды,
не освещены самые характеристические для нас стороны. Но мир истории,
противоречащий нашему пониманию прошлого, мир сказки нам чуждый,
мир идеалистических колоссов и совершенств или сатирических пигмеев
и уродливостей, которые для нас не колоссы и не совершенства в одном
случае, не пигмеи и не уродливости в другом, для нас совсем невыносим.
509
Красота формы здесь большею частью бессильна доставить нам
наслаждение: напротив, она возмущает нас своим диссонансом с правдою. [...}
Но вот перед нами творцы иного времени, гениальные художники,
жившие иными жизненными заботами, воссоздавшие в своих
произведениях реальную истину иного мира, нуждавшиеся вместе с их
современниками в идеализировании иных стремлений и в обрушении громов
сатиры на иные общественные явления. Как мы, люди иной страны и иной
эпохи, можем эстетически наслаждаться патетизмом, для нас чуждым?
Как нам, помимо наслаждения исключительно формою, переживать
душевные волнения Гомера, Эсхила, Данте, Шекспира, Мольера, Бомарше, Гёте?
Истинный «разбор вековых произведений», по мнению современного
критика-художника, «весьма труден». «Ни одно великое творение не упало
на землю, как камень с неба; каждое из них вышло из глубины
поэтической личности, которая только потому и удостоилась этого счастия, что
весь смысл современной жизни отразился в ней не одними преходящими
отголосками, но целым, иногда довольно мучительным развитием
характера и таланта; чем выше, проще и нераздельнее произведение, тем
сложнее и разнообразнее условия и процесс его возникновения». Но рядом
с этим критик уверяет, что «вовсе не нужно дойти до сознания этого
процесса, чтобы вполне наслаждаться великим произведением», потому
будто бы, что «непосредственная, несомненная, общепонятная красота —
необходимая принадлежность всякого художественного создания». С этим
можно согласиться только в отношении красоты формы для всякого, кто
выработал в себе вкус к ее восприятию, но для того, чтобы наслаждаться
жизненным элементом художественного произведения, необходимо иметь
возможность пережить собственными чувствами, воображением или
мыслью значительную долю того мира верований, убеждений, радостей,
горя, желаний и борьбы, который составлял интеллектуальную и
нравственную атмосферу художника, надо, насколько возможно, перенестись
в эту атмосферу. [...]
Там же, стр. 184—189»
П. Н. ТКАЧЕВ
1844-1885
Петр Никитич Ткачев — революционный деятель 60—70-х годов, виднейший
русский представитель бланкизма, пропагандировавший идею захвата власти
революционным меньшинством в целях социалистического преобразования общества.
С 1865 года Ткачев сотрудничал в качестве критика и публициста в радикальном
журнале «Русское слово», а затем — в сменившем его «Деле». Осужденный
в 1871 году по делу Нечаева, он в 1873 году бежал за границу и в 1875—1876 годах
издавал журнал «Набат». Сотрудничество в «Деле» продолжалось под различными
510
псевдонимами и после его осуждения. Пропаганда Ткачева оказала влияние на
идеологию «Народной воли».
В своих статьях Ткачев продолжил традиции Писарева. Он отстаивал реализм
и реальную критику, которой придавал исключительно общественное значение,
полностью подчиняя ее задачам социальной борьбы. Цель критики он видел в том, чтобы
содействовать «распространению и просветлению общественного миросозерцания»
и подготовлять почву для «науки обществоведения». Литературе и искусству Ткачев
отводил подчиненное место, видя в них только средство пропаганды идей в более
доступной форме. В своих критических статьях он нередко использовал
литературный материал, совершенно игнорируя художественные особенности
рассматриваемого произведения.
Ткачев решительно отвергал «эстетическую критику», то есть оценку
художественных достоинств произведения, обвиняя такую критику в полном субъективизме.
Он утверждал, что критерий эстетического достоинства не может быть установлен
научным путем и все попытки метафизической эстетики в этом направлении
остались тщетными. Впрочем, он не исключал полностью из реальной критики
эстетическую оценку, но признавал за нею лишь незначительную, подчиненную роль.
Отстаивая литературу и критику, служащую задачам революционной борьбы,
выступая против идеалистической эстетики и «чистого искусства», Ткачев в силу
механистичности своего общественного мышления пришел к отрицанию эстетики
вообще, видя в ней лишь науку о прекрасном, препятствующую развитию идейного
искусства. Даже Добролюбова и Писарева — основателей реальной критики — он
обвинял в недостаточной последовательности, считал, что они не сумели до конца
освободиться от субъективной и идеалистической эстетической критики,
[ПРОТИВ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ]
[...] Но если субъективные эстетические ощущения так изменчивы,
неопределенны, так индивидуальны, то так же изменчивы, неопределенны и
индивидуальны должны быть и порождаемые ими субъективные понятия
о «прекрасном», «изящном» и вообще все наши эстетические идеи. При
таком чисто субъективном критерии эстетическая критика теряет всякий
«научный» характер,— она становится ареною личного произвола, личных
мнений. Прежде догматизм метафизики ограничивал этот произвол; теперь
никакая узда его более не сдерживает; прежде она имела хоть
какие-нибудь общие, для всех обязательные принципы,— теперь и эти принципы
отрицаются в самом корне, и потому если иногда во взглядах критиков и
замечается некоторое единство, то это единство есть дело простого случая;
в нем нет ничего необходимого, неизбежного. Добролюбов инстинктивно
чувствовал всю неудовлетворительность такого состояния критики; он
старался вывести ее из эстетического хаоса и поставить на другую, более
твердую, почву. Но он сам еще не вполне отрешился от преданий
полуромантической, полуметафизической эстетики Белинского, и потому, как я
покажу ниже, его реформа имела, так сказать, половинчатый характер. Писа-
511
рев в одном отношении пошел далее: в своих полемических статьях и в
статье по поводу книги об «Эстетических отношениях» он раскрыл
субъективный характер эстетического чувства и показал всю его
несостоятельность в смысле «основного принципа» критики. Но, разрушив старый
принцип, он не заменил его новым, потому в его критике, по-видимому,
отрицающей всякую эстетику, мы находим прежний произвол, прежнюю
субъективность. [...] В конце концов, его критика по своим приемам есть все-
таки критика эстетическая. Чтобы читатели не сочли этого за парадокс,
я должен определить теперь в нескольких словах общий характер приемов
эстетической критики. Создав себе известные «идеалы» (абсолютные или
относительные, общие или чисто индивидуальные, это все равно), она
приступает к оценке данного произведения именно с точки зрения этих
идеалов. Если произведение подходит под идеалы — оно хорошо, если не
подходит — оно дурно. Вот основной характер ее метода. Теперь, если мы
отрешимся от самого содержания этих идеалов, если мы будем
рассматривать метод с его чисто формальной стороны, то мы можем назвать его
идеалистическим. Идеалистический метод, идеалистическая точка зрения —
вот самый существенный признак эстетической критики. Ту же точку
зрения, тот же идеализм мы встречаем и у Писарева и большей части (может
быть, и у всех, но я всех не читал) наших так называемых
критиков-реалистов. Правда, их идеалы — не те идеалы, с которыми носятся эстетики.
Но сущность приема от этого не изменяется, изменяется только задача,
цель критики; она уже всецело обусловливается содержанием идеала.
У критиков-эстетиков это содержание чисто эстетическое,— и потому
основною задачею их критики является: развитие в обществе
эстетического вкуса. У наших критиков-псевдореалистов это содержание шире и
разнообразнее. Но какие это задачи — ответ на это нужно искать в их
идеалах, а объяснение их идеалов — в их чисто внутренней, субъективной
жизни. Таким образом, и в их руках критика осталась по-прежнему «делом
личного вкуса». [...]
Принципы и задачи современной критики (1872).—
П. Н. Ткачев, Избранные литературно-критические
статьи, М.—Л., 1928, стр. 37—46.
[ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ РЕАЛЬНОЙ КРИТИКИ]
[...] Реальная критика отличается от критики нереальной, от критики
эстетико-психо-метафизической, главным образом тем, что критериум для
оценки художественного произведения она ищет не в наших чисто
субъективных чувствах, а в объективных фактах — фактах, доступных точному,
положительному научному исследованию; иными словами: критерий
реальной критики есть по преимуществу критерий объективный, тогда как
критерий нереальной критики отличается по преимуществу чисто
субъективным характером. Отсюда неизбежно следует такой вывод: из всех
вопросов, связанных с оценкою достоинств или недостатков данного художе-
512
ственного произведения, анализу реальной критики могут подлежать лишь
те вопросы, которые допускают, так сказать, объективное решение. Затем,
разбирая вопросы, связанные с оценкою художественного произведения,
я разделил их на три категории: вопросы, касающиеся 1) жизненной
правды, 2) психологической правды и, наконец, 3) художественной правды.
По моему мнению, лишь вопросы первой категории (а именно: под
влиянием каких условий общественного быта и своей частной жизни художник
додумался до известного произведения? Каковы те историко-общественные
мотивы, которые вызвали произведение на божий свет? Верны ли
действительности воспроизведенные в нем характеры и жизненные отношения?
Какой общественный смысл имеют эти характеры и эти отношения?
Какими условиями общественной жизни порождены они, и в силу каких именяа
условий образовались эти породившие их общественные условия?),—
только вопросы этой первой категории могут подлежать чисто
объективному исследованию, а следовательно, только на них одних и должно
сосредоточиваться главным образом внимание реальной критики. Вопросы же
второй категории (вопросы о том, насколько воспроизводимые автором
характеры выдержанны, целостны и правдоподобны с чисто
психологической точки зрения) при настоящем состоянии психологической науки
(основывающейся по преимуществу на методе чисто субъективного
самонаблюдения) только отчасти допускают строго научное объективное
решение, поэтому реальная критика может заниматься ими только отчасти,
только настолько, насколько они допускают это строго научное
объективное решение. Наконец, что касается вопросов третьей категории (вопросов
о том, насколько данное художественное произведение удовлетворяет
нашему эстетическому чувству, нашему чувству красоты и нашим идеям
о «прекрасном»), то они, как вопросы чисто субъективные, совершенно
выходят за пределы реальной критики. Впрочем, реальный критик не
имеет никаких резонов воздерживаться от высказывания своих суждений
относительно эстетических достоинств или недостатков известного
художественного произведения. Хотя он очень хорошо понимает, что эти
суждения имеют чисто субъективный характер, что они не подлежат и не
могут подлежать никакой более или менее научной, объективной оценке, тем
не менее они все-таки производят на читателей известного рода
впечатление — впечатление, которое может до некоторой степени, так сказать,
предопределить отношение последних к разбираемому произведению.
Критик, делясь с читателем своими эстетическими ощущениями, создает
в его уме некоторое предубеждение в пользу или в ущерб художественного
произведения. Произведение же, к чтению которого мы приступаем
заранее предубежденные в его пользу, имеет более шансов понравиться нам,
доставить нам эстетическое удовольствие, чем произведение, к чтению
которого мы приступаем с противуположным предубеждением или без
всякого предубеждения. [...] Следовательно, критик, создавая предубеждение
в пользу или во вред разбираехмого произведения, может косвенным
образом содействовать исправлению и развитию эстетического вкуса читателей:
17 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) 513
он приучает их находить прекрасными (то есть испытывать эстетическое
удовольствие) лишь такие произведения, которые проникнуты разумным,
реалистическим миросозерцанием, которые расширяют умственный
кругозор и возвышают, очищают нравственные понятия человека.
Конечно, не следует чересчур преувеличивать (как это делают чистые
эстетики) значения критики в деле воспитания нашего эстетического
чувства. Эстетическое чувство возникает и развивается в нас под влиянием
массы объективных и субъективных условий воспитания, окружающей нас
обстановки, наследственных предрасположений, образа нашей жизни,
наших занятий и т. д. и т. д.; критика есть только одно из этих условий, и
притом условий наименее существенных и наименее влиятельных. Вот
почему в реальной критике эстетическая оценка произведений отодвигается
обыкновенно и должна быть отодвигаема на самый задний план. Критик-
реалист понимает, что подобная оценка — не говоря уже о чисто
субъективном характере ее — весьма мало может содействовать воспитанию
эстетического вкуса публики, он понимает, что, разъясняя общественные
явления окружающей ее жизни, насколько они отразились в данном
произведении, раскрывая их внутренний смысл и т. д., он принесет ей гораздо
больше пользы, он гораздо непосредственнее и прямее будет влиять на ее
умственное и нравственное развитие, чем делясь с нею своими
эстетическими ощущениями.
Эстетическая критика на «почве науки».—«Дело», 1878,
№ 12, стр. 311-313.
Н. С. ЛЕСКОВ
1831-1895
Николай Семенович Лесков занимал особое место в литературной жизни
своего времени. На фоне резкого размежевания идеологических сил,
целеустремленной и ясно осознанной борьбы мнений его художественные и особенно
публицистические выступления очень часто истолковывались неверно или же воспринимались
как весьма неопределенные и расплывчатые в их идейном смысле. Измеряясь мерой
своей эпохи, они теряли нечто существенное, то, что было, однако, вполне ясно
самому писателю. Особое положение Лескова в литературной жизни было связано
и с его взглядами на произведение искусства и с его отношением ко всяким
суждениям об искусстве.
В произведениях Лескова интенсивной жизнью живет само слово, приобретая
некоторую эстетическую ценность даже вне смысла целого (Лесков был
необыкновенным мастером в сочинении названий для своих работ, и эти кратчайшие
художественные тексты — такие, как «Чающие движения вод», «Черноземный Телемак»,
«Всенародный гросфатер» и множество других,— вполне способны на
самостоятельное существование: они могли переходить от одного замысла писателя к другому 1.
1 См.: В« Геб ель, Н. С. Лесков в творческой лаборатории, М., 1945, стр. 104.
514
Это постоянно осуществляемое расхождение между смыслом части и смыслом
целого повторяется на всех уровнях (от отдельного слова и предложения до целого
произведения) и вызывает у читателя соответствующее расщепление внимания.
Зто и определяет жизненность произведений Лескова. Сам текст его произведений
заключает в себе больше неожиданностей, чем текст Толстого или Достоевского.
«Лесков,— писал Горький,— тоже волшебник слова, но он писал не пластически,
а — рассказывая, и в этом искусстве не имеет равного себе...», и Горький говорит
дальше об «искусном плетении нервного кружева разговорной речи» у Лескова !.
Но в этой иллюзии рассказывания и заключен парадокс. Если, скажем,
драматически насыщенное и композиционно усложненное повествование Достоевского, как
бы преодолевающее сопротивление своего материала и очень замедляющееся в
узловых моментах, реализуется как льющийся поток, где красота и сила языка
рождается из установки писателя на смысл и где эта установка действует почти
совершенно безошибочно,— то, напротив, у Лескова повествование создает
иллюзию непосредственного рассказывания и вместе с тем представляет собой продукт
многократного и тщательного отшлифовывания текста (в котором для читателя
скрыто много неожиданностей). Между тем сам материал, как раз наоборот, редко
бывает результатом драматически целенаправленного увязывания разнородного
в одно целое; Лесков нанизывает на одну нить множество эпизодов, деталей,
анекдотов, выстраивающихся в несоподчипенный ряд2.
Лесков понимал особенности своего эпического повествования и предупреждал
читателя: «Жизнь человека идет как развивающаяся со скалки хартия, и я ее так
просто и буду развивать лентою». И. С. Аксакову он пишет: «Все это развивается
свитком, лентою, без апофеоза, даже без кульминационной точки» 3.
В соответствии с этим отношением писателя к миру как вольно и спокойно
развивающейся нити, как к готовому миру фактов, личностей, данных,
подлежащих виртуозной обработке словом, находятся и его суждения об искусстве. Деталь,
частность, взятая как таковая, характерная, поразительная, происшествие, случай,
следовательно, необычное, редкое, может стать материалом для произведения, и
многообразие мира как суеты воссоздается обилием суетных деталей.
В своих эстетических суждениях Лесков может выглядеть противоречивым,
и не без основания: в его распоряжении в эту эпоху расцвета реалистической
литературы, уже тяготеющей к натурализму, явно не было нужных понятий и слов,
чтобы выразить его личное отношение к существу эстетических проблем. Оттого-то
редкие высказывания Лескова по общим вопросам литературы кажутся оппозицией
сразу всем существовавшим тогда литературным партиям,—положительное мнение
1 М. Горький, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 24, М., 1953, стр. 236.
2 Близкими Лескову формами были «мемуар, биография, хроника и анекдот»,—
пишет Л. Гроссман (Леонид Гроссман, Н. С. Лесков..., М., 1945, стр. 257).
В письме к Л. Н. Толстому Лесков характерно замечает о своем рассказе:
«Называется это «Загон». По существу это есть обозрение. Списано все с натуры»
(Н. С. Л ее ков, Собрание сочинений в 11-ти томах, т. 11, М., 1958, стр. 567). В
другом месте Лесков пишет: «Я только или описывал виденное и слышанное, или же
развивал характеры, взятые из действительности» (цит. по кн.: Леонид
Гроссман, Н. С. Лесков..., стр. 254).
3 Цит. по кн.: Леонид Гроссман, Н. С. Лесков..., стр. 265.
17*
515
Лесков выражает, преодолевая целые груды приходящих ему на память
велеречивых слов, между которыми с трудом пробивается и подлинная мысль автора.
Называя литературу «царством мысли» 1, утверждая, что главное в литературе — это
«содействие выяснению идей в сознании большинства людей»2, Лесков, впрочем,
вполне точно определил самую общую направленность своих поисков и своей
борьбы против искусства банальных штампов, увековеченных истин с его упрощенной
эстетикой. Если Лесков не справляется с ясным выражением своих эстетических
взглядов, то и это свидетельство их оригинальности, не находящей нужного языка
для своего выражения. Фрагментарность эстетических суждений Лескова не дала,
к сожалению, выразиться синтетически той неповторимой конфигурации
эстетических идей и представлений, которая отображается в творчестве писателя и которая
дала бы место таким противоречиям, как иллюстративность и высокая мысль,
прямолинейная тенденциозность и фантастическая отвлеченность от действительности,
заостренная характерность и широкая типичность и т. д.
ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПО гр. Л. Н. ТОЛСТОМУ
(1869)
[...] Кроме ветреных и легкомысленных критиков, рассматривающих
произведение графа Толстого лишь с одной стороны, именно с той
стороны, которою «Война и мир» не подходит к бесплодному и в настоящее
время уже беспочвенному направлению предвзятого отрицания, графу
Толстому был сделан один забавный упрек и одно не менее забавное и
неосновательное определение его значения в ряду современных романистов.
Один философствующий критик упрекнул автора, что он «просмотрел
народ и не дал ему принадлежащего значения в своем романе».
Говоря по истине, мы не знаем ничего смешнее и неуместнее этой
забавной укоризны писателю, сделавшему более чем все для вознесения
народного духа на ту высоту, на которую поставил его граф Толстой, указав
ему оттуда господствовать над суетою и мелочью деяний отдельных лиц,
удерживавших за собою до сих пор всю славу великого дела. Вся
несостоятельность этого простодушного укора столь очевидна, что его недостойно
и опровергать.
Другой, также философствующий рецензент, классифицируя
творческие силы автора и стараясь проникнуть во святая души его, нашел
истинно замечательный способ записать графа Толстого в особую категорию
реалистов, категорию, которая, впрочем, не имеет ничего общего с так
называемыми на языке наших философских критиков «грубыми
реалистами». Замечательный вывод, одновременно свидетельствующий и о верности
собственных представлений критика, угнетаемой потребностию
классификации, и о всяком отсутствии в нем столь необходимой для критического
писателя чуткости!
1 Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. И, стр. 480.
2 Цит. по кн.: Леонид Гроссман, Н. С. Лесков..., стр. 252.
516
Если уже есть неотразимая потребность ныне вновь перечислять графа
Л. Н. Толстого в какую-нибудь категорию истов, то не позволительнее ли
всего было бы отнести его совсем не к разряду каких бы то ни было
реалистов (каким он никогда не был, ни в одной написанной им строке), а
совсем к другой категории мыслителей, к другой плеяде писателей,
понимающих земную жизнь не так, как может принять ее какой бы то ни было
грубый или нежный реалист? Его одухотворенный князь Андрей в свои
предсмертные минуты возносится совсем над земным человеком: любовь
к страстно любимой женщине в нем не остается ни одной секунды на той
степени, на какой мы ее видели, пока в князе говорил его перстный Адам.
Но вот «взошло в дверь оно», и... любовь князя не падает и не
увеличивается по отношению к любимому лицу, а она совсем становится иною
любовью, какою не любят никакие реалисты. [...]
И таков автор «Войны и мира» везде, таков он во всех тех строках
своего романа, которые более рельефно выдают его субъективные чувства
и отношения к людям и природе. Вспомним размышления князя Андрея
леред возрождающимся дубом и подержим в памяти прочитанную теперь
кончину этого самого князя... и это называется реалист!! Почему,— если
уже философским начетчикам, разбирающим художественные
произведения, необходимо классифицировать авторов по отделам истов,— почему,
говорим, они, мудря над зачислением автора «Войны и мира» в
определенную группу мыслящих людей, не вспомнили о спиритуалистах, с которыми
давно замечено столько родного и общего у графов Толстых (Льва и
Алексея Константиновича). Мы говорим о спиритуалистах, сильных и ясных
во всех своих разумениях дел жизни не одною мощию разума, но и
постижением всего «раскинутого врозь по мирозданью» владычным духом,
который, «в связи со всей вселенной, восходит выше к божеству»...
Мы не имеем чести знать личные мнения автора «Войны и мира», но,
знакомые со всеми высказанными им в печати чувствами, верованиями и
надеждами, мы решаемся со спокойствием утверждать, что зачисление его
ло последней категории было бы гораздо ближе к истине, чем желание
лредставить в нем некоторую квинтэссенцию реализма, хотя бы даже
имеющего честь не возбуждать против себя и самой безвредной злобы
философских начетчиков. [...]
Н. С. Лесков, Собрание сочинений в 11-ти томах,
т. 10, М., Гослитиздат, 1958, стр. 143—146.
ПИСЬМО Ф. И. БУСЛАЕВУ
от 1 июня 1877 года
[...] Вопрос об «утилитарном» значении романа и вообще
художественных произведений, мне кажется, до сих пор не выяснен, и не выяснен
именно потому, что он недавно неудачно поставлен и с тех пор, при
каждой новой разработке, всегда роковым образом попадает под тот же угол
517
зрения. Я думаю, что роман (то есть, собственно, один роман,— одна эта
повествовательная форма) должен иметь то значение, какое Вы ему
намечаете, и это, может быть, должно составлять характерную черту отличия
романа от новеллы, повести, очерка и рассказа. В этом давно надо было бы
произвести обстоятельный разбор, так как в наше время — критического
бессмыслия в понятиях самих писателей о форме их произведений,
воцарился невообразимый хаос. «Хочу, назову роман, хочу, назову повестью —
так и будет». И они думают, что это так и есть, как они назвали. Между
тем, конечно, это не так, и вот это-то, по-моему, стоило внимания такого
знатока, как Вы. Писатель, который понял бы настоящим образом разницу
романа от повести, очерка или рассказа, понял бы также, что в сих трех
последних формах он может быть только рисовальщиком, с известным
запасом вкуса, умения и знаний; а затевая ткань романа, он должен быть еще
и мыслитель, должен показать живые создания своей фантазии в
отношении их к данному времени, среде и состоянию науки, искусства и весьма
часто политики. Другими словами, если я не совсем бестолково говорю,
у романа, то есть произведения, написанного настоящим образом, по
настоящим понятиям о произведении этого рода, не может быть отнято
некоторое,— не скажу «поучительное», а толковое, разъясняющее смысл
значение. У нас же думают, что для этого нужна та мерзость, которая
называется «направлением», или «тенденциею». Этого укора не избежали и Вы,
со своею брошюрою, которая иными в Петербурге понята так, что Вы
хотите того, чего Вы, разумеется, не можете хотеть,— то есть тенденциозности,
писания трактатов в лицах. Я Вас понимаю [...], но я думаю, что все-таки
Вам надо разъяснить свою мысль, и в этом Вам много пригодилось бы
разъяснение того, что мы должны разуметь под романом в отличие от
повести, рассказа, очерка и проч.?
Роману нет нужды насильственно придавать служебного значения, но
оно должно быть в нем как органическое качество его сущности. Если же
нет этого в романе, то, значит, он не берет всего того, что должен взять
роман, и не имеет основания называться романом. Тут, конечно, есть
исключения, которые сами собою очевидны (например, романы чисто
любовные, каковых, впрочем, теперь немного и скоро будет еще менее).
Но и в повести и даже в рассказе должна быть своя служебная роль —
например, показать в порочном сердце тот уголок, где еще уцелело что-
нибудь святое и чистое. Эта задача сколь приятная, столь же и полезная,
и я ее достигал порой, вовсе не имея к этому никакой теории, а тем менее
«тенденции». Мне нравилось мнение китайского «царя мудрости» Кун-
цзы, что «в каждом сердце еще есть добро — стоит только, чтобы люди
увидали на пожаре ребенка в пламени, и все пожелают, чтобы он был
спасен». Я это понял и исповедую и благодаря этому действительно находил
теплые углы в холодных сердцах и освещал их. Вот служебность рассказа,
но не тенденция. Мне кажется, надо бы перебрать это и пояснить
примерами, потому что тут мы стали на всякие теоретические разговоры и нам
надо «млеко», а не брашно. О самом приеме или манере постройки романа
518
я с Вами еще более согласен и не далее как в прошлом году говорил об
этом с Иваном Сергеевичем Аксаковым, который хвалил меня за хронику
«Захудалый род», но говорил, что я напрасно избрал не общероманический
прием, а писал мемуаром, от имени вымышленного лица. Ив[ан]
Сергеевич] указывал мне даже места, где из-за вымышленного лица, от
коего веден мемуар, проглядывала моя физиономия; но и он не замечал
этого в дневнике Туберозова (в «Соборянах»), Однако по вине моей
излишней впечатлительности это имело на меня такое действие, что я оставил
совсем тогда созревшую у меня мысль написать «Записки человека без
направления». Я не совсем убедился доводами Ивана Сергеевича, но как-
то «расстроился мыслями» от расширившегося взгляда на мемуарную
форму вымышленного художественного произведения. По правде же
говоря, форма эта мне кажется очень удобною: она живее, или, лучше
сказать, истовее рисовки сценами, в группировке которых и у таких больших
мастеров, как Вальтер Скотт, бывает видна натяжка, или то, что люди
простые называют: «случается точно как в романе». Но, мне кажется, не
только общего правила, но и преимущества одной манеры перед другою
указать невозможно, так как тут многое зависит от субъективности автора.
Вопрос этот очень интересен, но я боюсь, не пришлось бы его в конце
концов свести к старому решению, что «наилучшая форма для каждого
писателя та, с какою он лучше управляется». [...]
Там же, стр. 450—452.
ПИСЬМО И. Е. РЕПИНУ
от 18 февраля 1889 года 1
[...] Читать мне «Зенона» не хочется по многим причинам, но тем не
менее я исполню Ваше желание и свое обещание. Вещь эта не особенно
хорошая, но она трудная, и ее можно читать только тем, кто понимает,
каково было все это измыслить, собрать и слепить, чтобы вышло хоть нечто
не совсем обстановочное, а и идейное и отчасти художественное. Таких
слушателей негде взять. Потом «идея»... Для меня, для Толстого (Л.), для
Вас — это суть, а для всех теперь идея не существует. Я читаю Вам — как
советовал кто-то скрипачу: «играть для одного в партере». Я в ужасе,
я в немощи, я в отчаянии за ту полную безыдейность, которую вижу... Мне
нравятся «Запорожцы», но я люблю «Св. Николая», а прием им будет
обратный этому... Так падать, как падает эта среда,— это признак полной
гадостности. Это какие-то добровольцы оподления, с которыми уже
невозможны ни споры, ни разговоры. Прямо: «Не тратьте сил и — спущайтесь
на дно!» Я это чувствую повсеместно и читаю почти на всех лицах. Еще
им недостает смелости поднять руки на Л. Н., но что и это будет сделапо,—
попомните мое слово, что Вы увидите ужасающее бесчинство! Зачем же
1 См. ответ И. Репина на стр. 669—670.
519
мы собираемся? Зачем говорим еще? Зачем?.. Не лучше ли молча «спуща-
ться на дно»?.. Не обижайте меня,— не говорите, что это неправда, потому
что это — правда.
Лучше будем укреплять друг друга в постоянстве верности добрым
идеям,— хотя я боюсь, что «Св. Николай» будет не умно понят. [...]
Живописцы могут служить идеалам теперь лучше, легче, чем мы, и Вы
обязаны это делать. Дайте «Запорожцев», но рядом заводите на мольберте
что-нибудь вроде остановителя казней. Почему нет группы кротких «щтун-
дистов» перед архимандритом консистории?.. У нас есть свои «Зеноны».
Отчего нет «Беседы в думском зале», где было бы несколько полковников
и оратор на кафедре?.. Ах!.. Чем это не сюжет, достойный вдумчивого
живописца с чистым сердцем и доброю совестью? Куда можно бы превзойти
«Пустосвята» Перова! И какие лица!.. И в уголке молчаливые штундисты,
и Л. Н., и Щавел] Щванович], и Ч[ерт]ков, и еще кое-кто... Это была бы во
всех отношениях настоящая патриотическая картина. Те бы «букваль-
ники» спорили, а эти бы молчали, но с ними был бы бог, в них бы
светилась правда.
Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. И, 1958г
стр. 414—416*
ПИСЬМО И. Е. РЕПИНУ
от 19 февраля 1889 года
Я не говорил, что «Запорожцы» — вещь безыдейная, и идейность ее
понимал точно так, как Вы ее изъясняете, однако идея идее рознь. Хорошо
сказать то, что говорят «Запорожцы», но идея «Св. Н<иколая>» пробой
выше. [...]
С Шишкиным очень рад познакомиться. Я люблю его задумчивые леса.
От того, чем заняты умы в обществе, нельзя не страдать, но всего хуже
понижение идеалов в литературе... На что Вы надеетесь,— я не понимаю.
Конечно, идеи пропасть не могут, но «соль обуяла», и ее надо выкинуть
вон. Литература у нас — есть «соль». Другого ничего нет, а она совсем
рассолилася. Если есть уменье писать гладко,— это еще ничего не стоит.
Я жду чего-нибудь идейного только от Фофанова, который мне кажется
органически честным, и хорошо чувствующим, и скромным.
Талантлив Чехов очень, но я не знаю, «коего он духа»... Нечто в нем
есть самомнящее и... как будто сомнительное. Впрочем, очень возможно,
что я ошибаюсь. Старый Глеб Успенский служит хорошо. Кто же еще?..
Кто на смену? Где критика? Кто до сих пор понял весь вред нигилизма,
игравшего в руку злодеям, имевшим подлые расчеты пугать царя
Александра II и мешать добрым и умным людям его времени?
Проклятое бесправие литературы мешает раскрыть каторжные
махинации ужасной реакции. Утешаться ровно нечем.
Там же, стр. 416—417.
520
л. H. ТОЛСТОЙ
1828-1910
Вопросы эстетики привлекали внимание Льва Николаевича Толстого в течение
всей его жизни. В дневниках, которые Толстой вел с юношеских лет, в его письмах
и записных книжках, публицистических статьях и трактатах, в специальных
работах по вопросам эстетики, в художественных произведениях содержатся
многочисленные суждения об искусстве и литературе, а также отзывы о многих писателях
и художниках и об отдельных произведениях.
В архиве писателя сохранился набросок статьи с характерным заглавием «Для
чего пишут люди?» Он относится к 1851 году, когда Толстой работал над повестью
«Детство». Вопрос, которому посвящена эта ранняя статья Толстого, явился одним
из основных в его эстетике. Писатель стремился ответить на него и в
педагогических статьях 60-х годов, где наряду с проблемами воспитания и образования
большое место заняли проблемы искусства и литературы. Тот же вопрос с большой
остротой был поставлен писателем в трактате «Так что же нам делать?» (1882—
1886), двадцать глав которого посвящены проблемам искусства и науки. На пего же
он отвечал циклом статей об искусстве, начатым в 1882 году «Письмом к Н. А.
Александрову» (редактору «Художественного журнала») и включившим в себя статьи
«Об искусстве» (1889), «О том, что есть и что не есть искусство, и о том, когда
искусство есть дело важное и когда оно есть дело пустое» (1889), «О науке и
искусстве» (1891), «О том, что называют искусством» (1896) и другие. Статьи, в
большинстве своем оставшиеся незаконченными, послужили подготовительными этюдами
для знаменитого трактата Толстого «Что такое искусство?», напечатанного в 1897—
1898 годах. Разработке эстетических проблем посвящены также статьи «О Шекспире
и о драме» (1906), «О Гоголе» (1909), предисловия к произведениям Мопассана,
Чехова, Поленца, Эртеля, художника Н. В. Орлова и в других работах.
Вопрос «Для чего пишут люди?», поставленный им в ранней статье, Толстой
позднее связал с другими вопросами, ставшими предметом его размышлений. Что
такое искусство? Каковы его роль и назначение в жизни людей? Какое искусство
следует признать настоящим, истинным, нужным людям? В чем состоят законы
подлинного творчества и чем отличается настоящее художественное мастерство от
всевозможных подделок под него? Каково положение искусства и литературы
в буржуазном обществе? Какими станут они в будущем обществе? — эти и многие
другие эстетические проблемы волновали великого писателя до конца его дней.
Проблема народа явилась основной в творчестве Толстого, а проблема
народности искусства и литературы стала центральной в его эстетике. С ее решением он
поставил в связь и свое решение всех других эстетических проблем.
Всматриваясь в многовековой путь, пройденный искусством, Толстой увидел
две главные тенденции: одна часть искусства развивалась в направлении все
большей его демократизации, а другая — все большей обособленности. По мысли
Толстого, неизбежным следствием появления в обществе антагонистических классов
явилось разделение искусства на «господское» и народное. «Наше утонченное
искусство,— заявил Толстой,— могло возникнуть только на рабстве народных масс
521
и может продолжаться только до тех пор, пока будет это рабство». Писатель был
убежден в том, что когда произойдет освобождение «рабов капитала» и они станут
«потребителями искусства», то «оно должно будет удовлетворять требованиям не
некоторых, находящихся в одинаковых и часто неестественных условиях людей,
а требованиям всех людей, больших масс людей, находящихся в естественных
трудовых условиях» К
Однако остро и справедливо критикуя «господское» искусство за его
антинародный характер, Толстой предложил считать критерием истинности искусства
«религиозное сознание своего времени». Руководствуясь этим критерием, он попытался
сделать «отбор» художественных произведений и нашел, что среди них лишь
немногие удовлетворяют требованиям религиозного искусства. Достаточно сказать,
что из своих произведений в список «образцов истинно-христианского» искусства
Толстой включает лишь два небольших рассказа: «Бог правду видит, да не скоро
скажет» и «Кавказский пленник». Уже один этот пример свидетельствует, что
эстетические взгляды Толстого противоречивы, как и все его мировоззрение.
В знаменитых статьях о Толстом В. И. Ленин вскрыл историческую почву, на
которой выросли «кричащие противоречия» взглядов и творчества великого
писателя, показал, в чем состоят сильные и слабые стороны его наследия.
Страстная защита интересов обездоленного трудового народа, несомненно,
обусловила сильные стороны эстетики Толстого. Громадный творческий опыт великого
художника-реалиста лег в основу суждений Толстого о таких эстетических
проблемах, как искусство и действительность, правдивость и идейность искусства, его
связи с современностью, взаимоотношения содержания и формы, художественное
мастерство и подлинное новаторство и т. д.
Искусство, как пишет Толстой в пятой главе своего эстетического трактата,,
является одним из средств общения между людьми, одним из условий человеческой
жизни. Толстой видит специфику искусства в его образности и в эмоциональной
силе его воздействия: искусство «заражает» людей теми чувствами, которые
испытал и выразил художник. Это определение специфики искусства неполно, но в том
же трактате Толстой существенно дополнил свое определение, говоря об искусстве
как художественном выражении мысли, которое было дано им в статье «Об
искусстве», предшествовавшей трактату.
[ИЗ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ]2
Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в томг
чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых
всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман,
которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на
все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой
1 Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 30, М., 1951, стр. 180.
2 Эти материалы приводятся по изд.: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочи«
нений в 90 томах, М.—Л., 1928—1963.
522
роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать
теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюбят
жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы.
Письмо П. Д. Боборыкину. (1865). Т. 61, стр. 100.
Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет,
греет и освещает.
Есть люди, которые чувствуют жар, другие теплоту, третьи видят
только свет, четвертые и света не видят. Большинство же — толпа — судьи
поэтов, не чувствуют жара и тепла, а видят только свет. И они и все
думают, что дело поэзии только освещать. Люди, которые так думают, сами
делаются писателями и ходят с фонарем, освещая жизнь. (Им,
естественно, кажется, что свет нужнее там, где темно и беспорядочно.) Другие
понимают, что дело в тепле, и они согревают искусственно то, что удобно
согревается (то и другое делают часто и настоящие поэты там, где огонь не
горит в них). Но настоящий поэт сам невольно и с страданьем горит и жжет
других. И в этом все дело.
Записная книжка. (1870). Т. 48, стр. 129.
Заметили ли и вы в наше время в мире русской поэзии связь между
двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении:
упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии, и
стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки,
живописи (и украшения) и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок,
а смерть с залогом возрождения в народности.
Письмо H. Н. Страхову. (1872). Т. 61, стр. 274.
Художник звука, линий, цвета, слова, даже мысли в страшном
положении, когда не верит в значительность выражения своей мысли.
Дневник. (1873). Т. 48, стр. 67.
Художественное произведение есть плод любви. Но любовь без дел
мертва. Сделайте дело любви, и мы полюбим то, что вы любите.
Письмо П. Д. Голохвастову. (1875). Т. 62, стр. 203.
Наука еще может ссылаться на свою глупую отговорку, что наука
действует для науки и что когда она разрабатывается учеными, она станет
доступною и народу; но искусство, если оно искусство,— должно быть
доступно всем, а в особенности тем, во имя которых оно делается. И наше
положение искусства поразительно обличает деятелей искусства в том,
что они не хотят, и не умеют, и не могут быть полезными народу.
Так что же нам делать? (1882—1886). Т. 25, стр. 356.
Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища и питье,
и одежда, даже необходимее.
Там же, стр. 364.
523
Я не только не отрицаю науку и искусство, но я только во имя того, что
есть истинная наука и истинное искусство, и говорю то, что я говорю.
Там же.
Положение людей науки и искусства привилегированное, потому, что
наука и искусство (в наше время) в нашем мире не есть вся та разумная
деятельность всего без исключения человечества, выделяющего свои
лучшие силы на служение науке и искусству, а деятельность маленького
кружка людей, имеющего монополию этих занятий и называющего себя
людьми науки и искусства и потому извративших самые понятия науки и:
искусства и потерявших смысл своего призвания и занятых только тем,
чтобы забавлять и спасать от удручающей скуки свой маленький кружок
дармоедов.
Там же, стр. 365.
Мыслитель и художник никогда не будет спокойно сидеть на
олимпийских высотах, как мы привыкли воображать, [...] он всегда вечно в тревоге
и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям,
избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так
изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может,
будет поздно,— он умрет. [...]
Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не
бывает.
Там же, стр. 373.
Все, что знает каждый из нас, начиная от знания счета и названия
предметов, и от уменья выражать интонациями голоса различные оттенки
чувств и понимать их, до самых сложных сведений, есть не что иное, как
накопление знаний, передававшихся от поколения к поколениям науками
и искусствами. Все, чем отличается жизнь человечества от жизни
животных, есть результат передачи знания, знание же передается науками и
искусствами. Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой
жизни.
Наука и искусство. (1891). Т. 30, стр. 238.
Решить вопрос о том, хорошо ли, добро ли то, что мы признаем наукой
и искусством, не шутка. Все воспитание молодых поколений основывается
на том, что мы признаем наукой и искусством.
Дневник. (1893). Т. 52, стр. 86.
Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художественное
произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те
же лица, потому что все построено на одной завязке или описывается
жизнь одного человека. Это несправедливо. Это только так кажется
поверхностному наблюдателю: центр, который связывает каждое художественное
524
произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения
жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного
нравственного отношения автора к предмету, В сущности, когда мы читаем или
созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос,
возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек?
И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне
сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы ни
изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев,— мы ищем и видим
только душу самого художника. Если же это старый, уже знакомый
писатель, то вопрос уже не в том, кто ты такой, а «ну-ка, что можешь ты
сказать мне еще нового? с какой новой стороны теперь ты осветишь мне
жизнь?» И потому писатель, который не имеет ясного, определенного к
нового взгляда на мир, и тем более тот, который считает, что этого даже
не нужно, не может дать художественного произведения. Он может много
и прекрасно писать, но художественного произведения не будет. [...]
Чтобы производить художественные произведения, неизбежно нужно
знать, что хорошо и что дурно.
Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана. (1893—
1894). Т. 30, стр. 18—19, 299.
Говорят: искусство естественно, птица поет. На то она птица. А
человек — человек — имеет высшие требования. Да и если он поет, как птица,
то он прекрасно делает, но если он собирает сотни музыкантов,
изуродованных людей, в своих консерваториях, которые в белых галстуках играют
непонятную симфонию, то он не может уже отговариваться птицей: он
тратит разум, данный ему для высших целей, на подражание — и
неудачное — птице.
Дневник. (1894). Т. 52, стр. 122.
Искусство есть умение изображать то, что должно быть, то, к чему
должны стремиться все люди, что дает людям наибольшее благо.
Изобразить это можно только образами.
Там же, стр. 147.
Наука, искусство, все прекрасно, но только при братской жизни они
будут другие. А то, чтобы была братская жизнь, нужнее того, чтобы наука
и искусство оставались такими, какими они (стали) теперь.
Дневник. (1895). Т. 53, стр. 45.
Истинное художественное произведение — заразительное —
производится только тогда, когда художник ищет — стремится. В поэзии эта
страсть к изображению того, что есть, происходит оттого, что художник
надеется, ясно увидев, закрепив то, что есть, понять смысл того, что есть.
Дневник. (1896). Т. 53, стр. 77.
525
Ни в чем так не вредит консерватизм, как в искусстве.
Искусство есть одно из проявлений духовной жизни человека, и потому,
как, если животное живо, оно дышит, выделяет продукт дыхания, так, если
человечество живо, оно проявляет деятельность искусства. И потому в
каждый данный момент оно должно быть современное — искусство нашего
времени. Только надо знать, где оно. (Не в декадентах музыки, поэзии,
романа.) Но искать его надо не в прошедшем, а в настоящем. Люди,
желающие себя показать знатоками искусства и для этого восхваляющие
прошедшее искусство — классическое и бранящие современное,— этим только
показывают, что они совсем не чутки к искусству.
Там же, стр. 81.
Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та,
чтобы понять, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны,
которые нельзя высказать простым словом. От этого и искусство. Искусство
есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и
показывает эти общие всем тайны людям.
Там же, стр. 94.
Утонченность и сила искусства почти всегда диаметрально
противоположны. [...]
Идеал всякого искусства, к которому оно должно стремиться, это
общедоступность, а они, особенно теперь музыка, лезет в утонченность.
Там же, стр. 112.
Нельзя говорить про произведение искусства: вы не понимаете еще.
Если не понимают, значит, произведение искусства не хорошо, потому что
задача его в том, чтобы сделать понятным то, что непонятно.
Там же, стр. 117.
Эстетика есть выражение этики, то есть по-русски: искусство выражает
те чувства, которые испытывает художник. Если чувства хорошие,
высокие, то искусство будет хорошее, высокое, и наоборот. Если художник
нравственный человек, то и искусство его будет нравственным, и наоборот.
Там же, стр. 119.
Искусство, становясь все более и более исключительным, удовлетворяет
все меньшему и меньшему кружку людей, становясь все более и более
эгоистичным, дошло до безумия — так как сумасшествие есть только
дошедший до последней степени эгоизм. Искусство дошло до крайней
степени эгоизма и сошло с ума.
Там же, стр. 122.
Поэзия народная всегда отражала, и не только отражала,
предсказывала, готовила народные движения — крестовые походы, реформации. Что
526
может предсказать, подготовить поэзия нашего паразитского кружка?..—
любовь, разврат; разврат, любовь.
[...] Народная поэзия, музыка, вообще искусство иссякло, потому что
все даровитое переманивалось подкупами в скоморохов богатых и знатных:
камерная музыка, оперы, оды...
Там же, стр. 126.
Во всех искусствах — борьба христианского с языческим. Христианство
начинает побеждать и набегает новая волна 15-го века — возрождения, и
только теперь, в конце 19-го, опять поднимается христианство, и
язычество, в виде декадентства— дойдя до последней степени бессмыслия,
уничтожается.
Там же.
Современному искусству все меньше и меньше интересны требования
рабочей толпы, все делается и пишется для сверхчеловеков, для высшего,
утонченного типа праздного человека.
О том, что называют искусством. (1896). Т. 30,
стр. 256.
Все усилия художника должны быть направлены на то, чтобы быть
понятным всем.
Там же, стр. 267.
Эстетическое и этическое — два плеча одного рычага: насколько
удлиняется и облегчается одна сторона, настолько укорачивается и тяжелеет
другая сторона. Как только человек теряет нравственный смысл, так он
делается особенно чувствителен к эстетическому.
Дневник. (1897). Т. 53, стр. 150.
Во всех областях человеческой духовной деятельности много суеверий,
но нигде больше, чем в искусстве, и суеверий глупых до смешного, когда
разберешь их и освободишься от них.
Письмо В. В. Стасову. (1897). Т. 70, стр. 122.
Я говорю, что определение красоты как наслаждения неточно, потому
что включает в себя много наслаждений, которых мы не можем, по смыслу
слова, признать красотой. Что же тут неясного? Вы говорите, что это
определение красоты сходится с тем, которое я даю. Но я не даю никакого, а,
напротив, стараюсь доказать, что такого определения не может быть, так
как дело сводится к бесконечно разнообразному вкусу. Также не понял
Ваше замечание насчет русского слова красота. Мне казалось, что я
высказал ясно, что слово красота правильно может употребляться только по
отношению того, что приятно зрению. Вот и все.
527
[...] Дурным искусством я называю то, которое доступно только
некоторым избранным, как и всякое такое искусство, доступное только
исключительным людям, я называю дурным искусством.
Письмо Э. Мооду. (1897). Т. 70, стр. 193—196.
Искусство, в особенности драматическое искусство, [...] всегда было
религиозное, то есть имело целью вызвать в людях уяснение того
отношения к богу, до которого достигли в известное время передовые люди того
общества людей, в котором проявилось искусство.
О Шекспире и о драме. (1903—1904). Т. 35.
Вы требуете для искусства духовного содержания, а в том-то и есть
религия, чтобы во всем видеть и искать духовное содержание.
Письмо В. В. Стасову. (1905). Т. 76, стр. 69.
Искусство есть одно из самых могущественных средств внушения.
А так как внушено может быть и порочное (и порочное всегда легче
внушается) и хорошее, то ни перед какими способами внушения не надо быть
более настороже, как перед внушением искусства.
«Круг чтения». (1904—1908). Т. 41, стр. 137.
Произведение искусства только тогда истинное произведение искусства,
когда, воспринимая его, человеку кажется — не только кажется, но
человек испытывает чувство радости о том, что он произвел такую прекрасную
вещь. Особенно сильно это в музыке.— Ни на чем, как на этом, не видно
так главное значение искусства, значение объединения. «Я» художника
сливается с «я» всех воспринимающих, сливающихся в одно.
Дневник. (1908). Т. 57, стр. 132.
Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает
желание того, чтобы все, как можно больше людей, участвовали в
испытываемом наслаждении. Ничто сильнее этого не показывает истинного значения
искусства: переносишься в других, хочется чувствовать через них.
Дневник. (1910). Т. 58, стр. 112.
ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?
(1897-1898)
[...] Искусство во всех видах граничит, с одной стороны, с практически
полезным, с другой -— с неудачными попытками искусства. Как отделить
искусство от того и другого? — [·. J
Предполагается, что то, что разумеется под словом красота, всем
известно и понятно. А между тем это не только неизвестно, но после того, как
об этом предмете в течение 150 лет — с 1750 г., времени основания эсте-
528
тики Баумгартеном — написаны горы книг самыми учеными и
глубокомысленными людьми, вопрос о том, что такое красота, до сих пор остается
совершенно открытым и с каждым новым сочинением по эстетике решается
новым способом. [...]
Объективного определения красоты нет; существующие же
определения, как метафизическое, так и опытное, сводятся к субъективному
определению и, как ни странно сказать, к тому, что искусством считается то, что
проявляет красоту; красота же есть то, что нравится (не возбуждая
вожделения). Многие эстетики чувствовали недостаточность и шаткость такого
определения и, чтобы обосновать его, спрашивали себя, почему — что
нравится, и вопрос о красоте переводили на вопрос о вкусе, как это делали
Гутчисон, Вольтер, Дидро и другие. Но все попытки определения того, что
есть вкус, как может видеть читатель и из истории эстетики и из опыта, не
могут привести ни к чему, и объяснения того, почему одно нравится
одному и не нравится другому и наоборот, нет и не может быть. Так что вся
существующая эстетика состоит не в том, чего можно бы ждать от
умственной деятельности, называющей себя наукой,— именно в том, чтоб
определить свойства и законы искусства или прекрасного, если оно есть
содержание искусства, или свойства вкуса, если вкус решает вопрос об искусстве
и о достоинстве его, и потом на основании этих законов признавать
искусством те произведения, которые подходят под эти законы, и откидывать
те, которые не подходят под них,— а состоит в том, чтобы, раз признав
известный род произведений хорошими, потому что они нам нравятся,
составить такую теорию искусства, по которой все произведения, которые
нравятся известному кругу людей, вошли бы в эту теорию, [...]
Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 30,
1951, стр. 34, 37, 58—59.
Для того чтобы определить какую-либо человеческую деятельность,
надо понять смысл и значение ее. Для того же чтобы понять смысл и
значение какой-либо человеческой деятельности, необходимо прежде всего
рассматривать эту деятельность саму в себе, в зависимости от ее причин
и последствий, а не по отношению только того удовольствия, которое мы
от нее получаем.
Если же мы признаем, что цель какой-либо деятельности есть только
наше наслаждение, и только по этому наслаждению определяем ее, то,
очевидно, определение это будет ложно. Это самое и произошло в определении
искусства. [...]
[...] Красота, или то, что нам нравится, никак не может служить
основанием определения искусства, и ряд предметов, доставляющих нам
удовольствие, никак не может быть образцом того, чем должно быть искусство.
Видеть цель и назначение искусства в получаемом нами от него
наслаждении — все равно, что приписывать, как это делают люди, стоящие
на самой низшей степени нравственного развития (дикие, например),
цель и значение пищи в наслаждении, получаемом от принятия ее.
529
Точно так же как люди, считающие, что цель и назначение пищи есть
наслаждение, не могут узнать настоящего смысла еды, так и люди,
считающие целью искусства наслаждение, не могут узнать его смысла и
назначения, потому что они приписывают деятельности, имеющей свой смысл
в связи с другими явлениями жизни, ложную и исключительную цель
наслаждения. Люди поняли, что смысл еды есть питание тела, только тогда,
когда они перестали считать целью этой деятельности наслаждение. То же
и с искусством. Люди поймут смысл искусства только тогда, когда
перестанут считать целью этой деятельности красоту, то есть наслаждение.
Признание целью искусства красоты или известного рода наслаждения,
получаемого от искусства, не только не содействует определению того, что
есть искусство, но, напротив, переводя вопрос в область совершенно
чуждую искусству — в метафизические, психологические, физиологические и
даже исторические рассуждения о том, почему такое-то произведение
нравится одним, а такое не нравится или нравится другим, делает это
определение невозможным. [...]
Для того чтобы точно определить искусство, надо прежде всего
перестать смотреть на него как на средство наслаждения, а рассматривать
искусство как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая же так
искусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств
общения людей между собой.
Всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий
вступает в известного рода общение с производившим или производящим
искусство и со всеми теми, которые одновременно с ним или после его
восприняли или воспримут то же художественное впечатление.
Как слово, передающее мысли и опыты людей, служит средством
единения людей, так точно действует и искусство. Особенность же этого
средства общения, отличающая его от общения посредством слова, состоит
в том, что словом один человек передает другому свои мысли, искусством
же люди передают другу другу свои чувства.
Деятельность искусства основана на том, что человек, воспринимая
слухом или зрением выражения чувства другого человека, способен
испытывать то же самое чувство, которое испытал человек, выражающий свое
чувство.
Самый простой пример: человек смеется — и другому человеку
становится весело; плачет — человеку, слышащему этот плач, становится
грустно; человек горячится, раздражается, а другой, глядя на него, приходит
в то же состояние. Человек высказывает своими движениями, звуками
голоса бодрость, решительность или, напротив, уныние, спокойствие,—
и настроение это передается другим. Человек страдает, выражая стонами
и корчами свое страдание,— и страдание это передается другим; человек
высказывает свое чувство восхищения, благоговения, страха, уважения
к известным предметам, лицам, явлениям,— и другие люди заражаются,
испытывают те же чувства восхищения, благоговения, страха, уважения
к тем же предметам, лицам, явлениям.
530
Вот на этой-то способности людей заражаться чувствами других людей
и основана деятельность искусства.
Если человек заражает другого и других прямо непосредственно своим
видом или производимыми им звуками в ту самую минуту, как он
испытывает чувство, заставляет другого человека зевать, когда ему самому
зевается, или смеяться, или плакать, когда сам чему-либо смеется или плачет, или
страдать, когда сам страдает, то это еще не есть искусство.
Искусство начинается, когда человек с целью передать другим людям
испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними
знаками выражает его.
Так, самый простой случай: мальчик, испытавший, положим, страх от
встречи с волком, рассказывает эту встречу и, для того чтобы вызвать
в других испытанное им чувство, изображает себя, свое состояние перед
этой встречей, обстановку, лес, свою беззаботность и потом вид волка, его
движения, расстояние между ним и волком и т. п. Все это, если мальчик
вновь при рассказе переживает испытанное им чувство, заражает
слушателей и заставляет их пережить все, что и пережил рассказчик,— есть
искусство. Если мальчик и не видел волка, но часто боялся его и, желая
вызвать чувство испытанного им страха в других, придумал встречу с
волком и рассказывал ее так, что вызвал своим рассказом то же чувство в
слушателях, какое он испытывал, представляя себе волка,—то это тоже
искусство. Точно так же будет искусство то, когда человек, испытав в
действительности или в воображении ужас страдания или прелесть наслаждения,
изобразил на полотне или мраморе эти чувства так, что другие заразились
ими. И точно так же будет искусство, если человек испытал или вообразил
себе чувство веселья, радости, грусти, отчаяния, бодрости, уныния и пере-
ходы этих чувств одного в другое и изобразил звуками эти чувства так, что
слушатели заражаются ими и переживают их так же, как он переживал их.
Чувства, самые разнообразные, очень сильные и очень слабые, очень
значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень хорошие, если
только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет
искусства. Чувство самоотречения и покорности судьбе или богу,
передаваемое драмой; или восторга влюбленных, описываемое в романе; или
чувство сладострастия, изображенное на картине, или бодрости, передаваемой
торжественным маршем в музыке; или веселья, вызываемого пляской; или
комизма, вызываемого смешньщ анекдотом; или чувство тишины,
передаваемое вечерним пейзажем или убаюкивающею песней,— все это
искусство.
Как только зрители, слушатели заражаются тем же чувством, которое
испытывал сочинитель, это и есть искусство.
Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе,
посредством движений, линий, звуков, образов, выраженных словами, передать
это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство,— в этом состоит
деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая,
состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками
531
передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются
этими чувствами и переживают их.
Искусство не есть, как это говорят метафизики, проявлением какой-то
таинственной идеи, красоты, бога; не есть, как это говорят
эстетики-физиологи, игра, в которой человек выпускает излишек накопившейся энергии;
не есть проявление эмоций внешними знаками; не есть производство
приятных предметов, главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для
жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества
средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах.
Как благодаря способности человека цонимать мысли, выраженные
словами, всякий человек может узнать все то, что в области мысли сделало
для него все человечество, может в настоящем благодаря способности
понимать чужие мысли стать участником деятельности других людей и сам
благодаря этой способности может передать усвоенные от других и свои,,
возникшие в нем, мысли современникам и потомкам; так точно и
благодаря способности человека заражаться посредством искусства чувствами
других людей ему делается доступно в области чувства все то, что
пережило до него человечество, делаются доступны, чувства, испытываемые
современниками, чувства, пережитые другими людьми тысячи лет назад,
и делается возможной передача своих чувств другим людям.
Не будь у людей способности воспринимать все те переданные словами
мысли, которые были передуманы прежде жившими людьми, и передавать
другим свои мысли, люди были бы подобны зверям или Каспару Гаузеру.
Не будь другой способности человека — заражаться искусством, люди
едва ли бы не были еще более дикими и, главное, разрозненными и
враждебными.
И потому деятельность искусства есть деятельность очень важная, как
деятельность речи, и столь же распространенная.
Как слово действует на нас не только проповедями, речами и книгами,
а всеми теми речами, которыми мы передаем друг другу наши мысли и
опыты, так и искусство в обширном смысле слова проникает всю нашу
жизнь, и мы только некоторые проявления этого искусства называем
искусством в тесном смысле этого слова.
Мы привыкли понимать под искусством только то, что мы читаем,
слышим и видим в театрах, концертах и на выставках, здания, статуи, поэмы>
романы... Но все это есть только самая малая доля того искусства, которым
мы в жизни общаемся между собой. Вся жизнь человеческая наполнена
произведениями искусства всякого рода, от колыбельной песни, шутки,
передразнивания, украшений жилищ, одежды, утвари до церковных служб,
торжественных шествий. Все это деятельность искусства. Так что
называем мы искусством в тесном смысле этого слова не всю деятельность
людскую, передающую чувства, а только такую, которую мы почему-нибудь
выделяем из всей этой деятельности и которой придаем особенное значение.
Такое особенное значение придавали всегда все люди той части этой
деятельности, которая передавала чувства, вытекающие из религиозного
532
сознания людей, и эту-то малую часть всего искусства называли
искусством в полном смысле слова.
Так смотрели на искусство люди древности: Сократ, Платон,
Аристотель. Так же смотрели на искусство и пророки еврейские, и древние
христиане; так же понималось оно и понимается магометанами и так же
понимается религиозными людьми народа в наше время.
Некоторые учителя человечества, как Платон в своей «Республике»,
и первые христиане, и строгие магометане, и буддисты часто даже
отрицали всякое искусство.
Люди, смотрящие так на искусство в противоположность нынешнему
взгляду, по которому считается всякое искусство хорошим, как скоро оно
доставляет наслаждение, считали и считают, что искусство, в
противоположность слову, которое можно не слушать, до такой степени опасно
тем, что оно заражает людей против их воли, что человечество гораздо
меньше потеряет, если всякое искусство будет изгнано, чем если будет
допущено какое бы то ни было искусство.
Такие люди, отрицавшие всякое искусство, очевидно, были неправы,
потому что отрицали то, чего нельзя отрицать,— одно из необходимых
средств общения, без которого не могло бы жить человечество. Но не менее
неправы люди нашего европейского цивилизованного общества, круга и
времени, допуская всякое искусство, лишь бы только оно служило красоте,
то есть доставляло удовольствие. [...]
Τ а м ж е, стр. 60—61, 63—67.
Добро, красота и истина ставятся на одну высоту, и все эти три понятия
признаются основными и метафизическими. Между тем в действительности
нет ничего подобного.
Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали
добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру, то есть
к богу.
Добро есть действительно понятие основное, метафизически
составляющее сущность нашего сознания, понятие, не определяемое разумом.
Добро есть то, что никем не может быть определено, но что определяет
все остальное.
Красота же, если мы не довольствуемся словами, а говорим о том, что
понимаем,— красота есть не что иное, как то, что нам нравится.
Понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее
противоположно ему, так как добро большею частью совпадает с победой над
пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий.
Чем больше мы отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от добра.
Я знаю, что на это всегда говорят о том, что красота бывает нравственная
и духовная, но это только игра слов, потому что под красотой духовной или
нравственной разумеется не что иное, как добро. Духовная красота, или
добро, большею частью не только не совпадает с тем, что обыкновенно
разумеется под красотой; но противоположна ему.
533
Что же касается до истины, то еще менее можно приписать этому члену
воображаемой троицы не только единство с добром или красотой, но даже
какое-либо самостоятельное существование.
Истиной мы называем только соответствие выражения или определения
предмета с его сущностью, или со всеобщим, всех людей, пониманием
предмета. Что же общего между понятиями красоты и истины, с одной стороны,
и добра — с другой?
Понятие красоты и истины не только не понятия равные добру, не
только не составляют одной сущности с добром, но даже не совпадают с ним.
Истина есть соответствие выражения с сущностью предмета и потому
есть одно из средств достижения добра, но сама по себе истина не есть ни
добро, ни красота и даже не совпадает с ними.
Так, например, Сократ и Паскаль, да и многие другие, считали
познания истины о предметах ненужных несогласными с добром. С красотою же
истина не имеет даже ничего общего и большей частью противоположна
ей, потому что истина, большею частью разоблачая обман, разрушает
иллюзию, главное условие красоты.
И вот произвольное соединение этих трех несоизмеримых и чуждых
друг другу понятий в одно послужило основанием той удивительной
теории, по которой стерлось совершенно различие между хорошим,
передающим добрые чувства, и дурным, передающим злые чувства, искусством;
и одно из низших проявлений искусства, искусство только для
наслаждения,— то, против которого предостерегали людей все учители
человечества,— стало считаться самым высшим искусством. И искусство стало не
тем важным делом, которым оно и предназначено быть, а пустой забавой
праздных людей. [...]
Искусство, которым мы обладаем, есть все искусство, настоящее,
единственное искусство, а между тем не только две трети человеческого рода,
все народы Азии, Африки, живут и умирают, не зная этого единственного
высшего искусства, но, мало этого, в нашем христианском обществе едва
ли одна сотая всех людей пользуется тем искусством, которое мы называем
всем искусством; остальные же 0,99 наших же европейских народов
поколениями живут и умирают в напряженной работе, никогда не вкусив этого
искусства, которое притом таково, что если бы они и могли воспользоваться
им, то ничего не поняли бы из него. Мы, по исповедуемой нами теории
эстетики, признаем, что искусство есть или одно из высших проявлений
идеи, бога, красоты, или есть высшее духовное наслаждение; кроме того,
мы признаем, что все люди имеют равные права если уже не на
материальные, то на духовные блага, а между тем 0,99 наших европейских людей,
поколение за поколением, живут и умирают в напряженном труде,
необходимом для производства нашего искусства, не пользуясь им, и мы все-
таки спокойно утверждаем, что искусство, которое мы производим, есть
настоящее, истинное, единственное, все искусство.
На замечание о том, что если наше искусство есть истинное искусство,
то весь народ должен бы был пользоваться им, обыкновенно возражают
534
тем, что если теперь не все пользуются существующим искусством, то в
этом виновато не искусство, а ложное устройство общества; что можно
представить себе в будущем то, что труд физический будет отчасти
заменен машинами, отчасти облегчен правильным распределением его и что
работа для произведения искусства будет чередоваться; что нет надобности
одним постоянно сидеть под сценой, двигая декорации, поднимать машины
и работать фортепиано и валторны, и набирать и печатать книги, а что и те,
которые все это работают, могут работать малое число часов в день, в
свободное же время пользоваться всеми благами искусства.
Так говорят защитники нашего исключительного искусства, но я думаю,
что они »сами не верят в то, что говорят, потому что они не могут не знать
и того, что наше утонченное искусство могло возникнуть только на рабстве
народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока будет это
рабство,— и того, что только при условии напряженного труда рабочих
специалисты — писатели, музыканты, танцоры, актеры — могут доходить
до той утонченной степени совершенства, до которой они доходят, и могут
производить свои утонченные произведения искусства, и что только при
этих условиях может быть утонченная публика, ценящая эти
произведения. Освободите рабов капитала, и нельзя будет производить такого
утонченного искусства.
Но если и допустить недопустимое, что могут быть найдены такие
приемы, при которых искусством — тем искусством, которое у нас считается
искусством,— будет возможно пользоваться всему народу, то
представляется другое соображение, по которому теперешнее искусство не может
быть всем искусством, а именно то, что оно совершенно непонятно для
народа. Прежде писали произведения поэтические на латинском языке, но
теперешние произведения искусства так же непонятны народу, как если бы
они были писаны по-санскритски. [...]
Там же, стр. 78—80, 81—83.
Как только искусство высших классов выделилось из всенародного
искусства, так явилось убеждение о том, что искусство может быть
искусством и вместе с тем быть непонятно массам. А как только было допущено
это положение, так неизбежно надо было допустить, что искусство может
быть понятным только для самого малого числа избранных и только для
двух или одного — лучшего своего друга — самого себя. Так и говорят
прямо теперешние художники: «я творю и понимаю себя, а если кто не
понимает меня, тем хуже для него».
Утверждение о том, что искусство может быть хорошим искусством,
а между тем быть непонятным большому количеству людей, до такой
степени несправедливо, последствия его до такой степени пагубны для
искусства и вместе с тем так распространено, так въелось в наше представление,
что нельзя достаточно разъяснить всю неспособность его.
Нет ничего обыкновеннее, как то, чтобы слышать про мнимые
произведения искусства, что они очень хороши, но что очень трудно понять их·
535
Мы привыкли к такому утверждению, а между тем сказать, что
произведение искусства хорошо, но непонятно, все равно, что сказать про какую-
нибудь пищу, что она очень хороша, но люди не могут есть ее. Люди могут
не любить гнилой сыр, протухлых рябчиков и т. п. кушаний, ценимых
гастрономами с извращенным вкусом, но хлеб, плоды хороши только тогда,
когда они нравятся людям. То же с искусством: извращенное искусство
может быть непонятно людям, но хорошее искусство всегда понятно
всем.
Говорят, что самые лучшие произведения искусства таковы, что не могут
быть поняты большинством и доступны только избранным, подготовленным
к пониманию этих великих произведений. Но если большинство не
понимает, то надо растолковать ему, сообщить ему те знания, которые нужны
для понимания. Но оказывается, что таких знаний нет, и растолковать
произведения нельзя, и потому те, которые говорят, что большинство не
понимает хороших произведений искусства, не дают разъяснений, а
говорят, что для того, чтобы понять, надо читать, смотреть, слушать еще и еще
раз те же произведения. Но это значит не разъяснять, а приучать. А
приучить можно ко всему, и к самому дурному. Как можно приучить людей
к гнилой пище, к водке, табаку, опиуму, так можно приучить людей к
дурному искусству, что, собственно, и делается.
Кроме того, нельзя говорить, что большинство людей не имеет вкуса
для оценки высших произведений искусства. Большинство всегда понимало
и понимает то, что и мы считаем самым высоким искусством:
художественно простые повествования Библии, притчи Евангелия, народную легенду,
сказку, народную песню все понимают. Почему же большинство вдруг
лишилось способности понимать высокое в нашем искусстве?
Про речь можно сказать, что она прекрасна, но непонятна тем, которые
не знают языка, на котором она произнесена. Речь, произнесенная по-
китайски, может быть прекрасна и оставаться для меня непонятною, если
я не знаю по-китайски, но произведение искусства тем и отличается от
всякой другой духовной деятельности, что его язык понятен всем, что оно
заражает всех без различия. Слезы, смех китайца заразят меня точно
так же, как смех, слезы русского, точно так же и живопись и музыка
и поэтическое произведение, если оно переведено на понятный мне язык.
Песня киргиза и японца хотя и слабее, чем самого киргиза и японца, но
трогает меня. Так же трогает меня японская живопись и индейская
архитектура и арабская сказка. Если меня мало трогает песня японца и роман
китайца, то не потому, что я не понимаю этих произведений, а потому, что
я знаю и приучен к предметам искусства более высоким, а никак не потому,
что это искусство выше меня. Великие предметы искусства только потому
и велики, что они доступны и понятны всем. История Иосифа,
переведенная на китайский язык, трогает китайцев. История Сакиа-Муни трогает
нас. Такие же есть здания, картины, статуи, музыка. И потому если
искусство не трогает, то нельзя говорить, что это происходит от непонимания
536
зрителем и слушателем, а можно и должно заключить из этого только то,
что это или дурное искусство, или вовсе не искусство.
Искусство тем-то и отличается от рассудочной деятельности, требующей
подготовления и известной последовательности знаний (так что нельзя
учить тригонометрии человека, не знающего геометрии), что искусство
действует на людей независимо от их степени развития и образования, что
прелесть картины, звуков, образов заражает всякого человека, на какой бы
он ни находился степени развития.
Дело искусства состоит именно в том, чтобы делать понятным и
доступным то, что могло быть непонятно и недоступно в виде рассуждений.
Обыкновенно, получая истинно художественное впечатление, получающему
кажется, что он это знал и прежде, но только не умел высказать.
И таким было всегда хорошее, высшее искусство: Илиада, Одиссея,
история Иакова, Исаака, Иосифа, и пророки еврейские, и псалмы, и
евангельские притчи, и история Сакиа-Муни, и гимны Ведов — передают очень
высокие чувства и, несмотря на то, вполне понятны нам теперь,
образованным и необразованным, и были понятны тогдашним, еще менее, чем наш
рабочий народ, образованным людям. Говорят о непонятности. Но если
искусство есть передача чувств, вытекающих из религиозного сознания
людей, то как же может быть непонятно чувство, основанное на религии,
то есть на отношении человека к богу? Такое искусство должно быть и
действительно было всегда всем понятно, потому что отношение всякого
человека к богу одно и то же. И потому и храмы, и изображения и пение
в них всегда всем были понятны. [...]
Там же, стр. 107—110.
Очень часто говорят, что произведение искусства очень хорошо, потому
что оно поэтично или реалистично, или эффектно, или интересно, тогда
как ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не только не могут быть
мерилом достоинства искусства, но не имеют ничего общего с ним.
Поэтично — значит, заимствовано. Всякое же заимствование есть
только наведение читателей, зрителей, слушателей на некоторое смутное
воспоминание о тех художественных впечатлениях, которые они получали от
прежних произведений искусства, а не заражение тем чувством, которое
испытал сам художник. Произведение, основанное на заимствовании, как,
например, «Фауст» Гёте, может быть очень хорошо обделано, исполнено
ума и всяких красот, но оно не может произвести настоящего
художественного впечатления, потому что лишено главного свойства произведения
искусства — цельности, органичности, того, чтобы форма и содержание
составляли одно неразрывное целое, выражающее чувство, которое
испытал художник. В заимствовании художник передает только то чувство,
которое ему было передано произведением прежнего искусства, и потому
всякое заимствование целых сюжетов или различных сцен, положений,
описаний есть только отражение искусства, подобие его, а не искусство. И
потому сказать про такое произведение, что оно хорошо, потому что поэтично,
537
то есть похоже на произведение искусства, все равно, что сказать про
монету, что она хорошая, потому что похожа на настоящую. Так же мало
подражательность, реалистичность, как это думают многие, может быть
мерилом достоинства искусства. Подражательность не может быть мерилом
достоинства искусства, потому что, если главное свойство искусства есть
заражение других тем чувством, которое испытывает художник, то
заражение чувством не только не совпадает с описанием подробностей
передаваемого, но большею частью нарушается излишком подробностей.
Внимание воспринимающего художественные впечатления развлекается
всеми этими хорошо подмеченными подробностями, и из-за них не
передается, если оно и есть, чувство автора.
Ценить произведение искусства по степени его реалистичности,
правдивости переданных подробностей так же странно, как судить о
питательности пищи но внешнему виду ее. Когда мы реалистичностью определяем
ценность произведения, мы этим показываем только то, что говорим не о
произведении искусства, а о подделке под него. [...]
Для того чтобы человек мог произвести истинный предмет искусства,
нужно много условий. Нужно, чтобы человек этот стоял на уровне высшего
для своего времени миросозерцания, чтобы он пережил чувство и имел
желание и возможность передать его и при этом еще имел талантливость
к какому-либо роду искусства. Все эти условия, нужные для произведений
истинного искусства, очень редко соединяются. Для того же чтобы
производить с помощью выработавшихся приемов: заимствования,
подражательности, эффектности и занимательности, подобия искусства, которые в
нашем обществе хорошо вознаграждаются, нужно только иметь талант в
какой-нибудь области искусства, что встречается очень часто. Талантом
я называю способность: в словесном искусстве — легко выражать свои
мысли и впечатления и подмечать и запоминать характерные подробности;
в пластическом искусстве — способность различать, запоминать и
передавать линии, формы, краски; в музыкальном — способность отличать
интервалы, запоминать и передавать последовательность звуков. Как только
в наше время человек имеет такой талант, так, научившись технике и
приемам подделки своего искусства, он может, если у него атрофировано
эстетическое чувство, которое сделало бы ему противными его произведения,
и если у него есть терпение, уже не переставая, до конца дней своих
сочинять произведения, считающиеся в нашем обществе искусством. [...]
Там же, стр. 116—117, 119.
В нашем обществе искусство до такой степени извратилось, что не
только искусство дурное стало считаться хорошим, но потерялось и самое
понятие о том, что есть искусство, так что для того, чтобы говорить об
искусстве нашего общества, нужно прежде всего выделить настоящее искусство
от поддельного.
Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один
несомненный — заразительность искусства. Если человек без всякой дея-
538
тельности со своей стороны и без всякого изменения своего положения,
прочтя, услыхав, увидав произведение другого человека, испытывает
состояние души, которое соединяет его с этим человеком и другими, так же,
как и он, воспринимающими предмет искусства людьми, то предмет,
вызвавший такое состояние, есть предмет искусства. Как бы ни был
поэтичен, похож на настоящий, эффектен или занимателен предмет, он не
предмет искусства, если он не вызывает в человеке того, совершенно
особенного от всех других, чувства радости, единения душевного с другим
(автором) и с другими (с слушателями или зрителями),
воспринимающими то же художественное произведение.
Правда, что признак этот внутренний и что люди, забывшие про
действие, производимое настоящим искусством, и ожидающие от искусства
чего-то совсем другого,— а таких среди нашего общества огромное
большинство,— могут думать, что то чувство развлечения и некоторого
возбуждения, которое они испытывают при подделках под искусство, и есть
эстетическое чувство, и хотя людей этих разубедить нельзя, так же как
нельзя разубедить больного дальтонизмом в том, что зеленый цвет не есть
красный, тем не менее признак этот для людей с неизвращенным и
неатрофированным относительно искусства чувством остается вполне
определенным и ясно отличающим чувство, производимое искусством, от всякого
другого.
Главная особенность этого чувства в том, что воспринимающий до
такой степени сливается с художником, что ему кажется, что
воспринимаемый им предмет сделан не кем-либо другим, а им самим, и что все то, что
выражается этим предметом, есть то самое, что так давно уже ему
хотелось выразить. Настоящее произведение искусства делает то, что в
сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником,
и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми,
которые воспринимают то же произведение искусства. В этом-то
освобождении личности от своего отделения от других людей, от своего
одиночества, в этом-то слиянии личности с другими и заключается главная
привлекательная сила и свойство искусства.
Испытывает человек это чувство, заражается тем состоянием души,
в котором находится автор, и чувствует свое слияние с другими людьми, то
предмет, вызывающий это состояние, есть, искусство; нет этого заражения,
нет слияния с автором и с воспринимающими произведение,— и нет
искусства. Но мало того, что заразительность есть несомненный признак
искусства, степень заразительности есть и единственное мерило достоинства
искусства.
Чем сильнее заражение, тем лучше искусство как искусство, не говоря
о его содержании, то есть независимо от достоинства тех чувств, которые
оно передает.
Искусство же становится более или менее заразительно вследствие трех
условий: 1) вследствие большей или меньшей особенности того чувства,
которое передается; 2) вследствие большей или меньшей ясности
539
передачи этого чувства и 3) вследствие искренности художника, то есть
большей или меньшей силы, с которой художник сам испытывает
чувство, которое передает.
Чем особеннее передаваемое чувство, тем оно сильнее действует на
воспринимающего. Воспринимающий испытывает тем большее
наслаждение, чем особеннее то состояние души, в которое он переносится, и потому
тем охотнее и сильнее сливается с ним.
Ясность же выражения чувства содействует заразительности, потому
что, в сознании своем сливаясь с автором, воспринимающий тем более
удовлетворен, чем яснее выражено то чувство, которое, как ему кажется,
он уже давно знает и испытывает и которому теперь только нашел
выражение.
Более же всего увеличивается степень заразительности искусства
степенью искренности художника. Как только зритель, слушатель, читатель
чувствует, что художник сам заражается своим произведением и пишет,
поет, играет для себя, а не только для того, чтобы воздействовать на
других, такое душевное состояние художника заражает воспринимающего,
и наоборот: как только зритель, читатель, слушатель чувствует, что автор
не для своего удовлетворения, а для него, для воспринимающего, пишет,
ноет, играет и не чувствует сам того, что хочет выразить, так является
отпор, и самое особенное, новое чувство, и самая искусная техника не
только не производят никакого впечатления, но отталкивают.
Я говорю о трех условиях заразительности и достоинства искусства,
в сущности же условие есть только одно последнее, то, чтобы художник
испытывал внутреннюю потребность выразить передаваемое им чувство.
Условие это заключает в себя первое, потому что если художник искренен,
то он выскажет чувство так, как он воспринял его. А так как каждый
человек не похож на другого, то и чувство это будет особенно для всякого
другого и тем особеннее, чем глубже зачерпнет художник, чем оно будет
задушевнее, искреннее. Эта ж искренность заставит художника и найти
ясное выражение того чувства, которое он хочет передать.
Поэтому-то это третье условие — искренность — есть самое важное из
трех. Условие это всегда присутствует в народном искусстве, вследствие
чего так сильно и действует оно, и почти сплошь отсутствует в нашем
искусстве высших классов, непрерывно изготовляемом художниками для
своих личных, корыстных или тщеславных целей.
Таковы три условия, присутствие которых отделяет искусство от
подделок под него и вместе с тем определяет достоинство всякого
произведения искусства независимо от его содержания.
Отсутствие одного из этих условий делает то, что произведение уже
не принадлежит к искусству, а к подделкам под него. Если произведение
не передает индивидуальной особенности чувства художника и потому не
особенно, если оно непонятно выражено или если оно не произошло от
внутренней потребности автора, оно не есть произведение искусства.
540
Если же, хотя бы и в самой малой степени, присутствуют все три
условия, то произведение, хотя бы и слабое, есть произведение искусства.
Присутствие же в различных степенях трех условий: особенности»
ясности и искренности, определяет достоинство предметов искусства как
искусства, независимо от его содержания. Все произведения искусства
распределяются в своем достоинстве по присутствию в большей или меньшей
степени того, другого или третьего из этих условий. В одном преобладает
особенность передаваемого чувства, в другом — ясность выражения, в
третьем — искренность, в четвертом — искренность и особенность, но
недостаток ясности, в пятом — особенность и ясность, но меньше искренности,
и т. д. во всех возможных степенях и сочетаниях.
Так отделяется искусство от неискусства и определяется достоинство
искусства как искусства, независимо от его содержания, то есть
независимо от того, передает ли оно хорошие или дурные чувства. [...]
Искусство, вместе с речью, есть одно из орудий общения, а потому
и прогресса, то есть движения вперед человечества к совершенству. Речь
делает возможным для людей последних живущих поколений знать все
то, что узнавали опытом и резмышлениями предшествующие поколения
и лучшие передовые люди современности; искусство делает возможным
для людей последних живущих поколений испытывать все те чувства,
которые до них испытывали люди и в настоящее время испытывают
лучшие передовые люди. И как происходит эволюция знаний, то есть более
истинные нужные знания вытесняют и заменяют знания ошибочные и
ненужные, так точно происходит эволюция чувств посредством искусства,
вытесняя чувства низшие, менее добрые и менее нужные для блага людей
более добрыми, более нужными для этого блага. В этом назначение
искусства. И потому по содержанию своему искусство тем лучше, чем более
исполняет оно это назначение, и тем хуже, чем менее оно исполняет
его. [.♦.]
Там же, стр. 148—152.
Искусство, всякое искусство само по себе, имеет свойство соединять
людей. Всякое искусство делает то, что люди, воспринимающие чувство,
переданное художником, соединяются душой, во-первых, с художником и,
во-вторых, со всеми людьми, получившими то же впечатление. Но
искусство нехристианское, соединяя некоторых людей между собою, этим самым
соединением отделяет их от других людей, так что это частное соединение
служит часто источником не только разъединения, но враждебности к
другим людям. Таково все искусство патриотическое, со своими гимнами,
поэмами, памятниками; таково все искусство церковное, то есть искусство
известных культов со своими иконами, статуями, шествиями, службами,
храмами; таково искусство военное, таково все искусство утонченное,
собственно, развратное, доступное только людям, угнетающим других людей,
людям праздных, богатых классов. Такое искусство есть искусство
отсталое — не христианское, соединяющее одних людей только для того, чтобы
541
еще резче отделить их от других людей и даже поставить их к другим
людям во враждебное отношение. Христианское искусство есть только то,
которое соединяет всех людей без исключения — или тем, что вызывает
в людях сознание одинаковости их положения по отношению к богу и
ближнему, или тем, что вызывает в людях одно и то же чувство, хотя
и самое простое, но не противное христианству и свойственное всем без
исключения людям. [...]
Там же, стр. 157.
Искусство будущего — то, которое действительно будет,— не будет
продолжением теперешнего искусства, а возникнет на совершенно других,
новых основах, не имеющих ничего общего с теми, которыми руководится
теперешнее наше искусство высших классов. [...]
И ценителем искусства вообще не будет, как это происходит теперь,
отдельный класс богатых людей, а весь народ; так что для того, чтобы
произведение было признано хорошим, было одобряемо и распространяемо,
оно должно будет удовлетворять требованиям не некоторых, находящихся
в одинаковых и часто неестественных условиях людей, а требованиям всех
людей, больших масс людей, находящихся в естественных трудовых
условиях.
И художниками, производящими искусство, будут тоже не так, как
теперь, только те редкие, выбранные из малой части всего народа, люди
богатых классов или близких к ним, а все те даровитые люди из всего
народа, которые окажутся способными и склонными к художественной
деятельности.
Деятельность художника будет тогда доступна для всех людей.
Доступна же сделается эта деятельность людям из всего народа потому, что,
во-первых, в искусстве будущего не только не будет требоваться та
сложная техника, которая обезображивает произведения искусства нашего
времени и требует большого напряжения и траты времени, но будет
требоваться, напротив, ясность, простота и краткость — те условия, которые
приобретаются не механическими упражнениями, а воспитанием вкуса.
Во-вторых, доступна сделается художественная деятельность всем людям
из народа, потому что, вместо теперешних профессиональных школ,
доступных только некоторым людям, все будут в первоначальных народных
школах обучаться музыке и живописи (пению и рисованию) наравне с
грамотой, так чтобы всякий человек, получив первые основания живописи
и музыки, чувствуя способность и призвание к какому-либо из искусств,
мог бы усовершенствоваться в нем, и, в-третьих, что все силы, которые
теперь тратятся на ложное искусство, будут употреблены на
распространение истинного искусства среди всего народа. [...]
Там же, стр. 179—180.
Так совершенно отлично от того, что теперь считается искусством, будет
искусство будущего и по содержанию и по форме. Содержанием искусства
542
будущего будут только чувства, влекущие людей к единению или в
настоящем соединяющие их; форма же искусства будет такая, которая была бы
доступна всем людям. И потому идеалом совершенства будущего будет не
исключительность чувства, доступного только некоторым, а, напротив,
всеобщность его. И не громоздкость, неясность и сложность формы, как
это считается теперь, а, напротив, краткость, ясность и простота
выражения. И только тогда, когда искусство будет таково, будет оно не забавлять
и развращать людей, как это делается теперь, требуя затрат на это их
лучших сил, а будет тем, чем оно должно быть,— орудием перенесения
религиозного христианского сознания из области разума и рассудка в
область чувства, приближая этим людей на деле, в самой жизни, к тому
совершенству и единению, которое им указывает религиозное сознание. [...]
Там же, стр. 185.
А. П. ЧЕХОВ
1860-1904
Высказывания Антона Павловича Чехова о сущности художественного
творчества развивают эстетические принципы реализма. «Художественная литература
потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть па
самом деле»,— писал Чехов 1. Стремление к правде изображения, обоснование
реализма определялись у Чехова своеобразием конкретно-исторического периода, с
которым связано его творчество, и особенностями его жизненной, общественной
позиции, индивидуальными чертами художника слова.
Отвергая либерально-народнические иллюзии, не принимая буржуазного
морализирования и нарочитой тенденциозности, Чехов стремился к правдивому
изображению жизни с позиций демократического гуманизма. Его творчество, враждебное
мещанству, пошлости, насилию и лжи, выразило протест народных масс против
реакции и общедемократический подъем, в конечном счете приведший к
революции, свидетелем которой Чехову не суждено было стать.
Выдвигая задачу максимальной объективности изображения, Чехов в своих
высказываниях порой становился на позицию «беспристрастного свидетеля»,
воздерживаясь от приговора над действительностью. В этом выражались противоречия
мировоззрения писателя, которому не были открыты законы и перспективы
исторического развития. Однако на деле Чехов был далек от натуралистической
бесстрастности и протокольно-фотографического объективизма в творчестве. А потому
и в теории он неоднократно подчеркивал значение отображения в литературе
существенных вопросов жизни (даже если писатель не дает на них прямого ответа),
роль сознательного замысла и общественной цели творчества. Писатель, по его
мнению, «не косметик, не увеселитель». Его задача не проповедовать «дешевенькую
мораль», а объективно изображать жизнь, какова она есть.
1 А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. XIII, М., 1948, стр. 261.
543
В высказываниях о театре Чехов, неразрывно связанный с основателями и
корифеями МХТ, также исходил из взгляда на общественные задачи искусства,
призванного быть школой, трибуной жизни. Он выступал против превращения театра
в развлекательное учреждение, продолжая в этом отношении традицию Гоголя
и Островского.
Затрагивая вопросы художественной формы, Чехов требовал краткости и
точности изображения, законченности целого и отшлифованности деталей. Он
выступал против декадентской манерности, против засорения языка ненужными
диалектизмами и вульгаризмами. «Краткость—сестра таланта»,— говорил он.
Касаясь вопросов литературной критики, Чехов подчеркивал значение метода
в анализе художественных произведений. Это понятие он выдвигал в противовес
беспринципной критике «Нового времени» — реакционной газеты А. С. Суворина.
В литературно-критических высказываниях Чехова отразились его
реалистические эстетические воззрения и его позиция демократа-гуманиста.
ИЗ ПИСЬМА АЛ. П. ЧЕХОВУ
(1886)
[...] «Город будущего» выйдет художественным произведением только
при следующих] условиях: 1) отсутствие продлиновенных
словоизвержений политико-социально-экономического свойства; 2) объективность
сплошная; 3) правдивость в описании действующих лиц и предметов;
4) сугубая краткость; 5) смелость и оригинальность; беги от шаблона;
6) сердечность.
По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки
и иметь характер à propos. Общие места вроде: «заходящее солнце, купаясь
в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом» и проч.
«Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали»,— такие общие места
надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности,
группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза,
давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты
напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко
от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка
и т. д. Природа является одушевленной, если ты не брезгуешь употреблять
сравнения явлений ее с человеческими] действиями и т. д.
В сфере психики тоже частности. Храни бог от общих мест. Лучше всего
избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы
оно было понятно из действий героев... {...]
А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем,
т. XIII, М., 1948, стр. 214-215.
544
ИЗ ПИСЬМА M. В. КИСЕЛЕВОЙ
(1887)
[...] Что мир «кишит негодяями и негодяйками», это правда.
Человеческая природа несовершенна, а потому странно было бы видеть на земле
одних только праведников. Думать же, что на обязанности литературы
лежит выкапывать из кучи негодяев «зерно», значит отрицать самое
литературу. Художественная литература потому и называется художественной,
что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение —
правда безусловная и честная. Суживать ее функции такою
специальностью, как добывание «зерна», так же для нее смертельно, как если бы
Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной
коры и пожелтевшей листвы. Я согласен, «зерно» — хорошая штука, но
ведь литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель, он человек
обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью; взявшись
за гуж, он не должен говорить, что не дюж, и, как ему ни жутко, он
обязан бороть свою брезгливость, марать свое воображение грязью жизни... [...]
Для химиков на земле нет ничего нечистого. Литератор должен быть
так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской
субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную
роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые. [...]
Там же, стр. 262—263.
ИЗ ПИСЬМА А. С. СУВОРИНУ
(1888)
[...] Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем
говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слушал
беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и
должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать
оценку ему будут присяжные, то есть читатели. Мое дело только в том,
чтобы быть талантливым, то есть уметь отличать важные показания от
не важных, уметь освещать фигуры и говорить их языком. [...]
А. П. Ч е χ о в, Полное собрание сочинений и писем,
т. XIV, 1949, стр. 118—119.
ИЗ ПИСЬМА А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
(1888)
[...] Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть
меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не
консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть
свободным художником и — только, и жалею, что бог не дал мне силы, чтобы
18 «История эстетики», т. 4 (1 полутом)
быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах [...]. Фарисейство,
тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и
кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Поэтому я
одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни
к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю
предрассудком. Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум,
талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и
лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я дерг
жался бы, если бы был большим художником. [...]
Там же, стр. 177.
ИЗ ПИСЬМА А. С. СУВОРИНУ
(1888)
[...] Не дело художника решать узкоспециальные вопросы. Дурно, если
художник берется за то, чего не понимает. Для специальных вопросов
существуют у нас специалисты; их дело судить об общине, о судьбах
капитала, о вреде пьянства, о сапогах, о женских болезнях... Художник же
должен судить только о том, что он понимает; его круг так же ограничен, как
и у всякого другого специалиста,— это я повторяю и на этом всегда
настаиваю. Что в его сфере нет вопросов, а всплошную одни только ответы, может
говорить только тот, кто никогда не писал и не имел дела с образами.
Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует — уж одни эти
действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не
задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать. Чтобы
быть покороче, закончу психиатрией: если отрицать в творчестве вопрос
и намерение, то нужно признать, что художник творит непреднамеренно,
без умысла, под влиянием аффекта; поэтому, если бы какой-нибудь автор
похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного
намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим. [...]
Там же, стр. 207.
ИЗ ПИСЬМА А. С. СУВОРИНУ
(1888)
[...] Для тех, кого томит научный метод, кому бог дал редкий талант
научно мыслить, по моему мнению, есть единственный выход —
философия творчества. Можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками
во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их
похожими друг на друга и что обусловливает их ценность. Это общее и
будет законом. У произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень
много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение
546
утеряет свою цену и прелесть. Значит, это общее необходимо и составляет
conditio sine qua non l всякого произведения, претендующего на
бессмертие. [...]
Там же, стр. 217.
ИЗ ПИСЬМА A. G. СУВОРИНУ
(1891)
[...] Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то
мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке, с мангусом.
Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький
кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без
отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь [...].
А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем,
т. XV, 1949, стр. 255.
ИЗ ПИСЬМА А. С. СУВОРИНУ
(1892)
[;..] Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или
просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный
признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом,
а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца
Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение, У одних,
смотря по калибру, цели ближайшие — крепостное право, освобождение
родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у
других цели отдаленные — бог, загробная жизнь, счастье человечества
и т. п. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но
оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы
кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это
пленяет Вас. [...]
Там же, стр. 446-
ИЗ ПИСЬМА Вл. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО
(1903)
[...] И народные театры и народная литература — все это глупость, все
это народная карамель. Надо не Гоголя опускать до народа, а народ
подымать к Гоголю. [...]
А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем,
т. XX, 1951, стр. 173.
1 Необходимое условие (латин.).
18 ' 547
В. Г. КОРОЛЕНКО
1853-1921
Эстетические воззрения Владимира Галактионовича Короленко сформировались
под сильным влиянием революционных демократов Чернышевского и Добролюбова.
Короленко испытал также воздействие творчества Тургенева, которого считал своим
учителем.
В «Дневнике», письмах (особенно в письмах начинающим писателям), в
многочисленных критических статьях можно найти много рассуждений и высказываний,
выявляющих эстетическую позицию писателя. В. Г. Короленко был убежденным
сторонником реализма. Вслед за Чернышевским он утверждал, что искусство есть
воспроизведение действительности, но отмечал, что точное воспроизведение
действительности не всегда является залогом художественности произведения. Новое
искусство, по мнению Короленко, будет синтезом реализма и романтизма.
Короленко ввел в эстетику категорию «возможной реальности», требуя от писателя показа
перспективы, утверждения «бодрости, веры, призыва».
Короленко был сторонником тенденциозного, идейного искусства, считал
идейность важнейшим фактором в оценке художественного произведения, но всегда
подчеркивал, что тенденция должна определяться правдой художественных образов.
Литературные взгляды Короленко ясно выразились в его статьях о Толстом*
Чехове, Гоголе. Короленко высказывался и по вопросам изобразительного
искусства, например, в статье «Суммистские ребусы» он выступил в защиту искренности
в искусстве.
В течение многих лет Короленко был редактором журнала «Русское богатство»,
и его переписка с писателями дает огромный материал для характеристики
передовой демократической эстетики.
ПИСЬМО В. А. ГОЛЬЦЕВУ
14 марта 1894 года
[...] Как я смотрю на задачи искусства и процесс творчества? Я не мало
думал об этом предмете, но и теперь затрудняюсь высказать результаты,
к которым пришел, в краткой по крайней мере формуле. Покойный
Чернышевский говорил: красота присуща явлениям природы, мы только
слабые копиисты, подражатели, и потому явление всегда выше изображения.
Отсюда — стремление к реальной правде как к пределу. Гюи де Мопассан
находил, что художник творит свою иллюзию мира, то, чего нет в
действительности, но что он создает взамен того, что есть. Когда я думаю об
этом предмете, мне всегда вспоминаются эти два полярные мнения. Мне
казалось всегда, что Чернышевский не совсем прав: художественное
произведение, то есть изображение, само есть явление природы, и как
таковое — оно всегда равно всем остальным явлениям. Вырос цветок —
прекрасное произведение природы, явление. Он отразился в ручье,— новое
548
явление, и тоже хорошо. Написано по этому поводу стихотворение. Но
разве это, как явление, хуже цветка и ручья? Блеснула молния,
загрохотал гром. Прекрасное и величавое явление природы. Раскаты отражаются
в ущельях... Но те же раскаты звучат в душе человека, отражаясь целым
рядом ощущений. И вот мы силой воссоздающей способности сами
вовлекаемся в круг этих явлений. Мы видим эту человеческую душу, в которой
отразился гром и небесные огни... Разве это не новая совокупность
«явлений» природы, в новом осложнении только. Теперь дальше: мнение
пессимиста Мопассана. Может ли быть «иллюзия мира» без отношения
к реальному миру? Очевидно, нет. Нужно соединить в одно два эти
элемента. В художественном произведении мы имеем мир, отраженный,
преломленный, воспринятый человеческой душой. Это не просто
беспочвенная иллюзия,— а это новый факт, новое явление вечно творящей природы.
Дух человека вечно меняется. На одну и ту же старинную башню каждое
поколение смотрит новыми глазами. Но и природа вечно меняется,—
отсюда ясно, что область художественного творчества, во-первых, бесконечна,
во-вторых, находится в вечном движении, создавая все новые комбинации,
которые сами, как совокупность «явления» и отражающего явления
человеческого духа, суть живые явления природы.
Теперь, если допустить (а я в это глубоко верю), что вселенная не есть
случайная игра случайных сил и явлений, что и «детерминизм» и
«эволюция», что все это ведет к признанию некоторого закона, который
«необходимо» тяготеет к чему-то, что мы называем «благом» во всех его видах
(добро, истина, правда, красота, справедливость), то вывод ясен: мы не
просто отражаем явления как они есть и не творим по капризу иллюзию
несуществующего мира. Мы создаем или проявляем рождающееся в нас
новое отношение человеческого духа к окружающему миру. Совершенно
понятно, что всем не безразлично, каково это новое отношение. В этом
вечном стремлении к совершенству, которое я допускаю как закон, есть
движущая сила и сопротивление: одно рождается и развивается, другое
отметается и гибнет. Нужно, чтобы новое отношение к миру было добром
по отношению к старому. Хорошая, здоровая и добрая душа отражает мир
хорошо и здоровым образом. Художник запечатлевает это свое отражение
и сообщает его другим. Вы видели явление, то же явление увидел
художник, и увидел его так, и так вам нарисовал это свое видение, что и Вы уже
различаете в нем другие стороны, относитесь к нему иначе. И вот
воспринимающая душа человечества меняется сама.
Я отнюдь не думаю, чтобы эта работа выполнялась исключительно или
хотя бы только преимущественно художниками. Мыслитель достигает того
же своими формулами. Астроном и математик дали нам числа и
пространственные вычисления,— и вот мы на самый свод небесный смотрим уже
другими глазами и с другим чувством: вместо хрустального колпака мы
уже чувствуем над собою бесконечность, и все наши поэтические эмоции
претерпели соответствующие изменения. Меняется и религия, меняются
нравственные понятия, чувства, меняется человек. Между отвлеченной
549
формулой и художественным образом помещается огромная цепь, середину
которой и занимает иллюстрация отвлеченной мысли, иначе называемая
тенденциозным произведением. Что лучше? Это зависит от многих условий.
Фет — несомненный художник. Он научил нас любоваться хорошо
освещенной солнышком барской усадьбой, рощей, которая вся проснулась,
веткой каждой, дорогой, по которой «вьется пыль», в усадьбу едут гости, может
быть, «милая», везущая с собой счастие обитателя барской усадьбы. За
гранью усадьбы — уже нет ничего. Теперь возьмем Беллами. Он не
художник, но и он тоже старается дать и образ и чувство. Чувство человека, в
душу которого заглянуло будущее. Он еще точно не знает, в каких формах
оно сложится, он их рисует наугад, даже порой не рисует, а только чертит-..
И что же? Чье произведение выше? Правда, на это очень часто приводится
соображение: многие вещицы Фета будут еще петь и читать, когда Беллами
или ну хоть Некрасова — забудут. Это мне кажется еще не критерий.
Если у тебя на столе лежит вещица, ну хоть безделка из Помпеи, которая
пережила века,— то это значит, что она сделана хорошо и крепко, но вовсе
не значит, что она очень ценна. Если даже допустить (чего я отнюдь не
допускаю), что Фета будут еще читать, когда забудут даже Щедрина, то
что же из этого? С той точки зрения, которую я приводил выше, и то и
другое является живой силой. А живая сила измеряется массой,
приведенной в движение — все равно в какое время. Подсчитайте ту огромную
массу новых мыслей и чувств (нового отношения человека к миру), которую
в свое время привел в движение Щедрин, и вы увидите, что проживи
поэзия Фета тысячу лет, она не подымет и десятой доли этого. [...]
В. Г. Короленко, Собрание сочинений в 10-ти то-*
мах, т. 10, М., 1956, стр. 217—220;
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
(1908)
[...] Обыкновенно принято сравнивать художественное произведение
с зеркалом, отражающим мир явлений. Мне кажется, можно принять в
известной комбинации оба определения. Художник — зеркало, но зеркало
живое. Он воспринимает из мира явлений то, что подлежит
непосредственному восприятию. Но затем в живойтлубине его воображения воспринятые
впечатления вступают в известное взаимодействие, сочетаются в новые
комбинации, соответственно с лежащей в душе художника общей
концепцией мира. И вот в конце процесса зеркало дает свое отражение, свою
«иллюзию мира», где мы получаем знакомые элементы действительности
в новых, доселе незнакомых нам сочетаниях. Достоинство этого сложного
отражения находится в зависимости от двух главных факторов: зеркало
должно быть ровно, прозрачно и чисто, чтобы явления внешнего мира
проникали в его глубину не изломанные, не извращенные и не тусклые.
Процесс новых сочетаний и комбинаций, происходящий в творящей глубине,
МО
должен соответствовать тем органическим законам, по которым явления
сочетаются в жизни. Тогда, и только тогда, мы чувствуем в «вымысле»
художника живую художественную правду...
Иллюзия мира... Да, конечно. И эти иллюзии сложны и разнообразны,
как и сам воспринимаемый мир. Одно и то же лицо может быть отражено
в зеркале плоском, или вогнутом, или выпуклом. Ни одно из этих зеркал не
солжет,— элементарные процессы природы лгать не могут (кажется, в этом
смысле софисты доказывали, что лжи совсем нет). Но если вы отразите
все эти изображения на экране и измерите их очертания, то увидите, что
только прямое зеркало дало вам отражение, размеры и пропорции которого
объективно совпадают с размерами и пропорциями предмета в натуре.
Отражение того же лица на поверхности самовара — конечно, не «ложь»:
оно и движется и изменяет выражение, оно, значит, отражает
действительное, живое лицо. Но между этим лицом и видимым нами отражением легли
искажающие свойства выпуклой поверхности. А ведь порой на этой
поверхности есть еще ржавчина, или плесень, или она изъедена кавернами, или
окрашена случайными реактивами, изменяющими живую окраску... И тогда,
вглядываясь в чуть мерцающее отражение живого лица, мы едва узнаем
звакомые нам черты: они растянуты, обезображены, искажены; на месте
глаз — ржавые пятна, вместо живого тела — цвет разложения, вместо
«иллюзии живого явления» — «иллюзия» призрака. [...]
В. Г. Короленко, Собрание сочинений, т. 8, 1955,
стр. 96—97.
ИЗ ДНЕВНИКА
(1888)
Говорят, литература есть лишь зеркало общества, и ее назначение —
лишь отражать то, что есть. Тут заключен один пошлый трюизм и одно
очень вредное заблуждение. Когда нам говорят, что в литературе
отражается данное состояние общества, что (по Тэну) литература является
результатом трех факторов: расы, климата, истории и не может дать
ничего, что бы не включалось в известную «причинность»,— это теперь уже
трюизм, с которым никто не станет спорить. Таким образом, литература
поневоле зависит от данного состояния общества. Но что же из этого?
Следует ли отсюда, что у литературы нет другой цели, как лишь отражать
данное состояние общества, его жизни, но никуда не звать, ничего не
отвергать, не проклинать, не благословлять? Вовсе нет, я думаю. Это
можно было бы сказать лишь тогда, если бы сама жизнь была чем-то
неподвижным, мертвым, статическим. Но жизнь изменчива; от форм прошедшего
она непрерывно переливается к формам будущего, а настоящее — это
некоторая фикция, в понятие которой мы лишь прихватываем часть от
прошлого и часть от будущего, взаимодействие и борьба которых
представляют то, что мы называем современностью. Если, таким образом, жизнь
есть движение и борьба, то и искусство, верное отражение жизни,— должно
551
представлять то же движение, борьбу мнений, идей. Теперь вопрос: нам
скажут — пусть "гак, литература отражает движение, но как зеркало, она
только отражает, не пытаясь стать на ту или другую сторону (ведь это для
зеркала и невозможно). Тут-то начинается вредное заблуждение. Зеркало,
отражающее мои поступки,— не я и не часть меня; а слово, печать,
литература, искусство — это часть, это функция самого общества; это не
зеркало. По литературе можно судить о состоянии общества,— да; также как
но походке мы судим о крепости того или другого человека. Но все же
его походка не есть зеркало; для него она — походка и сама по себе имеет
целью унести его с одного места и привести к другому. Так же и
литература, кроме «отражения» — еще разлагает старое, из его обломков созидает
новое, отрицает и призывает. И вся эта деятельность не может, конечно,
выйти из пределов причинности. Наши идеалы отразят на себе наш
характер, наше прошлое, нашу расу и историю. Но это отражение не цель.
А цель — в движении, в тех или других идеалах.
Еще пример: проповедник громит пороки, призывает к добродетели;
слушатели плачут, разносят по домам новые чувства, новые намерения,
новые верования; они сжигают дома своих фетишей, они меняют свои
отношения, они перестают приносить человеческие жертвы.
[...] Может быть, возразят, что литература и проповедь не одно и то же.
Я хочу сказать только, что способ аргументации «отразителей» одинаково
относился бы и к моральной проповеди. Все дело в том, что литература
только шире и разностороннее. Но ее орудие, слово, не есть мертвое и
внешнее зеркало; оно есть в то же время орудие живого, движущегося,
совершенствующегося духа. Оно есть орудие совершенствования. Всякая
современность есть переход от прошедшего к будущему, движение. Она
заключает сложнейшую систему, сплетение отживших моментов с действующими
и только еще зарождающимися. Как ноги уносят человека, положим, от
холода и тьмы к жилью и свету, так слово, искусство, литература —
помогает человечеству в его движении от прошлого к будущему. Пусть само
орудие неизбежно зависит от характера самой жизни. Жизнь —
движение, борьба, а искусство — орган умственного движения и борьбы; значит,
цель его — не просто отражать, а отражать, отрицая или благословляя.
Из сложной сети современных явлений оно берет одно явление как
отжившее, другое как признак обновления... Понятно, что всякий орган
функционирует согласно со своей природой. Работа критической мысли —
определения и точные выводы. Работа воображения — образы и картины.
Поэтому от художника мы не требуем точных чисто логических
определений, но вправе требовать «точки зрения». Только хорошо выбранная точка
зрения дает верную перспективу, в которой тени и света располагаются
правдиво. И мы тогда видим, откуда встал свет и куда ведет та или другая
затененная тропинка. Путь истории человечества длинен, утомителен,
порой освещается сиянием света, порой спускается в мрачные долины, где
лучи сквозят скупо и гДе мы склонны усумниться даже, уж есть ли, полно,
на небе солнце...
S52
Искусство, которое в такую пору только отразит общее уныние,
отчаяние π безверие, будет только его зеркалом, изменит своей святой и
высокой цели. Нет, в толпе, которая бьется во тьме и холоде, найдутся люди,
которых восприимчивость к свету солнца и дня была больше, которых
воображение бодрее и здоровее, в крови которых дольше играет сияние дня.
Они напомнят о блеске солнца, о синеве неба, о том, что уже много раз
была тьма и опять сиял свет. Они скажут это не одними сухими
доказательствами,— в их словах засверкает действительно блеск и сияние,
которое другие увидят в их творениях, и поверят, и вздохнут бодрее, и скорее
выйдут на свет. Вот цель искусства в такие периоды. В периоды
пессимизма, разложения характеров и отчаяния эти отрицательные стимулы
невольно врываются в искусство, отражаются на нем. Но в этом ли отражении
цель? Нет,— тем более нужно бодрости, веры, призыва... Изображать это
нужно, но это должно быть не стихийное отражение, а проповедь,
поучение, отрицание. Если вы дадите это отражение в перспективе верной,
широкой и правдивой, значит, вы уже тем самым отрицаете его. Вы покажете
свет наряду с тенью, и уже это соседство отнимет у тени ее мрак и
угнетающий душу характер. Но для этого нужно, чтобы среди ослепших
от темноты людей вы, художник, сохранили остроту зрения, чтобы вы
отражали не одно то, что является господствующим в данной
современности.
Есть одна местность, покрытая страшными топями. Неверный шаг,— и
вы погружаетесь в трясину. Жители этой местности, отправляясь в путь,
берут в руки длинные шесты. Правда, шесты эти затрудняют несколько
быстроту движения. Зато, провалившись в трясину, путник находит в
шесте спасение. Одним концом шест падает назад, на то место, откуда путник
только что сошел и где он стоял твердо. Другим — шест достигает
непременно твердой земли, лежащей впереди.
Искусство представляет такой же шест на пути человечества.
Логическая мысль, логические выводы действуют легко, быстро, точно и
определенно. Вывод следует быстро за посылкой. Но,—несколько неверных
посылок, несколько неверных шагов по пути силлогизма — и логическая мысль
заводит вас в трясину. Работа воображения не так подвижна, не так точна
и определенна в смысле выводов. Люди, наделенные сильным чутьем
жизни,— не пишут утопий. Крупные художники никогда не стояли (или очень
редко) как таковые в самых передних рядах крайних политических
партий. В момент, когда мы горячо искали новых жизненных форм, горячо
отрицали старые и быстро кидались на новые, у нас вышла нема лая-таки
ссора с крупнейшими из наших художников. Я не говорю уже о Гончарове,
который к своим образам примешал несколько чисто логических формул,
заключавших грех против живого духа, но и Тургенев и Толстой
оказались «отставшими». Но вот время изменилось, и имена наших великих
художников являются для нас знаменами, которые стоят в высоте,
освещенные солнцем в ту минуту, когда мы после нескольких шагов вперед —
сделали много десятков шагов назад и засели в настоящую трясину реак-
553
ции. Их образы не вполне укладывались некогда в рамки наших утопий,
и мы предпочитали произведения, поучавшие нас, не изображая жизнь,
а подтягивая и ломая ее. Теперь, когда подтягивание и ломка идут в
другую сторону,— мы обращаемся к нашим художникам.
В. Г. Короленко, Дневник, т. I, Харьков, Госиздат
Украины, 1925, стр. 125-130.
ИЗ ПИСЕМ
[...] Слово — это не игрушечный шар, летящий по ветру. Это орудие
работы: он должен подымать за собой известную тяжесть. И только по
тому, сколько он захватывает и подымает за собой чужого настроения,—
мы оцениваем его значение и силу. Поэтому автор должен постоянно
чувствовать других и оглядываться (не в самую минуту творчества) на то,—
может ли его мысль, чувство, образ — встать перед читателем и сделаться
его мыслью, его образом и его чувством. И вырабатывать свое слово так,
чтобы оно могло делать эту работу (немедленно или впоследствии,— это
вопрос другой). Тогда художественные способности растут, оживляются,
крепнут. Замкнутые в изолированном самоудовлетворении, они все
утончаются, теряют силу и жизненность, хиреют или обращаются на
односторонние, исключительные настроения чисто экзотического характера.
Угождение вкусам толпы — это значит стремление взять у толпы ее вкусы
и усилить их своей передачей. Это, конечно, низость. Но она не имеет
ничего общего с процессом обратным: стремлением воплотить и передать
массе то задушевное, что свободно и искренно выросло в собственной
душе, независимо от того, принадлежит ли оно исключительно Вам или
есть также и у других в той или другой мере.
В. Г. Короленко, Избранные письма, т. Ill, М.,
1936, стр. 168-169.
[...] Едва ли я вполне могу примкнуть к романтизму, по крайней мере
сознательно (художественное творчество не всегда соответствует тем или
другим убеждениям и взглядам автора на искусство). Однако и крайний
реализм, например французский, нашедший у нас столько подражателей,—
мне органически противен. В одной из своих заметок («О двух картинах»,
«Русские ведомости») — я отчасти тронул этот вопрос. В черновой
рукописи у меня он был затронут гораздо больше, но я исключил эти строки,
отложив их до другого времени. Там я высказал только, что современные
реалисты забывают, что реализм есть лишь условие художественности,
условие, соответствующее современному вкусу, но что он не может слу-
654
жить целью сам по себе и всей художественности не исчерпывает.
Романтизм в свое время тоже был условием, и если напрасно натурализм в своей
заносчивости целиком топчет его в грязь, то, с другой стороны, то, что
прошло — прошло, и романтизму целиком не воскреснуть. Мне кажется,
что новое направление, которому суждено заменить крайности реализма,—
будет синтезом того и другого. Вогюэ в своих критических этюдах о
русской литературе определяет реализм как реабилитацию в искусстве
бесконечно малых величин. «Мы отказались,— говорит он,— от героев в пользу
масс». Но реализм Золя и других идет дальше. Он отрицает самую
возможность героизма в человечестве и малое отождествляет с низким. Это
уже слишком, и реакция против этой крайности законна. Реакция эта
до известной степени идет в сторону романтизма, но только до известной
степени, потому что все-таки мы кое-чему научились и у реализма, и не
может отказаться от признания масс, от признания значения малых —
в пользу героев. [...]
Там же, стр. 18—19.
ВЛ. С. СОЛОВЬЕВ
1853-1900
Выдающийся русский философ-идеалист Владимир Сергеевич Соловьев оказал
большое влияние на развитие русской философской мысли, особенно в первые два
десятилетия XX века. Влияние это не ослабло и поныне — в Западной Европе. Но
не это непосредственное воздействие философских идей Соловьева как таковых
важно для истории эстетики в России. Известно, как воспринимали Вл. Соловьева
В. Брюсов, А. Блок или Андрей Белый,—как поэта, и не только в его поэзии,
весьма замечательной, но и во всех других его сочинениях. Весьма характерно, что
А. Блок писал о В л. Соловьеве: что философские, богословские и все прочие
занятия Соловьева не исчерпывают самой сущности его деятельности и что эта
сущность заключалась в чем-то другом, что как целое в отдельных занятиях не
проявлялось, в том, что, по-видимому, было весьма проницательным анализом
поэтическими средствами русской действительности и что совсем не зависело от
избранного жанра, будь то философская или историческая статья. А. Блок пишет: «Если
Вл. Соловьев был носителем и провозвестником будущего... то очевидно, что он
был одержим страшной тревогой, беспокойством, способным довести до безумия» 1.
Можно представить себе Достоевского, пишущего только статьи — по философским,
богословским, политическим вопросам — и литературные эссе: тогда многообразие
разных взглядов на мир, разных картин мира, с потрясающей ясностью
рисующихся писателю, многообразие, объективируемое в романе и этим в значительной
степени отвлекаемое от личности писателя, будет проецироваться на одну плоскость,
1 А. Блок, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. VI, М., 1962, стр. 155.
555
то есть будет уже одним взглядом на мир, но внутренне предельно усложненным,
противоречивым и уже без всякой возможности отвлечь его от самого себя. Так,
апокалиптические картины позднего Достоевского закономерно соответствуют
апокалиптическим видениям позднего Соловьева, видениям, которые, будучи
перенесены из жанра в жанр и из объективного многообразия в многообразие одного
взгляда на мир, называются уже реакционной историософией. Во всяком случае, эта
роль Вл. Соловьева — будить и тревожить — была почувствована в русской поэзии,
так что мимо Вл. Соловьева не проходили поэты самых разных направлений,
идейных убеждений, политических взглядов.
Многоплановость взгляда на действительность вела к практическому
переживанию Соловьевым тех противоречий, над которыми Достоевский поднимался как
писатель. В отдельных своих выступлениях, статьях и т. д., естественно
ограничивающих противоречивое многообразие творческой мысли, Соловьев выступал
по-разному, а потому в результате прогрессивное и консервативное в его общественной
деятельности и в его работах перемешано. Но есть и то и другое 1. Диалектика
общественной жизни его эпохи переживалась Соловьевым и отразилась и в его
практической деятельности и в его философии, в какие бы мистические построения он
эту диалектику ни облекал. Но между практической деятельностью и
теоретическими концепциями в философии всегда есть опосредствованная связь. Если взять
эстетику, то конкретный пример это покажет. Так, полемизируя со сторонниками
«искусства для искусства», Соловьев очень ясно формулирует идею диалектического
совпадения в произведении искусства разных его функций. Вл. Соловьев пишет,
что сторонники «чистого искусства» «не ограничиваются справедливым
утверждением специфической особенности искусства или самостоятельности тех средств,
какими оно действует, а отрицают всякую существенную связь его с другими
человеческими деятельностями и необходимое подчинение его общим целям
человечества, считая его чем-то в себе замкнутым и безусловно самодовлеющим; вместо
законной автономии для художественной области они проповедуют эстетический
сепаратизм. Но хотя бы даже искусство было точно так же необходимо для всего
человечества, как дыхание для отдельного человека, то ведь и дыхание
существенно зависит от кровообращения, от деятельности нервов и мускулов, и оно
подчинено жизни целого; и самые прекрасные легкие не оживят его, когда поражены
другие существенные органы. Жизнь целого не исключает, а, напротив, требует
и предполагает относительную самостоятельность частей и их функций,— но
безусловно самодовлеющею никакая частная функция в своей отдельности не бывает
и быть не может» 2.
Еще интереснее продолжение этих рассуждений Вл. Соловьева, где вскрывается
социальная сущность учений о «чистом искусстве», сводящаяся к закреплению
общественных условий, к консервации социальных отношений. «Бесполезно для
1 См. статью: 3. Г. Минц, Поэтический идеал молодого Блока.— «Блоковский
сборник», Тарту, 1964, стр. 172—225, где дается анализ общественной позиции
Вл. Соловьева.
2 В л. Соловьев, Первый шаг к положительной эстетике.—Собрание
сочинений В. С. Соловьева, изд. 2, т. 7, Спб., 1912, стр. 70—71. Далее приводится
продолжение этого отрывка.
556
сторонников эстетического сепаратизма,— пишет Вл. Соловьев,— и следующее
тонкое различие, делаемое некоторыми. Допустим, говорят они, что в общей жизни
искусство связано с другими деятельностями, и все они вместе подчинены
окончательной цели исторического развития; но эта связь и эта цель, находясь за
пределами нашего сознания, осуществляются сами собою, помимо нас,— и,
следовательно, не могут определять наше отношение к той или другой человеческой
деятельности; отсюда заключение: пускай художник будет только художником, думает
только об эстетически прекрасном, о красоте формы, пусть для него, кроме этой
формы, не существует ничего важного на свете.
Подобное рассуждение, имеющее в виду превознести искусство, на самом деле
глубоко его унижает,— оно делает его похожим на ту работу фабричного, который
всю жизнь должен выделывать только известные колесики часового механизма,
а до целого механизма ему нет никакого дела. Конечно, служение
псевдохудожественной форме гораздо приятнее фабричной работы, но для разумного сознания одной
приятности мало».
В своей концепции прекрасного Вл. Соловьев стоит на позициях объективности.
Связь между его философией и эстетикой, не всегда легко усмотримая, как раз
в идее конечного слияния истины, добра и прекрасного в мире. Конечная
тождественность этих начал означает, что в своей основе бытие и прекрасное тоже
тождественны *. Прекрасное для Соловьева — проникновение материи светом. Свет
для Соловьева (как для мистика) все — и смысл, и форма, и дух, но все оттенки
объединены одним ярким и чувственным представлением света, идущего от
солнца, от мирового зенита.
Свет проникает тьму и материю, созидая прекрасное. Это символ борьбы хаоса
и порядка. Генезис мира — это все усиливающаяся борьба становящегося добра со
злом, становление есть упорядочение хаоса, и притом, если брать земной мир,
в материальных формах. Искусство для Соловьева уступает по совершенству
прекрасному, как оно существует в действительности, осуществившей потенциально
скрытое в ней2.
Будучи талантливым поэтом, Вл. Соловьев обобщил в своих статьях о поэзии
опыт русской поэзии от Пушкина до Фета и Полонского, создав учение о
поэтическом смысле как о взаимопроникновении всех элементов произведения искусства.
1 Это слияние совершенно недоступно искусству и возникает только в
процессе объективного становления: «А разве вы довольны хоть одним из множества
изображений Христа, которые делались ведь иногда гениальными живописцами?
Я ни одного удовлетворительного изображения не знаю. Полагаю, что такого и не
может быть по той причине, что Христос есть индивидуальное, единственное в
своем роде и, следовательно, ни на что другое не похожее воплощение своей
сущности — добра. Чтобы это изобразить — недостаточно и художественного гения. Но
ведь то же можно сказать и об антихристе: это такое же индивидуальное,
единственное по законченности и полноте, воплощение зла. Портрета его показать нельзя.
В церковной литературе мы находим только его паспорт с общими и особыми
приметами...» (Вл. Соловьев, Три разговора, изд. 4, Спб., 1904, стр. 149).
2 Вл. Соловьев даже соглашается с Н. Чернышевским, когда последний
противопоставляет прекрасное в искусстве прекрасному в жизни, но, в отличие от
Чернышевского, дает этому идеалистическое объяснение (см. Собрание сочинений
В. С. Соловьева, т. 7, стр. 76—77).
557
КРАСОТА В ПРИРОДЕ
[...] Красота есть действительный факт, произведение реальных
естественных процессов, совершающихся в мире. Где весомое вещество
преобразуется в светоносные тела, где неистовое стремление к осязательному
животному акту превращается в ряд стройных и мерных звуков,— там мы
имеем красоту в природе. Она отсутствует везде, где материальные стихии
мира являются более или менее обнаженными,— будь то в мире
неорганическом, как грубое бесформенное вещество, будь то в мире живых
организмов, как неистовый жизненный инстинкт. Впрочем, в неорганическом мире
те предметы и явления, которые некрасивы, не становятся через это
безобразными, а остаются просто безразличными в эстетическом отношении.
Куча песку или булыжнику, обнаженная почва, бесформенные серые
облака, изливающие мелкий дождь,— все это в природе хотя и лишено
красоты, но не имеет в себе ничего положительно отвратительного. Причина
ясна: в явлениях этого порядка мировая жизнь находится на низших
элементарных ступенях, она малосодержательна, и материальному началу не
на чем проявить безмерность своего сопротивления; оно здесь
сравнительно в своей области и пользуется спокойным обладанием своего скудного
бытия. Но там, где свет и жизнь уже овладели материей, где всемирный
смысл уже стал раскрывать свою внутреннюю полноту, там несдержанное
проявление хаотического начала, снова разбивающего или подавляющего
идеальную форму, естественно должно производить резкое впечатление
безобразия. И чем на высшей ступени мирового развития проявляется
вновь обнаженность и неистовость материальной стихии, тем
отвратительнее такие проявления. В животном царстве мы уже встречаем крупные
примеры настоящего безобразия. Здесь есть целые отделы существ,
которые представляют лишь голое воплощение одной из материальных
жизненных функций — половой или питательной. [...]
Существованием безобразных типов в природе обличается
несостоятельность (или по крайней мере недостаточность) того ходячего эстетического
взгляда, который видит в красоте лишь совершенное наружное
выражение внутреннего содержания, безразлично к тому, в чем состоит само это
содержание. Согласно такому понятию следует приписать красоту
каракатице или свинье, так как тело этих животных в совершенстве выражает их
внутреннее содержание, именно прожорливость. Но тут-τό и ясно, что
красота в природе не есть выражение всякого содержания, а лишь
содержания идеального, что она есть воплощение идеи. [...]
Определение красоты как идеи воплощенной первым своим словом
(идея) устраняет тот взгляд, по которому красота может выражать всякое
содержание, а вторым словом (воплощенная) исправляет и тот (еще более
распространенный) взгляд, который хотя и требует для нее идеального
содержания, но находит в красоте не действительное осуществление, а
только видимость или призрак (Schein) идеи. В этом последнем воззрении
прекрасное как субъективный психологический факт, то есть ощущение
558
красоты, ее явление или слияние в нашем духе, заслоняет собою саму
красоту как объективную форму вещей в природе. Поистине же красота есть
идея действительно осуществляемая, воплощаемая в мире прежде
человеческого духа, и это ее воплощение не менее реально и гораздо более
значительно (в космогоническом смысле), нежели те материальные стихии,
в которых она воплощается. Игра световых лучей в кристаллическом теле
во всяком случае не менее реальна, чем химическое вещество этого тела,
и модуляция птичьей песни есть такая же естественная реальность, как
и акт размножения.
Красота или воплощенная идея есть лучшая половина нашего
реального мира, именно та его половина, которая не только существует, но и
заслуживает существования. Идеей вообще мы называем то, что само по себе
достойно быть. Безусловно говоря, достойно бытия только всесовершенное
или абсолютное существо, вполне свободное от всяких ограничений и
недостатков. Частные или ограниченные существования, сами по себе не
имеющие достойного или идеального бытия, становятся ему причастны
через свое отношение к абсолютному во всемирном процессе, который
и есть постепенное воплощение его идеи. Частное бытие идеально или
достойно, лишь поскольку оно не отрицает всеобщего, а дает ему место в себе,
и точно так же общее идеально или достойно в той мере, в какой оно дает
в себе место частному. Отсюда легко вывести следующее формальное
определение идеи или достойного вида бытия. Она есть полная свобода
составных частей в совершенном единстве целого.
Самостоятельность частей или простор бытия в разных предметах и
явлениях может быть более или менее полным; единство целого, дающего
этот простор своим частям, может быть более или менее совершенным.
Из таких относительных различий вытекает множество степеней в
осуществлении идеи, все разнообразие и вся сложность мирового процесса.
Но помимо частных усложнений в процессе своего осуществления,
всемирная идея в самой общности своей представляется необходимо с трех
сторон. В ней различаются: 1) свобода или автономия бытия* 2) полнота
содержания или смысла и 3) совершенство выражения или формы. Без
этих трех условий нет достойного или идеального бытия. Рассматриваемая
преимущественно со стороны своей внутренней безусловности, как
абсолютно желанное или изволяемое, идея есть добро; со стороны полноты
обнимаемых ею частных определений, как мыслимое содержание для ума,
идея есть истина; наконец, со стороны совершенства или законченности
своего воплощения, как реально ощутимая в чувственном бытии, идея есть
красота.
Таким образом в красоте, как в одной из определенных фаз триединой
идеи, необходимо различать общую идеальную сущность и специально
эстетическую форму. Только эта последняя отличает красоту от добра и
истины, тогда как идеальная сущность у них одна и та же — достойное
бытие или положительное всеединство, простор частного бытия в единстве
всеобщего. Этого мы желаем как высшего блага, это мыслим как истину
659
и это же ощущаем как красоту; но для того чтобы мы могли ощущать
идею, нужно, чтобы она была воплощена в материальной действительности.
Законченностью этого воплощения и определяется красота как такая,
в своем специфическом признаке.
Критерий достойного или идеального бытия вообще есть наибольшая
самостоятельность частей при наибольшем единстве целого. Критерий
эстетического достоинства есть наиболее законченное и многостороннее
воплощение этого идеального момента в данном материале. Понятно, что
в применении к частным случаям эти критерии могут вовсе не совпадать
и должны быть строго различаемы. Весьма слабая степень достойного или
идеального бытия может быть в высшей степени хорошо воплощена в
данном материале, и точно так же возможно крайне несовершенное
выражение самых высших идеальных моментов. В области искусства это
различие бросается в глаза, и здесь два критерия — общеидеальный и специально
эстетический — могут смешиваться только умами совсем
необразованными. Различие менее явно в области природы, но и в ней оно несомненно
существует, и очень важно его не забывать. [...]
Вещество есть косность и непроницаемость бытия — прямая
противоположность идее как положительной всепроницаемости или всеединству.
Лишь в свете вещество освобождается от своей косности и
непроницаемости, и таким образом видимый мир впервые расчленяется на две
противоположные полярности. Свет или его невесомый носитель — эфир — есть
первичная реальность идеи в ее противоположности весомому веществу,
и в этом смысле он есть первое начало красоты в природе. Дальнейшие ее
явления обусловлены сочетаниями света с материей. Такие сочетания
бывают двоякого рода: механические, или наружные, и органические, или
внутренние. Первыми производятся собственно световые явления в
природе, вторыми — явления жизни. Древняя наука догадывалась, а
нынешняя доказывает, что органическая жизнь есть превращение света. Таким
образом материя становится носительницею красоты через действие
одного и того же светового начала, которое ее сперва поверхностно озаряет,
а затем внутренно проникает, животворит и организует. [...]
Порядок воплощения идеи или явления красоты в мире соответствует
общему космогоническому порядку: вначале сотвори бог небо... Если наши
предки видели в небе отца богов, то мы, и не поклоняясь Сварогу или Ва-
руне и вовсе не усматривая в небесном своде признаков живого личпого
существа, не менее язычников любуемся его красотою; следовательно, она
не зависит от наших субъективных представлений, а связана с
действительными свойствами, присущими видимому нам мировому пространству.
Эти эстетические свойства неба обусловлены светом: оно прекрасно только
озаренное. Ни в серый дождливый день, ни в черную беззвездную ночь
небо никакой красоты не имеет. Говоря об этой красоте, мы разумеем
собственно лишь световые явления, происходящие в пределах доступного
нашим взглядам мирового пространства.
660
Всеобъемлющее небо прекрасно, во-первых, как образ вселенского
единства, как выражение спокойного торжества, вечной победы светлого
начала над хаотическим смятением, вечного воплощения идеи во всем
объеме материального бытия. Этот общий смысл раскрывается более
определенно в трех главных видах небесной красоты — солнечной, лунной
и звездной.
1. Мировое всеединство и его физический выразитель — свет — в своем
собственном активном средоточии — солнце. Солнечный восход — образ
деятельного торжества светлых сил. Отсюда особенная красота неба в эту
минуту, когда
По всей
Неизмеримости эфирной
Несется благовест всемирный
Победных солнечных лучей.
(Тютчев)
Сияющая красота неба в ясный полдень — то же торжество света, но
уже достигнутое, не в действии, а в невозмутимом неподвижном покое.
И как мечты почиющей природы
Волнистые проходят облака.
(Фет)
2. Мировое всеединство со стороны воспринимающей его материальной
природы, свет отраженный — пассивная женственная красота лунной ночи.
Как естественный переход от солнечного вида к лунному — красота
вечернего неба и заходящего солнца, когда уменьшение прямой центральной
силы света вознаграждается большим разнообразием его оттенков в
озаренной среде.
3. Мировое всеединство и его выразитель, свет, в своем
первоначальном расчленении на множественность самостоятельных средоточий,
обнимаемых, однако, общею гармонией,— красота звездного неба. Ясно, что
в этой последней полнее и совершеннее, нежели в двух первых,
осуществляется идея положительного всеединства. Впрочем, не должно забывать,
что как непосредственное впечатление от красоты яркого полдня или
лунной ночи, так и эстетическая оценка этой красоты обнимает необходимо
всю картину природы в данный момент, все те земные предметы и
явления, которые озарены солнцем и луною и которые имеют свою
собственную красоту, усиленную этим особенным озарением, но в свою очередь
увеличивающую красоту светлого неба; тогда как при созерцании
звездной ночи эстетическое впечатление всецело ограничивается самим небом,
а красота земных предметов, сливающихся во мраке, не может иметь
значения. Если устранить эту неравномерность и при эстетической оценке
полдневного и лунного неба отвлечься от красоты озаренного ландшафта, то
всякий согласится, что из трех главных видов неба звездное представляет
наибольшую степень красоты.
561
Из астральной бесконечности переходя в тесные пределы нашей земной
атмосферы, мы встречаемся здесь с прекрасными явлениями,
изображающими в различной степени просветление материи или воплощение в ней
идеального начала. В этом смысле имеют самостоятельную красоту облака,
озаренные утренним или вечерним солнцем, с их различными оттенками
и сочетаниями цветов, северное сияние и т. д. Полнее и определеннее ту
же идею (взаимного проникновения небесного света и земной стихии)
представляет радуга, в которой темное и бесформенное вещество водяных
паров превращается на миг в яркое и полноцветное откровение
воплощенного света и просветленной материи. [...]
К световому прекрасному принадлежит и красота спокойного моря.
В воде материальная стихия впервые освобождается от своей косностж и
непроницаемой твердости. Этот текучий элемент есть связь неба и земли,
и такое его значение наглядно является в картине затихшего моря,
отражающего в себе бесконечную синеву и сияние небес. Еще яснее этот
характер водяной красоты в гладком зеркале озера или реки.
К воплощениям света в материи газообразной (облака, радуга) и к
сейчас упомянутым его воплощениям в материи жидкой должно присоединить
еще световые воплощения в твердых телах — благородные металлы и
драгоценные камни. Сюда относится в большей или меньшей степени
сказанное выше по поводу алмаза. [...]
От явлений спокойного, торжествующего света переходим к явлениям
подвижной и кажущейся свободною жизни в неорганической природе.
Жизнь по самому широкому своему определению есть игра или свободное
движение частных сил и положений, объединенных в индивидуальном
целом. Поскольку в этой игре выражается один из существенных
признаков идеального или достойного бытия (которое одинаково не может быть
ни отвлеченно всеобщим, то есть пустым, ни случайно частным), постольку
воплощение ее в явлениях материального мира, действительная или
кажущаяся жизнь в природе представляет эстетическое значение. Этою
красотою видимой жизни в неорганическом мире отличается прежде всего
текущая вода в разных своих видах: ручей, горная речка, водопад.
Эстетический смысл этого живого движения усиливается его беспредельностью,
которая как бы выражает неутолимую тоску частного бытия, отделенного
от абсолютного всеединства. [...]
На каждой новой ступени мирового развития, с каждым новым
существенным углублением и осложнением природного существования
открывается возможность новых, более совершенных воплощений всеединои
идеи в прекрасных формах,— но еще только возможность: мы знаем, что
усиленная степень природного бытия сама по себе еще не ручается за его
красоту, что космогонический критерий не совпадает с эстетическим, а
отчасти даже находится с ним в прямой противоположности. Оно и понятно:
возведенная на высшую ступень бытия и этим внутренно усиленная,
стихийная основа вселенной — слепая природная воля — получает зараз
и способность к более полному и глубокому подчинению и идеальному
562
началу космоса,— которое в таком случае и воплощает в ней новую, более
совершенную форму красоты,— и вместе с тем в хаотической стихии на
этой высшей степени бытия усиливается и противоположная способность
сопротивления идеальному началу, с возможностью притом осуществлять
это сопротивление на более сложном и значительном материале. Красота
живых (органических) существ выше, но вместе с тем и реже красоты
неодушевленной природы; мы знаем, что и положительное безобразие
начинается только там, где начинается жизнь. Пассивная жизнь растений
представляет еще мало сопротивления идеальному началу, которое и
воплощается здесь в красоте чистых и ясных, но малосодержательных форм.
Окаменевшее в минеральном и дремлющее в растительном царстве
хаотическое начало впервые пробуждается в душе и жизни животных к
деятельному самоутверждению и противопоставляет свою внутреннюю
ненасытность объективной идее совершенного организма. [...]
Как бы то ни было, и в общей палеонтологической истории развития
целого животного царства, и в индивидуальной эмбриологической истории
каждого животного организма ясно отпечатлелось упорное сопротивление
оживотворенного хаоса высшим органическим формам, от века
намеченным в уме всемирного художника, который для достижения прочных побед
должен все более и более суживать поле битвы. И каждая новая победа его
открывает возможность нового поражения: на каждой достигнутой высшей
степени организации и красоты являются и более сильные уклонения,
более глубокое безобразие, как высшее потенцированное проявление того
первоначального безобразия, которое лежит в основе — и жизни и всего
космического бытия. [...]
Чтобы в области той жизни, основная материя которой есть
бесформенная слизь, а типический представитель — червь, воплотить идеальную
красоту, мировому художнику пришлось много и долго поработать. [...]
Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в
тайном соглашении с раздираемою этим хаосом мировою душою или
природою,— которая все более и более поддается мысленным внушениям
зиждительного начала,— творит в ней и через нее сложное и великолепное тело
нашей вселенной. Творение это есть процесс, имеющий две тесно между
собою связанные цели, общую и особенную. Общая есть воплощение
реальной идеи, то есть света и жизни, в различных формах природной красоты;
особенная же цель есть создание человека, то есть той формы, которая
вместе с наибольшею телесною красотою представляет и высшее
внутреннее потенцирование света и жизни, называемое самосознанием. Уже в мире
животных, как мы сейчас видели, общая космическая цель достигается при
их собственном участии и содействии, чрез возбуждение в них известных
внутренних стремлений и чувств. Природа не устрояет и не украшает
животных как внешний материал, а заставляет их самих устроять и
украшать себя. Наконец, человек уже не только участвует в действии
космических начал, но способен знать цель этого действия и, следовательно,
трудиться над ее достижением осмысленно и свободно. Как человеческое
563
самосознание относится к самочувствию животных, так красота в
искусстве относится к природной красоте. [...]
Собрание сочинений В. С. Соловьева, изд. 2, т. 6, Спб.,
1912, стр. 42-50, 61-65, 73-74.
ОБЩИЙ СМЫСЛ ИСКУССТВА
(1890)
I
Дерево, прекрасно растущее в природе, и оно же, прекрасно
написанное на полотне, производят однородное эстетическое впечатление,
подлежат одинаковой эстетической оценке,— недаром и слово для ее выражения
употребляется в обоих случаях одно и то же. Но если бы все
ограничивалось такою видимою, поверхностною однородностью, то можно было бы
спросить и действительно спрашивали: зачем это удвоение красоты? Не
детская ли забава повторять на картине то, что уже имеет прекрасное
существование в природе? Обыкновенно на это отвечают (например, Тэн
в своей «Philosophie de Tart»),что искусство воспроизводит не самые
предметы и явления действительности, а только то, что видит в них художник,
а истинный художник видит в них лишь их типические, характерные
черты; эстетический элемент природных явлений, пройдя через сознание
и воображение художника, очищается от всех материальных случайностей
и таким образом усиливается, выступает ярче; красота, разлитая в
природе, в ее формах и красках, на картине является сосредоточенною,
сгущенною, подчеркнутою. Этим объяснением нельзя окончательно
удовлетвориться уже по тому одному, что к целым важным отраслям искусства оно
вовсе неприменимо. Какие явления природы подчеркнуты, например, в
сонатах Бетховена? — Очевидно, эстетическая связь искусства и природы
гораздо глубже и значительнее. Поистине она состоит не в повторении,
а в продолжении того художественного дела, которое начато природой,—
в дальнейшем и более полном разрешении той же эстетической задачи.
Результат природного процесса есть человек в двояком смысле: во-
первых, как самое прекрасное \ а во-вторых, как самое сознательное
природное существо. В этом последнем качестве человек сам становится из
результата деятелем мирового процесса и тем совершеннее соответствует
его идеальной цели — полному взаимному проникновению и свободной
солидарности духовных и материальных, идеальных и реальных,
субъективных и объективных факторов и элементов вселенной. Но почему жег
могут спросить, весь мировой процесс, начатый природой и продолжаемый
человеком, представляется нам именно с эстетической стороны, как разре-
1 Разумею здесь красоту в смысле общем и объективном, именно что
наружность человека способна выражать более совершенное (более идеальное)
внутреннее содержание, чем какое может быть выражено другими животными.
564
шение какой-то художественной задачи? Не лучше ли признать за его цель
осуществление правды и добра, торжество верховного разума и воли? Если
в ответ на это мы напомним, что красота есть только воплощение в
чувственных формах того самого идеального содержания, которое до такого
воплощения называется добром и истиною, то это вызывает новое
возражение. Добро и истина, скажет строгий моралист, не нуждаются в
эстетическом воплощении. Делать добро и знать истину — вот все, что нужно.
В ответ на это возражение допустим, что добро осуществлено — не
в чьей-нибудь личной жизни только, но в жизни целого общества,
осуществлен идеальный общественный строй, царствует полная солидарность,
всеобщее братство. Непроницаемость эгоизма упразднена; все находят себя
в каждом и каждый во всех других. Но если эта всеобщая взаимопрояи-
цаемость, в которой сущность нравственного добра останавливается перед
материальной природой, если духовное начало, победивши
непроницаемость человеческого психического эгоизма, не может преодолеть
непроницаемость вещества, эгоизм физический, то, значит, эта сила добра или
любви не довольно сильна, значит, это нравственное начало не может быть
осуществлено до конца и вполне оправдано. Тогда является вопрос: если
темная сила материального бытия окончательно торжествует, если она
неодолима для доброго начала, то не в ней ли подлинная истина всего
существующего, не есть ли то, что мы называем добром, только субъективный
призрак? И в самом деле, можно ли говорить о торжестве добра, когда на
самых идеальных нравственных началах устроенное общество может
сейчас же погибнуть вследствие какого-нибудь геологического или
астрономического переворота? Безусловное отчуждение нравственного начала от
материального бытия пагубно никак не для последнего, а для первого.
Самое существование нравственного порядка в мире предполагает связь
его с порядком материальным, некоторую координацию между ними. Но
если так, то не следует ли искать этой связи помимо всякой эстетики
в прямом владычестве разума человеческого над слепыми силами
природы, в безусловном господстве духа над веществом? По-видимому, уже
сделано несколько важных шагов к этой цели; когда она будет достигнута,
когда благодаря успехам прикладных наук мы победам, как думают иные
оптимисты, не только пространство и время, но и самую смерть, тогда
существование нравственной жизни в мире (на основе материальной) будет
окончательно обеспечено, без всякого, однако, отношения к эстетическому
интересу, так что и тогда останется в силе заявление, что добро не
нуждается в красоте. Но будет ли в таком случае полно само добро? Ведь оно
состоит не в торжестве одного над другим, а в солидарности всех. А могут
ли из числа этих всех быть исключены существа и деятели природного
мира? Значит, и на них нельзя смотреть только как на средства или орудия
человеческого существования, значит, и они должны входить как
положительный элемент в идеальный строй нашей жизни. Если нравственный
порядок для своей прочности должен опираться на материальную
природу как на среду и средство своего существования, то для своей полноты
665
и совершенства он должен включать в себя материальную основу бытия
как самостоятельную часть этического действия, которое здесь
превращается в эстетическое, ибо вещественное бытие может быть введено в
нравственный порядок только через свое просветление, одухотворение,
то есть только в форме красоты. Итак, красота нужна для исполнения
добра в материальном мире, ибо только ею просветляется и укрощается
недобрая тьма этого мира.
Но не совершено ли уже помимо нас это дело всемирного
просветления? Природная красота уже облекла мир своим лучезарным покрывалом,
безобразный хаос бессильно шевелится под стройным образом космоса и не
может сбросить его с себя ни в беспредельном просторе небесных светил,
ни в тесном круге земных организмов. Не должно ли наше искусство
заботиться только о том, чтобы облечь в красоту одни человеческие отношения,
воплотить в ощутительных образах истинный смысл человеческой жизни?
Но в природе темные силы только побеждены, а не убеждены всемирным
смыслом, самая эта победа есть поверхностная и неполная, и красота
природы есть именно только покрывало, наброшенное на злую жизнь, а не
преображение этой жизни. Поэтому-то человек с его-разумным сознанием
должен быть не только целью природного процесса, но и средством для
обратного, более глубокого и полного воздействия на природу со стороны
идеального начала. Мы знаем, что реализация этого начала уже в самой
природе имеет различные ступени глубины, причем всякому углублению
положительной стороны соответствует и углубление, внутреннее усиление
отрицательной. Если в неорганическом веществе дурное начало действует
только как тяжесть и косность, то в мире органическом оно проявляется
уже как смерть и разложение (причем и тут безобразие не так явно
торжествует в разрушении растений, как в смерти и разложении животных,
и между ними у высших более, чем у низших), а в человеке оно кроме
более сложного и усиленного своего проявления с физической стороны
выражает еще и свою глубочайшую сущность как нравственное зло. Но тут
же и возможность окончательного над ним торжества и совершенного
воплощения этого торжества в красоте нетленной и вечной.
Весьма распространен ныне возобновленный старый взгляд,
отождествляющий нравственное зло с темною бессознательною жизнью
физическою (плотскою), а нравственное добро—с разумным светом сознания,
развивающимся в человеке. Что свет разума сам по себе добро, это
несомненно; но нельзя назвать злом и свет физический. Значение того и другого
в их соответственных сферах одинаково. В свете физическом всемирная
идея (положительное всеединство, жизнь всех друг для друга в одном)
реализуется только отраженно: все предметы и явления получают
возможность быть друг для друга (открываются друг другу) во взаимных
отражениях через общую невесомую среду. Подобным образом в разуме
отражается все существующее посредством общих отвлеченных понятий,
которые не передают внутреннего бытия вещей, а только их поверхностные
логические схемы. Следовательно, в разумном познании мы находим только
566
отражение всемирной идеи, а не действительное присутствие ее в
познающем и познаваемом. Для своей настоящей реализации добро и истина
должны стать творческою силою в субъекте, преобразующею, а не
отражающею только действительность. Как в мире физическом свет превращается
в жизнь, становится организующим началом растений и животных, чтобы
не отражаться только от тел, но воплощаться в них, так и свет разума не
может ограничиться одним познанием, а должен сознанный смысл жизни
художественно воплощать в новой, более ему соответствующей
действительности. Разумеется, прежде чем это делать, прежде чем творить в
красоте или претворять неидеальную действительность в идеальную, нужно
знать различие между ними,— знать не только в отвлеченной рефлексии,,
но прежде всего в непосредственном чувстве, присущем художнику.
II
Различие между идеальным, то есть достойным, должным, бытием и
бытием недолжным или недостойным зависит вообще от того или иного
отношения частных элементов мира друг к другу и к целому. Когда, во-
первых, частные элементы не исключают друг друга, а, напротив, взаимно
полагают себя один в другом, солидарны между собою; когда, во-вторых,
они не исключают целого, а утверждают свое частное бытие на единой
всеобщей основе; когда, наконец, в-третьих, эта всеединая основа или
абсолютное начало не подавляет и не поглощает частных элементов, а
раскрывая себя в них, дает им полный простор в себе, тогда такое бытие есть
идеальное или достойное — то, что должно быть. Оно и есть само по себе *,
но для нас оно является не как данная действительность, а как идеал,
лишь отчасти осуществленный и осуществляемый; в этом смысле он
становится окончательною целью и безусловною нормою наших жизненных
деятельностей: к нему стремится воля как к своему высшему благу, им
определяется мышление как абсолютною истиною, он же частью
ощущается, частью угадывается нашими чувствами и воображением как красота.
Между этими положительными идеальными определениями достойного
бытия находится такое же существенное тождество, как и между
соответствующими им отрицательными началами. Всякое зло может быть сведено
к нарушению взаимной солидарности и равновесия частей и целого; и к
тому же, в сущности, сводится всякая ложь и всякое безобразие. Когда
частный или единичный элемент утверждает себя в своей особности,
стремясь исключить или подавить чужое бытие, когда частные или единичные
элементы порознь или вместе хотят стать на место целого, исключают и
отрицают его самостоятельное единство, а чрез то и общую связь между
собою, и когда, наоборот, во имя единства теснится и упраздняется свобода
частного бытия,— все это: и исключительное самоутверждение (эгоизм),
1 Обоснование этого утверждения принадлежит к области метафизики, а не
эстетики.
567
и анархический партикуляризм, и деспотическое объединение мы должны
признать злом. Но то же самое, перенесенное из практической сферы в
теоретическую, есть ложь. Ложью называем мы такую мысль, которая берет
исключительно одну какую-нибудь из частных сторон бытия и во имя ее
отрицает все прочие; ложью называем мы и такое умственное состояние,
которое дает место лишь неопределенной совокупности частных
эмпирических положений, отрицая общий смысл или разумное единство
вселенной; наконец, ложью должны мы признать отвлеченный монизм или
пантеизм, отрицающий всякое частное существование во имя принципа
безусловного единства. И те же самые существенные признаки, которыми
определяется зло в сфере нравственной и ложь в сфере умственной, они же
определяют безобразие в сфере эстетической. Все то безобразно, в чем одна
часть безмерно разрастается и преобладает над другими, в чем нет
единства и цельности и, наконец, в чем нет свободного разнообразия.
Анархическая множественность так же противна добру, истине и красоте, как и
мертвое подавляющее единство: попытка реализовать это последнее для
чувств сводится к представлению бесконечной пустоты, лишенной всяких
особенных и определенных образов бытия, то есть к чистому безобразию.
Достойное, идеальное бытие требует одинакового простора для целого
и для частей,— следовательно, это не есть свобода от особенностей, а
только от их исключительности. Полнота этой свободы требует, чтобы все
частные элементы находили себя друг в друге и в целом, каждое полагало себя
в другом и другое в себе, ощущало в своей частности единство целого
и в целом свою частность,— одним словом, абсолютная солидарность всего
существующего, бог все во всех.
Полное чувственное осуществление этой всеобщей солидарности или
положительного всеединства — совершенная красота не как отражение
только идеи от материи, а действительное ее присутствие в материи —
предполагает прежде всего глубочайшее и теснейшее взаимодействие
между внутренним, или духовным, и внешним, или вещественным, бытием.
Это есть основное собственно эстетическое требование, здесь
специфическое отличие красоты от двух других аспектов абсолютной идеи. Идеальное
содержание, остающееся только внутреннею принадлежностью духа, его
воли и мысли, лишено красоты, а отсутствие красоты есть бессилие идеи.
В самом деле, пока дух неспособен дать своему внутреннему содержанию
непосредственного внешнего выражения, воплотиться в материальном
явлении, и пока, с другой стороны, вещество неспособно к восприятию
идеального действия духа, неспособно проникнуться им, претвориться или
пресуществиться в него, до тех пор, значит, между этими главными
областями бытия нет солидарности, а это значит, что у самой идеи, которая
именно и есть совершенная солидарность всего существующего, нет еще
здесь, в этом ее явлении, достаточно силы для окончательного
осуществления или исполнения ее сущности. Абстрактный, не способный к
творческому воплощению дух и бездушное, не способное к одухотворению
вещество — оба несообразны с идеальным или достойным бытием, и оба носят
568
на себе явный признак своего недостоинства в том, что ни тот, ни другой
не могут быть прекрасными. Для полноты этого последнего качества
требуются, таким образом: 1) непосредственная материализация духовной
сущности и 2) всецелое одухотворение материального явления как
собственной неотделимой формы идеального содержания. К этому двоякому
условию необходимо присоединяется или, лучше сказать, прямо из него
вытекает третье: при непосредственном и нераздельном соединении в
красоте духовного содержания с чувственным выражением, при их полном
взаимном проникновении материальное явление, действительно ставшее
прекрасным, то есть действительно воплотившее в себе идею, должно стать
таким же пребывающим и бессмертным, как сама идея. По гегельянской
эстетике красота есть воплощение универсальной и вечной идеи в частных
и преходящих явлениях, причем они так и остаются преходящими,
исчезают, как отдельные волны в потоке материального процесса, лишь на
минуту отражая сияние вечной идеи. Но это возможно только при
безразличном, равнодушном отношении между духовным началом и
материальным явлением. Подлинная же и совершенная красота, выражая полную
солидарность и взаимное· проникновение этих двух элементов, необходимо
должна делать один из них (материальный) действительно причастным
бессмертию другого.
Обращаясь к прекрасным явлениям физического мира, мы найдем, что
они далеко не исполняют указанных требований или условий совершенной
красоты. Во-первых, идеальное содержание в природной красоте
недостаточно прозрачно, оно не открывает здесь всей своей таинственной глубины,
а обнаруживает лишь свои общие очертания, иллюстрирует, так сказать,
в частных конкретных явлениях самые элементарные признаки и
определения абсолютной идеи. Так, свет в своих чувственных качествах
обнаруживает всепроницаемость и невесомость идеального начала; растения
своим видимым образом проявляют экспансивность жизненной идеи и
общее стремление земной души к высшим формам бытия; красивые
животные выражают интенсивность жизненных мотивов, объединенных в
сложном целом и уравновешенных настолько, чтобы допускать свободную игру
жизненных сил, и т. д. Во всем этом несомненно воплощается идея, но
лишь самым общим и поверхностным образом, с внешней своей стороны.
Этой поверхностной материализации идеального начала в природной
красоте соответствует здесь столь же поверхностное одухотворение материи,
откуда возможность кажущегося противоречия формы с содержанием:
типически злой зверь может быть весьма красивым (противоречие здесь
только кажущееся, именно потому, что природная красота по своему
поверхностному характеру вообще неспособна выражать идею жизни в ее
внутреннем, нравственном качестве, а лишь в ее внешних физических
принадлежностях, каковы — сила, быстрота, свобода движения и т. п. ). С этим
же связано и третье существенное несовершенство природной красоты:
так как она лишь снаружи и вообще прикрывает безобразие
материального бытия, а не проникает его внутренно и всецело (во всех частях), то
569
и сохраняется эта красота неизменною и вековечною лишь вообще, в
своих общих образцах — родах и видах, каждое же отдельное прекрасное
явление и существо в своей собственной жизни остается под властью
материального процесса, который сначала прорывает его прекрасную форму,
а потом и совсем его разрушает. С точки зрения натурализма эта
непрочность всех индивидуальных явлений красоты есть роковой неизбежный
закон. Но чтобы примириться хоть бы только теоретически с этим
торжеством всеразрушающего материального процесса, должно признать (как и
делают последовательные умы этого направления) красоту и вообще все
идеальное в мире за субъективную иллюзию человеческого воображения.
Но мы знаем, что красота имеет объективное значение, что она действует
вне человеческого мира, что сама природа неравнодушна к красоте. А в
таком случае, если ей не удается осуществить совершенную красоту в
области физической жизни, то недаром же она путем великих трудов и
усилий, страшных катастроф и безобразных, но необходимых для
окончательной цели порождений поднялась из этой низшей области в сферу
сознательной жизни человеческой. Задача, неисполнимая средствами
физической жизни, должна быть исполнима средствами человеческого творчества.
Отсюда троякая задача искусства вообще: 1) прямая объективация тех
глубочайших внутренних определений и качеств живой идеи, которые не
могут быть выражены природой; 2) одухотворение природной красоты и
чрез это 3) увековечение ее индивидуальных явлений. Это есть
превращение физической жизни в духовную, то есть в такую, которая, во-первых,
имеет сама в себе свое слово, или откровение, способна непосредственно
выражаться вовне, которая, во-вторых, способна внутренно преображать,
одухотворять материю или истинно в ней воплощаться и которая,
в-третьих, свободна от власти материального процесса и потому пребывает
вечно. Совершенное воплощение этой духовной полноты в нашей
действительности, осуществление в ней абсолютной красоты или создание
вселенского духовного организма есть высшая задача искусства. Ясно, что
исполнение этой задачи должно совпасть с концом всего мирового процесса.
Пока история еще продолжается, мы можем иметь только частные и
отрывочные предварения (антиципации) совершенной красоты; существующие
ныне искусства, в величайших своих произведениях схватывая проблески
вечной красоты в нашей текущей действительности и продолжая их далее,
предваряют, дают предощущать нездешнюю, грядущую для нас
действительность и служат, таким образом, переходом и связующим звеном между
красотою природы и красотою будущей жизни. Понимаемое таким образом
искусство перестает быть пустою забавою и становится делом важным и
назидательным, но отнюдь не в смысле дидактической проповеди, а лишь
в смысле вдохновенного пророчества. Что такое высокое значение
искусства не есть произвольное требование, явствует из той неразрывной связи,
которая некогда действительно существовала между искусством и религиею.
Эту первоначальную нераздельность религиозного и художественного дела
мы не считаем, конечно, за идеал. Истинная, полная красота требует боль-
570
шого простора для человеческого элемента и предполагает более высокое-
и сложное развитие социальной жизни, нежели какое могло быть
достигнуто в первобытной культуре. На современное отчуждение между религией
и искусством мы смотрим как на переход от их древней слитности к
будущему свободному синтезу. Ведь и та совершенная жизнь, предварения
которой мы находим в истинном художестве, основана будет не на
поглощении человеческого элемента божественным, а на их свободном
взаимодействии.
Теперь мы можем дать общее определение действительного искусства
по существу: всякое ощутительное изображение какого бы-то ни было
предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете
будущего мира, есть художественное произведение.
III
Эти предварения совершенной красоты в человеческом искусстве
бывают трех родов: 1) прямые или магические, когда глубочайшие
внутренние состояния, связывающие нас с подлинною сущностью вещей и с
нездешним миром (или, если угодно, с бытием an sich 1 всего существующего),
прорываясь сквозь всякие условности и материальные ограничения,
находят себе прямое и полное выражение в прекрасных звуках и словах
(музыка и отчасти чистая лирика) 2; 2) косвенные, через усиление
(потенцирование) данной красоты, когда внутренний существенный и вечный смысл
жизни, скрытый в частных и случайных явлениях природного и
человеческого мира и лишь смутно и недостаточно выраженный в их естественной
красоте, открывается и уясняется художником через воспроизведение этих
явлений в сосредоточенном, очищенном, идеализованном виде: так
архитектура воспроизводит в идеализованном виде известные правильные
формы природных тел и выражает победу этих идеальных форм над основным
антиидеальным свойством вещества — тяжестью; классическая
скульптура, идеализуя красоту человеческой формы и строго соблюдая тонкую, но
точную линию, отделяющую телесную красоту от плотской, предваряет
в изображении ту духовную телесность, которая некогда откроется нам в
живой действительности; пейзажная живопись (и отчасти лирическая
поэзия) воспроизводит в сосредоточенном виде идеальную сторону сложных
явлений внешней природы, очищая их ото всех материальных случайностей
1 В себе (нем.),
2 Разумею такие лирические стихотворения (а также лирические места в
некоторых поэмах и драмах), эстетическое впечатление которых не исчерпывается теми
мыслями и образами, из которых состоит их словесное содержание. Вероятно, на
это намекал Лермонтов в известных стихах:
Есть звуки — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
571
(даже от трехмерной протяженности), а живопись (и поэзия)
религиозная есть идеализованное воспроизведение тех явлений из истории
человечества, в которых заранее открывался высший смысл нашей жизни.
3) Третий отрицательный род эстетического предварения будущей
совершенной действительности есть косвенный, чрез отражение идеала от
несоответствующей ему среды, типически усиленной художником для
большей яркости отражения. Несоответствие между данною действительностью
и идеалом или высшим смыслом жизни может быть различного рода: во-
первых, известная человеческая действительность, по-своему совершенная
и прекрасная (именно в смысле природного человека), не удовлетворяет,
однако, тому абсолютному идеалу, для которого предназначены духовный
человек и человечество. Ахилл и Гектор, Приам и Агамемнон, Кришна,
Арджуна и Рама — несомненно прекрасны, но чем художественнее
изображены они ип дела, тем яснее в окончательном результате, что не они
настоящие люди и что не их подвиги составляют настоящее человеческое
дело. По всему вероятию, Гомер,-— а авторы индийских поэм наверное —
не имели в виду этой мысли, и мы должны назвать героический эпос
бессознательным и смутным отражением абсолютного идеала от прекрасной,
но не адекватной ему человеческой действительности, которая поэтому
и обречена на гибель:
Будет некогда день, и погибнет священная Троя.
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.
Новейшие поэты, возвращаясь к темам античного эпоса, сознательно
и в виде всеобщей истины выражают ту идею, которая сама собою
конкретно выступает в их образцах. Таково «Торжество победителей»
Шиллера:
Все великое земное
Разлетается как дым:
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим...
и еще яснее (как подчеркнутое впечатление) в балладе Жуковского:
Отуманилася Ида,
Омрачился Илион,
Спит во мраке стан Атрида,
На равнине битвы сон... — И т. д.
Более глубокие отношения к неосуществленному идеалу находим мы
в трагедии, где сами изображаемые лица проникнуты сознанием
внутреннего противоречия между своею действительностью и тем, что должно
быть. Комедия, с другой стороны, усиливает и углубляет чувство идеала
тем, что, во-первых, подчеркивает ту сторону действительности, которая
ни в каком смысле не может быть названа прекрасною, а во-вторых,—
представляет лиц, живущих этой действительностью, как вполне
довольных ею, чем усугубляется их противоречие с идеалом. Это самодовольство,
572
а никак не внешние свойства сюжета, составляет существенный признак
комического в отличие от трагического элемента. Так, например, Эдип,
убивший своего отца и женившийся на своей матери, мог бы быть,
несмотря на это, лицом высоко комическим, если бы он относился к своим
страшным приключениям с благодушным самодовольством, находя, что все
случилось нечаянно и он ни в чем не виноват, а потому и может спокойно
пользоваться доставшимся ему царством 1.
Определяя комедию как отрицательное предварение жизненной
красоты через типичное изображение антиидеальной действительности в ее
самодовольстве, под этим самодовольством мы разумеем, конечно, никак не
довольство того или другого действующего лица тем или другим частным
положением, а лишь общее довольство целым данным строем жизни,
вполне разделяемое и теми действующими лицами, которые чем-нибудь
недовольны в данную минуту. Так, мольеровские герои, конечно, весьма
недовольны, когда их бьют палками, но они вполне удовлетворяются тем
порядком вещей, при котором битье палками есть одна из основных форм
общежития. Подобным образом, хотя Чацкий в «Горе от ума» и сильно
негодует на жизнь московского общества, но из его же речей явствует, что
он был бы совершенно доволен этою жизнью, если бы только Софья
Павловна оказывала ему больше внимания и если бы гости Фамусова не
слушали с благоговением французика из Бордо и не болтали бы
по-французски: поэтому при всем своем недовольстве и даже отчаянии Чацкий
оставался бы лицом вполне комическим, если бы только он вообще был живым
лицом. Иногда моральное негодование по поводу какой-нибудь
подробности подчеркивает довольство всею дурною действительностью, отчего
комическое впечатление еще усиливается. Так, в «Свадьбе Кречинского» яркий
комизм одного монолога основан на том, что говорящее лицо, пострадавшее
за шулерство, находит совершенно нормальным, что одни мошенничают
в карточной игре, а другие их за это бьют, но только возмущается
чрезмерностью возмездия в данном случае.
Если помимо указанного различия между эпическим, трагическим и
комическим элементом мы разделим все человеческие типы, подлежащие
художественному воспроизведению, на положительные и отрицательные
(как это обыкновенно делают), то легко видеть, что первые должны
преобладать в изобразительных искусствах (скульптуре и живописи), а
вторые — в поэзии. Ибо скульптура и живопись имеют непосредственно дело
с телесными формами, красота которых уже реализована в
действительности, хотя и требует еще усиления или идеализации; тогда как главный
предмет поэзии есть нравственная и социальная жизнь человечества,
бесконечно далекая от осуществления своего идеала. Для того чтобы изваять
прекрасное тело или написать прекрасное лицо, очевидно, не нужно того
1 Разумеется, комизм был бы возможен здесь именно потому, что преступление
не было личным намеренным действием. Сознательный преступник, довольный
самим собою и своими делами, не трагичен, но отвратителен, а никак не комичен.
573
пророческого угадывания и той прямо-творческой силы, которые
необходимы для поэтического изображения совершенного человека или
идеального общества. Поэтому, кроме религиозных эпопей (которые, за
немногими исключениями, заслуживают одобрения только по замыслу, а не по
исполнению), самые великие поэты воздерживались от изображения прямо-
идеальных или положительных типов. Таковыми у Шекспира являются
или отшельники (в «Ромео и Юлии»), или волшебники (в «Буре»), а
преимущественно женщины, и именно обладающие более непосредственно-
природной чистотой, нежели духовно-человеческим нравственным
характером. А Шиллер, имевший слабость к добродетельным типам обоего пола,
изображал их сравнительно плохо.
Чтобы видеть, что в самых великих произведениях поэзии смысл
духовной жизни реализуется только чрез отражение от неидеальной
человеческой действительности, возьмем гётевского «Фауста». Положительный
смысл этой лирико-эпической трагедии открывается прямо только в
последней сцене второй части и отвлеченно резюмируется в заключительном
хоре: «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis» etc l. Но где же прямая
органическая связь между этим апофеозом и прочими частями трагедии?
Небесные силы и «das ewig Weibliche» 2 являются сверху, следовательно,
все-таки извне, а не раскрываются изнутри самого содержания. Идея
последней сцены присутствует во всем «Фаусте», но она лишь отражается
от того частью реального, частью фантастического действия, из которого
состоит сама трагедия. Подобно тому как луч света играет в алмазе к
удовольствию зрителя, но без всякого изменения материальной основы камня,
так и здесь духовный свет абсолютного идеала, преломленный
воображением художника, озаряет темную человеческую действительность, но
нисколько не изменяет ее сущности. Допустим, что поэт более могучий, чем
Гёте и Шекспир, представил нам в сложном поэтическом произведении
художественное, то есть правдивое и конкретное, изображение истинно-
духовной жизни — той, которая должна быть, которая совершенно
осуществляет абсолютный идеал,— все-таки и это чудо искусства, доселе не
удававшееся ни одному поэту 3, было бы среди настоящей
действительности только великолепным миражем в безводной пустыне, раздражающим,
а не утоляющим нашу духовную жажду. Совершенное искусство в своей
окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном
воображении, айв самом деле,— должно одухотворить, пресуществить
нашу действительную жизнь. Если скажут, что такая задача выходит за
пределы искусства, то спрашивается: кто установил эти пределы? В
истории мы их не находим; мы видим здесь искусство изменяющееся,— в про-
1 «Все преходящее — только подобие» (нем.).
2 «Вечно женственное» (нем.).
3 В третьей части «Божественной комедии» Данте рай изображен чертами, быть
может, и верными, но, во всяком случае, недостаточно живыми и конкретными,—
существенный недостаток, который не может быть искуплен и самыми
благозвучными стихами.
Ö74
цессе развития. Отдельные отрасли его достигают возможного в своем
роде совершенства и более не преуспевают; зато возникают новые. Все,
кажется, согласны в том, что скульптура доведена до своего
окончательного совершенства древними греками; едва ли также можно ожидать
дальнейшего прогресса в области героического эпоса и чистой трагедии.
Я позволю себе идти далее и не нахожу особенно смелым утверждение,
что как указанные формы художества завершены еще древними, так
новоевропейские народы уже исчерпали все прочие известные нам роды
искусства, и если это последнее имеет будущность, то в совершенно
новой сфере действия. Разумеется, это будущее развитие эстетического
творчества зависит от общего хода истории; ибо художество вообще есть
область воплощения идей, а не их первоначального зарождения и роста.
Там же, стр. 75—92.
О ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
По поводу послед ни χ стихотворений Фета
и Полонского
(1890)
Лирическая поэзия после музыки представляет самое прямое
откровение человеческой души. Но из этого не следует выводить, по ходячей
гегельянской схеме, что лирика есть «поэзия субъективности». Это такое
определение, от которого, по выражению Я. П. Полонского, «ничего не
жди хорошего». [...]
Ясно, во-первых, что субъективные состояния как таковые вообще не
допускают поэтического выражения; чтобы можно было облечь их в
определенную форму, нужно, чтоб они стали предметом мысли и,
следовательно, перестали быть только субъективными. Предметом поэтического
изображения могут быть не переживаемые в данный момент душевные
состояния, а пережитые и представляемые. Но и в этом смысле далеко не все
состояния души могут быть предметом лирической поэзии. [...]
Чтобы воспроизвести свои душевные состояния в стихотворении, поэт
должен не просто пережить их, а пережить их именно в качестве
лирического поэта. А если так, то ему вовсе не нужно ограничиваться
случайностями своей личной жизни, он не обязан воспроизводить непременно свою
субъективность, свое настроение, когда он может усвоить себе и чужое,
войти, так сказать, в чужую душу. [...]
И не только Пушкину, но и такому чистому лирику, как Фет, нередко
удавалось прекрасно воспроизводить чужую и во всех отношениях от него
далекую субъективность, например любовь арабской девушки тысячу лет
тому назад. [...]
575
[...] В поэтическом откровении нуждаются не болезненпые наросты и не
пыль и грязь житейская, а лишь внутренняя красота души человеческой,
состоящая в ее созвучии с объективным смыслом вселенной, в ее
способности индивидуально воспринимать и воплощать этот всеобщий
существенный смысл мира и жизни. В этом отношении лирическая поэзия
нисколько не отличается от других искусств: и ее предмет есть
существенная красота мировых явлений, для восприятия и воплощения которой
нужен особый подъем души над обыкновенными ее состояниями. [...]
[...] Лирика останавливается на более простых, единичных и вместе с тем
более глубоких моментах созвучия художественной души с истинным
смыслом мировых и жизненных явлений; в настоящей лирике, более чем
где-либо (кроме музыки), душа художника сливается с данным
предметом или явлением в одно нераздельное состояние. Это есть первый
признак лирической поэзии, ее задушевность или по-немецки Innerlichkeit.
Но это лишь особенность лирического настроения, доступного и простым
смертным, особенно так называемым «поэтам в душе». Что же касается
особенности лирического произведения, то она состоит в совершенной
слитности содержания и словесного выражения. В истинно лирическом
стихотворении нет вовсе содержания, отдельного от формы, чего нельзя
сказать о других родах поэзии. Стихотворение, которого содержание может
быть толково и связно рассказано своими словами в прозе, или не
принадлежит к чистой лирике, или никуда не годится1. Наконец, третья
существенная особенность лирической поэзии состоит в том, что она
относится к основной постоянной стороне явлений, чуждаясь всего, что
связано с процессом, с историей. Предваряя полное созвучие внутреннего
с внешним, предвкушая в минуту вдохновения всю силу и полноту
истинной жизни, лирический поэт равнодушен к этому историческому труду,
который стремится превратить этот нектар и амброзию в общее достояние.
Хотя многие поэты от Тиртея и до Некрасова вдохновлялись
патриотическими и цивическими мотивами, но никто из понимающих дело не
смешает этой прикладной лирики с лирикой чистою. [...]
Каковы бы ни были философские и религиозные воззрения истинного
поэта, но, как поэт, он непременно верит и внушает нам веру в
объективную реальность и самостоятельное значение красоты в мире. [...]
Поэт вдохновляется не произвольными, преходящими субъективными
вымыслами, а черпает свое вдохновение из той вековечной глубины бытия,
1 Поэтому для хорошего перевода лирического стихотворения необходимо,
чтобы переводчик возбудил в себе то же лирическое настроение, из которого вышло
подлинное стихотворение, и затем нашел соответствующее этому настроению
выражение на своем языке. Для лирического перевода вдохновение нужнее, чем
для всякого другого.
576
Где слово немеет, где царствуют звуки,
Где слышишь не песню, а душу певца,
Где дух покидает ненужное тело,
Где внемлешь, что радость не знает предела,
Где веришь, что счастью не будет конца. [...]
Эта заветная глубина душевного мира так же реальна и так же
всеобъемлюща, как и мир внешний; поэт видит здесь «два равноправные
бытия». [...]
Внутренний духовный мир еще более реален и бесконечно более
значителен для поэта, чем мир материального бытия. [...]
[...] Ее [поэзии] дело не в том, чтобы предаваться произвольным
фантазиям, а в том, чтобы провидеть абсолютную правду всего
существующего. [...]
Прежде чем перейти к содержанию лирической поэзии, мы должны
сначала остановиться в той области лирического чувства, где никакого
определенного содержания еще нет, где источник вдохновения еще не
нашел себе русла, где виден только взмах крыльев, слышен только вздох по
неизреченности бытия:
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!
Чтоб уловить и фиксировать эти глубочайшие душевные состояния,
поэзия должна почти слиться с музыкой; здесь в особенности мы имеем
откровение той заветной глубины душевной, «где слово немеет, где
царствуют звуки, где слышишь не песню, а душу певца». [...]
Помимо его безглагольных и беспредметных стихотворений у Фета
есть и такие, в которых известный определенный мотив — любовь,
картина природы — насквозь проникнут безграничностью лирического порыва,
не допускающего никаких твердых очертаний и как бы окутывающего
свой предмет «дымкой-невидимкой». Такие стихотворения также
находятся на границе между поэзией и музыкой, а иногда и прямо вызваны
музыкальными впечатлениями. [...]
В последнее время даже ученые материалисты начинают неожиданно
для самих себя подходить к истине, давно известной мистикам и
натурфилософам, именно, что жизнь бодрствующего сознания, связанная с
головным мозгом, есть только часть нашей душевной жизни, имеющей
другую, более глубокую и коренную область (связанную, по-видимому,
с брюшною нервною системой, а также с сердцем). Эта «ночная сторона»
души, как ее называют немцы, обыкновенно скрытая от нашего
бодрствующего сознания и проявляющаяся у нормальных людей только в редких
19 «История эстетики», т. 4 (1 полу!ом) &ϊ·
случаях знаменательных сновидений, предчувствий и т. п., при
нарушении внутреннего равновесия в организме прорывается более явным и
постоянным рядом явлений и образует то, что не совсем точно называется
двойною, тройною и т. д. личностью. В нормальном состоянии такого
распадения быть не может, но иногда очень сильно чувствуется не только
существование другой, скрытой стороны душевного бытия, но и ее
влияние на нашу явную сознательную жизнь. Это чувство прекрасно
выражено у Фета. [...]
Общий смысл вселенной открывается в душе поэта двояко: с внешней
своей стороны, как красота природы, и с внутренней, как любовь, я
именно в ее наиболее интенсивном и сосредоточенном выражении — как
любовь половая. Эти две темы: вечная красота природы и бесконечная сила
любви, и составляют главное содержание чистой лирики. [...]
Истинный смысл вселенной — индивидуальное воплощение мировой
жизни, живое равновесие между единичным и общим, или присутствие
всего в одном,— этот смысл, находящий себе самое сосредоточенное
выражение для внутреннего чувства в половой любви, он же для созерцания
является как красота природы. В чувстве любви, упраздняющем мой
эгоизм, я наиболее интенсивным образом внутри себя ощущаю ту самую
божью силу, которая вне меня экстенсивно проявляется в создании
природной красоты, упраздняющей материальный хаос, который есть в основе
своей тот же самый эгоизм, действующий и во мне. Внутреннее тождество
этих двух проявлений мирового смысла наглядно открывается нам в тех
стихотворениях, где поэтический образ природы сливается с любовным
мотивом. [...]
Там же, стр. 234—240, 244—247, 253—254.
В. Я. БРЮСОВ
1873-1924
Эстетические взгляды Валерия Яковлевича Брюсова, поэта, прошедшего большой
и сложный путь от зачинателя символизма до делателя новой, советской культуры,
не образуют стройной и законченной системы. В дооктябрьский период они часто
и резко менялись. Немногочисленные посвященные общим вопросам эстетики
работы Брюсова в этот самый большой в его биографии период отмечены чертами
соединения и смены самых различных и весьма субъективно истолкованных
мировоззрений, систем, авторитетов — от Чернышевского до Шопенгауэра и от Л.
Толстого до Уайльда. Эстетические декларации сочинялись им иногда главным
образом для обоснования его литературной позиции, его деятельности как поэта и вождя
поэтической группировки.
578
Вместе с тем статьи Брюсова по эстетике представляют интерес не только как
памятники литературной борьбы эпохи, но и как вехи своеобразного пути,
характерного для значительной части русской дореволюционной интеллигенции.
В своих эстетических декларациях 90-х годов молодой Брюсов исходил из
признания «души» единственной и самодовлеющей ценностью, только и подлежащей
выражению в искусстве. Искусство, как считает Брюсов в этот период, ничего не
знает о мире; оно служит общению людей, частичному и неполному преодолению
их роковой разъединенности. Эти положения утверждали субъективизм в искусстве
(и прежде всего в лирике) и, как считал Брюсов, были направлены против
эпигонской «гражданской» поэзии. 900-е годы поставили перед Брюсовым и его
единомышленниками новые задачи. Важнейшую из них — обоснование особой, ведущей
роли искусства в жизни человека и человечества — Брюсов пытался разрешать
с помощью неокантианских идей, распространенных среди сторонников «нового
искусства».
Уже в статье 1903 года «Ключи тайн» Брюсов отказывается от взгляда на
искусство как на «средство общения». Теперь искусство для него — «прозрение»,
провидение, внечувственное познание внечувственного мира. Это интуитивное
познание не имеет ничего общего с исследованием реального мира (который
представляется Брюсову хаосом обманчивых ощущений), и только оно, только «вдохновенное
угадывание» таинственных духовных начал жизни, открывает человеку истину.
В статье «Священная жертва» (1904) Брюсов возвращается к положению,
гласящему, что единственной сущностью, постигаемой и выражаемой в искусстве,
является внутренний мир художника, его «душа». Поскольку это так, искусство
свободно от общественных норм и объективных критериев, открыто и «величию»
и «низости». Пафос этой статьи, как и других высказываний Брюсова об
искусстве в годы первой русской революции,— в защите «свободы творчества» от
посягательств борющихся общественных сил. Известно, что в эти годы Брюсов резко
выступил против статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература»
с позиций буржуазного анархизма1. Наиболее полно взгляды Брюсова на
соотношение искусства и общественной борьбы высказаны в его заметке «Современные
соображения»2. Искусство, считает Брюсов, рождается из вечных запросов духа,
выражает глубины личности; злоба дня — только рябь на поверхности душевной
жизни и потому недостойна быть предметом искусства.
С конца 900-х годов брюсовская точка зрения на смысл и значение искусства
опять решительно изменяется. Брюсов все настойчивее говорит о необходимости
связи между искусством и жизнью. Говоря о жизни, писатель имеет теперь в
виду не индивидуальные переживания замкнутой в себе личности (напротив,
Брюсов в эти годы постоянно отмечает ограниченность субъективной лирики), а
победное шествие цивилизации, изменившее прежние отношения человека и мира.
Искусство должно отражать эти изменения, считает Брюсов. Оно должно стать
орудием прогресса, посредником между человеком и цивилизацией. Сознание
современного человека отягощено грузом еще не пережитых, непривычных знаний.
1 Вехи. I. Свобода слова.— «Весы», 1905, № И.
2 «Искусство», 1905, № 8.
19*
579
Искусство как синтетический и в то же время общепонятный способ мышления
должно помочь усвоению этих знаний. Такова суть защищаемого Брюсовым с конца
900-х годов тезиса о «научной поэзии». Попытку осуществления на новой основе
этих идей Брюсов предпринял в 20-е годы, уже будучи деятелем советской
культуры. Писатель почти не занимался в этот период общими вопросами теории
искусства, но его критические статьи советского времени отражают стремление
приблизиться к марксизму.
Многие теоретические высказывания Брюсова имеют значение для истории
эстетической мысли и идейной борьбы, среди них встречаются соображения,
представляющие значительный актуальный интерес как свидетельство многолетних
идейных поисков писателя, высокую культуру которого в отзыве о нем
подчеркивал М. Горький.
О ИСКУССТВЕ
(1899)
[...] Задача искусства — сохранить для времени, воплотить [.,.]
мгновенное [...] мимоидущее. Художник пересказывает свои настроения; его
постоянная цель — раскрыть другим свою душу. Человек умирает, его душа,
неподвластная разрушению, ускользает и живет иной жизнью. Но если
умерший был художник, если он затаил свою жизнь в звуках, красках
или словах,— душа его, все та же, жива и для земли, для человечества.
[...] Кто дерзает быть художником, должен быть искренним — всегда,
без предела. Все настроения равноценны в искусстве, ибо ни одно не
повторится; каждое дорого уже потому, что оно единственное. Душа σο
своей сущности не знает зла. Чем яснее поймет кто свою душу, [тем] чище
и возвышеннее будут его думы и чувства. Стремление глубже понять
себя, идти все вперед, уже святыня. Нет осуждения чувствам истинного
художника. Иное в отдельности еще неполная правда, но как часть души
может быть необходимым. Истинно понятое зло всегда ступень на
бесконечном пути к совершенству.
Тот более велик из художников, кто глубже понял и полнее
пересказал свою душу. Это наша ограниченность делить художников на великих
и меньших. В малом мире человека, как в великом мире вселенной, все
находится в связи, все дышит взаимным согласием. По одному
искреннему созданию Великий Дух угадал бы всю душу творца. Но мы вступаем
в мир новой души, как в чужую вселенную, и робко ждем указаний.—
Пусть художник с новых и новых точек зрения озаряет свою душу. Пусть,
как к цели, стремится он к тому, чтобы воссоздать весь мир в своем
истолковании.
Единственный признак истинного искусства — своеобразие; искусство
всегда создает нечто новое. Постоянный признак лжеискусства, что оно
подражательно. [...] Лицемер в искусстве обречен повторять других; кто
лжет, тот подражает.
580
Достойный имени художника может довольствоваться тем, что будет
записывать свои мелькающие настроения. Вдохновение — миг более
живого чувствования. В «искусстве для искусства» нет смысла. Повесть
дорога не как рассказ о приключениях вымышленных лиц, а как средство
узнать душу написавшего. В картине важен замысел, а не красота
изображенного моря или тела,— они красивее в действительности. Чем дальше
в свою область вступает искусство, тем определеннее становится оно
свободным излиянием чувства (лирикой).
Меняются приемы творчества, но никогда не может умереть или
устареть душа, вложенная в создания искусства. Если язык стихотворения
еще позволяет прочесть, если по собранным обломкам можно уловить
намерение ваятеля, то не умерла душа творца и для нас, живущих.
Искусство воплощает настроения; в настроении проявляет свою жизнь душа.
Но что же и есть для сознания в этом мире, как не проявления души?
Душа иервее мертвой природы, осужденной исчезнуть, как призрак. Вот
почему создания искусства мы называем бессмертными.
Наслаждение созданием искусства — в общении с душою художника.
Читатель, зритель, слушатель — становятся причастны иной,
просветленной жизни. И между собою общаются они чувствами. Это наслаждение —
не то же, что обычное удовольствие. Многие создания искусства оставляют
тягостное впечатление. Разве не плачут на представлениях, разве не
закрывают повесть без сил дочитать? Но над этими ощущениями
господствует что-то сладостное, чувство удовлетворения, счастье единения. Ибо
воистину бываешь едино с художником, переживая, что он чувствовал.
Художник не может большего, как открыть другим свою душу. Нельзя
представлять ему заранее составленные правила. Он — еще неведомый
мир, где все новое. Надо забыть, что пленяло у других, здесь иное. Иначе
будешь слушать и не услышишь, будешь смотреть, не понимая. Каждого
художника должно судить — говоря словами одного мудреца1—по
законам, им самим себе поставленным. Этих законов не меньше, чем
художников, у каждого свои.
[...] Если художник выразил в словах, или звуках, или внешних
образах свое настроение, насколько сумел или насколько возможно,— он уже
выполнил свое дело. Он дал возможность другому пережить свое чувство.
Цель в художественном творчестве одна: выразить именно свое
настроение, и выразить его полно. Общепонятность или общедоступность
недостижима просто потому, что люди различны.
Чтобы истинно наслаждаться искусством, надо учиться и вдумываться
и быть живым. Чья душа застыла в ледяном покрове личины, тот не жив,
тот неспособен чувствовать чувствами других. Кто умер для любви, умер
1 Имеются в виду известные слова А. С. Пушкина в письме к Бестужеву:
«Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным»
(А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, изд. 3, т. X, М., 1966,
стр. 121). (Прим. сост.)
581
для искусства. Чем глубже ум постигает вселенную и человеческую душу,
тем вернее сердце почувствует тайну образов или звуков. Но всего этого
мало. Необходимо быть знакомым с внешними приемами
художественного творчества, необходимо вполне освоиться с ними. Ибо в искусстве
много условно и долго еще будет условным; настроение и то, в чем оно
выражается,— слово, звук, краски — разнородны. Учебники искусства
нужны не только для творцов, но и для всех любителей. Вполне же
наслаждаются искусством только художники.
[...] Все свои произведения художник находит только в самом себе. Век
дает только образы, только прикрасы; художественная школа учит
внешним приемам, а содержание надо черпать из души своей. Кто изучает по
произведениям искусства время и его особенности,— усматривает в
искусстве не существенное, а второстепенное; с равным успехом можно изучать
время по покрою платья. Неверно видеть в искусстве только созданное
историческим мгновением; противоположное мнение, что жизнь и природа
создаются искусством, несколько правильнее. Во всяком случае, если бы
тот же художник явился позже на два столетия, он сказал бы, хотя и в
иной внешности, то же, совсем то же. Человек — сила творческая.
Задача художественного разбора (критики) помочь читателю, зрителю,
слушателю; истолкователь искусства — проводник в новых мирах. Он
отвергает только повторяющих прежде сказанное, всех других изучает.
Ему важно не внешнее, что дает время, что у художника общее с
современниками, а понять самую душу отдельных творцов. Разбор созданий
искусства есть новое творчество: надо, постигнув душу художника,
воссоздать ее, но уже не в мимолетных настроениях, а в тех основных,
какими определены эти настроения. Истолкователем художника может быть
только мудрец.
Роды искусства различаются по тем внешним средствам, какими они
пользуются: зодчество, ваяние, живопись, звуковое искусство и словесное.
Число это произвольное. Могут возникнуть новые искусства. Я мечтал
о таком же искусстве для глаза, как звуковое для слуха, о переменных
сочетаниях черт и красок и огней. Настроения могут быть запечатлены
иными средствами, чем теперь. Существующие далеко не совершенны.
Морская царевна, умирающая, когда грубая рука вытащила ее из родного
моря,— вот образ чувства, вовлеченного в чуждый ему мир слов, или
звуков, или красок.
Как пользоваться средствами своего искусства, этому художник
учится; следующие одинаковому учению образуют одну школу. Произведения
одной школы сходны между собой по внешним приемам творчества, но
могут быть совсем противоположными по содержанию. Правила школы —
только облегчение, не необходимость. Ни одна школа не может быть
последней, ибо в искусстве меняется содержание, человечество узнает новые
чувства. В смене художественных школ есть общий смысл: освобождение
личности. Это во всех искусствах, но особенно заметно в словесном.
582
F...] Борьбу против стеснений продолжает новая школа (декадентство,
символизм). Она яснее других поняла, чем должна быть школа в
искусстве: учением о приемах творчества, не далее.
[...] В прежних школах ближайшей целью было изображать так ярко
и живо, чтобы все как бы возникло перед глазами; эта отраженная
действительность навевала на читателя такое же настроение, как если б он
все это видел в жизни. В произведениях новой школы важны впечатления
не только об отражении, но и от самой действительности, от слов. Новой
школе еще открыто будущее.
Многие из ее приверженцев -— художники-идеалисты, то есть за
прямым содержанием их произведений кроется еще второе, внутреннее. Но
идеализм только одно из течений новой школы. [...]
В. Я. Брюсов, О искусстве, М., 1899.
КЛЮЧИ ТАЙН
(1904)
Что же такое искусство? Как оно и полезно и бесполезно вместе?
Служит красоте и часто безобразно? И средство общения и уединяет
художника?
Единственный метод, который может надеяться решить эти вопросы,—
интуиция, вдохновенное угадывание, метод, которым во все века
пользовались философы, мыслители, искавшие разгадки тайн бытия. И я укажу
на одно решение загадки искусства, принадлежащее именно философу,
которое — кажется мне — дает объяснение всем этим противоречиям. Это
ответ Шопенгауэра. У самого философа его эстетика слишком связана
с его метафизикой. Но, вырывая его угадывания из тесных оков его
мысли, освобождая его учение об искусстве от совсем случайно опутавших
его учений о «идеях», посредниках между миром ноуменов и феноменов,—
мы получим простую и ясную истину: искусство есть постижение мира
иными, не рассудочными путями. Искусство — то, что в других областях
мы называем откровением. Создания искусства — это приотворенные двери
в вечность.
Явления мира, как они открываются нам во вселенной — растянутые
в пространстве, текущие во времени, подчиненны^ закону причинности,—
подлежат изучению методами науки, рассудком. Но это изучение,
основанное на показаниях наших внешних чувств, дает нам лишь
приблизительное знание. Все наше сознание обманывает нас, перенося свойства,
условия своей деятельности на внешние предметы. Мы живем среди вечной,
исконной лжи. Мысль, а следовательно, и наука бессильны разоблачить
эту ложь. Большее, чем что они могли сделать, это указать на нее,
выяснить ее неизбежность. Наука лишь вносит порядок в хаос ложных
представлений и размещает их по рангам, делая возможным, облегчая их узна-
ние, но не познание.
583
Но мы не замкнуты безнадежно в этой «голубой тюрьме» — пользуясь
образом Фета. Из нее есть выходы на волю, есть просветы. Эти просветы—
те мгновения экстаза, сверхчувственной интуиции, которые дают иные
постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору,
в их сердцевину. Исконная задача искусства и состоит в том, чтобы
запечатлеть эти мгновения прозрения, вдохновения. Искусство начинается
в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные,
тайные чувствования. Где нет этого уяснения, нет художественного
творчества. Где нет этой тайности в чувстве — нет искусства.
«Весы», 1904, № 1.
СВЯЩЕННАЯ ЖЕРТВА
(1905)
[...] Романтизм сорвал с души поэта веревки, которыми опутывал ее
лжеклассициЗхМ, но не освободил окончательно. Художник-романтик все
еще был убежден, что искусство должно изображать одно прекрасное и
высокое, что есть многое, что не подлежит искусству, о чем оно должно
молчать... Только реализм вернул искусству весь мир, во всех его
проявлениях, великих и малых, прекрасных и безобразных. В реализме
совершилось освобождение искусства от замкнутых, очертанных пределов.
После этого достаточно было, чтобы в сознание проникла глубоко мысль
о том [что] весь мир во мне,— и уже возникало современное, наше
понимание искусства. Подобно реалистам, мы признаем единственно
подлежащим воплощению в искусстве жизнь, но, тогда как они искали ее вне
себя, мы обращаем взор внутрь. Каждый человек может сказать о себе
с таким же правом, с каким утверждаются все методологические
условности: «есть только я». Выразить свои переживания, которые и суть
единственная реальность, доступная нашему сознанию, вот что стало задачей
художника. И уже эта задача определила особенности формы, столь
характерной для «нового» искусства. Когда художники верили, что цель их
передать внешнее, они старались подражать внешним, видимым образам,
повторять их. Сознав, что предмет искусства — в глубинах чувства,
в духе, пришлось изменить и метод творчества. Вот путь, приведший
искусство к символу. Новое, символическое творчество было естественным
следствием реалистической школы, новой, дальнейшей, неизбежной
ступенью в развитии искусства.
[...] Роковым образом художник может дать только то, что в нем.
Поэту дано пересказать лишь свою душу, все равно — в форме ли
лирического непосредственного признания, или населяя вселенную, как Шекспир,
толпами вечно живых, сотворенных им видений. Художнику должно
заполнять не свои записные книжки, а свою душу1. Вместо того чтобы
1 Брюсов имеет в виду прежде всего Э. Золя с его «человеческими
документами». (Прим. сост.)
584
накапливать груды заметок и ьырезок, ему надо бросить самого себя
в жизнь, во все ее вихри. Пропасть между «словами» и «делами»
художника исчезла для нас, когда оказалось, что творчество лишь отражение
жизни и ничего более.
[...] Мы, которым Эдгар По открывал весь соблазн своего «демона
извращенности», мы, для которых Ницше переоценивал старые ценности,
не можем идти за Пушкиным на... путь молчания 1. Мы знаем только один
завет к художнику: искренность, крайнюю, последнюю. Нет особых мигов,
когда поэт становится поэтом: он или всегда поэт, или никогда. И душа не
должна ждать божественного глагола, чтобы встрепенуться, «как
пробудившийся орел» 2. Этот орел должен смотреть на мир вечно бессонными
глазами. Если не настало время, когда для него в этом прозрении —
блаженство, мы готовы заставить его бодрствовать во что бы то ни стало,
ценой страданий. Мы требуем от поэта, чтобы он неустанно приносил
свои «священные жертвы» не только стихами, но каждым часом своей
жизни, каждым чувством,— своей любовью, своей ненавистью,
достижениями и падениями. Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь.
Пусть хранит он алтарный пламень неугасимым, как огонь Весты, пусть
разожжет его в великий костер, не боясь, что на нем сгорит и его жизнь.
На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя. Только жреческий
нож, рассекающий грудь, дает право на имя поэта.
«Весы», 1905, № 1.
РЕАЛИЗМ И УСЛОВНОСТЬ НА СЦЕНЕ
Наброски и отрывки
[...] Конечная цель искусства — особой художественной интуицией
постичь вселенную. К этой цели и стремится оно, выделяя одну сторону
действительности, уединяя ее, давая возможность на ней фиксировать все
внимание. Из бесконечного разнообразия окружающего нас мира красок,
звуков, движений, чувств — каждое искусство выбирает лишь один
элемент, как бы приглашая нас отдаться содержанию его одного, в нем искать
отражения целого. Статуя, изображающая Софокла, дает нам
представление прежде всего о формах его тела, не говоря нам, какого цвета были
у него волосы и какой тембр голоса. Любуясь пейзажем Левитана, мы не
знаем, кто именно жил в изображенной им усадьбе и каково было в ней
внутреннее расположение комнат. Шекспир рисует развитие ревности
Отелло, но ничего не говорит о том, каких взглядов придерживался
Отелло как полководец.
1 Речь идет о том, что, по мнению Брюсова, Пушкин (как собирательный образ
классического поэта) «далеко не всем сторонам своей души давал доступ в свое
творчество». (Прим. сост.)
2 Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Пока не требует поэта...».
585
Искусство всегда «сокращает действительность», являя нам одну ее
сторону. Этот прием надо признать основным для искусства, его
постоянным «modus operandi» *.
[...] В каждом искусстве есть свой элемент реализма и свой —
условности. Та сторона видимости, на которой преимущественно сосредоточено
внимание данного искусства, должна быть поглощена со всем доступным
ему реализмом. Так, скульптура стремится быть реалистической в
воспроизведении форм, предоставляя телам быть цвета то мрамора, то бронзы,
то чугуна. Точно так же в черной гравюре рисунок реалистичен, а окраска
условна. Реалистической должна быть и игра артистов, воплощающая
сценическое действие, только реализм этот не должен переходить в
натурализм. Интонация голоса артистов, их жесты, их мимика должны
соответствовать жизненной правде в той мере, в какой формы статуи
соответствуют формам человеческого тела. Мы не считаем скульптурные создания
нежизненными оттого, что они размерами больше или меньше
нормального человеческого роста,— хотя бы то был гигантский Зевс Фидия или
крохотная золотая статуэтка Челлини. Мы не считаем неправдивыми
карикатуры Леонардо да Винчи, хотя изображенные им уродства вряд ли
встречаются в жизни. Но мы отказываем в названии художественных
созданиям, которые противоречат нашим понятиям о возможном: статуям,
нарушающим законы анатомии, картинам, нарушающим законы
перспективы. Игра артистов должна быть реалистичной в том смысле, что
должна являть нам действия возможные, хотя бы и преувеличенные в ту
или иную сторону: в комедии — в сторону пошлости, в сторону величия—
в трагедии. [...]
«Театр». Книга о новом театре, Спб., 1908, стр. 245^
259.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ФРАНЦИИ.
II. Научная поэзия
[...] Первобытный человек давал название предмету, чтобы выделить
его из числа других и через то знать его. Подобно этому художник,
создавая свой художественный образ, стремится нечто осмыслить, осознать.
Образ Отелло есть художественное познание того, что такое ревность.
Все искусство есть особый метод познавания.
Становясь на эту точку зрения, мы находим между наукой и
искусством различие только в тех методах, какими они пользуются. Метод
науки (говоря в общих терминах) — анализ; метод искусства — синтез.
Наука путем сравнения, сопоставлений, соотношений пытается разложить
явления мира на их составные элементы. Искусство путем аналогий
жаждет связать элементы мира в некоторое целое. Наука, следовательно, дает
1 «Способ воздействия» (латип.).
586
те элементы, из которых творит художник, и искусство начинается там,
где наука останавливается. Это вполне совпадает с учением «научной
поэзии». [...]
«Русская мысль», 1909, № 6.
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ. Н. ГУМИЛЕВ
(1910)
[...] За пятнадцать лет борьбы новые идеи у нас, как на Западе,
одержали победу. Реализм должен был сдать те свои позиции, которые пытался
он было занять в 80-х годах. Но в то же время тем ощутительнее стало,
что и он сам тоже из числа исконных, прирожденных властелинов
в великой области искусства. Стало яснее, что начало всякого искусства—
наблюдение действительности, как вместе с тем стали виднее те
опасности, к которым ведет безудержная фантастика. В наши дни
«идеалистическое» искусство, в свою очередь, вынуждено очищать позиции, занятые
слишком поспешно. Будущее явно принадлежит какому-то, еще не
найденному, синтезу между «реализмом» и «идеализмом». [...]
В. Я. Брюсов, Далекие и близкие..., М., 1912,
стр. 145—146.
СТИХИ 1911 ГОДА
[...] Искусство не только начинает с подражания природе, но и
опирается на него как на единственную твердую почву, которую оно может
обрести. Самая смелая фантазия может только комбинировать данные
опыты. Как только искусство отрывается от действительности, его
создания лишаются плоти и крови, блекнут и умирают. Истинная дорога
искусства лежит между мертвым воспроизведением действительности и столь
же мертвой отрешенностью от жизни. [...]
Там же, стр. 193.
СИМВОЛИСТЫ
Русский символизм, возникший на рубеже XIX—XX веков в преддверии
грандиозных социальных переворотов, выразил в очень усложненной форме кризис
буржуазной философской мысли и искусства и был весьма противоречив во всех
своих проявлениях: в эстетических и философских концепциях, в творческом
методе, в эволюции как всего течения в целом, так и отдельных его
представителей.
Теоретики символизма стремились доказать универсальность своих эстетических
принципов. В их статьях постоянно встречается мысль о символической природе
587
всякого искусства и о символизме как определенной фазе развития мирового
искусства, отличного от прочих лишь тем, что художник сознательно творит символы.
Символисты резко полемически выступали против эстетики русской
классической и современной им демократической литературы. Внутренняя противоречивость
символического движения приводила к постоянным дискуссиям.
Символисты уделяли большое внимание пропаганде и утверждению своих
эстетических принципов: и в ранних журналах символистского направления «Мир
искусства» (1899—1904), «Новый путь» (1903—1904), и в органе русского
символизма «Весы» (1904—1909), и в таких журналах, как «Золотое руно» (1906—1909),
«Перевал» (1906—1907) и др., они публиковали много статей по вопросам эстетики;
помимо того они выступали с публичными лекциями, докладами и рефератами в
различных петербургских и московских обществах, занимавшихся проблемами
философии и искусства, как, например, в Литературном обществе,
Религиозно-философском обществе, Обществе свободной эстетики и др.
Эстетика символизма основывается на философском идеализме. Бели для
старшего поколения символистов — В. Брюсова, Д. Мережковского, К. Бальмонта — был
характерен субъективный идеализм, рассматривающий искусство как результат
произвольной деятельности творческой личности, то второе поколение — А. Белый,
Вяч. Иванов, А. Блок и другие — стремились с позиций объективного идеализма
утвердить искусство как раскрытие «безусловного начала» — «мировой души».
Чрезвычайно важным для них было установить связь искусства с действительностью, что
получило свое выражение в тезисе о преображении жизни искусством.
Так или иначе, влияние эстетики Шопенгауэра и Ницше испытали все
символисты, но на второе поколение оказало очень сильное воздействие мистическое
учение Вл. С. Соловьева о теургической миссии искусства, о жизнетворчестве
в искусстве.
Высказывания К. Бальмонта, Андрея Белого, Вяч. Иванова не только дают
представление об эстетике символизма, но и позволяют судить об ее эволюции
с середины 90-х годов XIX века до начала 1910-х годов, то есть в период
существования символизма как литературной школы.
Константин Дмитриевич Бальмонт, один из зачинателей символизма в России,
поэт и переводчик, преимущественно в своих стихотворениях, но также в ряде
статей и в получившей широкую известность книге «Поэзия как волшебство»
(М., 1915) высказал в самых общих чертах, чисто декларативно, свои взгляды
на искусство как на воплощение отдельных мгновений жизни, преломленных
через интуитивное восприятие художника. Поэт у Бальмонта свободен от всяких
социальных обязанностей и этических норм и чужд повседневной
действительности, а поэзия обладает магической силой, так как исполнена музыки. Бальмонт
считал музыку особым таинственным искусством, непосредственно связанным
с природными стихиями; но эта мысль не получила у него философского развития
и свелась лишь к разнообразной и очень тщательной инструментовке стиха.
Развернутую систему мировоззрения и эстетики символизма дают
многочисленные теоретические и критические статьи Андрея Белого (псевдоним Бориса
Николаевича Бугаева), выдающегося теоретика, прозаика и поэта-символиста. Сам Белый
считал, однако, что им написаны лишь «пролегомены к пролегоменам теории сим-
588
волизма». Все «наиболее важное» для «эстетики будущего» он собрал в двух
книгах — «Символизм» (М., 1910) и «Арабески» (М., 1911).
Андрей Белый обосновывал свои эстетические положения
абстрактно-философски и наряду с учением Шопенгауэра, Ницше и Вл. Соловьева опирался на
эстетические концепции неокантианцев, Гамана и Риккерта. Свою мистическую, по
существу, эстетику он стремился мотивировать методами естественнонаучного,
рационального мышления. Так, например, исходя из представления, что «материи
соответствует в искусстве материал изображения», он приходил к закону
«применения пространственных или временных элементов искусства»_-и строил на нем
свою классификацию искусств. Высшим искусством, «душою всех искусств»,
представала музыка, которая как некая мистическая субстанция пронизывала все виды
творчества.
Глубокое объективное противоречие системы Андрея Белого состояло в том,
что, отрицая лозунг «искусства для искусства» и защищая искусство, творчески
преображающее мир (теургию), он сводил проблемы искусства к проблемам формы.
Он то выступал в одном ряду с В. Брюсовым против Вяч. Иванова и А. Блока, требуя,
автономности искусства (см. статью «Детская свистулька», 1906), то обличал
В. Брюсова в эстетизме, противопоставляя ему А. Блока и Вяч. Иванова как
художников, служащих великим «теургическим» целям искусства.
Теургическое назначение искусства, по мысли А. Белого, скорее всего могло
осуществиться в театре, где в подлинно символической драме разрушились бы
современные омертвевшие театральные формы, актеры слились бы со зрителями
и жизнь преобразилась бы в какую-то новую религиозную мистерию. Мечта об
объединении людей в общем «теургическом действе» сосуществовала у А. Белого
с резкими антидемократическими высказываниями: интерес широких масс к
искусству, подчеркивал он, опасен для искусства и влечет за собою его
вульгаризацию.
Особую главу в символистской эстетике представляют собою работы Вячеслава
Ивановича Иванова, поэта, переводчика и теоретика символизма. Вяч. Иванов
вступил в литературу уже как сложившийся ученый, филолог-эллинист, и это
наложило свой отпечаток как на его поэзию, так и на его эстетические взгляды.
Вяч. Иванов подверг критике современную ему культуру, когда личность
отъединена от народа и способна создавать лишь интимное, дифференцированное
искусство, и считал, что ее сменит «органическая» культура, когда личность вновь
сольется с коллективом и будет способна к мифотворчеству и созданию
синтетического искусства. Путь для возрождения органической культуры прокладывает
символическое искусство, в котором символ может раскрыться как «зародыш мифа».
На первый план в статьях Вяч. Иванова, собранных им в основном в книгах
«По звездам» (Спб., 1909) и «Борозды и межи» (М., 1916), выступают проблемы
мифотворчества, так как через мифотворчество искусство могло осуществить свою
теургическую миссию и стать всенародным, «соборным». Для эстетических
воззрений Вяч. Иванова существенна его оценка органического начала («хаоса» и «пола»)
в творческом процессе. Отказавшись от индивидуализма Ницше, Вяч. Иванов развил
его мысль о стихийном «начале Диониса» как источнике творческой силы и
выдвинул свою теорию формирования эстетического переживания и художественного
589
произведения в борьбе гармонических и дисгармонических сил мира (Аполлона —
Диониса).
С представлением Вяч. Иванова о творческом акте как о «нисхождении и
восхождении» духа художника от «низшей» реальности к «высшей» связано его
понимание символа. Символ открывается художнику в недрах «древнего хаоса», а
поэтому всегда «темен в своей последней глубине» и «внеличен»; в нем таится «зародыш
мира». В символе содержится «сокровенная реальность» всякой вещи, и задача
художника через «realia» (видимость, низшую реальность) прозреть «realiora»
(высшую реальность, мистическую сущность), не навязывая низшей реальности ничего
чуждого ей. Но прозрение «сущности» вещей сводилось к созданию «новых форм»,
а тезис о «поэте-учителе» опровергался требованием от художника не «новых
откровений, а откровений новых форм». Вяч. Иванов считал, как и А. Белый, что
подлинно символическое искусство легче всего войдет в будущее через театр. Но
он связывал это с возрождением античного хора, «носителя мифа», вовлекающего
зрителя в «план идеального действия сцены». Возрождение хора он мыслил не
силами самого искусства, а силами жизни. Кроме того, он подчеркивал, что
«совместное», «соборное» действо должно согласоваться с нормами театра, и проводил
«межу», разделяющую эстетическую реформу театра от культурно-исторической
революции.
К. БАЛЬМОНТ
1867—1942
[СУЩНОСТЬ СИМВОЛИЗМА]
[...] В то время как поэты-реалисты рассматривают мир наивно, как
простые наблюдатели, подчиняясь вещественной его основе,
поэты-символисты, пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью,
властвуют над миром и проникают в его мистерии. Сознание
поэтов-реалистов не идет дальше рамок земной жизни, определенных с точностью
и с томящей скукой верстовых столбов. Поэты-символисты никогда не
теряют таинственной нити Ариадны, связывающей их с мировым
лабиринтом Хаоса, они всегда овеяны дуновениями, идущими из области
запредельного, и потому, как бы против их воли, за словами, которые они
произносят, чудится гул еще других, не их голосов,- ощущается говор
стихий, отрывки из хоров, звучащих в Святая Святых мыслимой нами
Вселенной. [...] Поэты-символисты дают нам в своих созданьях магическое
кольцо, которое радует нас, как драгоценность, и в то же время зовет нас
к чему-то еще. [...]
Итак, вот основные черты символической поэзии: она говорит
своим особым языком, и этот язык богат интонациями; подобно
музыке и живописи, она возбуждает в душе сложное
настроение,— более чем другой род поэзии, трогает наши слуховые и
зрительные впечатления, заставляет читателя пройти обратный путь
творчества: поэт, создавая свое символическое произведение, от абстрактного
идет к конкретному, от идеи к образу,— тот, кто знакомится с его произ-
690
ведениями, восходит от картины к душе ее, от непосредственных образов,
прекрасных в своем самостоятельном существовании, к скрытой в них
духовной идеальности, придающей им двойную силу. [...]
К. Д. Бальмонт, Элементарные слова о
символической поэзии.—Горные вершины. Сб. статей, кн. I,
М., 1904, стр. 94.
[ПОЭЗИЯ И МУЗЫКА]
[...] Прислушиваясь к музыке всех голосов Природы, первобытный ум
качает их в себе. Постепенно входя в узорную многослитность, он слагает
из них музыку внутреннюю и внешне выражает ее — напевным словом,
сказкой, волшебством, заклинанием.
Поэзия есть внутренняя Музыка, внешне выраженная размерною
речью.
Как вся внушающая красота морского гула заключается в размерности
прибоя и прилива, в правильном ладе звуковых сил, пришедших из
безгласности внутренних глубин, и в смене этой правильности своенравными
переплесками, так стих, идущий за стихом, струи-строки, встречающиеся
в переплеске рифм, говорят душе не только прямым смыслом
непосредственной своей музыки, но и тайным напоминанием ей о том, что эта
звуковая смена прилива и отлива взята нами из довременных ритмов
Миротворчества. Стих напоминает человеку о том, что он бессмертный сын
Солнца и Океана. [...]
[...] Стих вообще магичен по существу своему, и каждая буква в нем —
магия. Слово есть чудо. Стих — волшебство. Музыка, правящая миром
и нашей душой, есть стих. Проза есть линия, и проза есть плоскость,
в ней два лишь измерения. Одно или два. В стихе всегда три измерения.
Стих — пирамида, колодец или башня. А в редкостном стихе редкого
поэта не три, а четыре измерения,— и столько, сколько их есть у мечты. [...]
К. Д. Бальмонт, Поэзия как волшебство, М., 1915,
стр. 19—20, 82—83.
СЛОВО О МУЗЫКЕ
[...] Когда в мире создавались Солнце, Луна, Звезды и Земля, те
могучие духи, которые создавали их, пели песню, любя свое творение, и звуки
этой песни, не забытые, остались в душах людей и в памяти птиц. [...]
Вся жизнь мира окружена музыкой. Когда земля при своем создании
была уже готова к жизни в первое свое утро, жизни все-таки еще не было.
Тогда вдруг ветер промчался над морем и над лесом, и в волнах возник
плеск, а в лесных вершинах гул. Через это в мире возникла музыка, и мир
стал живой.
591
При звуках музыки человек начинает вспоминать ту музыку, которая
была прежде в нас и вне нас. Он не может жить без музыки, потому что
она связь с той жизнью, с тем миром. [...]
К. Д. Бальмонт, Слово о музыке, М., 1917, стр. 4—5.
А. БЕЛЫЙ
1880-1934
[ПРИРОДА ИСКУССТВА. СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО]
Сущность искусства есть открывающееся посредством той или иной
эстетической формы безусловное начало. Смысл искусства есть
проявление в целях этого начала: можно рассмотреть целесообразность в
соотношении форм творчества; и далее — связать эту целесообразность с более
общими принципами. Следует помнить, что при такой постановке вопроса
углубление смысла эстетики неминуемо подчиняет искусство более общим
нормам; в эстетике обнаруживается сверхъэстетический критерий;
искусство становится здесь не столько искусством (τέΧνη.), сколько творческим
раскрытием и преобразованием форм жизни. Идя таким путем,
сталкиваемся мы с многообразием существующих форм, приемов техники, не
вмещающих смысла искусства, не вмещаемых в этом смысле. [...]
Теория символизма, анализируя предпосылки реализма, романтизма,
классицизма в искусстве, превращает цель каждой из форм в средство,
в технический прием воплощения энергии творчества. Источник
творчества — энергию переживания — освобождает теория символизма от власти
норм и форм на этой стадии своего развития. Здесь базисом теории
является не та или иная эстетика, а данные научной психологии. Единство
психических деятельностей — чувствования, воления, мышления — должно
содержаться в живом образе-модели, который и есть творческий символ.
Потому-то художественный символ, выражая идею, не исчерпывается ею;
выражая чувство, все же не сводим к эмоции; возбуждая волю, все же не
разложим на нормы императива. Живой символ искусства, пронесенный
историей сквозь века, преломляет в себе многообразные чувствования,
многообразные идеи. Он — потенциал целой серии идей, чувств, волений.
И отсюда-то развертывается трехчленная формула символа, так сказать,
трехсмысленный смысл его: 1) символ как образ видимости,
возбуждающий наши эмоции конкретностью его черт, которые нам заведомы в
окружающей действительности; 2) символ как аллегория, выражающая
идейный смысл образа: философский, религиозный, общественный; 3) символ
как призыв к творчеству жизни. Но символический образ есть ни то, ни
другое, ни третье. Он — живая цельность переживаемого содержания
сознания. В зависимости от такого трехчленного понимания символа нам
становится понятно разнообразие символических построений художников.
Художник, творя символ, в зависимости от своего умственного, нравствен-
592
яого или чувственного богатства, так сказать, параллельно своему
творчеству осознает собственный символ той или иной душевной деятельностью.
А. Белый, Символизм. Кн. статей, М., 1910, стр. 199,
225.
Корень искусства — творческая сила личности, вырастающая в борьбе
с окружающей тьмой; тьма — это рок; задача личности — победить рок,
в чем бы рок ни выражался, в виде ли медведя, нападающего на человека
(как это было несомненно в пещерный период), в виде^ ли злого духа,
угрожающего ему; здесь, в этот доисторический темный период —
созидание гармонической личности, то есть личности сильной (героя), есть
необходимое условие жизни, здесь жизнь — драма, личность — ее герой:
здесь жизнь, как творчество, здесь искусство, как жизнь. И
художественная форма — личность, высекающая лестницы в жизни, когда ступень —
мгновение; подчиняя себе мгновение, личность проносит самосознание
сквозь ряд мгновений, форма проявления личности тогда отделяется от
личности; сумма мгновений — сумма художественных форм: личность
одна. Так формы жизни (то есть художественные формы) отделяются от
личности; человек — художник многих форм. Понятие о форме
усложняется: форма в собственном смысле («я», выражающееся в теле)
оказывается творящим началом форм в переносном смысле (орудия, одеяния,
жилище, мысль). Здесь искусство в нашем смысле соединено с
прикладным характером орудий производства: копье разукрашено, одежда
утыкана перьями, жилище разрисовано; мысль облекается в форму песни,
мифа, образа. Процесс творчества, то есть жизнь, переживаемая, как
творческая песня героя, заменяется изделием творчества.
«Kunst» становится « τέΧνη » (техникой).
А. Белый, Арабески. Кн. статей, М., 1911, стр. 44.
Всякое искусство символично — настоящее, прошлое, будущее. В чем
же заключается смысл современного нам символизма? Что нового он нам
дал?
Ничего.
Школа символистов лишь-сводит к единству заявления художников и
поэтов о том, что смысл красоты в художественном образе, а не в одной
только эмоции, которую возбуждает в нас образ; и вовсе не в рассудочном
истолковании этого образа; символ неразложим ни в эмоциях, ни в
дискурсивных понятиях; он есть то, что он есть.
Школа символистов раздвинула рамки наших представлений о
художественном творчестве; она показала, что канон красоты не есть только
академический канон; этим каноном не может быть канон только
романтизма, или только классицизма, или только реализма; но то, другое и
третье течение она оправдала, как разные виды единого творчества; и
оттого-то в пределы недавнего реализма вторглась романтическая
фантастика; и обратно: бескровные тени романтизма получили в символической
593
школе и плоть и кровь; далее символизм разбил самые рамки
эстетического творчества, подчеркнув, что и область религиозного творчества близко
соприкасается с искусством; в европейское замкнутое в себе искусство
XIX столетия влилась мощная струя восточной мистики; под влиянием
этой мистики по-новому воскресли в нас средние века. Новизна
современного искусства лишь в подавляющем количестве всего прошлого, разом
всплывшего перед нами; мы переживаем ныне в искусстве все века и все
нации; прошлая жизнь проносится мимо нас.
Это потому, что стоим мы перед великим будущим.
Эмблематика смысла.— Символизм, стр. 143.
Принципы современного искусства кристаллизовались в
символической школе последних десятилетий; Ницше, Ибсен, Бодлер, позднее у нас
Мережковский, В. Иванов и Брюсов выработали платформы
художественного credo; в основе этого credo лежат индивидуальные заявления гениев
прошлого о значении художественного творчества; символизм подчеркивает
примат творчества над познанием, возможность в художественном
творчестве преображать образы действительности; в этом смысле символизм
подчеркивает значение формы художественных произведений, в которой уже
сам по себе отображается пафос творчества; символизм поэтому
подчеркивает культурный смысл в изучении стиля, ритма, словесной
инструментовки памятников поэзии и литературы; признает принципиальное
значение разработки вопросов техники в музыке и живописи. Символ есть
образ, взятый из природы и преобразованный творчеством; символ есть
образ, соединяющий в себе переживание художника и черты, взятые из
природы. В этом смысле всякое произведение искусства символично по
существу. [...]
Основатели так называемого символизма не раз сознавали свою связь
с философией (в лице Ницше, Маллармэ \ Вагнера), символизм никогда,
по существу, не выбрасывал девиза «искусство для искусства»; в то же
время символисты не переставали бороться с утрированной
тенденциозностью. Гётевский девиз «все преходящее есть только подобие» нашел
в символизме свое оправдание; весь грех позднейшего символизма
заключался в нежелании выйти из замкнутой литературной школы, а также
в утрированном желании отвернуться от этических, религиозных и
общекультурных проблем; между тем вдохновители литературной школы
символизма как раз с особенной резкостью выдвигали эти проблемы; они
провозглашали целью искусства пересоздание личности; и далее, они
провозглашали творчество более совершенных форм жизни; перенося вопрос
о смысле искусства к более коренному вопросу, а именно — к вопросу
о ценности культуры, мы видим, что заявления эти носят зерно правды;
именно в творчестве, а не в продуктах его, как-то науке, философии,
создаются практические ценности бытия; с другой стороны, вопросы по-
1 Который, как известно, пытался обосновать символизм на Гегеле.
594
знания все более и более подводят нас к тому роковому рубежу, где эти
вопросы становятся загадочнее, неразрепгамее, если мы не включим
значения художественного и религиозного творчества в дело
практического решения основных проблем бытия [...].
Проблема культуры.— Там же, стр. 7—9.
Символизм в широком смысле не есть школа в искусстве. Символизм—
это и есть искусство. Романтическая, классическая, реалистическая и сама
символическая школа — только способ символизации образами
переживаемого содержания сознания. И потому-то смешны противоположения
реализма символизму, то есть метода тому, что этот метод оформливает.
Все слова о смене символизма реализмом напоминают детскую свистульку,
в которую дуют мальчики, воображающие себя мудрецами. Все эти
выходки нового стиля против символизма показывают полное невежество
свистунов в вопросах психологии, психофизиологии и теории познания.
Прежде нападали на символизм только справа: это были нападки
добродушных людей, часто ничего общего с искусством не имевших. Эти добрые
люди прикрывали свое зевающее благодушие именами великих
художников прошлого; но мы всегда помнили слова Уайльда о том, что гений
прошлого в руках обывателя — только средство глушить творчество.
Теперь нападают на символизм слева эпигоны символизма, сами
обязанные ему развитием своего творчества. Этих символистов на час,
вышедших на зов Ницше, Ибсена, Мережковского из своих душных келий,
только и хватило на то, чтобы похвалить их зовущую зарю; но идти ей
навстречу — это уж подвиг! И вот они закупорились снова в своих
жалких хатах и теперь говорят, что заря угасла.
Они говорят, что цикл развития символизма окончен, и ему-де идет на
смену неореализм. Когда нечего сказать, обыкновенно берут первый
подавшийся термин и приставляют к нему пресловутое «нео». Для этого не
нужно творчества мысли. [...]
Символизм в искусстве не касается техники письма. И потому-то
борьба художественных школ вовсе не касается проблем символизма. [...]
Во второй половине XIX столетия наиболее крупные художники
осознали символизм всякого творчества вообще. Осознать объекты
творчества, символы, значит — вознести эти объекты над гамом базарной
критики. Великие символисты второй половины XIX столетия указали нам
с достаточной ясностью, что без разрешения проблемы творчества мы не
разрешим ни социальной, ни религиозной проблем познания. И техникой
письма и поставленными задачами они показали нам, что искусство —
глубже и независимее, нежели полагали художники (в своих заявлениях
о свободе) и толпа (в ее заявлении о подчинении творчества интересам
эпохи). Первые символисты (в узком смысле этого слова) были и
художниками-символистами (как все художники) и борцами за право
символизма. Этот оттенок проповеди, быть может, более всего влиял на технику
их письма, на экспозицию тем творчества. [...J
595
Но ведь великие проповедники символизма второй половины XIX
столетия были лишь первыми пионерами проповеди символизма. Они выскл-
зали верную мысль о том, что творчество, будучи фокусом человеческой
деятельности вообще, в искусстве пока проявляется с особенной яркостью,
и что искусство поэтому не есть только искусство, а оболочка, из которой
вылетит феникс новой жизни. Первые проповедники набросали лишь
краткий конспект программы: реализовать эту программу — задача не только
нашей эпохи, но и всего будущего.
Перед нами лежит задача разработки вопросов искусства в свете
современной философии. [...]
Перед нами задача — обосновать независимую эстетику как точную
науку. Наконец, задачи личности и общества только в свете
символического миросозерцания получают удовлетворяющее нас решение. Словом —
вопросы символизма относятся к вопросам эстетики и мистики, как теория
познания к другим философским дисциплинам. И если выводы из теории
познания касаются наиболее сокровенных вопросов морали, то и выводы
символизма предопределяют единственно верный путь искусству и
религии. [...]
Художники-символисты сознали право художника быть руководителем
и устроителем жизни. Но это высшее право нужно приобрести рядом
систематических завоеваний и в творчестве и в знании. Символизм — это
знамя, вокруг которого должны отныне группироваться все силы, борю«
щиеся за высоту искусства, за те, всем нужные, тайны мудрости, которые
заключены в творчестве. Символизм — кульминационная точка роста
искусства: отклонения вправо и влево в настоящее время ведут к
профанации творчества. И не «певчим птицам», не провокаторам· символизма,
вроде гг. Чулковых, колебать достоинство русского символизма. Пусть
себе хоронят детскими свистульками достоинство русского символизма.
Они хоронят прежде всего себя, свое достоинство, обнажая
неподготовленность занимать то место, которое не принадлежит им по праву.
Детская свистулька.—- Арабески, стр. 263—266, 268.
Искусство искони символично; против символизма всяческого
искусства никто не спорит; символизм этот приближается к нам, когда мы
поднимемся к снеговым вершинам творческого Олимпа. Символизм Гёте,
Данте, Шекспира аристократичен не только в переносном смысле, но и
в буквальном, как была аристократична подлинная наука, подлинная
философия.
С середины XIX столетия возросла демократизация знаний и
философии; целые слои, доселе никак не причастные искусству, являлись все
более и более законодателями его судеб; в настоящую эпоху не кружки
эстетически образованных людей — активные участники жизни
искусства: демократические массы отнеслись к искусству активно, сместилась
линия развития искусств; иокусство — в опасности.
Развитие символической школы в искусстве, как и проповедь
символа
лизма у Ницше и Ибсена, явились ответом на распространяющуюся
вульгаризацию искусства; аристократические глубины вечного символизма
предстали пред массой в явной, проповеднической форме: символическая
школа в поэзии суммировала индивидуальные лозунги художников
(исповедуемые как Privat-Sache1) провозглашением этих лозунгов, как
параграфов художественной платформы: в демократических кабачках, а не на
высотах академического олимпийства началась проповедь символистов...
Если в классически законченных формах гётевского символизма не
встает с настойчивостью вопрос о происхождении мистической дымки
запредельного, почиющей на искусстве, то в утрированно крикливом
подчеркивании такой дымки у позднейших символистов этот вопрос встает,
а вместе с тем встает по-новому вопрос о цели, о смысле художественного
творчества, о месте его в иерархии знаний и творчеств (например,
религиозного). Этот вопрос теперь волнует не только теоретика; он волнует и
художника; разобраться в задачах и целях искусства, независимо от
сложившихся исторически его форм, есть ныне вопрос совести художника,
а особенно художника-символиста, в силу положения своего
подчеркнувшего многое из того, что прежде замалчивалось, выставившего явно пред
всеми, как лозунг, индивидуальные заявления художников прошлого.
Венок лавровый, стыдливо покрывший жреческий венец, символисты
сорвали с себя в лице Ницше, Ибсена; религиозные искания Бодлера, Вер-
лена, Уайльда, Гюисманса, Стриндберга, В. Иванова, Блока не заглушить
анкетами о свободном стихе; в мучениях совести, в борьбе за дальние
горизонты жизни не только любовь к искусству проявилась у современных
поэтов-символистов. «Только жреческий нож, рассекающий грудь, дает
право на имя поэта»,— писал сам Брюсов. Венок был сменен на венец.
На венец сменил свой венок и Брюсов, заявивший определенно:
Горе, кто обменит
На венок венец.
А вот в статье своей (№ 9 «Аполлона») он именно меняет на венок венец:
не хотелось бы ответить ему его же словами: Горе...
В проповеднической ноте, проявившейся у величайших символистов
нашего времени Ницше и Ибсена, в том, что они признают в художнике
творца жизни, мы и усматриваем привнесение цели, диктуемой искусству:
из искусства выйдет новая жизнь и спасение человечества.
Венок или венец,— «Аполлон», 1910, № 11. Хроника,
стр. 2—3.
[ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ В ЭСТЕТИКЕ]
Когда мы говорим форма искусства, мы разумеем способ рассмотрения
данного художественного материала. Изучение приемов воплощения
творческого символа в материале рисует ряд естественных обобщений по
группам. Эти группы и суть формы искусства. Когда же мы изучаем способ
1 Личное дело (нем.).
597
воздействия на нас форм, мы говорим о содержании данного искусства.
Здесь форма и содержание только методические приемы изучения данного
нам художественного единства. Таким единством является символ.
Там, где говорят о символизме всякого творческого воплощения, нельзя
придавать характера формы к содержанию отношений какого-то
противоположения смысла. Нельзя форму отделять от содержания. И
обратно. [...]
Когда же мы говорим о норме обнаружения феноменов красоты, то
разумеем единый порядок, располагающий существующие формы
искусства планомерно. План, предопределяющий всякую форму искусства и
неопределимый ею, есть норма. Существующие формы искусства суть раз*
личные ограничения всеобщей нормы творчества. Эти ограничения создают
индивидуальные условия каждой формы искусства. Я могу изучать
картину как форму выражения творчества индивидуального; но я могу
изучать те общие условия, которые определяют данную форму как картину,
относя ее к живописи как родовой форме для целого ряда картин. Условия
изучения в обоих случаях меняются. Говоря о данной картине в первом
случае, я рассматриваю, какими техническими приемами пользуется ее
творец в отличие от разнообразных школ живописи. Во втором случае
я задаюсь вопросом иного порядка: я спрашиваю, что определяет данную
художественную форму как картину; я обращаю внимание на
необходимые априорные условия живописи, то есть на пространственные элементы,
дающие возможность живописцу изображать действительность на
плоскости. Эстетика, построенная на первом ходе размышлений, есть эстетика
эмпирическая; она изъясняет и классифицирует данные формы. Эстетика,
построенная на втором ходе размышлений, изыскивает законы,
необходимо построяющие и выводящие данные нам формы из необходимых
элементов пространства и времени.
Только в последнем случае эстетика осовобождается от многообразных
посягательств на нее и со стороны беспринципных остроумцев-эстетов,
и со стороны течений, навязывающих искусству чуждые ему тенденции,
и со стороны эмпирических наук. Только в последнем случае эстетика
становится независимой, формальной дисциплиной, единственная задача
которой предохранить творчество от беспринципных и принципиальных
посягательств. [...]
Действительность дробится в существующих формах искусства. В
искусстве нет формы, охватывающей всей действительности. Изучая способы
воплощения художественного творчества, мы имеем дело прежде всего
с дифференциацией. Одни формы искусств совершеннее передают
элементы пространственности; другие — элементы временности.
Скульптура и зодчество имеют дело с трехмерным пространственным
изображением.
Зодчество изображает соотношение масс; скульптура — соотношение
форм. Живопись отвлекается от трехмерного пространственного
изображения. Ее удел — плоскость. Благодаря такому отвлечению живопись вы-
698
игрывает в богатстве изображения. Она подчеркивает краску на первом
плане. Музыка имеет дело с самой действительностью, отвлеченной от
видимости. Она изображает смену переживаний, не подыскивая им
соответствующей формы видимости. Время — существеннейший формальный
элемент музыки. Оно выдвигает значение ритма на первый план. Поэзия
совмещает формальные условия временных и пространственных форм
искусства посредством слова: слово изображает посредственно; в этом
слабость поэзии. Но слово изображает не только форму образа, но и смену
образов. В этом сила поэзии. Поэзия посредственна, но диапазон сферы
ее изображения — широк; поэзия претворяет пространственные черты
в черты временные; и обратно.
Принцип формы в эстетике.—Символизм, стр. 175—
178.
[...] Идеал поэзии — уничтожить посредственность, то есть растворить
форму и содержание образа в живом символе. Но камень преткновения—
форма искусства. Форма искусства должна получить жизнь.— Тут поэт,
творящий формы образов и выражающий эти формы посредством слова,
становится сам словом, воплощая слово. Сам художник становится
художественным произведением. Но тут — предел поэзии. Тут — рождение в
недрах поэзии религиозного культа личности. Тут соединение творчества
и религии в сотворении художником религии, теургии. [...]
Брюсов.—А. Белый, Луг аеленый, М., 1910,
стр. 182—183.
[СИМВОЛИЧЕСКАЯ ДРАМА И ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО В ИСКУССТВЕ].
Драма впервые приподымает завесу над будущим. Но у драмы есть
своя собственная драма: она — форма искусства. Она возносит воду живую
художественного творчества лучезарным роем облаков под солнце. И
облака, озлащенные солнцем, являют нам новый град — Иерусалим вечно
созидающей жизни. Драма, оставаясь формой искусства, изменяет
направление русла и развития искусств. Она стремится стать жизнью, но жизнью
творчества. Мертвая жизнь и мертвые формы творчества именно в драме
подвержены разложению.
Искусство есть временная мера: это — тактический прием в борьбе
человечества с роком. Как в ликвидации классового строя нужна своего
рода диктатура класса (пролетариат), так и при упразднении
несуществующей, мертвой, роковой жизни нужно провозгласить знаменем жизни
мертвую форму. Этим поклонением и начинается в душе художника
бессознательное отрицание рока. В ту минуту, когда рок превращает
вселенную только в тесную нашу тюрьму, художник отвертывается от тюрьмы,
занимаясь в тюрьме какими-то праздными забавами. Эти забавы —
художественное творчество. Нет, это не забавы: нет, это изготовление
взрывчатых веществ. Будет день, и художник бросит свой яростный снаряд
в тюремные стены рока. Стены разлетятся. Тюрьма станет миром.
599
Творчеством мертвых форм, в которые, как динамит, художник
вложил свою душу, искусство бросает взрывчатые снаряды в стену тюрьмы.
Эволюция и развитие форм искусства есть только полет неразорвавшихся
снарядов от творческой руки до стен тюрьмы. В драме творческий снаряд
соприкасается с этими стенами. За драмой — взрыв. Формы искусства
неудержимо стремятся расшириться, неудержимо, стремительно. Искусство
должно здесь взорваться, исчезнуть, не быть.
Театр и современная драма.— Арабески, стр. 20—21.
Символическое искусство имеет целью показать в образе его
внутренний смысл, независимо от того, будем ли мы признавать за этим смыслом
выражение нашего переживания или некоторый вечный смысл (как
говорят,— Платонову идею). Символ с этой точки зрения есть образ,
выражающий собою пересечение двух порядков последовательностей, как бы
пересечение двух прямых в одной точке. Но точка пересечения двух
прямых одна; и потому-то единство образа, занимающего, так сказать, место
пересечения двух последовательностей, наиболее полно передает
символический метод в искусстве. Образ в таком случае выражает всецело
творческое мгновение, как нечто в самом себе законченное, целостное. Но
символическое действо, обусловленное драмой, требует выявления не
только символического смысла образов, но и связи их. Образуется, так
сказать, символизм второго порядка. Вот почему в лирике, притче,
изречении, афоризме — символическое творчество отобразилось с наибольшей
полнотой и силой. Образ лирического переживания покрывает точку
пересечения последовательностей. Но существенной чертой драматического
искусства является смена образов (их динамика). И потому-то в
символической драме реализуются не столько самые образы действа, но их связь.
И потому-то здесь мы имеем дело как бы с пересечением двух прямых во
многих точках: такое пересечение, как известно, невозможно. Или оно
есть совпадение двух линий в одну, совмещение двух порядков
последовательностей уже не в созерцании или переживании, а в реальном, так
сказать, жизненном акте.
Вот почему символическая драма, будь она проведена со всей
строгостью в пределах сцены, прежде всего разрушила бы подмостки,
отделяющие зрителя от актера, разрушила бы преграду между актером и
драматическим поэтом; поэт явился бы в роли героя среди зрителей,
непроизвольно захваченных действом. Такая драма разрушила бы театр: она стала
бы бытием символов. Но всякая религия и есть утверждение за символом
его бытия. Возникновение и развитие религий есть не что иное, как
превращение жизни в символическую драму. Вот почему возникновение
драмы из религиозной мистерии глубоко знаменательно. И символическая
драма неизбежно ведет к возобновлению мистерий как-то по-новому. Как
это возможно в современном укладе жизни? Вот тут-то и вырастает стена,
о которую разбиваются и еще долго будут разбиваться все попытки дать
строго символическую драму.
Символический театр.— Там же, стр. 300—301.
600
[ЯЗЫК И ТВОРЧЕСТВО]
Язык — наиболее могущественное орудие творчества. Когда я
называю словом предмет, я утверждаю его существование. Всякое познание
вытекает уже из названия. Познание невозможно без слова. Процесс
познавания есть установление отношений между словами, которые
впоследствии переносятся на предметы, соответствующие словам. Грамматические
формы, обусловливающие возможность самого предложения, возможны
лишь тогда, когда есть слова; и только потом уже совершенствуется
логическая членораздельность речи. Когда я утверждаю, что творчество
прежде познания, я утверждаю творческий примат не только в его
гносеологическом первенстве, но и в его генетической последовательности.
Образная речь состоит из слов, выражающих логически невыразимое
впечатление мое от окружающих предметов. Живая речь есть всегда
музыка невыразимого; «мысль изреченная есть ложь» — говорит Тютчев. И он
прав, если под мыслью разумеет он мысль, высказываемую в ряде
терминологических понятий. Но живое, изреченное слово не есть ложь. Оно —
выражение сокровенной* сущности моей природы; и поскольку моя
природа есть природа вообще, слово есть выражение сокровеннейших тайн
природы. Всякое слово есть звук; пространственные и причинные
отношения, протекающие вне меня, посредством слова становятся мне
понятными. Если бы не существовало слов, не существовало бы и мира. Мое
«я», оторванное от всего окружающего, не существует вовсе; мир,
оторванный от меня, не существует тоже; «я» и «мир» возникают только
в процессе соединения их в звуке. Внеиндивидуальное сознание, как и
внеиндивидуальная природа, соприкасаются, соединяются только в
процессе наименования; поэтому сознание, природа, мир возникают для
познающего только тогда, когда он умеет уже творить наименования; вне
речи нет ни природы, ни мира, ни познающего. В слове дано первородное
творчество; слово связывает бессловесный, незримый мир, который роится
в подсознательной глубине моего личного сознания, с бессловесным,
бессмысленным миром, который роится вне моей личности. Слово создает
новый, третий мир — мир звуковых символов, посредством которого
освещаются тайны вне меня положенного мира, как и тайны мира, внутри
меня заключенные; мир внешний проливается в мою душу; мир
внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев; в слове, и только в слове;
воссоздаю я для себя окружающее меня извне и изнутри, ибо я — слово,.
и только слово.
Магия слов.—Символизм, стр. 429—430.
601
ВЯЧ. ИВАНОВ
1866—1949
[СУЩНОСТЬ СИМВОЛИЗМА. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И НАЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖНИКА]
[...] Символическим, то есть истинно содержательным и действенным,
искусство будет являться в ту меру, в какой будет осуществляться
художником, сознательно или бессознательно, внутренний канон.
Внешний канон суть правила искусства, как техники. Он, в известном
смысле, един, поскольку объемлет общие и естественные
основоположения, проистекающие из самой природы данного искусства. Так, поэзия
есть искусство словесное π потому должна хранить святыню слова — не
подменять речи нечленораздельным звукоподражанием, не искажать ее
естественного, органически-закономерного строя. В другом смысле, нет
вовсе единого внешнего канона, а существует их множество, и Шекспиро-
во искусство не перестает быть искусством оттого, что противоречит
уставу французских трагиков. [...]
То, что я назвал внутренним каноном, относится вовсе не к художнику
как таковому, а к человеку, следовательно — и к художнику-символисту,
поскольку символизм разумеется не в смысле внешнего метода, а в смысле
внутреннем и, по существу, мистическом; ибо такой символизм основан на
принципе возрастающего духовного познавания вещей и на общем
преодолении личного начала не в художнике только как таковом и не в моменты
только художественного творчества, но в самой личности художника и во
всей его жизни — началом сверхличным, вселенским. [...].
Мне остается еще прибавить по вопросу о художественном
нисхождении, что последнее, согласно данному определению прекрасного, состоит,
по существу, в действии образующего начала, следовательно, в принципе
формы. Дело художника — не в сообщении новых откровений, но в
откровении новых форм. Ибо, если бы оно состояло в наложении на план низшей
реальности некоего чуждого ей содержания, почерпнутого из плана
реальностей высших, то не было бы того взаимопроникновения начал
нисходящего и приемлющего, какое создает феномен красоты. То, что мы назвали
вещественным субстратом, было бы только внешне и поверхностно
прикрыто чуждою ему стихиею, в лучшем случае оно было бы только
облечено ею, как прозрачным голубым туманом или золотистою аурой, но
вещество не выразило бы своего внутреннего согласия на это облечение, оно
испытало бы насилие и принуждение мистической идеализации;
идеализация же вещей — насилие над вещами. Нет, нисходящее начало в
художественном творчестве, та рука, повинующаяся гению, о которой говорит
Микеланджело, только формует вещественный субстрат, выявляя и
осуществляя низшую реальность, естественно и благодарно раскрытую к
приятию в себя соприродной высшей жизни.
602
Обогащенный познавательным опытом высших реальностей, художник
знает сокровенные для простого глаза черты и органы низшей
действительности, какими она связуется и сочетается с иною действительностью,
чувствительные точки касания ее «мирам иным». Он отмечает эти
определимые лишь высшим прозрением и мистически определенные точки, и от
них, правильно намеченных, исходят и лучатся линии координации малого
с великим, обособленного со вселенским, и каждый микрокосм,
уподобляясь в норме своей макрокосму, вмещает его в себя, как дождевая капля
вмещает солнечный лик. Так форма становится содержанием, а
содержание формою; так, нисходя от реальнейшего и таинственного к реальному
и ясному (ибо до конца воплощенному, поскольку осуществление есть
приведение к величайшей ясности), возводит художник воспринимающих
его художество «a realibus ad realiora».
Границы искусства.— Вяч. Иванов, Борозды и
межи, М., 1916, стр. 209—242.
Символизм кажется воспоминанием поэзии о ее первоначальных,
исконных задачах и средствах.
В стихотворении «Поэт и чернь» Пушкин изображает Поэта
посредником между богами и людьми:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Боги «вдохновляют» вестника их откровений людям; люди передают
через него свои «молитвы» богам; «сладкие звуки» — язык поэзии — «язык
богов». Спор идет не между поклонником отвлеченной, внежизненной
красоты и признающими одно «полезное» практиками жизни, но между
«жрецом» и толпой, переставшей понимать «язык богов», отныне мертвый и
только потому бесполезный. Толпа, требующая от Поэта языка земного,
утратила или забыла религию и осталась с одною утилитарною моралью.
Поэт — всегда религиозен, потому что — всегда поэт; но уже только
«рассеянной рукой» бряцает он по заветным струнам, видя, что внимающих
окрест его не стало.
Напрасно видели в этом стихотворении, строго выдержанном в стиле
древности, не знавшей формулы «искусство для искусства»,
провозглашение прав художника на бесцельное для жизни и затворившееся от нее
в свой обособленный мир творчество. Пушкинский Поэт помнит свое
назначение — быть религиозным устроителем жизни, истолкователем и укре-
пителем божественной связи сущего, феургом. Когда Пушкин говорит о
Греции, он воспринимает мир как эллины, а не как современные
эллинизирующие эстеты: слова о божественности бельведерского мрамора — не
безответственное, словесное утверждение какого-то «культа» красоты
в обезбоженном мире, но исповедание веры в живого двигателя миро-
зиждительной гармонии, и не риторическая метафора — изгнание
«непосвященных».
60S
Задачею поэзии была заклинательная магия ритмической речи,
посредствующей между миром божественных сущностей и человеком. [...] Таковы
были прямые задачи древнейшей поэзии — гимнической, эпической,
элегической. Средством же служил «язык богов», как система чаровательной
символики слова с ее музыкальным и орхеистическим сопровождением, из
каковых элементов и слагался состав первоначального, «синкретического»,
обрядового искусства.
Воспоминание символизма об этой почти незапамятной исторически,
но незабвенной стихийною силою родового наследья поре поэзии
выразилось в следующих явлениях:
1) в подсказанном новыми запросами личности новом обретении
символической энергии слова, не порабощенного долгими веками служения
внешнему опыту, благодаря религиозному преданию и охранительной
мощи народной души;
2) в представлении о поэзии как об источнике интуитивного познания,
и о символах как о средствах реализации этого познания;
3) в намечающемся самоопределении поэта не как художника только,
но и как личности — носителя внутреннего слова, органа мировой души,
ознаменователя сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца
жизни. [...]
...Отличительными признаками чисто символического художества
являются в наших глазах:
1) сознательно выраженный художником параллелизм
феноменального и ноуменального; гармонически найденное созвучие того, что
искусство изображает как действительность внешнюю (геаКа), и того, что оно
провидит во внешнем как внутреннюю и высшую действительность
(realiora) ; ознаменование соответствий и соотношений между явлением
(оно же — «только подобие», nur ein Gleichnis) и его умопостигаемою или
мистически прозреваемою сущностью, отбрасывающею от себя тень
видимого события;
2) признак, присущий собственно символическому искусству и в
случаях так называемого «бессознательного» творчества, не осмысливающего
метафизической связи изображаемого,— особенная интуиция и энергия
слова, каковое непосредственно ощущается поэтом как тайнопись
неизреченного, вбирает в свой звук многие, неведомо откуда отозвавшиеся эхо
и как бы отзвуки родных подземных ключей — и служить, таким образом,
вместе пределом и выходом в запредельное, буквами (общепонятным
начертанием) внешнего и иероглифами (иератическою записью) внутреннего
опыта.
Историческою задачею новейшей символической школы было раскрыть
природу слова как символа и природу поэзии как символики истинных
реальностей. Не подлежит сомнению, что эта школа отнюдь не выполнила
своей двойной задачи. Но несправедливо было бы отрицать некоторые
начальные ее достижения, по преимуществу в границах первой части про-
604
блемы, и в особенности значение символистического пафоса в переживаемом
нами всеобщем сдвиге системы духовных ценностей, составляющих
умственную культуру, как миросозерцание.
Заветы символизма.—Τ ам же, стр. 130—132, 134—
135.
[...] Я не символист, если мои слова не вызывают в слушателе чувства
связи между тем, что есть его «я», и тем, что зовет он «не-я»,— связи
вещей, эмпирически разделенных; если мои слова не убеждают его
непосредственно в существовании скрытой жизни там; тде разум его не
подозревал жизни; если мои слова не движут в нем энергии любви к тому,
чего дотоле он не умел любить, потому что не знала его любовь, как много
у нее обителей.
Я не символист, если слова мои равны себе, если они — не эхо иных
звуков, о которых не знаешь, как о духе, откуда они приходят и куда
уходят,— и если они не будят эхо в лабиринтах душ.
Я не символист тогда — для моего слушателя. Ибо символизм означает
отношение, и само по себе произведение символическое, как отделенный
от субъекта объект, существовать не может. [...]
Мысли о символизме.— Там же, стр. 153.
В круге искусства символического символ естественно раскрывается
как потенция и зародыш мифа. Органический ход развития превращает
символизм в мифотворчество. Внутренний необходимый путь символизма
предначертан и уже предвозвещен (искусством Вагнера). Но миф — не
свободный вымысел: истинный миф — постулат коллективного
самоопределения, а потому и не вымысл вовсе и отнюдь не аллегория или
олицетворение, но ипостась некоторой сущности или энергии. Индивидуальный
же и не общеобязательный миф — невозможность, contradictio in adiecto l.
Ибо и символ сверхиндивидуален по своей природе, почему и имеет силу
превращать интимнейшее молчание индивидуальной мистической души
в орган вселенского единомыслия и единочувствия, подобно слову и
могущественнее обычного слова. Так искусство в своем тяготении к
мифотворчеству тяготеет к типу большого, всенародного искусства. [...]
В каждом произведении искусства, хотя бы пластического, есть скрытая
музыка. И это не потому только, что ему необходимо присущи ритм и
внутреннее движение; но сама душа искусства музыкальна. Истинное
содержание художественного изображения всегда шире его предмета. Творение
гения говорит нам о чем-то ином, более глубоком, более прекрасном, более
трагическом, более божественном, чем то, что оно непосредственно
выражает. В этом смысле оно всегда символично; но то, что оно объемлет своим
символом, остается для ума необъятным и несказанным для человеческого
1 Противоречие между определяемым словом и определением (латин.).
605
слова. Чтобы произведение искусства оказывало полное эстетическое
действие, должна чувствоваться эта непостижимость и неизмеримость его
конечного смысла. Отсюда — устремление к неизреченному,
составляющее душу и жизнь эстетического наслаждения: и эта воля, этот порыв —
музыка. [...]
Предчувствия и предвестия.—-По звездам, Спб., 1909г
стр. 196—197, 200, 201.
Всякое переживание эстетического порядка исторгает дух из граней
личного. Восторг восхождения утверждает сверхличное. Нисхождение,
как принцип художественного вдохновения (по словоупотреблению
Пушкина), обращает дух ко внеличному. Хаотическое, раскрывающееся в
психологической категории исступления,— безлично. Оно окончательно
упраздняет все грани.
Это царство не знает межей и пределов. Все формы разрушены, грани
сняты, зыблются и исчезают лики, нет личности. Белая кипень одна
покрывает жадное рушенье вод.
В этих недрах чреватой ночи, где гнездятся глубинные корни пола,
нет разлуки пола. Если мужественно восхождение, и нисхождение
отвечает началу женскому, если там лучится Аполлон и здесь улыбается
Афродита,— то хаотическая сфера — область двуполого, мужеженского
Диониса. В ней становление соединяет оба пола ощупью темных зачатий. [...]
Ужас нисхождения в хаотическое зовет нас могущественнейшим из
зовов, повелительнейшим из внушений: он зовет нас — потерять самих себя.
Мы — Хаоса души. Сойди взглянуть
Ночвых очей в пустую муть!..
Отдай нам, смертный, земную грудь —
Твой плен размыкать и разметнуть!
( «Прозрачность» )
И могущественнейшее из искусств — музыка — властительно поет нам
этими голосами ночных сирен глубины,— чтобы потом вознести нас по
произволу из своих пучин (как «хаос рождает звезду») взвивающейся
линией возвышенного и возвратить очищенными и усиленными земле
благим нисхождением Красоты. Как Антей изнемогает отъединением от земли,
так мы оскудели бы конечным отрешением от «древнего», от «родимого»
хаоса. Где-то, глубоко, глубоко под нами, «поют нам песнь родного звона
неотлучимые ключи»...
Полночь и День знают свой час
(Бальмонт)
ритм природы не может не быть ритмом нашей жизни. Все наше
строительство — только перестроение граней. Все грани становятся ложными. Но
живому — нет грани. «Хаос волен, хаос прав»!..
Символизм эстетических начал.— Там же, стр. 30—
606
[СИМВОЛИЧЕСКАЯ ДРАМА И НОРМЫ ТЕАТРА]
[...] Художник и зритель в театре борются, и художник ищет подчинить
себе зрителя; в этом подчинении полагает художник свою победу; если же
он не победит, напрасным было его художество. И поистине почти
напрасным оказывалось поныне современное сценическое художество. Зритель
остается лишь наполовину занятым участью героя сцены, наполовину же
развлеченным, то есть, иначе, занятым — если не жизнью салона-партера,
как некогда рассеянный к сцене Онегин, то, как большинство театральной
публики в наши дни, критикой, только критикой самой драмы и ее
сценического осуществления. Не только эстетически нужен выход из этого
противоречия между повышенными притязаниями внутренно изменившейся
сцены и психикой зрителя, но и невыносимо это переходное состояние
театра психологически. Оно давит, как душное предчувствие грозы; и если
освободительной грозы не будет, оно станет общественною опасностью.
В самом деле, театр, каким был он от Шекспира до наших дней,
задуман по плану психической ткани токов, протягивающихся нитями из
отдельных сознаний к одному средоточию — событию сцены. Каково же
это средоточие? Оно было объективным в двух смыслах: как объект общего
созерцательного устремления и как результат творчества,
полагающего жизнь объектом своей изобразительной деятельности,— творчества
объективного. В наши дни наряду с описанным объективным центром,
стягивающим воедино сочувственные токи театрального коллектива,
возникает и утверждается на сцене энергетический центр иного типа — центр
субъективный.
Объективная драма уступает место субъективной; ее личины
становятся масками ее творца; ее предметом служит его личность, его
душевная судьба. Он думает (как Л. Андреев), что являет нам лики жизни
и смерти, мира и рока, но в действительности говорит нам о своем
отношении к этим ликам в нем самом, о противоречиях своего «я», о себе, не о
всех. Тогда изменяется направление токов, связывающих сцену с
индивидуальными сознаниями присутствующих, и психическая энергия не
созерцательно экстериоризуется по ним к центру, но из центра налагательно
излучается в личные сознания. Победа художника в этих условиях
становится успехом предпринимаемого им внушения. Достаточно назвать это
взаимоотношение, чтоб определить им грозящую нам опасность. Прибавим,
что такое искажение целей и путей театра не имеет ничего общего с его
эстетическим назначением. На этой грани кончается искусство,
имманентно религиозная природа которого божественно выявляется лишь в свободе
и умирает, как только искусство оказывается одним из видов
принуждения. В средство порабощения душ извращается театр, который эллины
право величали святилищем бога-Освободителя.
Итак, театр или не достигает полноты своего действия, или достигает
ее извращением своей эстетической и нравственной сущности.
Единственный исход видим мы в том, чтобы зритель перестал быть только
воспринимав
мающим зрителем и действовал сам в плане идеального действия сцены.
Театральный коллектив целиком должен уместиться, не утрачивая своей
самостоятельной жизни, в рамках изображаемого события. Действующий
и действенный коллектив можно назвать условно «хором», не предрешая
этим форм его действия, ибо иначе как согласно действующим мыслить
его и нельзя, поскольку все действие в целом должно представлять собою
некое единство.
При каких же условиях возможен хор в смысле свободно и согласно
действующего коллектива, обставшего и как бы выделившего из своей
среды личность героя («протагониста») с его ближайшим окружением?
Ясно, что ни критика драмы по существу, ни разномыслие о ее предмете
не уживаются с хором. Итак, содержание драмы не может быть при
живом участии истинного хора только «серьезным и величавым», как
требовал Аристотель,— оно должно быть еще безусловным. Лишь нечто
безусловное, то есть не подлежащее ни произвольной оценке, ни сомнению
и отрицанию, способно слить театральный коллектив в хоровое сознание
и действие. Но и это одно условие недостаточно. Коллективное действие
впервые утверждается хором как истинное, а не фиктивное — только если
оно ответственно для всех совместно действующих.
Таковы два условия, осуществление коих необходимо для радикального
решения проблемы театра,— которая именно потому, что не допускает
иного решения — решения посредством искусства только и в пределах
только искусства,— поистине является центральным очагом культурно-
исторической революции, нами переживаемой. Искусство бессильно создать
хор; но жизнь может. Эта постановка вопроса проводит межу,
разделяющую «место свято» в области театральной проблемы, как момента
культурно-исторической революции, от чисто эстетических исканий реформы
театра. [...]
Норма театра,— Борозды и межи, стр. 283—286.
А. А. БЛОК
1880-1921
На всем протяжении своего творческого пути поэт Александр Александрович
Блок настойчиво думал о сущности и природе искусства, о его задачах и
назначении. Эти размышления занимают большое место уже в его юношеском дневнике
и письмах, ранних записных книжках.
Эстетические воззрения Блока никогда не складывались в некую
упорядоченную систему, никогда Блок не выступал от имени определенного художественного
течения; как и в других вопросах, он занимал свою независимую позицию —
говорил «только за себя». Его высказывания по вопросам эстетики, разбросанные по
статьям, дневникам, письмам, всегда теснейшим образом связаны с творческими
исканиями поэта, с его художественным опытом.
608
Блок испытал влияние эстетики Платона, Шопенгауэра, Вл. Соловьева. Но в
контексте его эстетических воззрений идеи предшественников нередко
переосмысляются и иногда приобретают новое значение. До конца своих дней Блок
оставался идеалистом по своему мировоззрению, и это естественно проявилось и в
трактовке вопросов искусства. Так, эстетические взгляды Блока опираются на его
понимание музыки, в которой он видит стихийную творческую сущность, лежащую
в основе обычного мира явлений. «Вначале была музыка. Музыка — сущность
мира»,— записал поэт в дневнике 31 марта 1919 года. В категориях музыки осмыслял
Блок процесс исторического развития, противоречия окружающей действительности.
С музыкальной стихией связывает поэт и подлинное искусство.
Искусство, считает Блок, единственный способ восприятия мира в целостности,
в его музыкальной сущности.
Связь искусства и жизни — вопрос непрестанно волновавший Блока. Он
отвергал теорию «искусства для искусства», и в то же время не мог согласиться с
подчинением искусства жизни. Он неколебимо верил в величие искусства, в его
высокое и независимое назначение в человеческой жизни: искусство «учит жизни,
озаряет пути ее светом неугасимым», способствует созданию «новой породы»,
нового человека, человек-творца, артиста. «Неразделенность и неслиянность» жизни
и искусства — таково убеждение, к которому пришел зрелый Блок.
«Искусство связано с нравственностью», утверждал Блок. Эстетические и
нравственные категории в оценке произведений искусства у него совпадают, ибо в
подлинно «высоком искусстве» нераздельны польза и красота. Для Блока вообще не*
существует эстетических категорий вне общих категорий миропонимания. Отсюда
своеобразная форма выражения эстетических идей, способ постановки тех или иных
эстетических проблем.
Убежденность в величии искусства обусловила те высокие требования, которые
Блок предъявлял к художникам. По его словам, «художник — это тот-, для кого мир
прозрачен, кто обладает взглядом ребенка, но во взгляде этом светится сознание
врелого человека; тот, кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой
природе своей, видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним,
ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена
действительностью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему, не
фальшивя» *.
В поэме «Возмездие» А. Блок писал о призвании художника в хаосе
действительности:
Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд— да будет тверд и ясен.
1 А. Блок, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 5, М.—Л., 1962, стр. 418.
20 «История эстетики», т. 4 (1 полутом)
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет,— поймешь, где тьма.
Пускай же все пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума *.
Отчетливое сознание общественного и нравственного долга художника,
«великой ответственности» за литературу, «связи искусства с народом и обществом» —
это то «главное» в воззрениях поэта, что определило его творческий путь и связало
его с традициями русского классического искусства.
[СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА И НАЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖНИКА]
Прекрасное — вот мир тех сущностей, с которыми имеет дело
искусство. Вот почему искусство нельзя любить как природу, как женщину, как
диалектику. Оно — не тот материал, с которым можно заигрывать или
фамильярничать; его нельзя превозносить, им нельзя поступаться для
кого бы то ни было. Им нельзя поступиться, от него можно только
отступиться. Оно — величаво. Об этом думал Пушкин, когда говорил:
Служенье Муз не терпит суеты.
Прекрасное должно быть величаво.
Только — величаво. Величавой может быть жизнь, величавой может
быть смерть, величавой может быть гибель даже. Что несут с собой те
миры, которые называются на нашем языке мирами искусства, какими
бурями они нас ослепят, какие звуки преобладают в этом неведомом нам
мировом оркестре,— мы не знаем; знаем мы лишь одно:
Прекрасное должно быть величаво.
Искусство никогда не обманет, не надо же им обманываться. Широкие
круги публики к нему никогда не влеклись и теперь не влекутся,—и не надо
им об этом знать; лучше человеку не слыхать о Данте, Эсхиле, Шекспире,
Пушкине, чем разменивать их на мелкие монеты, пленяться их правдами,
их нравственностями, их красивостями.
Чин отношения к искусству должен быть — медленный, важный, не
суетливый, не рекламный. Речи об искусстве обязаны быть таковыми,
и если они таковыми не будут, рано или поздно зачинщики суеты будут
наказаны, на голову их падет та медленная кара, которая тяжелее всех
скорых людских кар. Искусство мстит само за себя, как древнее божество
или как народная душа, испепеляя, стирая с лица земли все то, в чем
лежит признак суеты, что пытается своими маленькими, торопливыми,
задыхающимися ритмами — заглушить его единственный и мерный ритм.
Искусство и газета (1912).—А. Блок, Собрание
сочинений в 8-ми томах, т. 5, М.— Л., 1962, стр. 747—775.
1 А. Блок, Собрание сочинений, т. 3, М.—Л., 1960, стр. 301—302.
610
[...] Быть художником — значит выдерживать ветер из миров искусства,
совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него;
в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и
бесплотного, и мирам этим нет числа: Врубель видел сорок разных голов
демона, а в действительности их не счесть.
Искусство есть ад. Недаром В. Брюсов завещал художнику: «Как
Данте, подземное пламя должно тебе щеки обжечь». По бессчетным кругам
ада может пройти, не погибнув, только тот, у кого есть спутник, учитель
и руководительная мечта о той, которая поведет туда, куда не смеет войти
и учитель. [...]
Мой вывод таков: путь к подвигу, которого требует наше служение,
есть — прежде всего — ученичество, самоуглубление, пристальность
взгляда и духовная диета. Должно учиться вновь у мира и у того
младенца, который живет еще в сожженной душе.
Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит
смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком.
Мы обязаны в качестве художников ясно созерцать все священные
разговоры («santa conversatione») и свержение Антихриста, как Беллини и
Беато. Нам должно быть памятно и дорого паломничество Синьорелли,
который, придя на склоне лет в чужое скалистое Орвьето, смиренно
попросил у граждан позволить ему расписать новую капеллу.
О современном состоянии русского символизма (1910).
Там же, стр. 433, 436.
[...] Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотней
представляешь ее себе, как живой организм; мы имеем на это право,
потому что мы, писатели, должны смотреть жизни как можно пристальнее
в глаза; мы не ученые, мы другими методами, чем они, систематизируем
явления и не призваны их схематизировать. Мы также не государственные
люди и свободны от тягостной обязанности накидывать крепкую стальную
сеть юридических схем на разгоряченного и рвущегося из правовых пут
зверя. Мы люди, люди по преимуществу, и значит — прежде всего обязаны
уловить дыхание жизни, то есть увидать лицо и тело, почувствовать, как
живет и дышит то существо, которого присутствие мы слышим около
себя. [...]
Родина подобна своему сыну — человеку. Когда она здорова и
отдыхает, все ее тело становится таким же чувствительным, как здоровое
человеческое тело; нет ни одного пункта, подверженного анестезии, все дышит,
видит, на каждый удар или укол она поднимает гневную голову, под
каждой лаской становится нежной и страстной. Органы чувств ее
многообразны, диапазон их очень велик. Кто же играет роль органов чувств этого
подобного и милого нам существа?
Роль этих органов играют, должны играть все люди. Мы же, писателя,
свободные от всех обязанностей, кроме человеческих, должны играть роль
20*
611
тончайших и главнейших органов ее чувств. Мы — не слепые ее
инстинкты, но ее сердечные боли, ее думы и мысли, ее волевые импульсы. [...]
Ответ Мережковскому (1910).—Там же, стр. 443—
444.
[...] Художник не преклоняется, а только видит, он наблюдает и
простую бытовую сцену и апокалиптическое видение одинаково. Я как
художник не говорю ни да, ни нет, я — глаза, я — смотрю. Свое да или свое нет
скажет тот, кто будет больше чем художник. Кто бы ни был носителем
духа музыки — пролетариат ли, народ ли, отдельный ли художник,— он
только бережет некое Единое на потребу, дух музыки в данном случае.
А этому духу музыки нет решительно никакого дела ни до художника,
ни до народа, ни до пролетариата, он не для них. Но кто его сумеет
сберечь, тот не даром пройдет по пустынной пока и бедной истории нашей
планеты, ему очевидно суждено в будущем какое-то иное бытие, менее
убогое, чем это. [...]
...Я согласен, это — проклятие художника. Смотрение — это
своеобразная тоска художника, то, от чего устают глаза. Но он должен честно
смотреть, а смотреть художественно честно и значит—смотреть в будущее.
Конспект заключительного слова в прениях по его
докладу «Крещение гуманизма» (1919).— А. Блок,
Собрание сочинений, т. 6, 1962, стр. 462.
О НАЗНАЧЕНИИ ПОЭТА
(1921)
[...] Поэт — величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы;
но сущность его дела не устареет.
Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят
ему памятники; завтра хотят «сбросить его с корабля современности». То
и другое определяет только этих людей, но не поэта; сущность поэзии, как
всякого искусства, неизменна; то или иное отношение людей к поэзии,
в конце концов, безразлично. [...]
Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он
называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет
стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он — сын
гармонии, поэт.
Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок
мировой жизни. Порядок — космос, в противоположность беспорядку —
хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние. Космос — родной
хаосу, как упругие волны моря — родные грудам океанских валов. Сын
может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты; но она-
то и делает похожими отца и сына.
Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос — устроенная
гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена
культуры; из безначалия создается гармония.
612
Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов новых
пород. Их баюкает безначальный хаос; их возращивает, между ними
производит отбор культура; гармония дает им образы и формы, которые вновь
расплываются в безначальный туман. Смысл этого нам непонятен;
сущность темна; мы утешаемся мыслью, что новая порода лучше старой; но
ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить
мировую ночь. Порядок мира тревожен, он — родное дитя беспорядка и может
не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо.
Мы знаем одно: что порода, идущая на смену другой, нова; та, которую
она сменяет, стара; мы наблюдаем в мире вечные перемены; мы сами
принимаем участие в сменах пород; участие наше большей частью
бездеятельно: вырождаемся, стареем, умираем; изредка оно деятельно: мы
занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию
новых пород.
Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре.
Три дела возложены на него: во-первых — освободить звуки из родной
безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых — привести эти
звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих — внести эту гармонию во
внешний мир.
Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные
в мир, сами начинают творить свое дело. «Слова поэта суть уже его дела».
Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие
сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака; может
быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название
«человек»; части, годные для создания новых пород; ибо старая, по-видимому,
быстро идет на убыль, вырождается и умирает.
Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом;
борьба с нею превышает и личные и соединенные человеческие силы.
«Когда бы все так чувствовали силу гармонии!» — томится одинокий
Сальери. Но ее чувствуют все, только смертные — иначе, чем бог — Моцарт.
От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она дает,
когда это нужно,— никто не может уклониться, так же как от смерти.
Это имя дается безошибочно.
Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто
представляют из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано
понимать. Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они
пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым
охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое
понять, ибо и они служат культуре,— те клеймятся позорной кличкой:
чернь; от этой клички не спасает и смерть; кличка остается и после смерти,
как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгари-
ным — за всеми, кто мешал поэту выполнять его миссию.
На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком,
на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных
цивилизацией,— катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим
613
вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам,
образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир.
Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин
говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более, чем от других людей:
«средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».
Первое дело, которого требует от поэта его служение,— бросить
«заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы
открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтожных
мира».
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.
Дикий, суровый, полный смятенья, потому что вскрытие духовной
глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес потому, что только
там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к «родимому
хаосу», к безначальной стихии, катящей звуковые волны.
Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук
принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы
поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен
в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать
единую гармонию. Это — область мастерства. Мастерство требует
вдохновения так же, как приобщение к «родимому хаосу»;
«вдохновение,—сказал Пушкин,— есть расположение души к живейшему принятию
впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных»; поэтому
никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести
нельзя; одно совершенно связано с другим; чем больше поднято покровов,
чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука,— тем
более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и
гармоничней, тем неотступней преследует он человеческий слух.
Наступает очередь для третьего дела поэта; принятые в душу и
приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит
знаменитое столкновение поэта с чернью.
Вряд ли когда бы то ни было чернью называлось простонародье. Разве
только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому
народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным
складом; близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно
быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин
мог разуметь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело —
если русская культура возродится.
Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы.
Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая
собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за
душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место
родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть наша
614
чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье;
не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не
демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать
только одно: они люди; это — не особенно лестно; люди дельцы и пошляки,
духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена «заботами
суетного света».
Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она:
служения внешнему миру; она требует от него «пользы», как просто говорит
Пушкин; требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца
собратьев» и пр.
Со своей точки зрения, чррнь в своих требованиях права. Во-первых,
она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего,
чем сметение сора с улиц, дела, которое требуется от поэта. Во-вторых, она
инстинктивно чувствует, что это дело так или иначе, быстро или медленно,
ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие
спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий
внешнего мира.
Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия,
прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение
последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным
функциям организма, люди догадались выделить из государства один
только орган — цензуру, для охраны порядка своего мира, выражающегося
в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь
на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они
могли догадаться поставить преграды и на первом и на втором пути: они
могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии;
что их удерживает — недогадливость, робость или совесть,— неизвестно.
А может быть, такие средства уже изыскиваются?
Однако дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с
порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить,
общекультурные; его дело — историческое. Поэтому поэт имеет право повторить
вслед за Пушкиным:
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Говоря так, Пушкин закреплял за чернью право устанавливать
цензуру, ибо полагал, что число олухов не убавится.
Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех
олухов; скорее, добытая им гармония производит отбор между ними с целью
добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды
человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная
гармония; никакая цензура в мире не может помешать этому основному
делу поэзии.
615
Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о томг
верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем
личной, от свободы, котррую мы называем политической. Мы знаем, что он
требовал «иной», «тайной» свободы. По-нашему, она «личная»; но для
поэта это не только личная свобода:
... Никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не .гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья —
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права...
Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же:
Любовь и тайная свобода
Внушили сердцу гимн простой.
Эта тайная свобода, эта прихоть — слово, которое потом всех громче
повторил Фет («Безумной прихоти певца!»),— вовсе не личная только
свобода, а гораздо большая: она тесно связана с двумя первыми делами,
которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина
есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать
себе в деле испытания гармонией людей — в третьем деле, Пушкин не мог
позволить мешать себе в первых двух делах; и эти дела — не личные. [...}
Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. На
покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не
ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю,— тайную
свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь
потеряла смысл. [...]
Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны
и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно.
Я хотел бы, ради забавы, провозгласить три простых истины: никаких
особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что
называется не так; для того чтобы создавать произведения искусства, надо
уметь это делать.
В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так
грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина.
Там же, стр. 160—168·
[ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ]
[...] Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего
мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из которых
впервые вырастало сознание нераздельности и неслиянности искусства,
616
жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки
извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более
слиянием всего воедино, что было легко и возможно в истинном
мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также —
в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею.
Именно мужественное веянье преобладало: трагическое сознание
неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых
и требовавших примирения. [...]
Возмездие. Предисловие (1919).—А. Блок, Собрание
сочинений, т. 3, 1960, стр. 296.
[КРАСОТА И ПОЛЬЗА. О НРАВСТВЕННОМ ДОЛГЕ ХУДОЖНИКА]
[...] В те дни, когда форма давалась усилиями, вопрос о содержании
души художников не был вопросом. В те дни, когда форма стала легкой
и общедоступной, ничего, уже не стоило дать красивую оправу стеклу
вместо брильянта, для смеха, забав, кощунства и наживы.
Тогда перед истинными художниками, которым надлежало охранять
русскую литературу от вторжения фальсификаторов, вырос второй вопрос-
вопрос о содержании, вопрос, «что» имеется за душой у новейших
художников, которые подозрительно легко овладели формами. Благодаря такой
постановке вопроса были своевременно уличены и не признаны многие
новаторы и фальсификаторы, а с другой стороны, благодаря всеобщей
переоценке за немногими художниками было утверждено их высокое
звание и признание навсегда. Если не ошибаюсь, вопрос «что» был выдвинут
на первый план, вместо вопроса «как», Андреем Белым, в его первых
статьях.
Но судьями художника являются не только сам «взыскательный»
художник, не только его собратья и критики, а и публика, хотя бы
последним критерием всех похвал и порицаний была душа каждого художника.
Вопросом о содержании, предъявлением векселей к уплате было только
парализовано действие яда всеобщего признания. Но само признание
разрослось до чудовищных размеров, часто совершенно неожиданных для
представителей нового искусства. Загоготала тысячью голосов сама
площадь. Спрос на новое искусство возрастает с каждым днем, но все еще
перерастает его предложение: дело в том, что спрос на произведения
искусства способен действительно зажечь искры вдохновения, правда
мимолетные искры, которым никогда не суждено разгореться в большой огонь.
Ведь искры несущегося поезда сыплются сказочными снопами в соседние
болота, а кое-какие из них поджигают даже леса, лежащие около полотна.
Так и здесь: в сотнях душ (русских душ без дна и покрышки) вспыхнуло
вдохновение и полетели искорки. Подлинное вдохновение и
настоящие искорки. Сотни юношей вмиг стали художниками (заметьте: почтп
617
исключительно лирическими поэтами: ведь это всего легче и всего менее
ответственно; с поэта, по нынешним временам, «взятки гладки»). И что
же? Форма дана — шаблон выработан, и формальному вопросу «как»
способен удовлетворить любой гимназист. Но и на вопрос «что» гимназист
ответит по крайней мере удовлетворительно: он — яростный поклонник нового
искусства, он считает представителей его своими учителями, он заразился
их «настроениями» (как часто приходится убеждаться, что очень многие
до сих пор вожжаются с этим термином!), он видит в городе — «дьявола»,
а в природе — «прозрачность» и «тишину». Вот вам — удовлетворительное
содержание. Следовательно — его пускают в журнал, альманах и газету,
а читатель думает: «Вот родился новый Валерий Брюсов». Правда, новый
поэт исчезнет так же мгновенно и неожиданно для читателя, да и для
самого себя, как родился. Он играл на большом спросе публики и выиграл,
но сейчас же все и проиграл. Искра догорела и утонула в болоте. Это —
полбеды. Беда же настоящая тогда, когда этот случайный художник
(а случайный художник — непременно хулиган) вдруг возьмет да и
запоет на модную и опасную тему; да еще так дерзко, молодо и всегда
популярно и всем понятно (ибо шаблоны формы и содержания всегда
доступнее). Тогда случается, что искра подожжет лес,— а потом — ищи ее. Искра
пропала, а лес продолжает гореть: в пролесках, на болотах лопаются
пузыри, трава чернеет, деревья трещат, и по окрестностям расползаются
испуганные гады. Воздух заражен.
В такие-то дни возникает третий, самый соблазнителььый, самый
опасный, но и самый русский вопрос: «зачем?». Вопрос о необходимости и
полезности художественных произведений. Вопрос, в котором усомнился
даже Н. К. Михайловский: «Вопрос «зачем?» бывает часто относительно
художественного творчества лишен всякого смысла». Очень замечательно
это «часто», какое-то испуганное и недоверчивое к самому себе. Семидесят-
ническое недоверие и неверие. Но дело в том, что подлинному художнику
не опасен публицистический вопрос «зачем?», и всякий публицистический
вопрос приобретает под пером истинного художника широкую и чуждую
тенденции окраску. Рамки искусства широки и вместительны, и
ближайшим доказательством тому служит Ибсен — знамя нашей эпохи, последний
мировой писатель, так жизненно, как хлеб и вода, необходимый людям,
а теперь особенно — русским людям. Нечего и говорить об Ибсене
пятидесятых годов, который весь предан «пользе народной», что сказывается
в каждом письме его, и в прошении к королю, и в стихах, где он
вопрошает норвежских поэтов, «не на пользу ли народа дан им поэтический
дар,— чтобы восторженные уста скальда истолковывали его горести, его
радости и его порывы?».— Сказывается и в драме Катилины —
заговорщика с социалистическим духом. Все это не только не убивает, но
вдохновляет и бесконечно расширяет мировые темы Ибсена. Все тот же перед
нами — Ибсен девяностых годов, ни минуты не теряющий связи с
общественностью, с остро наточенным ножом для анализа, болеющий вопросами
национальности, общественной дряблости, государственности. «Каждый
618
художник, я думаю, должен быть публицистом в душе»,— говорил
Михайловский. И особенно свойственно это русскому художнику. Вечно
проклятым для него вопросом был «утилитаризм», и не одному символизму
пришлось ломать копья об этот камень, неизменно попадающийся на всех
путях.
Перед русским художником вновь стоит неотступно этот вопрос
пользы. Поставлен он не нами, а русской общественностью, в ряды которой
возвращаются постепенно художники всех лагерей. К вечной заботе
художника о форме и содержании присоединяется новая забота о долге,
о должном и не должном в искусстве. Вопрос этот — пробный камень для
художника современности: может быть, он одичал и стал отвлеченен до
такой степени, что разобьется об этот камень. Этим он докажет только
собственную случайность и слабость. Если же он действительно
«призванный», а не самозванец, он твердо пойдет по этому пути к той вершине, на
которой сами собой отпадают те проклятые вопросы, из-за которых идет
борьба не на жизнь, а на смерть в наших долинах; там чудесным образом
подают друг другу руки заклятые враги: красота и польза.
Новейшие исследователи говорят нам о том, что польза и красота
совпадали в народном творчестве, что одна из ранних форм этого
творчества — рабочая песня — была неразрывно, ритмически связана с
производимой работой. Так связующим звеном между искусством и работой,
красотой и пользой был ритм. В чем же этот путеводительный ритм нашей
жизни? Творчество Ибсена говорит нам, поет, кричит, что ритм нашей
жизни — долг. В сознании долга, великой ответственности и связи с
народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу
ритмически идти единственно необходимым путем. Это — самый опасный, самый
узкий, но и самый прямой путь. Только этим путем идет истинный
художник. На нем испытывается его подлинность, так же как опытность
капитана испытывается в самых опасных проливах. Здесь только можно узнать,
руководит ли художником долг — единственное проявление ритма души
человеческой в наши безрадостные и трудовые дни,— и только этим
различаются подлинное и поддельное, вечное и невечное, святое и
кощунственное.
Художники насчитываются десятками, и число их растет вместе с
утончением и развитием культуры. Но истинных художников всегда мало,
они считаются единицами. В переходные, ночные эпохи, как наша, может
быть и вовсе нет их в мире, потому что ни у кого не хватает сил вести
корабль ночным проливом — между Сциллой красивых, легких, пьяных
струй, за которыми легко хмелеющую душу дразнит недостижимый
призрак прекрасного, и Харибдой тяжелых, неподвижных и непроницаемых
скал, за которыми покаянная душа страдальчески проводит недостижимый
призрак должного.
Знаменательно, что передовые художники в наши дни уже не
удовлетворяются вопросами «как» и «что». Сожжены какие-то твердыни
классицизма и романтизма, и за вопросами о форме и содержании — с тупой
619
болью и последним отчаянием — вырастает «проклятый» вопрос,
посещающий людей в черные дни: «к чему?», «зачем?». Вопрос пьяницы в чао
тяжелого пробуждения:
Что ты сделал, что ты сделал?
Исходя слезами,
О, подумай, что ты сделал
С юными годами!
В России и для русских художников все дни были по преимуществу
черные. И вопрос «зачем?» — особенно русский вопрос, над которым
культурный художник может посмеяться. Но знает ли культурный художник,
что здесь речь идет как будто уже не об одном искусстве, а еще и о жизни?
Для того чтобы вопрос перестал быть прозаическим, бледным утренним
вопросом, потребно чудо, вмешательство какого-то Демиурга, который
истолчет в одном глубоком чане душу красивой бабочки и тело полезного
верблюда, чтобы явить миру новую свободную необходимость, сознание
прекрасного долга. Чтобы слово стало плотью, художник — человеком.
Пока же слова остаются словами, жизнь — жизнью, прекрасное —
бесполезным, полезное — некрасивым. Художник, чтобы быть художником,
убивает в себе человека, человек, чтобы жить, отказывается от искусства.
Ясно одно: что так больше никто не хочет, что так не должно. [...] И
художнику, услыхавшему голос долга, и человеку, пожелавшему стать
художником, предстоит решить вопрос «зачем?», игнорировать который может или
отвлеченный утонченник, безысходный декадент, или человек, для
которого «все игра, усмешка на все, сомнения во всем — последняя мудрость
мещанства», как недавно удивительно глубоко писал Мережковский.
Итак, только третий вопрос, под маской прозаической и будничной
тенденции, открывает современному художнику радостный и свободный
должный путь — среди бездны противоречий — на вершины искусства.
Голос долга влечет к трагическому очищению. Может быть, на высотах
будущей трагедии новая душа познает единство прекрасного и должного,
красоты и пользы, так, как некогда душа познала это единство в широтах
древней народной песни. Может быть, потому волнует нас «театр
будущего», что сквозь шум от падения и разрушения старого и современного
театра мы слышим где-то, в ночных полях, неустающий рог
заблудившегося героя.
Три вопроса.—А. Блок, Собрание сочинений, т. 5,
234-240.
[ХУДОЖНИК И НАРОД]
[...] Писатель — обреченный; он поставлен в мире для того, чтобы
обнажать свою душу перед теми, кто голоден духовно. Народ собирает по капле
жизненные соки для того, чтобы произвести из среды своей всякого, даже
некрупного писателя. И писатель становится добычей толпы; обнищавшие
души молят, просят, требуют, берут у него обратно эти жизненные соки
620
сторицею [...] Просят и требуют у писателя того, что им нужно, как воздух
и хлеб. И писатель должен давать им это, если он писатель, то есть
обреченный. Может быть, писатель должен отдать им всю душу свою, и это
касается особенно русского писателя. Может быть, оттого так рано
умирают, гибнут или просто изживают свое именно русские писатели, что
нигде не жизненна литература так, как в России, и нигде слово не
претворяется в жизнь, не становится хлебом или камнем так, как у нас. [...]
...Писатель, может быть, больше всего — человек, потому-то ему
случается так особенно мучительно безвозвратно и горестно растрачивать свое
человеческое «я», растворять его в массе других требовательных и
неблагодарных «я». [...]
Человек, тот, кому дороже и выше всего звание человека, человек «по
профессии», словом — писатель [...].
Более, чем какой бы то ни было род искусства, театр изобличает
кощунственную бесплотность формулы «искусство для искусства». Ибо
театр — это сама плоть искусства, та высокая область, в которой «слово
становится плотью». Вот почему почти все, без различия направлений,
сходятся на том, что высшее проявление творчества есть творчество
драматическое. В этой-то области подвергаются испытанию, и уже близко
время, когда не выдержат испытания и рассыплются, как лепестки чахлых
комнатных цветов, утверждения нашей критики о «смерти событий»,
бессильные утверждения людей, захмелевших от крепкого вина противоречий
и от фальшивых крыльев, которыми награждает этих людей их легкая
бесплодность. Именно в театре искусству надлежит столкнуться с самой
жизнью, которая неизменно певуча, богата, разнообразна. [...]
О театре (1908).—Там же, стр. 246—247, 250, 270.
[...] Последнее и единственное верное определение для писателя — голос
публики, неподкупное мнение читателя. Что бы ни говорила литературная
среда и критика, как бы ни захваливала, как бы ни злобствовала,— всегда
должна оставаться надежда, что в самый нужный момент раздастся голос
читателя, ободряющий или осуждающий. Это даже не слово, даже не
голос, а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а
именно—коллективной души. Без такой последней надежды едва ли можно
даже слушать как следует голос критики: не все ли равно, что говорит обо
мне такой-то, когда я не знаю и никогда не узнаю, что думают обо мне
«все»? [...]
Всеобщая душа так же действенна и так же заявит о себе, когда
понадобится, как всегда. Никакая общественная усталость не уничтожает этого
верховного и векового закона. И, значит, приходится думать, что
писатели недостойны услышать ее дуновения. Последним слышавшим был,
кажется, Чехов. Все, кто после него, осуждены пока идти одиноко, без
этой единственно необходимой поддержки: идти и слушать за
литературным и критическим гиканьем и свистом — угрожающее «безмолвие
народа».
621
Не удивительно после этого, что почти все скоро теряют почву под
ногами. [...]
Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть
величина случайная и временная,— является чувство пути. Эту истину,
слишком известную, следует напоминать постоянно, и особенно в наше время.
Рассматривая современных писателей с этой точки зрения, приходится
усомниться во многих даже признанных, а иных и совсем отвергнуть.
Однако и при такой оценке нужно соблюдать осторожность, принимая во
внимание все личные особенности среды, из которой вышел писатель.
Писатель — растение многолетнее. Как у ириса или у лилии росту
стеблей и листьев сод утствует периодическое развитие корневых
клубней,— так душа писателя расширяется и развивается периодами, а
творения его — только внешние результаты подземного роста души. Поэтому
путь развития может представляться прямым только в перспективе,
следуя же за писателем по всем этапам пути, не ощущаешь этой прямизны
и неуклонности вследствие постоянных остановок и искривлений.
Как ирис и лилия требуют постоянного удобрения почвы, подземного
брожения и гниения, так писатель может жить, только питаясь брожением
среды. Очень часто (и теперь особенно) писатель быстро истощает свои
силы, стараясь дать больше, чем он может. Подобное незнание меры своих
сил можно наблюдать и у растений. Стебель увядает очень быстро,
вытянув из клубней последние соки; когда почва не может восполнить соков,
растение хиреет в течение нескольких лет, а иногда и вовсе погибает.
Несмотря на незыблемость и общеизвестность этих законов, очень
многие молодые писатели склонны как будто их игнорировать. Они
уподобляются сорным травам, засевшим рядом с благородными породами и
заглушающими их. В лучшем случае — жирным «декоративным»
растениям, страшно истощающим почву.
Очень трудно разглядеть дичающий ирис на поляне, покрытой
огромными лопухами и затянувшейся снизу мокрицей. Всякий голос звучит
фальшиво в огромной пустой зале, где из всех углов отвечает уродливое
стократное эхо.
И потому — игнорирование всех этих пустоцветов и затыкание ушей
от назойливого эхо собственного голоса (едва отзвучавшего) представляет
еще одну трудную работу, притом — самодовлеющую, то есть —
бесплодную. Впрочем, главное затруднение от этих досадных потребностей своего
почвенного обихода писатель испытывает главным образом в необходимые
и неизбежные периоды остановок в пути, прислушиваний, ощупыванья
почвы и искания соков, чтобы напоить ими клубни для дальнейшего
развития и роста.
Только наличностью пути определяется внутренний «такт» писателя,
его ритм. Всего опаснее — утрата этого ритма. Неустанное напряжение
внутреннего слуха, прислушиванье как бы к отдаленной музыке есть
непременное условие писательского бытия. Только слыша музыку
отдаленного «оркестра» (который и есть «мировой оркестр» души народной),
622
можно позволить себе легкую «игру». Забвение этих истин, тоже очень
известных художникам-профессионалам, сплошь и рядом производит
недоумение и путаницу в современной критике. Критики вдруг способны
«позволить играть» тем, кто не слышал ни отзвука «мирового оркестра»
(многие современные поэты), и, наоборот, способны вдруг вознегодовать
на игру, обусловленную законами ритма (например, в творчестве Федора
Сологуба). Между тем предпосылкой всякого художественно-критического
исследования должно быть непременно определение «ритмических
фондов» художника, что касается поэтов и прозаиков в равной мере.
Раз ритм налицо, значит творчество художника есть отзвук целого
оркестра, то есть — отзвук души народной. Вопрос только в степени
удаленности от нее или близости к ней.
Знание своего ритма — для художника самый надежный щит от всякой
хулы и похвалы. У современных художников, слушающих музыку,
надежда на благословение души народной робка только потому, что они
бесконечно удалены от нее. Но те, кто исполнен музыкой, услышат вздох
всеобщей души если не сегодня, то завтра.
Душа писателя (1909).—Там же, стр. 367—371.
[ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИСЬ]
f...] Искусство красок и линий позволяет всегда помнить о близости
к реальной природе и никогда не дает погрузиться в схему, откуда нет
сил выбраться писателю. Живопись учит смотреть и видеть (это вещи
разные и редко совпадающие). Благодаря этому живопись сохраняет
живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети. Словесные
впечатления более чужды детям, чем зрительные. Детям приятно
нарисовать все, что можно; а чего нельзя — того и не надо. У детей слово
подчиняется рисунку, играет вторую роль.
Ласковая и яркая краска сохраняет художнику детскую
восприимчивость; а взрослые писатели «жадно берегут в душе остаток чувства».
Пожелав сберечь свое драгоценное время, они заменили медленный
рисунок быстрым словом; но — ослепли, отупели к зрительным восприятиям.
Говорят, слов больше, чем красок; но, может быть, достаточно для
изящного писателя, для поэта — только таких слов, которые соответствуют
краскам. Ведь это — словарь удивительно пестрый, выразительный и
гармонический. [...]
Душа писателя поневоле заждалась среди абстракций, загрустила
в лаборатории слов. Тем временем перед слепым взором ее бесконечно
преломлялась цветовая радуга. И разве не выход для писателя —
понимание зрительных впечатлений, уменье смотреть. Действие света и цвета
освободительно. Оно улегчает душу, рождает прекрасную мысль. Так —
сдержанный и воспитанный европеец, попавший в страну, где окрестность
свободно цветет и голые дикари пляшут на солнце,— должен непременно
оживиться и, хоть внутренно, заплясать, если он еще не совсем
разложился.
623
Сказанное не унижает писательства. Напротив, приходится наблюдать
обратное: живопись охотно подает руку литературе и художники пишут
книги (Россетти, Гогэн); но литераторы обыкновенно чванятся перед
живописью и не пишут картин. Скажут, что живописи надо учиться: но,
во-первых, иногда лучше нарисовать несколько детских каракуль, чем
написать очень объемистый труд; а во-вторых, чувствовал же какую-то
освободительность рисунка, например, Пушкин, когда рисовал не однажды
какой-то пленительный женский профиль. А ведь он не учился рисовать.
Но он был ребенок.
Краски и слова (1905).-—Там же, стр. 20—22.
[ВЗАИМОСВЯЗЬ ИСКУССТВ]
Среди широкой публики очень распространено мнение, что новая
русская изящная литература находится в упадке. [...]
Мне возразят, что мнение большой публики, так же как слава,— «дым».
Но дыму без огня не бывает; я не хочу подвергать оценке факт, для меня
несомненный; причин этого факта не счесть; я хочу указать лишь на одну
из них, может быть не первостепенную; но указать на нее пора.
Эта причина — разветвление потока русской литературы на мелкие
рукава, все растущая специализация, в частности — разлучение поэзии
и прозы; оно уже предчувствовалось в сороковых годах прошлого
столетия, но особенно ясно сказалось в некоторых литературных явлениях
сегодняшнего дня. Как бы ни относились друг к другу поэзия и проза,
можно с уверенностью сказать одно: мы часто видим, что прозаик, свысока
относящийся к поэзии, мало в ней смыслящий и считающий ее
«игрушкой» и «роскошью» (шестидесятническая закваска), мог бы владеть
прозой лучше, чем он владеет, и обратно: поэт, относящийся свысока к
«презренной прозе», как-то теряет под собой почву, мертвеет и говорит не
полным голосом, даже обладая талантом. Наши прозаики — Толстой,
Достоевский — не относились свысока к поэзии; наши поэты — Тютчев,
Фет — не относились свысока к прозе. Нечего говорить, разумеется, о
Пушкине и о Лермонтове.
Поэзия и проза, как в древней России, так и в новой, образовали
единый поток, который нес на своих волнах, очень беспокойных, но очень
мощных, драгоценную ношу русской культуры. В новейшее время этот
поток обнаруживает наклонность разбиваться на отдельные ручейки.
Явление грозное, но, конечно, временное, как карточная система
продовольствия. Поток, разбиваясь на ручейки, может потерять силу и не
донести драгоценной ноши, бросив ее на разграбление хищникам, которых
у нас всегда было и есть довольно.
Россия — молодая страна, и культура ее — синтетическая культура.
Русскому художнику нельзя и не надо быть «специалистом». Писатель
должен помнить о живописце, архитекторе, музыканте; тем более —
прозаик о поэте и поэт о прозаике. Бесчисленные примеры благодетельного
624
для культуры общения (вовсе не непременно личного) у нас налицо;
самые известные — Пушкин и Глинка, Пушкин и Чайковский, Лермонтов
и Рубинштейн, Гоголь и Иванов, Толстой и Фет.
Так же как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия,
неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия,
общественность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощный поток,
который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры. Слово
и идея становится краской и зданием; церковный обряд находит
отголосок в музыке; Глинка и Чайковский выносят на поверхность «Руслана»
и «Пиковую даму», Гоголь и Достоевский — русских старцев и К.
Леонтьева, Рерих ж Ремизов — родную старину. Это — признаки силы и юности;
обратное — признаки усталости и одряхления. Когда начинают говорить
об «искусстве для искусства», а потом скоро — о литературных родах и
видах, о «чисто литературных» задачах, об особенном месте, которое
занимает поэзия, и т. д. и т. д.,— это, может быть, иногда любопытно, но уже
не питательно и не жизненно. Мы привыкли к окрошке, ботвинье и
блинам, и французская травка с уксусом в виде отдельного блюда может
понравиться лишь гурманам. Так и «чистая поэзия» лишь на минуту
возбуждает интерес и сцоры среди «специалистов»; споры эти потухают так же
быстро, как вспыхнули, и после них остается одна оскомина; а «большая
публика», никакого участия в этом не принимающая и не обязанная
принимать, а требующая только настоящих, живых художественных
произведений, верхним чутьем догадывается, что в литературе не совсем
благополучно; и начинает относиться к литературе новейшей совсем иначе, чем
к литературе старой.
Все большее дробление на школы и направления, все большая
специализация — признаки такого неблагополучия.
Без божества, без вдохновенья (1921).—А. Блок,
Собрание сочинений, т. 6, стр. 174—176.
[КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ]
[...] Я думаю, мы более уже не вправе сомневаться в том, что великие
произведения искусства выбираются историей лишь из числа
произведений «исповеднического» характера. Только то, что было исповедью
писателя, только то создание, в котором он сжег себя дотла — для того ли,
чтобы родиться для новых созданий, или для того, чтобы умереть,—
только оно может стать великим. Если эта сожженная душа,
преподносимая на блюде, в виде прекрасного творения искусства, пресыщенной и
надменной толпе — Иродиаде,— если эта душа огромна,— она волнует не
одно поколение, не один народ и не одно столетие. Если она и не велика,
то, рано ли, поздно ли, она должна взволновать по крайней мере своих
современников, даже не искусством, даже не новизною, а только
искренностью самопожертвования.
Почему имеют преходящее значение стихи Сергея Маковского, Рафа-
ловича? Разве они не искусны? Нет, просто они не откровенны, их авторы
625
не жертвовали своею душой. А почему мы можем годы и годы питаться
неуклюжим творчеством Достоевского, почему нас волнует далеко стоя-
щая от искусства «Жизнь Человека» Андреева или такие строгие,
по-видимому, «закованные з латы», стихи Валерия Брюсова? Потому что «здесь
человек сгорел», потому что это — исповедь души. Всякую правду,
исповедь, будь она бедна, недолговечна, невсемирна,— правды Глеба
Успенского, Надсона, Гаршина и еще меньшие — мы примем с распростертыми
объятиями, рано или поздно отдадим им все должное. Правда никогда не
забывается, она существенно нужна, и при самых дурных обстоятельствах
будет оценен десятком других людей писатель, стоящий даже не более
«ломаного гроша». Напротив, все, что пахнет ложью или хотя бы только
неискренностью, что сказано не совсем от души, что отдает «холодными
словами»,— мы отвергаем. [...]
Письмо о поэзии (1908).—А. Блок, Собрание
сочинений, т. 5, стр. 278,
[ХУДОЖНИК И РЕВОЛЮЦИЯ1
[...] Так как «слова писателя суть его дела», то я считаю своим долгом
ответить на вопрос — не волнующий, а сжигающий меня — что делать
сейчас художнику.
1) Художнику надлежит знать, что той России, которая была,— нет
и никогда уже не будет. Европы, которая была, нет и не будет. То и
другое явится, может быть, в удесятеренном ужасе, так что жить станет
нестерпимо. Но того рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил
в новую эру. Та цивилизация, та государственность, та религия —
умерли. Они могут еще вернуться и существовать, но они утратили бытие, и
мы, присутствовавшие при их смертных и уродливых корчах, может быть,
осуждены теперь присутствовать при их гниении и тлении;
присутствовать, доколе хватит сил у каждого из нас. Не забудьте, что Римская
империя существовала еще около пятисот лет после рождения Христа. Но она
только существовала, она раздувалась, гнила, тлела — уже мертвая.
2) Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается
гальванизировать труп. Для того чтобы этот гнев не вырождался в злобу
(злоба — великий соблазн), ему надлежит хранить огонь знания о
величии эпохи, которой никакая злоба недостойна. Одно из лучших средств
к этому — не забывать о социальном неравенстве, не унижая великого
содержания этих двух малых слов ни «гуманизмом», ни сантиментами, ня
политической экономией, ни публицистикой. Знание о социальном
неравенстве есть знание высокое, холодное и гневное.
3) Художнику надлежит готовиться встретить еще более великие
события, имеющие наступить, и, встретив, суметь склониться перед
ними. [...]
Что сейчас делать? (1918).—А. Блок, Собрание
сочинений, т. 6, стр. 58—59.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ИДЕИ ДЕЯТЕЛЕЙ
ИЗОБЕ\ЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА,
МУЗЫКИ
И АРХИТЕКТУРЫ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И С К Y С С Τ В О
Эстетические идеи русских художников являются
неотъемлемой частью передовой общественной мысли России
XIX века. Они формировались в тесной связи с живым
процессом стремительного развития русского искусства.
Опираясь на свой художественный опыт, творческие
поиски, художники в многочисленных высказываниях,
разбросанных на страницах статей, дневников, писем, осветили
ряд вопросов эстетики. Главное место в суждениях
русских художников занимают такие проблемы, как
соотношение искусства с действительностью, общественные и эстетические
функции творчества, идея и форма, критерий художественности.
В русском искусстве начала XIX века происходили важные изменения,
свидетельствовавшие о крепнущей связи его с национально-исторической
действительностью. Русское искусство начало освобождаться от
отвлеченных норм «возвышенного» и «прекрасного», идеалов эстетики позднего
академизма.
Действительность ставит новые задачи: воспроизводить все, что
интересно для человека в жизни, подчиняясь не только чувству прекрасного,
но и стремлению к изображению нового. И здесь наиболее прогрессивную
для своего времени точку зрения выразил великий русский художник
629
Александр Иванов, творчество которого падает на рубеж новой эпохи
в изобразительном искусстве. А. Иванов указал путь к искусству глубоких
идей и обобщающих размышлений, к искусству, которое являлось бы
-служением народу >и светочем на его историческом пути. Его творчество,
хотя и трактующее об «исторических» событиях, было все пронизано
отголосками современности, насыщено ее идеями, ее стремлениями.
Родоначальник демократического реализма Федотов сформулировал своим
творчеством потребности русского искусства на новом этапе развития:
современность, национальный характер, социальная типичность, крити^
ческий реализм. В его высказываниях по вопросам искусства (дошедших
до нас в основном в пересказе современников) заложена идея
глубочайшей связи искусства с жизнью: «Главная моя работа на улицах и в чужих
домах. Я учусь жизнью, я тружусь глядя в оба глаза; мои сюжеты
рассыпаны по всему городу, и я сам должен их разыскивать» 1.
Ключом к познанию жизни является та зоркость и чуткость, которыми
должен обладать художник. «Надобно иметь компас в глазу, а не в
руке» 2,— говорил Федотов.
Большой интерес представляют критические выступления Федотова.
Своеобразным образцом художественной критики является его
знаменитая «Рацея», в которой художник разъяснял смысл своей картины
«Сватовство майора». Подражая раешнику, прекрасно пользуясь формой
народного стиха, он публицистически развивает, дополняет острыми
подробностями главную мысль произведения.
Все самое живое и талантливое в русском искусстве второй половины
XIX века сплотилось в крупнейшем объединении — Товариществе
передвижных художественных выставок, имевшем огромное значение в
становлении и развитии национальной реалистической школы. Эстетические
убеждения художников-реалистов формировались под влиянием
революционно-демократической эстетики. Наследуя идейно-эстетические
принципы Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева,
русские художники творчески применили их в области изобразительного
искусства. В системе эстетических воззрений передвижников вопросы
реализма в результате обобщения живой практики искусства получили
свое дальнейшее обоснование. Последовательными демократами и в
содержании своих произведений и в неуклонном развитии реализма явились
В. Г. Перов (1832—1882), И. М. Прянишников (1840—1894), Г. Г. Мясо-
ядов (1835-1911), И. Н. Крамской (1837-1887), И. Е. Репин (1844-^
1930), В. В. Верещагин (1842—1904), M. М. Антокольский (1843—1902),
В. В. Суриков (1848—1916), В. А. Серов (1865—1911) и другие. Рядом
€ этими именами стоит имя великого русского художественного критика
В. В. Стасова (1824—1906), который направлял русские таланты этой
поры.
1 «Мастера искусства об искусстве», т. IV, М.—Л., 1937, стр. 169—170.
2 Τ ам же, стр. 171.
630
Передовые русские художественные деятели считали, что их
искусство рождено потребностями общественной жизни и что его назначение —
воспроизводить жизнь во всей полноте и правде. Для достижения
жизненной правды в искусстве необходима передача исторического, социального,
национального характера изображаемого. Это — главные идеи эстетики
передвижничества. Художники-реалисты ратовали за народность
искусства, только тогда оно приобретает действительно важное значение
в жизни общества. «Только там и есть настоящее искусство,— писал
Стасов,— где народ чувствует себя дома и действующим лицом; то только
и есть искусство, которое отвечает на действительные чувства и мысли
и не служит сладким десертом, без которого можно и обойтись» 1.
Крамской понимал народность как выражение жизни общества на данном
историческом этапе, как умение посмотреть на нее с точки зрения народа.
Общечеловеческое, по Крамскому, не может проявиться иначе чем через
национальное. Процесс развития русского искусства рассматривался
Репиным как поступательное сближение с народом. Критерием ценности
того или иного художественного произведения служило то, в какой мере
оно выражает истинные интересы народа.
Подлинный реализм Требовал широкой демократизации содержания
искусства. Правдиво изображать жизнь народа, почувствовать и передать
то, как живут кухарки, чиновники, лавочники, «батюшки» и «матушки»,
яо только передать так, «как они все на самом деле живут и бьются...—
на это, наверное,— говорил Стасов,— надо гораздо больше таланта,
светлого ума, развитой мысли и глубины чувств, чем на изображение
выспренных, чужих, невиданных и непонятных художнику [...] «великих людей»
и праздничных, в торжественной и фальшивой иллюминации, «великих
событий» 2. Такое содержание, взятое из жизни и затрагивающее ее
актуальные проблемы, называют «тенденцией», заключал критик. В
тенденциозности искусства русские художники видели претворение требования
Чернышевского о вынесении искусством приговора явлениям
современной действительности. Особенно остро сознавал необходимость
критического освещения явлений жизни Репин. Его сюжеты всегда были
подсказаны «животрепещущей действительностью», воплощали в себе наиболее
типичные особенности, характерные ситуации, типы. Показом народного
героя, обличением темных сторон жизни, раскрытием социальной
несправедливости художник приобщается к великой освободительной борьбе,
становится выразителем общественных чаяний и интересов. Такой
художник, по мысли Репина, оправдывает свою высокую общественную миссию.
Большая заслуга русских художников состоит в критике
натуралистического копирования явлений жизни. Не все, что существует, достойно
быть содержанием художественного произведения. Лишь
художник-реалист, глубоко и всесторонне познавший действительность, может раскрыть
1 В. В. Стасов, Избранные сочинения в 3-х томах, т. 1, М., 1952, стр. 120—121.
2 Τ а м ж е, т. 2, М., 1965, стр. 458.
631
сущность общественных процессов, не извратив представлений зрителя
о жизни показом мимолетного, случайного.
Разрабатывая эстетику реализма, русские художники стремились
обосновать необходимость типизации явлений жизни в искусстве, раскрытия
существенного.
Все эти вопросы рассматривались художниками-демократами в тесной
связи со спецификой искусства. В эстетических концепциях передовых
художников понятия идейности, художественности и мастерства
выступают в их органическом единстве и взаимной обусловленности. В этой
связи подчеркивалась неразрывность содержания и формы в искусстве.
Эти проблемы занимают в наследии Крамского, Стасова, Репина,
Верещагина, Антокольского важное место. Особое значение имеют мысли
Крамского о специфике художественного творчества; его определения
сущности таких важных категорий художественной формы, как композиция,
рисунок, колорит, представляют большой интерес.
Передовые художники дали отпор мелкому бытовому натурализму,
стремлению подменить критический реализм поверхностным
бытописательством. Когда в реакционные 80-е годы на смену консервативному
академизму пришел новый противник демократического искусства —
салонно-натуралистическая живопись, то с резкой ее критикой выступили
Стасов, Крамской и Репин. Всякого рода «салонное» развлекательное
искусство, ничтожность содержания которого привела его в конце концов
к пустой внешней красивости, было глубоко чуждо русским художникам,
а обилие такого рода «бездумных» произведений на зарубежных
выставках отталкивало и возмущало их. В общественно значительном
содержании художники-реалисты видели познавательную силу искусства.
В сложный и трудный период развития русского искусства конца XIX—
начала XX века передовые художественные деятели остались верны
идеалам революционно-демократической эстетики.
Эстетические воззрения передовых деятелей искусства в основном
носили материалистический, хотя и не всегда последовательный характер.
Черты ограниченности и противоречивости их взглядов были исторически
обусловлены. Некоторые из них отдали дань либерализму, что мешало
осмыслить социальные закономерности искусства, понять реальные
причины упадка буржуазного искусства (Стасов), другие испытали влияние
эстетско-идеалистических идей (Репин), буржуазной морали пацифизма
(Верещагин) и т. д. Несмотря на это, эстетические суждения русских
художников представляют примечательное явление в русской эстетической
мысли. Защита и обоснование идейности и реализма в искусстве,
развернутое определение реализма как художественного метода, критика
модернизма, его антихудожественной сущности, замечательные по меткости и
тонкости анализы конкретных явлений искусства — все это бесценный
вклад в сокровищницу реалистической эстетики.
Я. И. БЕСПАЛОВА
632
Α. Α. ИВАНОВ
1806-1857
Эстетические взгляды великого русского художника А. А. Иванова не
образуют стройной и законченной системы, но представляют большой интерес, так как
характеризуют тот перелом, который наступил в художественной идеологии
передового русского общества 30—50-х годов XIX века. В ранней молодости Иванов
познакомился с работами немецких теоретиков и эстетиков Зульцера, Менгса, Вин-
кельмана, Вакенродера, Ф. Шлегеля. Размышления о сущности и природе
искусства, о его задачах и назначении занимают большое место в его юношеском
дневнике, письмах, записных книжках. Академический классицизм с его нормативной
теорией, так же как субъективизм романтизма, не удовлетворяли Иванова. Гораздо
ближе ему была эстетика декабризма с ее трактовкой проблемы возвышенного,
героического. В 30-е годы Иванов еще разделял точку зрения приверженцев
классицизма, ограничивавших область искусства «изящным» и видевших его функцию
в создании «идеального». Иванов полагал, что идеальное надо искать в реальной
действительности, и стремился сочетать идеальную красоту образов с жизненной
правдой. Искусство, по его мысли, должно выражать идеалы человечества, должно
отличаться правдивостью и естественностью. Откликом на эти запросы и был труд
всей жизни художника — «Явление Христа народу» (1837—1857). В этом
произведении в условных формах выражены актуальные для того времени социальные
проблемы — мечта об обновлении людей, их духовном раскрепощении, всеобщем
равенстве.
На взгляды Иванова имел большое влияние Гоголь, с которым он познакомился
в Италии в 1838 году. Убежденность в величии искусства, осознание высокой
этической, нравственной миссии художника определили их общие творческие позиции.
Но ему же Иванов обязан и своими заблуждениями.
Революционные события 1848 года, знакомство с Герценом способствовали
перелому в мировоззрении Иванова. Поколебались его взгляды на коренные вопросы
жизни и искусства, он начал понимать, что попытки возрождения большого
искусства на религиозной основе обречены на неудачу. Сближение с лучшими
представителями революционной демократии — Герценом, Огаревым, Чернышевским
способствуют укреплению Иванова на позициях эстетики реализма. Он остро ощутил
высокое назначение художника как борца за передовые идеалы человечества.
Этими чертами отмечены поиски последних годов творчества художника. Так
называемые библейские эскизы, трактованные как народный эпос, проникнуты высоким
гуманизмом, верой в народ.
Н. Г. Чернышевский в одной из своих статей так передавал мысли А. Иванова
об искусстве, о его будущем: «Формою искусства должна быть красота, как у
Рафаэля, мы должны остаться верны итальянской живописи. Но это со стороны
техники. Идей у итальянцев XVI века не было таких, какие имеет наше время;
живопись нашего времени должна проникнуться идеями новой цивилизации, быть
истолковательницею их. Соединить рафаэлевскую технику с идеями новой
цивилизации — вот задача искусства в настоящее время. Прибавлю вам, что искусство тогда
633
возвратит себе значение в общественной жизни, которою не имеет теперь, потому
что не удовлетворяет потребностям людей. Оно будет иметь тогда и врагов
которых не имеет теперь. Я, знаете ли, боюсь (прибавлял Иванов с своею наивною верою
в проницательность своих судей), как бы не подвергнуться гонению,— ведь
искусство, развитию которого я буду служить, будет вредно для предрассудков и
преданий,— это заметят, скажут, что оно стремится преобразовывать жизнь,— и знаете,
ведь эти враги искусства будут говорить правду: оно действительно так» 1.
ПИСЬМО ОБЩЕСТВУ ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖЕСТВ
(1836)
Не довольствуясь замечанием и одобрением известных художников на
мою картину «Иисус с Магдалиной», нарочно приглашенных в мою
мастерскую, и в разные времена делаемыми, я решился выставить ее
публике, и тут, сколько можно было заметить, картина моя не терялась, стоя
в ряду пестрых картин tableaux de genre 2, которые, как кидающиеся в глаза
впервые, более обольщали глаза римской публики, нежели те вещи, где
нужны глаз воспитанный и умственное направление, чтобы постигать их
и, следовательно, постоянно наслаждаться. Итальянец, усталый,
истощенный над всем высоким и приятным, ищет теперь легких, модных игрушек.
Это, конечно, удел всякой отцветшей нации. Знатоки с именитыми
художниками составляли хотя малую, но весьма полезную часть публики; их-то
приговор любопытен, но слишком бы было для меня бесприлично
докладывать вам об оном. [...]
«Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и
переписка». [С биографическим очерком М. П. Боткина], Спб.,
1880, стр. 88.
ПИСЬМО А. И. ИВАНОВУ
(1838)
[...] Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не
подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в
наблюдениях натуры, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен
набирать и извлекать новое из всего собранного, из всего виденного. Русский
художник непременно должен быть в частом путешествии по России и
почти никогда не быть в Петербурге, как в городе, не имеющем ничего
характеристического. Академия художеств есть вещь прошедшего столе-
1 Н. Г. Чернышевский, Записки по поводу статьи П. А. Кулиша
«Переписка Н. В. Гоголя с А. А. Ивановым».— «Н. Г. Чернышевский об искусстве», М.,
1950, стр. 240.
2 Жанровых картин (франц.).
634
тия, ее основали уставшие изобретать итальянцы. Они хотели этой мыслью
воздвигнуть опять художество на степень высокую, но не создали ни
одного гения по сю пору. Если живописец привел в некоторый восторг
часть публики, расположенной понимать его, то вот уже он, по моему
мнению, достиг всего, что доступно художнику. Купеческие расчеты
никогда не подвинут вперед художества, а в шитом, высоко стоящем
воротнике тоже нельзя ничего сделать, кроме как стоять вытянувшись. [...]
Там же, стр. 103—104.
ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКОМУ
(1842)
[...] Кроме того, желаю, чтобы мои соотечественники-художники шли бы
той же трудной стезей строгого учения; чтобы во всяком произведении их
заметна была жажда чистой идеи об искусстве лучшего времени Италии;
чтобы не бросались они ни в шуточный жанр, ни в акварель, ни в
радужный колер, ни в быстроту- эскизного исполнения — заразительные
введения наших пришельцев, ломающих искусство, в способы, чтобы жить со
всеми прихотями роскоши и забав, не думая о последствиях и не зная
отечества.
Имея впереди двух пришлецов !, занявших быстротою эскизного
исполнения все внимание русских, плодом коего я предвижу гибель для школы
отечественной, я сделал все, что от меня зависело. Я взял, как результат,
из истории евреев для живописи ту минуту, когда Предтеча, приготовив
народ к принятию учения Христова, показывает, наконец, того, о ком
предвещали Моисей и пророки. Выбор такого важного предмета невольно
вызвал меня на большой размер картины, а медленное исполнение оной есть
чистосердечное желание отделкой достигнуть до сравнения с выбором
предмета, где способнее его произвести, как не в Италии XV столетия. [...}
«Мастера искусства об искусстве», т. IV, М.—Л., 1937г
стр. 139—140.
ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНУ
(1857)
[...] Следя за современными успехами, я не могу не заметить, что мое
искусство живописи должно получить новое направление, и, полагая, что
нигде столько не могу зачерпнуть разъяснений мыслей моих, как в
разговоре с Вами. [...]
Я решаюсь приехать в Лондон от 3 до 10 сентября... В художниках
итальянских совсем не слышно стремления к каким-нибудь новым идеям
в искусстве, не говоря уже о теперешнем гнилом состоянии Рима. Они
1 Имеются в виду К. Брюллов и Ф. Бруни. (Прим. сост.)
635
в 1848 и 1849 годах, когда во главе стоящая партия грозила до основания
разрушить церкви, думали: как бы получить для церквей новые заказы.
Такое противоречие рождает самый любопытный вопрос: как думает об
этом Мадзини. Почему и просил бы вас покорнейше свести меня с ним
во время пребывания моего в Лондоне; но, подумав, однако ж (одно слово
нерзбр.), не будет ли это свидание иметь пагубные последствия для
меня от римского правительства, которое, вероятно, вследствие последних
потрясений стоит на страже всех его действий в самом Лондоне. Если,
например, правительству вздумается вторгнуться в мою студию в Риме
для рассмотра моих книг, с помощью которых я пробую созидать новый
путь для моего искусства в эскизах, то они, разумеется, отберут от меня
и то и другое, что будет моим смертельным нравственным ударом.
Там же, стр. 144—145.
ПИСЬМО С. А. ИВАНОВУ
(1858)
[...] Ты рассуждал о моем положении по-твоему. Благодарю за
искренность и благодарю от всего сердца. Но мой план, то есть мой собственный
план, совсем другой. Картина не есть последняя станция, за которую
надобно драться. Я за нее стоял крепко в свое время и выдерживал все бури,
работал посреди их и сделал все, чего требовала школа. Но школа —
только основание нашему делу живописному, язык, которым мы
выражаемся. Нужно теперь учинить другую станцию нашего искусства —- его
могущество приспособить к требованиям и времени и настоящего
положения России. Вот за эту-то станцию нужно будет постоять, то есть
вычистить ее от воров, разбойников, влезающих через забор, а не дверьми
входящих. [...]
Ты дорожишь римской жизнью, тут проведена юность с приветливым
говором молодых девиц, наших знакомых; все это с прекрасной природой,
с приобретением знаний в беспечной жизни делает что-то такое
неразвязное, что, кажется, шагу не хочется выступить из этого мира. Да ведь
цель-то жизни искусства теперь другого уже требует. Хорошо, если можно
соединить и то и другое. Да ведь это сию минуту нельзя. А цель важнее
околичностей, цель живописи в настоящую минуту. Ведь надобно же
наконец выяснить, что трафаретные или академические иконостасы с
картинками тоже составляют гниль нашего времени и служат к истреблению
человеческих способностей, в особенности русских, как еще более всех
сохранивших свежесть сил. Если бы, например, мне даже не удалось
пробить или намекнуть на высокий и новый путь, стремление к нему все-таки
показало, что он существует впереди, и это уже много, и даже все, что
может дать в настоящую минуту живописец. [...]
Там же, стр. 145—146.
636
В. Г. ПЕРОВ
1832-1882
В. Г. Перов — художник-реалист, один из организаторов Товарищества
передвижных художественных выставок, автор картин «Сельский крестный ход» (1861),
«Похороны крестьянина» (1865), «Тройка» (1866), «У заставы» (1868) и портретов
писателей Островского (1871), Достоевского (1872) и других.
Мировоззрение и творчество художника сложились в условиях общественного
подъема 50—60-х годов и несут в себе типичные черты демократической культуры
того времени. Перов является одним из основоположников обличительного жанра
в русской живописи. Наряду с созданием жанровых картин Перов в 70—80-х годах
выступил и как писатель. Его рассказы, перекликаясь с картинами, углубляют
и раскрывают мысли и чувства художника, являются его эстетической декларацией.
Ряд рассказов связан с воспоминаниями о Московском Училище живописи, ваяния
и зодчества, где он учился и преподавал. Давая оценку творчества преподавателей
училища, Перов формулировал свое понимание сущности искусства. Для Перова
содержание искусства коренится в жизни народа. Он выступает горячим
поборником правды в искусстве. Большую ценность представляют суждения Перова об
отношении художника к натуре, о типическом.
РАССКАЗЫ ХУДОЖНИКА
[...] Скотти действительно был хороший мастер, настоящий профессор
в общепринятом значении этого слова, но, к сожалению, его, так же как
и Мокрицкого, нельзя назвать художником. Он прекрасно мог передавать
внешние образы, внешние очертания, но эти образы были лишены
жизненности; он, как говорится, не мог вложить в них душу, страсть, и потому-то
«худому делу» (отсюда — слово художник, по объяснению В. И. Даля),
то есть волшебству и чародейству в искусстве, он был совершенно
непричастен. Конечно, никто не станет считать передачу одной внешней
стороны, хотя бы даже исполненной и до обмана глаз, за истинное искусство.
К великому, однако, сожалению, публика, любители, а нередко даже и
сами художники падки на эти приманки. Зачастую и эти последние
восторгаются и восхищаются какой-нибудь до того натурально написанной
шляпой, что от восторга в нее хочется только плюнуть; восхищаются
кувшином на громадной картине, забывая о целой сотне хорошо
исполненных фигур; восхищаются старинной серебряной кружкой, персидским
ковром и всякой всячиной, не имеющей ровно никакого смысла, кроме
виртуозного исполнения и других технических достоинств. [...]
В. Г. Перов, Рассказы художника, М., изд-во
Академии художеств СССР, 1960, стр. 99—100.
[...] Картина вполне хороша. Ею недаром восхищаются: в ней
блестящие краски, талант и энергия. Но, простите мою откровенность,— в ней
637
мало истинного искусства и той глубины чувства, которая нераздельна
с живым искусством... Друг мой, в вашей картине мне бросилось в глаза
прежде всего то, что вы перестали учиться, то есть совершенствоваться.
Перестали наблюдать, иначе,— черпать искусство из жизни; оставили
в стороне внутреннюю, моральную сторону, увлекшись одной только
внешней стороной изображенного вами. Словом, ваша картина и ваше
состояние духа, как художника, представляет мне тот момент жизни
человека, когда он остановился в росте физически; вы же остановились в
развитии любви к идеалам... Я вам ясно могу определить, отчего все
сказанное мне приходит в голову, глядя на вашу картину. Я не только чувствую,
угадываю, но положительно сознаю это. Вы не идете более вперед: вы
разлюбили искусство, потому что не изучаете его; вы остановились на тех
познаниях, которые приобрели не изучением, наблюдением или трудом,
а просто — вашим талантом, вашим дарованием. И если вы не идете
вперед, то, значит, двигаетесь назад: застоя в природе нет, движение во
всем, везде и повсюду.
Все родится, прогрессивно развивается и умирает. И если раз вы
остановились в развитии и пошли назад, то знайте — нет возврата к
прошлому: ничто не возрождается в той же форме, в том же виде.
Художник, познающий и любящий свое искусство, оставляет по себе
творения, которые переходят в потомство и долго там живут. Ваша же
картина скоро умрет, как роскошный цветок без тепла, света и твердой
почвы.
Я уже сказал,— в картине вашей есть краски, то есть колорит, но
колорит, не взятый из природы, колорит не силы, могучести и правды,
а скорее — какой-то разнеженности, так сказать, пикантности,
заимствованной из модных картин, колорит, приятно ласкающий глаз и
щекочущий чувственность, но совсем не действующий на высокие чувства.
В картине вашей есть рисунок, но рисунок, бьющий на красоту, на
ловкость, но не строгий, уверенный и точный. Рисунком вашим вы
желаете более раздразнить, увлечь зрителя, чем выразить им изображенные
вами характеры и типы.
Наконец, в вашей картине есть выражение и энергия, но выражение
однообразное,— извините за прямоту,— шаблонное: все лица на вашей
картине одними и теми же чертами выражают радость и величие, а также
счастье и восторг. Это доказывает, что вы смотрите на воспроизведение
этих лиц поверхностно, скользя по внешности их, не заглядывая отдельно
в душу каждого вашего героя.
Это все симптомы тления и смерти, но не творчества и бессмертия.
Разве радость или какое-либо движение души может выражаться
одинаково на всех лицах, на всех типах? Никогда этого не бывает, да и быть не
может. Что ни тип, что ни лицо, что ни характер, то особенность
выражения всякого чувства. Глубокий художник тем и познается, что изучает,
подмечает все эти особенности, а потому его произведение бессмертно,
правдиво и жизненно.
638
Но что всего печальнее видеть в вашей картине, так это то, что
фундамент ее почерпнут не из жизни и любви к искусству, а из требований
моды и довольно низменных вкусов публики, которые можно определить
двумя словами: бессодержательность и эротичность. Та торная дорога, по
которой, к сожалению, чаще всего идут артисты, никогда не ведет к
совершенствованию. На ней художник если не гибнет, то меняется на мелкую
монету, идущую на всеобщее обращение, де скоро она стирается и
стирается так, что становится невозможным определить, что на ней было
изображено, а также и написано.
[...] Артист обязан развивать вкус публики, идти вперед ее, но не ходить
за ней.
Посмотрите повсюду: как многие и многие стремятся на служение
искусству! Это не из моды, а скорее по сознанию того высокого
назначения, которое предстоит в будущем искусству. Позор артистам, сделавшим
из него забаву и уронившим его настолько, что оно будет годно
возбуждать только мелкие и грязные страстишки, но не высокие чувства души
человеческой. [...]
Там же, стр. 154—156.
И. Н. КРАМСКОЙ
1837-1887
И. Н. Крамской — русский художник-реалист, идеолог демократического
передвижнического искусства. Значение Крамского велико не только как художника,
автора картины «Христос в пустыне», «Неутешное горе», портретов Л. Н. Толстого,
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова и других, но и как теоретика искусства.
«У Крамского соединились и великая сила взгляда на общие условия
существования искусства, и глубокое понимание всех частностей его, эстетических и
технических» 1,— писал Стасов.
На формирование мировоззрения Крамского значительное воздействие оказали
идеи русской революционной демократии. Мечта о мужественном и неотразимом
в своей жизненной правде искусстве диктовала Крамскому понимание его
конкретных задач и определила те высокие требования, которые он предъявлял и
художнику как одному из «идейных руководителей общества». Из отношения художника
к действительности, из его любви и ненависти к тем или иным сторонам
общественной жизни и возникает, по мысли Крамского, тенденциозность искусства. Крамской
ратовал за искусство, помогающее борьбе за идеалы и верования народа. В одной
из статей цикла «Судьбы русского искусства» (1880—1882) он писал, что искусство
только тогда сильно, когда оно национально. Национальный характер искусства
1 «Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и
художественно-критические статьи», Спб., 1888, стр. XV (предисловие В. В. Стасова).
639
позволяет выразить в нем и общечеловеческое содержание. Это выпадает на долю
той нации, которая стоит «впереди общечеловеческого развития» 1. Одну из
сильных сторон эстетики Крамского составляет критика современного салонного
западноевропейского искусства.
ЗА ОТСУТСТВИЕМ КРИТИКИ
(1879)
[...] Теперь я должен перейти к определению того, что такое, по-моему,
выражение. [...]
Везде, куда бы мы ни обратились, какие бы художественные
произведения, разумеется, значительные, ни стали мы разбирать, везде мы
находим здоровое отношение к искусству. То есть великие художники всех
времен и стран, изображая человеческое лицо, добивались его выражения,
схватывали его и усваивали при помощи глубокого, пристального изучения
того, что дает действительность. Только на этом единственно прочном
фундаменте были достигнуты замечательные результаты. Переберем
мысленно некоторые известные как самые высокие до сих пор человеческие
головы, созданные талантом художников. От греков осталось не особенно
много, но и это немногое нам будет очень пригодно потому, что никогда
еще не были так многочисленны, как в то время, попытки олицетворения
абстрактов. Первая голова — Аполлона Бельведерского в Ватикане, одна
из самых, если можно так выразиться, божественных голов. В этой голове
такая ниспровергающая сила выражения, что становятся понятными
рассказы о том, что когда статуя была найдена, то перед нею служили мессы!?
Куда идти дальше? Как велика, стало быть, сила выражения!? И чем же
это достигнуто? Только близостью к действительности: очевидно,
художник много наблюдал, заметил, какие формы наиболее выражают
возвышенность мысли, силу, благородство, энергию, словом, те высшие
человеческие свойства, которыми мы без святотатства наделяем божественное:
мало того, он должен был еще понять, какие изменения происходят с
формами в моменты одушевления; после того ему оставалось только передать
образ, сам собою сложившийся в его душе, из этих данных; и для
разрешения своей задачи он не взял ничего, чем было так богато воображение
жителей Востока: зато этот же образ и через 2000 лет так же дорог нам,
как был он дорог и грекам. А голова Юпитера Олимпийского? Изучения
ее не миновать и теперь никому из художников, кому нужно будет решать
подобную же задачу, потому что державное выражение тут в самом деле
находится налицо, и совершенно становятся понятными слова «Илиады»,
что от одного движения бровей этого Зевса «потрясся Олимп многохолм-
ный»! Опять ни одной неестественной черты! Венера Милосская в Лувре:
1 «Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и
художественно-критические статьи», стр. 627.
640
чем достиг художник нового выражения величия, спокойствия, свободы,
которыми обладают боги, могущие себе позволить все, но по существу
своей натуры не позволяющие себе ничего унижающего? [...] Но это было
давно! Однако есть примеры поближе к нам и попонятнее: кто не знает
Сикстинской Мадонны Рафаэля? Голова Мадонны выражает такую тонкую
черту глубочайшей скорби, доходящей до ужаса, за судьбу своего
маленького сына, что зритель как бы чувствует где-то, там, куда она смотрит,
скотоподобную толпу людей, между которыми придется совершать свое
дело Ему... и я вас спрашиваю, чем же это достигнуто? Чем, как не
поразительно верным расположением частей лица сообразно состоянию души.
Нужно было видеть в действительности, несколько раз, благороднейшие
головы человеческой породы, и притом в моменты, когда они бывают
охвачены состоянием, аналогичным по крайней мере с тем, о котором
думает художник. А Моисей Микеланджело! Но, чтобы кончить, наконец,
скажу два слова о тициановском Христе с динарием. Из всех изображений
Христа прошлого времени это наиболее удачное и возвышенное; и хотя
Христос изображен тут скорее тонким аристократом времени
венецианской республики, нежели· Христом нашего времени, но все же это
превосходная голова. Чем же, я вас спрашиваю еще раз, все эти разнообразные
выражения достигнуты? Ни в одном из указанных произведений нет ни
одной неверной или мистической черты, все просто, ясно и отвечает
действительности, скажу больше: за исключением древней Индии, Китая и
прочих азиатских стран — ни одно настоящее искусство не представляет
отступления от этого общего правила. [...]
«И. Н. Крамской. Его жизнь, переписка и
художественно-критические статьи», 1837—1887, Спб., 1888,
стр. 644—645.
ОБ ИВАНОВЕ
(1880)
[...] Заниматься здесь исследованием, цочему ум и талант Иванова
приняли совершенно новое направление в искусстве, неизвестное до тех пор,
бесполезно. Налицо тот факт, что в его мозгу появилось оригинальное
представление о картине, в которой бы все было основано, так сказать,
на законах.
[...] Историческая заслуга Иванова та, что он сделал для всех нас,
русских художников, огромную просеку в непроходимых до того дебрях, и
именно в том направлении, в котором была нужна большая столбовая
дорога, и открыл таким образом новые горизонты. [...]
Но теперь ясно, что избранный им путь был путь научный, который
один способен привести к благотворным результатам, если мы желаем
изучить и вывести на сцену действительный, а не призрачный характер.
Стоит присмотреться к тому, например, как он доходил до изображения
21 «История эстетики», т. 4 (ί полутом) 641
какого-нибудь типа, знакомого нам в картине. Этюдов для каждой такой
головы имеется много; каждый этюд есть, очевидно, и портрет
действительно живого человека; он похож и на того, который в картине, но
в то же время в этюде только части годятся к выражению задуманного
характера. Вот другой портрет — другого человека, опять похожего. Все
разные люди, и каждый чем-то напоминает последнюю редакцию.
Несомненно, что каждая голова в картине по замыслу характера выше и
глубже этюда, но в то же время и слабее по живописи. Иванов был реалист
самый последовательный и добросовестный: такого человека, какого ему
было нужно, он не нашел, да и не мог бы найти никогда. Оставалось
перенести в картину, так сказать, суммированный этюд, что никогда не
заменит живую, действительную форму: нужно кое-что изменять, а
изменять; не имея живой формы перед глазами, значит сделать только намек,
а не облечь в плоть и кровь несомненной действительности.
Таким образом, у Иванова во всем, чему он давал значение подготовки
к самому делу, оказалось гораздо более настоящего, художественного,
живописного элемента, чем в картине. Но отсюда вовсе не следует, что
искусство не овладеет новыми приемами. Новые требования от искусства,
подымая уровень и осложняя задачу, задерживают только на время.
С новым поколением, воспитанным уже в школе Иванова, с первых шагов
многое, стоившее ему такой цены, будет усвоено легко.
Посмотрим теперь, что внесено Ивановым в русское искусство нового.
Сказать словами, выходит немного. В сочинение или композицию он внес
идею не произвола, а внутренней необходимости. То есть соображение
о красоте линий отходило на последний план, а на первом месте стояло
выражение мысли; красота же являлась сама собой как следствие. В
рисунок — чрезвычайное разнообразие, то есть индивидуальность не только
лица, но и всей фигуры по анатомическому построению, и искание —
какое анатомическое строение должно отвечать задуманному характеру?
В живопись — совершенно натуральное освещение всей картины,
сообразно месту и времени, а во внешний вид картины — необходимость эпохи.
В какой мере мы обладали этими качествами прежде? В стройном и
последовательном порядке — ни в одном случае. Нельзя сказать, разумеется,
чтобы указанные стороны искусства не встречались вовсе прежде, но не
одно и то же, встречается ли это как счастливый придаток или как
принцип. И потому реформаторская смелость первого почина Иванова
изобразить всю сцену действительно на воздухе и действительно в пейзаже
должна быть подчеркнута. Я уже не говорю о самом главном: о
характерах. Все старые художники, даже великие, изображая событие на воздухе,
преспокойно писали свои фигуры при комнатном освещении. Правда, в то
время, когда Иванов начал писать свою картину, во Франции были уже
первые художники, вышедшие на воздух; но они писали пейзажи, жанр
и т. д., вещи, которые уже и простой здравый смысл запрещает писать
иначе; но кто знает историю живописи, тот согласится, что и такое
простое удовлетворение здравого смысла ставится в заслугу французской
642
критикой своим первым основателям этого не мудрого, в сущности, начала.
Во всяком случае, почин Иванова исходил из его личного инстинкта, и,
чтобы понять, что значит этот почин, надобно только внимательно
посмотреть все, что делается сегодня, когда сплошь и рядом даже крупные
художники позволяют себе этот анахронизм,— тогда только эта сторона
в работах Иванова примет должные размеры в наших глазах. Идею
характеров не вымышленных, а действительных если он и мог
заимствовать, то только у Леонардо-Винчи, у которого, одного из всех художников
старого и нового времени, и есть эта черта. Его апостолы в «Тайной
вечери» действительно характерны и разнообразны, и только у него есть
фигуры и головы правильно построенные и кроме того одушевленные
действительным чувством. Недаром же Иванов так часто и указывал на него как
на образец, к которому он хотел бы приблизиться. И он приблизился.
Мало того — я думаю, пошел дальше. Попробуйте закрыть головы в
картине Иванова и посмотрите только на одни фигуры, и вы будете поражены
глубиною изучения человека вообще. Здесь разнообразие обусловливается
не одним возрастом, а, как я сказал раньше, анатомическим построением
и темпераментом. То есть Иванов пошел дальше настолько, насколько
передвинулся век. [...]
Там же, стр. 654, 657—659.
СУДЬБЫ РУССКОГО ИСКУССТВА
(1880)
[...] Искусство может быть только национально, непременно
национально, и никаким другим быть не может. Мысль, формулированная таким
образом, по-видимому, разделяется многими, а между тем практика
расходится с теорией в значительной степени.
Чтобы быть в искусстве национальным, об этом заботиться не
нужно,— необходимо только предоставить полную свободу творчеству. При
полной свободе творчества национальность, как стихийная сила,
естественно (как вода по уклону) будет насквозь пропитывать все произведения
художников данного племени, хотя бы художники по личным своим
симпатиям и были далеки от чисто народных мотивов. [...]
Там же, стр. 634.
ПИСЬМО И. Е. РЕПИНУ
от 23 февраля 1874 года
[...] Не знаю, к чему предназначен русский народ, будет ли и с ним то
же, что с нациями более зрелыми, которые, как Вы говорите (и
совершенно верно), что для них не человек важен, а краски, эффекты и внеш-
21*
643
ность, то, что именно и есть живопись, и только живопись, или он
удержит теперешние родовые черты свои. Повторяю, я не знаю, что будет
в зрелом возрасте, но очевидно, что так оставаться нельзя: все это только
хорошие намерения, а ими, как известно, ад вымощен! Нам непременно
нужно двинуться к свету, краскам и воздуху, но... как сделать, чтобы не
растерять по дороге драгоценнейшее качество художника — сердце?
Мудрый Эдип — разреши! Правда, русская мысль, насколько она
проявилась в литературе и поэзии, держалась больше содержания,
совершенствуя в то же время язык, и дошла, наконец, до той степени, когда и наших
писателей переводят: французы, немцы, англичане, американцы [...] Точно
я прав в самом деле, что мысль, и одна мысль, создает технику и
возвышает ее. Оскудевает содержание, понижается и достоинство
исполнения. [...]
И. Н. Крамской, Письма, т. I, М., Изогиз, 1937,
стр. 239—240.
ПИСЬМО И. Е. РЕПИНУ
от 20 августа 1875 года
[...] Я думал, что в Вас сидит совершенно окрепшее убеждение
относительно главных положений искусства, его средств и специально народная
струна. Что ни говорите, а искусство не наука. Оно только тогда сильно,
когда национально. Вы скажете, а общечеловеческое? Да, но ведь оно, это
общечеловеческое, пробивается в искусстве только сквозь национальную
форму, а если и есть космополитические, международные мотивы, то они
лежат далеко в древности, от которой все народы одинаково далеко
отстоят. Это раз. Да кроме того, они тем удобны, что их всякий
обрабатывает на свой манер, не боясь быть уличенным. Что касается теперь
текущей жизни, то человек, у которого течет в жилах хохлацкая кровь,
наиболее способен (потому что понимает это без усилий) изобразить тяжелый,
крепкий и почти дикий организм, а уж никак не кокоток. Я не скажу,
чтобы это не был сюжет. Еще какой! Только не для нас: нужно с колыбели
слушать шансонетки, нужно, чтобы несколько поколений раньше нашего
появления на свет упражнялись в проделывании разных штук,— словом,
надо быть французом. Короче, искусство до такой степени заключается
в форме, что только от этой формы зависит и идея. Фортуни — на Западе
явление совершенно нормальное, понятное, хотя и не величественное, а
потому и мало достойное подражания. Ведь Фортуни есть, правда, последнее
слово, но чего? Наклонностей и вкусов денежной буржуазии. Какие у
буржуазии идеалы? Что она любит? К чему стремится? О чем больше всего
хлопочет? Награбив с народа денег, она хочет наслаждаться — это
понятно. Ну, подавай мне такую и музыку, такое искусство, такую политику
и такую религию (если без нее уже нельзя) — вот откуда эти
баснословные деньги за картины. Разве ей понятны другие инстинкты? Разве Вы не
6 44
видите, что вещи, гораздо более капитальные, оплачиваются дешевле. Оно
и быть иначе не может. Разве Патти — сердце? Да и зачем ей это, когда
искусство буржуазии заключается именно в отрицании этого комочка мяса:
оно мешает сколачивать деньгу; при нем неудобно снимать рубашку с
бедняка посредством биржевых проделок. Долой его, к черту! Давайте мне
виртуоза, чтобы кисть его изгибалась, как змея, и всегда готова была
догадаться, в каком настроении повелитель. Но что же? Разве это мешает
явиться человеку, у которого вкусы будут разниться от денежных людей?
Нет, не мешает, только буржуазия не так глупа, чтобы не распознать
иностранца, у которого акцент не может быть совершенно чист, и это ей даст
право пройти мимо, не обратив внимания. Случись же такая ошибка,
скажу больше, скандал, с их кровным художником — послушали б Вы, чем
такого художника угостила бы печать, состоящая на откупу у буржуазии.
Единственная струнка, доступная буржуазии, относящаяся к числу
благородных (и то сомнительных),— это жажда мести за победы немцев.
И. Н. Крамской, Письма, т. I, стр. 334—335.
ПИСЬМО В. В. СТАСОВУ
от 9 июля 1876 года
[...] Нужно сказать, что уровень очень высок, но надо условиться, что
следует разуметь под уровнем. Если разуметь под ним уменье
распоряжаться картинностью, массами света и теней, гармонией тонов, то
действительно оно оказывается настолько распространенным, что всякая
посредственность владеет этим сравнительно в совершенстве, но если разуметь
уровнем передачу действительности просто, непосредственно, без
рефлекса от кого-нибудь, без рафинирования старого блюда, то количество таких
вещей во всем Салоне оказывается очень незначительным... [...] Мы,
русские, имеем какую-то странную особенность, должно быть... хорошо ли
это или нет, я не решаю, но нам отделаться от этого невозможно. Чего
мы ищем (если ищем? )? Положим, портрет (не подумайте только,
что я говорю, потому что считаю свое дело наиболее значительным, дальше
я дам и этому свое место), итак, портрет,— самые талантливые
представители у французов даже не ищут того, чтобы человека изобразить
наиболее характерно, чтобы не навязывать данному человеку своих вкусов,
своих привычек; и это не только теперь, в настоящее время, а возьмите
всех французов, прежних и нынешних,— этой черты, ярко обозначенной,
нет. Да этого нет и в самом обществе, очевидно. Всего более француз
прячет свою сущность. Что это? Плод ли долгого исторического
существования в фазах цивилизации или коренная черта племени? Я не решаю
ничего, я только хочу оправдать то положение, что мы ищем (если ищем,
принимая за доказанное) другого, не того, что здесь принято. Теперь дру-
тое: так называемый жанр. Для нас прежде всего (в идеале по крайней
мере) — характер, личность, ставшая в силу необходимости в положение,
645
при котором все стороны внутренние наиболее всплывают наружу. Здесь
же... как бы это точнее выразиться?., преобладает анекдотическая
сторона, и опять эта особенность вообще. [...]
Итак, оказывается, нет ничего? Ну, это, положим, неправда — есть,
и многое; например, в технике усилиями наиболее талантливых
французов очень много сделано: есть что-то нематериальное, шевелящееся в их
живописи, раз; и потом, явление импрессионалистов, этих смешных и
осмеиваемых людей, утверждающих, что все искусство изолгалось, что все
фальшиво, и живопись и рисунок, а тем более картины, сочинение; надо
воротиться... к детству... Знаете, это просто гениально! По-моему, одна
эта мысль, не как мысль, а как дело, дает все права на глубокое сочувствие
и первенствующую роль. Народ, который способен над собою делать
эксперименты подобного рода,— живой народ. Только вот что меня не радует
в этой группе людей: это их умысел. Они не просто, сердечно и наивно эта
делают, а как-то искусственно. Ведь это же взрослые люди, некоторые
и поседеть успели, а наивничают так, как будто им 12 лет. Настоящие
импрессионалисты — это талантливые наши деревенские мальчики,
никогда ничего не видавшие... только они и могут быть импрессионалистами. [...J
И. Н. Крамской, Письма, т. II, Л., Изогиз, 1937,
стр. 35-36.
ПИСЬМО В. В. СТАСОВУ
от 1 декабря 1876 года
[...] Талант, даже гениальный [...] в настоящее время не все; его одного
теперь мало. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется справедливым,
чтобы художник был одним из наиболее образованных и развитых людей
своего времени. Он обязан не только знать, на какой точке стоит теперь
развитие, но и иметь мнения по всем вопросамг волнующим лучших
представителей общества, мнения, идущие дальше и глубже тех, что
господствуют в данный момент, да вдобавок иметь определенные симпатии
и антипатии к разным категориям жизненных явлений. Впрочем, что же
я Вам говорю эти избитые для Вас вещи, но этим я хочу сказать только,
что, не имея внутри себя того критерия, о котором я говорю, человек,
попадая в общество какое бы то ни было, легко всасывает в себя
господствующие взгляды и мнения, отсюда, например, такое явление, что Репин,
воспитавшись на реалистических (так сказать) вкусах, перенес их и в
подводное царство *, он взглянул на него через стекло аквариума, как Вы
метко сказали (потому что оно так и есть), и остался себе верен — аквариум
у него и хорош. У него не хватило смелости заснуть и во сне увидать
грезы. Грех ли это, недостаток ли это? Словом, что это такое? Я полагаю
очень просто — в Репине как человеке я никогда не замечал способности
1 Речь идет о картине Репина «Садко» (Прим. сост.).
646
спать с открытыми глазами, и он большую ошибку сделал, взявшись за
фантастическое. [...]
Репин обладает способностью сделать русского мужика именно таким,
каким он есть. Я знаю многих художников, изображающих мужичков,
и хорошо даже, но ни один из них не мог никогда сделать даже
приблизительно так, как Репин. Разве у Васнецова есть еще эта сторона. Я,
например, уж на что стараюсь добросовестно передавать, а не могу же не
видать разницы. Даже у Перова мужик более легок весом, чем он есть
в действительности; только у Репина он такой же могучий и солидный,
как он есть на самом деле. Много раз я говорил Репину и всякий раз
возбуждал этим только неудовольствие — недостаток, всем присущий, и я
обижаюсь, когда мне говорят, что не мое дело, например, вот то, что мне
думается, что это неправда, что я докажу, ну вот и доказываем.
Продолжаю утверждать — Репин еще подарит нас доказательствами своей силы.
Надо только отказаться от иллюзий и не навязывать человеку того, чего
в нем нет. Вспомните, что особенно хорошо у Репина? Самое сильное
«Бурлаки» и «Музыканты», трактованные как группа людей просто и
ничего больше. Идея в «Бурлаках» есть помимо воли Репина, она в самом
факте, а то, что он умышленно прибавлял, только, по-моему, ослабило
силу впечатления. [...]
Там же, стр. 73—74.
ПИСЬМО В. М. ГАРШИНУ
от 16 февраля 1878 года
[...] Художников существует две категории, редко встречающиеся
в чистом типе, но все же до некоторой степени различных. Одни —
объективные, так сказать, наблюдающие жизненные явления и их
воспроизводящие добросовестно, точно; другие — субъективные. Эти последние
формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого
сердца, под впечатлением жизни и опыта. Вы видите, что это из прописей
даже, но это ничего. Я, вероятно, принадлежу к последним. Под влиянием
ряда впечатлений у меня осело очень тяжелое ощущение от жизни.
Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, мало-
мальски созданного по образу и подобию божию, когда на него находит
раздумье — пойти ли направо или налево, взять ли за господа бога рубль
или не уступать ни шагу злу. Мы все знаем, чем обыкновенно кончается
подобное колебание. Расширяя дальше мысль, охватывая человечество
вообще, я по собственному опыту, по моему маленькому оригиналу, и только
по нему одному, могу догадываться о той страшной драме, какая и
разыгрывалась во время исторических кризисов. И вот у меня является
страшная потребность рассказать другим то, что я думаю. Но как рассказать?
Чем, каким способом я могу быть понят? По свойству натуры язык
иероглифа для меня доступнее всего. И вот я однажды, когда особенно был
этим занят, гуляя, работая, лежа и пр. и пр., вдруг увидал фигуру, сидя-
647
щую в глубоком раздумье. Я очень осторожно начал всматриваться, ходить
около нее, и во все время моего наблюдения (очень долгого) она не
пошевельнулась, меня не замечала. Его дума была так серьезна и глубока, что
я заставал его постоянно в одном положении. Он сел так, когда солнце еще
было перед ним, сел усталый, измученный, сначала он проводил глазами
солнце, затем не заметил ночи, и на заре уже, когда солнце должно
подняться сзади его, он все продолжал сидеть неподвижно. И нельзя сказать,
чтобы он вовсе был нечувствителен к ощущениям: нет, он под влиянием
наступившего утреннего холода инстинктивно прижал локти ближе к
телу, и только, впрочем; губы его как бы засохли, слиплись от долгого
молчания, и только глаза выдавали внутреннюю работу, хотя ничего не
видели, да брови изредка ходили — то подымается одна, то другая. Мне стало
ясно, что он занят важным для него вопросом, настолько важным, что
к страшной физической усталости он нечувствителен. Он точно постарел
на 10 лет, но все же я догадывался, что это такого рода характер,
который, имея силу все сокрушить, одаренный талантами покорить себе весь
мир, решается не сделать того, куда влекут его животные наклонности.
И я был уверен, потому что я его видел, что бы он ни решил, он не может
упасть. Кто это был? Я не знаю. По всей вероятности, это была
галлюцинация; я в действительности, надо думать, не видал его. Мне показалось,
что это всего лучше подходит к тому, что мне хотелось рассказать. Тут
мне даже ничего не нужно было придумывать, я только старался
скопировать. И когда кончил, то дал ему дерзкое название. Но если бы я мог
в то время, когда его наблюдал, написать его. Христос ли это? Не знаю. Да
и кто скажет, какой он был. Напав случайно на этого человека,
всмотревшись в него, я до такой степени почувствовал успокоение, что вопрос
личный для меня был решен. Я уже знал и дальше: я знал, чем это кончится.
И меня нисколько не пугала та развязка, которая его ожидает. Я нахожу
уже это естественным, фатальным даже. И если это естественно, то не все
ли равно? Да даже лучше, что оно так кончилось, потому что вообразите
торжество: его все признают, слушают, он победил — да разве ж это не
было бы в тысячу раз хуже? Разве могли бы открыться для человечества
те перспективы, которыми мы полны, которые дают колоссальную силу
людям стремиться вперед? Я знаю только, что утром, с восходом солнца,
человек этот исчез. И я отделался от постоянного его преследования.
Итак, это не Христос. То есть я не знаю, что это. Это есть выражение
моих личных мыслей. Какой момент? Переходный. Что за этим следует?
Продолжение в следующей книге.
Там же, стр. 140—142.
ПИСЬМО В. В. СТАСОВУ
от 30 апреля 1884 года
[...]Искусство для своего торжества и роли, должно быть (помимо
идейной подкладки) самостоятельно и безусловно хорошо и талантливо, как
648
только возможно, для своего времени. Только сочетание формы и идеи
переживает свое время. [...]
Только чувство общественности дает силу художнику и удесятеряет
его силы; только умственная атмосфера, родная ему, здоровая для него,
может поднять личность до пафоса и высокого настроения, и только
уверенность, что труд художника и нужен и дорог обществу, помогает
созревать экзотическим растениям, называемым картинами. И только такие
картины будут составлять гордость племени, и современников и
потомков.!...] Нужен голос, громко, как труба, провозглашающий, что без идеи
нет искусства, но в то же время, и еще более того, без живописи живой
и разительной нет картин, а есть благие намерения, и только. Вот что нам
теперь нужнее всего. [...]
[...] Теперь об иностранном: я был в Ницце, обозрел выставку (так
называемую «Всемирную») и... признаюсь, очень и очень не одобрил и не
порадовался, а почему — тому следуют пункты.
Прежде пунктов, однако ж, надо сделать необходимую оговорку. Так как
на выставку попало, так сказать, кое-что, то и судить особенно строго —
легкомысленно. Но я не о том говорить хочу, а вот о чем: 1-е —
отражаются ли на этой выставке общие, родовые черты современного западного
искусства? Я думаю, что отражаются, и если мое предположение верно,
то, говоря вообще, я должен заключить, что искусство пластическое в
Европе идет к вымиранию; 2-е — написать такое слово страшно, но
еще страшнее взрослому человеку (понимая, что делаешь) отвечать за
такое слово, и, однако ж, я повторяю свое: вымирает! Подумайте только,
что в числе более 600 номеров нет, не говорю, выдающихся, а просто
скромных вещей, без претензий. Все вывернуто наизнанку, ничего не
исковерканного. А скульптура! Боже мой, что это такое? Ей-богу — это
ужасно! Все вычурно, все барокк. Положим, самые большие и крупные
художники Европы на выставке отсутствуют. Но ведь эти художники
в большинстве случаев уже готовятся отойти в область истории, а армия
действующих поголовно заражена какою-то болезнью и, как видно, сама
об этом не подозревает. Даже пресловутая французская живопись какая-то
сплошь посыпанная мукой. Я уже давно замечал этот господствующий
тон на картинах в Европе (исключая испанцев), но только теперь с
решительностью это выступило для меня.
История светская — банально-посредственна, жанр, большею частью,
анекдотичо-клубничный, портрета ни одного нет простого, все ломаются,
а пейзаж — совершенно невозможный. Нет ни одного холста выше самой
шаблонной посредственности. Репутация первого ранга, Бастьен-Лепаж —
невозможный ломака, да и живописец не из завидных. Если то, что у него
выставлено в Ницце, хорошо, то удивительно, каким образом «Чтение
телеграммы» и «После победы» Васнецова не великие произведения? Итак,
если общий ход таков, то как возрадовалось бы мое сердце за Россию, где
нет и признаков ничего подобного. Если мы и не достигли еще
положительных результатов, то мы по крайней мере молоды и здоровы, а это по
649
теперешнему времени важно. И все-таки я думаю, что в России наступит
пора замерзания и окоченелости надолго, и что многое надо будет
начинать сначала лет через 20—25. К тому времени все успеют основательна
забыть. Вы сами говорите, что в России или отсталость самая ужасная,
или самое передовое из передовых развитие. Во всяком случае, это
нездорово. Как часто у нас в марте сходит снег, подымаются ростки, а в мае от
холодов все замерзло! Уж конечно, я предпочел бы ошибиться! Вот о
«критическом духе» Вы хорошо и верно говорите. Он у нас есть действительно,
и это одна из светлых точек, особенно потому, что он неумытый и без
пощады, и к своим и чужим. Это я признаю и с этим согласен. Но от перерывов
и спячек насильственных и это не спасает. [...]
Там же, стр. 293—294.
ПИСЬМО В. В. СТАСОВУ
от 19 мая 1884 года
Я не видел текущего французского искусства около 4—5 лет, и, на мои
взгляд, оно с тех пор понизилось в своем уровне, понизилось даже в такое
короткое время. На 3,5 тысячи номеров — вещей таких, перед которыми
останавливаешься, не скажу с удивлением, а только с удовольствием,
всего каких-нибудь 60—70, включая сюда и пейзажи. Немного, очень немного;
и главное, что особенно тяжело действует,— это полное отсутствие
простоты. Так и видно, что человек потому избирает свой прием, что простым
изображением он не в силах достигнуть ни рисунка, ни живописи, ни
рельефа. Вы видите, что я начинаю говорить уже о частностях и
второстепенных сторонах искусства. Но это потому, что главное: концепция,
воодушевление и мысль — отсутствуют. Но что меня поразило более всего —
так это понижение даже живописи, скажите это Репину. Всюду
преобладает какой-то мучной тон. Боюсь, что скоро французы потеряют и вкус
к простоте, то есть что, явись у них совершенно простая и здоровая вещь,
они на нее не обратят внимания.
Там же, стр. 294—295.
ПИСЬМО А. С. СУВОРИНУ
от 26 февраля 1885 года
[...]Я говорю, что русское искусство тенденциозно; при этом я разумею
следующее отношение художника к действительности. Художник, как
гражданин и человек, кроме того, что он художник, принадлежа
известному времени, непременно что-нибудь любит и что-нибудь ненавидит.
650
Предполагается, что он любит то, что достойно, и ненавидит то, что того
заслуживает. Любовь и ненависть не суть логические выводы, а чувства.
Ему остается только быть искренним, чтобы быть тенденциозным. Затем
русский художник всякий раз, когда ему приходится формулировать свою
любовь или ненависть, не лжет на форму: он до сих пор всегда умел быть
объективным в этой области. Если же форма иногда не удовлетворяет, то
вовсе не из тенденциозности, а потому просто, что художник не сладил,
и только. Мне не совсем нравится, что Вы взяли слово «отдохновение»,
говоря о роли искусства среди каторжной современной жизни. Искусство
имеет самостоятельную роль, и какова бы ни была современная жизнь,
каторжная или нет, задачи искусства могут и не совпадать с успокоением.
Несомненно, впрочем, что творческое искусство (какова бы его
самостоятельная роль ни была и что бы я ему ни навязывал) должно обладать силой
гармонично настраивать человека. Если этого качества в искусстве нет,
оно, несомненно, дурно исполняет свою задачу.
Чтобы осветить окончательно мое главное положение в философии
искусства, я должен сказать, что искусство греков было тенденциозно,
по-моему. И когда оно было тенденциозно, оно шло в гору; когда же оно
перестало руководиться высокими мотивами религии, оно, сохраняя
высокую форму еще некоторое время, быстро выродилось в забаву, роскошное
украшение, а затем не замедлило сделаться манерным и умереть. Точь-
в-точь то же повторилось и во времена Возрождения в Италии и позднее
в Нидерландах. Но это весьма длинная материя. Я только этим поясняю,
что я разумею под тенденциозностью. [...]
Там же, стр. 350—351.
ПИСЬМО А. С. СУВОРИНУ
от 20 ноября 1885 года
[...] При каких условиях картина становится художественным
произведением? Художественное произведение, возникая в душе художника
органически, возбуждает (и должно возбуждать) к себе такую любовь
художника, что он не может оторваться от картины до тех пор, пока не
употребит всех своих сил для ее исполнения; он не может успокоиться на
одних намеках, он считает себя обязанным все обработать до той ясности,
с какою предмет возник в его душе. И когда его дело сделано, то зритель,
привлекаемый к картине сначала чисто притягательною внешностью, чем
больше смотрит на эту внешность, тем более наслаждается, тем более
замечает деталей, а если художественное произведение живописи имеет
еще идею, содержание, то удовольствие возрастает и переходит, наконец,
в убеждение, что та сторона жизни, какую показывает художник,
никакими иными средствами, кроме живописи, и не могла быть передана
с большею убедительностью. Такого рода картину вы можете вынуть из
651
общей коллекции, поставить ее отдельно, и в этом случае она не только
не проиграет, а напротив, выиграет. В ней, как в драме, есть начало
и конец, а исполнение характеров, отделка предметов всякий раз будут
давать новую пищу человеческому вниманию. Поэтому-то нет
достаточного предела в исполнении, и художник всегда будет желать еще более
выпукло реализировать людей и природу. Намеки же годятся только для
иллюстраций, на что никто и не тратит внимания более 5 минут,
совершенно достаточных для уразумения изображения. Если у художника нет
стремления оканчивать картину, то или художник сам не любит свое
произведение или оно есть плод одной холодной мысли и предвзятых
намерений. В обоих случаях цель живописца — не картина сама по себе, а что-то
другое. Люди, знакомые хорошо с произведениями живописи практически
и теоретически, знают также, что слишком долгое и кропотливое
оканчивание часто есть смерть картине, но большой талант тем и отличается от
малого, что очень скоро научается и постигает равновесие.
Там же, стр. 363—364.
В. В. СТАСОВ
1824-1906
Мировоззрение В. В. Стасова, выдающегося представителя русской
демократической художественной и музыкальной критики, складывалось под влиянием идей
революционных демократов. В числе своих учителей, «воспитателей» Стасов
называл Белинского, Герцена, Чернышевского, Писарева. Решающее воздействие на
формирование художественных взглядов Стасова оказала диссертация
Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). Он
стремился распространить общие принципы русской классической эстетики — реализм,
идейность, народность — на область изобразительного искусства, музыки и другие
виды художественного творчества. В своих многочисленных статьях,
исследованиях по истории искусства и искусствоведческой критики «Двадцать пять лет
русского искусства» (1882—1883), «Тормозы нового русского искусства» (1885),
«Искусство XIX века» (1901) Стасов выступает последовательным борцом за реализм.
Стасов видел в искусстве социальную силу общественно-исторического
развития. Искусство, по Стасову, должно отвечать на «действительные чувства и мысли
народа», должно быть обращено к «самому корню жизни народной». Эту роль в
состоянии выполнить только идейное, «тенденциозное» искусство. Сущность
«тенденциозного» понималась Стасовым очень широко — это и требование глубокой
содержательности художественных произведений, и смелая оценка жизненных
явлений, легших в их основу, и сознательная целеустремленность творчества.
Игнорирование содержательности, идейной значительности неминуемо приводит, по
мнению Стасова, искусство к упадку. Большое значение критик придавал
развитию бытового жанра. Отстаивая реалистическое искусство на протяжении своей
652
более чем полувековой деятельности, Стасов боролся со всеми «тормозами»,
которые мешали его развитию. Он выступал против реакционной эстетики и
художественной практики позднего академизма, против теории «искусства для искусства».
Стасов утверждал действенную роль прогрессивной критики в развитии
искусства. Задача критики, по его мнению, была в определении того, в какой мере
художественное произведение отражает правду жизни, в разъяснении общественного
значения данного явления искусства. Публицистическая направленность
критических разборов Стасова составляет особенность его метода исследования явлений
искусства. Материалистический критерий оценки художественных и музыкальных
произведений вместе с большой природной чуткостью и вкусом позволили Стасову
по достоинству оценить и восторженно популяризировать достижения нового
реалистического изобразительного искусства и новой реалистической музыки. Им была
выпестована блестящая плеяда художников-передвижников и
реалистов-музыкантов, вошедших в историю под метким названием Стасова «Могучая кучка».
Главное в стасовском наследии — демократическое понимание национальных
особенностей русского реалистического искусства, страстная любовь к нему,
постоянная борьба за его расцвет.
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ РУССКОГО ИСКУССТВА
(1882-1883)
[...] Откуда взялась наша новая художественная школа?
Самостоятельного ли она происхождения или заимствованного? Оригинал она или
копия? [...]
Новое наше искусство — и не копия, и не продолжение чего-то
чужого. Оно родилось при совершенно других условиях, чем новое искусство
Запада, и вследствие своих собственных резонов, и на свой собственный
манер.
[...] Нам, кажется, не хуже всех остальных позволительно было иметь
свои собственные причины и условия для нарождения новой,
самостоятельной школы и искусства. [...]
До какой степени это нужно было; до какой степени также и искусство
почувствовало себя общественной силой, создательницей того, что всем
необходимо вовсе не для праздной забавы и любования; до какой степени
много накопилось за последние годы материала, прежде неведомого, а
теперь просившегося наружу; до какой степени новый живописец
чувствовал потребность и призвание идти заодно с остальным обществом,— это
все ярко доказывается той массой картин, какая стала появляться со
времени нового царствования, тотчас после окончания крымской войны[...]
Все они, почти одною сплошною массой, принадлежали уже такому
направлению, в котором нарисовались свои особенные, совершенно
определенные черты.
Первыми и главными чертами явились реализм и национальность.
653
В своей исторически знаменитой речи, произнесенной в 1861 году на
художественном конгрессе в Антверпене, Курбе заявил, что он первый
поднял в Европе знамя реализма и что до него ни один художник не
осмеливался «категорически провозглашать его».
В Европе? Да, конечно, это так. Там никто раньше Курбе и его
глашатая Прудона не пробовал выступать с реальными картинами нового
склада, провозглашать новый принцип их словесно и печатно. Но у нас —
совсем другое дело. У нас то же самое началось в нашем углу, неведомо
для Европы, без шума и без грохота на весь мир, без кровопролитных
баталий в печати и все-таки без заимствования откуда бы то ни было. Уже
Федотов явился у нас реалистом помимо Курбе, Федотов, отроду не
слыхавший его имени и умерший без наималейшего понятия о том, что им
было начато и отстаиваемо. Наследники Федотова, конца 50-х и начала
60-х годов, мало знавшие самого Федотова, а может быть, и вовсе не
знавшие его, во всяком случае точно так же, как и он, ничего не слыхали о Курбе
и не видали ни единой черточки из его картин. В этом живопись наша
буквально повторила то, что за двадцать лет перед тем совершилось и у нас
в литературе. Родился у нас Гоголь и создал «натуральную школу», то
есть реализм нашего нового времени, не имея никакого понятия ни о
Бальзаке, ни о Диккенсе. Но как тут, так и там главная основа, главный
принцип были одинаковы. Курбе говорит: «Прежнее искусство, классическое
и романтическое, было только искусством для искусства. Нынче
приходится рассуждать даже в искусстве. Основа реализма — это отрицание
идеальности. Разум должен во всем задавать тон человеку. Отрицая
идеальность и все, с нею связанное, я прихожу к освобождению индивидуума».
То, что Курбе считал исключительно ему одному в целом свете
принадлежащим почином, то уже давно осуществлялось там, где он никогда бы
этого и не подозревал,— в неведомой (а всего вероятнее, и глубоко
презираемой им по части искусства) России. И тут тоже наступило такое время
и народились такие люди, которые распростились с «идеальностью». В
одном месте «Войны и мира» граф Л. Толстой говорит, что презрение ко
всему условному, искусственному есть исключительно русское чувство
(гл. 80). Это глубокая правда, но в искусстве оно проявилось лишь в
последнюю четверть столетия во всей силе и цвете своем. Почуствовав,
наконец, настоящие основы своего духа, новые художники горячей душой
прилепились к реализму, к воспроизведению правды, существующей в
действительной жизни, стремились к «освобождению индивидуума» от всех
сковывавших его предрассудков и одолевавших его долгое время темноты
и робости. Для всего этого у этих людей существовали свои учителя
и колонновожатые дома, делавшие излишними чужих, посторонних,
иноземных: одни учителя и колонновожатые — еще из предшествовавшей
эпохи, как Гоголь и Белинский, другие — из самого последнего тогда
времени: Добролюбов, Островский, Некрасов и еще несколько других.
Ни Курбе, ни вся остальная Европа тогда не могла, конечно, и
подозревать, что у нас, помимо всех Прудонов и Курбе, был свой критик и фило-
654
соф искусства, могучий, смелый, самостоятельный и оригинальный не
меньше их всех и пошедший, невзирая на иные заблуждения свои, еще
дальше и последовательнее их. Это — тот неизвестный автор, который еще
в 1855 году выпустил в свет юношескую, во многом заблуждающуюся, но
полную силы, мысли и энергической независимости книгу: «Эстетические
отношения искусства к действительности». Нужды нет, что, быть может,
большинство русских художников тогда вовсе и не ведало этой книги,
а,— кто знает? — может быть, не ведает ее и доныне. Нужды нет: проповедь
ее не была потеряна в пустыне, и если ее не читали художники, зато
читали другие, публика, и после того, как всегда бывает, то, что в ней было
хорошего, важного, драгоценнейшего, бог знает какими таинственными
незримыми каналами, просачивалось и проникало туда, где всего более
было нужно,— к художникам. Здоровое понимание, здоровое чувство,
здоровая потребность правды и неприкрашенности все более и более
укреплялись в среде новых русских художников.
Рядом с реализмом выросла у нас потребность национальности. До
какой степени прежние русские художники были равнодушны в выборе своих
тем и материала, в такой же степени они сделались теперь горячи и
исключительны, и можно было бы перечислить каждому из них сто сюжетов
раньше, чем он нашел бы возможным остановиться на одном. И этот один
был непременно — национальный. Всякий другой потерял теперь для них
и интерес и привлекательность.
Курбе говорил, что задача нынешнего художника — «передавать
нравы, идеи, облик нашей эпохи, как каждый отдельный художник и
чувствует и понимает,— быть не только живописцем, но и человеком; одним
словом, создавать на свет искусство живое. Художник не имеет ни права,
ни возможности представлять такие столетия, которых он не видал сам
и не изучал с натуры. Единственно возможная история — это современная
художнику история. Ставя на сцену наш характер, наши нравы и наши
дела, художник избежал бы той ничтожной теории «искусства для
искусства», на основании которой создания современные не имеют никакого
значения, и он уберег бы себя от того фанатизма традиции, который
осуждает его на вечное повторение все только старых идей и старых форм,
заставляя забывать свою собственную личность». Ничего не зная из этого
символа веры и пропаганды Курбе, наши новые художники исповедовали
и осуществляли на деле те же самые принципы. Они, точно так же как
Курбе, прежде всего искали уберечь и спасти свою собственную
«личность». Личность, прежде так мало стоившая, стала теперь на первый
план. Художник не хотел более заботиться о том, что думали, говорили
и делали предшественники, великие и малые образцы: он прежде всего
чувствовал в себе жизнь, силу, возникающие образы, шевелящуюся мысль
и чувство, и это-то все внутреннее движение свое он хотел передавать.
Но в таком случае художник немедленно становится индивидуален и
национален. Не посторонние, не чужие, не давнишние и не дальние сцены,
лица и характеры теснятся у него в воображении и чувстве, а то, что его
655
всякий день окружает, среди чего он живет с утра до вечера. Он, сам того
не думая, с первой же минуты становится национален. Надобны тысячи
пеленок и бинтов предрассудка и школы, потребны бесчисленные
предосторожности и усилия, чтобы помешать этому естественному ходу дела, чтобы
обезличить художника, вогнать его в «высокое» и далекое искусство,
лишить его простоты и натуральности родной его национальности. Оставьте
художников в покое с самого же начала, не троньте ни их чувства, ни их
мысли, и каждый из них будет непременно национален. Это слишком
натурально и просто, каждый с этим родится. Не троньте цветка и дерева,
не гните их ни в какую сторону, и они сами всегда повернутся к солнцу.
Оттуда идет жизнь для них. [...]
Благодатным последствием искренней национальности и реализма,
начавшегося у нас не по моде, а по действительной потребности
художника и общества, явилась серьезная содержательность нового нашего
искусства. [...]
Бессодержательная картина не оскорбляет на Западе никого, у нас —
всякого.
Содержательность наших картин так определенна и сильна, что иной
раз их упрекали в «тенденциозности». Какое смешное обвинение и какое
нелепое прозвище! Ведь под именем «тенденциозности» обвинители
разумеют все то, где есть сила негодования и обвинения, где дышит протест
и страстное желание гибели тому, что тяготит и давит свет. Выкиньте всю
эту страстную и лучшую струну в художнике, и многие останутся
довольны. Но что он без нее значит? Как будто не «тенденциозно» все, что есть
лучшего в созданиях искусства и литературы всех времен и всех народов!
Разве не «тенденциозен» был «Дон-Кихот», разве не «тенденциозны» были
«Отелло», и «Лир», и «Горе от ума», и «Ревизор», и «Мертвые души», и
«Свои люди — сочтемся», и «Воспитанница» и «Бедность не порок», и все
создания Байрона и Гейне, все стихотворения Некрасова и т. д.? Неужели
эта «тенденциозность» мешает этим крупнейшим созданиям, имевшим,
имеющим и назначенным иметь в будущем громаднейшее влияние на
душу, воображение и судьбу людей? Но пусть противники «тенденции»
вспомнят те самые произведения искусства, которым они глубоко
поклоняются, например все создания «идеального», «высокого» и «чистого»
искусства, начиная от Рафаэля и кончая нашим Ивановым: неужели и в
самом деле эти создания не проникнуты «тенденцией»? По-моему, они
ею не только проникнуты, но переполнены выше краев. Они тоже ищут
что-то доказать своему зрителю посредством своих форм и образов,
они ищут осветить свой факт и свои личности таким образом, чтобы
этот зритель проникнулся благочестием, благодушием, почтением,
обожанием, экстазом, которыми дышал сам автор. За что же лишать
авторов другой категории права тоже стараться переполнить зрителя теми
чувствами негодования, отвращения, любви, экстаза, которые его
наполняют и без которых он не понимает выбранных им сюжетов?
Равнодушное к своим созданиям, нетенденциозное искусство в наше время менее
656
возможно и менее мыслимо, чем когда-нибудь. Искусство до сих пор
слишком отставало в том от своей старшей сестры — поэзии и литературы. Оно
слишком еще медленно наверстывает время, растраченное на красивые, но
праздные бирюльки. Мне кажется,— в будущем всякое другое искусство
померкнет и уйдет прочь со сцены, останется одно то искусство, которое
теперь, покуда, обзывают «тенденциозным», но в которое лучшие
художники вкладывали до сих пор все лучшее, все драгоценнейшее, что
поднялось и накипело в их душе, все, что они успели увидать, схватить и
понять. [...]
[...] Какие же силы создали особенности нашей школы, какие элементы
дали ей исключительное направление и своеобразную физиономию?
Такою силою и элементом было раньше всего отсутствие
предрассудков и слепой веры. Начиная с Глинки, русская музыкальная школа
отличается полной самостоятельностью мысли и взгляда на то, что создано до
сих пор в музыке. Общепризнанные авторитеты для нее не существуют.
Она желает сама все проверить, сама во всем убедиться и только тогда
согласна признать великость композитора и значительность созданного.
Такую самостоятельность мысли слишком редко можно встретить даже
и теперь среди европейских музыкантов, а тем необыкновеннее это было
50 лет тому назад. Лишь немногие музыканты, как, например, Шуман,
осмеливались относиться с собственною критикою к общепризнанным
и общеобожаемым знаменитостям, большинство же музыкантов на Западе
веруют слепо во все авторитеты и разделяют все вкусы и предрассудки
толпы. Новые русские музыканты, напротив, страшно «непочтительны».
Они не желают верить никакому преданию, пока сами собой не убедятся
в значительности того, что должно высоко стоять в их мнении.
[...] Еще одна крупная черта характеризует новую нашу школу — это
стремление ее к национальности. Оно началось еще с Глинки и
продолжается непрерывно до сих пор. Такого стремления нельзя найти ни у одной
другой европейской школы. Условия истории и культуры у других
народов были таковы, что народная песнь — это выражение непосредственной,
безыскусственной народной музыкальности — почти вполне и давно
исчезла у большинства цивилизованных народов. Кто в XIX веке знает и
слышит народные песни французские, немецкие, итальянские, английские?
Они, конечно, существовали и были когда-то в общем употреблении, но
над ними прошла нивелирующая коса европейской культуры, столько
враждебная коренным бытовым элементам, и теперь нужны усилия
музыкальных археологов или пытливых путешественников для того, чтобы
отыскать в далеких провинциальных уголках обломки старинных
народных песен. В нашем отечестве совершенно иное дело. Народная песня и до
сих пор повсюду: каждый мужик, каждый плотник, каждый каменщик,
каждый дворник, каждый извозчик, каждая баба, каждая прачка и
кухарка, каждая нянька и кормилица приносят ее с собою в Петербург, в
Москву, в любой город, из своей родины, и вы слышите ее в течение круглого
года. Она окружает нас всегда и везде. Каждый работник и работница
657
в России, точно тысячу лет назад, справляют свою работу не иначе, как
распевая целые коллекции песен. Русский солдат идет в бой с народной
песнью на устах. Она сродни каждому у нас, и не надо археологических
хлопот для того, чтоб ее узнать и полюбить. Поэтому-то и каждый русский,
родившийся с творческою музыкальною душою, с первых дней жизни
растет среди музыкальных элементов глубоко национальных. А
случилось еще то, что почти все значительнейшие русские музыканты родились
не в столицах, а внутри России, в провинциальных городах или в
поместьях своих отцов, и там провели всю первую молодость (Глинка,
Даргомыжский, Мусоргский, Балакирев, Римский-Корсаков). Другие немало годов
своей юности прожили в провинции, за городом, в частых и близких
соприкосновениях с народной песней и народным пением. Первые и самые
коренные музыкальные впечатления их были национальные. Если уже
давно не было у нас художественно развившейся народной музыки, то
в этом надо винить только неблагоприятные условия русской жизни
в XVIII и XIX веке, когда все народное было затоптано в грязь. И все-
таки национальность в музыке была так сродни всем, до того была общею
коренною потребностью, что даже в екатерининский век, век придворных
париков и пудры, то тот, то другой музыкант наш пробовал вставлять
национальные мелодии в свои плохие оперы — сколки с плохих европейских
опер тогдашнего времени. Так было, позже, и с Верстовским.
Национальные элементы являлись тут в самом несчастном виде, но все-таки они
были налицо, они свидетельствовали о такой потребности, которой не
существовало у других народов. Но едва времена немного переменились,
едва речь зашла в жизни и литературе о народности, только что к ней
снова загорелись симпатии,— тотчас явились талантливые люди,
желавшие создавать музыку в народных русских формах, им всего более
свойственных и дорогих. [...] Музыка не заключается в одних темах. Для того
чтобы быть народною, для того чтобы выражать национальный дух
и душу, она должна адресоваться к самому корню жизни народной. [...].
В. В. Стасов, Избранные сочинения в 3-х томах,
т. 2, М., 1952, стр. 392—393, 415—417, 420—421, 523,
526-527.
ТОРМОЗЫ НОВОГО РУССКОГО ИСКУССТВА
(1885)
У нас в России есть теперь уже немало людей, в самом деле любящих
искусство. И на выставках, и в опере, и в концертах они действительно
проводят одни из счастливейших часов своей жизни, искренне радуются
на то, что в живописи, скульптуре или музыке хорошо и талантливо, не
пропускают никакого случая узнать что-то новое, прекрасное по этой части,
на придачу ко всему прекрасному и талантливому, что дано прежними
веками, и при этом глубоко радуются, когда видят, что талантливое новое
658
выпало на долю нашего отечества и создано руками наших собственных
художников. Эти люди страстными глазами следят за успехом русского
художества и считают всякий новый шаг его вперед — истинным
торжеством и праздником для себя. Они ведут у себя в голове счет нашим
художникам, помнят все, что ими создано самого хорошего и значительного,
и радостно приветствуют появление всякого нового русского таланта,
всякого нового русского истинно даровитого художественного создания. Да,
по счастью, таких людей у нас теперь уже немало, и их мнения много
раз высказывались даже в печати, не только в Петербурге и Москве, но
и в разных далеких концах России, в русской провинции. Замечательно,
что именно в провинциальной печати у нас до сих пор всего более
выражено было сочувствия новому нашему искусству. К этому факту я еще
ворочусь ниже.
Но симпатизируют новому искусству далеко не все. Напротив,
большинство публики состоит у нас из людей, которым очень мало дела до
того, что хорошо и талантливо, и которые любят в искусстве специально
лишь то, что и не хорошо, и не талантливо. Им более всего нужно то, что
в искусстве плохо и плоско, что в нем фальшиво, гнило и негодно.
Талантливость не доходит до их зрения и слуха, истинность и глубина
содержания не имеют для них никакого значения, и весь свой век они
пробавляются жалкими побрякушками, на которые глядеть досадно. [...]
Новое русское искусство, здоровое, свежее, дышащее светлым
юношеским порывом вперед, осуждено на каждом шагу чувствовать толчки
в бок, ухабы и подножки со всех сторон. Его слабость, его падение были
бы, кажется, торжеством многих тысяч людей. Целые толпы из среды
публики били бы тогда в ладоши и ликовали бы беспредельно. То-то был бы
праздник! И это не миф, не выдумка, не фантастическое
предположение. [...]
Ничто новое, выступающее на замену старого — негодного, или на
продолжение старого — хорошего, никогда не водворялось без упорного
сопротивления и без отчаянной борьбы. Охрана прежнего, все равно и худого
и хорошего,— эта одна из самых коренных потребностей людских,
особливо у тех между ними, которые близоруки и ограниченны, а таких —
всегда и везде большинство. Нигде ничто новое, если оно правдиво и
глубоко, не бывает сразу принято мирно и дружелюбно. Его никогда не
допускают безропотно. Оно с боя должно добыть себе место и завоевать себе
право. Поэтому и в искусстве новые художники и новые стремления
всегда должны были терпеть суровую неприязнь и жестокое сопротивление,
прежде чем добиться настоящего своего торжества. Но нигде неприязнь
и сопротивление новому искусству не получили такого лютого,
мучительного, преследовательного и инквизиционного характера, как у нас. [...]
Там же, стр. 569—570.
Но есть один пункт, который более всего сказанного, более
«неуважения» к тем художественным авторитетам, которые уже теперь непригодна,
659
более слишком малого фетишизма перед «преемственностью» в искусстве
сердит г. Боборыкина. Это — близкая связь искусства с литературой,
или, как он называет, «подчинение живописи литературным мотивам».
Он жалуется, что исходный пункт печального нынешнего учения о
художестве — содержание! «Только то имеет цену, что написано на известную
общественно-нравственную идею. Точно будто вся задача живописи
сводится к тому, чтобы идти вслед за публицистикой и обличительной
литературой... Пора, наконец, признать полную самобытность живописи и не
делать из нее орудия для вещей, совершенно посторонних искусству».
Каково! Мысль, негодование, жгучая боль, страдание, глубокая симпатия
или антипатия к тем или другим явлениям жизни — все это «посторонние
вещи для искусства»! Художник не должен никогда этого ни ощущать, ни
выражать! Он должен быть только праздным шалуном формы, он должен
баловать красками и линиями для того только, чтобы доставлять
пустейшее «удовольствие» дилетантам и приличное «рассеянье» зевающей толпе.
Литература должна делать одно дело, серьезное, важное, глубоко
значительное, оставляющее по себе широкие борозды на обществе,— с
искусства довольно и роли милого потешника и приятного развлекателя! Как
будто живопись не родная сестра литературы и может нынче согласиться
на ту низменную роль, какую часто играла прежде, особливо в последние
два-три века! Как будто, сознав нынче свою мощь и права, она уступит
их снова! «Произведения живописи должны восхищать нас не
содержанием, а специально творческими достоинствами и приемами»,— говорит
г. Боборыкин. Ну, пускай он так и думает, решая сам для себя, что это
за творчество такое будет, которое не захочет знать никаких самых
важных, самых глубоких, самых насущных и истинных задач жизни, которое
отвернется от них всех ради одной «виртуозности». Думая так, г.
Боборыкин повторяет только устарелые французские воззрения, которые мы
встречаем в той самой книге «Manette Salomon» братьев Гонкуров, на
которую он так любовно ссылается. Эти авторы (уже не от имени
современных им живописцев, а от своего собственного имени) жалуются на
«пагубное влияние французской литературы на французскую живопись
40-х годов», тогда как именно это-то влияние всегда и везде было самое
благодетельное, самое плодотворное, самое возвышающее, всякий раз,
когда литература пробуждалась от обычного сна и полна становилась
ощущения живой жизни. Так бывало не раз во Франции, так было и у нас
в последние двадцать пять лет. Этим мы можем только гордиться, но,
конечно, любителям ничтожного, немого, формального искусства это
могло быть только невыносимо больно и оскорбительно. Оно им, в их чисто
куриной слепоте, казалось даже антихудожественным. Г-н Боборыкин
скорбит, что «наша публика до сих пор не воспитала еще в себе
способности восхищаться самыми приемами мастерства. То, что французские
критики на своем жаргоне называют «la pâte» и «la brosse», неспособно
приводить ее в восторг». И слава богу! скажем мы. Лучшие французские умы
и художественные критики давно жалуются на падение современного
660
французского искусства, на его жалкую пустоту, в большинстве случаев
вследствие отсутствия содержания, вследствие безумного поклонения
одному виртуозничанью. Тургенев жаловался («С.-Петербургские
ведомости», 1881, № 310, статья г. Аверкиева «Представление Сары Бернар»)
на современное падение французской драматургии. «Совершенно
ошибочно думать, что парижские театры стоят на значительной художественной
высоте,— говорил он.— Для художника они скучны; они для него
чересчур механичны. Пересмотрев множество театров, вам покажется, что весь
вечер просидели в одном и том же театре: до того похожи-друг на друга
все эти любовники, любовницы, резонеры и т. д. Мало того, вам покажется,
что во всех театрах играют одну и ту же пьесу: до того все они похожи
друг на друга...». Это самое каждому мыслящему человеку приходится
сказать про современное французское искусство: кроме редких исключение
оно ужасно скучно, потому что чересчур «механично», у него почти всегда
полное отсутствие содержания, и только все оно состоит из «pâte», и
«brosse», столько драгоценных сердцу г. Боборыкина. Но то, что мило
г. Боборыкину, то еще не непременно мило и всем остальным русским.
Ему, например, кажется, что «худого в том нет», что г. Харламов «имеет
манеру письма, близкую к великим мастерам портретной и жанровой
живописи французской и испанской школ»,— а нам кажется, что «худого»
в том очень много, потому что мы не испанцы и не французы, особливо
прежнего времени, почему и картины и письмо их должны быть другие,
свои, а не чужие, не во гнев будь сказано «преемствам» г. Боборыкина.
Это, впрочем, ничуть не мешает ему, если ему так нравится, писать
романы и фельетоны в манере каких угодно французов. Ему точно так же
кажется, что хорошо бы очень было, если б «наши художники, вместо
«сюжетных жанров», писали прямо с натуры (в том числе голых женщин,
как сказано у г. Боборыкина несколькими строками выше),
довольствовались типами, картинами домашней жизни, беря пример с великих
голландских мастеров». «Отчего бы и нам не пойти по следам Ван-Остаде, Тенир-
сов и Герардов Доу?» — спрашивает он. Ответ очень прост, но только
г. Боборыкину он никоим образом не может прийти на ум. Оттого нам не
надо идти по следам голландцев, что не надо идти ни по чьим следам,
никому не подражать, никого не повторять и не обезьянничать, а идти своею
собственною дорогою, какая перед нами лежит по условиям самой нашей
народности, истории, национального духа, действительной нашей
собственной жизни, а не чьей бы то ни было чужой; во-вторых, потому не надо нам
идти по следам голландцев (если бы даже кто и вздумал допускать
подражание), что эпоха голландцев — то было одно время, а нынче другое: что
тогда было достаточно и впору, то теперь уже неудовлетворительно.
Голландцы были великие мастера, и мы низко перед ними преклоняемся,
но повторять их ничтожное или пустое содержание — теперь уже
стыдно и непростительно. Можно радоваться и любоваться на даровитого
ребенка, но подделываться взрослому под его вягляды и понятия —
какой срам!
661
Г. Боборыкин являлся у нас, по части искусства, всегда только
выразителем плохих французских мнений и ходячих художественных
предрассудков. По счастью, они не могли никогда, даже в самомалейшей степени,
привиться у нас. Они вовсе для нас не пригодны. [...]
Там же, стр. 617—619.
ИСКУССТВО XIX ВЕКА
[...] Отчего происходила у нашего столетия такая быстрая в деле
искусства смена впечатлений, вкусов и поклонений? Неужели от ветрености,
от легкомыслия, от поверхностного непостоянства? Нет, никогда. Никакое
другое столетие не превзойдет наше в способности понимать искусство,
любить его и нисходить во все глубины творения. Ни одно из проявлений
искусства никогда не осталось незамеченным и неоцененным, ни одно
не пропало понапрасну для пытливого глаза современного человека. Но
наш век есть истинный наследник своих старших родственников. Он есть
истинный внук великого XVII века, он истинный сын еще более великого
XVIII века. Эта могучая родня принесла ему в люльку, на зубок, смелость
и независимость мысли, сознание своих интеллектуальных и
художественных прав, которые самоучкой сама нашла среди своих грандиозных
самораскопок. Прежним поколениям много надо было дядек, тех, что
выводили, бывало, «тридцать трех богатырей» из темной волны и вели
к волшебным твердыням власти, сил и наслаждений. Нынче каждый стал
пробовать служить себе сам и сам нести собственной рукой собственное
свое знамя. Новые люди смелыми глазами вглядывались в то, что
произведено было прежними поколениями, по-новому восхищались тем, что
способно было им нравиться, но смело осуждали то, что оказывалось
завянувшим и отупевшим, и требовали нового содержания и новых форм.
В продолжение этой быстрой скачки с новым искусством и с его
публикой приключалось немало ошибок, заблуждений, самообманов, неудач,
крушений, но гордые храбрецы все двигались вперед, их сила почина не
прекращалась — и дело их только росло.
Их беспредельное искание, их несокрушимая вера в будущее торжество
дела их, потребность возвеличить средства искусства, расширять и
углублять его задачи — составляют именно главную характерность, силу и
прелесть искусства нашего времени. В этом оно не только не уступает
никакому другому веку, но во многом даже превосходит прежние, несмотря
на всю их иногда великость.
На такой век нельзя не любоваться. Нельзя не восторгаться им. [...]
Среди разнообразных художественных течений второй половины
XIX века одним из самых значительных является во Франции —
импрессионизм.
[...] Все эти художники, невзирая на весь произвол и частью капризы,
приносили пользу искусству, изучая свет и световые эффекты, тонко
передавая их.
662
Но множество других их товарищей по импрессионизму стали прямо
врагами искусства, истинными «членовредителями» и палачами его.
Погрузившись в задачу наблюдать свои драгоценные «импрессионы» и
передавать их миру, они плюнули на все задачи, существующие в мире, и
заботились только о своих «настроениях» неуловимых, эфирностных своих
чувств и ощущений. Все задачи, исторические, жизненные, душевные, все
отношения людей и все события нашего существования объявлены были
у них устаревшими, наскучившими, ненужными. Изучение форм
действительной природы, человеческого естества казалось праздным и напрасным.
Объявлено было, что на свете должно существовать нынче только одно
искусство — «искусство для искусства», такое искусство, которое должно
быть, во-первых, ново, во что бы то ни стало, а во-вторых, назначено для
любования зрителя красками и формами, помимо всякой идеи, всякой
естественности, натуры, действительности. При этом, надо заметить,
главным объектом всех картин и рисунков была почти всегда женщина,
ее тело, ее внешний облик, поза, движения, взгляд — и все это взято с
самой преувеличенной, ничтожной, мелкой, искаженной, пустяковинной
стороны. От такого настроения, образа мысли и деятельности произошло
нечто крайне ограниченное, вместе чудовищное, варварское и
безобразное, нечто отталкивающее и возмутительное. Большинство людей было
приведено в негодование и протестовало, и этих странных сектантов
прозвали «декадентами» (упадочниками). Их вычурность,
противоестественность и форм и красок, условность и невероятность как тех, так и других,
глупость и ничтожество мотивов, которыми пробавлялись эти художники,,
общее сумасбродство впечатления заставляли большинство людей
отшатнуться от них и поскорее уходить от них подальше прочь. [...]
«Передвижники»! Это было не что-нибудь новое, но только новое
возрождение того самого корня, который заложен был в русскую почву
протестантами-артельщиками и только на время приостановился было со
своим ростом. Вместо прежних 13-ти протестантов 1863 года вступило
в новое «Товарищество» множество русских художников. Девизом их
были: реализм, национальность, отстранение себя, своего творчества от
всего академического, традиционного, деятельность собственным почином
и усилием помимо всякого поощрения и помощи — полная независимость
личная и творческая. И все это до такой степени было свое собственное,
ниоткуда не заимствованное, а свойственное русской почве, что новые
передвижники того и не знали, а выполнили ту великую и высокую
программу, о которой мечтал полуклассик и полуакадемик, но еще более
свободной мыслью великий наш Иванов: он требовал полной «свободы и
независимости» для художника, отчуждения его от «мундира» и
«поощрений», всегдашнего пребывания его на «родине», писания на «родные
сюжеты». Передвижники все 30-летие своего существования, до конца
XIX века, исполняли этот завет, точно будто присягнув ему и свято
держась только его одного.
663
Недоброжелателей у них во все это время было — без конца! Кто корил
их «лаптями», кто пессимизмом, кто — даже отсутствием патриотизма.
Какая это была бесстыдная и наглая ложь, наглая клевета! Как будто
передвижники вечно только и знали, что деревню да мужиков! Но кто
хоть немножко читать умеет, уже по одним печатным каталогам их
выставок может увидать, как злостна и бесстыдна ложь врагов и как много было
всегда разнообразия в задачах и сюжетах передвижников. Все классы
русского общества бывали у них представлены, но только если русский
народ преимущественно состоит не из генералов и аристократов, не из
графинь и маркиз, не из больших людей, а всего более из маленьких, не
из счастливых, а из бедствующих,— то, понятно, большинство сюжетов
в новых русских картинах, если они хотят быть «национальными»,
русскими непритворно, а равно и большинство действующих лиц в русских
картинах должны быть не Данте и Гамлеты, не герои и шестикрылые
ангелы, а мужики и купцы, бабы и лавочники, попы и монахи, чиновники,
художники и ученые, рабочие и пролетарии, всяческие «истинные»
деятели мысли и интеллекта. Русское искусство не может уйти куда-то в
сторону от действительной жизни. Оно делает точь-в-точь то самое, что
великая правдивая и талантливая русская литература. [...]
Русский народ — один из самых музыкальных во всем мире. Он
славился этим с глубокой древности. В древнейших наших летописях об этом
уже говорено. С гуслями в руках приходят русские, славяне к иноземным
народам и тем поражают их. Никто еще никогда не приходил в чужую
страну издалека, из своей родины, с музыкой и с музыкальными
инструментами в руках. И от этого чудного музыкального племени сохранились
чудные музыкальные создания — народные песни, пережившие тысячи
невзгод и несчастий, сотни лет иноземных нашествий, порабощений,
внутренних переворотов и переделок, золотушных прививок, злосчастных
навязываний и принуждений. Сквозь все столетия русский народ, в этом
отношении непоколебимый и непотрясаемый, пронес свою народную
песнь, вместе со своим народным языком и верованием, в целости и нена-
рушимости. Это же самое лишь очень немногие могут сказать про себя.
Почти повсюду в Европе померкла, стушевалась и окончательно исчезла
народная песнь: лишь у одних-двух северных национальностей, русской
и скандинавской, она уцелела во всей силе и славе своей, лишь у них одних
она сохранилась по настоящую минуту в устах самого народа и звучит в его
устах немолчной, неудержимой и Страстно любимой в продолжение всей
жизни, от первых дней рождения и до смерти; она сопутствует этим двум
национальностям во всех их делах и работах: и в деревне — и в городе,
и на пашне — и на люльке штукатура и маляра вверху стены под кровлей,
и в кузнице, и за прялкой, и на фабрике, и на свадьбе, и на штурме,
около знамени, перед смертью или победой.
Когда просматриваешь, страницы истории и припоминаешь события,
с удивлением вдруг замечаешь, что эту свою великую драгоценность и
ненаглядное сокровище, народную музыку, русский народ иногда защищал
664
с такой страстью и энергией, с какой, быть может, никакой другой народ
и никогда. [...]
В. В. Стасов, Избранные сочинения, т. 3, 1952г
стр. 532, 553, 556, 658—659, 714
НАШИ НЫНЕШНИЕ ДЕКАДЕНТЫ
(1906)
[...] Перед глазами нашими не является никакого нового мира, не
блестит ни единой черточки чего-то прежде не известного и не виданного.
Повсюду, во все стороны разбегается обычный декадентский мир, давно
нам известный со всеми его безобразиями форм и изображений, со всею
нелепостью фигур, лиц и движений, со всеми чудовшцностями и
безумными капризами красок. Что же во всем тут нового против того, что
предъявляли до сих пор декадентские картины и рисунки прежних
декадентских выставок? Что тут иного, измененного, хоть на единый вершок
пошедшего в сторону от всего того, что так решительно и так давно
отталкивало от себя нынешнего зрителя?
Как всегда прежде, у декадентов литературы и искусства основным,
коренным положением было то, что смысл и жизненная правда не
обязательны для поэзии и искусства — так оно остается у них и поныне. Все
сочетания слов, речей — в литературе, все сочетания форм, линий, фигур,
красок — в живописи, все по-прежнему остается лишенным какого бы то
ни было рассудка, какой бы то ни было логики. Читаешь страницы
декадентов-литераторов, смотришь холсты декадентов-художников, словно
прохаживаешься среди сумасшедшего дома.
При существовании все того же, прежнего, заржавелого символа веры
чего нового можно было бы ждать от нынешней выставки «Мира
искусства»?.
Никакая жизнь, никакая правда этих людей не касается, им до нее нет
ни малейшего дела. Но каково в то время зрителю? Чтоб не приходить
каждую секунду в досаду, в негодование, ярость, одно средство — тотчас
же превратиться самому в декадента. А разве всякий это может?
Любезнейшие, милейшие, фаворитнейшие задачи декадентских
живописцев — какие-нибудь самые нелепые, туманные легенды и фантазии,
в которых никакого толка невозможно добраться. Ведь глубочайшее
убеждение декадентства то, что содержание, смысл, жизнь,
существующее — все то для искусства лишнее, ненужное; всякое содержание —
только вредно для искусства. Нужно и интересно только то, чего нет на
свете и что только выдумано из головы живописцами.
Но при этом еще важнее всякой выдумки и всякого каприза для
декадента забота о краске. Картина служит у декадента всего более для
проявления именно только каких бы то ни было сочетаний и сопоставлений их.
Баловство красками, капризы и шалости ими — первейшая для него
665
заслуга. Горы, леса, долины, деревья, воды— все это ничто само по себе.
Важно только то капризное, то фантастичное, то небывалое, что он из
них придумает состряпать и склеить. [...]
Там же, стр. 316—317.
В. В. ВЕРЕЩАГИН
1842-1904
Мировоззрение известного русского художника-баталиста В. В. Верещагина
сложилось во многих своих чертах под влиянием идей
революционно-демократической эстетики. Этим объясняются сильные стороны его эстетической концепции —
взгляд на природу искусства, его роль в современном обществе. Не всякий
художник, умеющий живо «реальным образом воспроизводить вещи», имеет право
называться реалистом, утверждал Верещагин. Реализм предполагает не бездумное
изображение факта, события, а творческое осмысление. Глубокая жизненная правда,
прочувствованная и пережитая самим художником, должна составлять основу
искусства. Без высоких общественных идей, смелого обобщения нет подлинного
реализма.
Развитые Верещагиным мысли, направленные на защиту важной общественной
роли искусства, его идейности, содержательности, имевшие существенное значение
в эстетическо-критической борьбе времени, внесли значительный вклад в
разработку реалистической художественной эстетики.
О РЕАЛИЗМЕ
(1891)
[...] Я [...] утверждаю, что в тех случаях, когда существует лишь
простое воспроизведение факта или события без всякой идеи, без всякого
обобщения, может быть, и найдутся некоторые черты реалистического
выполнения, но реализма здесь не будет и тени, то есть того осмысленного
реализма, в основе которого лежат наблюдения и факты — в
противоположность идеализму, который основывается на впечатлениях и
показаниях, установленных a priori.
[...] В качестве художников мы не отрицаем идеалов прошедших веков
и старинных мастеров. Наоборот, мы отводим им почетное место в
истории искусства, но мы отказываемся подражать им по той простой причине,
что все хорошо в свое время и что реализм одного столетия уже носит
в себе зачатки идеализма следующего за ним века.
Те именно великие художники, которые считаются великими
идеалистами, разве не были великими реалистами в свое время?
Кто осмелится утверждать, что Рафаэль не был реалистом в том веке,
когда он жил, что работы его не скандализировали многих из его
современников, вкусы которых были воспитаны на образцах предшествующих
художников?
666
А Рубенс, который переступил всякие границы современного приличия
в качестве не только художника, но и как мыслитель? [...] Кто решится
отрицать, что Рубенс, населив христианские небеса тяжеловесными,
здоровенными, весьма и весьма нескромными барынями и мужчинами,
перевернул вверх дном все традиции и таким образом явился даровитым,
мощным реалистом своего времени? [...]
А Рембрандт! А остальные художники, которые все ныне считаются
более или менее идеалистами; разве каждый из них не был в свое время
представителем реализма, который в наши дни значительно сгладился
рукою времени, с одной стороны, и прогрессивным движением нашего
самосознания — с другой?
[...] Какова в настоящее время роль искусства?
Искусство унижено до уровня забавы для тех, кто может и любит
тешить себя им; полагают, что оно должно способствовать
пищеварительным способностям публики. Живопись, например, считается просто
мебелью; если случайно остается пустое пространство на стене в промежутке
между дверью и уголком, занятым примерно этажеркой, на которой стоит
ваза, тогда немедленно зто пустое пространство закрывается картиной
легкого содержания и принятого выполнения,— такого именно рода, чтобы
сюжет ее не очень отвлекал внимание от других деталей меблировки и
безделушек, не мешал бы dolce far niente 1 посетителей.
А между тем влияние и ресурсы искусства громадны. Большинство
старинных художников обязаны своей известностью тому, что были верными
слугами власти и богачей; между ними были люди, которых не отягощало
чувство серьезной гражданской ответственности, и, несмотря на это, какое
мощное влияние оказывали они на искусство в течение целых веков.
Влияние это чувствовалось во всех уголках и сокровенных изгибах
жизни народов.
Чего же мы должны бы ждать от искусства в наше время, когда
художники вдохновляются своими обязанностями, как граждане родной страны,
когда они перестали лакействовать перед богатыми и власть имущими,
которые любят, чтобы их называли покровителями искусства, когда
художники добились независимости и начали понимать, что первое условие
плодотворной деятельности — это стать «благородным» не в узком
значении касты, а широком применении этого слова относительно времени,
в которое мы живем?
Вооружившись доверием публики, искусство гораздо теснее примкнет
к обществу и станет его союзником.
«Мастера искусства об искусстве», т. IV, М.~Л., 1937,
стр. 303, 305—307, 311—312.
1 Приятному безделью (итал.).
667
ЛИСТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ книжки
(1898)
[...] Реализм картины, статуи, повести, музыкальной пьесы составляет
не то, что в них реально изображено, а то, что просто, ясно, понятно вводит
нас в известный момент интимной или общественной жизни, известное
событие, известную местность. Есть немало художественных
произведений, исполнение которых реалистично, но самые эти произведения в
целом не могут быть причислены к школе реализма. [...]
В знаменитой картине Брюллова очень много таланта,
академического знания и уменья, много реальности в исполнении, но мало
«реализма».
[...] Теперь уже настало время, когда слово «реалист» перестало быть
бранным в искусстве, когда реализм, ставши крепко на ноги, завоевавши
право гражданства, перестал быть пугалом консервативных кумушек.
Роль страшилища, «колебателя уставов», переходит к импрессионистам,
символистам, декадентам — по правде сказать, довольно невинным коле-
бателям,— покамест идущим ощупью. [...]
XIX век прошел в борьбе различных проявлений этого
(человеческого — Н. Б) духа, от умиравшего классицизма, через романтизм, до
реализма включительно, и торжеством этого последнего он заканчивается. Но
новые веяния уже дают себя знать — веяния пока неясные, слабые,
малопонятные — и весьма вероятно, что к середине XX столетия нас зачислят
в разряд старых колпаков, идеалистов, а декадентские потуги конца
нынешнего века выработаются в связное, стройное целое — только какое? [...]
Лозунг «искусство для искусства» торжествовал. Говорили: что
осталось ценного во всем скарбе старого творчества, как не техника? Что
сталось теперь с мыслями, тенденциями прежних мастеров? Они сданы
в архив, тогда как, например, полотна с живописью старых школ ценятся
на вес золота!
В виду того что в этом роде опять немножко говорят и нынче, я возьму
на себя труд спросить: а что направляло руки художников, что подвигало
их на создания шедевров техники, как не мысль, не тенденция?
Например, намерение художника показать, что мать Христа г- божия матерь,
вдохновляло его на произведение прелестной, неземной красоты головы,
удивительно исполненных рук, одежды и пр., и есть все основания
думать, что, не задайся художник тенденциею, пиши он просто миловидную
голову, красивую руку или драпировку — техника его не дошла бы до
такой высокой степени совершенства. Очевидно, мысль, тенденция не только
не вредят технике, но, напротив, служат стимулом к
совершенствованию ее.
Повторяю, в последнее время под влиянием толков о банкротстве
науки и тому подобных умозрений снова явились веяния в сторону лозунга
«искусство для искусства», но культурная часть общества продолжает
668
откликаться преимущественно на то, что вызывает не только созерцание,
но и размышление. [.. J
«Листки из записной книжки художника В. В. Вере^
щагина», М., 1898, стр. 1—2, 10—13.
И. Е. РЕПИН
1844-1930
Эстетические взгляды Репина отличаются сложным и противоречивым
характером. Но, несмотря на все свои колебания и заблуждения, Репин в зрелый период
своей деятельности предстает перед нами как убежденный демократ и реалист.
Основные положения репинской концепции искусства восходят к идеям
революционной демократической эстетики. Называя себя «человеком 60-х годов», говоря, что
для него не умерли идеалы Гоголя, Белинского, Тургенева, Толстого, Репин
подчеркивал общность своих взглядов с крупнейшими писателями-демократами.
Задачу искусства Репин видел в борьбе во имя блага народа. Изображая
народное горе, беспощадно обличая темные стороны жизни, художник становится
выразителем общественных чаяний и интересов. Такой художник, по мысли Репина,
оправдывает свою высокую общественную миссию.
Верный принципам передвижничества, Репин считал, что «вне национальности
нет искусства». Национальность и народность (последняя понималась им очень
широко) — это для Репина критерий ценности художественного произведения. Его
многочисленные высказывания проникнуты одной мыслью, что подлинный
ценитель, «судья» искусства теперь «мужик».
В 90-е годы, годы обострения идейной борьбы, Репин попал под влияние эстет-
ско-идеалистической теории «искусства для искусства». Статьи этого времени
«Письма об искусстве» (1893—1894), «Николай Николаевич Ге и наши претензии к
искусству» (1894), «В защиту новой Академии художеств» (1897) содержали ряд
идеалистических суждений. Свидетельством возврата большого художника-реалиста на
позиции идейно-реалистического искусства является письмо Репина «По адресу
«Мира искусства» (1899). Пафос репинского выступления в защите национальной
самостоятельности русской школы.
В эстетических суждениях И. Е. Репина можно найти проницательные и
яркие замечания о современном искусстве, о содержании и форме, о мастерстве
живописи и т. д.
ПИСЬМО В. В. СТАСОВУ
от 3 июня 1872 года
[...] Относительно петербургских вещей Передвижной выставки скажу
Вам, что они стоят в одинаковых условиях с московскими, поставлены как
669
следует; но в них нет силы, нет сути, это не народные вещи. Если на них
смотреть в Петербурге, то покажется, пожалуй, что они озарены глубокой
мыслью, и только здесь рассеивается этот туман, чувствуешь, что это
мысль не убеждения, не прожитая и не выжитая из жизни, реальная
мысль, мысль эта отзывается обезьянничеством западным мыслям,
повторением за ними, и слабым, как всякое повторение, мыслей чужих людей,
живших горячо своей жизнью; это можно сравнить с ребенком, который
подражает большим и повторяет их слова. Не люблю я этих маленьких
хлыщей мысли, я предпочитаю ребенка, выглядывающего исподлобья,
молчаливо наблюдающего старших и нравящихся ему людей; внутренний
мир таких ребят слагается крепко, глубоко и своеобразно. Таких ребят
я вижу в московской молодежи.
Относительно слабости питерских живописцев и потери веры в них
я руководствуюсь следующим соображением: живопись всегда шла об
руку с интеллигенцией и отвечала ее интересам, воспроизводя интересные
для нее образы и картины. Со времени Петра I интеллигенция вращается
исключительно при дворе. Тогда русских художников еще не было, надо
было иностранных, они не только удовлетворяли, они даже развивали
двор (дрянь продавалась, как всегда). Буду краток. Во время
Александра I русские баричи развились до того, что у них появилась
национальная гордость и любовь к родине, хотя они были еще баричи чистой
крови, но составляли собою интеллигенцию (Пушкин, Лермонтов и
прочие и особенно декабристы по благородству души). Формы для художника
(достойные его интереса) были только в Петербурге да за границей.
Явилась целая фаланга художников, ярким представителем которой был
Брюллов. Национальная гордость Николая простиралась до того, что он
поощрял русскую музыку в Глинке, русскую живопись в Федотове и даже
заказал Брюллову русскую Помпею — «Осаду Пскова», приставал с этим
к архитектору Тону, но, кажется, получил отпор (у деспотов бывают
капризные лакеи, которым все сходит). Интеллигенция эта не могла долго
существовать, так как она была замкнута в своем аристократическом
кругу и относилась с презрением ко всей окружающей жизни, кроме
иностранцев, развращается и падает.
Выступает другая интеллигенция, это уже на наших глазах,
интеллигенция бюрократическая, она уже не спасена от примеси народной крови,
ей знакомы труд и бедность, а потому она гуманна, ее сопровождают уже
лучшие доселе русские силы (Гоголь, Белинский, Добролюбов,
Чернышевский, Михайлов, Некрасов). Много является хороших картин:
начальные вещи Перова — «Проповедь в церкви», «Дилетант» и др., Якоби —
«Арестанты»; Пукирев — «Неравный брак» и прочие. Вы их лучше меня
знаете. Эта интеллигенция как-то крепко держится Петербурга, вся
стремится к одному центру и одним интересам, пути сообщения плохи, она
остается замкнутой. А между тем она развивается до мировых воззрений,
хочет разумно устроить целую страну (хотя и не имела знаний).
Начинает борьбу и погибает в 1862 году. 4-е апреля и нечаевщина — только
670
вспышка погасающего пожара (впрочем, уже в нечаевщине виден
зародыш нового общества).
Теперь, обедая в кухмистерских и сходясь с учащеюся молодежью,
я с удовольствием вижу, что это уже не щеголеватые студенты, имеющие
прекрасные манеры и фразисто громко говорящие,— это сиволапые,
грязные, мужицкие дети, не умеющие связать порядочно пару слов, но это
люди с глубокой душой, люди, серьезно относящиеся к жизни и
самобытно развивающиеся. Вся эта ватага бредет на каникулы домой пешком, да
в Ш-м классе (как в раю), идут в свои грязные избы и много, много
порасскажут своим родичам и знакомым, которые их поймут, поверят им и
в случае беды не выдадут; тут будет поддержка. Вот почему художнику
уже нечего держаться Петербурга, где, более чем где-нибудь, народ раб,
а общество перепутанное, старое, отживающее; там нет форм народного
интереса.
Судья теперь мужик, а потому надо воспроизводить его интересы (мне
это очень кстати, ведь я, как Вам известно, мужик, сын отставного
рядового, протянувшего 27 не очень благополучных лет николаевской
солдатчины).
Судите же с этой точки зрения, что Вам может дать картина,
изображающая русалок, да не живо изображающая?..
Нынешняя молодежь интеллигенции уже не поедет за границу сорить
деньгами, у нее нет их, у нее едва хватает грошей на покупку книг
иностранной литературы; тем крепче выживается то, что труднее достается,
тем строже выбор.
Между тем как в Петербурге тек чистый родник народной жизни
и портился в вонючей луже монархизма, в Москве он уже образовал
довольно объемистый резервуар. Сюда постепенно стекалось все лучшее
русское по части живописи. Тут более уцелела народная жизнь,
материально поддерживаемая купцами. Тут есть Третьяковы, Солдатенковы;
осматривая на днях галерею картин первого, я убедился, что он богаче
петербургского императора. (Наполовину немцы, они поощряют только
немцев.) Я был вне себя от радости, переходя от одной к другой
драгоценности в его действительно замечательной коллекции картин.
«Неравный брак» Пукирева, «Тройка детей», «Славильщики попы» и другие
вещи Перова, «Княжна Тараканова» Флавицкого, «Партия арестантов»
Якоби и много, много замечательных русских вещей, так что я дивлюсь
и дивлюсь богатству этого человека. Иванов (эскиз картины) l. А Румян-
цевский музей! Федотов там и, наконец, самая гениальная и самая
народная русская картина «Явление Христа народу» Иванова здесь же, на
первый взгляд это лубок; но это мгновенное впечатление рассеивается, и
перед вами вырастает русский колосс. (По воскресеньям перед нею толпа
мужиков и только слышно: «Уж так живо! Так живо!») И действительно,
1 Имеется в виду эскиз картины А. Иванова «Явление Христа народу».
(Прим. сост.)
671
живая выразительность ее удивительна! И по своей идее близка она
сердцу каждого русского. Тут изображен угнетенный народ, жаждущий
слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником
«предтечею». Народ полюбил его, во всем верит ему безусловно и только ждет
решительного призыва к делу. Но вот показывается на горизонте
величественно-скромная фигура, полная спокойной решимости, с подавляющею
силою взгляда. Проповедник только что окончил проповедь, проникнув
ею до глубины души своих слушателей, потому что говорил от глубины
души: взгляды всех в благоговейном молчании обратились к нему
восторженно, а он, откинув свой плащ, простирает руки к спускающейся с горы
фигуре реформатора и произносит с величайшей радостью, как бы
оканчивая свою речь: «А вот идет посланник бога, он ляжет за вас костьми,
чтобы улучшить ваше положение!»
Все обернулись в изумлении к идущему, и все чувствуют
несокрушимую силу этого серьезного человека. Как воспроизведены эти два
колоссальные характера. Как живы и разнообразны предстоящие (описание
каждого лица не уместилось бы на странице). Толпа вдали, вопиющая
в угнетении, простирая руки к избавителю.
Каждый раз, когда я проезжаю через Москву, я захожу (как
магометанин в Мекку) на поклонение этой картине, и каждый раз она вырастает
передо мною. [...]
И. Е. Репин и В. В. Стасов, Переписка, т. 1,
М.—Л., 1948, стр. 36-38.
ПИСЬМО И. Н. КРАМСКОМУ
от 31 марта 1874 года
[...] Говоря о будущности русского искусства, Вы совершенно тактично
перешли к литературе, как к искусству более свободному вследствие
независимого существования и по тому же самому не расходившемуся с
симпатиями своего народа (в этом его выгода). «Оно держалось
содержания»,— говорите Вы, это верно, и оно преследовало художественные идеи
нашего миросозерцания, в нем почти нет наносного. В живописи же и
скульптуре (бедные !!!) до народа они никогда не доходили,
интеллигенция (русская) не богаче его (народа). Этих бедных сестер взяло под свое
покровительство барство наше, так как они имели средства, а ведь всем
известно наше барство; оно воспиталось в Париже и считало его прихоти
законом для себя; и вот, с одной стороны, потребители, с другой — школа,
академия и вели до сих пор дело. Но натура берет свое, начинает
пробуждаться национальная струя, и будет она разрастаться все шире и шире,
в громадную реку Волгу, и тогда уже оно не будет трусить. Вы говорите,
что нам надо двинуться к свету, к краскам. Нет. И здесь наша задача —
содержание. Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее
жизнь и смысл, дух истории — вот наши темы, как мне кажется; краски
672
у нас — орудие, они должны выражать наши мысли, колорит наш — не
изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу,
он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке.
Мы должны хорошо рисовать.
Французы, однако, очень ценят индивидуальность автора; есть много
злоупотреблений здесь и ограничений себя авторов; но здесь есть идея для
всех стран быть самой собой — вот главная задача. Долго надо работать,
чтобы выработать до возможного совершенства свою идею, и нам,
особенно нам, которые так мало работали (работа подражательная не идет в
счет), что не знаем простых вещей, не умеем обращаться с краской и
другими материалами. Но и здесь, однако, может много сделать даже один
человек, с неуклонной энергией преследующий свою цель. [...]
И. Н. Крамской, Переписка с художниками, т. 2,
М., 1954, стр. 302-303.
ПИСЬМО Н. И. МУРАШКО
от 30 ноября 1883 года
[...] Давно ли это тебя стали смешить идеи в художественных
произведениях?
Я не фельетонист, это правда, но я не могу заниматься
непосредственным творчеством. Делать ковры, ласкающие глаз, плести кружева,
заниматься модами — словом, всяким образом мешать божий дар с яичницей,
приноравливаясь к новым веяниям времени... Нет, я человек 60-х годов,
отсталый человек, для меня еще не умерли идеалы Гоголя, Белинского,
Тургенева, Толстого и других идеалистов. Всеми своими ничтожными
силенками я стремлюсь олицетворить мои идеи в правде; окружающая
жизнь меня слишком волнует, не дает покоя, сама просится на холст;
действительность слишком возмутительна, чтобы со спокойной совестью
вышивать узоры,— предоставим это благовоспитанным барышням. [...]
И. Е. Репин, Письма к художникам и
художественным деятелям, М., 1952, стр. 53.
ПИСЬМО Н. С. ЛЕСКОВУ
от 19 февраля 1889 года
[...] Ваше негодование на «оподление» справедливо; оно произошло
оттого, что вытравлены лучшие, даровитейшие силы, настало царство
посредственности. Но я убежден, что народится поколение более даровитых,
следовательно, и более возвышенных духом натур; они с презрением
отвернутся от всего пустозвонного хлама; сильный ум потребует другой
пищи и других развлечений. Идеи же, настоящие, глубокие идеи, как
высшее проявление разума, всегда незыблемо будут стоять в интеллекту-.
22' «История эстетики», т. 4 (1 полутом) 673
альном мире, как звезды на небе, и везде будут влечь к себе лучшие
сердца, лучшие умы.
А знаете ли, я должен Вам признаться, что я и в «Запорожцах» имел
идею. И в истории народов и в памятниках искусства, особенно в
устройстве городов, архитектуре, меня привлекали всегда моменты проявления
всеобщей жизни горожан, ассоциаций; более всего в республиканском
строе, конечно. В каждой мелочи, оставшейся от этих эпох, виден,
чувствуется необыкновенный подъем духа, энергии; все делается даровито,
энергично и имеет общее широкое гражданское значение.
Сколько дает этого материала Италия!! И до сих пор там сильна и
живуча эта традиция... И наше Запорожье меня восхищает этой свободой,
этим подъемом рыцарского духа. Удалые силы русского народа отреклись
от житейских благ и основали равноправное братство на защиту лучших
своих принципов веры православной и личности человеческой. Теперь это
покажется устарелыми словами, но тогда, в то время, когда целыми
тысячами славяне уводились в рабство сильными мусульманами, когда была
поругана религия, честь и свобода, это была страшная животрепещущая
идея. И вот эта горсть удальцов, конечно, даровитейших людей своего
времени, благодаря этому духу разума (это интеллигенция своего
времени, они большею частью получали образование) усиливается до того, что
не только защищает Европу от восточных хищников, но грозит даже их
сильной тогда цивилизации и от души хохочет над их восточным
высокомерием. [...]
И. Е. Репин, Письма к писателям и
литературным деятелям, М., 1950, стр. 42—43.
ПИСЬМА ОБ ИСКУССТВЕ
(1893-1894)
[...] «Вне национальности нет искусства»,— сказано где-то у Тургенева.
Да, искусство хорошо и вполне понятно только на своей почве, только
выросшее из самых недр страны. Никакие внешние меры поощрения не
создадут здорового искусства, никакие академии, никакие гениальные
художники-учителя не в состоянии не только создать, но и правильно
развить талант.
Искусство каждого народа фатально проходит все фазы своего
развития. Никакие меры не помогут ему перешагнуть свой архаический период.
Все, что шагнет вперед под влиянием более культурной страны,
оторвавшись от художественного роста своей нации, будет ей чуждо и, хотя
возбудит большое удивление специалистов, в конце концов забудется и не
будет иметь значения в общем росте школы. Все поощрительные
приспособления, все теории, все огромные сооружения останутся не у дел, как
только нация начнет жить своим искусством. Тогда всякий молодой талант
смело и свободно станет отвечать духу и вкусу своего времени. [...]
И. Е. Репин, Далекое близкое, М., 1960, стр. 399—400.
674
[...] В некотором кругу художников мы давно уже делим всех
художников по характеру созданий их на два типа: на эллинов и; варваров.
Слово «варвар», по нашим понятиям, не есть порицание: оно только
определяет миросозерцание художника и стиль, неразрывный с ним.
Например, варварами мы считаем великого Микеланджело, Караваджо, Пергам-
скую школу скульпторов, Делакруа и многих других. Всякий знакомый
с искусством поймет меня. Варварским мы считаем то искусство, где
«кровь кипит, где сил избыток». Оно не укладывается в изящные мотивы
эллинского миросозерцания, оно несовместимо с его спокойными линиями
и гармоническими сочетаниями. Оно страшно резко, беспощадно, реаль-
по. Его девиз — правда и впечатление. Конечно, как все в природе редко
встречается в определенных резких образцах, так и эти два типа большею
частью переплетаются и смешиваются в своих проявлениях. [...]
Там же, стр. 409.
[...] Салон Марсова поля. Чудесные залы железного павильона —
остаток большой выставки: роскошные лестницы, соединенные куполом,
широкий свет сверху. [...]
Однако я стремлюсь к живописи, переступаю порог и... ужасаюсь.
Обвожу взглядом весь огромный зал неестественно набеленных картин,
и мне делается все жутче от их вида и содержания. [...]
Импрессионисты заметно вырождаются, устарели, уменьшились в
числе. Сделав свое дело — освежив искусство от рутинного, академического
направления с его тяжелым коричневым колоритом и условными
композициями,— они сами впали в рутину лиловых, голубых и оранжевых
рефлексов. Свежесть, непосредственность впечатлений сошла у них на
эксцентричность положений, на кричащие эффекты и условную радужную
раскраску точками и штрихами ярких красок, сильно забеленных.
В сущности, и неестественно было долго держаться импрессионизму —
принципу только непосредственного впечатления натуры, схватывания
случайных образов видимого. Художник — по преимуществу натура
творческая, одаренная фантазией индивидуальность, которой тягостно
постоянное подчинение одной доктрине целой корпорации. В нем, как отразителе
задач своего момента, возникают вдруг прямо противоположные мотивы.
Вместо живого реализма импрессионистов, их рабского поклонения
случайностям природы он бросается в символизм, где формы природы
получают условное применение, неестественно видоизменяются и
комбинируются самым невероятным, фантастическим воображением больного душой
художника. В символизме всегда есть много условного, головного,
теоретического — все признаки старчества. Во всяком случае, это нечто новое,
необыкновенное, еще небывалое в искусстве.
Увы, на этих слабых холстах, акварелях и картонах я никак не мог
серьезно сосредоточиться; разгадывать эти живописные иероглифы
скучно; надо перевертывать всю обыкновенную логику и, главное, знать
условные знаки этих мудрецов. Как видите, здесь не чистое искусство: искус-
22*
675
ство берется здесь как средство для выражения проблем условными
формами, выдуманной раскраской, невероятным освещением,
неестественным соединением органических форм природы. [...]
Там же, стр. 420—422.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕ
И НАШИ ПРЕТЕНЗИИ К ИСКУССТВУ
(1897)
[...] Однажды, под впечатлением одной из наших содержательных и
интересных выставок, я случайно натолкнулся на сформованный обломок
из фронтона Парфенонского храма. Обломок представлял только
уцелевшую часть плеча. Меня так и обдало это плечо великим искусством
великой эпохи эллинов! Это была такая высота в достижении полноты формы,
изящества, чувства меры в выполнении... Я забыл все. Все мне
показалось мелко и ничтожно перед этим плечом...
Конечно, выше всего великие, гениальные создания искусства,
заключающие в себе глубочайшие идеи вместе с великим совершенством формы
и техники; там вложены мысли самого создателя, невыразимые,
непостижимые. Те мысли выше даже их гениальных авторов; они, как высшие
откровения, внесены ими туда невольно, непосредственно, по вдохновению
свыше, осеняющему только гениев в редкие минуты просветления.
Но художник-пластик в простоте сердца имеет полное право
воспевать и увековечивать художественность форм и жизни природы и свои
фантазии, не мудрствуя лукаво, если господь не одарил его гениальным
разумом и мудростью философа. Одна внешность природы и
индивидуальностей так невыразимо прекрасна, так глубока, разнообразна, что может
служить неисчерпаемой сокровищницей даже для самых огромных сил
человека на всю его жизнь.
Идеи вековечны и глубоки только у гениальных авторов; но разве
гениальность обязательна для всякого смертного?
Разве мы вправе требовать от всякого художника философского
понимания явлений жизни, прощая ему даже небрежность и грубость
выполнения? Нет более жалкого и бестактного явления, чем ограниченный
человек, который пыжится выказывать глубокую премудрость. Что может
быть скучнее его поучений! Бездарным, холодным ремеслом —- до
искусства ему не подняться — он иллюстрирует популярные идеи, а рассудочные
люди стараются возвеличить его за благие намерения — он-де служит
идее общего блага.
Мне кажется, он опошляет даже самое это благо заурядным
отношением к нему.
И небольшие силы художников плодотворны и симпатичны, когда они
с любовью работают над специальными и посильными задачами.
Бесконечно разнообразны отделы и темы искусства, неистощим художествен-
676
ный интерес явлений и форм природы и фантазии человеческой. Важно
только не насиловать себя в угоду нерациональным требованиям
представителей других областей. Надо крепко отстаивать свободу своей
индивидуальности и цельность своей сферы. [...]
Самый большой вред наших доктрин об искусстве происходит оттого,
что о нем пишут всегда литераторы, трактуя его с точки зрения
литературы. Они с бессовестной авторитетностью говорят о малознакомой
области пластических искусств, хотя сами же они с апломбом заявляют, что
в искусствах этих ничего не понимают и не считают это важным.
Красивыми аналогиями пластики с литературой они сбивают с толку
не только публику, любителей, меценатов, но и самих художников.
А на самом деле в этих искусствах очень мало общего. Соприкасается
словесное искусство с пластическими только в описаниях, но и здесь
разница в выполнении огромная: то, что художник слова может выполнить
двумя словами, в дв,е секунды, живописец не одолеет иногда и в два
месяца, а скульптору понадобится на это два года,— так сложна бывает форма
предмета. Зато форму эту во всей осязательной полноте никогда не
представит слово. Точно так же фабулы, рассказа, диалога, вывода и поучений
никакие искусства, кроме словесного, не выразят никогда. [...]
И. Е. Репин, Далекое близкое, 1960, стр. 322—324.
ПО АДРЕСУ «МИРА ИСКУССТВА»
(1899)
[...] Биржевая цена — вот чем теперь определяются достоинства
художественного произведения. Картинные торговцы должны заменить
профессоров: им известны потребности и вкусы покупателей. Они создают
славу художникам.
Они теперь всемогущие творцы славы художников, от них всецело
зависят в Европе имя и благосостояние живописцев. Пресса, великая сила,
тоже в их руках. Интерес к художественному произведению зависит от
биржевой игры на него.
Возбудить ажиотаж к картинке и нажить состояние — вот тайна
современного успеха художественного произведения. Без гения, без божка,
конечно, им нельзя обойтись. Еще недавно состоял таковым скромный,
посредственный Пювис де Шаван. Он умер. Нужен новый, такой же
безобидный, не поддающийся положительному определению. Художник, мало
оцененный по своей незначительности, вещи которого за бесценок
приобретены давно всемогущим, ловким торговцем Дюран-Рюэлем,— Де-
гас (Дега), полуслепой художник, доживающий в бедности свою
жизнь,— вот теперь божок живописи. Внимайте, языцы!
677
[...] Можно подумать — не делаюсь ли я врагом нового направления
в искусстве вообще? — Никогда! Я знаю, каких сил требует
поступательное движение вперед во всякой сфере человеческих стремлений, и выше
всего ценю это свойство человека. Знаю, что молодежи оно более
свойственно и легче дается. И я восхищаюсь безмерно всяким своеобразным
талантом. И в новом движении «декадентства» попадаются иногда перлы
самобытности художественной, какг например, у Бёклина, Стука (Штук),
Климша, даже у наших: Е. Д. Поленовой, Головина, если бы они не
портили себя избитой манерой вывесочных афиш. Но я ненавижу эти
кичливые притязания посредственностей, их шарлатанский апломб кагала
и фантастическую нетерпимость к тому, что не в приходе их секты...
«Мастера искусства об искусстве», т. IV, М.—Л., 1937,
стр. 395—396.
M. М. АНТОКОЛЬСКИЙ
1843-1902
Эстетические суждения крупнейшего русского скульптора M. М. Антокольского
отражают его творческую практику художника-реалиста. Связь искусства с
жизнью — вопрос, непрестанно волновавший художника. Наибольший интерес
представляет его статья «По поводу книги гр. Л. Н. Толстого об искусстве» (1898).
Появление толстовского трактата, остро ставившего вопросы социально-этической сущности
искусства, было воспринято Антокольским как большое и важное событие в идейно-
художественной жизни. Он высоко оценил актуальность философской проблематики
трактата «Что такое искусство?». Опираясь на мысли и положения трактата,
Антокольский рисует картину падения идейно-художественной, познавательной ценности
искусства в современном ему обществе, заставляет задуматься о том пути,
которым идут новые художественные направления.
ПИСЬМО В. В. СТАСОВУ
(1873)
[...] Художественное произведение (если оно действительно
художественное) гораздо выше, чем самая природа. Природа для художника
есть только средство для того, чтобы создавать свой образ посредством
творчества. Природа для художника есть то же самое, что для живописца
палитра, краски; он выбирает, подбирает краски, смешивает их, и все для
того, чтобы получить на картине желаемое им известное впечатление и
гармонию. Без сомнения, художник должен стоять очень близко к
природе, чтобы вернее получать от нее впечатление. Но когда впечатление
получено, когда он хочет его передать, то он подчиняется природе только
в техническом отношении, и тогда только творчество выходит
осмысления
ным и грандиозным, выходит коротко, ясно и цельно, так цельно, что
никакое этнографическое изображение не передаст того, что у художника
может быть передано только в одной фигуре.
Потом мне кажется, что Репин отдает преимущество в картине
содержанию. Я думаю немного иначе: в картине я желал бы видеть прежде
всего органическую цельность как содержания, так и исполнения. Уж
одно то, что искусство исходит из души и должно действовать на душу
точно так же, как наука исходит из ума и действует на ум,— таким
образом самое содержание, по-моему, должно быть художественным, да
притом и художественно исполнено. [...]
«M. М. Антокольский, его жизнь, творения, письма
и статьи...», Мм 1905, стр. 89.
ПИСЬМО В. В. СТАСОВУ
(1883)
[...] Форма без содержания и содержание без формы одинаково не
хороши; превосходно, когда оба они вместе. Точно так же я не понимаю
спора о реализме, натурализме, идеализме, национализме и т. п. Главное
для меня как в искусстве, так и в жизни, это — душа, искренность.
Художник только тот, кто столько же страстно любит человека, как
и свое искусство, кто верит, глубоко убежден в правоте своего творчества,
кто отдает всю свою жизнь искусству для человечества. Только у таких
горит искра божия, горит ярко, непотушимо. Это и есть главное в
искусстве. Там, где кончается душа,— начинается смерть. Вот мое мерило
в искусстве, все равно, к какому времени и народу оно бы ни
принадлежало. [...]
Там же, стр. 484.
ПО ПОВОДУ КНИГИ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО
ОБ ИСКУССТВЕ
(1898)
[...] Если бы мы были одухотворены истинным искусством, если бы
искусство было нашим культом, как это было в древности и в средние
века,— самый вопрос об искусстве был бы лишним. [...] Отличительная же
черта нашего времени заключается в том, что никогда еще не бывало
столько художников, как теперь, никогда не говорили столько об
искусстве, как теперь, и никогда не было так мало истинного творчества, как
теперь. Во всяком случае, количество заглушает качество, и это одно уже
доказывает, насколько, в сущности, мало теперь ощущается потребности
в истинном искусстве и насколько само искусство слабо, немощно,
бессильно увлекать нас, заставить наше сердце биться сильнее, радоваться
и волноваться не за себя одного.
679
[...] Казалось бы, что в наше время искусство завладело широким
поприщем. Оно проникло повсюду: нет дома, где бы не стоял рояль, нет
хижины, где бы не висело эстампа или фотографии; число художников и
рисовальщиков удесятерилось, вместе с ними и число художественно-
литературных произведений, выставок, критик и всевозможнейших
художественно-литературных изданий. С какими колоссальными средствами,
прибавлю — и с такими сильными, можно было бы облагораживать души
людей, делать их лучшими, более восприимчивыми ко всему доброму,
прекрасному... Но когда глубже присматриваешься к этим громадным
рычагам, к этой необыкновенной деятельности, где сотни тысяч живописцев
и скульпторов работают и сочиняют, и миллионы литографов и
литейщиков печатают, льют или чеканят всевозможными способами и манерами;
когда ходишь по выставкам среди нескольких тысяч картин, легиона
статуй и т. п., то поневоле задаешь себе вопрос: каковы же нынешние идеалы
в искусстве, чего мы требуем от него и что оно нам дает? Ответы, к
сожалению, получаются весьма печальные. Идеала никакого или почти
никакого... Требуют от искусства милого, игривого, красивого — всего того, что
может веселить людей, но не печалить их, что ласкает глаз, но не
трогает чувства. И требуют этого люди с утонченным вкусом, люди главным
образом со средствами — те, которые могли бы поддерживать искусство
более серьезным образом. А искусство, волей-неволей, даст то, чего
требуют, тем более что большинству художников легче развивать свои руки
и глаза, чем мысль и чувство. Да, легче им и работается... И если чувство
у художника берет верх, если он изобразил то, чем он был поражен, что
он полюбил, если он хоть на волос поднимает голос во имя человечности,
то будьте уверены, что его произведение останется непроданным. Такие
произведения никому не нужны. [...]
Я верю и убежден, что искусство вечно: и было и будет; что оно —
потребность, прирожденная каждому, каждому народу, даже каждому
отдельному человеку. У одного только эта божия искра горит ярче, у
другого — слабее, но она есть, она сопровождает людей от колыбели до
гроба, на крестинах, на свадьбах и похоронах — везде она. Посредством
искусства (пения и слов) мы выражаем свои чувства любви, горести и
радости, под звуки музыки мы смелее идем к победе, под те же звуки
оплакиваем падших героев. Искусство украшает храмы, оно учит нас лучше
молиться, сильнее любить бога и чувствовать чувства других. Искусство,
как однажды я уже сказал, это — выразитель и толкователь человеческой
души, посредник между богом и человеком. Искусство говорит яснее,
конкретнее, красивее — то, что каждый хотел бы сказать, но не может.
Искусство подобно путевой звезде, освещающей путь тем, кто стремится
вперед, к свету, хочет быть лучше, совершеннее. Таков истинный смысл
искусства, таков был он у древних греков и в средние века. Увы, не таким
мы видим его теперь. Тогда искусство вытекало из внутренней
потребности, а теперь из избытка.
Итак, если искусство сделалось односторонним для односторонних,
680
если оно не для народа от народа, если красота потеряла свое истинное
значение и сделалась предметом эпикуреизма, если она потеряла свое
внутреннее содержание, наконец, если художники не понимают своего
высокого призвания, а критики не умеют им растолковать его и толкуют совсем
обратное, то после этого что же удивительного, что такой великий
художник, с такой чуткостью нравственных принципов, как гр. Л. Н. Толстой,
остановился на вопросе: «Что такое искусство». Но после этого следовало
бы поставить другой вопрос: какая же причина такого нынешнего
положения искусства? Яблоко от яблони недалеко откатывается. Теперь и в
жизни, как и в искусстве, то же декадентство, те же крайности, та же
раздвоенность между умом и чувством — и та же путаница. А если нет идеала
в жизни, то откуда же быть ему в искусстве? Искусство может дать только
лучше того, что есть, но не может дать того, чего нет. Как бы то ни было,
в книге гр. Толстого можно найти многое, с чем Вы, может быть, не
согласитесь, многое, о чем можно спорить, но в общем —это книга удивительная
уже по тому одному, что она заставляет многих оглянуться и задуматься.
И тем, кто любит искусство как человека, и обратно,— тем остается
только сказать гр. Л. Н. Толстому большое спасибо!
Там же, стр. 973—975, 983—984.
Μ Ύ |3 Ы К А
Русская художественная культура XIX века характеризуется
необычайным подъемом и расцветом не только литературы
и изобразительного искусства, но в равной мере также и
музыки. Вместе с развитием музыкального искусства
в XIX веке активно развивалась и мысль о музыке,
опирающаяся на общие эстетические принципы, выдвигаемые
общественной и художествендой жизнью. Русскими
композиторами внесен свой вклад в развитие эстетики. Они не
создавали специальных эстетических трактатов, но в критических статьях,
в эпистолярном наследии, в дневниках и воспоминаниях оставили немало
ценных суждений, которые либо конкретизируют применительно к
музыке общие положения русской классической эстетики, либо раскрывают и
дополняют их.
Эстетические взгляды русских композиторов-классиков были связаны
с передовой идеологией своего времени. На воззрения основоположника
русской музыкальной классики М. И. Глинки (1804—1857) оказала
влияние идеология декабризма. Демократические устремления 40-х годов
заметно сказались на мировоззрении А. С, Даргомыжского (1813—1869).
Взгляды А. Н. Серова (1820—1871) складывались под сильным влиянием
В. Г. Белинского, а взгляды М. П. Мусоргского (1839—1881) и главного
682
идеолога «Могучей кучки» В. В. Стасова (1824—1906) —под влиянием
Н. Г. Чернышевского.
Главные идеи русской классической эстетики — идеи народности,
реализма, общественного служения искусства — явились определяющими
и в эстетических воззрениях русских композиторов. Передовые деятели
музыкального искусства защищали и отстаивали эти идеи в- борьбе с
формалистическими тенденциями, с развлекательно-гедонистическим
отношением к искусству, с пустым виртуозничанием и академическим
школярством, с космополитизмом и засилием иностранщины. В конце XIX века,
когда появились первые тлетворные ростки модернизма:, композиторы-
классики были хранителями реалистических традиций, активно выступая
против всяческих проявлений декаданса (Римский-Корсаков, Танеев,
Стасов).
Классическая русская национальная музыка ведет свое начало от
М. И. Глинки, творчество которого было предметом высочайшего
уважения и одним из важнейших источников развития для всех русских
композиторов-классиков. Глинкой же были сформулированы и многие из тех
идей, которые получили дальнейшую разработку в эстетических
высказываниях русских композиторов.
«Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем»,—
в этих словах Глинки, дошедших до нас в передаче А. Н. Серова,
выражена идея глубочайшей связи музыкального искусства с жизнью народа.
Разумеется, они являются образным афоризмом, и потому их нельзя
понимать буквально. Творчество гениальных композиторов отнюдь не
сводилось к простой обработке народной песни, хотя последняя и составляла
его почву. Суть и смысл слов Глинки сводится к тому, что никакое
подлинное искусство невозможно без глубокой внутренней связи с жизнью
и творчеством народа.
Идея народности музыки раскрывается русскими
композиторами-классиками в самых разнообразных аспектах. Тут и призыв к прямому
изображению народной жизни, особенно характерный для Мусоргского и
Римского-Корсакова; и идея национального своеобразия искусства,
подчеркивавшаяся в равной мере Глинкой и «кучкистами», Серовым и
Чайковским; и вопрос об использовании в профессиональной музыке народной
песни («Музыка не заключается в одних темах,— писал Стасов.— Для
того чтобы быть народною, для того чтобы выражать национальный дух
и душу, она должна адресоваться к самому корню жизни народной» *); и
идея выведения из народной песни оригинальных музыкальных форм
(Танеев) ; и борьба с псевдонародностью (особенно характерны
выступления Чайковского против псевдорусского стиля пошлой развлекательной
музыки), и, наконец, общие демократические устремления русских
композиторов.
1 В. В. Стасов, Избранные сочинения в 3-х томах, т. 2, М., «Искусство»,
1952, стр. 257.
683
Глинка говорил, что он стремился создавать произведения «равно
докладные знатокам и простой публике». И эта идея также красной нитью
проходит через все эстетические высказывания композиторов-классиков.
Борьба за самый высокий профессионализм, за освоение высших
достижений современного мирового искусства сочеталась у них со стремлением
к доступности музыки.
Борьба за народное содержание, национальное своеобразие,
доступность и демократичность музыкального искусства велась русскими
композиторами-классиками во имя высоких идейных, общественных целей
искусства. Теории «чистого искусства», проповедовавшиеся
представителями реакционного лагеря в литературе, в области музыки выражались
либо в развлекательности, «ушеугодии», либо в профессионализме и
техницизме школярско-академического толка.
В противовес этому композиторы-классики утверждали
содержательность, идейность музыкального искусства. Реализм, правда жизни были
написаны на их эстетическом знамени. Серов говорил о Глинке, что
«идеалом его была драматическая правда в музыке, верность идее». «Хочу,
чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды»,— писал Даргомыжский.
Мусоргский, называвший Даргомыжского «великим учителем
музыкальной правды», считал, что высшая цель искусства— «правда, как бы она
ни была солона». Правдивость и искренность музыки были для
Чайковского высшим критерием художественности. О соединении правды и
красоты мечтал Серов.
Именно в связи с задачей правдивого выражения в музыке жизни
композиторы-классики разрабатывали вопрос о музыкальной программности
и выясняли специфические особенности музыкального искусства в ряду
других искусств. Между ними были различия в трактовке этих вопросов,
отражавшие различия творческих индивидуальностей и музыкального
реализма. Но все они были сторонниками идейно-образной
содержательности и общественной значительности музыки.
Решение более частных вопросов о правдивом претворении в музыке
интонаций человеческой речи, об изображении и выражении, о содержании
и форме было подчинено у русских композиторов задаче правдивого
отображения человеческих характеров и сущности народной жизни.
В связи с раскрытием специфики музыкального искусства русской
классической эстетикой немало сделано также для выяснения принципов
анализа музыкального произведения, для разработки основ опирающейся
на эстетику музыкальной критики. А. EL Серов, Ц. А. Кюи, П. И.
Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков были не только композиторами, но и
критиками. И в своих критических статьях они проводили эстетические идеи,
за которые боролись всей своей деятельностью в целом.
К этим блистательным именам следует прибавить еще В. Ф.
Одоевского (1801—1874), написавшего серию исследований о народной песне
и сумевшего оценить историческое значение Глинки, и Г. А. Лароша
(1845—1904), статьи которого о Глинке и Чайковском выражали передо-
684
вые идейно-эстетические принципы, несмотря на непоследовательность и
противоречивость взглядов их автора, связанную с увлечением ганслики-
анским взглядом на музыку как на искусство «движущихся звуковых
форм».
Эстетические воззрения разных русских композиторов-классиков
различаются по степени последовательности и глубины, по преобладанию той
или иной проблематики, по характеру решения одних и тех же проблем,
по выражению в них индивидуальных особенностей творчества каждого
композитора. Эстетика русских музыкантов неоднородна и на разных
этапах исторического развития, выдвигавших вместе с изменениями
общественной жизни и накоплением художественного опыта каждый раз новые
задачи. Вместе с тем эстетические взгляды русских композиторов в целом
образуют единый этап развития эстетической мысли, связанный с русским
классическим реализмом XIX века и его высшими достижениями в
музыке.
Высоко ценя эстетические взгляды композиторов-классиков, мы,
однако, не можем не видеть и присущих им черт ограниченности и исторически
обусловленных противоречий. У некоторых из них мы находим следы
непреодоленных идеалистических воззрений (Серов, Чайковский, Римский-
Корсаков), недооценку профессионального образования и мастерства
(Мусоргский, Стасов).
Эстетические взгляды А. Н. Скрябина, испытавшего влияние
солипсизма и символизма, стоят в развитии русской эстетической мысли
несколько особняком, приближаясь по своему типу к эстетике романтизма.
Тем не менее Скрябин — классик русской музыки, преемственно
связанный с ее лучшими традициями. Его вера в действенно-преобразующую
роль искусства, как бы ни осложнялась она идеалистическими утопиями,
сближает его и с русской эстетической мыслью.
Эстетические взгляды русских композиторов-классиков — высший
этап в развитии музыкальной эстетики прошлого. И этим определяется их
значение для нашего времени.
В. В. ВАНСЛОВ
М. И. ГЛИНКА
1804-1857
Основоположник русской классической музыкальной школы М. И. Глинка не
оставил специальных статей с изложением своих эстетических взглядов. Но в его
«записках», письмах, «Биографической заметке», «Заметках об инструментовке»
и других литературных материалах достаточно ясно выражены его эстетические
позиции. Общеэстетические вопросы нередко затрагиваются Глинкой в его
многочисленных высказываниях о музыкантах своего времени и прошлого, в связи с
конкретными впечатлениями от явлений музыкальной и художественной жизни Две
685
основные идеи красной нитью проходят через все высказывания Глинки: идея
народности музыки (ее укорененности в жизни, музыкальном творчестве народа,
ее национальной самобытности и ее доступности) и идея художественного
совершенства высокого искусства (соответствия формы содержанию, ясности,
отточенности, отшлифованности содержательной формы). Эти идеи отражают особенности
творчества самого Глинки как классика русской национальной музыкальной
школы, и они получили развитие в дальнейших эстетических суждениях русских
композиторов. Подобно тому как Чайковский говорил о том, что вся русская
симфоническая музыка заключается в «Камаринской» Глинки «как дуб в желуде», можно
сказать, что все древо эстетической мысли русских композиторов выросло из зерен,
брошенных Глинкой.
ПИСЬМО к S. т.
(1833-1834)
[...] Я хочу, чтобы все было национальным прежде всего — сюжет, но
и музыка также — настолько, чтобы мои дорогие соотечественники
чувствовали себя дома, а заграницей меня не сочли хвастунишкой, вороной
которая вздумала рядиться в чужие перья. [...]
«Полное собрание писем М. И. Глинки». Сост. и изд.
Н. Финдейзен, т. 1, Спб., 1907, стр. 7.
ПИСЬМО А. Н. КАШПЕРОВУ
от 10 (22) июля 1856 года
[...] Все искусства, а следственно, и музыка требуют:
1) Чувства (L'art c'est le sentimeot) l — это получается от вдохновения
свыше.
2) Формы. Forme 2 значит красота, то есть соразмеренность частей для
составления стройного целого.
Чувство зиждет — дает основную идею; форма облекает идею в
приличную, подходящую ризу.
Условные формы, как каноны, фуги, вальсы, кадрили и пр., все имеют
историческую основу.
Чувство и форма — это душа и тело. Первое дар высшей благодати,
второе приобретается трудом,— причем опытный и умный руководитель —
человек вовсе не лишний. [...]
Там же, стр. 509.
1 Искусство — это чувство (франц.).
2 Форма (франц.).
686
ЗАМЕТКИ ОБ ИНСТРУМЕНТОВКЕ
[...] Касательно употребления разнородных средств оркестра вообще
в музыкальном сочинении правил почти не существует. Инструментовка
находится в прямой зависимости от самого творчества музыкального.
Красота музыкальной мысли вызывает красоту оркестра. Если б мы,
положим, не знали творений Генделя, Баха, Глюка в оркестре, не видели бы
их партитур, великолепная красота их мыслей при изучении музыки их
за фортепиано должна была бы поручиться нам за неподражаемую красоту
их инструментовки. И в самом деле, оркестр их удивителен, несмотря на
бедность тогдашних инструментальных сил относительно нашего, после-
бетховенского времени. Благоустроенность музыкальной архитектоники,
ничем не нарушимая соразмерность целого и частей в Гайдновой музыке
отражается и в его оркестре, постоянно изящном от высшей соразмерности
и благоустроенности; нигде нет шума и преувеличенности. [...]
Инструментовка, точно так же как контрапункт и вообще
гармоническая обделка, должна дополнять, дорисовывать мелодическую мысль. Это
особенно важно в театральной музыке. Мелодия вокальных партий для
полного изящества своего никогда не должна быть слишком резко
обрисована; не должна быть слишком определенно очерчена и с ритмической
стороны. Такая резкость, определенность мелодических линий превращает
всякий напев в чисто танцевальный.
Дело гармонии (сколько можно реже четырехголосной — всегда
несколько тяжелой, запутанной) и дело оркестровки (сколько можно
более прозрачной) дорисовать для слушателей те черты, которых нет и не
может быть в вокальной мелодии (всегда несколько неопределенной — un
peu vage — в отношении драматического смысла) : оркестр (вместе с
гармонизацией)) должен придать музыкальной мысли определенное
значение и колорит — одним словом, придать ей характер, жизнь...
Злоупотребление — противоположность употребления. [...] Всякое
преувеличение, чрезмерный шум оркестра, так же как и тоскливая его
недостаточность, умышленная бедность, насилование средств каждого
инструмента на эффекты или на способы выражения, ему несвойственные, все
это — злоупотребление.
Довольно трудно провести границу между кокетством в
инструментовке и между некоторыми сторонами истинно изящного употребления
оркестра в случаях грациозности, щеголеватости (élégance). Мерилом
здесь должно быть именно щеголянье иными эффектами оркестра в ущерб
высшему эстетическому значению и соразмерности. Серьезный,
мыслящий человек никогда не может быть щеголем (élégant), точно так же как
миловидная деревенская красавица отнюдь не нуждается в изящных
произведениях гостиного двора. Композитор, серьезно понимающий искусство,
мыслитель в области звуков, никогда не дозволит себе сделать оркестр
слишком нарядным — не дозволит щеголять тем или другим сочетанием
687
инструментов, тем или другим приемом, хотя бы в самом деле
чрезвычайно эффектным. [...]
Можно заметить, однако, вообще, что пристрастие композиторов
к известным сторонам, известным приемам оркестровки — такая же
вредная односторонность, как манерность в исполнителе музыки. [...]
М. Глинка, Литературное наследие, т. 1, М.—Л.,
Музгиз, 1952, стр. 349—352.
А. Н. СЕРОВ
1820-1871
Александр Николаевич Серов — крупный русский композитор, автор опер
«Юдифь» (1863), «Рогнеда» (1865) и «Вражья сила» (1867) и выдающийся
музыкальный критик. Выступивший в печати с начала 50-х годов, Серов был
неутомимым пропагандистом передовых явлений русского и зарубежного музыкального
искусства. Он выступал против дилетантизма, бессодержательной виртуозности,
формального и школярского подхода к музыке, за содержательность, идейную
глубину, эмоциональную силу и национальную самобытность музыкального искусства.
Взгляды Серова складывались под влиянием передовой русской литературной
критики (в особенности Белинского), на уровень которой он стремился поднять
и музыкальную критику. Музыкально-критическая и публицистическая
деятельность сочеталась у Серова с популяризаторской и
просветительно-пропагандистской. Выступая в любом литературном жанре, Серов исходил из определенной
системы эстетических взглядов. Никем из русских музыкантов вопросы специфики
музыкального искусства, его места среди других искусств, особенностей его
содержания и формы, принципов его синтеза со словом и сценой не были разработаны
с такой обстоятельностью и полнотой.
Решение этих вопросов Серов подчинял задачам развития русской музыки по
пути народности и реализма. Он писал о своем «поклонении правдивости в
искусстве», о поисках «истины в искусстве». «Первое почетное место» он отводил
«смыслу», то есть идейности. Развивая взгляды на музыку как на «язык души», Серов
требовал от нее прежде всего «правды выражения». Единство «правды выражения»
и «музыкальной красоты», когда «правда выражения вызывает высшую красоту
музыки», — таков его художественный идеал. Серов не только оставил статьи,
посвященные своеобразию и значению народной песни, и сумел раскрыть народность
творчества Глинки и Даргомыжского, но и выдвинул общий тезис о зависимости
музыкальных идеалов от «народности художника». Музыка, писал он, «должна быть
неразлучна с народом, с почвою этого народа, с его историческим развитием».
Народная реалистическая музыкальная драма была для Серова идеалом
опертою искусства. В области симфонической музыки он был страстным
пропагандистом и обоснователем программности.
На критическую деятельность Серов смотрел как на высокую общественную
деятельность, призванную просвещать массы и воспитывать музыкальные вкусы.
Он был трибуном передовых идей русской музыкальной культуры.
688
ТЕМАТИЗМ УВЕРТЮРЫ «ЛЕОНОРА».
ЭТЮД О БЕТХОВЕНЕ
Что инструментальная музыка не есть игра, простая перестановка
звуков, или нечто вроде кристаллизации мелодических, гармонических
и ритмических величин, переплетающихся в красивые формы или
арабески,— это, несмотря на софизмы г. Ганслика, решенный вопрос для
всякого, кто в 1861 году серьезно понимает музыку.
Музыка — это язык души; это область чувств и настроений; это —
в звуках выраженная жизнь души.
Кантилены, гармонизация кантилен, голосоведение, ритм, звуковой
колорит — все это только средства, выражающие душевные настроения,
более или менее определившиеся,— настроения, имеющие по самому
существу музыкального языка мало общего с умственной деятельностью;
обращающиеся вследствие этого исключительно к душе, а посредством ее
и к воображению, что в свою очередь обусловливается основною мыслью
данной музыки, ее задачей и целью, как и ее исходной точкой.
История музыки в своем основании есть или история развития
звуковых сочетаний в непосредственной зависимости от поэтической мысли,
вызвавшей их, безразлично, в какой бы то ни было области — в обрядовом
ли пении какой-нибудь церкви или в деревенском танце, сыгранном
бродячим скрипачом,— или она есть история уклонений от этого главного
условия музыкального искусства, от цели проникать в душу при помощи
выразительности звука.
Новейшее направление в музыке (как оно выразилось в
произведениях его представителей Берлиоза, Вагнера и Листа) отдает программной
музыке решительный перевес перед музыкою без программы или без
поэтической основной идеи. Это направление восстановляет в области
театральной, концертной и церковной музыки права главной музыкальной
цели — ее способности к выразительности в самом широком смысле — и
низводит игру звуков, сочинения без сознательного поэтического
содержания на степень бренчанья, недостойного художественной
деятельности. [...]
А. Н. Серов, Избранные статьи, т. I, М., 1951,
стр. 409.
МУЗЫКА, МУЗЫКАЛЬНАЯ НАУКА,
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
(1861)
[...] Ясно, что музыка для голоса важнее музыки для инструментов.
В ней пение — вполне пение; выразительность — вполне
выразительность. Но пределы голоса человеческого по отношению и к силе и к
регистрам (то есть ряду звуков, доступных одному голосу) довольно невелики.
689
С этих сторон музыкальные орудия искусственные, сделавшись подмогою
для голосов, приобрели чрезвычайную важность, а после, получив, как
увидите, самостоятельное развитие, могли выработать такие стороны
музыкальной поэзии, которые, хотя все заключались в голосе
человеческом, хоть в виде эмбрионическом, не могли, однако, выступить наружу
в такой ясности и не могли собою обогатить область музыкального языка
вообще.
Грохотанье низких нот контрабасов и литавр, например, только
в намеке может быть слышимо в гневном голосе самого могучего баса
человеческого; в оркестре эта гневность может вырасти до таких
размеров, что слышатся уже не грозные речи, а раскаты громов небесных,
падение лавины, шум волн океана; палитра живописи музыкальной разрослась
под пером Бетховенов, Берлиозов, Вагнеров до величия изумительного и,
без сомнения, недоступного для одной вокальной музыки. Пению, голосу,
теперь стоит только намекнуть; оркестр своими могучими средствами уже
дорисует все, что происходит в душе человеческой, хотя бы это было
негодование Эсхилова «Прометея», или, в другую сторону, оркестр может
вдруг уменьшиться до микроскопически тонкого царства Шекспировой феи
Маб, до слезинки на ресницах ребенка, до колыханья лепестков розы... [...]
Музыка есть язык поэтический, оттого все покушения выражать
музыкою понятия не поэтические, а взятые просто из области рассудочного,
общежитейского языка, имеют результатом проявления
антимузыкальные, ничего не имеющие общего с истинным искусством. Рассудочной
ясности, определительности осязательной от музыки и спрашивать нечего.
Улыбышев ] с этой стороны очень прав, когда, думая посмеяться над
глубокомыслием программ, приданных последним творениям Бетховена,
говорит, что музыка неспособна «заменить» словесный язык, «музыкою
никак, например, нельзя пригласить приятеля к обеду». Удаляясь от
низменных прозаических сфер, музыка между тем составляет весьма
понятный язык от души к душе, от сердца к сердцу и может совершенно
свободно вращаться в сферах, едва доступных слову человеческому, в
сферах даже высочайшей философии, переводя ее на язык движений и
настроений души, на язык ощущений, как бы тонки и бесплотны они ни
были.
Можно сказать, что музыка в своем слиянии с поэзиею словесною
(в пении с аккомпанементом), с одной стороны, усиливает стократно
выразительность поэзии, придавая словам желаемый поэтом акцент
(редкими декламаторами или чтецами улавливаемый) ; с другой стороны,
усиливает и то, что есть в поэзии туманного, недосказанного, словом
человеческим неформулированяого, необъятного; досказывает то, что можно
иногда прочитать между строк поэзии, дорисовывает весь этот внутренний,
душевный мир, для которого слово только самая внешняя и довольно гру-
1 Улыбышев А. Д. (1794—1858) — автор известной трехтомной биографии
Моцарта, с враждебностью относившийся к музыке Бетховена. (Прим, сост.).
690
бая оболочка. Если б все, что происходит в душе человеческой, можно
было передать словами, музыки не было бы на свете. [...]
А. Н. Серов, Избранные статьи, т. Il, М., 1957,
стр. 193—194.
ПИСЬМА О МУЗЫКЕ
(1852)
Музыка вообще дополняет поэзию, досказывает то, чего словами нельзя
или почти нельзя выразить. Это свойство музыки составляет ее главную
прелесть, главную чарующую силу. Язык музыкальный, язык самых
тонких, иногда едва ощутимых волнений, аффектов души (Empfindungen),
в музыке с текстом идет параллельно с поэзией слов, не всегда, не во
всем с ней совпадая, чего и не должно быть, иначе музыка окажется
лишнею или только подчиненною слугою поэзии. В музыке без текста
музыкальный язык отрешается от своей союзницы — поэзии словесной, но не
перестает быть поэтическим языком, то есть выражением поэтических
идей. Иначе музыка должна перестать быть изящным искусством наряду
с поэзией, должна превратиться в довольно пустое чувственное
удовольствие (Ohrenkitzel).
Язык музыкальный по самому свойству музыкальных звуков
действует на душу непосредственно, но зато и весьма неопределительно. Быть
может, именно в этом свойстве музыки одно из главных ее очарований.
Как от музыки с текстом должно требовать чего-то не передаваемого
словами (иначе зачем же и музыка к ним?), так и в музыке без текста не
ищите определенных, рассудочных понятий (Begriffe), определенных,
резко отчеркнутых представлений, ясных, осязательных образов.
Она — непосредственный язык души (без пособия рассудочных
понятий), но душа в сфере ее аффектов (Empfindungen) волнуется более или
менее всем, что совершается с человеком в его микрокосме, то есть в нем
самом, в его «я» и в природе, во внешнем мире. И в музыке, значит, может
отражаться вся жизнь человеческая в той степени, как она «волнует» душу
чувством печали, скорби и чувством отрады, со всеми бесконечными
оттенками этих двух чувств.
Вот мир искусства звуков. Его сфера чисто психическая, потому что
музыка может выражать только настроенность души (Seelenstimmung,
Geistesstimmung). Мимоходом замечу вам, что я привожу постоянно
немецкие выражения только потому, что в немецком языке, мне кажется,
больше определительности для философских понятий, чем в нашем, а
вовсе не потому, что заимствую что-нибудь из немецких критик и
рассуждений. Я еще нигде не встречал определения области музыкального языка
так, как я ее понимаю и стараюсь вам пересказать. Но настроенность
души может быть вызвана всем на свете: современными событиями,
историческим фактом, отдельным случаем частной жизни, поэмой, драмой,
691
романом, картиной, природою и так далее. Следовательно, истинная
сфера музыкального языка так же безгранична, как сфера других искусств,
пока музыка остается отражением настроенности душевной, и так же, как
все другие искусства, музыка теряет все свое очарование, всю свою
прелесть, обращается в бессмысленный набор звуков, если забегает в области
ей чуждые, в области определенных, рассудочных понятий, для которых
в ней нет соответственных органов. Ведь нельзя, например, глазом
распознать запах, слухом вкус и т. д. Так и в сфере искусства.
По самому свойству музыкального языка музыка остается всегда поэ-
зиею лирическою, если под лиризмом разуметь излияния душевные во
всей их бесконечной гамме — от лепета улыбающегося сквозь слезы
младенца до скорби Ромео на гробе Джульетты; от плача девочки о
потерянной булавке — до восторга поэта, посылающего лобзание целому
человечеству!..
Но лиризм при таком обширном значении беспрерывно соприкасается
то с эпическим элементом поэзии, то с драматизмом: ни в одном случае
нельзя провести строгую, резкую границу между лиризмом и
драматизмом. Как самый драматический сюжет без лирических моментов
исключает всякую возможность сценической музыки, то есть оперы, точно так
и в области неоперной музыки, то есть симфонической, лиризм нельзя
совершенно отделить от драматических моментов и, следовательно, от
драматических форм музыки. С другой стороны, и эпический элемент очень
часто входит и в поэзию лирическую и в поэзию драматическую; точно
так же отражается это и в поэзии музыкальной.
Симфония всегда останется лирическим произведением, как отражение
души в известном ее настроении, отражение более субъективного чувства,
чем объективного,— и по этой «большей» соответственности, большей
родственности основному свойству музыкального языка «симфония»
становится свободнейшею его формою, формою преимущественно
музыкальною (musique par excellence). Это верно и в том смысле, что
симфоническая и камерная музыка, как музыка чистая, неприкладная, всегда
заключает в себе несколько более чисто музыкальной связи мыслей — той связи,
которая подлежит особым, можно сказать, кристаллическим законам
самого искусства звуков, основанного на весьма простых данных природы.
Между тем сценическая музыка (и вообще прикладная), отделенная от
текста, может представиться чем-то менее музыкальным. Вы сами очень
хорошо пояснили это на стр. 242 III тома 1. Но это нисколько не значит,
чтобы симфоническая музыка вовсе исключала (как вы полагаете
необходимым) всякий более или менее определенный смысл, программу,
подразумеваемое либретто.
Там же, стр. 120—122.
1 А. Серов полемизирует ,с А. Д. Улыбышевым. (Прим. сост.).
692
СПОНТИНИ И ЕГО МУЗЫКА
(1852)
[...] Что для оперы необходимы резко очерченные характеры, сильные
страсти, интересная завязка всей пьесы и занимательность отдельных
сцен — это было давно понятно, хотя и не всегда соблюдалось; но и в наше
время при составлении либретто серьезных опер еще не нашли
настоящей средней черты между резкостью отчаянной мелодрамы и
совершенной бесцветностью, бесхарактерностью сюжета. Мелодрама, давно осмеяна
и не смеет явиться иначе как на третьестепенных театрах, а в оперных
текстах и до нашего времени неистовые тираны-басы, приторные героини-
сопрано, сентиментальные рыцари-теноры — еще в полном ходу!
Далее: от волшебства и вмешательства бестелесных сил мало-помалу
в серьезных операх начинают отказываться, но не хотят убедиться в
ненужности и незанимательности всех этих торжественных процессий,
маршей, сражений и всего, что в старину и на афишах называлось
«великолепным спектаклем». Не хотят убедиться, что настоящее дело музыки не
изумлять и поражать внешним, чисто декорационным блеском, а
изображать душевную жизнь отдельных людей.
Область музыки сценической не в шумных хорах и вакханалиях, а в
глубокой психологии, в разговоре между душой действующих лиц и душой
зрителя, в волнении, в порывах души, то страстных, то нежных, одним
словом, во всем, что составляет жизнь души. [...]
Цель оперы есть духовное наслаждение, доставляемое драматической
музыкой в соединении с сценическою игрою. Духовное наслаждение
доставляется только красотою; красота в этом случае может быть или
красота выражения, то есть правда характера, правда обрисованного
музыкою положения, правда декламации, или красота собственно-музыкальной
мысли, красота музыкальных фраз, свободно текущих одна за другою,
хотя бы и без прямого отношения к тексту. На первый раз может
показаться, что эти две красоты, совершенно разные, достигаются разными
путями и о соединении их мудрено и думать. И в самом деле, стремления
исключительные то к той, то к другой красоте в искусстве имели
пагубный раскол так называемой музыки итальянской (красота собственно
музыкальная) и немецкой (красота поэтической мысли, выраженной
музыкою, правда музыкальная). [...]
К счастью музыки, есть возможность примирить оба так далеко
разошедшиеся направления. К счастью музыки, еще во многих живет
убеждение, что идеальное совершенство музыки только тогда достигается, когда
правда выражения совпадает с чисто музыкальною, мелодическою
красотою, когда высшая правда выражения вызывает высшую красоту музыки.
И тогда совершенство не просто в идеале, оно существует и на оперной
сцене: в операх Глюка и Моцарта, также во многих местах опер Мегюля,
Керубини, Россини и Вебера. [...]
А. Н. Серов, Избранные статьи, т. I, стр. 373—375.
693
РУСАЛКА. ОПЕРА А. С. ДАРГОМЫЖСКОГО
(1856)
[...] Все знают очень хорошо, что такое опера вообще, знают, что тут
многие искусства сливаются, чтобы произвести поэтическое впечатление,
полное, всецелое, но сложенное из многих, весьма разных художественных
впечатлений. В количестве искусств, которые по идеалу оперы должны
в ней участвовать, чтоб дать один общий результат, в этом «счете»
музыкальные эстетики и до сих пор не совсем согласны. По моему убеждению,
в составных элементах «оперы» всего удобнее видеть тройственность.
1) Элемент поэтической канвы (содержание, смысл оперы как пьесы);
2) элемент музыкальный (выражение смысла музыкою); 3) элемент
сценический, театральный (осуществление смысла текста и музыки —
видимым пластическим образом на театральной сцене).
Каждый из этих трех элементов (текста, музыки и постановки) может
более или менее преобладать в данной опере или в некоторых ее частях,
но при совершенном отсутствии любого из трех элементов исчезает
понятие оперы. Из такого деления ясно, что, например, явная несообразность
музыки с текстом (как в иных итальянских операх «бравурной» школы)
разрушает идеал оперы, но столько же (если не больше) разрушает его
противоречие между тем, что требуется задачей пьесы и сообразной ей
музыкой, и тем, что мы видим на сцене (в постановке и в игре актеров).
Ясно также, что если для канвы оперной, для создания «содержания»
поэтически интересного, требуется деятельность поэта, который бы ясно
сознавал условия музыкальной драмы и сценического дела, то для музыки
оперы требуется поэт в звуках, который бы ясно сознавал условия драмы
и сцены; наконец, и для внешнего воплощения оперы на «сцене»
необходима кроме автора текста и композитора еще третья поэтически
просветленная деятельность, которая бы создала художественно постановку (во
всем ее обширном смысле), игру актеров (в главных чертах, то есть груп-
пированье, время выхода и другие иногда чрезвычайно тонкие подробности
режиссерской части), так, чтобы актеры, а также декораторы, машинисты,
костюмеры и проч. состояли от этой «третьей» создающей власти в такой
же зависимости, как музыканты оркестра и певцы (в смысле
«музыкальных» исполнителей) находятся в зависимости от партитуры и от
капельмейстера.
Идеальное равновесие трех зиждительных элементов в опере
(собственно поэтического, музыкального и театрального) встречается в
чрезвычайно редких случаях, то есть при возможно высоких дарованиях автора
текста и композитора и при непосредственном, просвещенном их влиянии
на постановку и на исполнение.
Там же, стр. 255.
[...] Слово «народность» в применении к музыкальном}' искусству имеет
три значения весьма различные, но еще довольно часто смешиваемые.
А именно:
694
1) Значение национальности сообразно тому, какой нации, какой земле
принадлежит художник.
2) Значение народности как популярности—в зависимости от публики,
на которую рассчитывает художник, и от характера его таланта.
3) Значение национальности же в смысле местного колорита,
сообразно сюжету музыки.
Первая из этих категорий совпадает почти совершенно с понятием
«школа», то есть стиль музыки, как он выработался в данную эпоху у
данного народа. Собственно национальность — в тесном смысле слова — не
имеет столько важного значения в музыке, как, например, в литературе.
Во-первых, потому, что музыка — искусство общечеловеческое, так как
органом своим имеет поэтический язык, более или менее доступный всем
образованным народам, во-вторых, потому, что мы видим беспрестанные
примеры, как композиторы из расчетов или по влечению художественной
натуры более или менее отклоняются от своей природной национальности,
а иногда и совсем оставляют ее в стороне, чтобы служить под чужими
знаменами. [...]
Значение народности как популярности музыка получает от
соединения многих причин, иногда чисто случайных (как и самый успех
произведения в публике). Что популярность вовсе не то, что национальность, и не
то, что местный колорит, можно видеть из многих примеров. «Фрейшюц» —
опера чисто национально-немецкая и сделалась в высшей степени
«популярна».
Другая опера того же Вебера — «Эврианта», не менее типически
немецкая, как и «Фрейшюц», популярности не имела никакой. [...]
Итак, популярность —- особенное качество, скорее случайное, по
крайней мере такое, за которым, как за элементом успеха, композитор не
должен особенно гоняться. В «идеал» оперного стиля это качество входить
не должно, потому что расчет именно на это качество может чрезвычайно
опошлить стиль. Но, с другой стороны, элемент популярности очень
«желателен» для композитора и может не вредить делу (доказательством —
многие гениальные мелодии из «Волшебной флейты», в высокой степени
изящные и чрезвычайно популярные). Стоит только помнить, что
слушатели оперы — масса публики, и что размер театральной музыки не
допускает форм слишком дробных и сложных. Оперная музыка должна быть
проста и постоянно красива, тогда будет и общедоступна, следовательно,
популярна.
Остается слово национальность в третьем значении, как местный
колорит. [...]
Следует ли поставить неизменным законом для опер, что если на сцене
норвежцы, то они должны петь по образцу «норвежских мелодий», а если
турки, то по образцу турецких, если греки, то по образцу греческих (хотя
ни турки, ни новейшие эллины народ вовсе не музыкальный)? Следует ли
жертвовать «местному колориту» красотой музыки? Вопросы, на которые
отвечать нетрудно.
695
Только надобно заметить, что есть, то есть! — Что уже внесено в
искусство, получило в нем гражданство, живет в нем и во многих случаях
прибавляет некоторую освежительную красоту, тому противиться не будет ни
один истинный художник. Все дело только в том, как помирить эти
требования с общим «идеалом», который живет в душе художника.
Современный нам композитор с талантом не может сделать грубых промахов
против местного колорита, не заставит итальянских мужиков распевать
русские песни, ни русских мужиков распевать итальянские арии, точно так,
как в современной нам постановке на сцену античной трагедии греческие
герои не ходят более во французских кафтанах и напудренных
париках. [...]
Там же, стр. 275—277.
М. П. МУСОРГСКИЙ
1839—1881
Эстетические взгляды М. П. Мусоргского — автора народных музыкальных драм
«Борис Годунов» и «Хованщина», комической оперы «Сорочинская ярмарка»,
романсов, песен и инструментальных произведений — явились прямым выражением тех
идейно-художественных задач, которые практически решались в его творчестве.
Активная социальная роль музыки, реализм, народность, новаторство — таковы
основные проблемы, затрагиваемые в его эстетических высказываниях и
декларациях. Своим взглядам Мусоргский стремился придать «серьезное, строго научное
направление». Он был знаком с сочинениями философов-материалистов (в том
числе с «Системой природы» Гольбаха). Значительное влияние оказали на него
сочинения Чернышевского.
«Жизнь, где бы ни сказалась, правда, как бы ни была солона; смелая и
искренняя речь людям à bout portant [в упор] — вот моя закваска, вот чего хочу и вот
в чем боялся бы промахнуться» 1 — таков девиз Мусоргского. Называя
Даргомыжского «великим учителем музыкальной правды», он сам стремился прежде всего
к правде, истине в искусстве, достигнув небывалой до того реалистической силы
музыки. Одним из путей к этому для Мусоргского было музыкальное претворение
интонаций живой человеческой речи. Создать живого человека в живой музыке —
гакова была его высшая цель. Мусоргский обращался к прямому изображению
народной жизни в вокальных и музыкально-сценических произведениях. Отображение
переломных моментов в исторических судьбах народа, трагедии угнетенных масс
роднит Мусоргского с В. Суриковым. «Прошедшее в настоящем — вот моя
задача» 2,— говорил композитор. «Я разумею народ как великую личность
одушевленную, одушевленную единою идеею. Это моя задача. Я попытался разрешить ее
в опере»,— писал Мусоргский о «Борисе Годунове» 3.
1 М. П. Мусоргский, Письма и документы, М.—Л., Музгиз, 1932, стр. 342.
2 Τ а м же, стр. 217.
8 «Композиторы Могучей кучки об опере», М., Музгиз, 1955, стр. 187.
696
Задача эта была подлинно новаторской. Мусоргский сознавал себя «бойцом за
правую мысль искусства» К Отсюда его стремление «создать жизненное явление
или тип в форме, им присущей, не бывшей до того ни у кого из художников».
Стремление вперед «к новым берегам!»2 было постоянным стимулом его творчества.
ИЗ ПИСЬМА В. В. СТАСОВУ
от 18 октября 1872 года
[...] Художественное изображение одной красоты, н материальном ее
значении,— грубое ребячество — детский возраст искусства. Тончайшие
черты природы человека и человеческих масс, назойливое ковырянье в этих
малоизведанных странах и завоевание их — вот настоящее призвание
художника. «К новым берегам!» бесстрашно сквозь бурю, мели и
подводные камни, «к новым берегам!» Человек—животное общественное и не
может быть иным; в человеческих массах, как в отдельном человеке, всегда
есть тончайшие черты, ускользающие от хватки, черты, никем не
тронутые: подмечать и изучать их в чтении, в наблюдении, по догадкам, всем
нутром изучать и кормить ими человечество, как здоровым блюдом,
которого еще не пробовали.— Вот задача-то! восторг и присно восторг! [...]
М. П. Мусоргский, Письма и документы, М.—Л.,
Музгиз, 1932, стр. 233.
ИЗ ПИСЬМА В. В. СТАСОВУ
от 2 января 1873 года
[...] Если наши обоюдные попытки сделать живого человека в живой
музыке будут поняты живущими людьми: если прозябающие люди кинут
в нас хорошим комом грязи; если музыкальные фарисеи распнут нас —
наше дело начнет делаться и будет делаться тем шибче, чем жирнее будут
комья грязи, чем яростнее будут хрипеть о пропятии. Да, скоро на суд!
Весело мечтается о «Хованщине» в то время, когда нас судят за «Бориса»;
бодро, до дерзости смотрим мы в дальнюю музыкальную даль, что нас
манит к себе, и не страшен суд. [...]
Там же, стр. 238—239.
ИЗ ПИСЬМА А. А. ГОЛЕНИЩЕВУ-КУТУЗОВУ
от 2 марта 1874 года
[...] Для современного художника отвлечение в идеал собственной
задачи этого художника есть только половина, а то и частица труда в смысле
1 М. П. Мусоргский, Письма и документы, стр. 349.
2 Τ а м же, стр. 233.
697
творчества: такое отвлечение невольно настигает его как способ к
ориентированию — та же подневольная потреба в чувстве самосохранения. В одной
правоте отвлечения своей задачи в идеал, хотя бы создание при таких
условиях и росло на твердой почве, еще не должно и не может
умиротворить бунтующего, пытливого духа истинного художника. Идеал должен
воплотиться в духе времени, избранного художником, и обществу людей,
нечувствительно для него самого (общества), безболезненно,
ненасильственно. Художник должен повелеть постигнуть всецело избранное им
событие, вдохновиться им, и должен повелеть с любовью, как страстно
обожаемая женщина.
Художественное обличение духа времени требует возможно редкого
напоминания обществу современного его [общества] интересам склада,
характера речи и способа выражений,— чем открытее и чище истинный,
а не видимый только горизонт, тем легче и цельнее воспримет и
вдохновится общество. [...]
М. П. Мусоргский, Письма к А. А. Голенищеву-
Кутузову, M.-—JL, Музгиз, 1939, стр. 32.
ИЗ ПИСЬМА А. А. ГОЛЕНИЩЕВУ-КУТУЗОВУ
от 6 сентября 1875 года
[...] Поговорим о нашем скромном мире художества, запремся на малое
время в уютный уголок и из него, близкие жизни и людям, но далекие
трескучим тирадам о праве, свободе, протесте, глянем жизни смело в
глаза. Это надо, потому что надо говорить людям правду, не трескучую, а
настоящую правду. За шумихой условных, quasi художественных
приемов, безусловных и, следовательно, вовсе не художественных форм
человечество упрятало само себя, добровольно и даже с наслаждением, едва
ли не безвозвратно упрятало, потому что «не взойти никогда солнцу с
запада». Мне сдается, что, за редкими исключениями, люди не терпят видеть
себя, какими они в самом деле бывают; естественно влечение людей даже
самим себе казаться лучшими. Но в том-то и юродство, что минувшие
и настоящие — теперешние художники, показывая людям людей же
лучше, чем они суть, изображают жизнь хуже, чем она есть. Непримиримые
староверы гнусят, что это необходимо для яркости красок; переходчивые,
качаясь как маятник, пошептывают, что задачи художества еще
недостаточно выяснились; радикалы голосят, что только мошенник может создать
художественно тип мошенника (и согласные с таким понятием параллели).
Все три фракции могут легко примириться, и такое примирение будет
несравненно полезнее борьбы в воздушном пространстве, когда природа не
дала крыльев держаться в нем. Штука проста: художник не может
убежать из внешнего мира, и даже в оттенках субъективного творчества
отражаются впечатления внешнего мира. Только не лги — говори правду. Но
698
эта простая штука тяжела на подъем. Художественная правда не терпит
предвзятых форм; жизнь разнообразна и частенько капризна; заманчиво,
но редкостно создать жизненное явление или тип в форме, им присущей,
не бывшей до того ни у кого из художников. [...]
Там же, стр. 54—55.
ИЗ ПИСЬМА В. В. СТАСОВУ
от 16 и 22 июня 1872 года
[...] Черноземная сила проявится, когда до самого днища ковырнешь.
Ковырнуть чернозем можно орудием состава ему постороннего. И
ковырнули же в конце XVI 1-го Русь-матушку таким орудием, что и не
распознала сразу, чем ковыряют, и как чернозем раздалась и дыхать стала. Вот
и восприяла, сердечная, разных действительно и тайно статских
советников, и не дали ей, многострадальной, опомниться и подумать: «куда
прет?» — Сказнили неведущих и смятенных: сила! А приказная изба все
живет и сыск тот же, что и за приказом; только время не то:
действительно и тайно статские мешают чернозему дыхать. Прошедшее в настоящем—
вот моя задача.
«Ушли вперед!»—Врешь,«там же!» Бумага, книга ушли — мы там
же. Пока народ не может проверить воочию, что из него стряпают, пока не
захочет сам, чтобы то или то с ним состряпалосъ — там же! Всякие
благодетели горазды прославиться, документами закрепить препрославление, а
народ стонет, а чтобы не стонать, лих упивается и пуще стонет: там же!..
М. П. Мусоргский, Письма и документы, стр. 217.
ИЗ ПИСЬМА И. Е. РЕПИНУ
от 13 июня 1873 года
[...] Народ хочется сделать: сплю и вижу его, ем и помышляю о нем,
пью — мерещится мне он, он один, цельный, большой, неподкрашенный
и без сусального. И какое страшное (воистину) богатство народной речи
для музыкального типа, пока не всю Русию исколоворотили чугунки!
Какая неистощимая (пока опять-таки) руда для хватки всего настоящего
жизнь русского народа! Только ковырни — напляшешься, если истинный
художник. [...]
Там же, стр. 251.
ИЗ ПИСЬМА В. В. СТАСОВУ
от 13 июля 1872 года
[....] Границы искусства в сторону — я им верю только очень
относительно, потому что границы искусства в религии художника равняются
699
застою. Что из того, что чьи-то великолепные мозги не додумались; ну
а другие чьи-то мозги думали и додумались — где же тут границы? А
относительно — да! звуки не могут быть резцом, кистью — ну, конечно, как
у всякого лучшего есть свое слабое и наоборот — это и дети знают. [...]
Там же, стр. 223—224
ИЗ ПИСЬМА А. А. ГОЛЕНИЩЕВУ-КУТУЗОВУ
от 15 августа 1877 года
[...] Как только настоящая, чуткая природа художника создаст в
области слова, так музыканту предстоять должно «вежливенько» отнестись
к созданному, вникнуть в самую суть, в самое существо того, что намерен
воплотить музыкант в музыкальную форму.
Настоящее, истинно художественное не может быть капризным, потому
что самостоятельно не может легко воплотиться в другую художественную
форму, потому что самостоятельно и требует глубокого изучения с святою
любовью. А вот когда удастся художественное родство деятелей в той и
другой области искусства — путь добрый!
М. П. Мусоргский, Письма к А. А. Голенищеву-
Кутузову, стр. 69.
ИЗ ПИСЬМА Л. И. ШЕСТАКОВОЙ
от 30 июля 1868 года
[...] Подмечаю баб характерных и мужиков типичных — могут
пригодиться и те и другие.— Сколько свежих, не тронутых искусством сторон
кишит в русской натуре, ох сколько! и каких сочных, славных.— Частицу
того, что дала мне жизнь, я изобразил для милых мне людей в
музыкальных образах, побеседовал с милыми мне людьми своими
впечатлениями. [...] — Хотелось бы мне вот чего. Чтобы мои действующие лица
говорили на сцене, как говорят живые люди, но притом так, чтобы характер,
и сила интонации действующих лиц, поддерживаемые оркестром,
составляющим музыкальную канву их говора, прямо достигали своей цели, то
есть моя музыка должна быть художественным воспроизведением
человеческой речи во всех тончайших изгибах ее, то есть звуки человеческой
речи, как наружные проявления мысли и чувства, должны без утрировки
и насилования сделаться музыкой правдивой, точной, но художественной,
высокохудожественной. Вот идеал, к которому я стремлюсь. [·.·]
М. П. Мусоргский, Письма и документы, стр. 142.
700
ИЗ ПИСЬМА В. В. СТАСОВУ
от 25 декабря 1876 года
[...] Нынешнее мое желание — сделать pronostic !, и вот какой он —
этот pronostic: жизненная, не классическая мелодия. Работою над говором
человеческим я добрел до мелодии, творимой этим говором, добрел до
воплощения речитатива в мелодии (кроме драматических движений bien
entendu2, когда и до междометий дойти может). Я хотел бы назвать это
осмысленною оправданною мелодией. И тешит меня работа: вокруг,
неожиданно-несказанно, пропето будет враждебное классической мелодии
(столь излюбленной) и сразу всем и каждому понятное. Если достигну —
почту завоеванием в искусстве, а достигнуть надо. [...]
Там же, стр. 361.
Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
1.844-1908
Музыкально-эстетические воззрения великого русского композитора Н. А.
Римского-Корсакова определялись заветами основоположника русской музыкальной
классики М. И. Глинки и программой «Могучей кучки», в лоне которой
сформировалось его творчество. Склонность композитора к теоретическим обобщениям, к фи-
лософско-эстетическому мышлению нашла выражение в его «Летописи моей
музыкальной жизни», статьях и письмах, беседах с друзьями (записанных В. В. Ястреб-
цовым).
В начале 90-х годов Римский-Корсаков задумывает книгу «О поэтических
представлениях в музыке», но оставляет этот замысел неосуществленным. Он серьезно
изучает философию и эстетику и пишет книгу об эстетике музыкального искусства,
но не заканчивает ее и уничтожает рукопись, от которой сохранились отдельные
фрагменты. Тем не менее эстетические суждения Римского-Корсакова достаточно
многочисленны и систематичны.
Для Римского-Корсакова музыка — искусство образное, содержательное, идейно
значительное. Ее содержание коренится в жизни народа. Композитор
отрицательно относился к книге Э. Ганслика «О музыкально-прекрасном», в которой
доказывалось, что «содержание музыки — это движущиеся музыкальные формы», что
музыка подобна арабеске или «движущейся архитектуре» и чужда эмоциональной,
смысловой и изобразительной конкретности.
В подготовительных набросках к книге по музыкальной эстетике
Римский-Корсаков подробно останавливался на выразительных и изобразительных возможностях
музыки, доказывая его содержательность и образность. Неоднократно выступал он
и против натурализма в различных его проявлениях. Считая, что программа помо-
1 Прогноз,
2 Разумеется (франц.),
701
гает восприятию музыки, Римский-Корсаков вместе с тем предостерегал против
«искания слишком определенной программы», против «сковывающей воображение
слушателей обязательной канвы». Он проводил четкую грань между
реалистической содержательностью, идейной целенаправленностью музыки и
вульгарно-натуралистической трактовкой ее.
[ФРАГМЕНТЫ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ]
Музыка, как основное созидательное искусство, есть искусство
поэтической мысли, выраженной в красоте музыкальной тоническо-ритмическои
ткани.
В действительности всякий талантливый художник должен быть
одновременно и техником и поэтом, и его личная характеристика зависит лишь
от преобладания того или другого. Понятно, что одною техникою нельзя
создать настроения, но ведь и одним поэтическим чутьем нельзя создать
произведения. В первом случае имеется «позитив» без негатива, во втором
есть только негатив, а позитив отсутствует.
Н. А. Римский-Корсаков, Музыкальные статьи
и заметки, Спб., 1911, стр. 209—210.
Если с понятием о высших музыкальных способностях, которые мы
согласимся назвать музыкальным дарованием, мы связываем склонность
к музыке, то с понятием о таланте возникает представление о любви к
искусству, которая с гениальностью таланта возрастает до страсти.
Там же, стр. 59.
Содержанием произведений искусства служит жизнь человеческого
духа и природы в ее положительных и отрицательных проявлениях,
выраженная в их взаимных отношениях. Для передачи этого содержания
искусство располагает следующими средствами: а) начертанные, осязательные
или живые образы; б) игра сочетаний линий, цветов или звуков; в)
человеческая речь. В зависимости от этих средств искусства получают
разнообразные формы. Произведения искусства представляют тождество,
большее или меньшее равновесие или различные степени преобладания между
содержанием и формой в количественном отношении и большую или
меньшую степень совершенства в качественном. Коррелятивами
представления о поэзии и искусстве являются представления о прозаичном и
ремесле. Отношение между первыми и вторыми то же, что между
бесконечностью и конечностью, совершенством и несовершенством.
Там же, стр. 211.
Голое звукоподражание, конечно, унижает значение музыкального
искусства, но такое звукоподражание в художественном произведении и
не существует.
702
Все перечисленные ранее звуковоспроизведения через посредство
неизбежных ассоциаций отнюдь не отнимают у музыки другой ее стороны,
стороны неопределенных чувств и настроений, обыкновенно принимаемых
за исключительно принадлежащие ей сущности, а наоборот, усиливают их.
Живопись и скульптура хотя и не лежат во времени, но передают
движение посредством лишь сопровождающих его признаков (в очертаниях),
а не само по себе как таковое; музыка, не лежа в пространстве, передает
образы посредством сопровождающих их признаков (движения и его
характера).
Аналогия же между красками и световыми представлениями в
живописи и между гармоническими образованиями и тембровыми явлениями
тоже несомненна. Остается уметь слушать музыку.
Там же, стр. 217—218.
ИЗ ПИСЬМА С. Н. КРУГЛИКОВУ
[...] Чистая мелодия, шедшая от Моцарта, через Шопена и Глинку, жива
поныне и должна жить, без нее судьба музыки — декадентство. Было
время, когда и бетховенские темы считались плохими, а превозносили
Бетховена за дополнения, за ходообразные места, за разные ритмические и
гармонические выходки. В Листе и Берлиозе контрапункт, как представитель
совместных мелодий, пал совершенно, пал он и в русской школе. Надо
отличать пошлость и рутину от справедливых требований как музыкантов
по ремеслу, так и публики. Когда певец доволен романсом не пошлым, то
это говорит только в пользу романса; когда капельмейстер доволен пьесой
не вследствие балаганных эффектов или вычурных пианиссимо, то это
говорит в пользу пьесы... Я твердо верю в близкий (сравнительно) конец
музыкального искусства, хотя на нас и на наших детей его еще хватит.
Хочется его пока поддержать и не лезть очертя голову в яму...
А. Н. Римский-Корсаков, Н. А. Римский-Кор-
саков. Жизнь и творчество, вып. IV, М., Музгиз, 1937,
стр. ИЗ.
П. И. ЧАЙКОВСКИЙ
1840-1893
Великий русский композитор П. И. Чайковский оставил весьма богатое
эпистолярное и литературно-критическое наследие. Наряду с оценками явлений
музыкальной жизни и сведениями о собственном творчестве в нем содержится немало
суждений о музыке общеэстетического характера.
Чайковский понимал реализм прежде всего как правду лирико-психологиче-
ского содержания музыки. Внутренний мир человека был главным предметом его
703
творческого внимания. Отсюда и в суждениях о природе музыки на первый план
выходили критерии «искренности», «верности чувства», «правды переживания».
Чайковский стремился к массовости и доступности музыки, к ее
общенародному распространению, что нашло отражение и в его суждениях об искусстве.
Высоко ценил композитор народное и национальное своеобразие творчества.
Чайковский в равной мере отвергал и пустую развлекательность и
академический формализм.
Ни один из деятелей русского искусства не оставил столь большого количества
суждений о природе творческого процесса. Чайковский развивает интересные мысли
о соотношении «вдохновения» и труда в творческом процессе.
Большую ценность имеют также суждения Чайковского о специфических
закономерностях симфонической и оперной музыки, о программности и о композиторском
мастерстве.
ПИСЬМО Н. Ф. фон МЕКК
от 17 февраля (1 марта) 1878 года
[...] Вы спрашиваете меня, есть ли определенная программа этой
симфонии? Обыкновенно, когда по поводу симфонической вещи мне
предлагают этот вопрос, я отвечаю: никакой. И в самом деле, трудно отвечать
на этот вопрос. Как пересказать те неопределенные ощущения, через
которые переходишь, когда пишется инструментальное сочинение без
определенного сюжета? Это чисто лирический процесс. Это музыкальная
исповедь души, в которой много накипело и которая по существенному
свойству своему изливается посредством звуков, подобно тому как лирический
поэт высказывается стихами. Разница только та, что музыка имеет
несравненно более могущественные средства и более тонкий язык для
выражения тысячи различных моментов душевного настроения. Обыкновенно
вдруг, самым неожиданным образом, является зерно будущего
произведения. Если почва благоприятная, то есть если есть расположение к
работе, зерно это с непостижимою силою и быстротою пускает корни,
показывается из земли, пускает стебелек, листья, сучья и, наконец, цветы.
Я не могу иначе определить творческий процесс, как посредством этого
уподобления. Вся трудность состоит в том, чтобы явилось зерно и чтоб
оно попало в благоприятные условия. Все остальное делается само собою.
Напрасно я бы старался выразить Вам словами все неизмеримое
блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась новая мысль
и когда она начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь все,
делаешься точно сумасшедший, все внутри трепещет и бьется, едва
успеваешь начинать эскизы, одна мысль погоняет другую. Иногда посреди
этого волшебного процесса вдруг какой-нибудь толчок извне разбудит от
этого состояния сомнамбулизма. Кто-нибудь позвонит, войдет слуга,
прозвонят часы и напомнят, что нужно идти по делу... Тяжелы, невыразимо
тяжелы эти перерывы. Иногда на несколько времени вдохновение отле-
704
тает; приходится искать его, и подчас тщетно. Весьма часто совершенно
холодный, рассудочный, технический процесс работы должен прийти на
помощь. Может быть, вследствие этого и у самых великих мастеров можно
проследить моменты, где недостает органического сцепления, где
замечается шов, части целого, искусственно склеенные. Но иначе невозможно. Если б
то состояние души артиста, которое называется вдохновением и которое
я сейчас пытался описать Вам, продолжалось бы беспрерывно, нельзя
было бы и одного дня прожить. Струны лопнули бы, и инструмент
разбился бы вдребезги! Необходимо только одно: чтоб главная мысль и общие
контуры всех отдельных частей явились бы не посредством искания,
а сами собой, вследствие той сверхъестественной силы, которая называется
вдохновением. [...]
«Переписка П. И. Чайковского с Η. Ф. фон Мекк»,
т. I, М.—Л., «Academia», 1934, стр. 216—217.
ПИСЬМО Η. Ф. фон МЕКК
от 5/17 марта 1878 года
[...] Не верьте тем, которые пытались убедить Вас, что музыкальное
творчество есть холодное и рассудочное занятие. Только та музыка может
тронуть, потрясти и задеть, которая вылилась из глубины взволнованной
вдохновением артистической души. Нет никакого сомнения, что даже
и величайшие музыкальные гении работали иногда не согретые
вдохновением. Это такой гость, который не всегда является на первый зов. Между
тем работать нужно всегда, и настоящий честный артист не может сидеть
сложа руки под предлогом, что он не расположен. Если ждать
расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в лень и
апатию. Нужно терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому,
кто сумел победить свое нерасположение. Со мной это случилось не далее
как сегодня. Я написал Вам на днях, что хотя и работаю ежедневно, но
без увлечения. Стоило мне поддаться неохоте работать, и я бы, наверное,
долго ничего не сделал. Но вера и терпение никогда не покидают меня,
и сегодня с утра я был охвачен тем непонятным и неизвестно откуда
берущимся огнем вдохновения, о котором я говорил Вам и благодаря которому
я знаю заранее, что все написанное мною сегодня будет иметь свойство
западать в сердце и оставлять в нем впечатление. [...]
Вы спрашиваете меня, как я поступаю относительно инструментовки?
Я никогда не сочиняю отвлеченно, то есть никогда музыкальная мысль не
является во мне иначе как в соответствующей ей внешней форме. Таким
образом, я изобретаю самую музыкальную мысль в одно время с
инструментовкой. Следовательно, когда я писал Скерцо нашей симфонии, то
представил его себе именно таким, каким Вы его слышали. Оно
немыслимо иначе, как исполняемое pizzicato. Если сыграть его смычком, то оно
23 «История эстетики», т. 4 (1 полутом) '05
утратит решительно все. Это будет душа без тела; музыка его утратит
всякую привлекательность.
Относительно русского элемента в моих сочинениях скажу Вам, что мне
нередко случалось ирямо приступить к сочинению, имея в виду
разработку той или другой понравившейся мне народной песни. Иногда (как,
например, в финале нашей симфонии) это делалось само собой,
совершенно неожиданно. Что касается русского элемента в моей музыке, то есть
родственных с народною песнью приемов в мелодии и гармонии, то это
происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства, самого
раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской
народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его
проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого
слова. [...]
Там же, стр. 235—236.
ПИСЬМО Н. Ф. фон МЕКК
от 24 июня 1878 года
[...] Для артиста в момент творчества всегда необходимо полное
спокойствие. В.этом смысле художественное творчество всегда объективно, даже
и музыкальное. Те, которые думают, что творящий художник в минуты
аффектов способен посредством средств своего искусства выразить то, что
он чувствует, ошибаются. И печальные и радостные чувства выражаются
всегда, так сказать, ретроспективно. Не имея особенных причин
радоваться, я могу проникнуться веселым творческим настроением и, наоборот,
среди счастливой обстановки произвести вещь, проникнутую самыми
мрачными и безнадежными ощущениями. Словом, артист живет двойною
жизнью: общечеловеческою и артистическою, причем обе эти жизни текут
иногда не вместе. Как бы то ни было, но для сочинения, повторяю,
главное условие — возможность отделаться хоть на время от забот первой из
этих двух жизней и всецело отдаться второй. [...]
Там же, стр. 371—372.
ПИСЬМО Η. Ф. фон МЕКК
от 5/14 декабря 1878 года
[...] Что такое программная музыка? Так как мы с Вами не признаем
музыки, которая состояла бы из бесцельной игры в звуки, то, с нашей
широкой точки зрения, всякая музыка есть программная. Но в тесном
смысле под этим выражением разумеется такая симфоническая или вообще
инструментальная музыка, которая иллюстрирует известный
предлагаемый публике в программе сюжет и носит название этого сюжета. Выду-
706
мал программную музыку Бетховен, и именно отчасти в Героической
симфонии, но еще решительнее в Шестой, пасторальной. Настоящим же
основателем программной музыки следует считать Берлиоза, у которого каждое
сочинение не только носит известный заголовок, но и снабжено подробным
изъяснением, которое должно находиться в руках слушателей во время
исполнения. Ларош вообще против программы. Он находит, что
композиторы должны предоставить слушателям иллюстрировать, как им угодно,
исполняемое произведение, что программа стесняет их свободу, что
музыка не способна на изображение конкретных явлений физики и
нравственного мира, что программа низводит ее с доступной ей одной высоты до
других, низших искусств и т. д. Тем не менее он ставит высоко Берлиоза
и доказывает, что это было исключительное дарование и что хотя музыка
его может служить образцом, но тем не менее программы излишни.
Я нахожу, что вдохновение композитора-симфониста может быть
двоякое: субъективное и объективное. В первом случае он выражает в своей
музыке свои ощущения радости, страдания, словом, подобно лирическому
поэту, изливает, так сказать, свою собственную душу. В этом случае
программа не только не нужна, но она невозможна. Но другое дело, когда
музыкант, читая поэтическое произведение или пораженный картиной
природы, хочет выразить в музыкальной форме тот сюжет, который зажег
в нем вдохновение. Тут программа необходима. [.. J
Там же, стр. 531,
ПИСЬМО С. И. ТАНЕЕВУ
от 14 января 1891 года
[...] Я всегда стремился как можно правдивее, искреннее выразить
музыкой то, что имелось в тексте. Правдивость же и искренность не суть
результат умствований, а непосредственный продукт внутреннего
чувства. Дабы чувство это было живое, теплое, я всегда старался выбирать
сюжеты, способные согреть меня. Согреть же меня могут только такие
сюжеты, в коих действуют настоящие живые люди, чувствующие так же,
как и я. [...]
П. И. Чайковский — С. И. Танеев, Письма, М., Гос-
культпросветиздат, 1951, стр. 169.
ПИСЬМО Н. Ф. фон МЕКК
от 28 сентября 1883 года
[...] Конечно, с точки зрения простого здравого смысла бессмысленно
и глупо заставлять людей, действующих на сцене, которая должна отра-
23*
707
жать действительность, не говорить, а петь. Но к этому абсурду люди
привыкли, и, слушая секстет [из] «Дон-Жуана», я не думаю о том, что
происходит нечто нарушающее требование художественной правды, а
просто наслаждаюсь красотами музыки и удивляюсь поразительному
искусству, с которым Моцарт сумел каждой из шести партий секстета дать
особый характер, оттенить разными красками каждое действующее лицо,
так, что, забыв отсутствие правды в самой сущности дела, я поражен
глубиной условной правды, и восхищение заставляет умолкнуть мой
рассудок. [...]
«Переписка П. И. Чайковского с Η. Ф. фон Мекк», т. III,
1936, стр. 226—227·
С. И. ТАНЕЕВ
1856-1915
С. И. Танеев — крупный русский композитор, пианист и педагог, выдающийся
теоретик музыки. Его капитальный труд «Подвижной контрапункт строгого письма»
(1909), явившийся делом всей его жизни, составил эпоху в теоретическом
музыкознании и заложил основы отечественной полифонии (науки о музыкальном
многоголосии) .
Обладая не только незаурядным композиторским дарованием, но и
теоретическим складом ума, Танеев стремился к четкому осознанию и программной
формулировке эстетических принципов своей музыкальной деятельности. В его
переписке, записных книжках, а также основном теоретическом труде содержатся
оригинальные и важные для развития музыкального искусства эстетические
идеи.
Общая идея народности музыкального искусства в высказываниях Танеева
получает своеобразное преломление. Будучи глубоко убежденным в том, что «прочно
только то, что корнями своими гнездится в народе», Танеев считал, что новые и
оригинальные формы русской музыки могут быть найдены только на основе
применения к обработке русской народной песни всего богатства музыкальной техники,
выработанной в развитии мирового искусства. Рассматривая формы
западноевропейской музыки как результат развития возможностей, заложенных в народном
искусстве, Танеев утверждал, что русские композиторы должны не механически
перенимать эти формы, а искать и создавать новые, стараясь «приложить к русской
песне ту работу мысли, которая была приложена к песне западных народов».
И пусть танеевская идея создания русской фуги и русского контрапункта не
вполне оправдала себя и осталась лишь его индивидуальным достоянием, но мысль об
обновлении и развитии форм музыкального искусства на основе применения к
русской народной песне всего богатства и европейской техники (в том числе
контрапунктической) была необычайно прогрессивной и отражала общие устремления
русских композиторов.
708
Исходя из убеждения о народных основах музыкального искусства и глубокой
национальной самобытности русской культуры, Танеев подвергал критике
декадентские тенденции зарубежной музыки, ведущие к разрушению тональности,
измельчанию и распаду музыкальных форм. Сторонник здорового, реалистического
искусства, он выступал против всякого рода рафинированной изысканности и манерной
утонченности, заводящих искусство в тупик. Видя, что «музыка в Европе мельчает»,
Танеев отстаивал глубокую национальную самобытность и реалистические основы
развития русского музыкального искусства.
Большое место в эстетических высказываниях Танеева занимают вопросы
творческого процесса композитора. Сочинение музыки Танеевым не было лишено
налета некоторой рационалистичности: он редко писал произведение или его часть
в целом, а обычно делал множество набросков, эскизов и вариантов каждого
небольшого эскиза, выявляя внутренние образные и технические возможности,
заложенные в каждой теме. По поводу метода сочинения музыки у него возник спор
в переписке с Чайковским (учителем и другом Танеева), упрекавшим его в
недостатке вдохновения и рассудочности творчества. Однако кантатой «Иоанн Дамас-
кин, сочетавшей высокое мастерство с эмоциональной непосредственностью
музыки, Танеев убедил Чайковского в правомерности и своего творческого метода.
Мысли Танеева о путях развития музыкального искусства и о творческом
процессе композитора — яркая страница русской музыкальной эстетики.
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
[...] Формы западноевропейской музыки (сонаты, симфонии и т. д.)
образовались постепенно. Они развились из фуги. Фуга в свою очередь
произошла от контрапунктирования народных и церковных мелодий. Ни
одна форма не образовалась случайно, все формы вытекали необходимо
из предыдущих. В основании всей европейской музыки, таким образом,
лежат народные песни и церковные мелодии. Несколько столетий люди их
обрабатывали, результат — западноевропейские формы. Таким образом,
эти народные мелодии заключали в возможности (in potentia) всю
теперешнюю европейскую музыку. Стоило к ним приложить мысль
человеческую, чтобы они обратились в богатые формы. [...]
Задача каждого русского музыканта заключается в том, чтобы
способствовать созданию национальной музыки. История западной музыки
отвечает нам на вопрос, что для этого нужно делать: приложить к русской
песне ту работу мысли, которая была приложена к песне западных
народов, и у нас будет нциональная музыка. Начать с элементарных
контрапунктических форм, переходить к более сложным, выработать форму
русской фуги, а тогда до сложных инструментальных форм один шаг.
Европейцам на это понадобилось несколько столетий, нам время
значительно сокращается. [...]
Сб. «С. И. Танеев. Материалы и документы», т. 1, М.,
Музгиз, 1952, стр. 73—74.
709
ПИСЬМО П. И. ЧАЙКОВСКОМУ
от 18 августа 1880 года
[...] В основании европейских музыкальных форм лежат народные и
церковные мелодии, из которых эти формы выросли. Употреблю для
пояснения моей мысли сравнение хотя банальное, но удобное. Европейские
мелодии — зерно, из которого выросло целое дерево; наши — зерно,
которое только пускает ростки. Европейцам выбора нет: они могут только
продолжать растить свое дерево. У нас выбор есть: мы можем, с одной
стороны, способствовать росту европейского дерева, а с другой,
воспитывать собственные ростки. В этом смысле я и говорю, что европейцы
фатально увлекаются на свой теперешний путь: у них одна дорога, а у нас
две. [...] Моя мысль заключается в том, что русский оттенок в музыке
с течением времени будет получать все более и более определенный
характер и из него выработается стиль, существенно отличный от европейского.
Я нисколько не проповедую отчуждения от Европы, напротив, мы должны
у европейцев учиться, что мы и делаем. [...]
П. И. Чайковский — С. И. Танеев, Письма, Гос-
культпросветиздат, 1951, стр. 58.
ПИСЬМО П. И. ЧАЙКОВСКОМУ
от 6 августа 1880 года
[...] Музыка в Европе мельчает. Ничего соответствующего высоким
стремлениям человека. В теперешней европейской музыке в
совершенстве выражается характер людей ее пишущих, людей утонченных,
изящных, несколько слабых, привыкших или стремящихся к удобной
комфортабельной жизни, любящих все пикантное. Какие люди, такая и музыка.
Но надо быть точным в выражениях. Нельзя говорить: наше время такое,
наша музыка такова — это неверно; говорите: музыка западных народов
переживает такое время — это будет верно. Но не распространяйте этого
на нас. На Западе музыка в течение тысячелетия идет своею дорогою,
и теперешнее ее положение необходимо следует из предыдущего. Ее
музыканты фатально увлекаются на тот путь, которым следуют. Классический
век ее прошел, она впадает в манерность, в мелочность. [...] Не надо
забывать, что прочно только то, что корнями своими гнездится в народе.
У западных народов каждое искусство, прежде чем слиться в общее
русло, было национальным. Это общее правило, от которого не уйдешь.
Нидерландцы писали свои сочинения на народные песни; грегорьянские
мелодии, на которых основаны сочинения итальянцев XVI столетия, были
прежде народными мелодиями; Бах создал немецкую музыку из хорала—
опять народная мелодия. Те из средневековых писателей, которые, желая
быть общеевропейскими, писали по-латыни, забыв свой собственный
язык,— не создали ничего прочного. Когда же другие начали писать на
710
своем языке и с течением времени довели его до высокой степени
развития, тогда только сделалось возможным появление действительно
общечеловеческих творений, как, например, «Фауста» Гёте, трагедий
Шекспира и т. д. Грубый, грязный и страдающий народ бессознательно копит
материалы для созданий, удовлетворяющих высшим потребностям
человеческого духа. Мне было весьма приятно услышать на пушкинском
празднике подробность его биографии, дотоле мне неизвестную, именно:
под конец жизни он записывал народные выражения, прислушивался,
как говорит народ. «Надо учиться русскому языку у просвирен»,— его
подлинные слова. Эти слова мы должны помнить и обращать свои взоры
к народу. [...]
Там же, стр. 54—55.
ПОДВИЖНОЙ КОНТРАПУНКТ СТРОГОГО ПИСЬМА
(1909)
Заступившая место церковных ладов, наша тональная система теперь
в свою очередь перерождается в новую систему, которая стремится
к уничтожению тональности и замене диатонической основы гармонии
хроматическою, а разрушение тональности ведет к разложению
музыкальной формы. Последовательное проведение принципа, что каждый
аккорд может следовать за каждым другим на хроматической основе, лишает
гармонию тональной связи и исключает из нее те элементы, которые
расчленяют произведение на отделы, группируют мелкие части в крупные и
скрепляют все в одно органическое целое. Гармония строгого письма,
в которой каждый аккорд мог следовать за каждым другим, хотя и на
диатонической основе, еще не имела формирующего элемента тональности.
Новая гармония, в той форме, которую она теперь принимает и которую
Фетис называет «омнитональною», вновь исключает этот элемент. Вся
разница в том, что диатоническая основа заменилась хроматическою.
Омнитональная гармония, обогащаясь новыми сочетаниями, в то же время
лишает себя тех сильных средств воздействия, которые связаны с
тональными функциями. Устойчивое пребывание в одной тональности,
противополагаемое более или менее быстрой смене модуляций, сопоставление
контрастирующих строев, переход постепенный или внезапный в новую
тональность, подготовленное возвращение к главной — все эти средства,
сообщающие рельефность и выпуклость крупным отделам сочинения и
облегчающие слушателю восприятие его формы, мало-помалу исчезают из
современной музыки. Отсюда измельчание строения отдельных частей и
упадок общей композиции. Цельные, прочно спаянные музыкальные
произведения являются все реже и реже. Большие произведения
создаются не как стройные организмы, а как бесформенные массы
механически связанных частиц, которые можно по усмотрению переставлять и
заменять другими.
711
Для современной музыки, гармония которой постепенно утрачивает
тональную связь, должна быть особенно ценною связующая сила
контрапунктических форм. Бетховен в последних произведениях, обращаясь
к техническим приемам старых контрапунктистов, указывает наилучший
путь для последующей музыки. Современная музыка есть
преимущественно контрапунктическая. Не только обширные оркестровые сочинения,—
где обилие самостоятельных голосов нередко доходит до запутанности и
неясности,— или оперы, основанные на контрапунктически
разрабатываемых лейтмотивах, но даже пьесы незначительного размера редко
обходятся без участия контрапункта. Изучение свободного контрапункта
составляет поэтому для современного композитора необходимое условие
технической подготовки. [...]
«Подвижной контрапункт строгого письма», М., Муз-
гиз, 1959, стр. 9—10·
[МЫСЛИ О СОБСТВЕННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ]
[...] Вещи небольшого объема (например, романсы, хоры без
сопровождения и т. п.) сочиняются различно: иные сразу как импровизация в уме
или за ф.-п., другие возникают постепенно. Вчитываясь в текст вокального
сочинения, я записываю приходящую тут же на мысль музыку к тем или
иным отдельным стихам. При возвращении вновь к той же работе другие
части стихотворения получают сопровождающую их музыку, которая
вскоре приходит в окончательный вид. Иногда ту же работу произвожу,
пользуясь фортепиано. Обыкновенно первый набросок определяет
характер всей пьесы, но иногда по мере обдумывания первоначальные мысли
заменяются новыми и сочинение приобретает совсем другой характер, чем
тот, какой первоначально представлялся воображению. Последние годы
при сочинении мелких вещей я работаю сразу над целою их серией,
переходя от одной пьесы к другой, что чрезвычайно ускоряет работу, и
приступая к детальной выработке не прежде, чем сделаны предварительные
эскизы для целого ряда небольших сочинений. Бывает, что пьесы,
которые накануне почти не подвигались вперед, на другой день приходят
вполне в окончательный вид — по-видимому, в разные дни бываешь
расположен к различного рода работе.
Крупные вещи сочиняются несколько иначе. Часто бывает так, что
среди музыкальных мыслей, пробегающих в голове, какая-нибудь одна
останавливает на себе преимущественное внимание, при этом тут же
выясняется, что это есть основная мысль сочинения (или отдельной его
части) и какая именно. Такая выделившаяся из прочих музыкальная
мысль упорно западает в память, и к ней невольно мысленно
возвращаешься. Проходит много времени, иногда несколько лет, и мысль эта
возвращается, но не влечет за собою никакого дальнейшего продолжения. Для
712
того чтобы сдвинуться с этой мертвой точки, нужны усилия воли, нужно
твердое решение приступить к продолжению сочинения, начало которого
давно уже вертится в голове. Если сочинение должно состоять из
нескольких частей, то я приступаю собственно к сочинению не ранее, чем уясню
себе характер последующих частей, непременно в соотношении с
начальной частью, и часто не ранее, чем для каждой из них не остановлюсь на
определенных темах. В большинстве моих сочинений все части связаны
общим тематическим материалом, так что приходится при выработке
сочинения обдумывать то одну, то другую часть. Из практических
соображений я чаще всего окончательную выработку начинаю с финала, чтобы
он не был слабее других частей, написан со свежими силами, чтобы яснее
видеть, к чему должны привести предшествующие части (если начинать
сочинение в хронологической последовательности частей, то к последней
части утомляешься и не можешь бороться с собой и не желать во что бы
то ни стало поскорей кончить сочинение — причина, почему финалы
зачастую слабее других частей).
При работе над большим сочинением в прежние годы у меня мпого
бесплодно тратилось времени. Случайно упрешься в какое-нибудь место
и проводишь часы и дни, не сдвигаясь с этого места. Теперь, когда
происходит подобная остановка, я не прерываю работу, а продолжаю работать
над тем же материалом, извлекая из него те комбинации, которые он
в состоянии дать,— работа, требующая значительного технического
навыка, приобретенного мною лишь постепенно в течение многих лет. При
этой работе я не обращаю внимания на то, найдет ли себе применение
в моей работе та или иная комбинация музыкальной мысли, заботясь
только о том, чтобы во всех направлениях исчерпать те музыкальные
выводы, которые из данных мыслей могут получиться. При этом постоянно
случается, что хотя значительная часть мною написанного не входит
вовсе в сочинение, но среди написанного встретишь, может, две-три
комбинации, которые сразу дадут направление мыслям и сразу разрешат
встретившееся затруднение, которое при отсутствии такой работы, быть может,
на долгое время явилось бы непреодолимым препятствием к окончанию
сочинения.
Я стал писать несравненно быстрее с тех пор, как стал отделять
работу подготовительную от окончательной,— прежняя бесплодная трата
времени, сопровождаемая угнетенным состоянием духа, совершенно для
меня исчезла. Если сочинение не сдвигается с места, это значит, что было
недостаточно работы подготовительной — и как только эту работу
произвести, и в сочинении все разъясняется и оно само приходит к концу. [...]
«Памяти Сергея Ивановича Танеева», Мм Музгиз,
1947, стр. 180-181.
713
Α. Η. СКРЯБИН
1872-1915
Художественное мировоззрение Α. Η. Скрябина существенно отличается от
взглядов представителей русской реалистической музыкальной эстетики. Идея
действенного значения искусства в жизни людей принимает у него
гипертрофированный характер и развивается на мистик о-идеа диетической основе*
На протяжении всего творческого пути Скрябину был свойствен интерес к
общим философским проблемам. Его мировоззрение складывалось под влиянием
классиков и эпигонов немецкого идеализма и русских философов-идеалистов В.
Соловьева и С. Трубецкого, труды которых он внимательно изучал. Эстетические
проблемы осознавались Скрябиным с позиций эклектической системы идеалистических
взглядов, но и несли в себе отражение некоторых передовых свойств его
искусства.
В раннем и среднем периоде творчества Скрябина увлекает романтическая
идея «орфического» назначения искусства, призванного давать людям «живую
радость утешения», рождать «мыслей новых строй», звать к «свершению подвига».
Эта идея нашла выражение в написанном Скрябиным тексте хора из его Первой
симфонии (1900), который приводится ниже. При всей абстрактности
романтической абсолютизации действенной роля искусства, которое рассматривалось как
привнесение в жизнь отсутствующей в ней красоты и этим обнаруживалось родство
идеалистически понятой действенности искусства с теорией «чистого искусства»
(«О дивный образ божества, гармоний чистое искусство!»), в идее «орфического»
назначения искусства выражалась вера композитора в способность облагораживать
и объединять людей, «изменять лицо мира». В этом смысле Скрябин даже
утверждал, что «художник выше всех царей; короли должны преклоняться перед ним».
Противоречивость романтической эстетики Скрябина раннего и среднего
периода объясняется противоречивостью его собственного творчества, хорошо
раскрытой Г. В. Плехановым, который говорил: «Музыка его — грандиозного размаха. Эта
музыка представляет собой отражение нашей революционной эпохи в темпераменте
и миросозерцании идеалиста-мистика» К
Романтическая идея облагораживающей роли искусства перерастает в мистико-
идеалистическую, модернистскую концепцию «Мистерии» — сочинения
музыкального в своей основе, но объединяющего все искусство, в котором участвует все
человечество, сливаясь в процесс «дематериализации мира» и торжества
«освобожденного духа». Нетрудно видеть связь этой концепции с популярными в эпоху реакции
идеями «конца света», «гибели мира». К созданию «Мистерии» он готовится все
последние годы своей жизни, рассматривает свои музыкальные сочинения как эскизы
и наброски к ней и пишет текст «Предварительного действия», воплощающий
символические образы, идеалистически абсолютизирующие творческую роль
человеческого духа.
Скрябин писал о творчестве в смысле более широком, нежели о творчестве
художественном, расширяя и распространяя понятие художественного творчества
на всякую деятельность вообще.
1 Цит. по кн.: «А. Н. Скрябин», М., Музгиз, 1940, стр. 75.
714
О дивный образ божества,
Гармоний чистое искусство!
Тебе приносим дружно мы
Хвалу восторженного чувства.
Ты жизни светлая мечта,
Ты праздник, ты отдохновенье,
Как дар приносишь людям ты
Свои волшебные виденья.
В тот мрачный и холодный час,
Когда душа полна смятенья,
В тебе находит человек
Живую радость утешенья.
Ты силы, павшие в борьбе,
Чудесно к жизни призываешь,
В уме усталом и больном
Ты мыслей новых строй рождаешь.
Ты чувств безбрежный океан
Рождаешь в сердце восхищенном,
И лучших песней песнь поет
Твой жрец, тобою вдохновенный.
Царит всевластно на земле
Твой дух свободный и могучий,
Тобой поднятый человек
Свершает славно подвиг лучший.
Придите, все народы мира,
Искусству славу воспоем!
Слава искусству,
Вовеки слава!
«Русские пропилеи», т. 6, М., 1919, стр. 122.
ЗАПИСИ А. Н. СКРЯБИНА
[...] Нет того духовного, которое бы не имело выражения в
материальном, и нет того материального, которое не порождало бы мысль.
Все изменяется, все совершенствуется. Я весь желанье, весь порыв,
но для меня желанье не [томительно] — оно моя стихия — мое счастье,
оно живет во мне вместе с полной уверенностью в успехе. [...]
715
Я так счастлив, что если бы я мог одну крупицу моего счастья
сообщить целому миру, то жизнь показалась бы людям прекрасной. [...]
[...] Прежде всего во всей массе пережитых мною ощущений и мыслей
я замечаю нечто общее, что их связывает, а именно то, что все это я
переживаю. Все это я сознаю. Во 2-х, для того чтобы сознавать все это, я
действую, я напрягаюсь, я делаю усилие, я расходую большее или меньшее
количество внимания. В 3-х. Если бы я перестал сознавать все это, то есть
если бы моя деятельность прекратилась, то с ее прекращением исчезло
бы для меня все. Итак, выходит, что как будто я автор всего
переживаемого, я творец мира. Почему же тогда мне кажется, что все это я лишь,
воспринимая, отражаю, что все это существует помимо меня и
деятельности моего сознания. Откуда это ощущение не-я, которое так упорно живет
во мне? Я так привык думать, что я изучаю мир, созданный прежде меня
внешний мир. Что значит эта путаница? Для того чтобы ответить на эти
вопросы, нужно глубже заглянуть в испытываемое мною чувство не-я.
Путаница произошла оттого, что я не сознавал, что я создал также и это
чувство не-я. Оно есть такая же моя деятельность, как и тот мир, который
я считаю внешним. Итак, все есть моя деятельность, различение. В ряду
созданных мною представлений (чувств и мыслей) есть и чувство
(представление) не-я. Это то чувство, которым я отношу часть (то, что
называю представлениями) к назв. мною «внешнему миру». Чувством
(представлением) не-я я создаю пространство. Тут может возникнуть вопрос,
какое пространство? В каком виде, в какой момент и какими предметами
наполненное? Одним словом, может быть задан нелепый вопрос, как
начинается пространство. Нужно понять, что создать пространство значит
создать каждый его момент со всем его прошлым и будущим 1.
Пространство и время есть процесс, по которому для каждого предмета
(представления) в каждый данный момент я создаю его прошлое и будущее
наряду с другими представлениями, и в котором, в свою очередь, каждое
данное представление есть часть безграничного целого, существующая
только относительно этого (целого). Пространство и время не создаются
через сложение промежутков времени и предметов. Создать пространство
значило бы создать всю историю и все будущее вселенной. Еще. Создать
пространство и время значит создать одно представление, по которому
вывести всю историю и все будущее вселенной. Тем, что я говорю, что
пространство и время формы моего творчества, мною созданные, я не
говорю, что было время, в которое этих форм не существовало. Нельзя
считать, что было время, когда времени не было, и наступил момент, в
который я его создал. Я создаю пространство и время тем, что я различаю.
При этом нельзя спросить, с чего я начал различать. Ибо что-нибудь
существует в процессе различения только относительно другого. Значит,
создавая какое-нибудь представление, какое-нибудь я, я одновременно создаю
1 Также создать пространство значит создать один его момент, пережить одно
чувство.
716
не-я, его ограничивающее, и всю историю его. Я создаю время
различением ощущений и пространство различением в себе субъекта и объекта.
Временем я создаю то, что мы называли до сих пор внутренним опытом,
а пространством — внешний опыт. Я уничтожаю пространство и время,
когда перестаю различать. Выражения создаю и уничтожаю не означают
создания и уничтожения времени и пространства во времени же и
пространстве. Они лишь намекают на тот процесс творчества, который не
может быть до конца выражен понятиями, которые сами только его
продукт. Творчество не может быть объяснено ничем. Оно есть высшее
представление (понятие), ибо оно производит все понятия. Я говорю, что
творчество есть различение; создать что-дибудь значит ограничить одно
другим. Но этим я не объясняю творчество. Различение есть тоже известное
представление пространственное и временное. Различие не объясняет
пространства и времени, потому что оно не существует раньше
пространства и времени. Вообще нужно понять, что объяснить творчество словами
до конца нельзя.
Все есть мое творчество. Но и само оно существует только в своих
творениях, оно совершенно.тождественно с ними, Я ничто. Я только то, что
я создаю. Все, что существует, существует только в моем сознании. Все
есть моя деятельность, которая в свою очередь есть только то, что она
производит. Потому нельзя сказать, что мир существует. Вообще понятия
существование, сущность совершенно не выражают того, что
представляет из себя мир. Мир (время и пространство) есть процесс моего
творчества, причем слово процесс (как понятие временное) тоже не выражает
того, что нужно. Мир — мое творчество, которое есть только мир. Одно —
относительно другого, и больше ничего. Ничто не существует, ничто не
создается, ничто не осуществляется: все игра. И эта игра—высшая
реальнейшая реальность. Все есть, как моя свободная и единая деятельность,
и ничего вне ее. И сама она игра. [...]
Там же, стр. 131—132, 135—137.
АРХИТЕКТУРА
Архитектура России в эпоху капитализма
развивалась в сложных условиях и отличалась рядом
глубоких противоречий, которые отражали общие
противоречия капиталистического общества и были
исторически закономерны. Безраздельное
господство интересов частного капитала вызывало многие
болезненные, уродливые явления в архитектуре
(хаотическая застройка городов, хищническое и
спекулятивное использование земельной площади, тяжелые
антисанитарные жилищные условия трудящихся масс и т. д.). Вместе с тем
экономическое, социальное и культурное развитие общества в эпоху капитализма
поставило перед архитектурой ряд новых сложных задач. Мощный подъем
производительных сил, рост промышленности, торговли и транспорта,
успехи науки и техники — все это оказывало огромное влияние на
эволюцию архитектуры.
Увеличение темпов и объемов строительства, расширение его
типологии требовало усиленного внимания к функциональной стороне построек,
к вопросам экономической целесообразности. Это активно содействовало
поискам наиболее эффективных планировочных и технических решении.
Появление новых строительных материалов и конструкций обогащало
техническую палитру зодчих, стимулируя стремление к их рациональному
архитектурно-художественному освоению.
718
«Рост торговли, фабрик, городов, железных дорог предъявляет спрос
на совершенно иные постройки, не похожие ни по своей архитектуре, ни
по своей величине на старинные здания патриархальной эпохи» !,—
отмечал В. И. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России».
Вместе с тем художественно-образная сторона архитектуры
переживала в эпоху капитализма определенный кризис. Это было связано и с
большой зависимостью архитекторов от вкусов и требований
капиталистических заказчиков 2, и с общим нарастанием индивидуалистических
тенденций в искусстве капиталистической эпохи, и, наконец,-е тем, что в силу
своего специфического положения архитектура оказалась несколько
в стороне от той борьбы за реализм и идейную глубину, которая шла
тогда в литературе, музыке, изобразительном искусстве. С середины
XIX века, в итоге распада классицизма в архитектуре начинается
распространение эклектики и стилизаторства, утрачивается былой высокий
гражданственный пафос, стилевое единство и художественное совершенство,
наступает почти повсеместное засилье беспринципности и стилевой
пестроты. Попытки использовать приемы и формы древнерусского зодчества,
несмотря на патриотические в своей основе устремления идеологов этого
направления (среди них видную роль играл В. В. Стасов), не привели
к появлению подлинно художественных произведений и в целом
вылились в архаичное стилизаторство.
Однако несмотря на всю сложность и противоречивость условий, в
которых развивалась русская архитектура в эпоху капитализма, несмотря
на наличие разного рода формалистических тенденций, передовые
архитекторы, инженеры и теоретики искусства стремились всесторонне и
реалистически осмыслить сущность явлений, происходивших тогда в
архитектуре, найти их теоретическое обоснование и обобщение и связать в
единую систему. Рассматривая в совокупности три аспекта архитектуры:
функциональный, конструктивно-технический и эстетический,— они
искали их внутреннюю взаимосвязь и взаимозависимость с учетом тех новых
условий, которые сложились к этому времени, и тех новых требований,
котопьте начали предъявляться к архитектуре.
Так стала формироваться во многих отношениях новая эстетическая
концепция, определенная современниками как теория «рациональной
архитектуры» 3.
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 560.
2 В. И. Ленин в одной из бесед с Кларой Цеткин говорил: «Подумайте о том
влиянии, которое оказывали на развитие нашей живописи, скульптуры и
архитектуры люди и прихоти царского двора, равно как вкус и причуды господ
аристократов и буржуазии» («В. И. Ленин о культуре и искусстве», М., 1956, стр. 134).
3 Рационалистические тенденции в теории и практике русской архитектуры
второй половины XIX — начала XX века в принципе аналогичны
рационалистическим тенденциям в развитии архитектуры Западной Европы и США в эти же
десятилетия, которые были отражены в трудах таких видных теоретиков зодчества,
как А. Лабруст, Э. Виоле-ле-Дюк, Г. Земпер, Л. Салливэн, О. Вагнер, А. Лоос и другие.
719
Главным положением теории «рациональной архитектуры» была мысль
о тесной взаимосвязи конструктивно-технических и функциональных
факторов зодчества — с факторами собственно эстетическими. При этом
конструктивно-технические и функциональные факторы зодчества
рассматривались как основные, определяющие его общую эволюцию и активно
воздействующие, на его эстетическую сторону. Проблема рационального
архитектурно-художественного освоения достижений строительной
техники, новых материалов и конструкций выдвигалась в качестве одной из
главных проблем теории и практики архитектуры.
Эстетическая концепция «рациональной архитектуры» явилась
дальнейшим развитием ряда рационалистических в своей основе положений,
содержащихся в трудах зарубежных и русских теоретиков архитектуры.
Она явилась качественно новым этапом в развитии теории архитектуры,
соответствующим быстрому росту производительных сил общества в
период капитализма, в частности более мощной и разнообразной
материально-технической базе строительства и усилившемуся вниманию к
функциональной и экономической стороне построек. В то же время архитектурные
воззрения идеологов «рациональной архитектуры» отличались
определенной ограниченностью, связанной с усилением индивидуалистических
тенденций в буржуазной культуре. Теория «рациональной архитектуры»
игнорировала проблемы градостроительства, совершенно не рассматривала
идеологическую сторону зодчества, вопросы освоения и использования
национального художественного наследия и т. п. В этом отношении идеологи
«рациональной архитектуры» сделали определенный шаг назад по
сравнению с эстетикой классицизма. Но несмотря на эту исторически
обусловленную ограниченность, эстетическая концепция «рациональной
архитектуры» явилась важным достижением прогрессивной теоретической
архитектурной мысли.
Глубокая и хорошо систематизированная научная разработка
принципов «рациональной архитектуры» была впервые в истории русской
эстетики дана в учебнике проф. А. К. Красовского «Гражданская архитектура»,
изданном в 1851 году.
Аполлинарий Каэтанович Красовский (1816—1875) был видным
архитектором-педагогом и теоретиком зодчества. Он окончил Институт
инженеров путей сообщения и много лет преподавал ряд строительных
дисциплин в высших учебных заведениях Петербурга. Красовский правильно
понимал сущность и специфику архитектуры и правильно оценивал роль
материально-технических факторов в ее эволюции. Большое научное
значение имеет выдвинутый Красовским тезис о «преобразовании полезного
в изящное» как о единственно верном, реалистическом пути развития
зодчества. Эта глубокая мысль объективно противостояла
идеалистическому положению о «незаинтересованном любовании», выдвинутому
сторонниками теории «чистого искусства». В книге Красовского было, таким
образом, намечено правильное материалистическое понимание
диалектической взаимосвязи критериев «пользы» и «красоты» в зодчестве. Сфор-
720
мулированные Красовским мысли о том, что «техника или конструкция
есть главный источник архитектурных форм», что «железу предстоит
участь совершить переворот в архитектурных формах» и создать новый,
современный архитектурный стиль, были впоследствии высказаны в
трудах многих теоретиков искусства, архитекторов и инженеров второй
половины XIX — начала XX века.
В первые годы XX века среди русских архитекторов разгорелась
оживленная полемика о дальнейших путях развития зодчества и о сущности
«стиля модерн» в архитектуре. На страницах архитектурных^ журналов
(«Зодчий», «Строитель», «Неделя строителя», «Архитектурный музей»
и др.) появилось большое количество статей, посвященных проблеме
«нового стиля». Их отличительными чертами были глубокое понимание
взаимосвязи технических и эстетических факторов в зодчестве, сочувствие
идеям «рациональной архитектуры», резкая критика эклектики и вместе
с тем настороженное отношение к формально-декоративным новшествам.
Все эти выступления как бы завершаются книгой военного инженера и
архитектора В. П. Апышкова (1871 — 1939) «Рациональное в новейшей
архитектуре» (1905). Значительный интерес представляет и книга
П. Страхова «Эстетические задачи техники» (1906), в которой была
сделана первая в русской эстетике попытка осмыслить в широком научно-
теоретическом плане роль технического прогресса в развитии
архитектуры и прикладного искусства. Главная ценность передовой русской
архитектурно-художественной критики начала XX века заключалась в том,
что проблему «нового стиля» в архитектуре она рассматривала в тесной
связи с вопросами конструктивно-технического новаторства, считая, что
«по мере изучения материалов и стремления к рациональному
применению их зодчество перейдет и отчасти уже переходит к естественной (то
есть вытекающей из свойств материала и строительной задачи) выработке
стиля» 1.
В конце первого десятилетия XX века в русской архитектуре началось
увлечение так называемым «неоклассицизмом». Это было своего рода
реакцией на крайний индивидуализм и художественный пигилизм
модерна, однако в условиях идейно-политической реакции после подавления
революции 1905—1907 годов новое архитектурное направление приобрело
сильно выраженные черты ретроспективизма.
Опираясь на градостроительные принципы и стилистические приемы
архитектуры классицизма, инициаторы нового направления (среди них
главную роль играли И. А. Фомин и Л. Н. Бенуа) стремились возродить
стилистическую цельность и образную выразительность архитектуры и
призывали беречь как драгоценное художественное наследие
архитектурный облик «старого Петербурга». В конце 1900-х — начале 1910-х годов
появилось много статей и книг, посвященных различным вопросам градо-
1 В. Я. Курбатов, Об украшении Петербурга.—«Зодчий», 1908, N° 45, стр. 418.
721
строительства 1. На рубеже первого и второго десятилетия XX века в
развитии русской теоретической архитектурной мысли наступил новый
этап — этап градостроительный.
Несмотря на усиление ретроспективистских тенденций в русской
архитектуре в период увлечения «неоклассикой» 2, проблема эстетического
освоения достижений строительной техники продолжала привлекать
внимание ряда передовых архитекторов и инженеров. А. Лолейт, В. Некрасов,
А. Кузнецов, Н. Диамандиди, Г. Передерни, В. Якоби, П. Толстых и
другие настойчиво призывали к рациональному использованию
архитектурных возможностей бетона и железобетона и отмечали активную роль этих
материалов в формировании современной архитектуры. Выдвинутый в эти
годы рядом теоретиков (А. Н. Бенуа, О. Р. Мунц) призыв к простоте и
строгости соответствовал той прогрессивной линии в развитии
архитектуры, которая привела к формированию позднего рационалистического
модерна (постройки и проекты Ф. Шехтеля, И. Кузнецова, Н. Васильева,
Э. Вирриха, О. Мунца, В. Веснина и других). В 1916 году в статье
«Парфенон или св. София?» 3 О. Р. Мунц поставил вопрос о синтезе
прогрессивных традиций классической архитектуры с принципами
архитектурного рационализма. Интересной попыткой рассмотреть социальные
предпосылки развития русской архитектуры в период капитализма явилась
статья В. Мачинского «Архитектурные заметки», опубликованная
в 1914 году.
Важным явлением в теории архитектуры в начале XX века был
нарастающий интерес к архитектурно-художественной стороне утилитарных
сооружений: мостов, промышленных построек и т. п. Он свидетельствует
о том, что в эти годы само понятие «архитектура» стало мыслиться более
широко. Статьи Г. Кривошеина и А. Дмитриева об архитектуре мостов,
доклад М. Лялевича «Об архитектурно-художественной разработке мостов
и других подобных сооружений в городах», прочитанный на Четвертом
съезде русских зодчих, статья А. Степанова об архитектуре в
промышленности явились дальнейшим развитием теории «рациональной
архитектуры» 4.
1 Среди них необходимо отметить книги Г. Дубелира «планировка городов» (Спб.,
1910), В. Семенова «Благоустройство городов» (М., 1912), Ф. Енакиева «Задачи
преобразования С.-Петербурга» (Спб., 1913), А. Енша «Города-сады (города
будущего)» (Спб., 1913), а также доклад Л. Н. Бенуа «О необходимости составления
полного проекта оборудования С.-Петербурга», с которым он обратился в Академию
художеств в 1908 году.
2 Это особенно заметно проявилось в «Художественных письмах» Александра
Бенуа, публиковавшихся в газете «Речь» (1910, 1912, 1915), а также в книге Г. Лу-
комского «Современный Петербург», (Пг., 1917).
3 «Архитектурно-художественный еженедельник», Пг., 1916, № 2.
4 Г. Г. Кривошеий, Мосты с художественной точки зрения.— «Зодчий», 1899,
№ 8, 9, 10; А. И. Д м и τ ρ и ё в, Мостовые сооружения за границей.— «Строитель»,
1901, № 21, 22, 23; «Труды 4 съезда русских зодчих», Спб., 1911; А· Степанов»
О промышленном зодчестве.— «Зодчий», 1915, № 12, 13-
722
Идеи «рациональной архитектуры» представляют собой лишь одну из
сторон развития русской архитектурной мысли во второй половине XIX—
начале XX века. Наряду с ними существовали и другие тенденции, нередко
весьма консервативные и формалистические. Художественная
беспринципность и эклектика, заполонившие русскую архитектуру начиная с
середины XIX века, волна «архитектурного декадентства» в первой половине
1900-х годов, ретроспективные устремления «неоклассики», весьма
противоречивые по своим предпосылкам и по своему воплощению попытки
возрождения «русского стиля»,— все эти течения сосуществовали и тесно
переплетались друг с другом, образуя в своей совокупности ту пеструю и в
целом противоречивую картину, которая и определила архитектурно-
художественное лицо эпохи капитализма.
Рассматривая эстетическую концепцию «рациональной архитектуры»
на общем фоне эволюции русской архитектурной мысли второй половины
XIX — начала XX века, можно сделать вывод, что эта концепция
воплотила наиболее прогрессивные тенденции в архитектуре тех лет. Она
явилась отражением характерного для эпохи промышленного капитализма
мощного роста производительных сил и быстрого развития строительной
науки и техники. Выдвинув тезис о «преобразовании» полезного в
прекрасное как о наиболее правильном пути формирования
рационалистической архитектуры, ее идеологи проявили глубокое понимание сущности
эволюции архитектуры в капиталистическую эпоху, когда быстрый рост
производительных сил создавал благоприятную обстановку для развития
материально-технической стороны архитектуры, а ее художественно-
образная сторона переживала определенный кризис.
Идеи «рациональной архитектуры», разработанные в трудах ряда
русских архитекторов, инженеров и теоретиков искусства второй половины
XIX — начала XX века, явились ценным вкладом в развитие
материалистической эстетики в дореволюционной России и во многом сохраняют
свое значение для теории и практики советской архитектуры.
А. Л. ЛУНИН
А. К. КРАСОВСКИЙ
(1816-1875)
ГРАЖДАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА
§ 1. Гражданская архитектура есть искусство сооружения гражданских
зданий, которые предназначаются собственно для помещения, в
обширном значении этого слова. [...]
§ 2. Потребности наши, удовлетворяемые построением здания,
разделяются на две главные категории: первая заключает в себе потребности
утилитарные (польза); вторая — потребности эстетические (красота).
723
Строение может зависеть только от одних утилитарных потребностей
(предмет сельской, заводской и пр. архитектуры) или только от одних
эстетических. К последней категории принадлежат, например, монументы,
не имеющие никакого материального или полезного значения. Но чаще
всего оба рода требований взаимно совокупляются, и здания,
подчиненные подобным условиям, составляют главный предмет гражданской
архитектуры. Заметим, однако ж, что в гражданских постройках один род
требований может первенствовать над другим: например, при сооружении
церквей преобладает элемент эстетический; при постройке
обыкновенного городского дома — элемент утилитарный. [.„.]
§ 5. Эстетические потребности человека происходят от врожденного
ему чувства изящного. Чувство это, развитое основательным изучением,
называется эстетическим вкусом. Подчиненность гражданских зданий
эстетическим условиям вводит архитектуру в разряд художеств или
изящных, творческих искусств.
Каждое произведение изящного искусства заключает в себе два
элемента: сущность и форму, то есть идею и чувственное ее представление.
Первый из них есть выражаемое; второй — выражающее. Совокупление
этих элементов в гармоническое единство — вот цель искусства.
Изящество или красота есть совершенство внешнего представления, и,
следовательно, изящная архитектура должна иметь целью — обнаружить
внешним представлением внутренний смысл, значение й цель здания.
§ 6. Было время, когда архитектуру рассматривали как чисто изящное
искусство, имеющее целью — удовлетворение одних только высших
(эстетических) потребностей человеческого духа. Она называлась искусством
отвлеченных форм, в противоположность живописи и скульптуре,
которые могут быть названы искусствами естественных форм. Под влиянием
этого взгляда на архитектуру архитекторы большей частью обращали
внимание свое только на наружность зданий, упуская из виду условия
прочной конструкции, и, наконец, не руководствовались при создании
форм свойствами материала, а следовали только прихотям своей
безотчетной фантазии. Естественным следствием этого направления были
постройки, не соответствовавшие своему назначению и не удовлетворявшие
условиям прочности.
Подобный порядок вещей возбудил реакцию. Вследствие ее явилось
другое мнение, что архитектурные постройки должны удовлетворять
только одним утилитарным потребностям. Конечно, все то, что не
удовлетворяет своему прямому назначению, не может быть изящно, но предмет,
удовлетворяющий известной цели, может быть в то же время далек от
изящества.
Изучение древнего, особенно греческого искусства привело, наконец,
к настоящей точке зрения в архитектуре. Направление архитектуры не
должно состоять в исключительном стремлении к одному полезному или
к одному изящному; основное правило ее есть преобразование одного в
другое, то есть полезного в изящное. [...]
724
§ 8. [...] Техника или конструкция есть главный источник
архитектурных форм. Участие художества при сочинении этих форм состоит только
в сообщении грубым формам техники художественной оконченности К
Аполлинарий Красовский, Гражданская
архитектура. Части зданий, Спб., 1851, стр. 1—5.
§ 18. Все архитектурные формы в общих своих очертаниях
определяются полезным их назначением, свойствами материала, употребленного
на построение, и условиями равновесия и прочности. Так, например,
назначение определяет не только величину, форму и распределение
внутренних пространств, например зал, комнат и пр., но также и устройство
отдельных частей, как-то: стен, столбов, окон, дверей, лестниц и т. п.
Равновесие требует вертикальных опор, горизонтальных потолков, выпуклых
форм сводов, укреплений углов и т. п. Для придания строению большей
прочности употребляются: внизу строений —- цоколи, вверху — карнизы
и пр. Все формы, таким образом происшедшие, суть геометрические;
всякие же подражания органическим формам употребляются в строениях
только как украшение. Но мало того, что строение будет действительно
прочно и устойчиво: этого можно было бы достигнуть отчасти
употреблением большого количества железа, сложною разрезкой камней и т. д.;
надобно еще, чтобы оно казалось таким самому поверхностному взгляду
и не заставляло зрителя трудиться над отыскиванием средств и причин,
произведших эту прочность и устойчивость.
Итак, свойство материала и возможно лучший способ его сопряжения
определяет способ построения или конструкцию, а конструкция
определяет наружную форму частей зданий. Правило это при всей его
естественности и простоте с первого взгляда требует, однако, весьма тщательного
внимания со стороны архитектора, потому что вследствие
нерационального, схоластического направления искусства архитектуры весьма часто
случается встречать в строении разлад между конструкцией и наружной
формой. Соблюдение этого правила придает строению качество, известное
под названием архитектурной истины. Она составляет главное и
первенствующее условие, которому должны подчиняться все другие правила
образования архитектурных форм.
§ 19. Своевольная и не обузданная истиною фантазия вместо форм
рациональных и обусловленных конструкцией создает формы бесполезные
и ложные. К бесполезным относятся части строения, которые в других
обстоятельствах могут быть полезны, но которые употреблены неуместно,
как, например: колоннады, не приносящие столь часто никакой пользы,
аттики, фронтоны и прочие части, употребленные без цели. Погрешность
в строении относительно этого правила известна под названием обреме-
1 Как скоро идея украшения отделится от идеи построения и будет
действовать несогласно с нею, то произведения ее представят только ряд одних
несообразностей и противоречий.
725
нения. К ложным формам принадлежат все формы, не сообразные с
законами построения, как, например: бесполезные выступы и впадины стен,
ломаные крыши, выгрызенные фронтоны и пр. К этому же разряду форм
относятся все так называемые маскированные формы, то есть такие, у
которых наружность противоречит внутреннему устройству. Заметим,
однако ж, что часто бережливость бывает причиной маскировки, но она
большей частью происходит от неудачного сочинения проекта и от понятий об
украшении зданий.
§ 20. Формы, обделанные таким образом по правилам полезного
назначения, устойчивости и прочности, могут быть еще грубы и не изящны
в художественном отношении. Но в том-то и состоит дело художника,
чтобы оживить мертвые массы, сообщить им художественную оболочку
и, одним словом, сделать их изящными. Средства, служащие для
достижения этой цели, могут быть разделены на две категории.
Первая заключает в себе преобразование или, лучше сказать, более
точное определение форм вследствие эстетических требований. Этого
достигают посредством приличных подразделений или так называемых
расчленений; развитием частей из целого; постепенностью переходов от
одних форм к другим; соблюдением правильности, симметрии, аналогии,
гармонии и пр.
Вторую категорию составляют украшения гладких поверхностей.
Между конструкциею, создающею формы, и художественною обделкою их
необходимо взаимодействие, без которого нельзя представить себе ни
истинной красоты произведений архитектуры, ни верных ее начал.
§ 21. Формы частей зданий, определяемые условиями конструкций,
должны быть самые простейшие, то есть такие, в которых заготовляется
строительный материал или в какие его всего легче обрабатывать: этого
требует экономия. Итак, если архитектурные формы отклоняются от форм
простейших, то это происходит только вследствие эстетических
требований. Впрочем, замечание, сделанное нами и объясняющее, почему части
зданий чаще всего имеют геометрические формы, не может объяснить
преобладания правильности в целом составе зданий. Эстетика,
подвергнув аналитическому разбору все произведения природы — от кристалли-
рованного минерала до совершеннейшего органического существа — и все
изделия человеческих рук, выводит отсюда, что чем менее эстетического
значения имеет какой-либо предмет, тем более в образовании его
проявляется геометрической простоты и правильности. Наоборот, чем более он
имеет самостоятельного значения или эстетического интереса, одним
словом, чем более он художествен, тем более разнообразия и свободы
проявляется в образовании его форм. Это, между прочим, может объяснить
причину разности между свободными формами ваяния и живописи и
геометрически правильными формами архитектуры. Первые самостоятельны,
то есть имеют цель в самих себе; напротив, архитектурные произведения,
не существуя для самих себя, суть нечто подчиненное чему-то
постороннему. Так, например, каждый архитектурный элемент здания должен
726
всегда сохранять свое конструктивное значение, даже при самой
изысканной художественной обработке. Целое здание тоже не есть
художественный предмет, имеющий цель в самом себе; напротив того, оно служит для
чего-то другого; оно —жилище или помещение. Здание ожидает или
изображения богов (как, например, храмы древних), или произведений искусств
и памятников разного рода (музеи и пр.), или, наконец, людей,
которые бы в нем временно собирались или постоянно обитали. Стало быть,
в формах целого здания должны преобладать правильность и симметрия,
дабы легко можно было понять здание в целом его составе, не теряясь
среди разнообразных подробностей. И действительно, правильность и
симметрия, которые в чисто художественных предметах, как, например, в
картине и статуе, неприятны, нравятся в здании. Произвести на зрителя
впечатление общностью здания — вот цель, к которой должна стремиться
архитектура как изящное искусство, и потому девиз ее есть —
гармоническое согласие правильных масс. [...]
Там же, стр. 12—15.
§ 23. [...] В общем смысле украшениями называются все вообще
приложения живописи и скульптуры к архитектуре; в частном смысле под этим
названием подразумевают украшения гладких поверхностей собственно
архитектурных частей. Украшения сообщают частям здания более блеску,
изящества и богатства.
§ 28. Сочинение и исполнение скульптурных и живописных украшений
принадлежит к области скульптуры и живописи, но употребление их и
применение к украшению зданий есть дело архитектора. Архитектор-
художник должен быть внимательным наблюдателем чувств человека,
потому что посредством их и на них производится каждое действие
искусства; он должен приучить глаз свой ко всему изящному, возвысить свой
эстетический вкус прилежным изучением произведений поэзии, живописи*
скульптуры и, наконец, самой природы. [...]
Там же, стр. 17, 21.
§ 34. Все вообще знатоки искусства были недовольны направлением,
принятым архитектурою в начале нынешнего столетия и состоявшим или
в бессознательном копировании древних здайий, или в произвольном
соединении разнородных частей их в одно целое. Отыскивая новый путь,
архитекторы разделились на следующие школы:
a. Классики. Часть архитекторов, не защищающая нисколько
безотчетного подражания формам древних, старается проникнуть глубже в
древнее искусство, понять его тайну, сознательно применить к нашим
строениям простые основания древнего искусства и, не копируя,
воспроизводить изящные его формы.
b. Романтики. Другая часть архитекторов стремится воскресить
средневековые стили. [...] Этот разряд архитекторов разделяется на два главные
отдела: одни поклоняются готизму, или стрельчатому стилю; другие —
727
византизму, или круглосводчатому стилю. Одних прельщает окончен-
ность готического стиля; другие, напротив того, довольны тем, что
византийский стиль в средние века не успел совершенно развиться: что он
оставлен нам в зародыше и что, следовательно, нашей собственной
деятельности остается поле для творчества и для усовершенствования этих
начатков. [...]
с. Рационалисты. Третий разряд художников считает архитекторов
предыдущих категорий поносителями современности и своей нации и не
понимающими значения искусства. По их мнению, все художники
исторического направления обижают современников, отказывая им в
творческой способности, и, отуманенные археологией, не понимают, что искусство
назначено быть зеркалом современности. Но эти архитекторы,
отказавшись от всякого подражания, должны были найти новый путь к
изобретению новых форм. При подобном стремлении возникли: рационалисты-
эстетики и рационалисты-техники; лозунг первых — форма; вторых —
конструкция. Эстетики рассматривают архитектуру как искусство
отвлеченных форм, анализируют на этом основании впечатления, производимые
каждою из них, и, сообразно с правилами, извлеченными a priori из своих
умозаключений, составляют формы частей зданий и группируют их для
составления целого. Материал, из которого выводится строение, должен
быть избран сообразно впечатлению, производимому им на эстетическое
наше чувство. Рационалисты-техники смотрят на изобретение форм с
другой стороны. Строитель, по мнению их, должен заботиться только о том:
1) чтобы строение удовлетворяло вполне своему полезному назначению:
это условие определяет общие формы зданий; и 2) наблюдать, чтобы
каждая часть здания была выполнена тщательно и чисто. Формы и
подробности этих частей определятся сами собою из построения. При составлении
проекта не следует наперед определять произвольно форм — ни целого,
ни частей. Целое должно быть следствием назначения здания; части —
следствием свойств материалов и способов их употребления. Таким
образом возникнут части зданий, сообразные нашему климату, нашим
материалам и нашим вещественным и нравственным потребностям. Формы частей
зданий и формы целых зданий образуют без ведома нашего рациональный,
современный и национальный стиль, которого невозможно искать a priori.
Из сказанного выше, в начале введения, видно, что, по нашему
мнению, истинное направление архитектуры находится между этими двумя
последними направлениями; оно должно склоняться более то в одну, то
в другую сторону, смотря по тому, которые из требований — эстетические
или утилитарные — преобладают в строении. Лозунг наш —
преобразование полезного в изящное. [...]
Там же, стр. 27—29.
728
Г. РАВИЧ
БЕСЕДЫ СТРОИТЕЛЯ
[...] Без сомнения, одною из задач нового направления будет выбросить
за борт эти модные товары 1, чуждые нашему миросозерцанию, нашему
духу, и создать свое собственное искусство, новые формы, собственную
новую оболочку, которой только и не хватает нашему веку, чтобы
окончательно стать на ноги и сделаться самим собою.
Более всего это относится к архитектуре, которой просто не под силу
своими старыми формами и существом удовлетворить запросам
современной жизни. Впрочем, это еще не значит, что старое должно быть вовсе
забыто и заброшено,— и для него найдется почетное место среди
нарождающегося нового. [...]
Наши многоэтажные каменные громады — явление совершенно
исключительное и вызванное к жизни необычайным развитием средств
строительной техники в связи с возрастанием населения городов, подобного
которому не знал ни один из предшествующих веков. А между тем,
создавши эти каменные громады, мы ничего не сумели сделать, чтобы
придать им соответственную внешность, и ограничились бесцеремонным
украшением своих фасадов несколько изуродованными мотивами из классики,
Возрождения, того же барокко; словом, пробавляемся чужим добром и
кое-как достигли степени дешевой элегантности, которая—надо же в этом
сознаться — не имеет ничего общего с искусством. [...]
Наш век — век архитектурного сумбура, который превосходно
выражает и внутреннее содержание нашей жизни. Конец века ознаменовался
пробуждением самосознания, новые веяния проникли во все отрасли
искусства. Современная жизнь как будто начинает искать, добиваться
верного отражения в искусстве; это движение овладело литературой,
музыкой и даже пластикой; архитектура последовала за ними и довольно
смело и решительно обнаружила свои первые попытки. Намечен ли этими
попытками верный путь — это другой вопрос; важно лишь то, что
началось искание, брожение, что явилось сознание ненормальности
архитектурного порядка, при котором мы жили. [...]
Уже давно проявила свою деятельность группа новаторов, людей
с чувством и сердцем, которые, поняв, что классическое зодчество отжило
свой век, пришли к сознанию необходимости искать новые пути; на их
долю выпала счастливая мысль поставить в искусстве на первое место
правду, то есть смотреть на внешнее как на выражение внутреннего
содержания, требовать полного соответствия между формой, материалом
и конструкцией, [...] За этой группой великая заслуга — ее деятели хоть
немного скрасили неприглядную подражательность середины нашего
века.
«Строитель», 1899, № 11—12, стр. 413—417.
1 То есть различные эклектичные «стили», распространенные в архитектуре во
второй половине XIX века. (Прим. сост.)
729
В. П. АПЫШКОВ
РАЦИОНАЛЬНОЕ В НОВЕЙШЕЙ АРХИТЕКТУРЕ
[...] Путь развития архитектурных форм, при котором в основу их
вложено было стремление удовлетворить сперва утилитарным
потребностям, а затем уже — внести украшающий элемент, обуславливал собою
ту слитность художественных форм с их назначением, которую мы
встречаем в классической архитектуре и очарованию которой мы не в
состоянии противостоять.
Этот путь превращения полезного в изящное, несмотря на
тысячелетия, разделяющие нас от эпохи греческого искусства, остается
единственным и неизменным, обеспечивающим дальнейшее развитие
рационального зодчества. Уклонение от него в сторону и стремление достичь одной
целесообразности сооружения является настолько же пагубным для
архитектуры как искусства, насколько и стремление лишь к одному
изящному. Следствием первого являются сооружения, дающие впечатление
лишь одной целесообразности, ничего не говорящей эстетическому
чувству, следствием второго — бессознательное ощущение красоты. [...]
Одной целесообразности форм и материала, по-видимому, для
художественной архитектуры оказывается мало.
С другой стороны, насколько образование архитектурных форм
зависит от утилитарных потребностей, видно из того, что нельзя было бы из
чисто эстетических стремлений изобрести форму греческого карниза,
капители, фигуру коринфского модулиона и, наконец, самую систему
греческих портиков, если бы они не обусловливались климатом, материалом
и конструкцией.
Стремление к применению форм исключительно из-за их внешней
красоты, не обусловленное утилитарными требованиями и требованиями
конструкции, ведет к применению бесполезных и ложных форм, каковы
колоннады, аттики, фронтоны, внутренние карнизы, не имеющие
никакого практического смысла, или форм, несообразных с законом
построения.
Произведение архитектуры, претендующее на художественное
значение, не должно заключать в себе лжи и фальши. Ложь и подделка,
скорее, говорят о противном — о недостатке истинного творчества. На том же
основании формы должны быть применяемы соответственно свойствам
и особенностям, присущим материалу. Формы дерева или металла не
должны иметь размеров или форм камня и наоборот. [...]
Таким образом, основной клеточкой рационального зодчества является
форма, быть может, еще грубая и неизящная, но удовлетворяющая
полезному ее назначению.
Зодчему предоставляется дальнейшее усовершенствование ее с целями
эстетическими, не нарушая той степени целесообразности, которой форма
уже обладает, а только придавая ей более изысканное очертание или
подчеркивая ее назначение.
730
Соблюдение этого правила приводит к так называемой
конструктивности форм и архитектурной правде, которые и составляют всю
прелесть эллинского искусства как представителя в высшей степени
рационального зодчества.
Если высказанные здесь основы можно признать соответствующими
здравому пониманию архитектуры, то они могут служить вместе с тем
отправным пунктом при критике нашей современной архитектуры и ее
новейших проявлений.
Если мы с точки зрения рационального искусстваг С- точки зрения
осмысленности и красоты форм взглянем на современную нам
архитектуру, то придется убедиться в существовании многих отрицательных
сторон и удивиться тому значению, которое до сих пор приписывалось и еще
приписывается формам эпохи Возрождения,
Стиль итальянского Возрождения, послуживший основой нашей
современной архитектуры, в корне носит следы нерационального своего
происхождения.
Единственным счастливым исключением представляется тосканская
архитектура, создавшая прекрасные дворцы — по внутреннему
великолепию и крепкие замки — по внешнему виду, в период, когда зодчие
в основу своего творчества полагали прочность, целесообразность и
величие уравновешенных и конструктивных масс. В дальнейшем своем
развитии стиль итальянского Возрождения все более и более носит
отпечаток увлечения внешней формой в ущерб внутренней правде.
Объясняется это тем, что творцы его, живописцы и скульпторы, изучавшие
памятники римского зодчества и привыкшие более ценить внешность,
не вникали в смысл и происхождение форм. Применение форм
обуславливалось не данными конструкции и свойств материалов, а лишь только
внешним декоративным эффектом. [...]
Несмотря, однако, на явные недостатки, стиль Возрождения
послужил основанием всей европейской архитектуры благодаря тем
художественным достоинствам, которыми он обладал. Наша современная
архитектура, являющаяся плодом копирования форм всех эпох стиля
Возрождения, заключает в себе, несомненно, и все его отрицательные стороны*
но при развивающейся технике и входящих в употребление новых
материалах еще резче обнаруживается тот разлад, который существовал
между конструкцией и внешней формой. Не говоря уже о том, что
применяющиеся формы не имеют тех художественных достоинств, которые
мы встречаем в оригиналах, так как они или избиты ежедневным
употреблением, или искажены до неузнаваемости, формы эти в большей
части случаев не отвечают ни конструкции, ни материалу, ни
современным требованиям, ни климатическим условиям. Прекрасная тосканская
архитектура в нашем воспроизведении форм ее из штукатурки является
несомненной ложью, не соответствуя ни способу возведения построек,,
ни материалу.
731
Применяемые у нас колонны, полуколонны и пилястры какого-либо
практического смысла не имеют и идут вразрез обыкновенно с чисто
утилитарными требованиями освещения. Когда же мы видим внешние
формы воспроизведенными из непрочных материалов, как штукатурки
или гипса, бесполезность их становится очевидной.
Штукатурные карнизы, тяги, сандрики, базы колонн, не спасаемые
от подмокания даже антихудожественными покрышками из листового
железа и обваливающиеся ежегодно весной целыми глыбами, ясно
свидетельствуют о непригодности их для нашего климата.
Применение тех же форм во внутренней архитектуре, помимо того
что они являются не обусловленными практическими соображениями,
представляется вредным в смысле гигиеничности, давая только лишние
поверхности для скопления грязи и пыли.
Несоответствие форм нашей архитектуры с требованиями жизни
видно из того, что развивающаяся торговля требует не сандриков, тяг,
рустов, а места для вывесок; не галерей, превращающих магазины в
темные помещения, а света.
Несоответствие это еще более становится ясным, когда видим, как
жизнь, не могущая считаться с условными рамками академических
традиций, безжалостно разрушает старые формы и выдвигает свои, быть
может, еще не художественные, но имеющие реальное значение.
Вот тот результат, к которому приводит постоянное стремление лишь
к блеску внешних форм. Это еще более убеждает нас в том, что
отправным пунктом в архитектуре должно быть целесообразное и что задача
истинного художника заключается не в борьбе с вывесками, похожей
на сражение Дон-Кихота с мельницами, не в борьбе с практичным и
целесообразным, а лишь в превращении его в изящное и, пожалуй, в борьбе
с рутиной, окутывающей наши здания еще до сих пор в не свойственный
им костюм.
Переходя к новейшей архитектуре, мы несомненно должны отметить
два фактора ее развития: с одной стороны, пробуждение художественного
творчества, с другой, проникновение здоровыми принципами,
выведенными из более глубокого изучения форм классической архитектуры,
показавшего, что основание прекрасного заключается в истине и
рациональности форм. Оба эти явления в связи с изменившимися жизненными
потребностями, техническими усовершенствованиями и открытиями в
области естественных наук и создали новейшую архитектуру. Так как
зодчие — представители нового направления — не придерживаются ни
одного из существовавших стилей и основываются на началах
классического искусства, то новейшая архитектура является настолько же
нарождением нового искусства, насколько и возрождением вечных принципов
прекрасного. [...]
Как ни разнообразны проявления новейшей архитектуры в
государствах Европы, модернизм в лице лучших своих представителей неизменно
732
следует принципу превращения полезного в изящное, отвергая все
излишнее.
Таким образом, коренное основание новейшей архитектуры —
удовлетворение материальных потребностей культурного человека и стремление
к красоте, служащей художественным выражением идеи создаваемого.
Идя по этому пути, модернизм отрицает утратившие конструктивное
или полезное значение формы и ищет вдохновения при создании им
новых не в стилях былого, из которых заимствует только самые здоровые
принципы, а в существе возникающих конструкций и построек. Поэтому
целесообразность, логика, стилистика материала, правда и самобытность
составляют отличительные черты произведений, конечно, лучших
представителей нового движения.
Переходя к частностям, мы должны отметить как особенность
новейшей архитектуры стремление считаться с возрастающими требованиями
чистоты и гигиены, так сильно отражающееся в формах современной
мебели и во внутренней отделке помещений. Во внешней архитектуре
чувствуются еще только начинания в этом направлении, отражающиеся
в желании, с одной стороны, избавиться от материалов, дающих пыль,
с другой — применять материалы и формы, к которым не пристает пыль,
копоть и всевозможная грязь. Обделка фасадов гладкими майоликовыми
плитками [...] свидетельствует, что стремления этого рода уже получают
осуществление.
Развитие железопромышленности и возможность широкого
применения железа в постройках дала нам средства наивыгоднейшим образом
использовать пространство при минимальных размерах толщины столбов
и перекрытий. Особенность и заслуга новейшей архитектуры заключается
в том, что она, применяя железо как настоящий строительный материал,
сумела при решении современных задач художественно выдвинуть живую
игру статической силы нового материала и сделать ее видимой. [...]
Нельзя не признать того, что новая архитектура, основанная на
практическом и полезном, не пренебрегает чисто художественными
требованиями — гармонии построек с окружающей местностью, что резко
подчеркивается в произведениях английских архитекторов.
Особенностью новейшей архитектуры является еще возвращение
к красочным и световым эффектам, так оживляющим произведения
зодчества и совсем забытым в эпоху увлечения формами Ренессанса.
Здесь должны мы отметить еще одну черту новейшего искусства,
основание которой лежит в глубине демократических воззрений
современного общества и которую нельзя не приветствовать с искренним
чувством радости,— стремление служить не только ограниченному кругу
богатых людей, могущих пользоваться плодами искусства, но и бедному
люду, внося свет, радость и тепло в его жилище.
Если мы отбросим некоторые произведения модернизма, возникшие
на почве субъективных стремлений к одной лишь оригинальности, и будем
смотреть на них как на частичное и случайное болезненное явление, то
733
новейшая архитектура в своей совокупности, в своих стремлениях и
лучших своих произведениях представится нам великим освободительным
движением от отживших и стеснительных традиций в искусстве.
Ни один человек, которому дорого искусство, не в состоянии
сопротивляться этому движению, сила которого не в субъективных воззрениях
отдельных лиц, а в глубокой и прочной связи с нашей культурой, с нашей
техникой, с лучшими демократическими стремлениями нашего века и с
рождающимися потребностями истинно прекрасного.
В. Апышков, Рациональное в новейшей
архитектуре, Спб., 1905, стр. 55—65.
П. СТРАХОВ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИКИ
[...] Архитектура благодаря своей исключительной «техничности»,
особенно в настоящее время, при широком развитии различных
строительных приемов, требующих от зодчего серьезной технической подготовки,
может быть подвергнута особенно убедительному анализу с точки зрения
связи между техникой и искусством. [...]
П. Страхов, Эстетические задачи техники, М., 1906,
стр. 49.
[...] Говоря об архитектуре, было бы несправедливым не остановиться
на весьма характерном для XIX столетия введении в строительную
практику железа как не только вспомогательного, но и основного материала
сооружений. Употребляясь сначала почти исключительно лишь в
инженерном деле, железо по мере развития металлургических производств
стало широко входить и в область архитектуры. Здесь уж техника всецело
и прямо-таки на глазах нашего времени создает новый, «железный»
стиль.
Впрочем, первые шаги на этом эстетическом поприще еще далеко не
закончены, а потому и далеко не всегда удачны. [...]
Но едва ли можно отрицать, что если не в общем, то по крайней мере
в деталях железо начинает приспособляться к эстетическим требованиям
современного вкуса, и притом путем правдивого выявления его основных
строительных свойств, то есть упругости и силы сопротивления. [...]
Там же, стр. 57—58.
[...] Какой же теоретический принцип должен быть положен в
основание стремления сделать нашу интимную обстановку более красивой?
Принцип этот есть правда, в самом широком значении этого слова. [...]
Так вот пусть техника и постарается создать хотя бы первую ступень
к интимной индивидуализации обстановки не только удешевлением и
доступностью, но, главное, истинным изяществом своих продуктов,
запечатлевая разумною красотою всякий предмет домашнего обихода.
734
Правда, богато скульптированная, многоцветная, раззолоченная
обстановка былых эпох стала теперь не под силу даже очень богатым людям, но
ведь и эстетический вкус современного человечества ушел очень далеко,
изменившись в сторону более правдивой по соответствию со всем
жизненным укладом простоты. Так что современное прикладное искусство,
заменяющее тяжеловесную роскошь былых времен — чистотой и
изящной простотой очертаний и орнаментов, драгоценность материалов — их
прекрасными качествами и обработкой, прямо-таки и глубоко
справедливо подставляет правду на место, по существу, неправого
излишества. [...]
Там же, стр. 88, 89.
[...] Но при всем этом едва ли надо и говорить, что главная задача
техники, занимающая первенствующее место в ее деятельности, состоит
в удовлетворении не эстетических, а иных, более насущных нужд
человечества, или, короче, не только в украшении, но и в самом широком
улучшении жизни, путем развития ее удобств и их общедоступности [,..]
Пусть же техника, средства которой обещают превзойти со временем
самые фантастические ожидания, внесет в созидание грядущего и, будем
верить, возможного просветления жизни щедрый вклад своего
содействия. В этом ее долг и ее честь!
Там же, стр. 99, 103.
В. МАЧИНСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ
[...] Можно сказать, что мы строимся теперь во всех стилях; не имеем
только ничего собственного, самостоятельного, соответствующего духу
нашего времени, так отличного от всех прежних эпох с их типичными
стилями. [...] У нас есть архитекторы и художники, но нет архитектуры,
нет своей руководящей идеи, доминирующего архитектурного вкуса.
Можно, конечно, ссылаться — как это и делают — на современный
индивидуализм, в силу которого каждый стремится к отличию от других
и произвольно выбирает стиль своих построек; при этом неизбежно берет
какой-нибудь готовый исторический стиль, так как не может в силу
того же отсутствия коллективности дать единолично что-либо новое.
Можно было бы также указать на демократизацию архитектурных
интересов по составу как заказчиков, так и исполнителей-архитекторов,
причем новые, очень различные и случайные социальные элементы вносят
пестроту и разнохарактерность вкусов.
В более общем виде причины эти состоят, по нашему мнению, в
неустойчивости социальных отношений настоящего исторического периода,
в отсутствии прочного социального главенства какого-либо общественного
735
класса, который мог бы во все вносить свои характерные нормы,
воззрения, вкусы. [...]
«Зодчий», 1914, № 11, стр. 126.
[...] Часто даже не специально модернистская архитектура
руководится в своих новых затеях чисто внешними приемами, не
мотивированными никакими серьезными целями, но взятыми просто по методу
противоположности с прежним, общепринятым. Подобно модернизму в
литературе и живописи, эти проявления вытекают не из накопившегося
вового художественного содержания, а из плоского, бессильного
индивидуализма, стремящегося хоть чем-нибудь отличиться от других, «выкинуть
новое колено».
Каковы же причины этого творческого бессилия в архитектуре? [...]
Процесс взаимной борьбы классов и продолжающееся самоопределение
внутри их — все это образует такую среду общественного брожения
и путаницы, в которой не могут сложиться художественные запросы
и вкусы. [...]
Вот почему так тщетно бьется современное искусство в своих
исканиях, бессильное дать что-нибудь, кроме внешних, механических
изменений: ему пока неоткуда взять нового, содержательного мировоззрения,
новых реальных, не выдуманных целей, потребностей и вкусов, так как
нет еще нового специального базиса для творчества. Этот может явиться,
очевидно, лишь в конце происходящей социальной борьбы, в результате
сложившихся общественных новообразований. Теперь же могут быть лишь
намеки на будущие потребности и вкусы, поскольку классы, идущие
к господству в будущем, существуют, складываются и растут в
настоящем. [...]
«Зодчий», 1914, № 25, стр. 300.
А. СТЕПАНОВ
О ПРОМЫШЛЕННОМ ЗОДЧЕСТВЕ
[...] Основные принципы творчества в фабрично-заводской
архитектуре все те же, что и в гражданском зодчестве; прежде всего — это
правдивость внешних форм, соответствие их внутреннему характеру
зданий. [...] Фабрично-заводские сооружения предоставляют архитектору
в большинстве случаев богатейший материал; так, уже одно разнообразие
высот отдельных помещений, вызываемое во многих отраслях
промышленности требованиями производства, дает естественно развивающийся
из плана прихотливый силуэт, таящий в себе многие художественные
возможности. Та самая дымовая труба, с которой так неуважительно
обошелся дрезденский архитектор !, сама по себе в промышленном зодче-
1 Речь идет о дымовой трубе табачной фабрики в Дрездене, нелепо
оформленной под минарет. (Прим. с ост, J
736
стве представляет фактор громадной эстетической важности. Для
иллюстрации приведем хотя бы пример котельного и машиностроительного
здания окружной лечебницы в Герборне. Здесь труба, помещенная на
естественном возвышении почвы, является как бы центральной осью,
к которой тяготеют все постройки, в том числе и ниже впереди
расположенное здание котельной, подымающееся к ней ступенями пьедестала,
органически связанного внутренними дымовыми ходами с самой трубою.
При всей простоте архитектуры грациозность силуэта, естественно
сливающегося с пейзажем, внутренняя целесообразность замысла и удачная
обработка отдельных масс дают возможность сказать, что здесь мы в
такой же мере имеем дело с произведением искусства. [...]
«Зодчий», 1915, № 12, стр. 119—120.
А. КУЗНЕЦОВ
АРХИТЕКТУРА И ЖЕЛЕЗОБЕТОН
[...] В железобетоне мы имеем не только новый материал, но — что
еще важнее — новые конструкции и новый метод проектирования зданий.
Поэтому, пользуясь им, нужно отрешиться от старых традиций и
заняться разрешением новых задач. Нельзя оставлять железобетон в сыром
виде, как он выходит в настоящее время из рук инженера-конструктора.
Нельзя обрабатывать новый материал старыми формами — камня и
дерева. Для того чтобы создавать формы, органично вытекающие из самой
сущности железобетона, необходимо овладеть техническо-научной
стороной вопроса.
Архитектор, по определению лондонского конгресса,— «художник
с научным образованием». Для работы в железобетоне больше, чем где-
либо, нужен технически образованный художник; зодчий не будет
выразителем своей эпохи, если не воспользуется прогрессом современной ему
техники во всей полноте. Архитектура — гармония науки и искусства. [...]
«Зодчий», 1915, № 19, стр. 191; № 20, стр. 209.
О. Р. МУНЦ
ПАРФЕНОН ИЛИ СВ. СОФИЯ?
[...] В основу архитектуры будущего должен быть положен принцип
целесообразного строительства. «Честное» применение материалов и
конструкций и чуткое удовлетворение потребностям современной жизни—вот
что создаст рано или поздно архитектуру грядущего. [...]
[...] Что вызвало его [неоклассипизм]? Протест ли против «модерна»,
бесцеремонно ворвавшегося в жизнь и посягнувшего на все традиции
архитектуры, своего ли рода узко понимаемый «классический»
национализм, или же эпоха творческого безвременья, заставляющая видеть
24 «История эстетики». та 4 (1 полутом) 737
щая видеть неизъяснимую прелесть в «далеком», хоть и недавнем
прошлом,— это все равно. Важно и страшно то, что такой классицизм наравне
с возвеличением декоративных свободных форм вообще грозит
катастрофой: совершенным отделением так называемой художественной
архитектуры от собственно строительства с его техническими, инженерными
новшествами. Каменные декоративные фасады, навешенные на
железобетонный остов, резкой фальшью конструкции знаменуют приближение
катастрофы. [...] Строительство будущего отвергнет эти навешенные и даже
ненавешенные фасады с их приклеенными рустами, железобетонными
пустотелыми колоннами и прочей бутафорией «стиля», желающего лишь
рекламировать, поражать и в лучшем случае подражать, но ни
приспособляться к жизни, ни отражать ее более глубокое содержание. [...]
Чтобы избежать катастрофы, надо вернуть архитектуру к ее вечному
источнику — разумному, целесообразному строительству, принцип
которого так внушительно выражен в храме св. Софии. При этом на
достижения современной техники нельзя смотреть как на исключительно
вспомогательные средства, лежащие вне области художественного
творчества. Но увлекаться ими одними было бы тоже неверно — опыт
«модерна» показал нам, что конструктивность, доведенная до щегольства
тут же придуманными выразительными формами, дает мало
удовлетворения. Традиции многовековых форм совершенно необходимы в
архитектуре, и дивный общечеловеческий «лад» Парфенона не скоро еще
потеряет свое обаяние. Когда же рано или поздно будут найдены его
вариации, соответствующие современной жизни, тогда и произойдет истинное
возрождение классики. [...]
«Архитектурно-художественный еженедельник», 1916,.
№ 2, стр. 21—22.
БИБЛИОГРАФИЯ r
Общие работы
«К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», в 2-х томах, т. I, М., «Искусство», 1957.
XXVIII, 631 стр. (Раздел: Русская литература, стр. 531—550).
«В. И. Ленин о литературе и искусстве», изд. 2, М., Гослитиздат, 1960. 783 стр.
(Разделы: Общие вопросы. О революционных демократах. О Л. Н. Толстом).
Айхенвальд Ю. И., Силуэты русских писателей, вып. 1—3, М., «Научное слова»,
1906—1910; изд. 5, М., «Мир», 1917—1923.
Аничков Е., Очерк развития эстетических учений.— В кн.: «Вопросы теории
и психологии творчества», т. VI, вып. 1, Харьков, 1915, стр. 1—242 (гл. XIV—XV.
Судьбы эстетики в России, стр. 183—230).
Благой Д., Поэзия действительности. О своеобразии и мировом значении
русского реализма XIX в., М., «Советский писатель», 1961. 168 стр.
Бобров Е., Литература и просвещение в России в XIX веке, т. I—IV, Казань,
1901—1902.
Гинзбург Л. Я., О лирике, М.—Л., «Советский писатель», 1964, 382 стр.
«История европейского искусствознания. Первая половина XIX века». Отв. ред.
Б. Р. Виппер и Т. Н. Ливанова, М., «Наука», 1965. 326 стр. (Раздел: Россия,
стр. 190-315).
«История европейского искусствознания. Вторая половина XIX века». Отв. ред.
Б. Р. Виппер и Т. Н. Ливанова, М., «Наука», 1966. 331 стр. (Раздел: Россия,
стр. 212—319).
«История русской критики» в 2-х томах. Ред. коллегия: Б. П. Городецкий (отв. ред.),
А. Лаврецкий и Б. С. Мейлах, т. 1—2, М.—Л., Изд-во Академии наук СССР, 1958.
«История русской литературы» в 10-ти томах, т. 5—10, М.—Л., Изд-во Академии
наук СССР, 1941-1956.
«История русской литературы XIX века. Библиогр. указатель». Под ред. К. Д.
Муратовой, М.—Л., Изд-во Академии наук СССР, 1962. 966 стр.
«История русской литературы конца XIX — начала XX века. Библиогр. указатель»
под ред. К. Д. Муратовой, М.—Л., Изд-во Академии наук СССР, 1963, 519 стр.
Лаврецкий Α., Эстетические взгляды русских писателей. Сб. статей, М.,
Гослитиздат, 1963. 303 стр.
Мейлах Б., Ленин и проблемы русской литературы конца XIX — начала XX
века. Изд. 3, Л., Лениздат, 1956. 415 стр.
«О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы». Сб. статей,
М.—Л., Госполитиздат, 1960. 448 стр.
«Очерки по истории русской журналистики и критики», т. 1—2, Л., Изд. Ленингр.
ун-та, 1950—1965.
«Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов
СССР». В 2-х томах. Под ред. Г. С. Васецкого, М. Т. Иовчука, А. Н. Маслина
и др. М., Изд-во Академии наук СССР, 1955—1956.
«Проблемы реализма русской литературы XIX века». (Сб. работ под ред. Б. И. Бур-
сова и И. 3. Сермана), М.—Л., Изд-во Академии наук СССР, 1961. 410 стр.
Ρ а д л о в Э., Очерк истории русской философии. Изд. 2, Пб., «Семья и школа», 1920.
99 стр. («Эстетика» — стр. 70—79).
«Русские писатели о литературном труде. (XVIII—XX вв.)». Сб. в 4-х томах под
общ. ред. Б. С. Мейлаха, Л., «Советский писатель», 1954—1956.
«Русские писатели о переводе. XVIII—XIX вв.». Под ред. Ю. Д. Левина и A.B.
Федорова. Вступит, ст. А. В. Федорова, Л., «Советский писатель», 1960. 696 стр.
1 В составлении библиографии принимали участие А. А. Белкин, В. В. Ванслов,
С. С. Деркач, И. И. Дикман, Н. А. Земунд, Р. В. Иезуитова, 3. А. Каменский,
Е. В. Ланда, А. А. Лебедев, Ю. Д. Левин, К. Н. Ломунов, А. А. Лурье, Ю. В. Манн,
А. В. Михайлов, С. Ю. Неклюдов, 3. В. Смирнова, М. И. Ульман, Н. В. Фридман.
Редактор библиографии Ю. Д. Рыскин.
24*
739
«Русские писатели о языке (XVIII—XX вв.)»· Под ред. Б. В. Томашевского и
Ю. Д. Левина, Л., «Советский писатель», 1954. 835 стр.
Тянынов Ю., Архаисты и новаторы, Л., «Прибой», 1929. 596 стр.
Шпет Г. Г., Очерк развития русской философии, ч. I, Пб., «Колос», 1922, XVI,
348 стр.
Zenkovsky V. Aus der Geschichte der ästhetischen Ideen in Russland im 19.
und 20. Jahrhundert. 's-Gravenhage, 1958. 62 стр.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 1800—1830 ГОДОВ
Общая литература
«Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика»*
Сост. Вл. Орлов, М.—Л., Гослитиздат, 1951, XVI, 688 стр.
«Избранные социально-политические и философские произведения декабристов».
[Вступит, ст. И. Я. Щипанова], т. 1—3, М., Госполитиздат, 1951.
Б а з а н о в В., Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика,
М., Гослитиздат, 1953. 527 стр.
Б а з а н о в В., Очерки декабристской литературы. Поэзия, М.—Л., Гослитиздат,
1961. 471 стр.
3 а м о τ и н И. И., Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе,
т. 1—2. Изд. 2, Спб.—М., 1911—1913, 389, 453 стр.
M е й л а χ Б. С, Литературно-эстетическая программа декабристов.— В кн.: M е й-
л а χ Б. С, Вопросы литературы и эстетики, Л., 1958, стр. 252—301.
Мордовченко Н. И., Русская критика первой четверти XIX века, М.—Л., Изд-во
Академии наук СССР, 1959. 432 стр.
Орлов В л., Русские просветители 1790—1800-х годов. Изд. 2, М., Гослитиздат,
1953. 543 стр.
Поспелов Г. Н., Литературная борьба 1800—1810-х годов.—В кн.: «Лекции по
истории русской литературы XIX века», вып. 1, М., 1951, стр. 5—42.
Смирнова 3. В., Эстетика русских революционеров-декабристов.— В кн.:
Овсянников М. Ф. и Смирнова 3. В., Очерки истории эстетических учений, М.,
1963, стр. 308-318.
Соболев В., Периодическая печать в России в начале XIX века и журналистика
декабристов. Лекции..., М., 1952. 31 стр.
Соколов А. Н., Эстетические взгляды и художественное творчество декабристов.—'
В кн.: Соколов А. Н., От романтизма к реализму, М., 1957, стр. 52—84.
ΠΙ τ а м б о к Α., Декабристы и русская эстетика.— «Искусство», 1951, № 6,
стр. 58—66.
Passage Charles Ε., The Russian Hoffmannists. The Hague, Mouton, 1963, 261 p.
Cizevsky D., On romanticism in Slavic literature. 's-Gravenhage, 1961, 63 p.
Литература к отдельным авторам
Α. Φ. Мерзляков
Сочинения:
Мерзляков А. Ф., Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам
сочинений прозаических. Изд. 4, М., 1828. ИЗ стр.
Мерзляков А. Ф., Краткое начертание теории изящной словесности. В 2-х ч.,
М., 1822. 328 стр.
Мерзляков А. Ф., Слово о духе, отличительных свойствах поэзии первобытной
и о влиянии, какое она лмела на нравы, на благосостояние народов..., М., 1808.
29 стр.
Мерзляков А. Ф., Стихотворения. [Вступит, ст. Ю. М. Лотмана], Л., «Советский
писатель», 1958. 327 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
740
Литература:
Белоруссов И. Мм Зачатки русской литературной критики. Вып. 2. А. Ф.
Мерзляков как теоретик и критик, Воронеж, 1888. 82 стр.
Виноградов Φ. Α., А. Ф. Мерзляков. Опыт литературной характеристики.—
В кн.: «Отчет о состоянии Шестой С.-Петербуррской гимназии за 1907—1908
учебный год», Пб., 1908, стр. 5—46.
M и з к о Н. Н., Алексей Федорович Мерзляков. 1778—1830 гг. Биогр.-критич.
очерк.— «Русская старина», Спб., 1879, т. 24, № 1, стр. 113—140.
Ш е в ы ρ е в С. П., Мерзляков А. Ф. — В кн.: «Биографический словарь профессоров
и преподавателей императорского Московского университета», ч. II, М., 1855,
стр. 52—100.
К. Н. Батюшков
Сочинения:
Батюшков К. Н., Сочинения. [Вступит, ст. Л. Н. Майкова], т. 1—3, Пб., изд.
П. Н. Батюшкова, 1885^1887.
Батюшков К. Н. Стихотворения. [Вступит, ст. Б. С. Мейлаха], Л., «Советский
писатель», 1941. 264 стр. (Б-ка поэта).
Батюшков К. Н., Полное собрание стихотворений. [Вступит, ст. В. Н.
Фридмана], М.—Л., «Советский писатель», 1964. 354 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
Литература:
Грот Я. К., Очерк личности и поэзии Батюшкова.— «Сб. Отд-ния рус. яз. и
словесности имп. Академии наук», Спб., 1887, т. 43, № 1, стр. 1—17..
Τ о м а ш е в с к и й Б. В., К. Н. Батюшков.— В кн.: Батюшков К. Н.,
Стихотворения, М., 1948, стр. V—LX.
В. А. Жуковский
Сочинения:
Жуковский В. Α., Полное собрание сочинений. [С биогр. очерком А. С.
Архангельского], т. 1—12, Спб., изд. А. Ф. Маркса, 1902.
Жуковский В. Α., Собрание сочинений в 4-х томах. [Вступит, ст. И. М. Семенко],
М.—Л., Гослитиздат, 1959—1960.
Жуковский В. Α., Стихотворения. [Вступит, ст. Ц. Вольпе], т. 1—2, Л.,
«Советский писатель», 1939—1940. (Б-ка поэта).
Литература:
Веселовский А. Н., Поэзия чувства и «сердечного воображения», Пг., 1918.
XIII, 550 стр.
Котляревский Н., Сентиментальное миросозерцание и его художественное
отражение в стихах Жуковского.— В кн.: Котляревский Н., Литературные
направления Александровской эпохи, изд. 3, Пг., 1917, стр. 44—107.
Ρ у с о в а 3. И., О некоторых особенностях романтизма в поэмах В. А.
Жуковского.— «Ученые записки Горьк. ун-та», 1958, вып. 48, стр. 37—44.
Сак у лин П. Н., Взгляд Жуковского на поэзию, М., 1902. 39 стр.
Соловьев СВ., Взгляды В. А. Жуковского на поэзию.—В кн.: «Харьковский
университетский сборник в память В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», Харьков,
1903, стр. 150а—162.
Ε h г h а г d M., V. A. Joucovski et le préromantisme russe, Paris, 1938, 442 p.
A. С. Пушкин
Сочинения:
Π y ш к и н А. С, Полное собрание сочинений, т. 1—17, М.—Л., Изд-во Академии
наук СССР, 1937—1959.
741
Пушкин А. С, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, изд. 3-е, М.—Л., Изд-во
Академии наук СССР, 1963—1966.
Пушкин А. С, О литературе. Сост. и примеч. Н. В. Богословского, М.,
Гослитиздат, 1962. 590 стр. «А. С. Пушкин об искусстве». Вступит, ст. Г. М. Кока, М.,
Изд-во Академии художеств СССР, 1962, 200 стр.
Литература:
Асмус В., Пушкин и теория реализма.-— «Рус. лит-ра», Л., 1958, № 3, стр. 89—101.
Белинский В. Г., Сочинения Александра Пушкина. Предисл. Н. И. Мордовченко,
Л., ГИХЛ, 1937. 708 стр.
Бонди С, Историко-литературные опыты Пушкина.— «Литературное наследство»,
т. 16—18, М., 1934, стр. 421—442.
Гершензон М., Мудрость Пушкина, М., «Кн-во писателей в Москве», 1919.
206 стр.
Г у к о в с к и й Г. Α., Пушкин и проблемы реалистического стиля, М., Гослитиздат,
1957, 414 стр.
Г у к о в с к и й Г. Α., Пушкин и русские романтики, М., Изд-во «Худож. лит-ра»,
1965. 355 стр.
Г у ρ е в и ч А. М., О поэтических декларациях Пушкина-реалиста.— «Науч. докл.
высш. школы». Филол. науки, М., 1961, № 4, стр. 23—30.
Д ρ я г и н К., Борьба Пушкина за реалистическую эстетику.— В кн.: «Пушкин —
родоначальник новой русской литературы». Сб. науч.-исслед. работ, М.—Л., 1941,
стр. 471—491.
К о з м и н Н. К., Взгляд Пушкина на драму.— В кн.: «Памяти А. С. Пушкина». Сб.
статей, Спб., 1900, стр. 179—225.
Литвиненко Н., Взгляды Пушкина на драму и театр.— В кн.: «Пушкин и
театр», М., 1953, стр. 42—93.
Луначарский А. В., Пушкин-критик.— «Литературное наследство», т. 16—18,
М., 1934, стр. 35—48.
M е й л а χ Б. С, Незавершенная литературно-эстетическая декларация Пушкина
30-х годов.— В кн.: «Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков»,
М.—Л., 1958, стр. 88—97.
M е й л а χ Б. С, Пушкин и его эпоха, М., Гослитиздат, 1958. 698 стр.
M е й л а χ Б., Пушкин и русский романтизм, М.— Л., Изд-во Академии наук СССР,
1937. 296 стр.
Мейлах Б., Художественное мышление Пушкина как творческий процесс, М.—Л.,
Изд-во Академии наук СССР, 1962. 250 стр.
Сергиевский И., Пушкин и Белинский.—В кн.: Сергиевский И.,
Избранные работы, М„ 1961, стр. 215—330.
Сергиевский И., Эстетические взгляды Пушкина.— В кн.: Сергиевский И.,
Избранные работы, М., 1961, стр. 15—39.
Томашевский Б., Пушкин, кн. 1—2, М.—Л., Изд-во Академии наук СССР,
1956—1961.
П. А. Вяземский
Сочинения:
Вяземский П. Α., Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского, т. 1—12,
Спб., изд. С. Д. Шереметьева, 1878—1896.
Вяземский П. Α., Стихотворения. Вступит, ст. Л. Я. Гинзбург, Л., «Советский
писатель», 1958. 507 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
Литература:
Кульман Н. К., Князь Петр Андреевич Вяземский как критик.— «Известия
Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Академии наук», Спб., 1904, т. IX, кн. 1,
стр. 273—335.
742
Μ ο ρ д о в ч θ н к о Н. И., П. А. Вяземский.— В кн.: Мордовченко Н. И., Русская
критика первой четверти XIX века, М.—Л., 1959, стр. 280—313.
Ρ о з а н о в И. Н., Кн. Вяземский и Пушкин, М., 1915. [2], 20 стр.
Языков Дм., Князь Петр Андреевич Вяземский, М., 1904. 45 стр.
Η. М. Языков
Сочинения:
Языков Н. М., Полное собрание стихотворений. [Вступит, ст. М. К. Азадовского]
М.— Л., «Academia», 1934. 925 стр.
[Языков Н. М.], Письма H. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни
(1822—1829), Спб., изд. Отд-ния рус. яз. и словесности Академии наук, 1913
VIII, 26, 502 стр.
Языков Н. М., Письма к Н. В. Гоголю.— «Рус. старина», 1896, № 12, стр. 617—647.
«Из писем H. М. Языкова к брату его Александру Михайловичу».—«Рус. старина»
1903, № 3, стр. 529-539.
Литература:
А й χ е н в а л ь д Ю. И., H. М. Языков.— В кн.: «История русской литературы XIX
века», М., 1900, стр. 58—62.
Бобров С, Дерптские письма H. М. Языкова.— В кн.: Бобров С, Записки
стихотворца, М., 1916, стр. 7—20.
Бобров С, Н. М. Языков о мировой литературе, М., «Центрифуга», 1916. 14 стр.
Божерянов И. Н., Памяти Н. М. Языкова.—«Рус. вестник», М., 1896, № 12,
стр. 147—158.
Киреевский И., О стихотворениях г. Языкова.— В кн.: Киреевский И.,
Полн. собр. соч., т. 2, М., 1911, стр. 76—86.
Полевой К. С, Стихотворения Н. Языкова.— «Моск. телеграф», 1833, № 6, март,
стр. 228—237.
Рыбинский В. С, Н. М. Языков.— «Филол. записки», Воронеж, 1897, вып. L
Смирнов В. Я., Жизнь и поэзия H. М. Языкова, Пермь, 1900. 226 стр.
Ш е н ρ о к В. И., Николай Михайлович Языков.— «Вестник Европы», Спб., 1897, № И,
стр. 134—173; № 12, стр. 597—651.
К. Ф. Рылеев
Сочинения:
Рылеев К. Ф., Полное собрание сочинений. [Вступит, ст. А. Г. Цейтлина], М.—Л.,
«Academia», 1934. 908 стр.
Литература:
Π иг а ρ ев К. В., Жизнь Рылеева, М., «Советский писатель», 1947, 256 стр.
Ц е й τ л и н А. Г., Творчество Рылеева, М., Изд-во Академии наук СССР, 1955. 304 стр.
В. К. Кюхельбекер
Сочинения:
Кюхельбекер В. К., Сочинения. [Вступит, ст. Ю. Тынянова], т. 1—2, Л.,
«Советский писатель», 1939. (Б-ка поэта).
Кюхельбекер В. К., Лекция о русской литературе и русском языке.—
«Литературное наследство», т. 59, М., 1954, стр. 366—380.
Литература:
Котляревский Η. Α., Литературная деятельность декабристов. В. К. Кюхель*
бекер.— «Рус. богатство», Спб., 1901, № 3, стр. 110—137; № 4, стр. 47—87.
743
Μ ο ρ д о в ч е н к о Н. И., В. К. Кюхельбекер как литературный критик.— «Ученые
записки Ленингр. ун-та», 1948, № 90. Серия филол. наук, вып. 13, стр. 60—100»
Орлов В. Н., Статья Кюхельбекера «Поэзия и проза»
(1835—1836).—«Литературное наследство», т, 59, М., 1954, стр. 381—390. (Статья публикуется на
стр. 391—394).
Тынянов Ю., «Аргивяне», неизданная трагедия Кюхельбекера.— В кн.:
Тынянов Ю., Архаисты и новаторы, Л., 1929, стр. 292—329.
А. А. Бестужев (Марлинский)
Сочинения:
Бестужев-Марлинский Α. Α., Собрание стихотворений. [Вступит, ст*
Н. И. Мордовченко], [М.], «Советский писатель», 1948. XLIV, 215 стр. (Б-ка поэта).
Бестужев-Марлинский Α. Α., Сочинения в 2-х томах. [Вступит, ст. Η. Н.
Маслина], М., Гослитиздат, 1958.
Литература:
Башнин Ю. Н., Взгляды А. А. Бестужева-Марлинского на литературу и на
некоторые особенности ее развития.— «Ученые записки Карел, пед. ин-та»,
Петрозаводск, 1959, т. 6, стр. 91—114.
Башнин Ю. Н., Проблема художника в эстетике А. А. .Бестужева-Марлинского.—
«Ученые записки Карел, пед. ин-та», Петрозаводск, 1960, т. 9, стр. 132—158.
Богданова Α. Α., А. А. Бестужев как переводчик, рецензент и критик.— «Ученые
записки Новосиб. пед. ин-та», 1945, вып. 1, стр. 104—132.
Бороздин А. К., Критические обозрения А. А. Бестужева.— В кн.:
Бороздин А. К., Литературные характеристики. Девятнадцатый век, т. 1, Пб., 1903,
стр. 206—219.
Котляревский Н., Декабристы кн. А. И. Одоевский и А. А.
Бестужев-Марлинский, их жизнь и литературная деятельность, Спб., 1907. VI, 439 стр.
Маслин Н., О романтизме А. Марлинского.—«Вопросы лит-ры», М., 1958, № 7,
стр. 141—169.
Π о л у д н е н к о Ю. Г., А. А. Бестужев-Марлинский как критик.— «Наук, записки
Кшвськ. пед. ин-ту», 1962, т. 32, стр. 125—139.
Ш а ρ у π и ч А. П., Декабрист Александр Бестужев. Вопросы мировоззрения и
творчества, Минск, 1962. 92 стр.
П. Я. Чаадаев
Сочинения:
Чаадаев П. Я., Сочинения и письма. Под ред. М. Гершензона, т. 1—2, М., «Путь»,
1913—1914.
Чаадаев П. Я., Неизданные «Философические письма». Вступит, ст. В. Асмуса
и Д. Шаховского. Публикация, пер. и коммент. Д. Шаховского.— «Литературное
наследство», т. 22—24, М., 1935, стр. 1—78.
Чаадаев П. Я., Неопубликованная статья.— «Звенья». Сб. материалов и
документов..., т. III—IV, М.—Л., 1934, стр. 365—390.
Чаадаев П. Я., Три письма.— «Звенья». Сб. материалов и документов..., т. V,
М.— Л., 1935, стр. 208—232.
Литература:
Афанасьев М. К., Общественно-политические взгляды П. Я. Чаадаева.— «Труды
Воронеж, гос. ин-та», т. 14, вып. 1, 1946, стр. 60—63; вып. 2, 1947, стр. 141—156.
Бобров Е., Шеллинг и Чаадаев.—В кн.: Бобров Е., Философия в России,
вып. IV, Казань, 1901, стр. 1—17.
744
Богучарский В., Три западника 40-х годов (П. Я. Чаадаев, В. Г. Белинский
и А. И. Герцен), Спб., 1902. 391 стр.
Г е ρ ш е н з о н М. О., П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление, Спб., 1908, IV, 320 стр.
Григорьян M. М., Чаадаев и его философская система.—«Ученые записки
Академии обществ, наук при ЦК КПСС», вып. 44 («Из истории философии», вып. 2)
М., 1958, стр. 126-183.
Ковалевский M. М., Ранние ревнители философии Шеллинга в России. Чаадаев
и Киреевский.— «Русская мысль», 1916, № 12, стр. 115—135.
Лебедев Α., Чаадаев, М., «Молодая гвардия», 1965. 270 стр.
Мандельштам О., Петр Чаадаев.— «Аполлон», Пг., 1915, № 6—7, стр. 57—62.
M е л и к я н В. Α., П. Я. Чаадаев и А. С. Пушкин.— «Ученые записки Ерев. пед.
ин-та», 1949, т. I, стр. 81—92.
Спекторский Е. В., К характеристике Чаадаева,— В кн.: «Сборник Русского-
института в Праге», т. I, Прага, 1929, стр. 47—68.
Ш к у ρ и н о в П. С, Мировоззрение П. Я. Чаадаева, М., Изд-во Моск. ун-та, 1958.
Ш к у ρ и н о в П. С, П. Я. Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение, М., Изд-во
Моск. ун-та, 1960. 147 стр.
Q и е η е t С h., Tchaadaev et les Lettres philosophiques. Contribution a l'étude du
mouvement des idées en Russie, 1931.
S с h e i b e г t P., Neue Texte von Petr Jakovlevic Caadaev.— «Zeitschrift für slavische
Philologie», Bd. XXVIII, Heft I u. 2, 1959, SS. 44-58, 413-415.
W i η k 1 e r M., Petr Jakovlevic Caadaev, 1927.
O. M. Сомов
Сочинения:
Сомов О., О романтической поэзии. Опыт в 3-х статьях, Спб., 1823. 104 стр.
Литература:
К и ρ и л ю к 3., О. М. Сомов (Из истории литературной борьбы 20-х годов XIX
века) .— «Русская литература», Л., 1960, № 1, стр. 105—112.
К и ρ и л ю к 3. В., О. М. Сомов — критик и беллетрист пушкинской эпохи. Автореф.
дис, Киев, 1961, 15 стр.
Е. А. Баратынский
Сочинения:
Баратынский Ε. Α., Полное собрание сочинений. [Под. ред. и с примеч.
М. Л. Гофмана], т. 1—2, Спб., изд. имп. Академии наук, 1914—1915.
Баратынский Ε. Α., Стихотворения, поэмы, проза, письма. [Вступит, ст. К. Пи-
гарева], М., Гослитиздат, 1951. 648 стр
Литература:
Купреянова Е. П., Эстетические взгляды Баратынского.— «Лит. учеба», М.г
1936, № И, стр. 114—123.
Мазепа H. Р., Е. А. Баратынский. Эстетические и литературно-критические
взгляды, Киев, изд. Академии наук УССР, 1960. 92 стр.
Мандельштам О. М., О собеседнике.— В кн.: Мандельштам О. М., О
поэзии, Л., 1928.
Τ о й б и н И. М., Об особенностях общественно-литературной позиции раннего
Баратынского.— «Науч. докл. высш. школы». Филол. науки, М., 1961, № 2,
стр. 102—109.
Филиппович П. П., Жизнь и творчество Е. А. Баратынского, Киев, 1917. И,
220 стр.
745
А. И. Галич
Сочинения:
Галич А. И., Опыт науки изящного, Спб., 1825. XXII, 222 стр.
Литература:
Ельницкий Α., Галич Александр Иванович.—В кн.: «Русский биографический
словарь», т. 4, М., 1914, стр. 169—175.
Никитенко Α., Александр Иванович Галич, бывший профессор С. Петербург-«
ского университета, Спб., 1869. 100 стр.
Рад л ов Э., А. И. Галич.— В кн.: Пушкин А. С, Собрание сочинений, т. 1, Спб.,
Брокгауз-Ефрон, 1907, стр. 241—246.
Д. В. Веневитинов
Сочинения:
Веневитинов Д. В., Полное собрание сочинений. [Вступит, ст. Д. Д. Благого],
М.—Л., «Academia», 1934. 538 стр.
Веневитинов Д. В., Избранное. [Вступит, ст. Б. В. Смиренского], М.,
Гослитиздат, 1956. 259 стр.
Литература:
Бобров Е., Критическая деятельность Д. В. Веневитинова.— В кн.: Бобров Е.,
Литература и просвещение в России XIX в., т. 2, Казань, 1902, стр. 150—174.
Котляревский Н., Мысли о поэзии и призвании поэта и их выражение в
лирике Веневитинова.— В кн.: Котляревский Н., Литературные направлепия
александровской эпохи, изд. 2, Пб., 1913, стр. 250—262.
Некрасов Ф., Д. В. Веневитинов как поэт и критик.— В кн.: «Пушкинский
сборник...». Под ред. А. И. Кирпичникова, М., 1900, стр. 41—99.
Пятковский А. П., Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов, Пб.,
«Наблюдатель», 1901. 167 стр.
В. Ф. Одоевский
Сочинения:
Одоевский В. Ф., Повести и рассказы. Вступит, ст. Е. Ю. Хин, М., Гослитиздат,
1959, 496 стр.
Одоевский В. Ф., Музыкально-литературное наследие. Вступит, ст. Г. Б. Бер-
нандта, М., Музгиз, 1956. 723 стр.
Одоевский В. Ф., Русские ночи. Предисл. С. А. Цветкова, «Путь», 1913. 6. 429,
2 стр.
Литература:
Б е ρ н а н д τ Г. Б., Идея народности в работах В. Ф. Одоевского.— «Советская
музыка», М., 1948, № 3, стр. 44—52.
Грановский Б., Начало музыкально-критической деятельности В. Ф.
Одоевского.— «Ученые записки Ленингр. науч.-исслед. ин-та театра, музыки и
кинематографии», 1958, т. 2. Сектор музыки, стр. 255—283.
Иванов-Корсунский В. М., Музыкальная деятельность князя В. Ф.
Одоевского.— В кн.: «Музыкальная летопись». Статьи и материалы под ред. А. Н. Рим-
ского-Корсакова, сб. I, Пг1, «Мысль», 1922, стр. 108—154.
Измайлов Н., Пушкин и князь В. Ф. Одоевский.— В кн.: «Пушкин в мировой ли^
тературе». Сб. статей, М., 1926, стр. 289—308.
746
Котляревский Η. Α., Князь Владимир Федорович Одоевский, автор «Русских
ночей».— «Известия Отд. рус. яз. и словесности имп. Академии наук», Спб., 1904,
т. 9, № 2, стр. 162—176.
Протопопов В. В., В. Ф. Одоевский как музыкальный критик.— В кн.:
Одоевский В. Ф., Избранные музыкально-критические статьи, М.—Л., 1951, стр. 3—18.
Пятковский А. П., Князь В. Ф. Одоевский. Литературно-биографический очерк
в связи с личными воспоминаниями, Пб., 1800. 59 стр.
С а к у л и н П. Н., Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский.
Мыслитель. Писатель, т. ΐ, ч. 1—2, М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1913.
Φ и н а г и н А. В., От мистического идеализма к научному реализму (кн. В. Ф.
Одоевский).—В кн.: «De musica». Временник Отдела теории и истории музыки Гос.
ин-та истории искусства, вып. 2, Л., 1926, стр. 28—42.
Н. И. Надеждин
Литература:
Д е ρ к а ч е в И. 3., Очерк эстетики Н. И. Надеждина.— «Ученые записки Ульяновск,
пед. ин-та», 1956, вып. 8, стр. 431—447.
Камашев И., Несколько замечаний на рассуждение г. Надеждина о
происхождении, свойствах и судьбе поэзии, так называемой романтической.— «Моск.
вестник», 1830, ч. 3, № 9, стр. 44—57.
К о з м и н Н. К., Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная
деятельность, Пб., 1912. VII, 562 стр.
Манн Ю., Н. И. Надеждин — предшественник Белинского.— «Вопросы лит-ры», М.,
1962, № 6, стр. 143—166.
Мезенцев П. Α., Η. И. Надеждин и В. Г. Белинский.— «Ученые записки Кишинев,
ун-та», 1956, т. 22, стр. 15—34.
О с о в ц о в С. М. Предшественник В. Г. Белинского.— «Ученые записки Ленингр.
пед. ин-та им. А. И. Герпена», 1957, т. 134, стр. 113—127.
Полевой Н., О начале, сущности и участи поэзии, романтической называемой.
Рассуждение историко-критико-состязательное. Сочинение Н. Надеждина.—
В кн.: Полевой Н., Очерки русской литературы, ч. 2, Спб., 1839, стр. 284—298.
Поляков М., Белинский в Москве.— М., «Моск. рабочий», 1948. 314 стр. (Об
эстетических взглядах Надеждина преимущественно в гл. 3, стр. 93—173).
Н. А. Полевой
Сочинения:
Полевой Н., Очерки русской литературы, ч. I—II, Спб., 1839.
Литература:
Азадовский М. К., Фольклоризм и фольклористика в последекабрьский период.
(Полевой) .— В кн.: Азадовский М. К., История русской фольклористики, М.,
1958, стр. 223—239.
Гуляев Н., Литературно-эстетические взгляды Н. А. Полевого.— «Вопросы
лит-ры», М., 1964, № 12, стр. 69—87.
К о з м и н Н. К.,Очерки по истории русского романтизма. Н. А. Полевой как
выразитель литературных направлений современной ему эпохи, Пб., 1903. 574 стр.
Орлов В. Н., Н. Полевой — литератор 30-х годов.— В кн.: Н. Полевой,
Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов, Л., 1934,
стр. 11—76.
Полевой П. Н., Н. А. Полевой.— В кн.: Полевой П. Н., История русской
словесности, т. 3, Пб., 1900, стр. 190—222.
Скабичевский Α., Начало и развитие русской критики. Н> А. Полевой.— В кн.:
Скабичевский Α., Сочинения, т. I, Спб., 1903, стр. 221—236.
747
Сухомлинов M. И., H. А. Полевой и его журнал «Московский телеграф».—
В кн.: Сухомлинов М. И., Исследования и статьи по русской литературе
и просвещению, т. 2, Пб., 1889, 365—431.
М. Ю. Лермонтов
Сочинения:
Лермонтов М. Ю., Сочинения, т. 1—6, М.—Л., Изд-во Академии наук СССР,
1954—1957.
Лермонтов М. Ю., Полное собрание сочинений, т. 1—5, М.—Л., «Academia»,
1935—1937.
Литература:
Белинский В. Г., М. Ю. Лермонтов. Статьи и рецензии. [Вступит, ст. Н. И. Мор-
довченко], изд. 2, Л., Гослитиздат, 1941. 264 стр.
Бродский Н. Л., Философские основы поэзии Лермонтова.— «Литература в
школе», М., 1941, № 4, стр. 23—32.
Луначарский А. В., М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Луначарский А. В.,
Классики русской литературы, М., 1937, стр. 175—188.
Максимов Д. Е., Поэзия Лермонтова, Л., «Советский писатель», 1959. 326 стр.
Михайлова Ε. Н., Идея личности у Лермонтова и особенности ее
художественного воплощения.— В кн.: «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова», сб. 1, М.,
1941, стр. 125—162.
Михайлова Е. Н., Проза Лермонтова, М., Гослитиздат, 1957. 382 стр.
Петров С. М., Поэтическое самосознание Лермонтова.— «Лит. Мордовия», Саранск,
1941, № 2(4), стр, 18—40.
Соколов А. Н., О романтизме Лермонтова.— «Ученые записки Моск. ун-та», 1946,
вып. 118, кн. 2, стр. 108—123.
Эйхенбаум Б. М., Литературная позиция Лермонтова.— «Литературное
наследство», т. 43—44, М., 1941, стр. 3—82.
Эйхенбаум Б. М., Общественно-политические декларации Лермонтова. (1838—
1841).—«Ученые записки Ленингр. ун-та», 1943, № 87. Серия гуманитар, наук,
стр. 152—172.
Эйхенбаум Б. М., Художественная проблематика Лермонтова.— В кн.: Л е ρ м о н-
т о в М. Ю., Сочинения, т. 1, Л., 1940, стр. 7—28.
Эйхенбаум Б. М., Статьи о Лермонтове, М., Изд-во Академии наук СССР,
1961. 372 стр.
Н. В. Гоголь
Сочинения:
Гоголь Н. В., Полное собрание сочинений, т. I—XIV, М., Изд-во Академии наук
СССР, 1937—1952.
Гоголь Н. В., Собрание сочинений в 6-ти томах. [Вступит, ст. Н. Л. Степанова], М.,
Гослитиздат, 1952—1953.
Гоголь Н. В., О литературе. Избр. статьи и письма. [Вступит, ст. Н. В.
Богословского], М., Гослитиздат, 1952. 331 стр.
Литература:
А н и к с τ Α., Гоголь о реализме в драме.— «Театр», М., 1952, № 3, стр. 41—52.
Белинский В. Г., О Гоголе. Статьи, рецензии, письма. [Вступит, ст. С. Машин-
ского], М., Гослитиздат, 1949. 512 стр.
Белый Андрей, Мастерство Гоголя, М.—Л., ГИХЛ, 1934. 317 стр.
748
Б e ρ к о в В. О., Гоголь о музыке, М., Музгиз, 1952. 32 стр.
Бороздин А. К., Развитие взглядов Гоголя на творчество.— В кн.: «Н. В. Гоголь.
Речи, посвященные его памяти...», Пб., 1902, стр. 31—46.
Гиппиус В. В., Литературные взгляды Гоголя.—- «Лит. учеба», М., 1936, № 11,
стр. 52—73.
Г у к о в с к л и Г. Α., Реализм Гоголя, М.~Л., Гослитиздат, 1959. 532 стр.
Дмитриев Ю. А. и Фрадкин Л. 3., Гоголь о сценическом искусстве.—
«Ежегодник Ин-та истории искусств», 1953. Театр, М., 1953, стр. 142—163.
Дурылин С. Н., Гоголь об искусстве.—«Вопросы философии», М., 1952, Яг 3,
стр. 65—79.
И з е ρ г и н а Н. П., Проблема типического в литературно-эстетических взглядах
Н. В. Гоголя 30-х — начала 40-х годов.— «Ученые записки Киров, иед. ин-та»,
1957, вып. 11, стр. 51—68.
К а н у н о в а Ф. 3., Некоторые особенности реализма Н. В. Гоголя. (О соотношении
реалистического и романтического начал в эстетике и творчестве писателя),
Томск, Изд. Томск, ун-та, 1962. 135 стр.
К л е м а н М., Гоголь о художественном творчестве. (По материалам переписки) .—
«Лит. учеба», М., 1934, № 4, стр. 48—61.
Ключарев Ю., Статья Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени».—
«Архитектура СССР», М., 1952, № 2, стр. 20—21.
Машинский С. О., Гоголь и народная историко-поэтическая традиция.— «Лит.
учеба», М., 1938, № 3, стр. 25—54.
M а ш к о в ц е в Н. Г., Гоголь в кругу художников, М., «Искусство», 1955. 170 стр.
M а ш к о в ц е в H., Н. В. Гоголь и изобразительное искусство. Русская живопись
30—40-х годов XIX в. и художественное мастерство писателя.— «Искусство», М.,
1959, № 12, стр. 46—51.
Мельниченко О. Г., Н. В. Гоголь и литературное движение 30-х годов XIX
века. (К вопросу о борьбе Гоголя за национальную реалистическую русскую
литературу).— «Известия Воронеж, пед. ин-та», 1956, т. 21, стр. 27—59.
Мельниченко О. Г., Гоголь как литературный критик.— «Ученые записки Во-
логод. пед. ин-та», 1953, т. 12, стр. 3—100.
Найди ч Э. Э., К вопросу о литературных взглядах Гоголя. («Учебная книга
словесности для русского юношества»).—В кн.: «Гоголь. Статьи и материалы», Л.,
1954, стр. 100—123.
Покусаев В., Гоголь об «истинно общественной» комедии.— «Рус. лит-ра», Л.,
1959, № 2, стр. 31—44.
Рождественский Б. В., Об эстетических взглядах Н. В. Гоголя.— «Ученые
записки Моск. гор. пед. ин-та», 1954, т. 34. Кафедра рус. лит-ры, вып. 3,
стр. 177—196.
Степанов А. Н., Публицистические выступления Гоголя в «Литературной
газете» А. А. Дельвига.— «Ученые записки Ленингр. ун-та», 1957, № 218. Серия фи-
лол. наук, вып. 33, стр. 3—18.
Χ ρ а π ч е н к о М. Б., Творчество Гоголя, изд. 3, М., «Советский писатель», 1959.
620 стр.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 40—60-х ГОДОВ XIX ВЕКА
Петрашевцы
Источники:
Ахшарумов Д. Д., Записки петрашевца, М.—Л., «Молодая гвардия», 1930.
270 стр.
«Дело петрашевцев», т. 1—3, М.—Л., Изд-во Академии наук СССР, 1937—1951.
«Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», изд.
Н. Кирилова, вып. 1—2, Спб., 1845—1846.
749
Майкой В. H., Критические опыты, Спб., «Пантеон лит-ры», 1891. XLVII, 750 стр.
«Поэты-петрашевцы». [Вступит, ст. В. В. Жданова], Л., «Советский писатель», 1957.
387 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
«Философские и общественно-политические произведения петрашевцев». [Вступит.
ст. В. Е. Евграфова], М., Госполитиздат, 1953. 824 стр.
Литература:
Гаранина Н. С, Театрально-критическая деятельность А. Н. Плещеева.—
«Вестник Моск. ун-та». Филология и журналистика, М., 1960, № 4, стр. 57—66.
Д е ρ к а ч С. С, О литературно-эстетических взглядах петрашевцев.— «Вестник Ле-
нингр. ун-та», 1957, № 14, вып. 3, стр. 77—94.
Ж е г л о в П. П., Литературные взгляды петрашевцев.— «Ученые записки Ленингр.
ун-та», 1939, № 47. Серия филол. наук, вып. 4, стр. 198—220.
Зельдович М. Г., К характеристике литературно-эстетических взглядов
М. В. Петрашевского.— «Ученые записки Харьк. ун-та», 1956, т. 70, № 3,
стр. 235—259.
Лейкина-Свирская В. Р., О характере кружка петрашевцев.— «Вопросы
истории», М., 1956, № 4, стр. 96—106.
Лейкина-Свирская В. Р., Петрашевцы и общественное движение 40-х годов.
Автореф. дисс. ... д-ра ист, наук, Л., 1956. 24 стр.
Манн Ю., Валериан Майков.— «Вопросы лит-ры», М., 1963, № 11, стр. 103—123.
Плеханов Г. В., Виссарион Белинский и Валериан Майков.— В кн.: Π л е χ а-
н о в Г. В., Литература и эстетика, т. 1, М., 1958, стр. 389—425.
Прозоров М. Н., Эстетические взгляды В. Н. Майкова.— «Доклады на науч.
конференциях» (Яросл. пед. ин-т), 1964, т. 3, вып. 2. Филол. науки, стр. 30—39.
Π у с τ и л ь н и к Л. С, А. Н. Плещеев-критик. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук,
М., 1964. 21 стр.
С а к у л и н П. Н., Петрашевцы.— В кн.: С а к у л и н П. Н., Русская литература
и социализм, ч. I, изд. 2, М., 1924, стр. 313—431.
С е м е в с к и й В. И., Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. I, М., «Задруга»,
1922. 218 стр.
Τ ρ о я н Н., Философские воззрения петрашевцев.— «Под знаменем марксизма»,
М., 1943, № И, стр. 45—60.
Усакйна Т. И., Белинский и литературно-теоретические принципы петрашевцев.—
В кн.: «Белинский и современность». Сб. ст., М., 1964, стр. 172—196.
Усакйна Т., Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых
годов XIX в., Саратов, Изд. Сарат. ун-та, 1965. 160 стр.
Усакйна Т. И., Чернышевский и Валериан Майков.— В кн.: Н. Г.
Чернышевский, Статьи, исследования и материалы, т. 3, Саратов, 1962, стр. 6—22.
Эстетика революционных демократов
Общая литература
Б у ρ с о в Б. И., Вопросы реализма в эстетике революционных демократов, М.,
Гослитиздат, 1953. 386 стр.
Б у ρ с о в Б. И., Русские революционные демократы о положительном герое, Л.,
Лениздат, 1953. 212 стр.
Гусев В. Е., Русские революционные демократы о народной поэзии, М., Учпедгиз,
1955. 184 стр.
Занчевский А. И., Борьба Чернышевского и Добролюбова с теорией и
литературой «чистого искусства». (1854—1861 гг.).—«Пращ Одеськ. ун-ту», 1958, т. 148.
Сер1я фшол. наук, вип. 8, стр. 7—19; т. 149. Сер1я фшол. наук, вип. 9, стр. 7—17.
Караганов Α., Чернышевский и Добролюбов о реализме, М., «Советский
писатель», 1955. 310 стр.
Лаврецкий Α., Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм,
М., Гослитиздат, 1941. 372 стр.
750
Николаев П. Α., Русские революционные демократы об эстетическом.— В кн.:
«Эстетическое». Сб. ст., М., 1964, стр. 78—98.
Полонская К., О революционно-демократической традиции в эстетике.— «Ок-
. тябрь», М., 1951, № 10, стр. 168—175.
Ρ у н τ M. И., Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за общественную
направленность литературы.— «Ученые записки Куйбыш. пед. ин-та», 1958,
вып. 19, стр. 3—31.
Смирнова 3. В., Вопросы художественного творчества в эстетике русских
революционных демократов, М., Соцэкгиз, 1958. 260 стр.
Смирнова 3. В., Эстетика русских революционных демократов.— В кн.:
Овсянников М., Ф. и Смирнова 3. В., Очерки истории эстетических учений, M.,
1963, стр. 319—423.
Литература к отдельным авторам
В. Г. Белинский
Сочинения:
Белинский В. Г., Полное собрание сочинений, т. 1—13, М., Изд-во Академии
наук СССР, 1953—1959.
Белинский В. Г., Собрание сочинений. Статьи и рецензии, т. 1—3, М.,
Гослитиздат, 1948.
Белинский В. Г., Эстетика и литературная критика, в 2-х томах. [Вступит, ст.
А. Лаврецкого], М., Гослитиздат, 1959.
Литература:
Айхенвальд Ю., Спор о Белинском. Ответ критикам. М., «Мысль», 1914. 100 стр.
Баженова В. Α., В. Г. Белинский о специфике искусства.— «Ученые записки
Казан, ун-та», 1957, т. 117, № 8, стр. 127—147.
«Белинский и современность». Сб. ст., М., «Наука», 1964. 365 стр.
«Белинский — историк и теоретик литературы». Сб. ст., М.—Л., Изд-во Академии
наук СССР, 1949. 451 стр.
Гроссман Л. П., Поэтика Белинского. (К вопросу о жанрах
литературно-критических статей Белинского).— «Ученые записки Моск. гор. пед. ин-та», 1954,.
т. 34. Кафедра рус. лит-ры, вып. 3, стр. 115—154.
Гуляев Η. Α., В. Г. Белинский и зарубежная эстетика его времени, Казань, Изд.
Казан, ун-та. 1961. 368 стр.
Гуляев Η. Α., Некоторые вопросы теории искусства в сочинениях В. Г.
Белинского, Томск, 1957. 168 стр.
Гуляев Н. А. Учение В. Г. Белинского о художественном методе, Томск, 1955.
143 стр.
Гутман Л., Искусствоведческие взгляды Белинского.— «Искусство», М.—Л., 1934г
№ 3, стр. 175—198.
Каган М., Белинский о соотношении видов и жанров искусства.— «Вопросы
литры», М., 1961, № 6, стр. 110—123.
К а с τ е л и н Η. Α., Белинский — театральный критик, М., «Искусство», 1950.
256 стр.
Л а в ρ е ц к и й Α., О мировом значении критики Белинского.— «Литературное
наследство», т. 55, М., 1948, стр. 17—50.
Лаврецкий Α., Эстетика Белинского, М., Изд-во Академии наук СССР, 1959.
372 стр.
Машинский С, Проблемы критики в эстетике Белинского.— В кн.: «Наследие
Белинского». Сб. ст., М., 1952, стр. 286—322.
Мордовченко Н., Белинский и русская литература его времени, М.—Л.,
Гослитиздат, 1950. 284 стр.
751
Нечаева В. С, В. Г. Белинский. [Т. 1—3], М., Изд-во Академии наук СССР,
1949—1961.
Плеханов Г. В., Литературные взгляды В. Г. Белинского.— В кн.:
Плеханов Г. В., Литература и эстетика, т. 1, М., 1958, стр. 332—380.
Поляков М., Виссарион Белинский. Личность — идеи — эпоха, М., Гослитиздат,
1960. 599 стр.
Смирнова 3. В., Проблема реализма в эстетике Белинского.— «Вопросы
философии», М., 1948, № 2, стр. 195—212.
Тальников Д. Л., Театральная эстетика Белинского, М., «Искусство», 1962,
414 стр.
Фридлендер Г., Белинский как теоретик литературы.— «Литературное
наследство», т. 55, М., 1948, стр. 259—284.
А. И. Герцен
Сочинения:
Герцен А. И., Собрание сочинений в 30-ти томах, М., Изд-во Академии наук
СССР, 1954—1965.
Герцен А. И., Сочинения в 9-ти томах. [Вступит, ст. Я. Е. Эльсберга], М.,
Гослитиздат, 1955—1958.
Герцен А. И., Избранные философские произведения, т. 1—2, М., Госполитиз-
дат, 1948.
Герцен А. И., Об искусстве. [Вступит, ст. Я. Е. "Эльсберга], М., «Искусство»,
1954. 446 стр.
Литература:
Глаголев Η. Α., Формирование эстетических воззрений А. И. Герцена. (30—40-е
годы).—В кн.: «Славянская филология». [Сб. ст.], вып. 5, М., 1963, стр. 369—385.
Данилов С. С, Герцен и театр.— В кн.: Данилов С. С, Русский драматический
театр XIX века, т. 1, М.—Л., 1957, стр. 309—314.
Козьмин Б. П., К вопросу о борьбе Герцена и Огарева против сторонников
«чистого» искусства.— «Известия Академии наук СССР», Отд-ние лит-ры и языка,
М., 1950, т. 9, вып. 2, стр. 138—143.
Крапивенский С. Э., А. И. Герцен и вопросы эстетики.— «Ученые записки
Арзамас, пед. ин-та», 1962, т. 5, вып. 2, стр. 40—51.
Лаврецкий Α., Литературно-эстетические взгляды Герцена.— «Литературное
наследство», т. 39—40, М., 1941, стр. 118—164.
Луначарский А. В., А. И. Герцен и люди сороковых годов,— В кн.: Л у н а ч а р-
ск и и А. В., Статьи о литературе, М., 1957, стр. 154—171.
Морозов В. Д., Некоторые проблемы эстетики романтизма в освещении А. И.
Герцена.— «Ученые записки Томского ун-та», 1956, № 50, стр. 14—22.
Николаев П. Α., Теоретико-литературные принципы А. И. Герцена.— «Вестник
Моск. ун-та». Филология, журналистика, 1962, № 4, стр. 3—15.
Π е χ τ е л е в И. Г., Эволюция эстетических воззрений А. И. Герцена.— «Ученые
записки Казан, пед. ин-та», 1940, вып. 3, стр. 3—39.
Путинцев В. Α., Герцен-писатель. Изд. 2, М., Изд-во Академии наук СССР,
1963. 312 стр.
Ч е с н о к о в Д. И., Мировоззрение Герцена, М., Госполитиздат, 1948. 368 стр.
Э л ь с б е ρ г Я. Е., Герцен. Жизнь и творчество, Изд. 4, М., Изд. худож. лит-ры, 1963.
731 стр.
Ш π е τ Г. Г., Философское мировоззрение Герцена, Пб., «Колос», 1921, 101 стр.
Н. П. Огарев
Сочинения:
Огарев Н. П., Избранные произведения в 2-х томах. [Вступит, ст. В. А. Путин-
дева], М., Гослитиздат, 1956.
752
Огарев H. П., Избранные социально-политические и философские произведения.
[Вступ. ст. Н. Г. Тараканова], т. 1—2, М., Госполитиздат, 1952—1956.
Огарев Н. П., Стихотворения и поэмы. [Вступит, ст. С. А. Рейсера], Л.,
«Советский писатель», 1956. 917 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
Литература:
Гурштейн А. Ш., Забытые страницы Огарева.— В кн.: Гурштейн А. Ш.,
Избранные статьи, М., 1959, стр. 85—102.
И о в ч у к М. Т., Философские и социологические взгляды Н. П. Огарева, М., Изд.
Моск. ун-та, 1957. 115 стр.
Козьмин Б. П., К вопросу о борьбе Герцена и Огарева против сторонников
«чистого» искусства.— «Известия Академии наук СССР». Отд-ние лит-ры и языка,
М., 1950, т. 9, вып. 2, стр. 138—143.
Ленина Л. И., Революционно-демократические идеи в поэзии Огарева
шестидесятых годов.— «Сб. трудов Арханг. пед. ин-та», 1959, вып. 3, стр. 123—139.
Л е χ н е ρ Ε. Α., Общественная значимость искусства в произведениях Н. П.
Огарева.— В кн.: «Из истории эстетической мысли нового времени», М., 1959,
стр. 146—165.
Π у τ и н ц е в В. Α., Η. П. Огарев. Жизнь, мировоззрение, творчество, М., Изд-во
Академии наук СССР, 1963. 259 стр.
Яковлев М. В., Мировоззрение Н. П. Огарева, М., Изд-во Академии наук СССР,
1957. 300 стр.
Н. Г. Чернышевский
Сочинения:
Чернышевский Н. Г., Полное собрание сочинений в 15-ти томах, М.,
Гослитиздат, 1939—1953. Т. XVI (дополнительный), 1953.
Чернышевский Н. Г., Избранные философские сочинения. [Предисл. Μ. М. Гри-
горьяна], т. 1—3, М., Госполитиздат, 1950—1951.
Чернышевский Н. Г., Эстетика. [Вступит, ст. Г. А. Соколова], М., Гослитиздат,
1958. 375 стр.
Литература:
Абрамович Α. Φ., Н. Г. Чернышевский об общественно-преобразующей роли
русской литературы.— «Труды Иркут. ун-та», 1958, т. 23, вып. 1, стр. 3—168.
Велик А. П., Эстетика Чернышевского, М., «Высш. школа», 1961. 293 стр.
Б у ρ с о в Б. И., Чернышевский как литературный критик, М.—Л., Изд-во
Академии наук СССР, 1951. 132 стр.
Горбунов В. В., Борьба Н. Г. Чернышевского за реалистический путь развития
русской литературы, Саранск, Мордгиз, 1952. 239 стр.
Драгомирецкая Н. В., Действительность и прекрасное в эстетике Н. Г.
Чернышевского.— «Вопросы философии», М., 1953, № 4, стр. 76—88.
Каган М. С, Эстетическое учение Чернышевского, М.—Л., «Искусство», 1958.
170 стр.
К о н И. С, Эстетические воззрения Н. Г. Чернышевского.— «Вопросы философии»,
М., 1950, № 2, стр. 148—168.
К у з ь м и ч е в И. К., О теории прекрасного в эстетике Чернышевского.— «Ученые
записки Горьк. ун-та», 1958, вып. 50, стр. 91—120.
Луначарский А. В., Этика и эстетика Н. Г. Чернышевского перед судом
современности.— В кн.: Луначарский А. В., Русская литература, М., 1947,
стр. 100—148.
Мезенцев П., Эстетическая сторона действительности. Эстетика Чернышевского
как великий поворот в истории европейской эстетической мысли XIX века.—
«Ученые записки Кишинев, ун-та», 1959, т. 37, стр. 3—30.
25 «История эстетики», т. 4 (1 полутом)
753
Николаев П. Α., H. Г. Чернышевский об эстетике и ее категориях.—«Науч. докл.
высш. школы». Филол. науки, М., 1964, № 2, стр. 121—131.
Плеханов Г. В., Литературные взгляды Н. Г. Чернышевского.— В кн.: Π л е χ а-
нов Г. В., Литература и эстетика, т. 1, М., 1958, стр. 469—528.
Плеханов Г. В., Эстетическая теория Чернышевского.— Там же, стр. 426—468.
Розенталь М., Философские взгляды Н. Г. Чернышевского, М., Госполитиздат,
1948. 312 стр.
Н. А. Добролюбов
Сочинения:
Добролюбов Η. Α., Собрание сочинений в 9-ти томах. [Вступит, ст. В. В.
Жданова], М.—Л., Гослитиздат, 1961—1964.
Добролюбов Η. Α., Собрание сочинений в 3-х томах, М., Гослитиздат, 1950—1952.
Добролюбов Η. Α., Избранные философские произведения. [Предисл. М. Т. Иов-
чука]. Изд. 2, т. 1—2, М., Госполитиздат, 1948.
Литература:
Боровский В. В., Н. А. Добролюбов.— В кн.: Боровский В. В., Литературно-
критические статьи, М., 1956, стр. 337—351.
Глаголев Η. Α., Проблема народа и народности литературы в критике
Добролюбова.— «Ученые записки Моск. ун-та», 1946, вып. 110. Труды кафедры рус.
лит-ры, кн. 1, стр. 41—60.
Егоров Б. Ф., «Реальная критика» Н. А. Добролюбова.— «Ученые записки
Тартуского ун-та», 1958, вып. 65. Труды по рус. и слав, филологии, № 1, стр. 28—42.
Кружков В. С, Мировоззрение Н. А. Добролюбова. Изд. 2, М., Госполитиздат,
1952. 580 стр.
Лебедев-Полянский П. И., Н. А. Добролюбов. Мировоззрение и
литературно-критическая деятельность. Изд. 2, М., ГИХЛ, 1935. 345 стр.
Луначарский А. В., Н. А. Добролюбов.— В кн.: Луначарский А. В., Статьи
о литературе, М., 1957, стр. 246—248.
Плеханов Г. В., Добролюбов и Островский.— В кн.: Плеханов Г. В.,
Литература и эстетика, т. I, М., 1958, стр. 529—553.
Соловьев Г. Α., Эстетические взгляды Н. А. Добролюбова, М., Изд. худож. лит-ры
1963. 288 стр.
Н. А. Некрасов
Сочинения:
Некрасов Η. Α., Полное собрание сочинений и писем, т. 1—12, М., Гослитиздат,
1948—1952.
Литература:
Бога τ ов В. В., Н. А. Некрасов о специфике литературы.—В кн.: «Очерки по
истории философии в России. (Вторая половина XIX и начало XX в.)». Сб.
статей, М,, 1960, стр. 108—129.
Б о г а τ о в В. В., Н. А. Некрасов об общественной функции искусства.— «Вестник
Моск. ун-та». Экономика, философия, 1962, № 1, стр. 71^82.
Буркина М. М., Поэтические декларации Н. А. Некрасова. (50-е годы).—
«Ученые записки Рост, н/Д. пед. ин-та», 1955, вьш> 1(18), стр. 111—151.
Б у χ ш τ а б Б. Я., Некрасов в борьбе со славянофильством.— «Доклады й
сообщения Филол. ин-та Ленингр. ун-та», 1951, вып. 3, стр. 55—69.
Г а ρ к а в и А. М., Обоснование революционно-демократической эстетики в поэзии
Н. А. Некрасова 1840—1850-х годов.— «Ученые оаписки Калинину пед. ин-та»,
1955, вып. 1, стр. 18—44.
754
Гин M. и Успенский В., Некрасов — драматург и театральный критик, М.—Л.,
«Искусство», 1958. 148 стр.
Гин M., Н. А. Некрасов — литературный критик, Петрозаводск, Гос. изд-во Карел-
АССР, 1957. 191 стр.
Евгеньев-Максимов В. Е., Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. 1—3,
М.—Л., Гослитиздат, 1947—1952.
Занчевский А. И., Литературно-критические взгляды Н. А. Некрасова.— «ПрапД
Одеськ. ун-ту», 1957, т. 147. Сер1я фшол. наук, вип. 6, стр. 35—48.
Лаврецкий Α., Литературно-эстетические взгляды Некрасова.— «Литературное
наследство», т. 49—50. Изд. 2, М., 1949, стр. 47—90.
Лепешинский П., Некрасов и литературная теория революционной
демократии.— «Октябрь», М., 1938, № 1, стр. 206—217.
Луначарский А. В., Некрасов и место поэта в жизни.— В кн.:
Луначарский А. В., Собр. соч., т. 1, М., 1963, стр. 220—228.
Плеханов Г. В., Н. А. Некрасов.— В кн.: Плеханов Г. В., Литература и
эстетика, т. 2, М., 1958, стр. 187—205.
Поляков М. Я., Н. А. Некрасов — театральный критик.— «Театр», М., 1946,
№ 11—12, стр. 37—42.
Ρ е й с е ρ С. Α., Некрасов и традиции Белинского. (Неизвестная статья
Некрасова).—«Известия Академии наук СССР». Отд-ние лит-ры и языка, М., 1951, т. 10,
вып. 5, стр. 490—497.
Федорова Г. Л., Н. А. Некрасов о народном поэтическом творчестве. (50—60-е
годы).—«Ученые записки Алма-Атин. пед. ин-та», 1955, т. 9, стр. 170—186.
Федунов В. П., Эстетические взгляды Н. А. Некрасова.— «Ученые записки Крас*
нодар. пед. ин-та», 1958, вып. 23, стр. 98—129.
M. Е. Салтыков-Щедрин
Сочинения:
Салтыков-Щедрин М. Е., Полное собрание сочинений, т. I—XX. М.—Л.,
Гослитиздат, 1933—1941.
Салтыков-Щедрин М. Е., О литературе. [Послесл. В. Я. Кирпотина], М.,
Гослитиздат, 1952. 700 стр.
Салтыков-Щедрин M. Е., О литературе и искусстве. Избр. статьи, рецензии,
письма. [Вступит, ст. Л. Ф. Ершова], М., «Искусство», 1953. XXIV, 586 стр.
Литература:
Базилевская А. К., Литературные взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина в 40-е
годы.— «Ученые записки Урал, ун-та», Свердловск, 1959, вып. 28, стр. 163—184.
Б у ш м и н А. С, Проблема общественного романа в эстетике
Салтыкова-Щедрина.— «Рус. лит-ра», Л., 1958, № 2, стр. 85—104.
Буш мин А. С, Сатира Салтыкова-Щедрина, М.—Л., Изд-во Академии наук СССР,
1959. 644 стр.
Г у τ м а н Л., М. Е. Салтыков-Щедрин и вопросы искусства.— «Искусство», М.— Л.,
1939, № 3, стр. 83—96.
Евгеньев-Максимов В. Е., К характеристике журнальной деятельности
М. Е. Салтыкова-Щедрина.— В кн.: Евгеньев-Максимов В. и
Максимов Д., Из прошлого русской журналистики, Л., 1930, стр. 9—82.
Ефимов М., Эстетические взгляды Щедрина.— «Театр», М.—Л., 1939, № 6,
стр. 46—53.
К и ρ π о τ и н В. Я,, Философские и эстетические взгляды M. Е. Салтыков
а-Щедрина, М., Госполитиздат, 1957. 592 стр.
Лаврецкий Α., Щедрин — литературный критик, М., ГИХЛ, 1935. 231 стр.
Лебедев Я. М., Салтыков-Щедрин о народном творчестве и народности
литературы.— «Лит. Ростов», 1939, кн. 5, стр. 266—281.
25*
755
Лукин В. H., Проблема положительного героя в эстетике и творчестве M. Е.
Салтыкова-Щедрина.— «Ученые записки Мелекес. пед. ин-та», 1962, т. 2, ч. 1,
стр. 83—108.
Луначарский Â. В., M. Е. Салтыков-Щедрин;— В кн.: Луначарский А. В.,
Собр. соч., т. 1, М., 1963, стр. 278—285.
M а к а ш и н С. Α., Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1. Изд. 2, М., Гослитиздат,
1951. 586 стр.
Ольминский М., Статьи о Салтыкове-Щедрине, М., Гослитиздат, 1959. 120 стр.
Трофимов И. Г., Μ. Е. Салтыков-Щедрин о реализме русской литературы.
Пособие для учителей, М., Учпедгиз, 1955. 206 стр.
Шварцман К. Α., Эстетические взгляды Μ. Е. Салтыкова-Щедрина.— «Сб. трудов
Моск. заоч. полиграф, ин-та», 1958, вып. 6, стр. 103—119.
Эльсберг Я. Е. Мировоззрение и творчество Щедрина, М.—Л., Изд-во Академии
наук СССР, 1936. 277 стр.
Д. И. Писарев
Сочинения:
Писарев Д. И., Сочинения в 4-х томах. [Вступит, ст. Ю. С. Сорокина], М.,
Гослитиздат, 1955—1956.
Писарев Д. И., Избранные философские и общественно-политические статьи.
[Предисл. В. С. Кружкова], М., Госполитиздат, 1949. 719 стр.
Литература:
Б е л ь ч и к о в Η. Ф., Д. И. Писарев-критик и его эстетические взгляды.—
«Известия Академии наук СССР». Отд-ние литры и языка, М., 1941, № 1, стр. 22—45.
Воробьев В., Д. И. Писарев — выдающийся русский критик-демократ, Харьков,
1953. 99 стр.
Боровский В. В., Д. И. Писарев.— В кн.: Боровский В. В.,
Литературно-критические статьи, М., 1956, стр. 199—207.
Демидова Н. В., «Теория реализма» Д. И. Писарева. Автореф. дисс. ... канд.
философ, наук, Воронеж, 1965. 15 стр.
Ильин В. В., Проблемы теории реализма Д. И. Писарева.— «Ученые записки
Моск. гос. пед. ин-та», 1964, № 231, стр. 217—234.
К и ρ π о τ и н В. Я., Радикальный разночинец Д. И. Писарев, М., «Советская лит-ра»,
1934. 360 стр.
Кружков В., Д. И. Писарев. Философские и социально-политические взгляды, М.,
Госполитиздат, 1942. 88 стр.
О д и н о к о в В. Г., Эстетические и литературно-критические взгляды Д. И.
Писарева. Учеб. пособие, Новосибирск, 1961. 51 стр.
Π л о τ к и н Л. Α., Д. И. Писарев. Жизнь и деятельность, М,—Л., Гослитиздат, 1962.
232 стр.
М, А. Антонович
Сочинения:
Антонович Μ. Α., Избранные философские сочинения. [Предисл. В. С.
Кружкова], М., Госполитиздат, 1945. 372 стр.
Антонович Μ. Α., Литературно-критические статьи. [Вступит, ст. Г. Е. Тамар-
ченко], М.—Л., Гослитиздат, 1961. LII, 515 стр.
Литература:
Лебедев Α., Чернышевский или Антонович? (К проблеме
революционно-демократических традиций в критике).— «Новый мир», М., 1962, № 3, стр. 239—254*
756
Hey нова M. H., Мировоззрение M. A. Антоновича, M., Изд-во Академии наук
СССР, 1960. 191 стр.
Ч у б и н с к и й В. В., М. А. Антонович. Очерк жизни и публицистической
деятельности, Л., Изд. Ленингр. ун-та, 1961. 194 стр.
Щипанов И. Я., Философские воззрения М. А. Антоновича.— В кн.: «Из истории
русской философии». Сб. статей, М., 1952, стр. 467—494.
Н. В. Шелгунов
Сочинения:
Шелгунов Н. В., Сочинения. Изд. 3, т. 1—3, Спб., изд. О. Н. Поповой, 1904.
Шелгунов Н. В., Избранные литературно-критические статьи. [Вступит, ст. И. Но-
вича], M — Л., «ЗИФ», 1928. 174 стр.
Литература:
Б е л ь ч и к о в Н. Ф., Н. В. Шелгунов.— В кн.: Б е л ь ч и к о в Η. Ф.,
Народничество в литературе и критике, М., 1934, стр. 113—147.
Герштейн Э., Н. В. Шелгунов — соратник Н. Г. Чернышевского. (Годы
революционной ситуации).—«Ученые записки Сарат. ун-та», 1954, т. 39, стр. 27—73.
€ л а б к и й А. С, Мировоззрение Н. В. Шелгунова, Харьков, Изд. Харьк. ун-та,
1959. 194 стр.
Π е у н о в а М. Н., Общественно-политические и философские взгляды Н. В.
Шелгунова, М., Изд-во Академии наук СССР, 1954. 110 стр.
Тростников В. Н., Литературно-критические взгляды Н. В. Шелгунова. (1859—»
1866).—«Ученые записки Моск. гос. пед. ин-та», 1961, № 160, стр. 221—232.
М. Л. Михайлов
■Сочинения:
Михайлов М. Л., Полное собрание сочинений. [Критико-биогр. очерк П. В.
Быкова], т. 1—4, Спб., изд. А. Ф. Маркса, 1913—1914.
Михайлов М. Л., Сочинения в 3-х томах. [Вступит, ст. М. И. Дикман и Ю. Д.
Левина], М., Гослитиздат, 1958.
Михайлов М. Л., Собрание стихотворений. [Вступит, ст. А. В. Кушакова], Л.,
«Советский писатель», 1953. 748 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
Литература:
Б о г а τ о в В. В., М. Л. Михайлов — мыслитель и революционер. Лекции. М., изд.
Моск. ун-та, 1959. 47 стр.
Егоров Б. Φ., М. Л. Михайлов-критик.— «Ученые записки Тартуского ун-та»,
1961, вып. 104. Труды по рус. и слав, филологии, т. 4, стр. 84—104. Прил.: Биб-
лиогр. прижизненных изданий критич., науч. и публицистич. статей М. Л.
Михайлова, стр. 98—104.
С а л ь к о в а Л. Α., M. Л. Михайлов и поэты-петрашевцы.— «Ученые записки
Краснодар, пед. ин-та», 1956, вып. 18, стр. 68—90.
Фатеев П. С, Русский революционный демократ М. Л. Михайлов.— В кн.:
Михайлов М. Л., Собр. соч., т. 1, Чкалов, 1951, стр. 5—128.
Сторонники «чистого искусства». Славянофилы
Общий ρ a a д е л (славянофилы)
Бродский Н. Л., Ранние славянофилы. А. С. Хомяков. И. В. Киреевский, К. С.
и И. С. Аксаковы, М., 1910, LXVI, 206 стр. (гл. IV. Эстетика славянофилов,
стр. 130*142).
757
Панов И., Славянофильство как философское учение. Историко-философский
очерк.— «Журнал Министерства народного просвещения», 1880, № 11, стр. 1—67.
С τ е π у н Ф., Немецкий романтизм и русское славянофильство.— В кн.: С τ е-
п у н Ф., Жизнь и творчество, Берлин, «Обелиск», 1923, стр. 5—50.
Walicki Α., W krçgu konserwatiwnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego
stowianofilstwa, Warssawa, 1964, 494 s.
Литература к отдельным авторам
И. В. Киреевский
Сочинения:
Киреевский И. В., Полное собрание сочинений, т. 1—2, М., «Путь», 1911.
Литература:
Бороздин А. К., И. В. Киреевский.— В кн.: Бороздин А. К., Литературные
характеристики, т. 2, вып. 1, Спб., 1905, стр. 299—318.
Геρшенз он М., И. В. Киреевский.— В кн.: Гершензон М., Исторические
записки, М., 1910, стр. 3—40.
Лясковский В., Братья Киреевские. Жизнь и труды их, Спб., 1899. 99 стр.
Манн Ю., Иван Киреевский.—«Вопросы лит-ры», М., 1965, № И, стр. 130—154.
Плеханов Г. В., И. В. Киреевский.—В кн.: Плеханов Г. В., Соч., т. 23, М.—Л.,
1926, стр. 102—111.
А. С. Хомяков
Сочинения:
Хомяков А. С, Полное собрание сочинений, т. 1—8, М., Изд. «Рус. архива»,
1900—1907.
Литература:
Б ер д я е в Н., Алексей Степанович Хомяков, М., «Путь», 1912. VIII, 251 стр.
Завитневич В. 3., Алексей Степанович Хомяков, т. I, кн. 1, Киев, 1902. XVI,
866, XIII стр.
Котляревский Н., А. С. Хомяков как поэт.— «Русская мысль», М., 1908, № 10,
отд. 2, стр. 1—21.
Лясковский В., Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения, М.,
1897. 176 стр.
Ρ а д л о в Э., О поэзии А. С. Хомякова.— В кн.: «Сергею Федоровичу Платонову
ученики, друзья и'почитатели». [Сб. ст.], Спб., 1911, стр. 522—532.
Christoff Р. К., An introduction to nineteenth-century Russian slavophilism, Vol.
I. A. S. Xhomyakov's Gravenhage, Mouton, 1961.
С. П. Шевырев
Сочинения:
Шевырев С. П., История поэзии, т. 1—2, М.—Спб., 1835—1892.
Шевырев С. П., История русской словесности, преимущественно древней, ч. 1—4,
М., 1846-1860.
Шевырев С. П., Лекции о русской литературе, читанные в Париже в 1862 году,
Спб., тип. Академии наук, 1884. IV, 280, 29 стр.
Шевырев С. П., Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых
народов. Изд. 2, Спб., 1887.' III, 271 стр.
Шевырев С. П., Стихотворения. (Вступ. ст. М. Аронсона), Л., «Советский писа-·
тель», 1939. XXXII, 240 стр. (Б-ка поэта).
758
Литература:
Дементьев А. Г., Борьба Шевырева с Белинским по вопросам истории русской
литературы.— «Ученые записки Ленингр. ун-та», 1939, № 47. Серия филол.
наук, вып. 4, стр. 159—197.
А. А. Григорьев
Сочинения:
Григорьев Α. Α., Собрание сочинений. [Вступит, ст. В. Саводника], вып. 1—14,
М., 1915—1916.
Григорьев Α. Α., Избранные произведения. [Вступит, ст. П. П. Громова], Л.,
«Советский писатель», 1959. 604 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
Литература:
Волынский А. Л., Аполлон Григорьев. Теория и законы органической
критики.— В кн.: Волынский А. Л., Русские критики, Спб., 1896, стр. 639—684.
Гроссман Л., Основатель новой критики.—«Русская мысль», М., 1914, № 11,
отд. 2, стр. 1—19.
Гуральник У., Литературно-критическое наследие Аполлона Григорьева.
(Проблемы изучения).— «Вопросы лит-ры», М., 1964, № 2, стр. 72—91.
Долгов Н., А. Григорьев и театр.— «Русская мысль», М., 1914, № И, отд. 2,
стр. 19—30.
Егоров Б. Ф., Аполлон Григорьев — критик.— «Ученые записки Тартуского ун-та»,
1960, вып. 98. Труды по рус. и слав, филологии, т. 3, стр. 194—246; 1961, вып. 104.
Труды по рус. и слав, филологии, т. 4, стр. 58—83.
Зельдович М. Г., Чернышевский и Ап. Григорьев (из творческой истории
«Очерков гоголевского периода русской литературы).— «Науч. докл. высш.
школы». Филол. науки, М., 1961, № 3, стр. 95—107.
А. В. Дружинин
Сочинения:
Дружинин А. В., Собрание сочинений, т. 1—8, Спб., 1865—1867.
Литература:
Б е л ь ч и к о в Н., П. В. Анненков, А. В. Дружинин и С. С. Дудышкин.— В кн.:
«Очерки по истории русской критики», т. 1, М.—Л., 1929, стр. 263—304.
Венгеров С. Α., А. В. Дружинин.—В кн.: Венгеров С. Α., Собр. соч., т. 5, Спб.,
1911, стр. 1—60.
Демченко Α. Α., Из истории полемики Н. Г. Чернышевского с А. В.
Дружининым.— В кн.: «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», т. 4,
Саратов, 1965, стр. 83—92.
Кирпичников А. И., Забытый талант.— В кн.: Кирпичников А. И.,
Очерки по истории новой русской литературы, т. 1. Изд. .2, М., 1903, стр. 290—314.
Чуковский К., Дружинин и Лев Толстой.— В кн.: Чуковский К., Люди и
книги, М., 1958, стр. 52—116.
А. Н. Майков
Сочинения:
Майков А. Н., Полное собрание сочинений, изд. 9. [Критико-биогр. очерк
П. В. Быкова], т. 1—4, Спб., Изд. А. Ф. Маркса, 1914.
Майков А. Н., Избранные произведения. [Вступит, ст. Н. Л. Степанова], Л.,
«Советский писатель», 1957. 479 стр. (Б-ка поэта. Малая серия).
Литература:
А ρ с е н ь е в К. К., Поэт и тенденциозный писатель.— «Вестник Европы», Спб.,
1883, № 12, стр. 802—824.
759
Данилов В. В., К характеристике литературной деятельности А. Н. Майкова.—
«Рус. филол. вестник», Варшава, 1907, т. 57, № 2, стр. 297—338.
Сухомлинов М. И., Особенности поэтического творчества А. Н. Майкова,
объясненные им самим.— «Рус. старина», Спб., 1899, № 3, стр. 481—498.
Ф. И. Тютчев
Сочинения:
Тютчев Ф. И., Полное собрание сочинений. [Критико-биогр. очерк В. Я. Брюсо-
ва]. Изд. 8, Спб., изд. А. Ф. Маркса, 1913. XLVIII, 712 стр.
Тютчев Ф. И., Полное собрание стихотворений. [Вступит, ст. Б. Бухштаба], Л.,.
«Советский писатель», 1957. 423 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
Тютчев Ф. И., Стихотворения. Письма. [Вступит, ст. К. В. Пигарева], М.,
Гослитиздат, 1957. 626 стр.
Литература:
Касаткина В. Н., К вопросу об эстетических взглядах Ф. И. Тютчева.— «Ученые
записки Томск, ун-та», 1964, № 48, стр. 116—133.
Петрова И. В., Некоторые вопросы мировоззрения Ф. И. Тютчева.— «Ученые
записки Магнитогор. пед. ин-та», 1960, [т. 10], вып. 1, стр. 68—129.
Π и г а ρ е в К. В., Жизнь и творчество Тютчева, М., Изд-во Академии наук СССР,
1962. 376 стр.
Сергиевский И., Выдающийся русский поэт.— «Новый мир», М., 1953, № 12,
стр. 246—250.
А. К. Толстой
Сочинения:
Толстой А. К., Собрание сочинений. В 4-х томах. [Вступит, ст. И. Ямпольского],
М.,«Худож. лит-ра», 1963—1964.
Толстой А. К., Полное собрание стихотворений. [Вступит, ст. И. Ямпольского],
Л., «Советский писатель», 1937. 810 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
Литература:
Д е н и с ю к Η., Гр. Алексей Константинович Толстой. Его время, жизнь и сочинения,
М., Изд. А. С. Панафидиной, 1907. VI, 112 стр.
Пактовский Φ. Е., Граф А. К. Толстой и его поэтическое творчество, Казань,
1900. 37 стр.
А. А. Фет
Сочинения:
Φ е τ Α. Α., Полное собрание стихотворений. [Вступит, статьи Б. В. Никольского
и Н. Н. Страхова], т. 1—3, Спб., изд. А. Ф. Маркса, 1901.
Φ е τ Α. Α., Полное собрание стихотворений. [Вступит, ст. Б. Бухштаба], Л., «Со·
ветский писатель», 1959. 899 стр. (Б-ка поэта. Большая серия).
Литература:
Б у χ ш τ а б Б., Эстетические взгляды Фета.— «Лит. учеба», М., 1936, № 12,
стр. 35—51.
Касторский С. В., Некрасов и Фет.— «Ученые записки Ленингр. пед. ин-та
им. А. И. Герцена», 1936, т. 2, стр. 250—288.
Круковский Α., Лирика природы и лирика чувства. (К характеристике поэзии
Фета).— «Рус. филол. вестник», Варшава, 1911, т. 66, № 3—4, стр. 37—55.
Соловьев В. С, О лирической поэзии. По поводу последних стихотворений
Фета и Полонского.— В кн.: Соловьев Вл. С, Собр. соч., изд. 2, т. 6, Спб.,
1912, стр. 234-260.
760
Тихомиров В. M., Поэзия Фета, Киев, 1914. 20 стр.
Цертелев Д., А. А. Фет как человек и художник.— «Рус. вестник», М., 1899, № 3,
стр. 217—240.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX—НАЧАЛА XX ВЕКА
Общая литература
Асмус В., Философия и эстетика русского символизма.— «Литературное
наследство», т. 27—28, М., 1937, стр. 1—53.
Гофман В., Язык символистов.— Там же, стр. 54—105.
Д у к о ρ И., Проблемы драматургии символизма.— Там же, стр. 106—166.
Π е ρ ц о в В., Реализм и модернистские течения в русской литературе начала
XX века.— «Вопросы лит-ры», М., 1957, № 2, стр. 50—69.
Литература к отдельным авторам
И. С. Тургенев
Сочинения:
Тургенев И. С, Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах. [Вступит,
ст. М. П. Алексеева]. Сочинения. Т. 1—11. Письма. Т. 1—11. М.—Л., Изд-во
Академии наук СССР, 1960—1965. (Издание продолжается).
Τ у г е н е в И. С, Собрание сочинений в 12-ти томах. [Вступит, ст. С, М. Петрова],
М., Гослитиздат, 1954—1958.
Литература:
Алексеев М. П., Тургенев и музыка, Киев, О-во исследования искусства, 1918.
22 стр.
Богословский Н., Литературные взгляды Тургенева.— «Краен, новь», М., 1938,
№ И, стр. 249-268.
Крюков А. Н., Тургенев и музыка. Музыкальные страницы жизни и творчества
писателя, Л., Музгиз, 1963. 136 стр.
Курляндская Г. Б., Эстетические взгляды И. С. Тургенева.—В кн.:
«Творчество И. С. Тургенева». Сб. ст., М., 1959, стр. 367—390.
Лаврецкий Α., Литературно-эстетические взгляды Тургенева.— «Лит. критик»,
М., 1938, № И, стр. 66—100.
Островский Α., Литературно-эстетические взгляды Тургенева.— «Лит. учеба»,
М., 1936, № 10, стр. 25-47.
Павлов Л. В., Литературно-эстетические взгляды Тургенева 40-х годов.—
«Ученые записки Карело-Фин. ун-та», Петрозаводск, 1949, т. 3, вып. 1, стр. 62—84.
Π е τ ρ о в С. М., И. С. Тургенев. Творческий путь, М., Гослитиздат, 1961. 590 стр.
Протопопов С. В., Идейно-эстетические позиции Тургенева-романиста 1850-х
годов.— «Ученые записки Армавир, пед. ин-та», 1957, т. 2, вып. 1, стр. 57—113.
кЧ м ш к я н К. Г., И. С. Тургенев — литературный критик, Ереван, изд. Ерев. ун-та,
1957. 146 стр.
И. А. Гончаров
Сочинения:
Гончаров И. Α., Собрание сочинений в 8-ми томах. [Вступит, ст. С. Петрова], М.,
Гослитиздат, 1952—1955.
Гончаров И. Α., Литературно-критические статьи и письма. [Вступит, ст. А. П. Рьь
басова], Л., ГИХЛ, 1938. 404 стр.
761
Литература:
В о е н с к и й К. И., Гончаров, его литературные и общественные идеалы. В кн.:
«И. А. Гончаров в неизданных письмах», Пб., 1906.
Ε в с τ ρ а τ о в Н. Г., Проблема реалистического романа в эстетике Гончарова,—
В кн.: «Вопросы русской и зарубежной литературы». Сб. статей, Куйбышев,
1962, стр. 126—150.
Лаврецкий Α., Литературно-эстетические идеи Гончарова.— «Лит. критик», М.,
1940, № 5—6, стр. 34-55.
Михайлов П. М., Литературно-эстетические взгляды И. А. Гончарова.—
«Известия Крымского пед. ин-та», Симферополь, 1940, т. 10, стр. 73—130.
Страхов В. И., И. А. Гончаров о художественном мышлении.— «Ученые записки
Сарат. пед. ин-та», 1958, вып. 32, стр. 77—108.
А. Н. Островский
Сочинения:
Островский А. Н., Полное собрание сочинений, т. 1—16, М., Гослитиздат,
1949—1953.
Островский А. Н., О театре. Записки, речи и письма. [Вступит, ст. Г. И. Владьь
кина]. Изд. 2, Л.—М., «Искусство», 1947. 239 стр.
Литература:
Васильев А. В., К характеристике эстетических воззрений А. Н. Островского.—
«Ученые записки фак-та языка и лит-ры Рост. н/Д. пед. ин-та», 1938, т. 1,
стр. 143—158.
Гинзбург В. Н., Литературно-критические взгляды А. Н. Островского конца
40-х и начала 50-х годов.— «Ученые записки Туркм. ун-та», Ашхабад, 1960,
вып. 17, стр. 5—27.
Луначарский А. В., Об Александре Николаевиче Островском и по поводу его.—
В кн.: Луначарский А. В. Собр. соч., т. 1, М., 1963, стр. 200—210.
Ревякин А. И., Об основных литературно-теоретических принципах А. Н.
Островского.— В кн.: «Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков»,
М.—Л., 1958, стр. 177—184.
Φ. М. Достоевский
Сочинения:
Достоевский Ф. М., Собрание сочинений в 10-ти томах. [Вступит, ст. В. В.
Ермилова], М., Гослитиздат, 1956—1958.
Достоевский Ф. М., Письма, т. I—IV, М.—Л., 1928—1959.
Литература:
Бахтин М. М., Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 2, М., «Советский писатель»,
1963. 363 стр.
Белый Андрей, Трагедия творчества. Достоевский и Толстой, М., «Мусагет»,
1911, 46 стр.
Борщевский С. С, Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. М.,
Гослитиздат, 1956. 392 стр.
Гроссман Л. П., Поэтика Достоевского, Μ., ГАХН, 1925. 191 стр.
Гроссман Л., Проблема реализма у Достоевского.— «Вестник Европы», Спб.,
1917, № 2, стр. 65—99.
Гроссман Л. П., Три современника. Тютчев — Достоевский — Аполлон
Григорьев, М., «Кн-во писателей в Москве», 1922. 120 стр.
762
Кир по тин В. Я., Ф. М. Достоевский. Творческий путь. (1821—1859), М.,
Гослитиздат, 1960. 608 стр.
К и ρ π о τ и н В. Я., Достоевский и Белинский, М., «Советский писатель», 1960.
' 304 стр.
Лапшин И., Эстетика Достоевского,— В кн.: «Φ. М. Достоевский. Статьи и
материалы». [Сб. I], Пб., 1922, стр. 95—152.
Лапшин И. И., Эстетика Достоевского, Берлин, «Обелиск», 1923. 102 стр.
Луначарский А. В., Достоевский как мыслитель и художник.— В кн.: Л у-
н а ч а ρ с к и и А. В., Собр. соч., т. I, М., 1963, стр. 179—195.
Переверзев В. Ф., Творчество Достоевского. (Критический очерк), М., «Совр.
проблемы», 1912. XVI, 367 стр.
Попов П. С, «Я» и «оно» в творчестве Достоевского, Μ., ГАХН, 1928, 59 стр.
Соловьев В. С, Три речи в память Достоевского, М., 1884, 55 стр.
«Творчество Ф. М. Достоевского», М., Изд-во Академии наук СССР, 1959. 547 стр.
Фридлендер Г. М., Реализм Достоевского, М.—Л., «Наука», 1964. 404 стр.
Чирков Н. М., О стиле Достоевского, М., «Наука», 1964. 158 стр.
Шестов Я., Достоевский и Ницше. (Философия трагедии), изд. 2, Спб., 1909.
Шкловский В. Б., За и против. Заметки о Достоевском, М., «Советский
писатель», 1957, 259 стр.
Przybylski R., Dostojewski i ,,przeklçte problemy". Od ,,Biednich ludzi" do
,,Zbrodni i kary", Warszawa, 1964. 354 s.
Stammler H., Dostoevsky's Aesthetics and Schelling's Philosophy of Art,
,»Comparative Literature", vol. VII, 1955, p. 313—323.
Β. Μ. Γ a ρ ш и н
Сочинения:
Г a ρ ш и н В. M., Полное собрание сочинений, Спб., изд. А. Ф. Маркса, 1910. 568 стр.
Г а ρ ш и н В. М., Полное собрание сочинений в 3-х томах, т. III, Письма, М.—Л.,
«Academia», 1934. 597 стр.
Г а ρ ш и н В. М., Сочинения. [Вступит, ст. Г. А. Вялого], М.—Л., Гослитиздат, 1963.
448 стр.
Литература:
Белявский Н., Гаршин и передвижники.— «Искусство», М.—Л., 1939, № 1,
стр. 103—111.
Б я л ы й Г. Α., В. М. Гаршин. Критико-биогр. очерк, М., Гослитиздат, 1955. 108 стр.
Б я л ы й Г. Α., В. М. Гаршин и литературная борьба восьмидесятых годов, М.—Л.,
Изд-во Академии наук СССР, 1937. 210 стр.
Дурылин С. Н., Репин и Гаршин. (Из истории рус. живописи и литературы),
М., ГАХН, 1926. 79 стр.
Колбовский Я. Α., Об эстетических взглядах Всеволода Гарпшна.— «Наук.
записки Днепропетр. ун-ту», 1955, т. 50. 36. праць icT.-фшол. фак-ту, вип. 8,
стр. 53—69.
Г. И. Успенский
Сочинения:
Успенский Г. И., Полное собрание сочинений, т. 1—14, М— Л., Изд-во Академии
наук СССР, 1940—1954.
Успенский Г. И., Собрание сочинений. [Вступит, ст. В. П. Друзина и Н. И.
Соколова], т. 1—9, М., Гослитиздат, 1955—1957.
763
Литература:
А н τ ю φ е е в а И. Н., Эстетические и литературные взгляды молодого Г. И.
Успенского.— «Ученые записки Куйбыш. пед. ин-та», 1960, вып. 30, стр. 251—268.
Горнфельд Α., Эстетика Глеба Успенского.— В кн.: «На славном посту». Лит*
сб., посвящ. Н. К. Михайловскому. Изд. 2, Спб., 1901, ч. 2, стр. 297—313.
Пруцков Η. И., Творческий путь Глеба Успенского, М.—-Л., Изд-во Академии
наук СССР, 1958. 189 стр.
Π ρ у ц к о в Н., Г. И. Успенский о «Венере Милосской».— «Искусство», М., 1955, № U
стр. 76-80.
Н. К. Михайловский
Сочинения:
Михайловский Н. К., Сочинения, т. 1—6, Спб., 1896—1897.
Михайловский Н. К., Литература и жизнь. (Письма о разных разностях) г
Спб., 1892. 394 стр.
Михайловский Н. К., Литературно-критические статьи. [Вступит, ст. Г. А.
Вялого], М., Гослитиздат, 1957. 664 стр.
Литература:
Кирпотин В. Я., Н. К. Михайловский.—В кн.: Кир π о тин В. Я., Публицисты
и критики, Л—М., 1932, стр. 168—176.
Колосов Е. Е., Очерки мировоззрения Н. К. Михайловского, Пб., 1912. 435 стр*
Красносельский Α., Литературно-художественная критика Н. К.
Михайловского.—«Рус. богатство», Спб., 1905, № 1, отд. I, стр. 88—132.
Кузьменков А. С, Методологические и эстетические основы литературной
критики Н. К. Михайловского.— «Ученые записки Орехово-Зуев. пед. ин-та», 1956г
т. 3, стр. 149—192.
Кузьменков А. С, Н. К. Михайловский как литературный критик.— «Ученыа
записки Орехово-Зуев. пед. ин-та», 1958, т. 9, стр. 135—203-
П. Л. Лавров
Сочинения:
Лавров П. Л., Собрание сочинений. Серии 1—6. Пб., «Рев. мысль», 1917—1920*
Лавров П. Л., Избранные сочинения на социально-политические темы.
[Вступит, ст. И. А. Теодоровича], т. 1—4, М., О-во политкаторжан, 1934.
Лавров П. Л., О задачах современной критики. (Письмо провинциала). [Всту*
пит. ст. и коммент. Ф. В. Витязева].— «Звенья». Сб. материалов и документов..*
т. VI, М.—Л., 1936, стр. 749—788.
Лавров П. Л., Философия и социология. Избр. произведения в 2-х томах.
[Вступит, ст. И. С. Книжника-Ветрова и А. Ф. Окулова], М., «Мысль», 1965, 752*
703 стр.
Лавров П. Л., Последовательные люди. Пред. и прим. Б. Козьмина.— «Звенья».
Сб. материалов и документов..., т. I, М.—Л., «Academia», 1932, стр. 413—458.
Лавров П. Л., Этюды ю западной литературе. Под ред. А. А. Гизетти, П. Витязе*
ва, Пг., «Колос», 1923. XXXII, 218 стр.
Литература:
Гизетти Α. Α., П. Л. Лавров и Вл. Соловьев.—В кн.: «П. Л. Лавров», Статьи,
воспоминания, материалы, Пб., «Колос», 1922, стр. 385—403.
Ρ а дл о в Э. Л., Лавров в русской философии.— Там же, стр. 1—28.
764
Φ ρ и ч e В., П. Л. Лавров и «чистое» искусство.= «Под знаменем марксизма», М.,
1923, № 6—7, стр. 112—121.
Ш π е τ Г. Г., Антропологизм Лаврова в свете истории философии.— В кн.:
«П. Л. Лавров». Статьи, воспоминания, материалы, Пб., «Колос», 1922, стр. 73—*
138.
П. Н. Ткачев
Сочинения:
Ткачев П. Н., Избранные сочинения на социально-политические темы. [Вступит,
ст. Б. П. Козьмина], т. 1—6. М., О-во политкаторжан — Соцэкгиз, 1932—1937.
Ткачев П. Н., Избранные литературно-критические статьи. [Вступит, ст. Б.
Козьмина], М.—Л., «ЗиФ», 1928. 216 стр.
Литература:
К л е в е н с к и й М., П. Н. Ткачев как литературный критик.— «Соврем, мир», Пг.,
1916, № 7—8, отд. 2, стр. 1—26.
С е н к е в и ч В. М., Проблема художественного метода в эстетике ГГ. Н. Ткачева.-*
«Ученые записки Моск. гос. пед. ин-та», 1963, № 190, стр. 144—175.
С е н к е в и ч В. М., Типическое в реалистическом искусстве. (К вопросу о
типическом в эстетике П. Н. Ткачева).— «Ученые записки Мюск. гос. пед. ин-та», 1963,
№ 190, стр. 134—143.
Трубецкой Б. Α., Эстетические взгляды П. Н. Ткачева. (Из истории
публицистики и лит. критики 70-х гг. XIX в.).— «Ученые записки Кишинев, ун-та»,
1959, т. 37, стр. 31—38.
Я м π о л ь с к и й И. Г., П. Н. Ткачев как литературный критик.— «Литература»
(Труды Ин-та новой рус. лит-ры Академии наук СССР), Л., 1931, № 1, стр.
30-60.
Н. С. Лесков
Сочинения:
Лесков Н. С, Собрание сочинений в 11-ти томах. [Вступит, ст. П. П. Громова
и Б. М. Эйхенбаума], М., Гослитиздат, 1956—1958.
Литература:
Волынский Α., Η. С. Лесков. Критич. очерк, Пб., «Эпоха», 1923. 220 стр.
Г е б е л ь В., Н. С. Лесков в творческой лаборатории, М., 1945.
Г о ρ я ч к и н а М. С, Сатира Лескова, М., Изд-во Академии наук СССР, 1963. 232 стр.
Гроссман Л., Н. С. Лесков. Жизнь — творчество,— поэтика, М., Гослитиздат,
1945,320 стр.
Д ρ у г о в Б. М., Н. С. Лесков. Очерк творчества. Изд. 2, М., Гослитиздат, 1961.223 стр.
Π л е щ у н о в Н. С, Вопросы поэтики русского романа 60—80-х гг. XIX в.
и Н. С. Лесков.— «Ученые записки Азерб. ун-та», Баку, 1958, № 3, стр. 105—116.
SetschkareffW., N. S. Leskov, Sein Leben und sein Werk. Wiresbaden, 1959, 170 S.
Л. H. Толстой
Сочинения:
Толстой Л. H., Полное собрание сочинений. (Юбилейное изд.), т. 1—90, М.—Л.,
'Гослитиздат, 1928—1958.
Указатели к Полному собранию сочинений Л. Н. Толстого, М., 1964, 664 стр..
Толстой Л. Н., Собрание сочинений в 20-ти томах. [Вступит, ст. Н. Гудзия],
М., Гослитиздат, 1960—1965.
765
Τ о л с τ о й Л. H., О литературе. Статьи, письма, дневники. [Вступит, ст. Л. Д. Опуль-
ской], М., Гослитиздат, 1955. XL, 764 стр.
Г о л с τ о й Л. Н., Об искусстве и литературе. [Вступит, ст. К. Н. Л ому нова], т. 1—2,
М., «Советский писатель», 1958.
Литература:
ЛенинВ. И., Статьи о Толстом, М., Гослитиздат, 1960, 63 стр.
Асмус В. Ф., Мировоззрение Толстого.—«Литературное наследство», т. 69, кн. 1,
М., 1961, стр. 35—102. (Эстетические взгляды —стр. 83—101).
Бабаев Э. Г., К вопросу о принципе народности в эстетике Л. Н. Толстого,—
«Ученые записки Ташк. веч. пед. ин-та», 1957, вып. 4, стр. 103—140.
Бурсов Б. И., Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод. 1847—1862,
М., Гослитиздат, 1960. 407 стр.
Бур сов Б. И., Эстетическая система Л. Толстого.—«Звезда», Л., 1935, № 11,
стр. 195—217.
Бычков С, Лев Толстой о художественном творчестве.— «Лит. творчество», М.,
1946, № 1, стр. 36—52.
Гусев Н. Н. и Гольденвейзер А. Б., Лев Толстой и музыка. Воспоминания.
М., Музгиз, 1953. 47 стр.
Гусев Η. Н., Толстой о художественном творчестве. (По* неопубликованным
материалам и личным воспоминаниям).—«Октябрь», М., 1935, № 11, стр. 221—226.
И щ у к Г. Н., Л. Н. Толстой о народности литературы.— «Ученые записки Шах-
тинск. пед. ин-та», Ростов н/Д., 1962, т. 3, вып. 4, стр. 59—75.
И щук Г. Н., Политическая и эстетическая проблематика трактата Л. Н. Толстого
«Что такое искусство?».— «Ученые записки Марийского пед. ин-та», Йошкар-Ола,
1958, т. 18. Труды кафедры марксизма-ленинизма, вып. 1, стр. 201—242.
К у π ρ е я н о в а Е. Н., Эстетика Л. Н. Толстого, М.—Л., «Наука», 1966, 323 стр.
Л о м у н о в К. Н., Л. Толстой в борьбе за реализм в искусстве.— «Вопросы
философии», М., 1953, № 5, стр. 178—195.
Луначарский А. В., О Толстом. Сб. ст., М.—Л., ГИЗ, 1928. 141 стр.
Малинковский В. П., Эстетические взгляды Л. Н. Толстого и традиции
революционно-демократической критики.— «Ученые записки Винниц. пед. ин-та»,
1957, т. 5, ч. 2, стр. 3—31.
Мальцев И. В., Трактат Л. Н. Толстого «Что такое искусство?» и полемика по
вопросам эстетики перед революцией 1905 года.— «Ученые записки Донецкого
пед. ин-та», 1960, вып. 8, стр. 3—78.
Михайловский Н. К., «Что такое искусство?» Статья графа Л. Н. Толстого.—
В кн.: Н. К. Михайловский, Поли. собр. соч., т. 8, Пб., 1914, стр. 815—835.
Μ о τ ы л е в а Т. Л., Эстетика трезвого реализма.—В кн.: Мотылева Т. Л., О
мировом значении Толстого, М., 1957, стр. 63—134.
M о ч у л ь с к и й В. Н., Н. Г. Чернышевский и Л. Н. Толстой об искусстве.— «Рус*
филол. вестник», Варшава, 1909, т. 62, № 3—4, стр. 58—74.
H у ρ а л о в Э. Л., Об эстетических взглядах Л. Н. Толстого, Ереван, «Айастан»,
1965. 146 стр.
Пономарев Г. И., Особенность постановки Л. Н. Толстым вопроса о народности.—
«Наук, записки Ужгор. ун-ту», 1959, т. 41, стр. 89—111.
Ростоцкий Б. И., Л. Н. Толстой о драме и театре.— «Ежегодник Института
истории искусств». 1955. Театр. М., 1955, стр. 202—249.
Χ ρ а π ч е н к о М. Б., Лев Толстой как художник, М., «Советский писатель», 1963.
662 стр.
Энгельгардт Б., Статьи Толстого об искусстве.— «Литературное наследство»,
т. 37—38, М., 1939, стр. 3—20.
«Эстетика Льва Толстого». Сб. ст. под ред. П. Н. Сакулина, Μ., ГАХН, 1929. 325 стр.
766
А. П. Чехов
Сочинения:
Чехов А. П., Полное собрание сочинений и писем, т. 1—20, М., Гослитиздат,
1944—1951.
Чехов А. П., Собрание сочинений в 12-ти томах. [Вступит, ст. В. В. Ермилова], М.,
Гослитиздат, 1954—1957.
Чехов А. П., О литературе. [Вступит, ст. Е. Сахаровой], М., Гослитиздат, 1955.
404 стр.
Литература:
Белкин Α. Α., Чехов и идейная борьба 80—90-х годов.— «Науч. труды Моск. заоч.
полиграф, ин-та», 1955, вып. 3, стр. 29—58.
Б е ρ д н и к о в Г. П., А. П. Чехов. Идейные и творческие искания, М.—Л.,
Гослитиздат, 1961. 506 стр.
Бориневич-Бабайцева 3. Α., Чехов — теоретик литературы. (По письмам
писателя).— «Пращ Одеськ. ун-ту», 1959, т. 149. Сер1я фшол. наук, вип. 9,
стр. 31—41.
Елизарова М. Е., Творчество Чехова и вопросы реализма конца XIX века, М.,
Гослитиздат, 1958. 200 стр.
Ермилов В. В., А. П. Чехов, М., «Советский писатель», 1954. 404 стр.
3 а χ а ρ к и н А. Ф., Литературно-эстетические взгляды А. П. Чехова.— В кн.:
«Творчество А. П. Чехова». Сб. статей, М., 1956, стр. 145—167.
Кулешов Ф. И., Литературно-художественные взгляды А. П. Чехова.— В кн.:
«Антон Павлович Чехов». Сб. статей, Юж.-Сахалинск, 1959, стр. 3—60.
Луначарский А. В., Чехов и его произведения как общественное явление.—
В кн.: Луначарский А. В., Классики русской литературы, М., 1937, стр. 379—
389.
Π а в л и χ и н Ε. Α., Эстетические воззрения А. П. Чехова.— «Ученые записки
Кафедры обществ, наук Кирг. ун-та», Фрунзе, 1957, вып. 1, стр. 101—115.
Ρ о м а н е н к о В. Т., Теоретические основы прекрасного в эстетике А. П. Чехова.—
«Ученые записки Харьк. ун-та», 1957, т. 96, стр. 201—219.
Самойлов В., Литературно-эстетические взгляды А. П. Чехова.— «Сиб. огни»,
Новосибирск, 1960, № 1, стр. 173—183.
Самойлов В. В., Литературные взгляды А. П. Чехова в первый период
творчества.— «Ученые записки Краенояр. пед. ин-та», 1957, т. 7, стр. 16—48.
В. Г. Короленко
Сочинения:
Короленко В. Г., Собрание сочинений в 10-ти томах. [Вступит, ст. А. Котова],
М., Гослитиздат, 1953—1956.
Короленко В. Г., Дневник. Т. 1—4, Полтава, Госиздат Украины ,1925—1928.
Короленко В. Г., О литературе, М., Гослитиздат, 1957. 716 стр.
Литература:
Бартенев В., В. Г. Короленко — литературный критик, Иваново, Кн. изд-во,
1953. 143 стр.
Вялый Г. Α., В. Г. Короленко, М.—Л., Гослитиздат, 1949. 371 стр.
И с у π о в а Г. Α., Проблема соотношения объективного и субъективного в эстетике
J3. Г. Короленко.— «Ученые записки Казан, ун-та», 1963, т. 123, кн. 9,
стр. 117—145.
И с у π о в а Г. Α., Эстетический идеал. Короленко и его воплощение в сибирских
рассказах.—«Ученые записки Казан, ун-та», 1963, т. 123, кн. 9, стр. 148—171.
767
Луначарский А. В., В. Г. Короленко.— В кн.: Луначарский А. В., Собр. соч..
т. 1, М., 1963, стр. 382—391.
Николаева Е. П., В. - Г. Короленко о сущности и задачах искусства.— «Ученые
записки Сталингр. пед. ин-та», 1955, вып. 6, стр. 98—127.
Николаева Е. П., Пейзаж в эстетике и творчестве В. Г. Короленко.— «Ученые
записки Сталингр. пед. ин-та», 1959, вып. 7, стр. 22—39.
Прянишников Н., Литературные заветы Короленко. (По материалам
литературно-редакторской переписки).— «Степные огни», Чкалов, 1948, № 6,
стр. 219—239.
Савченко Н., В. Г. Короленко о процессе художественного творчества.—
«Ученые записки Казах, ун-та», Алма-Ата, 1958, т. 33. Язык и лит-ра, вып. 2,
стр. 111—123.
Савченко Нм В. Г. Короленко о типическом характере. (К вопросу о единстве
общего и индивидуального в реалистическом образе.) — «Ученые записки
кафедры рус. и зарубеж. лит-ры Казах, ун-та», Алма-Ата, 1958, вып. 2, стр. 40—49.
Савченко Н., Проблема прекрасного в эстетике и художественном творчестве
В. Г. Короленко.— «Ученые записки Кафедры -рус. и зарубеж. лит-ры Казах.
ун-та», Алма-Ата, 1957, вып. 1, стр. 8—23.
В л. С. Соловьев
Сочинения:
Соловьев В л. С. Собрание сочинений. Изд. 2. [Биогр. очерк Э. Л. Радлова], т. 1-Х,
Спб., «Просвещение», 1911—1914.
Соловьев В л. С., Стихотворения. Изд. 7. [Предисл. С. М. Соловьева], М., «Рус.
книжник», 1921. XIII, 371 стр.
Литература:
Белый Α., Владимир Соловьев.— В кн.: Белый Α., Арабески, М., 1911.
Блок Α., Владимир Соловьев и наши дни.— В кн.: Блок Α., Собр. соч., т. 6, М.,
Гослитиздат, 1962, стр. 154—159.
Брюсов В., Владимир Соловьев. Смысл его поэзии.— В кн.: Брюсов В.,
Далекие и близкие, М., 1912, стр. 27—40.
Лукьянов С, Поэзия Вл. С. Соловьева.—«Вестник Европы», Спб., 1901, № 3,
стр. 128—161.
Минц 3. Г., Поэтический идеал молодого Блока.— В кн.: «Блоковский сборник.
Труды науч. конференции, посвящ. изучению жизни и творчества А. А. Блока, май
1962 г.», Тарту, 1964, стр. 172—225 (о В. С. Соловьеве особ. стр. 175—194 и др.).
Радлов Э. Л., Владимир Соловьев. Жизнь и учение, Спб., «Образование», 1913.
267 стр.
Радлов Э. Л., Эстетика Вл. С. Соловьева,— «Вестник Европы», Спб., 1907, № 1,
стр. 84—117.
Ρ а ч и н с к и й Г. Α., Взгляд В. С. Соловьева на красоту.— «Вопросы философии
и психологии», М., 1901, № 1(56), стр. 130—137.
Рождествин А. С, Вл. С. Соловьев как поэт, Казань, 1901. 20 стр.
Саводник В., Поэзия Вл. С. Соловьева, М., 1901. 25 стр.
Трубецкой Е., Миросозерцание Вл. С. Соловьева, т. 1—2, М., «Путь», 1913.
(Гл. XXV, «Эстетика», т. И, стр. 329—376).
Чулков Г., Поэзия Вл. Соловьева,—В кн.: Чулков Г., Соч., т. 5, Спб., 1912,
стр. 101—117.
, В. Я. Брюсов
Сочинения:
Брюсов В. Я., Полное собрание сочинений и переводов, т. 1—4, 12, 13, 15, 21,
Пб., «Сирин», 1913—1914.
768
Брюсов В. Я., Избранные произведения. [Предисл. А. В. Луначарского], т. 1—3,
М.—Л., ГИЗ, 1926.
Брюсов В. Я., Избранные сочинения в 2-х томах. [Вступит, ст. А. С, Мясникова],
М., Гослитиздат, 1955.
Брюсов В. Я., Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от
Тютчева до наших дней, М., «Скорпион», 1912. VI, 214 стр.
Брюсов В. Я., О искусстве, М., 1899. 31 стр.
Брюсов В. Я., Стихотворения и поэмы. [Вступит, ст. Д. Е. Максимова], Л.,
«Советский писатель», 1961. 910 стр.
-Литература:
В о л ь π е Ц., Валерий Брюсов.— «Лит. современник», Л., 1939, № 9, стр. 184—189.
Городской Я., Взгляды поэта.— В кн.: Городской Я., Заметки о
литературе, Киев, 1941, стр. 64—75.
Жирмунский В., В. Брюсов и наследие Пушкина, Пг., «Эльзевир», 1922. 104 стр.
Л е л е в и ч Г., В. Я. Брюсов, М.— Л., ГИЗ, 1926. 258 стр.
Луначарский А. В., Брюсов и революция.— В кн. Луначарский А. В.,
Собр. соч., т. 1, М., 1963, стр. 440—454.
Максимов Д. Е., «Апология символизма» Брюсова и его эстетические взгляды
90-х годов.— «Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им. M. Н. Покровского»,
1940, т. 4, Фак-т языка и лит-ры, вып. 2, стр. 255—259.
Максимов Д., Поэзия В. Брюсова, Л., Гослитиздат, 1940. 300 стр.
Михайловский Б. В., В. Я. Брюсов.— В кн.: «История русской советской
литературы», т. 1, М., 1958, стр. 235—254.
К. Д. Б г л ь м о н τ
'Сочинения:
Бальмонт К. Д., Полное собрание стихов, т. 1—10, М., «Скорпион», 1907—1914.
Бальмонт К. Д., Горные вершины. Сб. ст., кн. I, М., «Гриф», 1904. 210 стр.
Бальмонт К. Д., Поэзия как волшебство, М., «Скорпион», 1915. 93 стр.; новое
изд. М., «Задруга», 1922. 112 стр.
Бальмонт К. Д., Светозвук в природе и световая симфония Скрябина, М., 1917.
24 стр.
Бальмонт К. Д., Слово о музыке, М., 1917. 8 стр.
.Литература:
Брюсов В., К. Д. Бальмонт.— В кн.: Брюсов В., Далекие и близкие, М.,
«Скорпион», 1912, стр. 73—106.
«Записки Неофилологического общества при Петербургском университете»,
вып. VII, 1914, стр. 1—54. [Статьи Ф. Брауна, Ф. Батюшкова, К. Тиандера,
Д. Петрова, Е. Аничкова, Вяч. Иванова].
Эллис, Русские символисты (К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Белый), М., «Мусагет»,
1910. [10], 339 стр.
А. Белый
Сочинения:
Белый Α., Арабески. Кн. статей, М., «Мусагет», 1911. IV, 504 стр.
Белый Α., Луг зеленый. Кн. статей, М., «Альциона», 1910. 249 стр.
Белый Α., Поэзия слова. [Сб.], Пб., «Эпоха», 1922. 135 стр.
Белый Α., Революция и культура, М., изд. Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1917,
30 стр.
769
Белый Α., Символизм. Кн. статей, М., «Мусагет», 1910. VI, 634 стр.
Белый Α., Стихотворения. (Вступит, ст. Ц. Вольпе.), Л., «Советский писатель^
1940. 240 стр. (Б-ка поэта. Малая серия).
Белый Α., Трагедия творчества. Достоевский и Толстой, М, «Мусагет», 1911.46стр*
Блок А. и Белый Α., Переписка. Вступит, ст. и коммент. В. Н. Орлова, М., Гос.
Лит. музей, 1940. XIV, 369 стр.
Литература:
Брюсов В. Я., Вячеслав Иванов. Андрей Белый.— В кн.: Брюсов В. Я.,
Далекие и близкие, М., «Скорпион», 1912, стр. 115—136.
Иванов-Разумник Р. В., Вершины. А. Блок. А. Белый, П., «Колос», 1923.
246 стр.
Иванов-Разумник Р. В., Александр Блок. Андрей Белый. Пб., «Алконост»,.
1919. 176 стр.
Мочульский К., Андрей Белый, Париж, «Ymca-Press», 1955. 294 стр.
Орлов В. Н., История одной «дружбы-вражды».—В кн.: Орлов В. Н., Пути
и судьбы, М.— Л., 1963, стр. 446—578.
Тарасенков Α., Поэзия Андрея Белого.— В кн.: Τ ар а с е н к о в Α., Статьи о
литературе, т. I, М., 1958, стр. 76—117.
В я ч. И. Иванов
Сочинения:
Иванов Вяч., Борозды и межи. Опыты эстетические и критические, М.,
«Мусагет», 1916. 359 стр.
Иванов Вяч., Дионис и прадионисийство, Баку, 1923. XII, 303 стр.
Иванов В я ч., По звездам. Статьи и афоризмы, Спб., «Оры», 1909, 447 стр.
Иванов Вяч., Родное и вселенское. Статьи (1914—1916), М., изд. Г. А. Лемана
и С. И. Сахарова, 1917. 208 стр.
Литература:
Блок Α., Творчество Вяч. Иванова.—Б л о к Α., Собр. соч., т. 5, М.—Л., 1962,.
стр. 7—18.
Брюсов В., Вяч. Иванов. Андрей Белый.— В кн.: Брюсов В., Далекие и близ-*
кие, М., «Скорпион», 1912, стр. 115—136.
Михайловский Б., Иванов Вяч.— «Литературная Энциклопедия», т. 4, М., 1930,
стб. 404—409.
Николаев Н. И., Новые принципы литературной критики. «По звездам»,
сочинения Вяч. Иванова.— В кн.: Николаев Н. И., Эфемериды, Киев, 1912, стр. 374—
381.
Ч. В - с к и й, Вячеслав Иванов. Борозды и межи. Опыты эстетические и критические,.
М., 1916.— «Вестник Европы», Пг., 1916, № 8, стр. 391—393.
А. А. Блок
Сочинения:
Блок Α. Α., Собрание сочинений в 8-ми томах. Вступит, ст. Вл. Орлова, М.— Л.,
Гослитиздат, 1960—1963.
Блок A.A. Записные книжки. 1901—1920. Предисл. Вл. Орлова, М., изд-во «Худож*
лит-ра», 1965. 663 стр.
Блок Α. Α., О литературе. Вступит, ст. В. В. Гольцева, М., «Федерация», 1931»
340 стр.
Блок А. и Белый Α., Переписка. Вступит, ст. и коммент. В. Н. Орлова, М., Гос»
Лит. музей, 1940. 369 стр.
770
Литература:
Брюсов В., Александр Блок.— В кн.: Брюсов В., Избр. соч., т. 2, М., 1955,
' стр. 282—294.
Г о л ь ц е в В. В., Блок как литературный критик.— В кн.: Г о л ь ц е в В. В., Статьи
и очерки, М., 1958, стр. 15—34.
Д е с н и ц к и й В. Α., А. Блок как литературный критик.— В кн.: Блок Α., Собр.
соч., т. 10, Л., 1935, стр. 5—16.
Жирмунский В. М., Поэзия Александра Блока, Пб., «Картонный домик», 1922.
103 стр.
Княжнин В. Н., Александр Александрович Блок, Пб., «Колос», 1922. 136 стр.
Луначарский А. Вм Александр Блок.— В кн.: Луначарский А. В., Собр.
соч., т. 1, М., 1903. стр, 464—496.
Максимов Д. Е.. Критическая проза Блока.—В кн.: «Блоковский сборник.
Труды науч. конференции, посвящ. изучению жизни и творчества А. А. Блока,
май 1962 г.», Тарту, 1964, стр. 28—97.
Мандельштам О. М., Барсучья нора.—В кн.: Мандельштам О. М., О
поэзии, Л., «Academia», 1928, стр. 57—60.
Минц 3. Г., Поэтический идеал молодого Блока.—В кн.: «Блоковский сборник.
Труды науч. конференции, посвящ. изучению жизни и творчества А. А.
Блока, май 1962 г.», Тарту, 1964, стр. 172—225.
«Об Александре Блоке». Статьи: Н: Анциферова, Ю. Верховского. В. Жирмунского,
Вл. Пяста, А. Слонимского, Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума, Б. Энгельгардта, Пб.,
«Картонный домик», 1921. 336 стр.
«О Блоке». Сб. литер.-исслед. ассоциации ЦДРП. Под ред. Е. Ф. Никитиной, Мм
«Никитинские субботники», 1929. 382 стр.
Орлов В л., Александр Блок. Очерк творчества, М., Гослитиздат, 1956. 262 стр.
Τ и м о φ е е в Л. И., А. Блок, М., Изд. Моск. ун-та, 1957. 183 стр.
Тимофеев Л. И., Поэтика контраста в поэзии А. Блока.— «Рус. лит-ра», Л.,
1961, № 2, стр. 98—107.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ДЕЯТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА,
МУЗЫКИ И АРХИТЕКТУРЫ
Общая литература
Грабарь И. Э., Введение в историю русского искусства.—В кн.: Грабарь И. Э.,
История русского искусства, т. 1., М., 1910, стр. 1—142.
I' у τ м а н Л., Борьба за реалистическую эстетику и Академия художеств.—
«Искусство», М.— Л., 1939, № 6, стр. 128—143.
Дмитриева Η. Α., Московское Училище живописи, ваяния и зодчества, М.,
«Искусство», 1951. 172 стр.
«История русского искусства». Под общ. ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова
и В. Н. Лазарева, т. 8 (кн. 1—2) —9 (кн. 1—2), М., Изд-во Академии наук СССР,
1963—1965.
«История русского искусства». [Под ред. Н. Г. Машковцева], т. 1—2, М.,
«Искусство», 1957—1960.
Коваленская Η. Н., История русского искусства первой половины XIX века,
М., «Искусство», 1951. 198 стр., 97 стр. илл.
«Мастера искусства об искусстве». Избр. отрывки из писем, дневников, речей
и трактатов, т. ΙΥ. Ред. А. А. Федоров-Давыдов, М.—Л., «Искусство», 1937. 569 стр.
Машковцев Н. Г., Книга для чтения по истории русского искусства, вып. 3—4,
М.—Л., «Искусство», 1948—1949.
«Очерки по истории русского искусства». [Под ред. Н. Г. Машковцева], М., Изд-во
Акад. художеств СССР, 1954. 360 стр.
771
С о б к о Н. П., Словарь русских художников, ваятелей, живописцев... С
древнейших времен до наших дней, т. 1—3, Спб., 1893—1899.
Соколова Н. И., Мир искусства, М.—Л., Изогиз, 1934. 217 стр.
Стасов В. В., Двадцать пять лет русского искусства.— В кн.: Стасов В. В.,
Избранные соч. в 3-х томах, т. 2, М., 1952, стр. 391—568.
Федоров-Давыдов Α. Α., Русское искусство промышленного капитализма*
Μ., ГАХН, 1929. 247 стр.
Изобразительное искусство
Общая литература
Зотов Α., Пути развития русского искусства первой половины XIX века.—
«Искусство», М., 1952, № 2, стр. 70—79.
Коваленская Н., Русский классицизм. Живопись. Скульптура. Графика, М.,
«Искусство», 1964. 703 стр.
Михайлов Α., Передвижники и их историческое значение.— «Искусство», М.—Л.,.
1947, № 4, стр. 52-69.
Новицкий А. П., Передвижники и влияние их на русское искусство, М., изд.
Гросман и Кнебель, 1897. 162, 8, III стр.
«Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. 1856—1869», М., «Искусство»,
1960. 371 стр.
Федоров-Давыдов Α. Α., Реализм в русской живописи XIX века, М.,
Изогиз, 1933. 128 стр.
Литература к отдельным авторам
А. А. Иванов
Сочинения:
[Иванов Α. Α.], Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806—1858*
[С биогр. очерком М. П. Боткина], Спб., 1880. XL, 478, IX стр.
Литература:
Алпатов М. В., Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. 1806—1858г
т. 1—2, М., «Искусство», 1956.
Бернштейн Б. К вопросу о формировании эстетических взглядов Александра
Иванова.— «Искусство», М., 1957, № 2, стр. 39—43.
Машковцев Н., Творческий путь Александра Иванова,—«Аполлон», Спб., 1916,.
№ 6—7, стр. 1—39.
Новицкий А. П., Опыт полной биографии А. А. Иванова, М., 1895. IV, XIV>
253 стр.
В. Г. Π е ρ о в
Сочинения:
Π е ρ о в В. Г., Рассказы художника. [Вступит, ст. А. И. Леонова], М., Изд-во Акаде-^
мии художеств СССР, 1960. 189 стр.
Литература:
Леонов А. И., Перов. 1833—1882, Будапешт, «Корвина», 1963. 25 стр.
«В. Г. Перов». Текст А. Федорова-Давыдова. Прил.: Документы, письма и
рассказы [Перова], каталог произведений, библиография, М., Изогиз, 1934. 359 стр.
С о б к о Н. П., Василий Григорьевич Перов. Его жизнь и произведения, Спб., 1892»
84 стр.
772
И. H. Крамской
Сочинения:
{Крамской И. HJ, «Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и
художественно-критические статьи. 1837—1887». [Предисл. В. В. Стасова], Спб., 1888.
XVIII, 750 стр.
Крамской И. Н., Об искусстве. [Вступит, ст. Т. М. Коваленской], М., Изд-во
Академии художеств СССР, 1960. 214 стр.
[Крамской И. HJ, «Переписка И. Н. Крамского», т. 1—2, М., «Искусство»,
1953-1954.
Крамской И. Н., Письма β 2-х томах, Л., Изогиз, 1937.
Крамской И. Н., Письма. Статьи. В 2-х томах, т. 1, М., «Искусство», 1965. XXIX,
627 стр. (Издание продолжается).
Репин И. Е. и Крамской И. Н., Переписка. 1873—1885. [Предисл. Л. Тарасова],.
М.—Л., «Искусство», 1949. 208 стр.
Литература:
Воскресенский В. Α., Эстетические воззрения И. Н. Крамского.— «Вестник
изящных искусств», Спб., 1888, т. 6, стр. 335—379.
Гольдштейн С. Н., Иван Николаевич Крамской. Жизнь и творчество. 1837—*
1887, М., «Искусство», 1965. 439 стр.
Гутман Л. И., И. Н. Крамской—идеолог реалистического
искусства.—«Искусство», М.—Л., 1935, № 3, стр. 85—132.
Л а пун ов а Н. Ф., Иван Николаевич Крамской, М., «Искусство», 1964. 111 стр.
Машковцев Н. Г., Иван Николаевич Крамской. (1837—1887), М.—Л.,
«Искусство», 1945. 36 стр.
В. В. Стасов
Сочинения:
Стасов В. В., Собрание сочинений. 1847—1886, т. 1—4, Спб., 1894—1906.
Стасов В. В., Избранные сочинения в 2-х томах. М.—Л., «Искусство», 1937.
Стасов В. В., Избранные сочинения в 3-х томах. Живопись. Скульптура. Музыка,
М., «Искусство», 1952.
Стасов В. В., Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие*
в книжные издания. [Предисл. В. Лобанова], т. 1—2, М., Изд-во Академии худо-
жеств СССР, 1952—1954.
Стасов В. В. Письма к деятелям русской культуры в 2-х томах, т. I, М., Изд-во
Академии наук СССР, 1962. 355 стр.
Репин И. Е. и Стасов В. В., Переписка, т. 1—3, М.—Л., «Искусство», 1948—1950.
Третьяков П. М, иСтасов В. В., Переписка. 1874—1897, М.— Л., «Искусство»,.
1949. VIII, 284 стр.
Литература:
Гольдштейн С. Н., Комментарии к Избранным сочинениям В. В. Стасова,.
М.—Л., «Искусство», 1938. 198 стр.
К а ρ е я и н В., Владимир Стасов. Очерк его жизни и деятельности, ч. 1 и 2, Л.,
«Мысль», 1927. 727 стр.
Лебедев А. К., В, В. Стасов. 1824—1906, М., «Искусство», 1956. 40 стр.
Лебедев А. К., Стасов и русские художники, М., изд-во Академии художеств
СССР, 1961. 132 стр.
Лебедев А, и Солодовников Α., Владимир Васильевич Стасов. Жизнь и
творчество. М., «Искусство», 1966, 187 стр.
Л и ρ а н о в а Т. Н., Стасов и русская классическая опера, М., Музгиз, 1957. 432 стр.
Оголевец А. С, В. В. Стасов, М., Музгиз, 1956. 134 стр.
С и τ н и к К. Α., Стасов художественный критик.— В кн.: «Вопросы теории советского-
изобразительного искусства». Сб. статей, М., 1950, стр. 260—314.
773
Суворова Ε. И., В. В. Стасов и русская передовая общественная мысль, Л., Лен-
издат, 1956. 152 стр.
В. В. Верещагин
Сочинения:
[Верещагин В. В.], «Листкииз записной книжки художника В. В. Верещагина»,
М., 1898. 150 стр.
Верещагин В. В., Прогресс в искусстве,—В кн.: Булгаков Ф. И., В. В.
Верещагин и его произведения, Спб., 1905, стр. 133—136.
Верещагин В. В., Реализм.— Там же, стр. 120—132.
Верещагин В. В. и Стасов В. В., Переписка, т. 1—2, М., «Искусство»,
1950—1951.
Верещагин В. В. и Третьяков П. М., Переписка. 1874—1898. [Вступит, ст.
О. А. Лясковской], М., «Искусство», 1963. 138 стр.
Литература:
Булгаков Ф. И., Василий Васильевич Верещагин и его произведения. Изд. 2,
Спб., 1905. 198 стр.
Лебедев А. К., Василий Васильевич Верещагин. Жизнь и творчество. М.,
«Искусство», 1958. 427 стр.
Лебедев А. К. и Бурова Г. К., В. В. сВерещагин и В.- В. Стасов, М.,
«Искусство», 1953. 236 стр.
С а д о в е н ь В. В., В. В. Верещагин, М., изд. Гос. Третьяковской галереи, 1950.
116 стр.
Стасов В. В., Верещагин об искусстве.— Стасов В. В., Избранные сочинения,
т. 3, М., 1952, стр. 24—28.
Тихомиров А. Н., Василий Васильевич Верещагин. (Жизнь и творчество). С прил.
воспоминаний И. Лазаревского, М.—Л., «Искусство», 1942. 99 стр.
И. Е. Репин
Сочинения:
Репин И. Е., Далекое близкое. [Вступит, ст. К. Чуковского], Мм «Искусство», 1964.
512 стр.
Репин И. Е., Об искусстве. [Вступит, ст. О. А. Лясковской], М., Изд-во Академии
художеств СССР, 1960. 189 стр.
Репин И. Е., Письма к писателям и литературным деятелям. 1880—1929.
[Вступит, ст. Н. Машковцева], М., «Искусство», 1950. 268 стр.
Репин И. Е., Письма к Е. П. Тархановой-Антокольской и И. Р. Тарханову.
[Вступит, ст. и примеч. И. А. Бродского и Я. Д. Лещинского], Л.—М., «Искусство»,
1937. 116 стр.
Репин И. Е., Письма к художникам и художественным деятелям, М.,
«Искусство», 1952. 408 стр.
{Р е π и н И. Е.], «Письма И. Е. Репина. Переписка с П. М. Третьяковым. 1873—1898».
[Предисл. А. Замошкина], М.—Л., «Искусство», 1946. 226 стр.
Репин И. Е. и Крамской И. Н., Переписка. 1873—1885. [Предисл. Л. Тарасова],
М.—Л., «Искусство», 1949. 208 стр.
Репин И. Е. и Стасов В. В., Переписка, т. 1—3, М— Л., «Искусство», 1948—1950.
Репин И. Е. и Толстой Л. Н., Переписка, т. 1—2, М.—Л., «Искусство», 194&.
Литература:
Грабарь И., Репин, т. 1—2, М., Изогиз, 1937.
Дружинин С. Н., Илья Ефимович Репин, М., изд. Гос. Третьяковской галереи,
1944. 39 стр.
774
Зильберштейн И. С, Репин и Горький, М.— Л., «Искусство», 1944. 107 стр.
Зильберштейн И. С, Репин и Тургенев, М.— Л., Изд-во Академии наук СССР,.
1945. 167 стр.
Лясковская О. Α., Илья Ефимович Репин. Изд. 2, М., «Искусство», 1962. 384 стр.
M а ш к о в ц е в Н. Г., Литературное и эпистолярное наследие Репина.— В кн.:
И. Е. Репин. Сб. докладов на конференции...», М., 1947, стр. 206—223.
M а ш к о в ц е в Н. Г., И. Е. Репин. Краткий очерк жизни и творчества, М.— Л.,
«Искусство», 1943. 107 стр.
«Репин». [Статьи и материалы в 2-х томах. Вступит, ст. И. Грабаря], т. 1—2, М.— Л.г
Изд-во Академии наук СССР, 1948—1949.
Федоров-Давыдов Α. Α., Илья Ефимович Репин, М., «Искусство», 1961.139стр.
M. М. Антокольский
Сочинения:
[Антокольский M. М.], «Марк Матвеевич Антокольский, его жизнь, творения,
письма и статьи». Под ред. [и с предисл.] В. В. Стасова. 1853—1883. Спб.—М.,
Изд. М. О. Вольф, 1905. IL LIX. 1046 стр.
Литература:
Дружинин С, Антокольский об искусстве и своем творчестве.— «Искусство», М.г
1952, № 4 ,стр. 61—68.
С у м ц о в Η. Φ., M. М. Антокольский, Харьков, 1910. 29 стр.
Эстетические взгляды русских музыкантов
Общая литература
Асафьев Б. В., Избранные труды, т. 2—4, М., Изд-во Академии наук СССРГ
1954—1955.
Асафьев Б. В., Русская музыка от начала XIX столетия, М.— Л., «Academia»,
1930. 320 стр.
Кремлев Ю., Русская мысль о музыке. Очерки истории русской музыкальной
критики и эстетики в XIX веке, т. 1—3, Л., Музгиз, 1954—1960.
О г о л е в е ц А. С, Материалы и документы по истории русской реалистической
эстетики. Классики русской музыки и музыкальной критики об искусстве,
т. 1—2, М., Музгиз, 1954—1956.
Стасов В. В., Избранные статьи о музыке, Л.— М., Музгиз, 1949, 328 стр.
Ливанова Т. Н., Критическая деятельность русских композиторов, М.— Л.,
Музгиз, 1950, 102 стр.
Литература к отдельным авторам
М. И. Глинка
Сочинения:
Глинка М., Литературное наследие. Под ред. и со вступит, ст. В.
Богданова-Березовского, т. 1—2, Л.— М., Музгиз, 1952—1953. 512, 892 стр.
Литература:
Асафьев Б. В., Избранные труды, т. I. Избранные работы о Глинке, М., Изд-во·
Академии наук СССР, 1952, 399 стр.
Асафьев Б. В., Глинка. Изд. 2, М., Музгиз, 1950. 308 стр.
775
Ливанова T. H. и Протопопов В. В., Глинка. Творческий путь, т. 1—2, M.f
Музгиз, 1955. 404, 380 стр.
«Памяти Глинки. 1857—1957». Исследования и материалы, М., Изд-во Академии наук
СССР, 1958. 599 стр.
Стасов В. В., Избранные статьи о М. И. Глинке. [Вступит, ст. Т. Н. Ливановой],
М., Музгиз, 1955. 356 стр.
А. Н. Серов
Сочинения:
Серов А. Н., Музыкально-критические статьи, т. 1—4, Спб., 1892—1895.
Серов А. Н„ Избранные статьи, т. 1—2. Под общей ред., со вступит, ст. и примеч.
Г. Н. Хубова, М., Музгиз, 1951—1957.
Литература:
Стрельников Н., А. Н. Серов. Опыт характеристики, М., ГИЗ, 1922. 86 стр.
X у б о в Г., Жизнь А. Серова, М., Музгиз, 1950. 141 стр.
М. П. Мусоргский
Сочинения:
Мусоргский М. П., Письма и документы, М.— Л., Музгиз, 1932. VIII, 577 стр.
Мусоргский М. П., Письма к А. А. Голенищеву-Кутузову. Ред. и вступит, ст.
Ю. Келдыша, М.— Л., Музгиз, 1939. 120 стр.
Мусоргский М. П., Избранные письма. Вступит, ст., ред. и прим. М. С. Пекелиса,
М., Музгиз, 1953. 239 стр.
Мусоргский М. П., Письма к М. А. Балакиреву (1857—1872), Лг., 1915. 70 стр.
Мусоргский М. П., Письма к В. В. Стасову, Спб., 1911. 125 стр.
Литература:
Глебов И. (Асафьев В.), Музыкально-эстетические воззрения Мусоргского.
О подлинном «Борисе Годунове». В работе над «Хованщиной».— В кн.: «М. П.
Мусоргский. К пятидесятилетию со дня смерти. 1881—1931». Статьи и материалы, М.,
Музгиз, 1932, стр. 33—89.
Глебов И. (Асафьев В.), К восстановлению «Бориса Годунова» Мусоргского. Сб.
статей, М., ГИЗ, Муз. сектор, 1928. 72 стр.
Глебов И. (Асафьев Б.), Мусоргский. Опыт характеристики, М., ГИЗ, 1923,
69 стр.
Каратыгин В. Г., Мусоргский. Шаляпин. Очерки творчества, Пг., Б-ка Гос. акад.
т-ра оперы и балета, 1922. 82 стр.
«Мусоргский. Статьи и исследования», М., ГИЗ, Муз. сектор, 1930. 286 стр.
Calvocoressi M. DM Modest Mussorgsky. His life and works, London, Rockliff,
1956. XIX, 322 p.
H. А. Римский-Корсаков
Сочинения:
Римский-Корсаков Η. Α., Полное собрание сочинений. Литературные
произведения и переписка, τ .1—6, M., Музгиз, 1955—1965.
Римский-Корсаков Η. Α., Музыкальные статьи и заметки (1869—1907). Со
вступит, ст. М. Ф. Гнесина. Под ред. Н. Римской-Корсаковой, Спб., 1911, 223 стр.
Римский-Корсаков Η. Α., Летопись моей музыкальной жизни. Изд. 7, М.,
Музгиз, 1955. VII, 398 стр.
776
Литература:
Асафьев Б. В., Николай Андреевич Римский-Корсаков. (1844—1944), М.—Л.г
Музгиз, 1944. 92 стр.
Глебов И. (Асафьев Б.)у Римский-Корсаков. Опыт характеристики, Пг., «Свето-
зар», 1922. 62 стр.
Д у ρ ы л и н С, Вагнер и Россия. О Вагнере и будущих путях искусства, М., «Муса-
гет», 1913. 68 стр. [Эстетика Р. Вагнера и эстетика Н. Римского-Корсакова].
К ρ е м л е в Ю. Α., Эстетика природы в творчестве Н. А. Римского-Корсакова, М.,
Музгиз, 1962. 110 стр.
Лапшин И. И., Римский-Корсаков. Два очерка. (Философские мотивы в творчестве
Римского-Корсакова. Музыкальная лирика Римского-Корсакова), Пб., Гос. акад.
филармония, 1922. 62 стр.
«Римский-Корсаков. Исследования. Материалы. Письма», т. 1—2, М., Изд-во
Академии наук СССР, 1953—1954.
Соловцов Α. Α., Жизнь и творчество Н. А. Римекого-Корсакова, М., «Музыка»,
1964. 688 стр.
Стасов В. В., Статьи о Римском-Корсакове. [Предисл. В. А. Киселева], М., Музгиз,
1953. 92 стр.
П. И. Чайковский
Сочинения:
Чайковский П. И., Полное собрание сочинений. Литературные произведения
и переписка, т. 2, За, 36, 5—9, М., Музгиз, 1953—1965. (Издание продолжается.)
Чайковский П. И., Музыкально-критические статьи. Вступит, ст. и пояснения
В. В. Яковлева, М., Музгиз, 1953, 437 стр.
Чайковский П. И., Переписка с Η. Ф. фон Мекк, т. 1—3, M., «Academia», 1934—
1936. XXVII, 643, 677, 683 стр.
Чайковский П. И.— Танеев С. И., Письма, М., Госкультпросветиздат, 1951.
XI, 557 стр.
Литература:
А л ь ш в а н г Α. Α., П. И. Чайковский, М., Музгиз, 1959. 702 стр.
Асафьев Б. В., Чайковский. 1840—1893, Пг., «Мысль», 1922. 62 стр.
Асафьев Б. В., «Евгений Онегин». Лирические сцены П. И. Чайковского. Опыт
интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии, М.—Л., 1944. 89 стр.
Асафьев Б. В., Избранные труды, т. 2, М., Изд-во Академии наук СССР, 1954.
384 стр. (Раздел: П. И. Чайковский, стр. 5—190).
С. И. Танеев
Сочинения:
«Танеев С. И., Материалы и документы». [Подгот. акад. Б. В. Асафьевым], т. 1.
Переписка и воспоминания, М., Изд-во Академии наук СССР, 1952. 355 стр.
Литература:
«Памяти Сергея Ивановича Танеева. 1856—1946. Сб. статей и материалов к 90-летию
со дня рождения». Под ред. В. Протопопова, М.—Л., Музгиз, 1947. 276 стр.
«Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни. К
10-летию со дня его смерти. 1915—1925», М.— Л., 1925. 207 стр.
Яковлев В. В., Сергей Иванович Танеев. Его музыкальная жизнь.— [«Труды Гос.
Академии худож. наук». Муз. секция, вып. 2], [М.], 1927. 104 стр.
777
Α. Η. Скрябин
Сочинения:
Скрябин Α. Η. [Записи Α. Η. Скрябина]. В кн.: «Русские пропилеи» [под ред.
М. О. Гершензона], вып. 6, М., 1919, стр. 95—247 (там же статья Б. Ф. Шлецера
о «Предварительном действе», стр. 99—119).
Скрябин А. Н., Письма. Сост., ред., предисл. и примеч. А. В. Кашперова. [Вступит.
ст. В. Асмуса], М., «Музыка», 1965. 720 стр.
Литература:
Альшванг Α., Александр Николаевич Скрябин. Жизнь и творчество А. Н.
Скрябина. О философской системе А. Н. Скрябина. Место А. Н. Скрябина в истории
русской музыки.— В кн.: Альшванг Α., Избранные сочинения в 2-х томах,
т. 1, М., «Музыка», 1964, стр. 118—276.
Глебов И. (Асафьев В.), Скрябин. Опыт характеристики. Пг., «Светозар»,
1921. 62 стр.
Глебов И. (Асафьев В.), Скрябин. Пг., Гос. филармония, 1921. 26 стр.
Г у н с τ Ε., Α. Η. Скрябин и его творчество, М., 1915. 76 стр.
Каратыгин В. Г., Скрябин, Пг., 1916. 68 стр.
Лапшин И. И., Заветные думы Скрябина, Пг., «Мысль», 1922. 39 стр.
M а ρ к у с С т., Об особенностях и источниках философии и эстетики Скрябина.—
В кн.: «Александр Николаевич Скрябин. 1915—1940. · Сб. к 25-летию со дня
смерти», М., Музгиз, 1940, стр. 188—210.
Ш л е ц е ρ Б. Φ,, А. Скрябин, Берлин, 1923.
Яковлев В., А. Н. Скрябин. Предисл. А. Б. Гольденвейзера, М.—Л., ГИЗ, 1925.
99 стр.
Архитектура 1
Источники:
А π ы ш к о в В. П., Рациональное в новейшей архитектуре, Спб., «Т-во
художественной печати», 1905. 65, (2) стр.
Б а л а ш е в И., Мысли об искусстве, Спб., изд. А. С. Суворина, 1900. 102 стр.
Володихин И., Задачи архитектурной эстетики.— «Архитектурный музей», Спб.,
1902, № 1, стр. 2—3; № 3, стр. 23—25.
Д и к а н с к и й М. Г., Постройка городов, их план и красота, Пг., 1915.
Красовский А. К., Гражданская архитектура. Части зданий, Спб., 1851. [6]
581 стр.
Курбатов В., О стиле и ложных стилях.— «Зодчий», Спб., 1908, № 14, стр. 121—
126.
Курбатов В., Об украшении Петербурга.—«Зодчий», Спб., 1908, № 43, стр. 399—
401; № 44, стр. 407-408; № 45, стр. 415—418.
Курбатов В., Классицизм и ампир.— «Старые годы», Спб., 1912, июль — сентябрь,
стр. 105—119.
Лукомский Г., Новый Петербург (мысли о современном строительстве).—
«Аполлон», 1913, № 2, стр. 5—38. (К конце статьи приведен краткий
библиографический обзор материалов по русской архитектуре начала XX века.)
Лукомский Г., Неоклассицизм в архитектуре Петербурга.— «Аполлон», 1914,
№ 5, стр. 5—20.
Лукомский Г. К., Современный Петербург, Пг., «Свободное искусство», 1917.
94 стр.
П. М.- в [Макаров П. М.], Новый стиль и декадентство.— «Зодчий», 1902, № 6,
стр. 65—70; № 8, стр. 89—92; № 9, стр. 101—105.
1 Раздел библиографии составлен А. Л. Пуниным.
778
Миронов Α. M., Роль искусства в жизни человека и государства, Казань, 1909.
Стасов В. В., Столицы Европы и их архитектура.— «Вестник Европы», Спб., 1876,
т. I, стр. 505—544; т. II, стр. 254—279.
Стасов В. В., Выставка живописи и архитектуры.— В кн.: Стасов В. В., Статьи
и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания, т. I, M.f
1952, стр. 29—38.
Стасов В. В., Двадцать пять лет русского искусства. Наша архитектура.— В кн.:
Стасов В. В. Избранные сочинения в 3-х томах, т. 2, М., «Искусство», 1952,
стр. 499—522.
Стасов В. В., Искусство XIX века. Архитектура.— Там же, 1952, стр. 485—506.
Страхов П. С., Эстетические задачи техники, М., 1906, 103 стр.
С ы ρ к и н М. Г., Пластические искусства. Живопись, скульптура, архитектура. Опыт
эстетического исследования, Спб., 1900. VIII, 164 стр.
Русские журналы второй половины XIX — начала XX века по строительству и
архитектуре (наиболее важные) :
«Аполлон», Спб., 1909—1917.
«Архитектурно-художественный еженедельник», Спб., 1914—1917.
«Архитектурные мотивы», М., 1899—1902.
«Архитектурный музей», Спб., 1902—1903.
«Ежегодник Московского архитектурного общества», М., 1909—1916.
«Ежегодник Общества архитекторов-художников», Спб., 1906—1916.
«Зодчий», Спб., 1872—1917.
«Искусство и художественная промышленность», Спб., 1899—1901.
«Мир искусства», Спб., 1899—1904.
«Московский архитектурный мир. Ежегодник современного зодчества и
декоративного искусства», М., 1912—1914.
«Неделя строителя», Спб., 1881—1901.
«Русская художественная летопись», Спб., 1911—1912.
«Строитель», Спб., 1895—1905.
Литература:
Надъярных Φ. Ф., Русская архитектурная школа накануне Великой
Октябрьской социалистической революции.— «Исследования истории архитектуры и
градостроительства», вып. 1, М., 1964, стр. 247—282.
Π у нин А. Л., Неоклассическое направление в архитектуре Петербурга начала
XX века.— В кн.: «Архитектура. Доклады XXI научной конференции. [Ленингр.
инженерно-строительного ин-та]», Л., 1963 ,стр. 63—50.
Π у н и н А. Л., Черты «рациональной архитектуры» в строительной практике
Петербурга.— «Строительство и архитектура Ленинграда», 1964, № 2, стр. 30—32.
Ремпель Л. И. и Вязниковцева Т. В., Эпоха модерна в архитектуре
Москвы.— «Архитектура СССР», М., 1935, № 10—11, стр. 90—93.
Ружже В. Л., Архитектурно-планировочные идеи городов-садов в России в конце
XIX — начала XX в.— «Известия высш. учеб. заведений Министерства высш.
и сред. спец. образования СССР». Строительство и архитектура, Новосибирск,
1961, № 5, стр. 180—188.
Ружже В. Л., Градостроительные взгляды архитектора Л. Н. Бенуа.—В сб.:
«Архитектурное наследство», вып. 7, Л.— М., 1955, стр. 67—87.
Ружже В. Л., Развитие творческих воззрений в русской архитектуре конца XIX—
начала XX в. (по материалам Академии художеств).— «Известия высш. учеб.
заведений Министерства высш. и сред. спец. образования СССР». Строительство
и архитектура, Новосибирск, 1960, № 5, стр. 146—153.
«Русское зодчество», вып. 6. Памятники архитектуры первой половины XIX века.
Чертежи и фотографии. [Вводная статья А. Г. Чинякова], М., 1953. 32 стр.,
43 л. илл.
779
«Русское зодчество», вып. 7. Памятники архитектуры второй половины XIX — начала
XX века. Чертежи и фотографии. [Вводная статья И. В. Эрна], М., 1957, 34 стр.,
46 л. илл.
Соколова Н., Из истории архитектурных съездов.—«Архитектура СССР», 1935,
№ 6, стр. 54—60.
Федоров-Давыдов Α. Α., Русское искусство промышленного капитализма,
М., 1929.
Хомутецкий Η. Ф., Архитектура России с середины XIX века по 1917 год.—
«Известия высших учебных заведений Министерства высшего и среднего спе-«
циального образования СССР». Строительство и архитектура, Новосибирск, 1960,
№ 6, стр. 175—188.
Хомутецкий Η. Ф., Русское зодчество второй половины XIX — начала XX века
и социальная природа советской архитектуры.— «Научные труды Ленинградского
инженерно-строительного института», вып. 10» 1950, стр. 37—60.
СОДЕРЖАНИЕ
От редакции . , % * é „ . 5
Введение. 3. И. Гершкович 7
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 1800—1830-х годов
Русская эстетика начала XIX века (до 40-х годов)
Вступительная статья. 3. А. Каменский. Ю. В. Манн 21
Мерзляков. Вступительный текст и составление 3. А. Каменского ... 47
Батюшков. Вступительный текст и составление II. В. Фридмана .... 54
Жуковский. Вступительный текст и составление Р. В. Иезуитовой ... 61
Пушкин. Вступительный текст и составление Н. А. Земунд 72
Вяземский. Вступительный текст и составление С. Ю. Неклюдова ... 89
Языков. Вступительный текст и составление С. Ю. Неклюдова .... 100
Рылеев. Вступительный текс и составление 3. А. Каменского 105
Кюхельбекер. Вступительный текст и составление 3, А. Каменского . . 109
Бестужев-Марлинскии. Вступительный текст и составление З.А. Каменского 112
Чаадаев. Вступительный текст Е. М. Пулъхритудовой. Составление
А. В. Михайлова » ' . . 117
Сомов. Вступительный текст и составление 3. А. Каменского 127
Баратынский. Вступительный текст и составление А. А. Морозова. . . . 131
Галич. Вступительный текст и составление 3. А. Каменского 138
Веневитинов. Вступительный текст и составление 5. А. Каменского . . 145
Одоевский. Вступительный текст и составление Ю. В. Манна 150
Надеждин. Вступительный текст и составление 3. А. Каменского . . . 160
Полевой. Вступительный текст и составление Ю. В. Манна 176
Лермонтов. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова «... 180
Гоголь. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова . . , . . 184
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 40—60-х годов
Петрашевцы.
Составление раздела и вступительная статья С. С. Деркача . , . . .203
Эстетика революционных демократов
Вступительная статья. 3. В. Смирнова *
Белинский. Вступительный текст и составление 3. В. Смирновой .... 226
Герцен. Вступительный текст и составление 3. В. Смирновой 263
Огарев. Вступительный текст и составление 3. В. Смирновой 281
Чернышевский. Вступительный текст и составление А. А. Лебедева . « 289
781
Добролюбов. Вступительный текст и составление 3. В. Смирновой . . . 332
Некрасов. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова 354
Салтыков-Щедрин. Вступительный т-екст и составление М. И, Ульмана . 358
Писарев. Вступительный текст и составление 3. В. Смирновой .... 373
Антонович. Вступительный текст и составление А. А. Лебедева .... 384
Шелгунов. Вступительный текст и составление М. И. Ульмана .... 388
Михайлов. Вступительный текст и составление Ю. Д. Левина 394
Сторонники «чистого искусства». Славянофилы.
Вступительная статья. В. В. Ванслов, А. В. Михайлов 401
Киреевский. Вступительный текст и составление Ю. В. Манна .... 408
Хомяков. Вступительный текст и составление А. В. Михайлова . . . . 413
Шевырев. Вступительный текст и составление Ю. В. Манна 420
Ап. Григорьев. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова . . . 422
Дружинин. Вступительный текст и составление Ю. Д. Левина 425
Майков. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова 432
Тютчев. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова 434
А. К. Толстой. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова . . . 436
Фет. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова 439
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ Х1Х-НАЧАЛА XX ВЕКА
Литература и литературная критика
Вступительная статья. Б. С. Мейлах 445
Тургенев. Вступительный текст и составление М. И. Улъмаяа 448
Гончаров. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова 459
Островский. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова .... 462
Достоевский. Вступительный текст и составление А. А. Белкина .... 467
Гаршин. Вступительный текст и составление Н. И. Беспаловой .... 486
Успенский. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова .... 489
Михайловский. Вступительный текст и составление М. И. Ульмана . . 493
Лавров. Вступительный текст и составление М. И. Ульмана 499
Ткачев. Вступительный текст и составление Ю. Д. Левина 510
Лесков. Вступительный текст и составление А. В. Михайлова 514
Л. Толстой. Вступительный текст и составление К. Н. Ломунова .... 521
Чехов. Вступительный текст и составление В. В. Ванслова 543
Короленко. Вступительный текст и составление М. И. Ульмана .... 548
Вл. С. Соловьев. Вступительный текст и составление А. В. Михайлова . 555
Брюсов. Вступительный текст и составление А. Л. Лурье 571
Символисты. Вступительный текст и составление 3. В. Ланда 587
Бальмонт * . 590
Андрей Белый 592
Вяч. Иванов 602
Блок. Вступительный текст и составление И. И. Дикман 608
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ДЕЯТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА,
МУЗЫКИ И АРХИТЕКТУРЫ
Изобразительное искусство
Вступительная статья Н. И. Беспаловой 629
A. Иванов ^33
Перов 637
Крамской \ 639
B. В. Стасов 652
Верещагин « - « . 666
782
Репин . β * . 669
Антокольский 678
Вступительные тексты и составление Н. И. Беспаловой
Музыка
Вступительная статья В. В. Ванслова 682
Глинка * 685
Серов 688
Мусоргский 696
Римский-Корсаков 701
Чайковский 703
Танеев 708
Скрябин 714
Вступительные тексты и составление В. В. Ванслова
Архитектура.
Вступительная статья и составление А. Л. Лунина 718
Красовский 723
Равич . 729
Апышков . .730
Страхов 734
Мачинский « » 735
Степанов · 736
Кузнецов 737
Мунц 737
Библиография « « с . « - « 739
ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ
(Том IV (первый полутом)
Редактор А. В. Михайлов
Художественный редактор
В. Д. Карандашов
Художник Е. А. Ганнушкин
Технический редактор М. 77. Ушкова
Корректоры Н. Г. Антокольская
и Г. Г. Элькина
А03841. Подп. в печать 29/1 1969 г.
Формат бумаги 70χ90/ι6.
Бумага типографская № 1. Усл. п. л.
57,3. Уч.-изд. л. 55,2
Тираж 23 200 экз. Изд. № 17176.
Издательство «Искусство»,
Москва, К-51
Цветной бульвар, 25. Заказ № 175
Отпечатано на Ярославском поли-
графкомбинате
Главполиграфпрома Комитета по
печати
при Совете Министров СССР.
Ярославль, ул. Свободы, 97.
С матриц Книжной фабрики
им. Фрунзе
Комитета по печати при Совете
Министров УССР,
Харьков, Донец-
Захаржевского, 6/8.
Цена 4 руб.