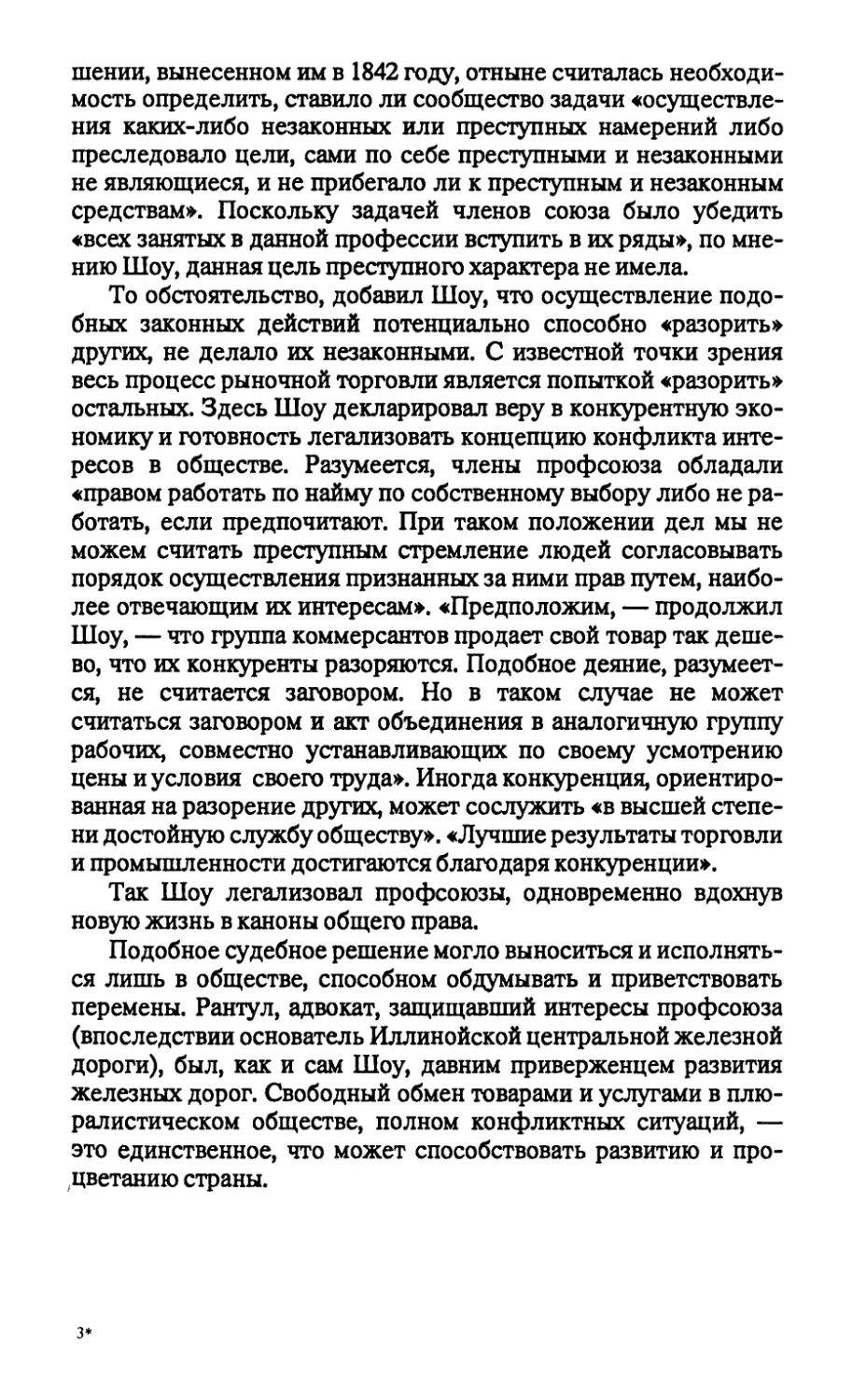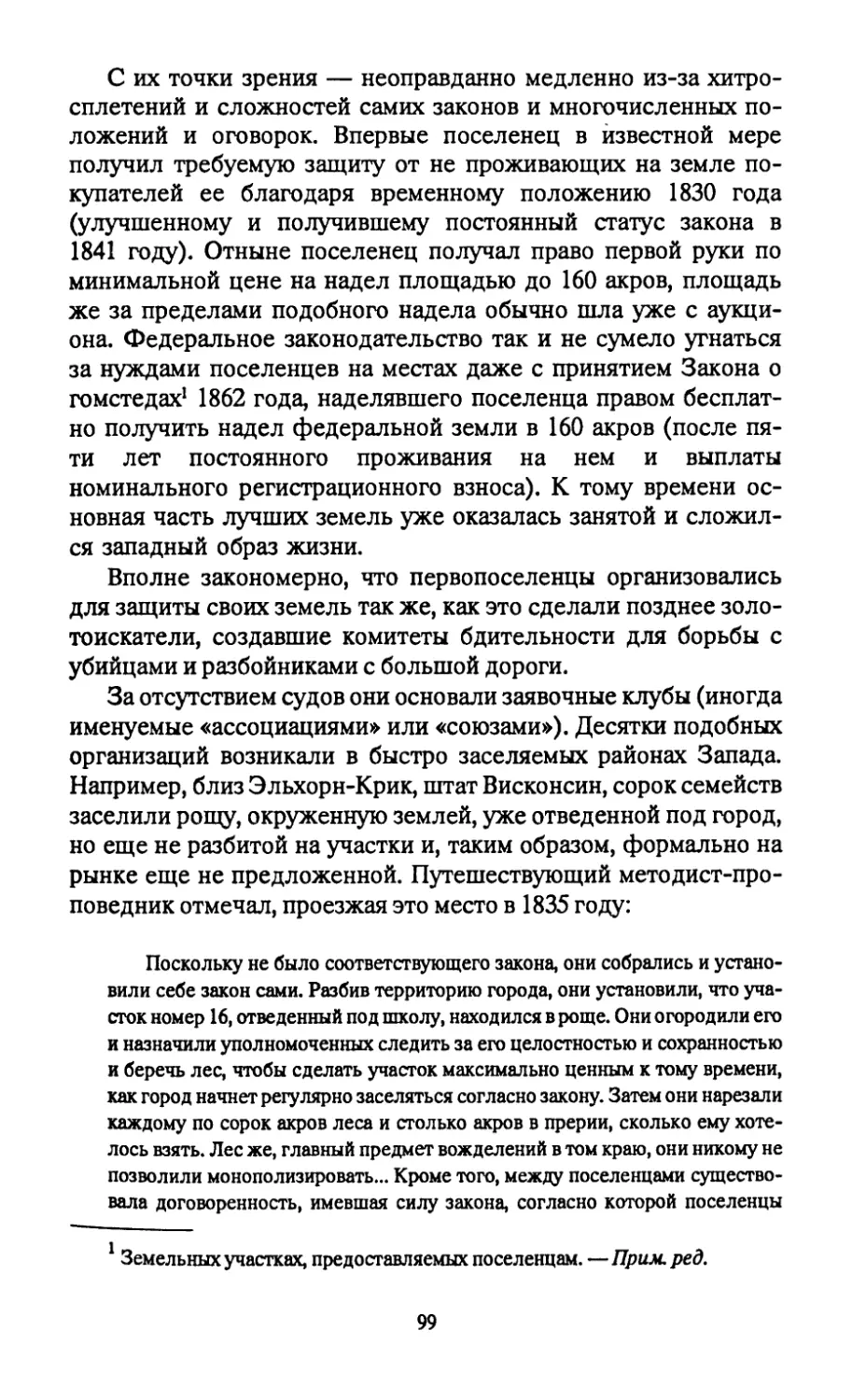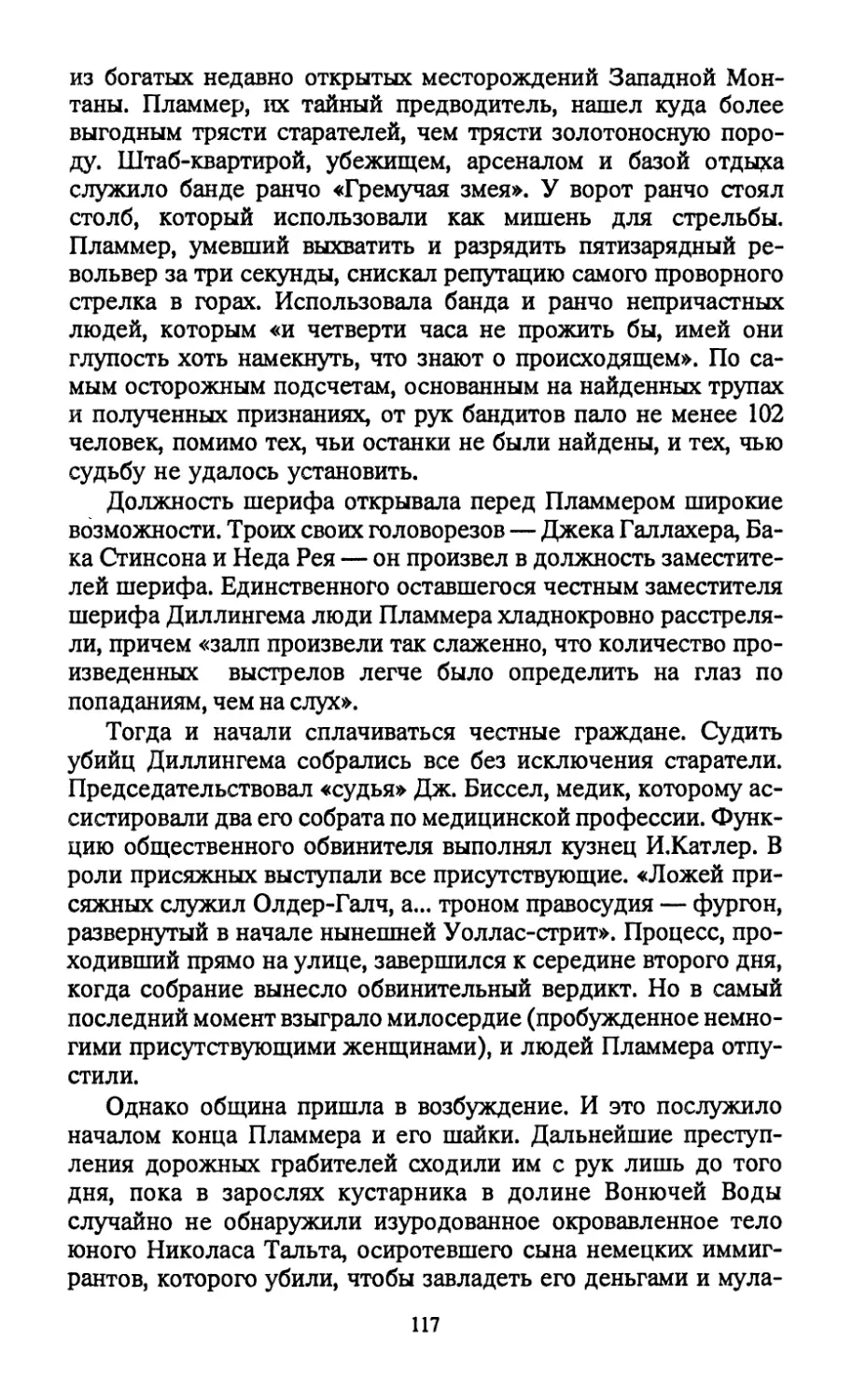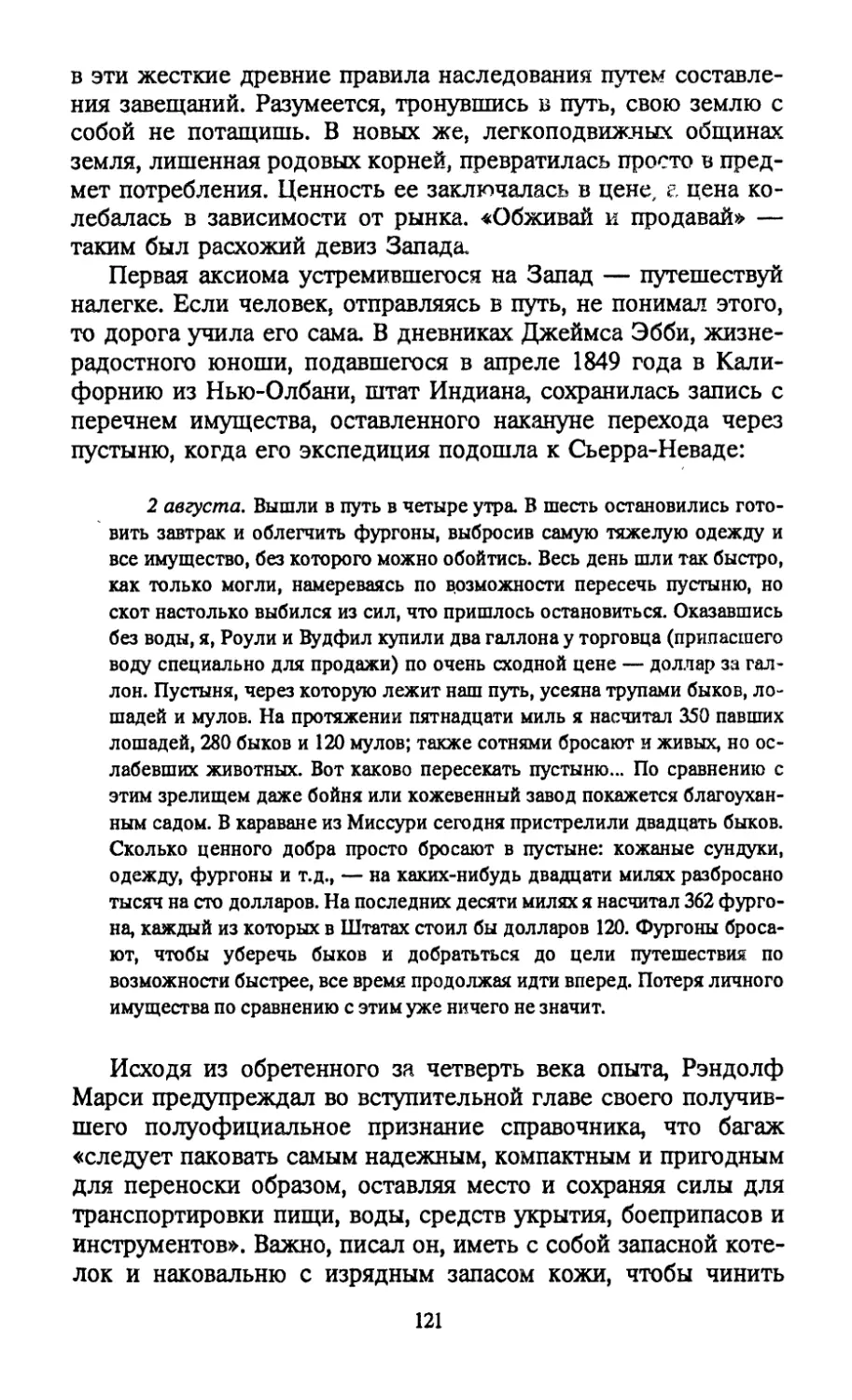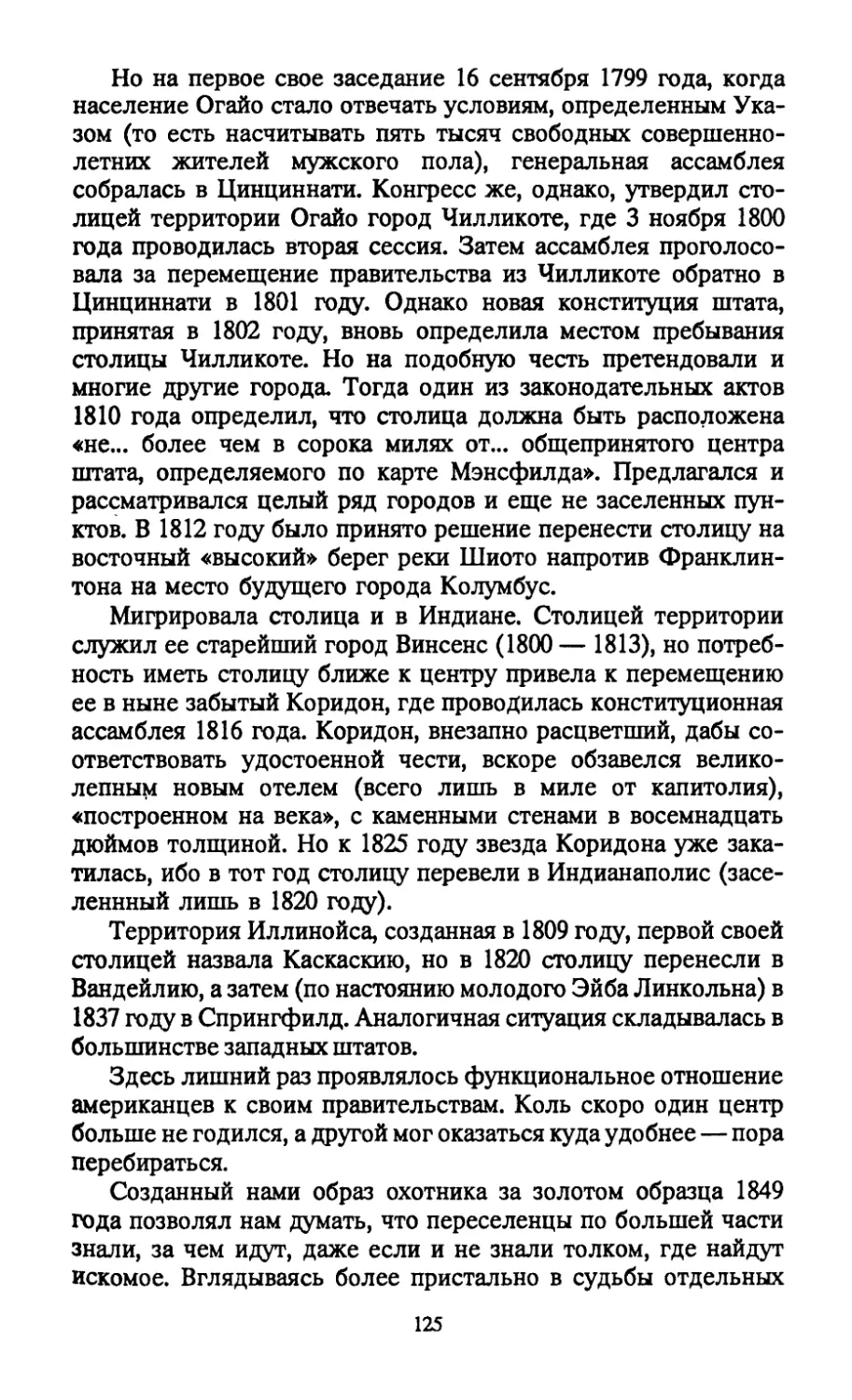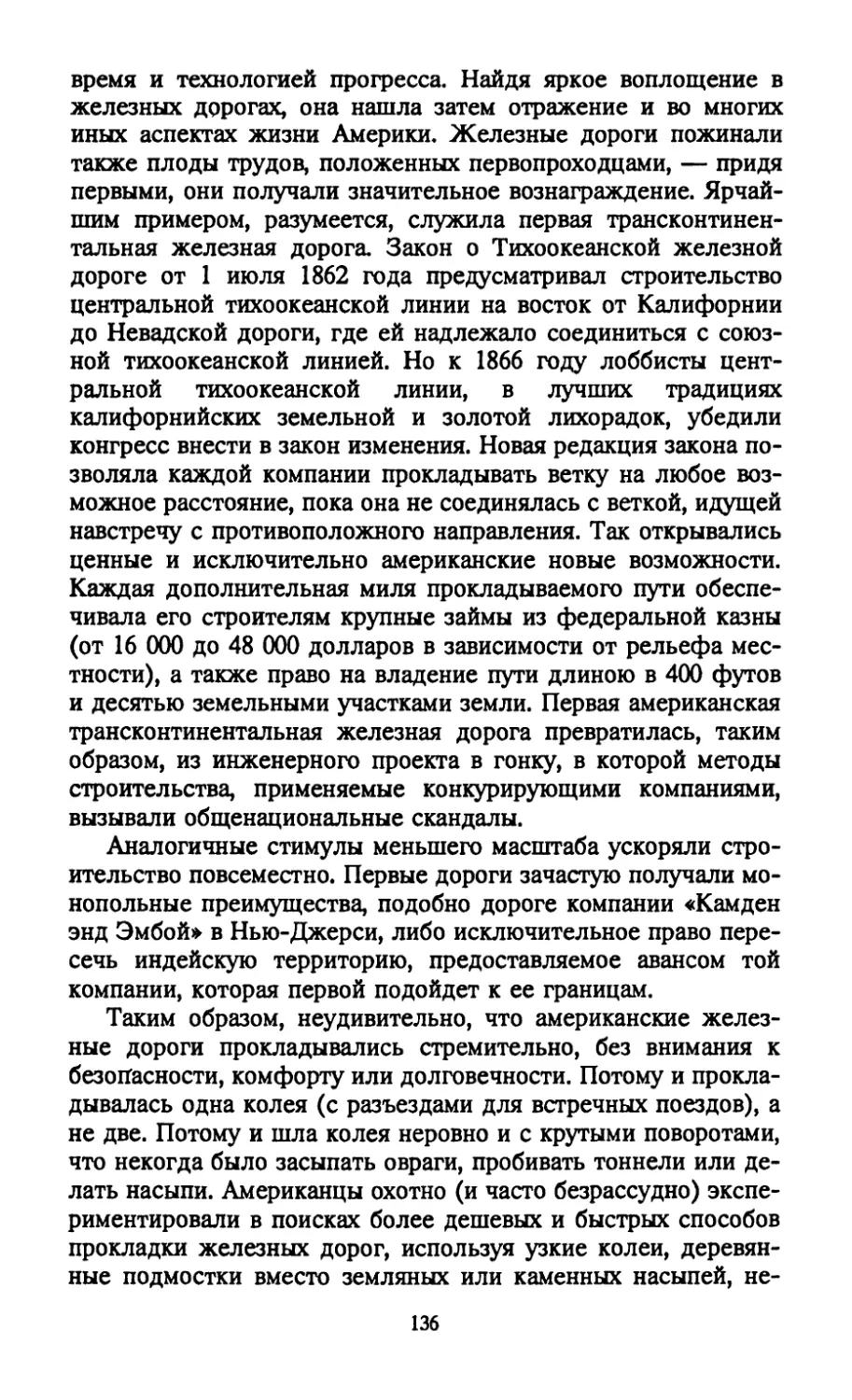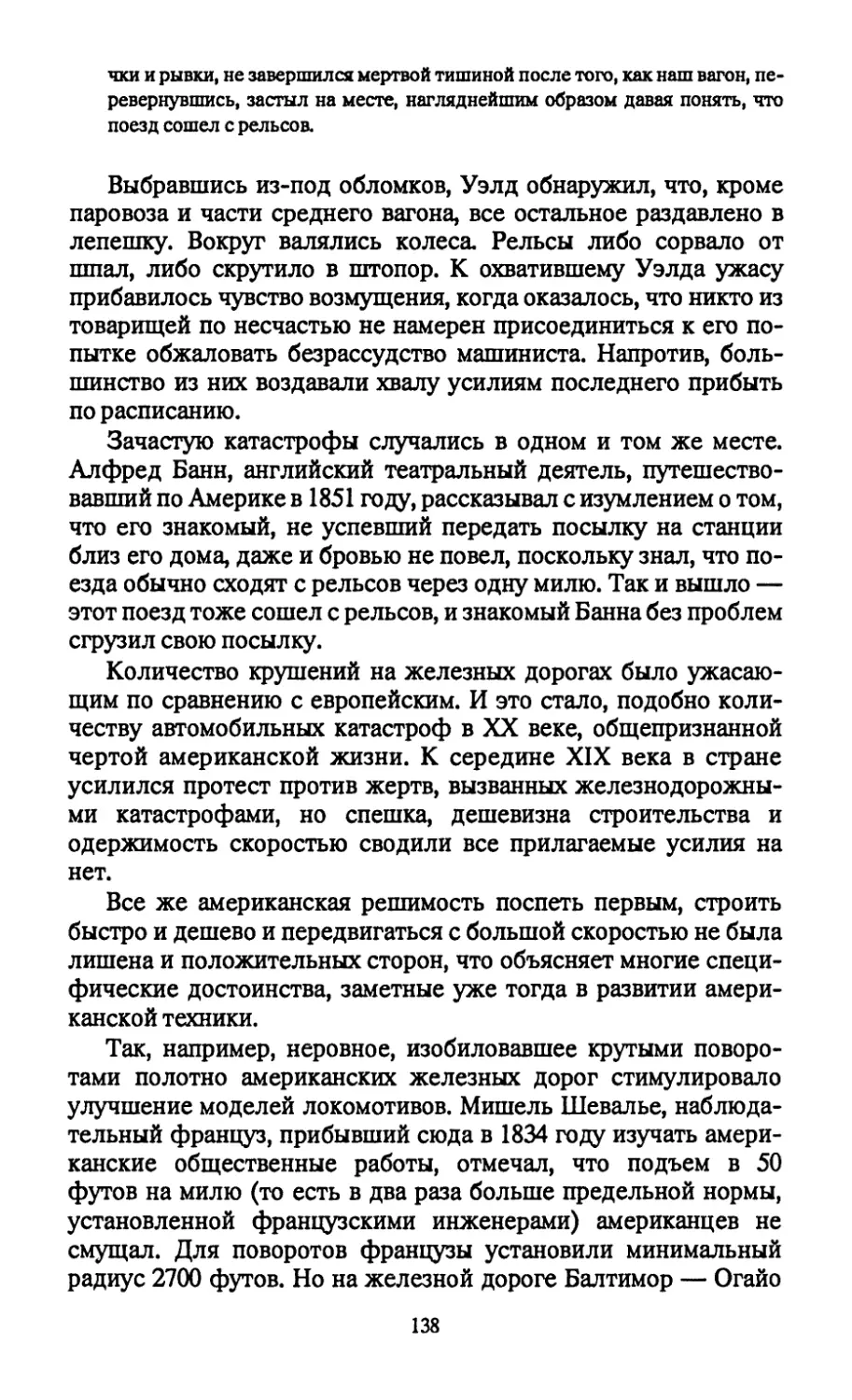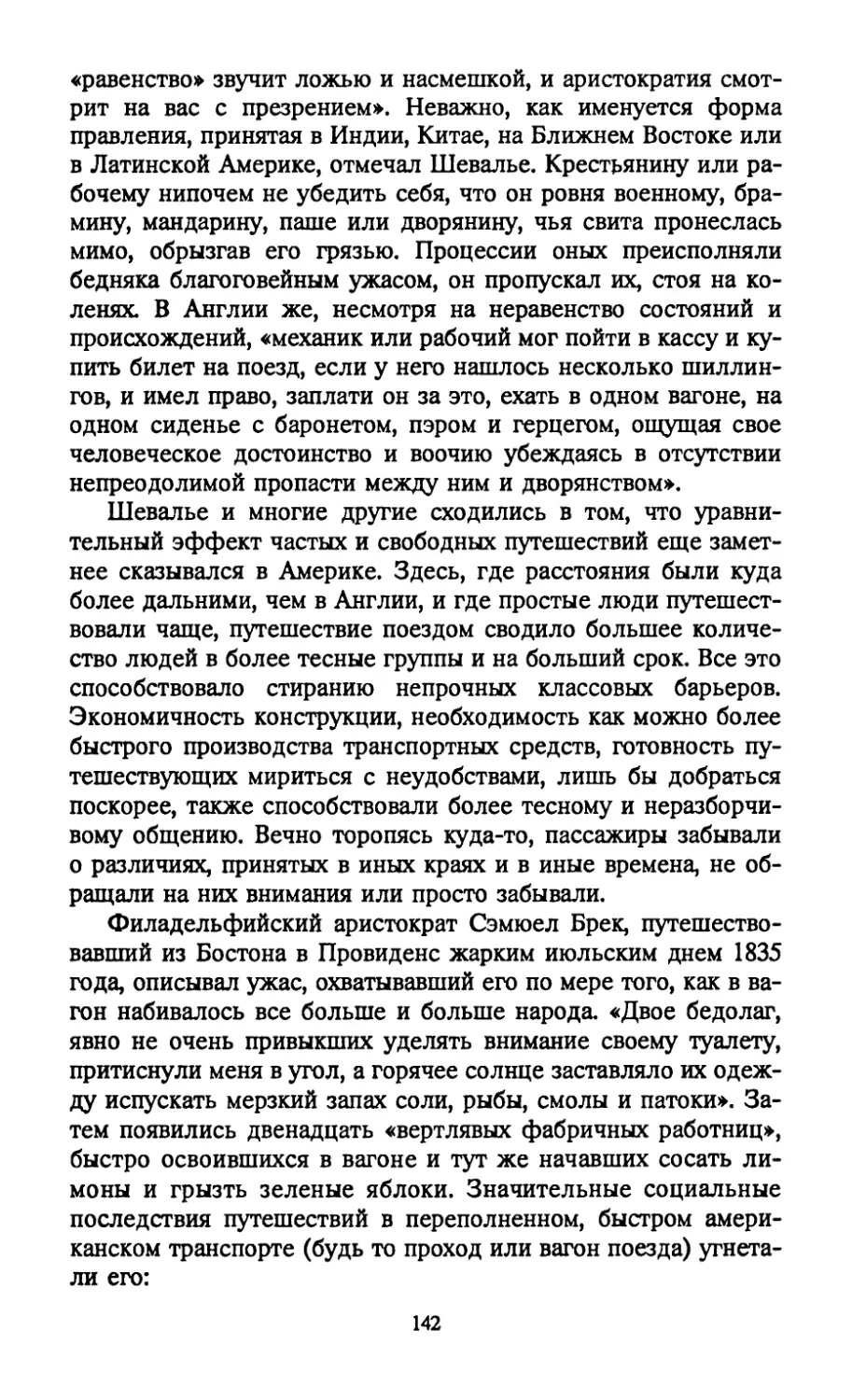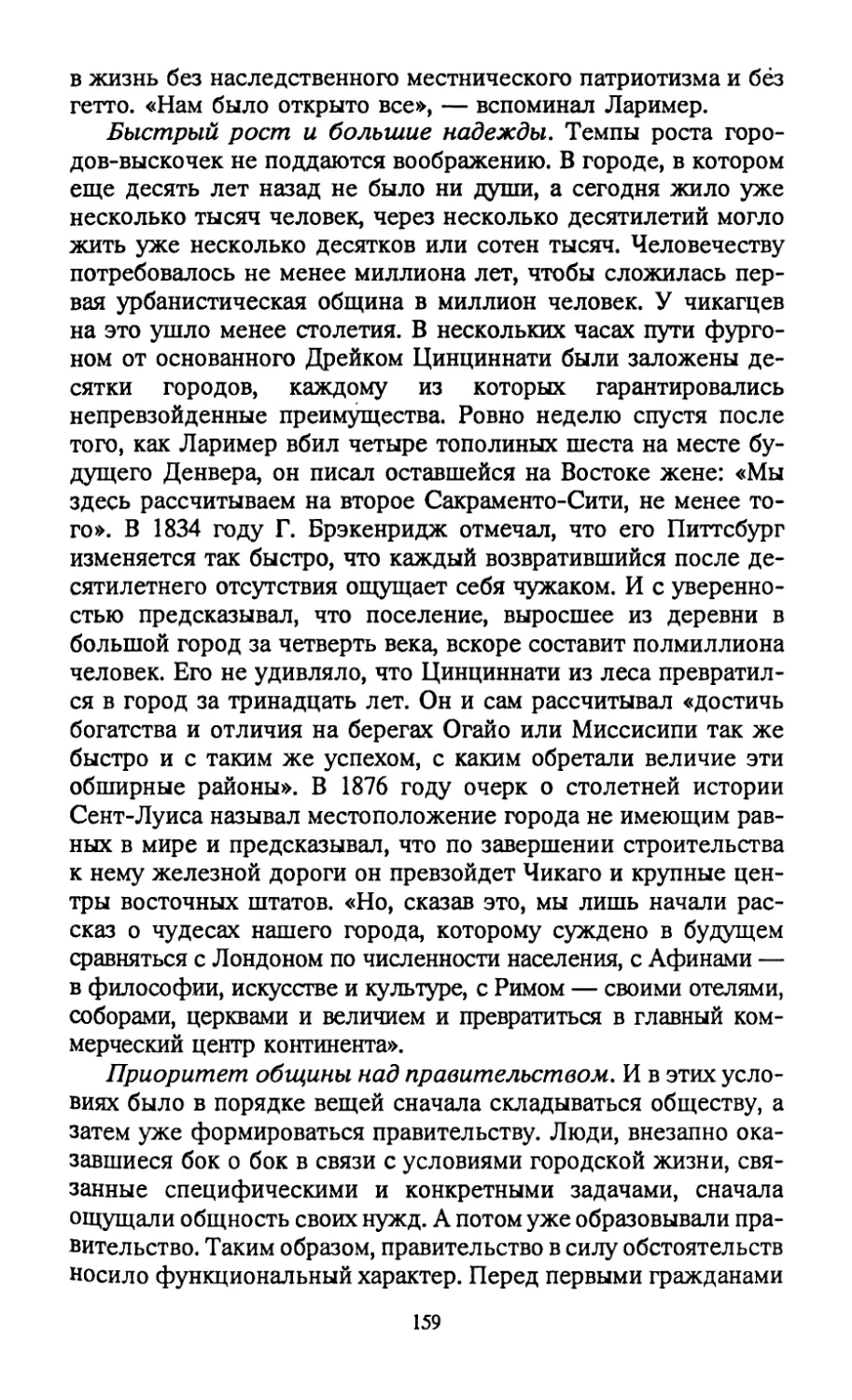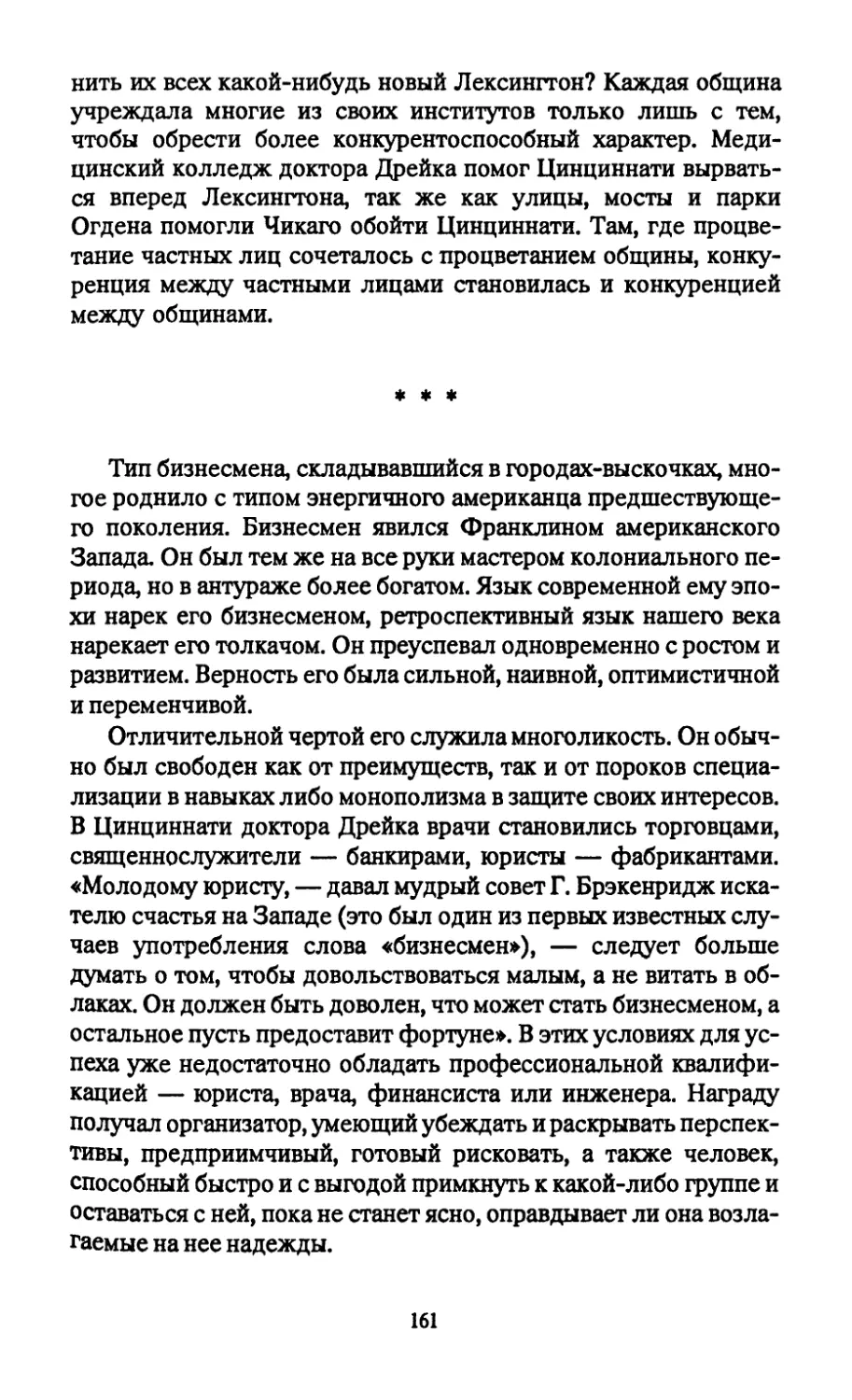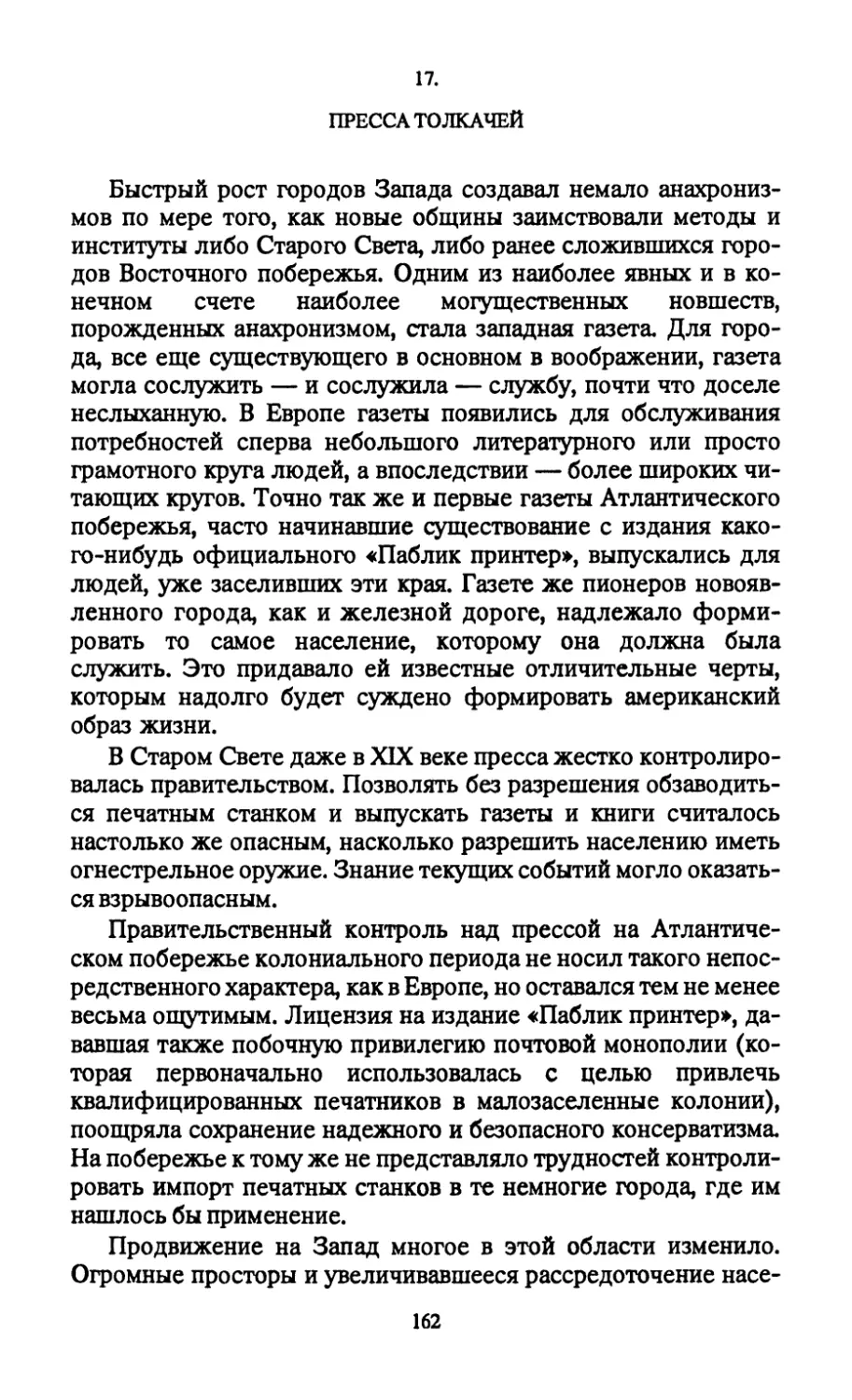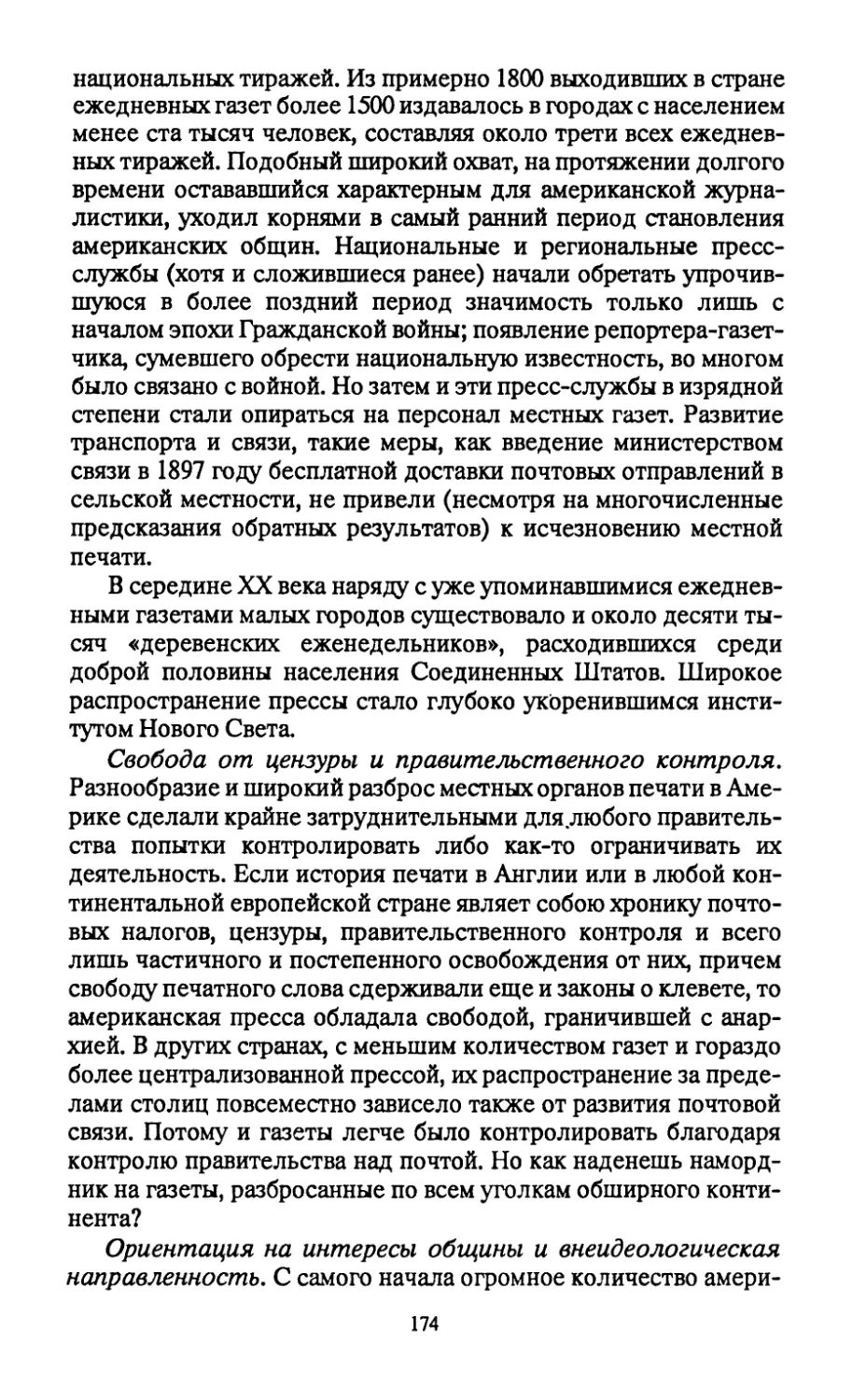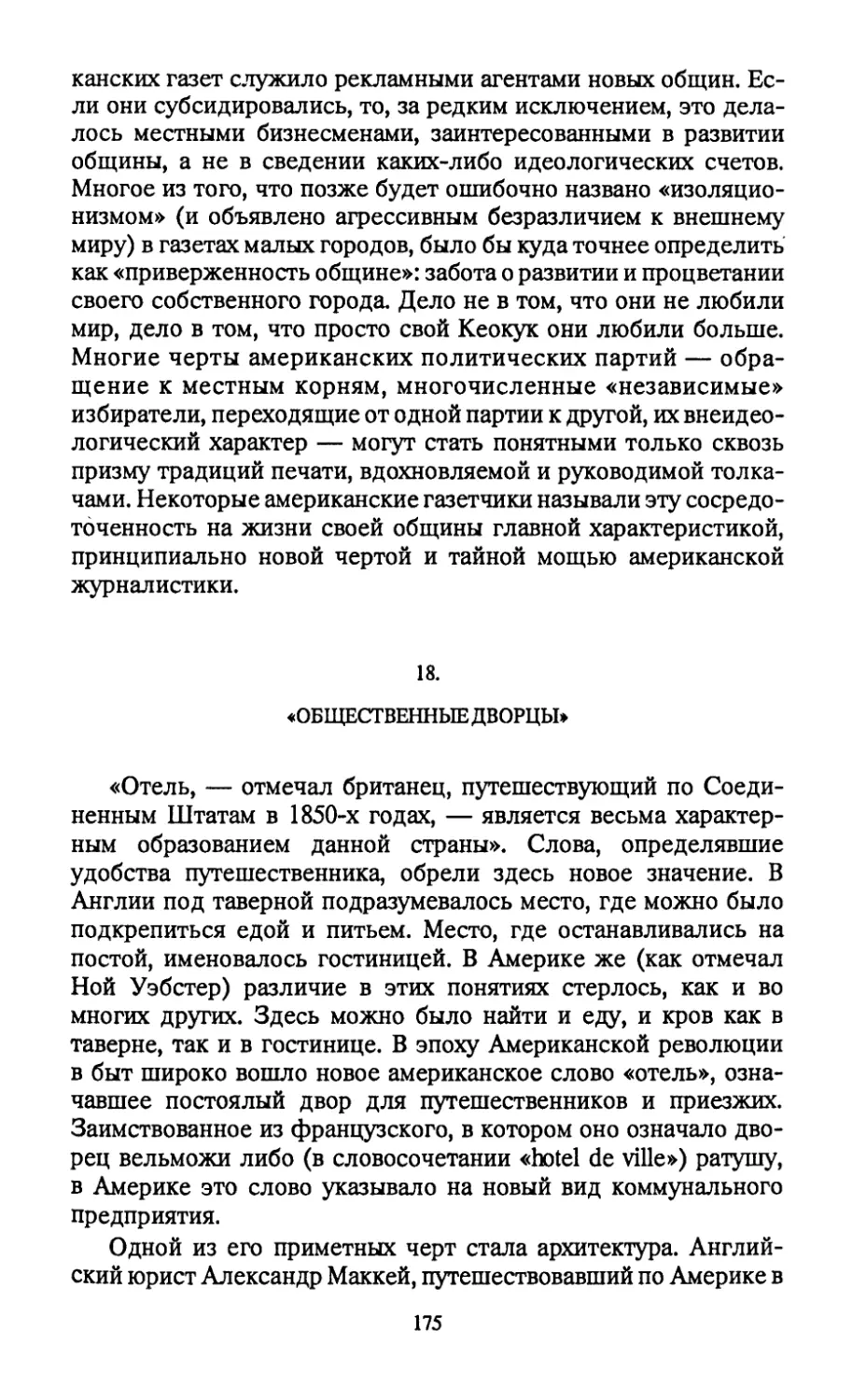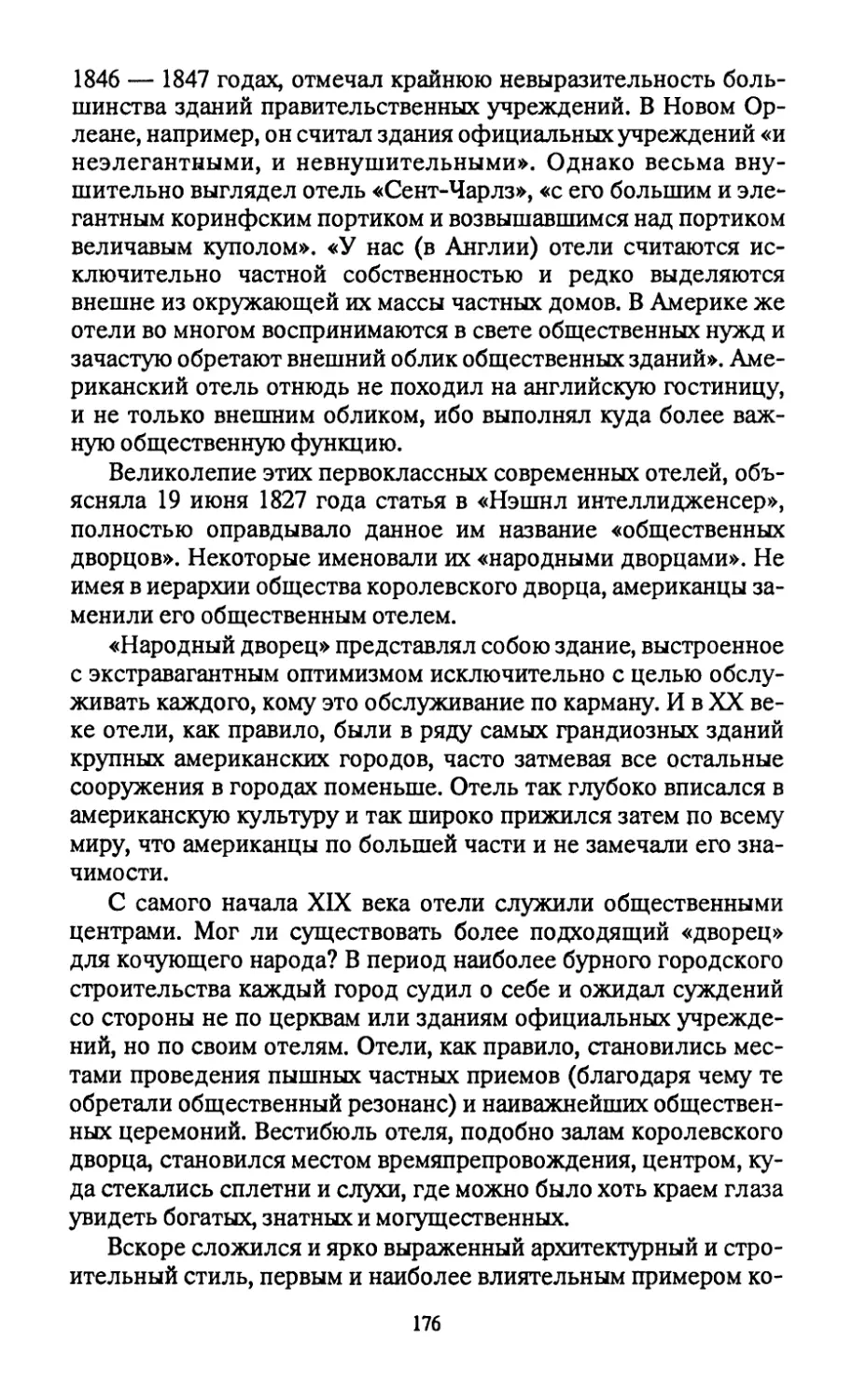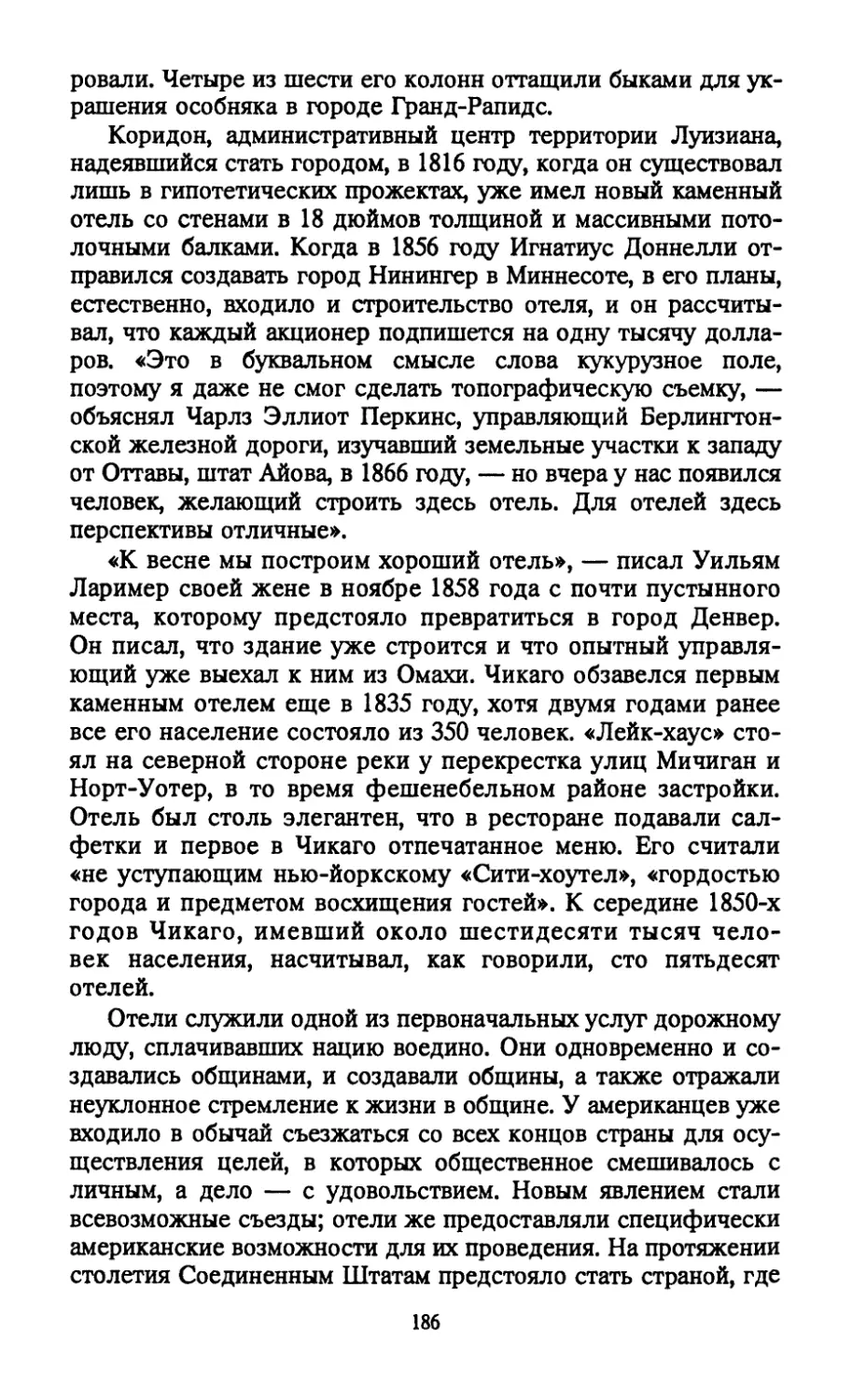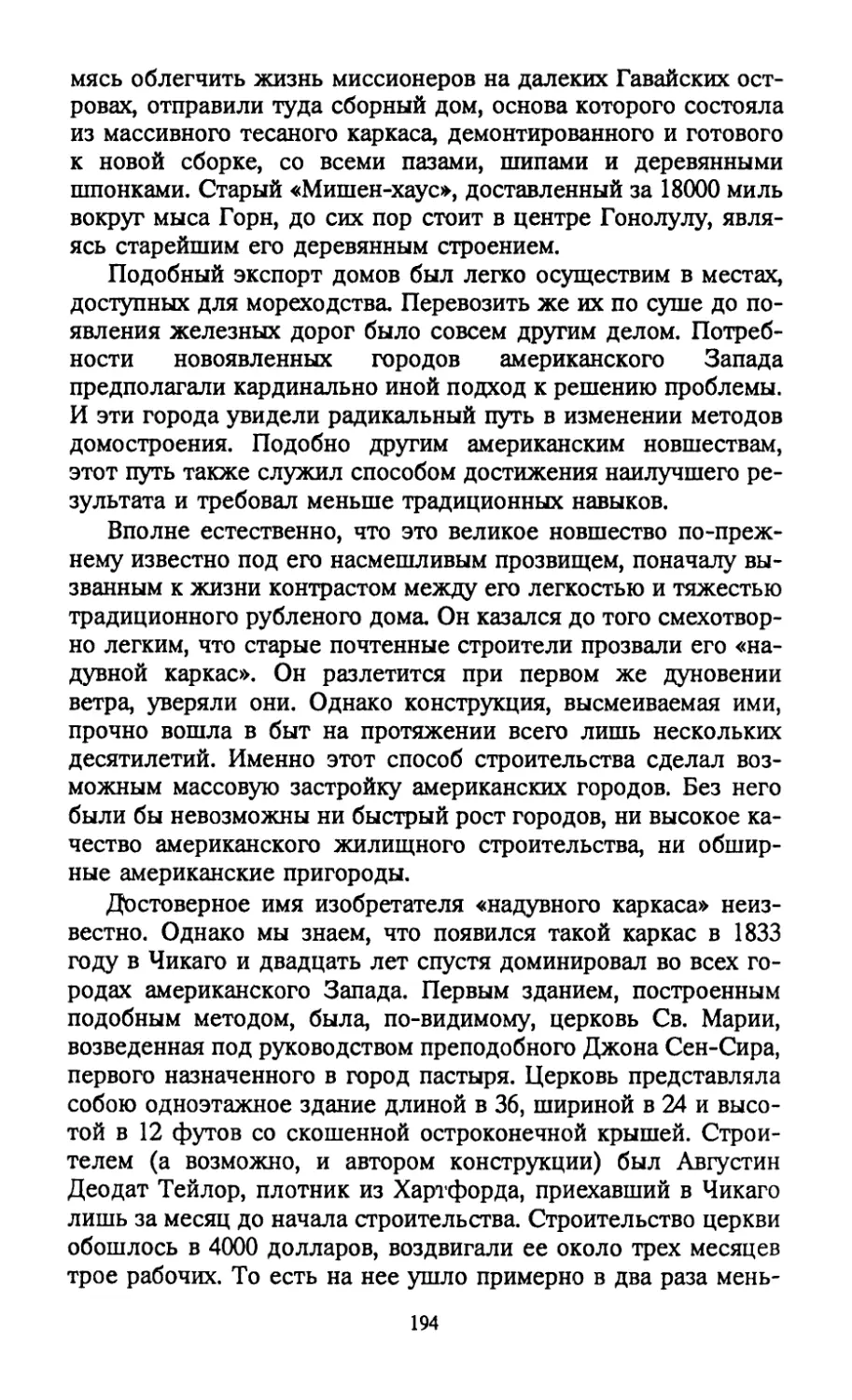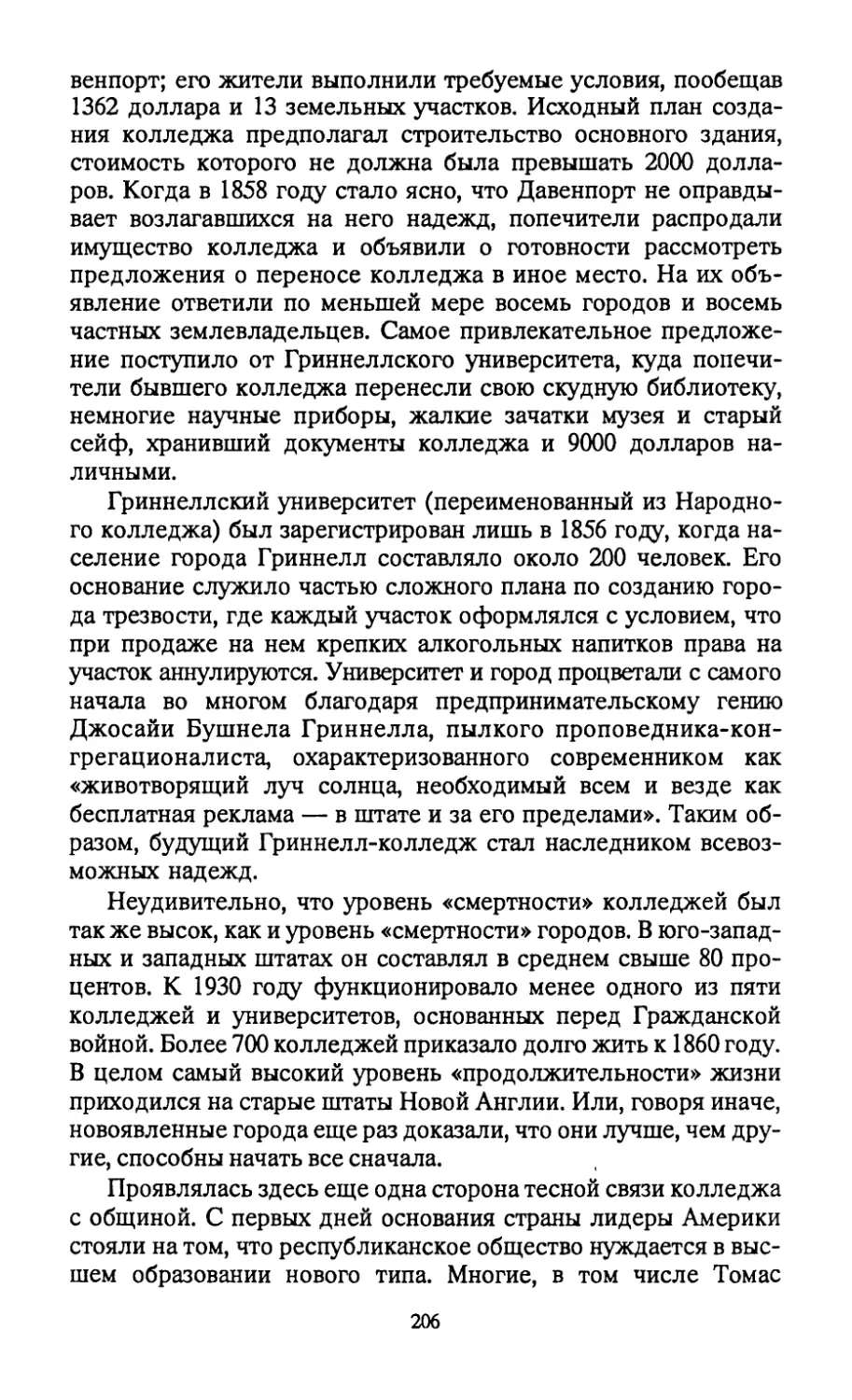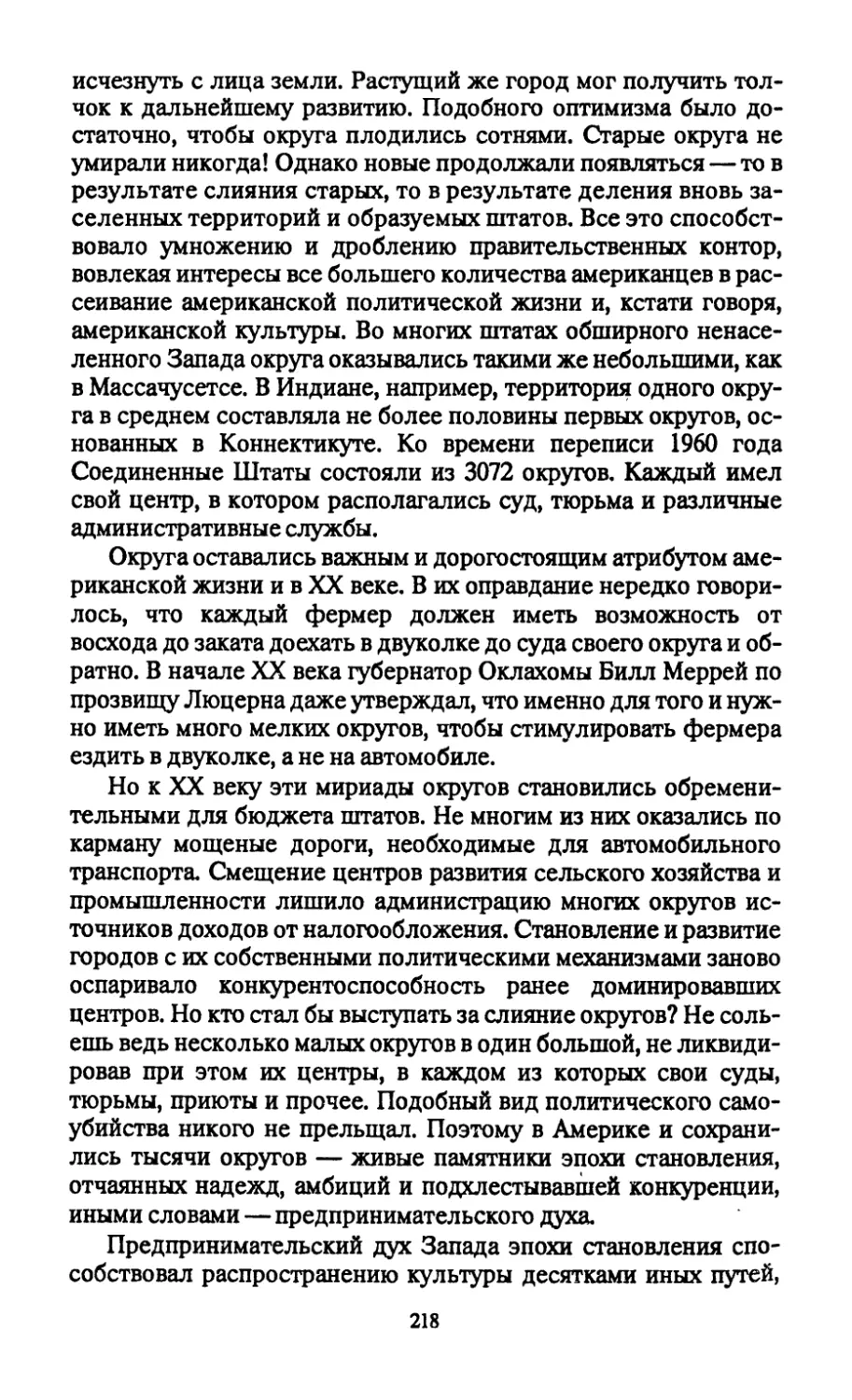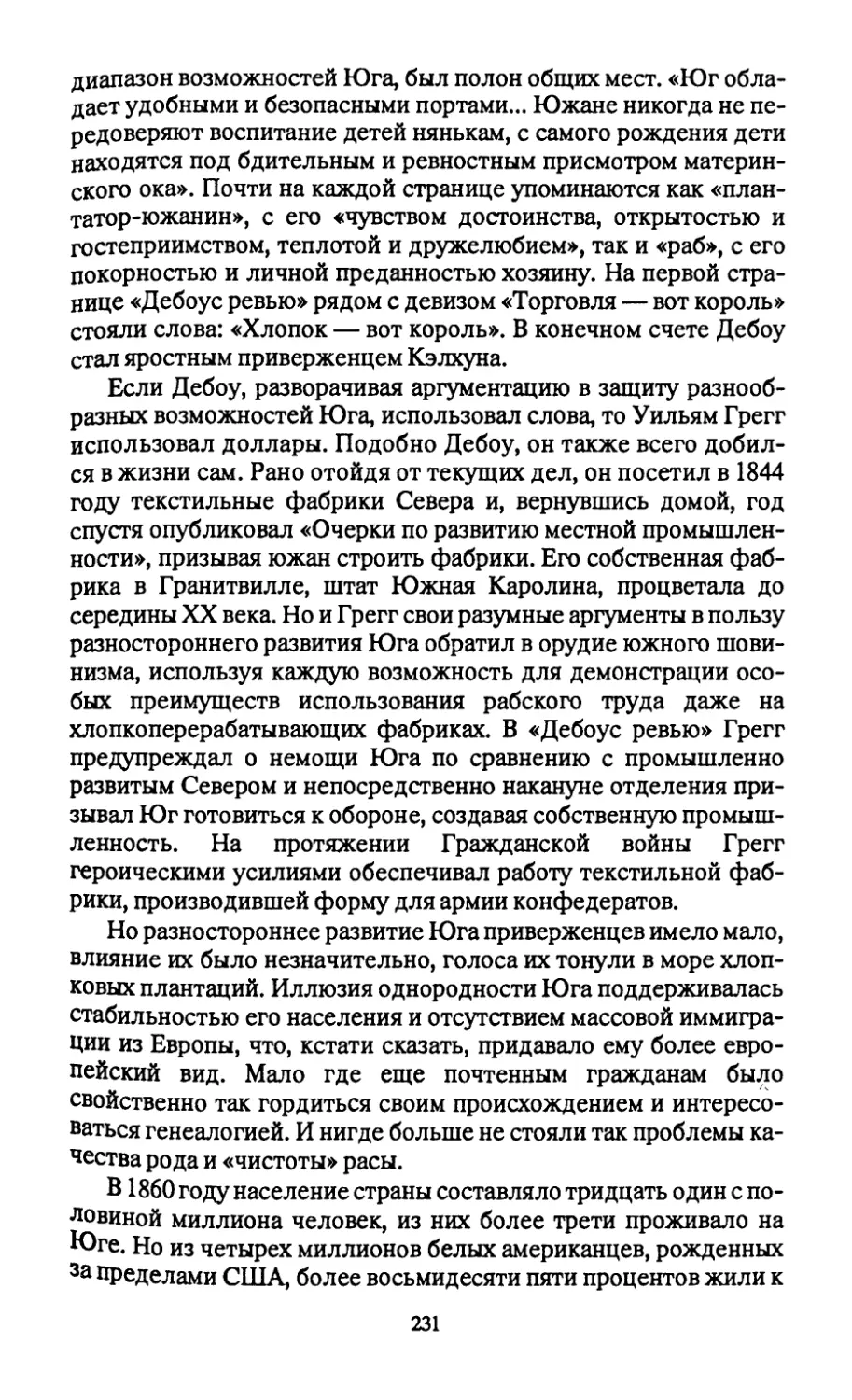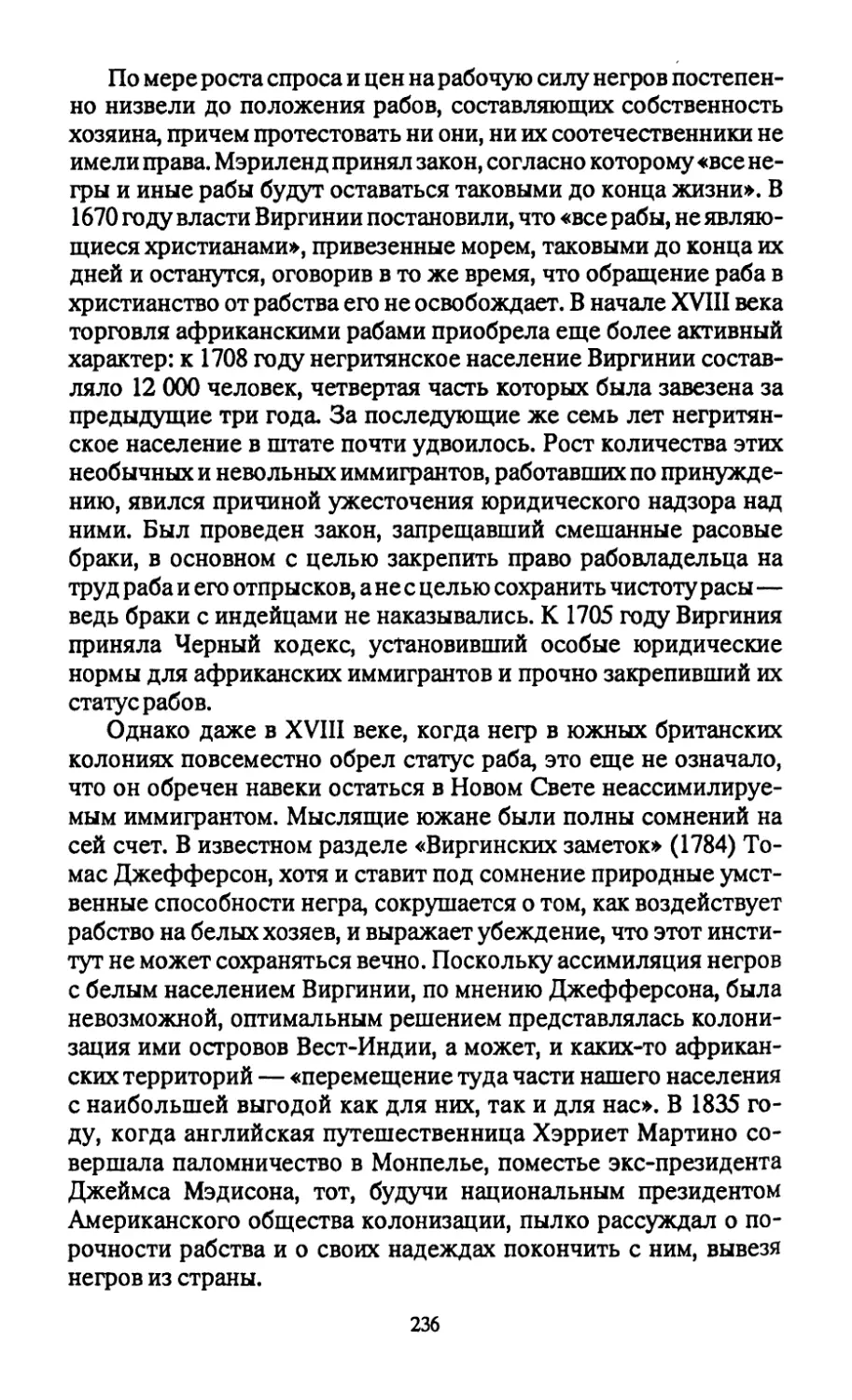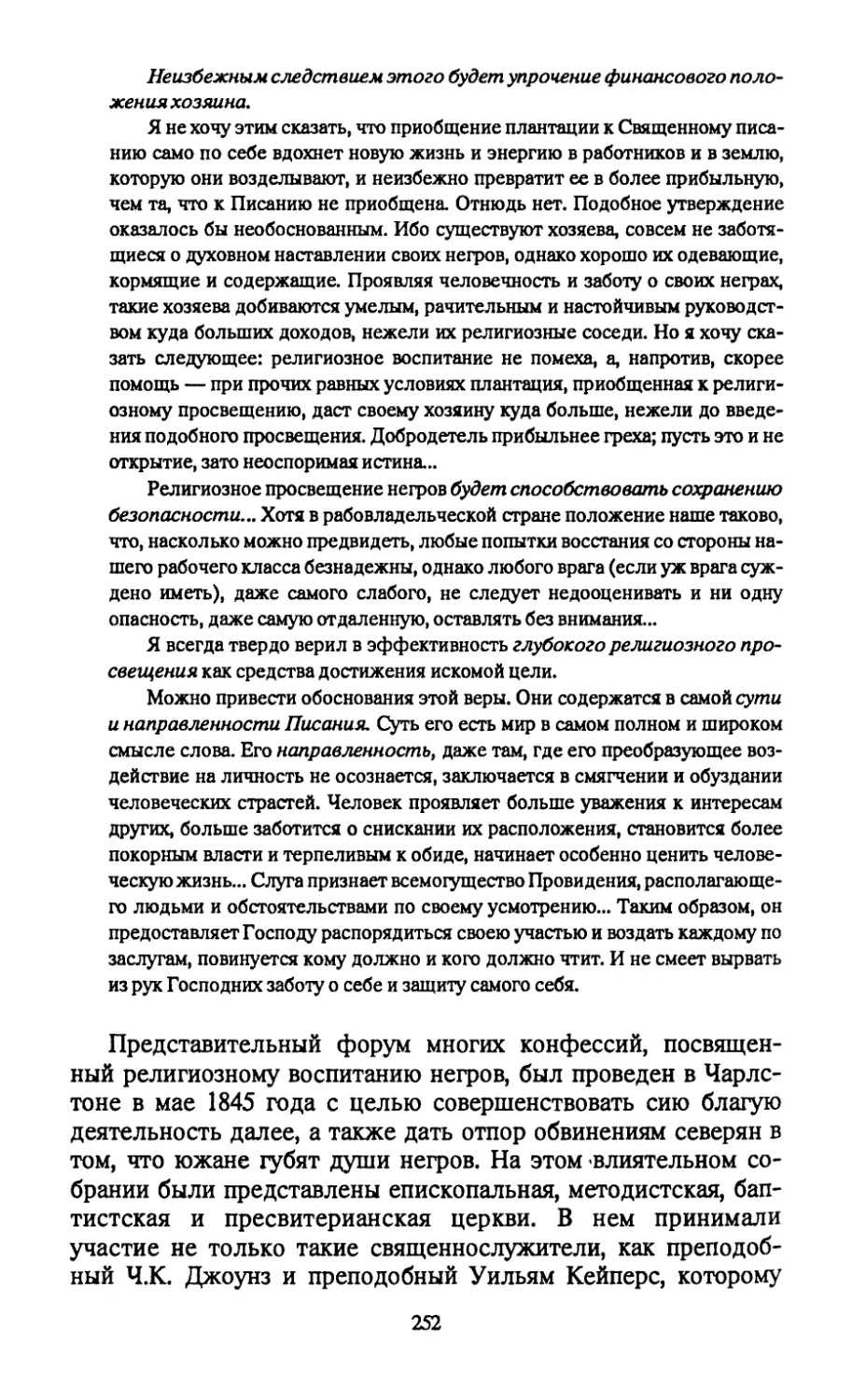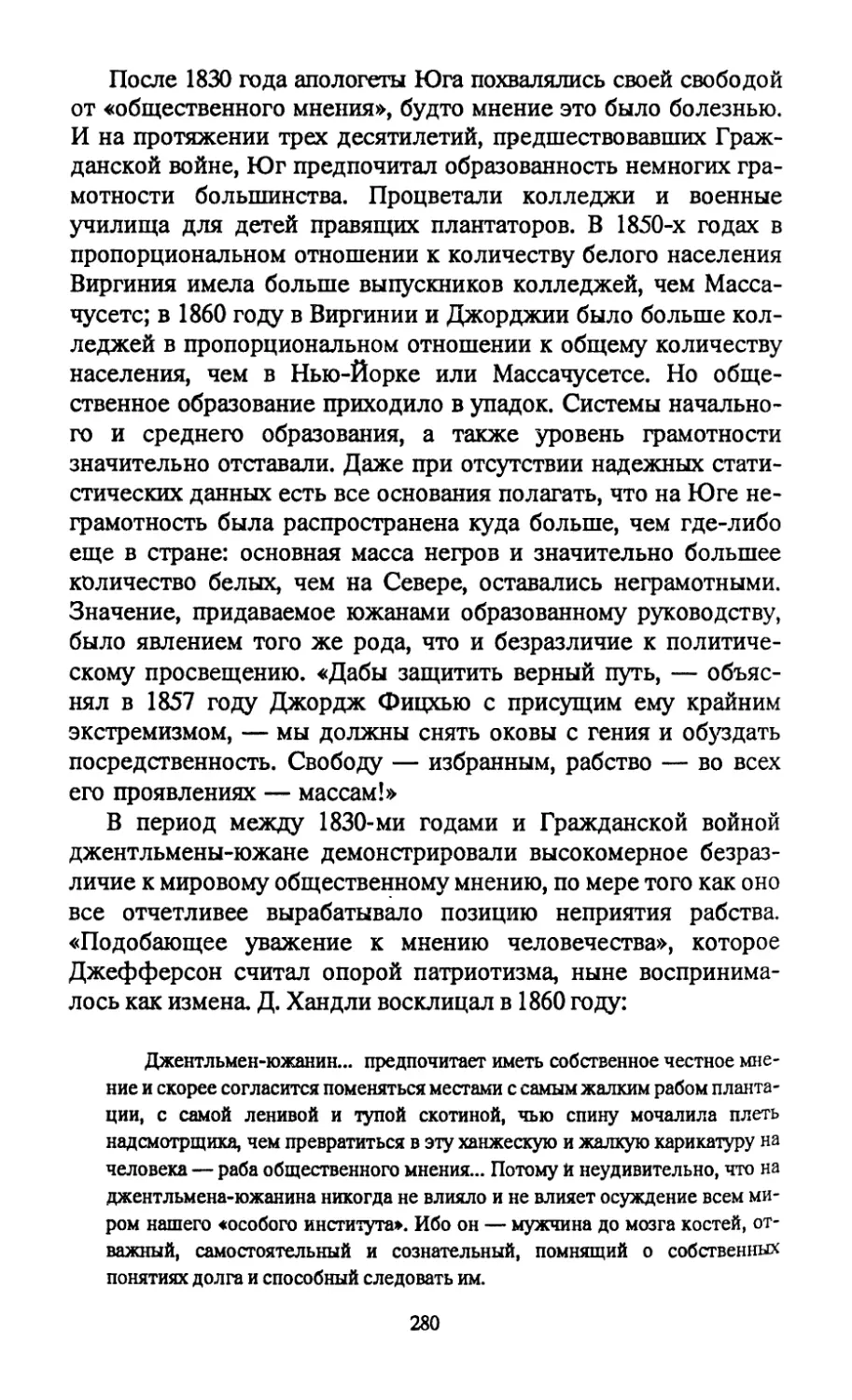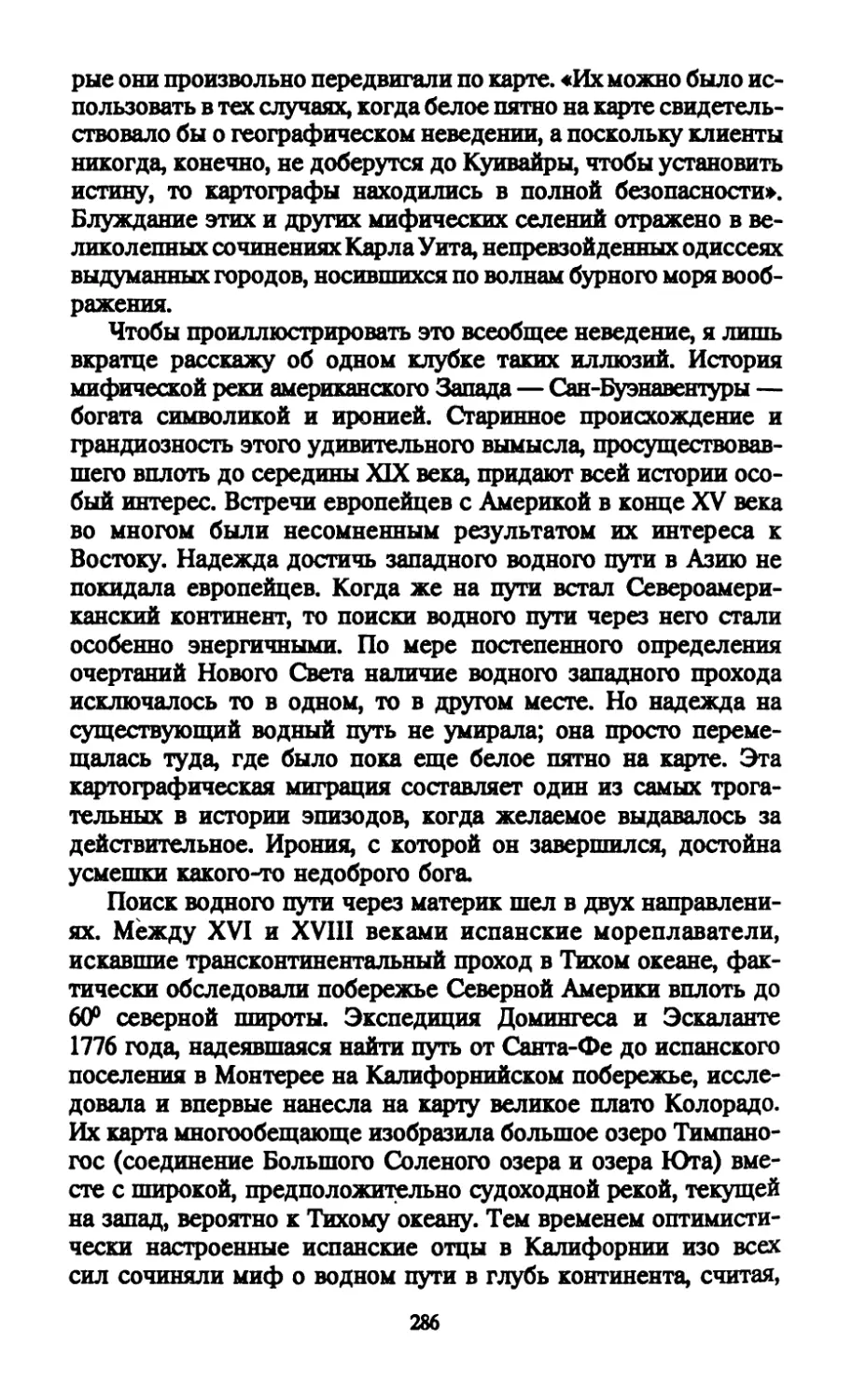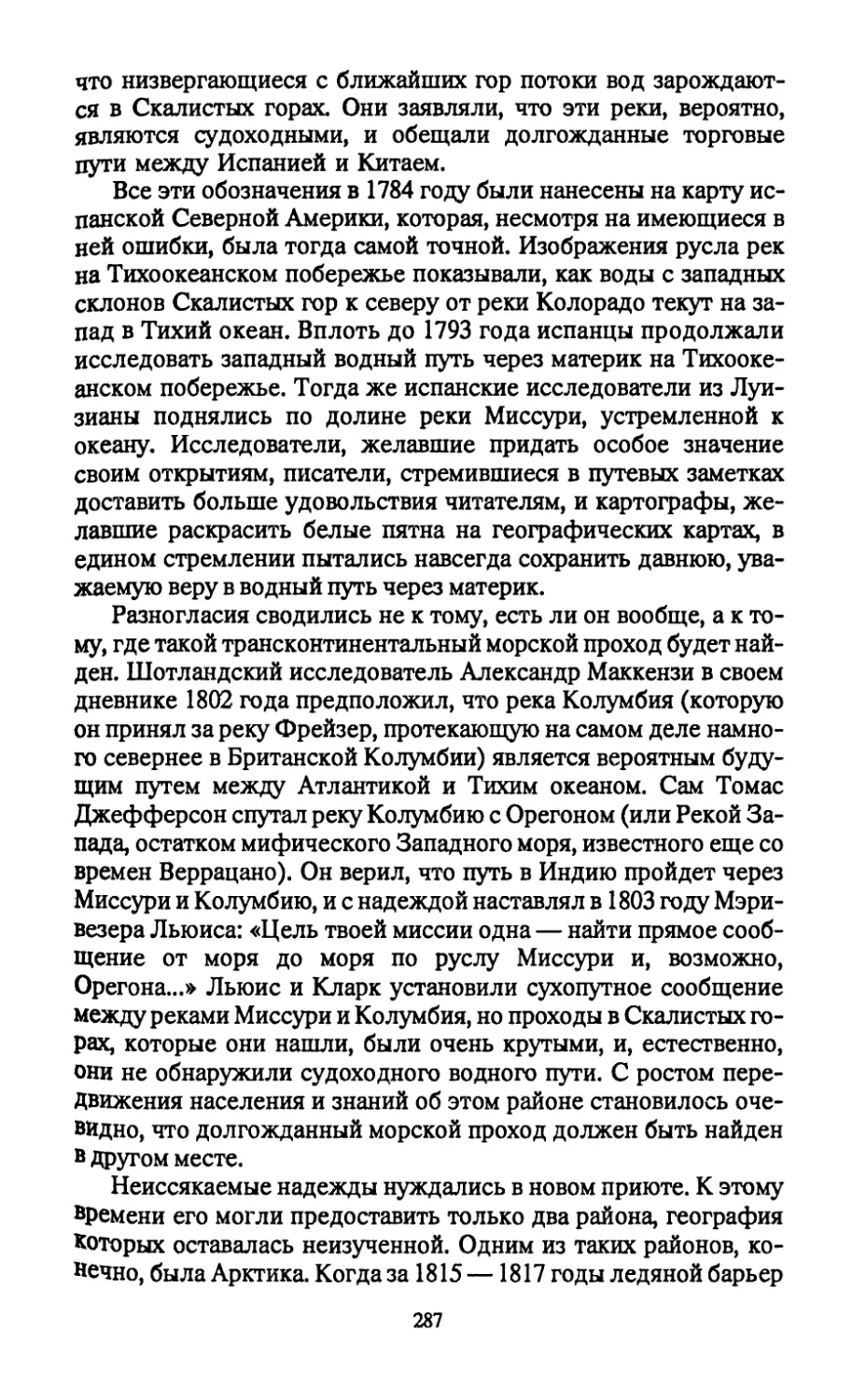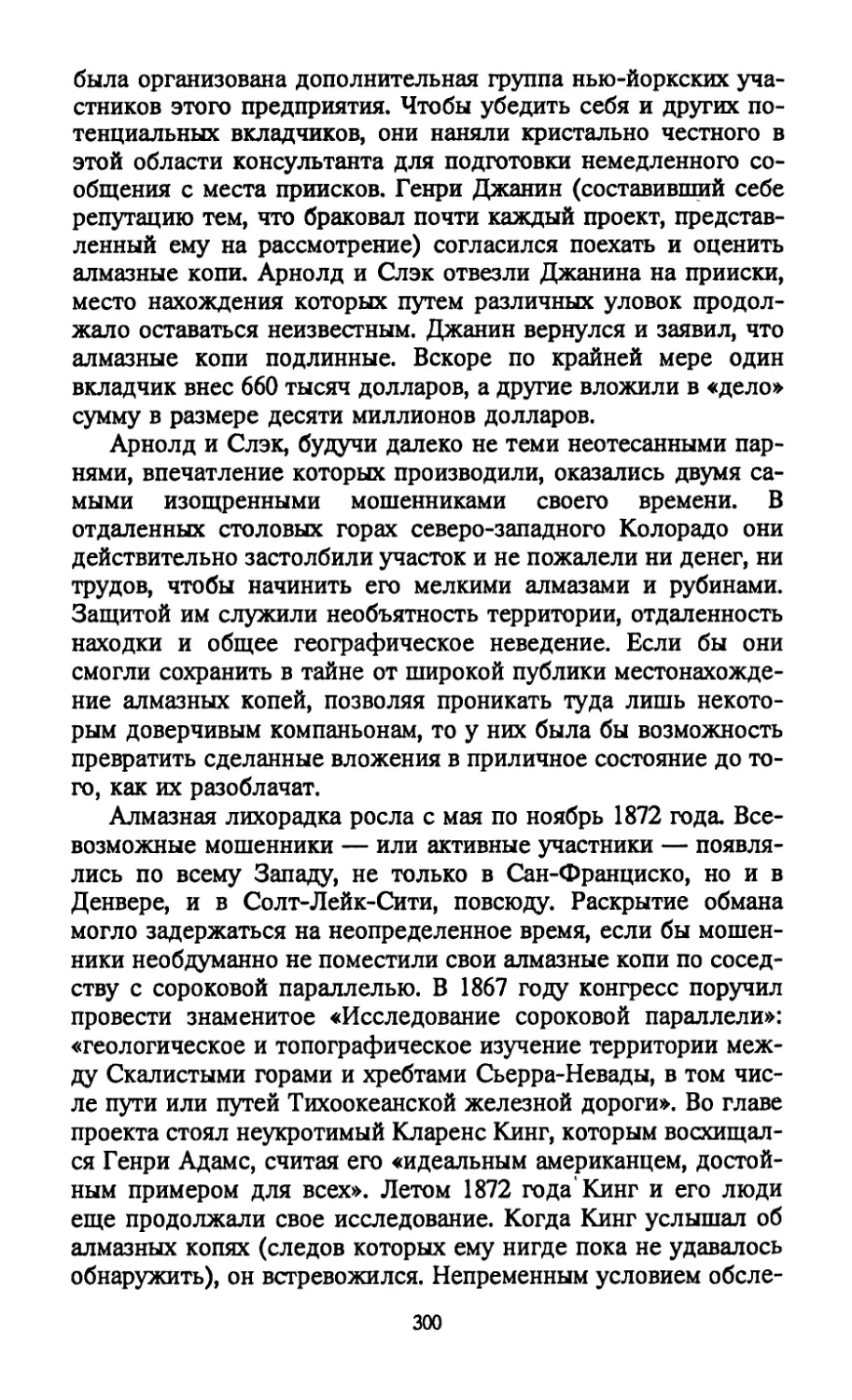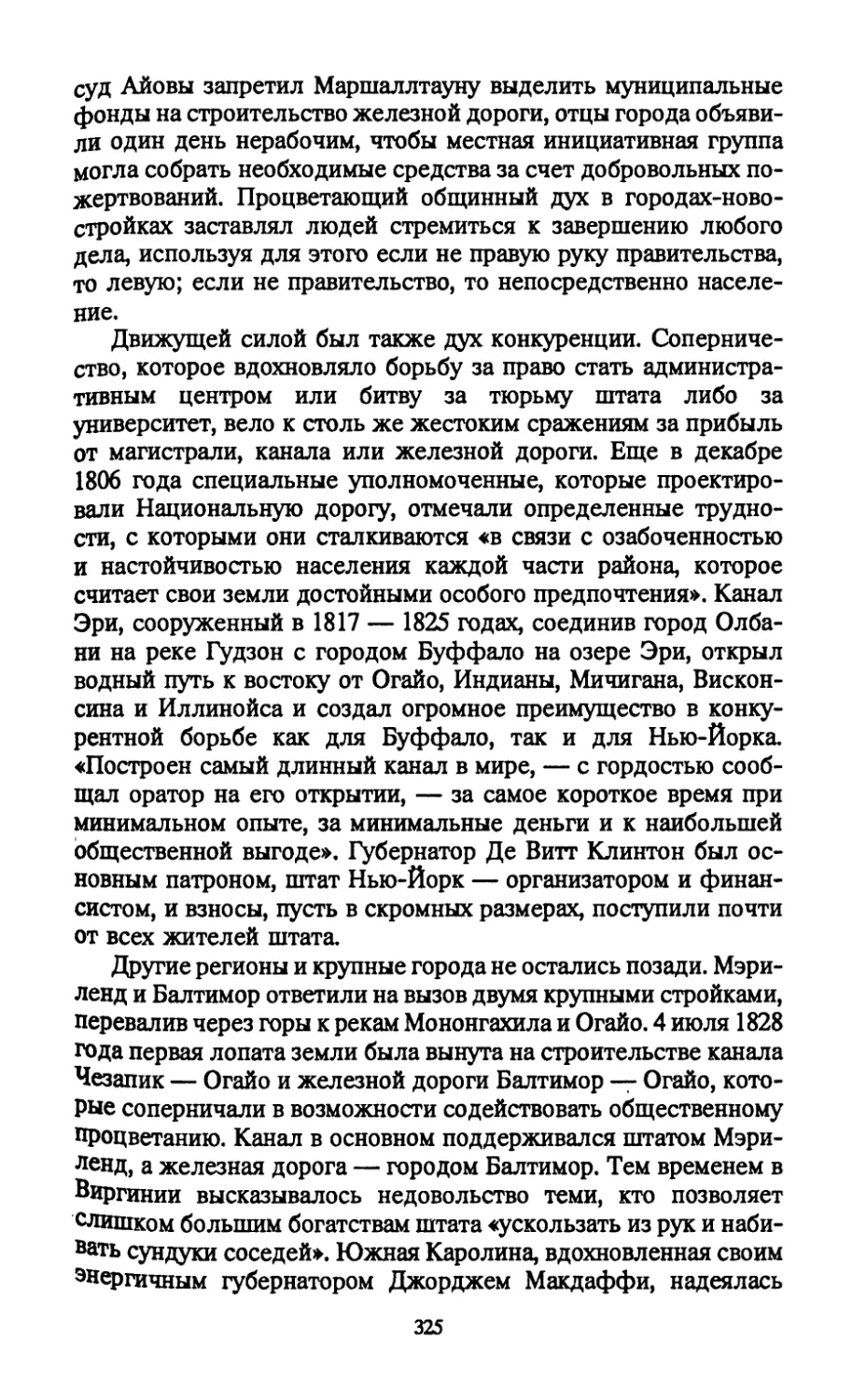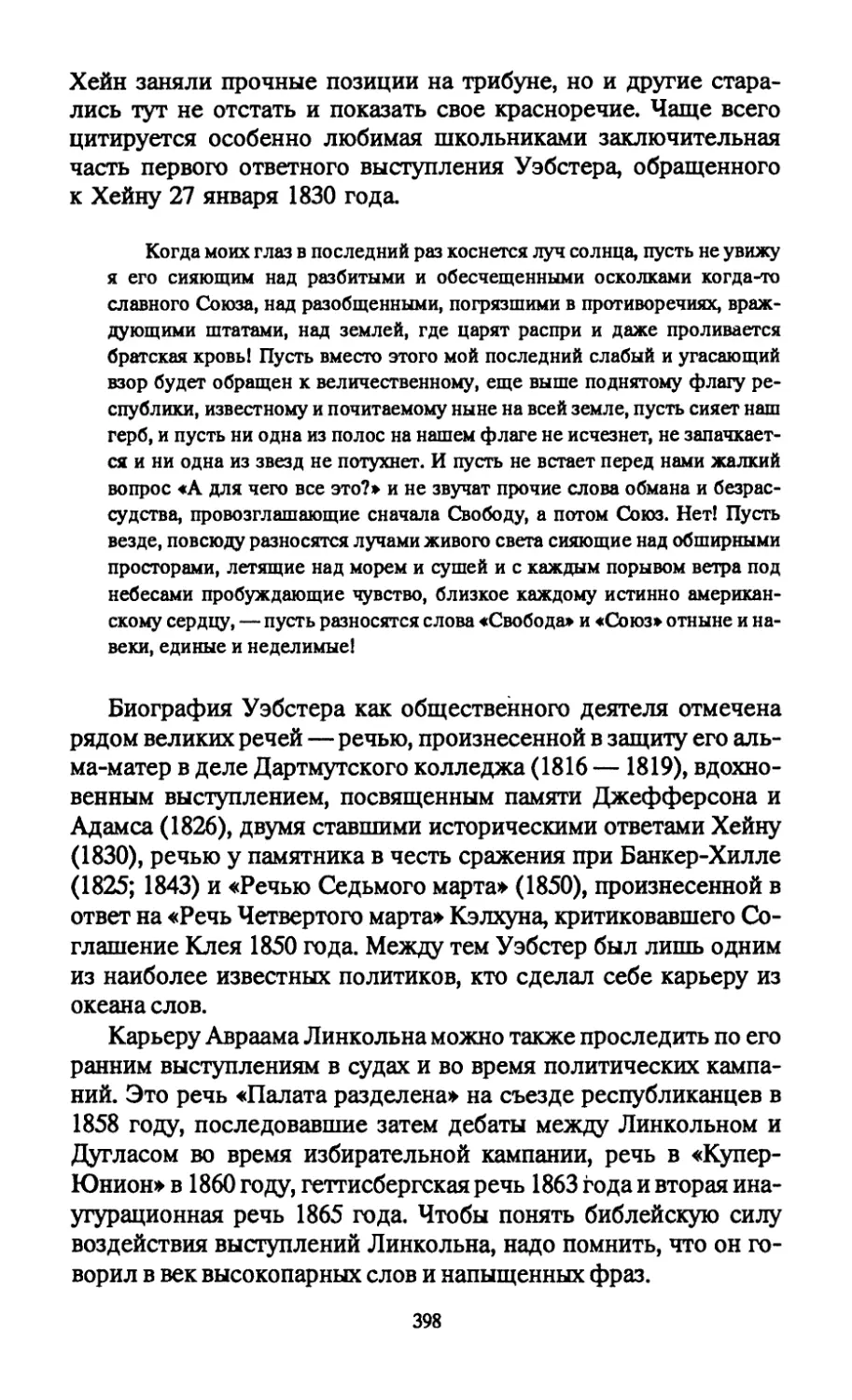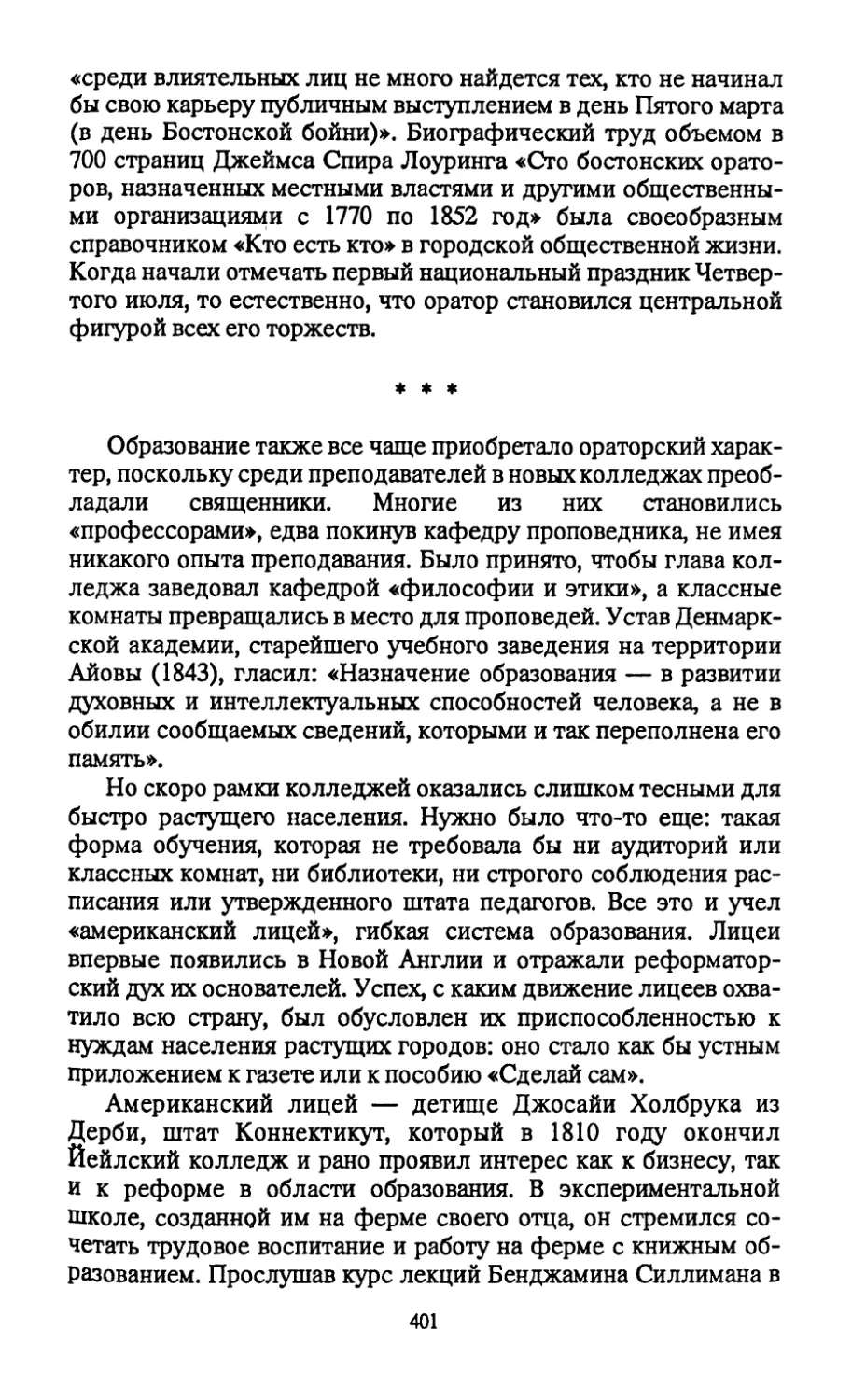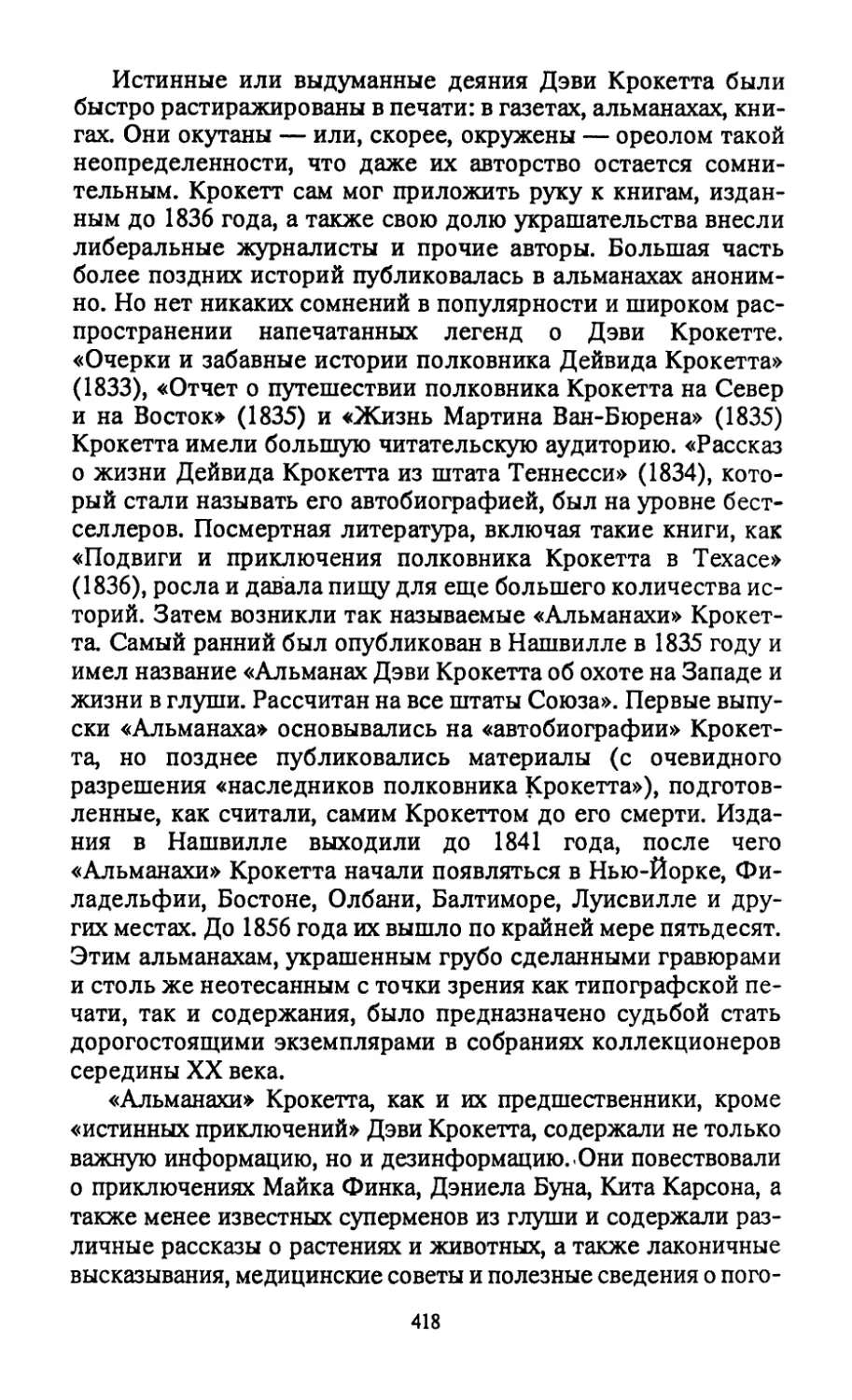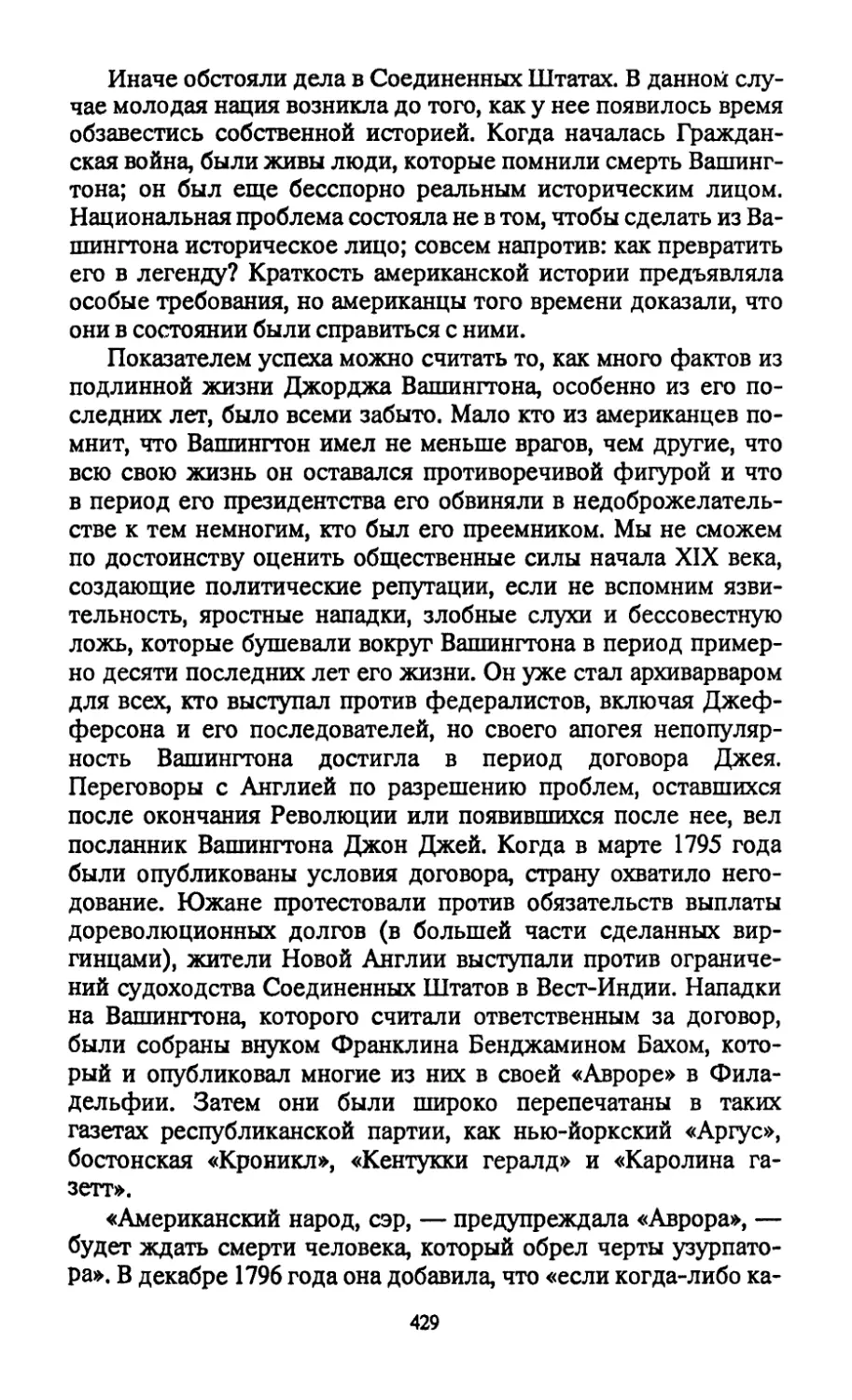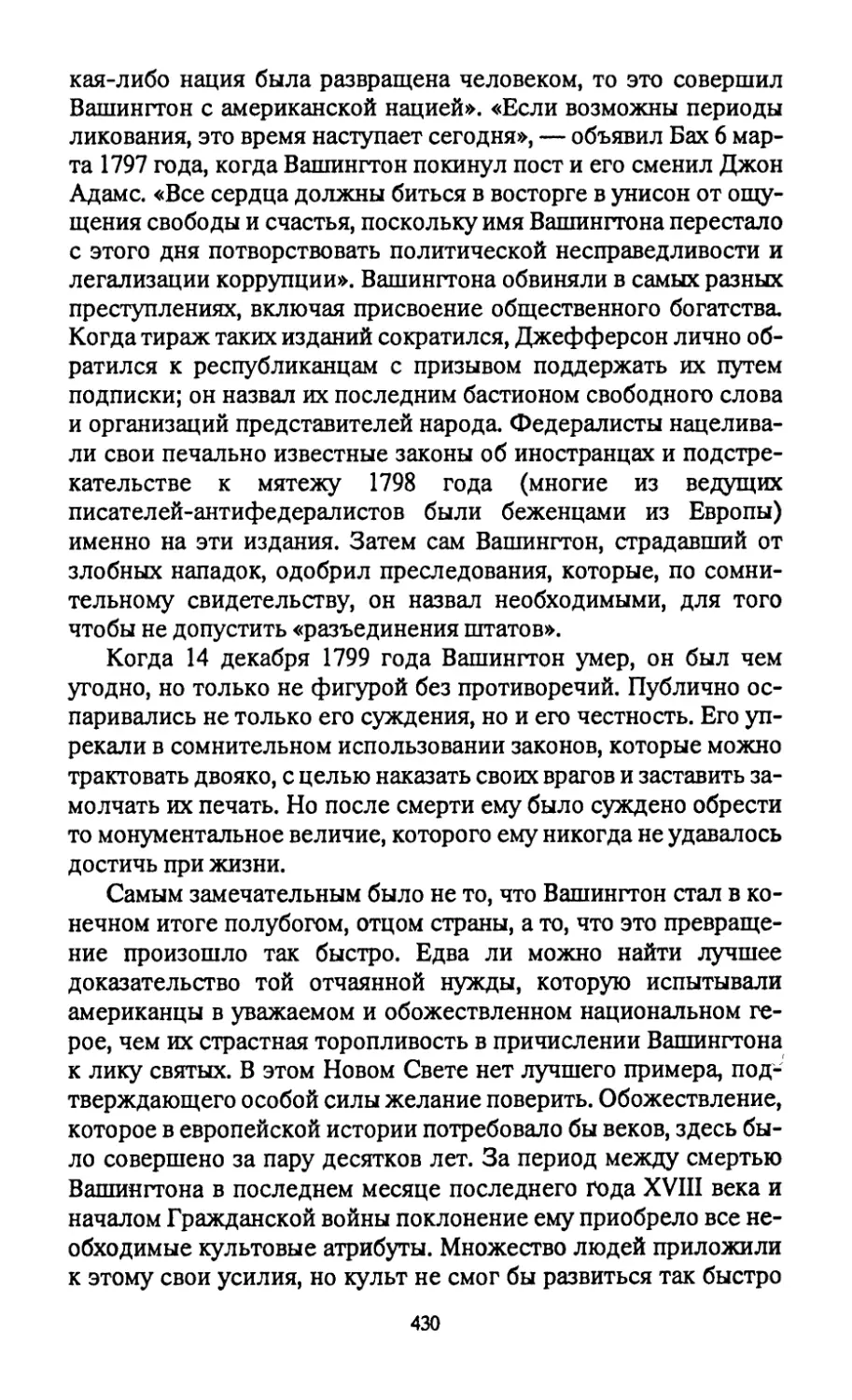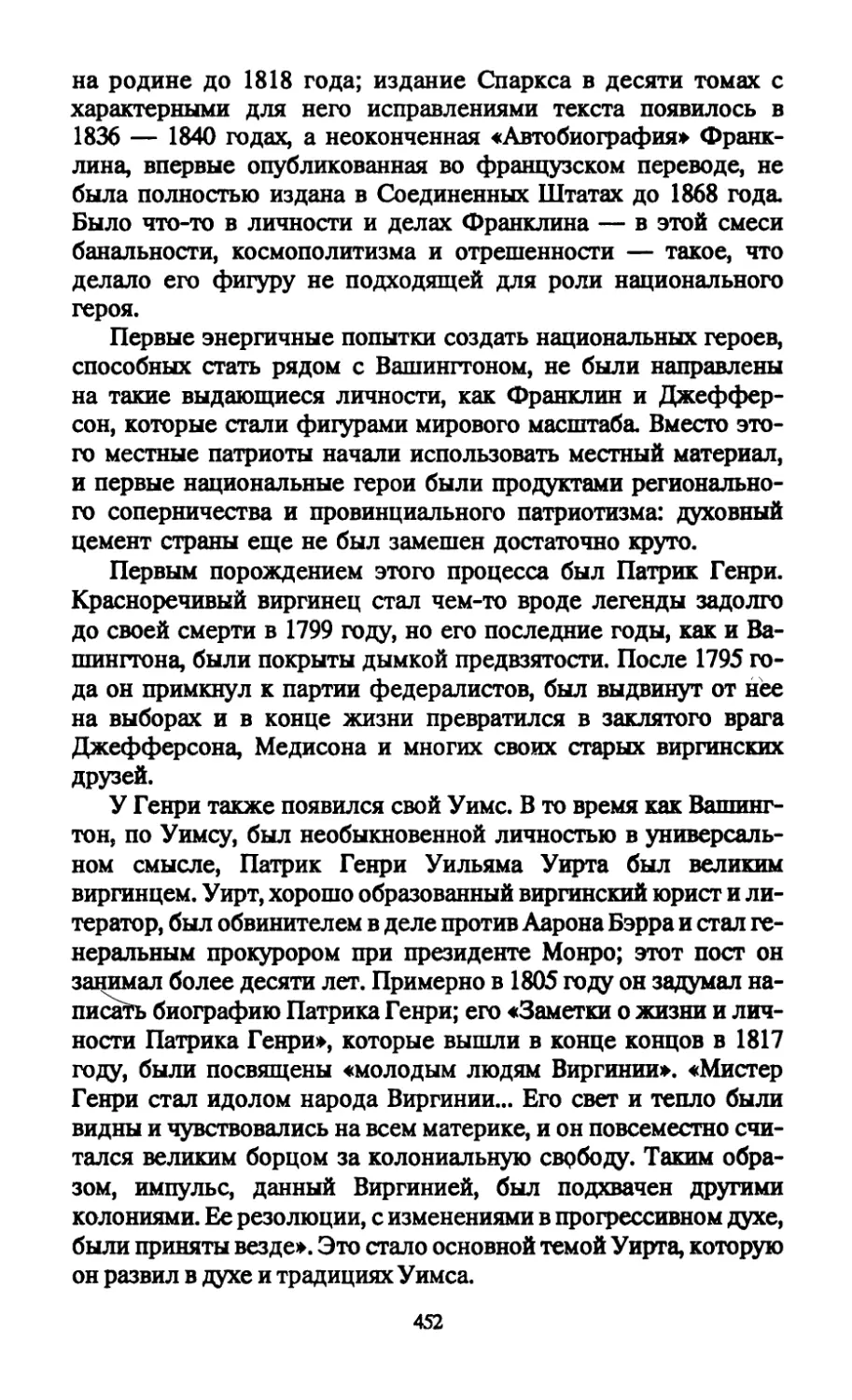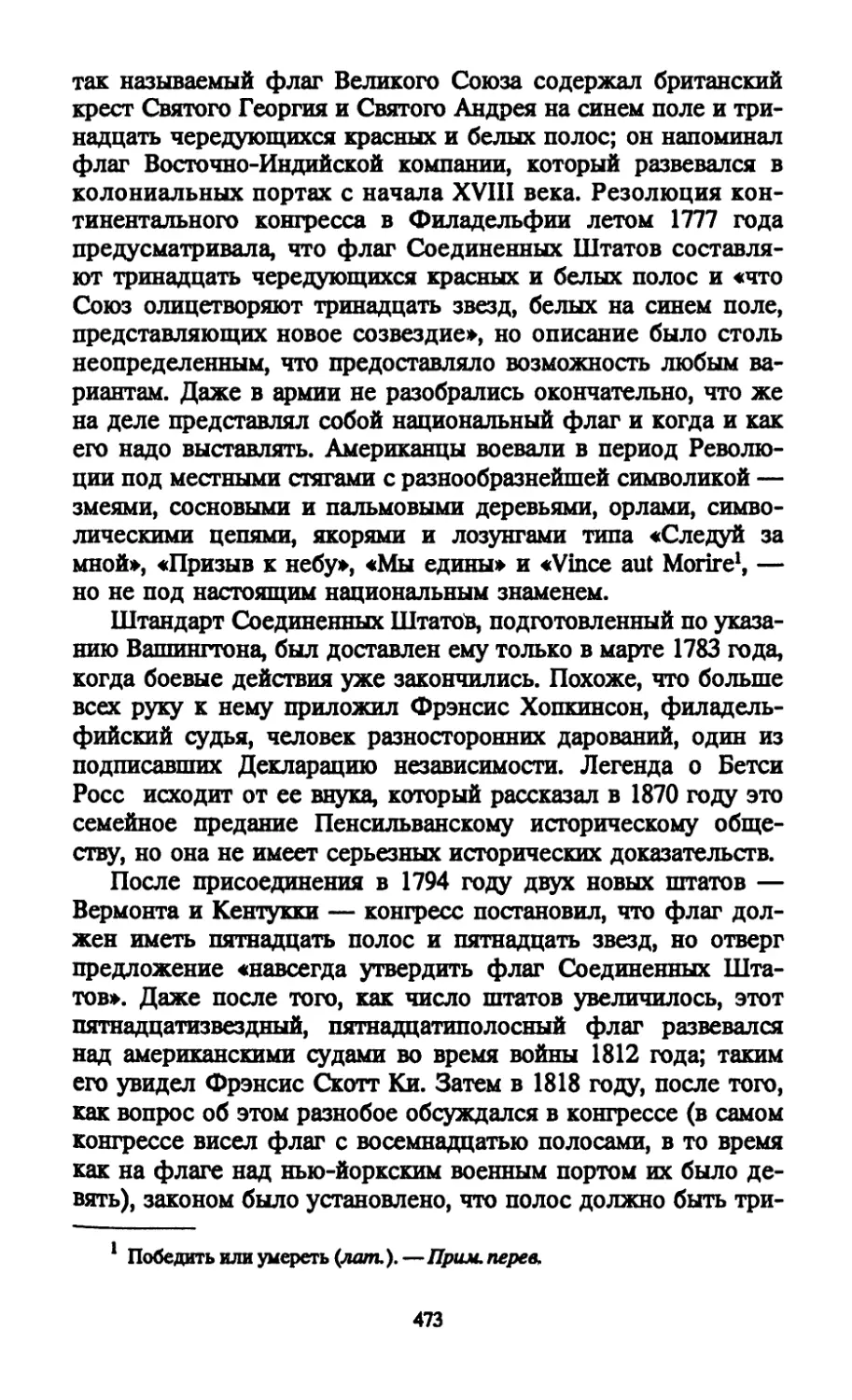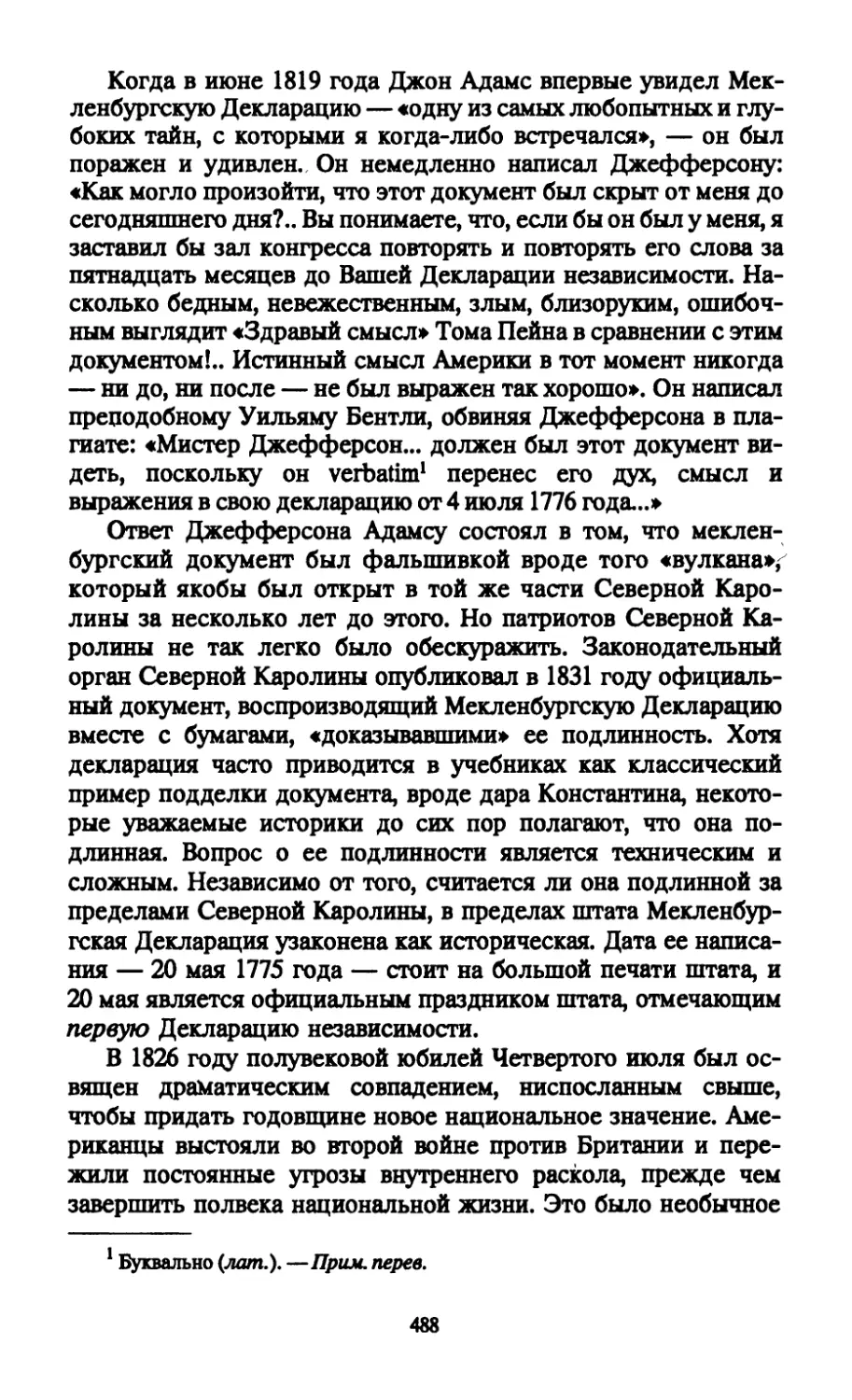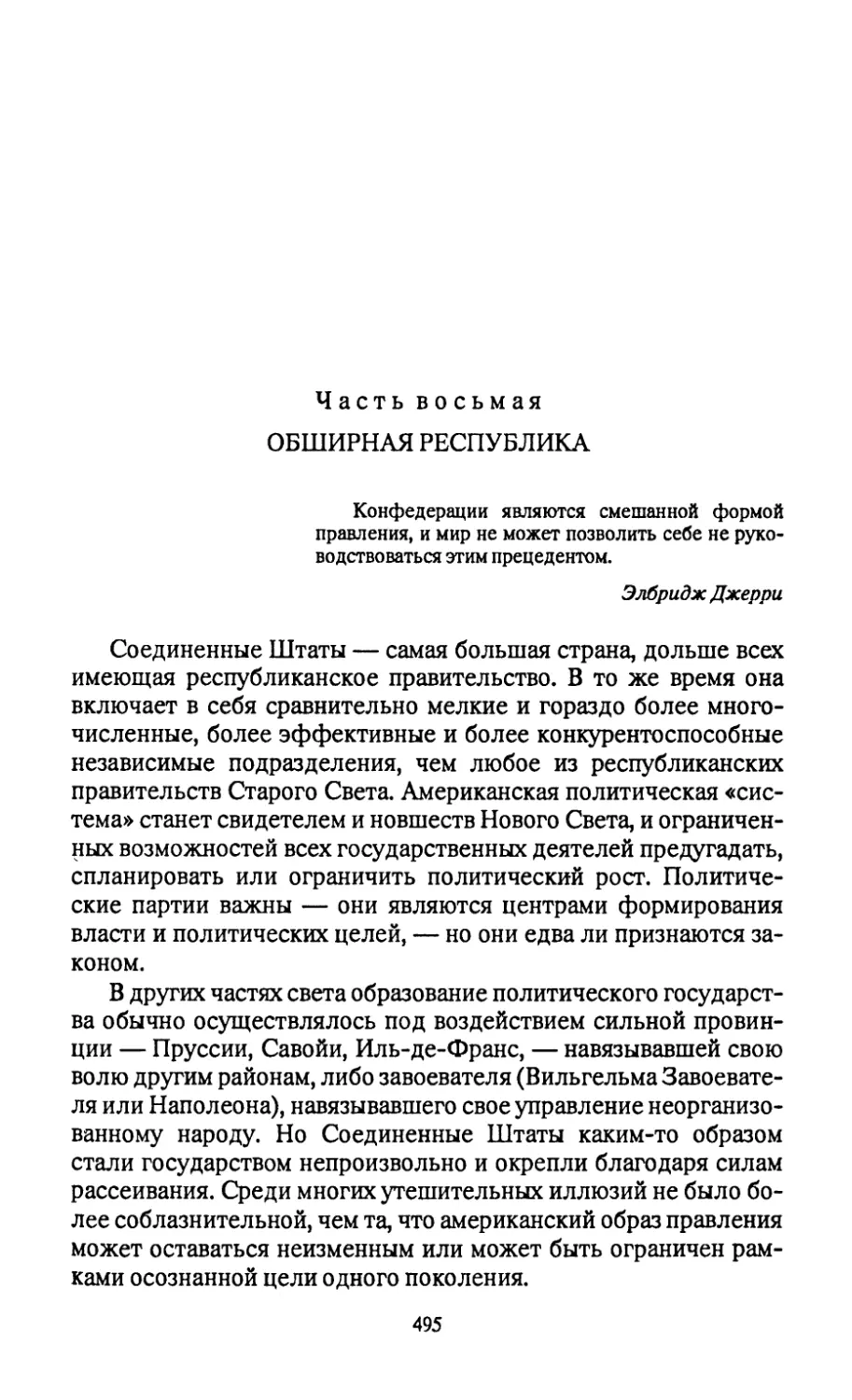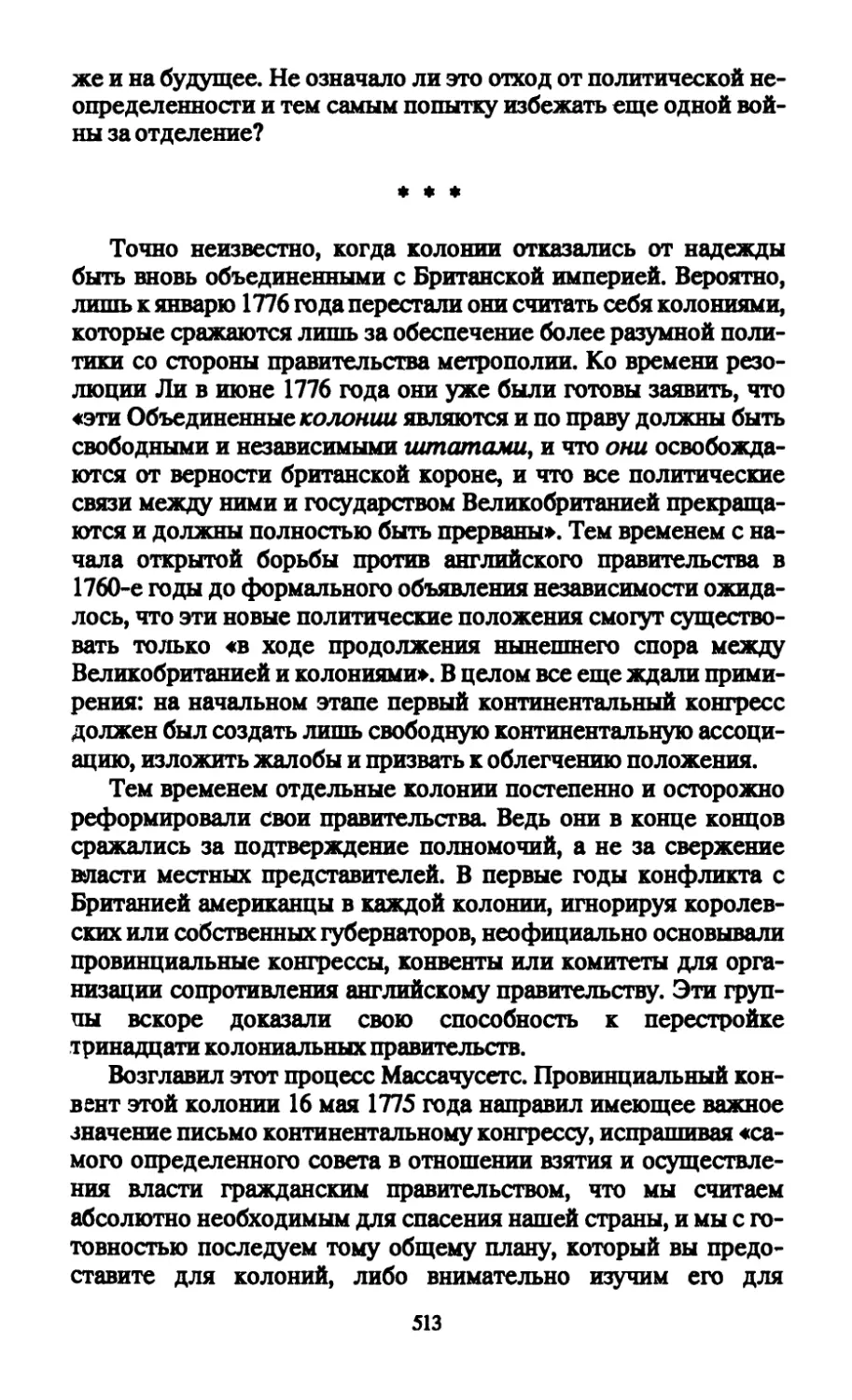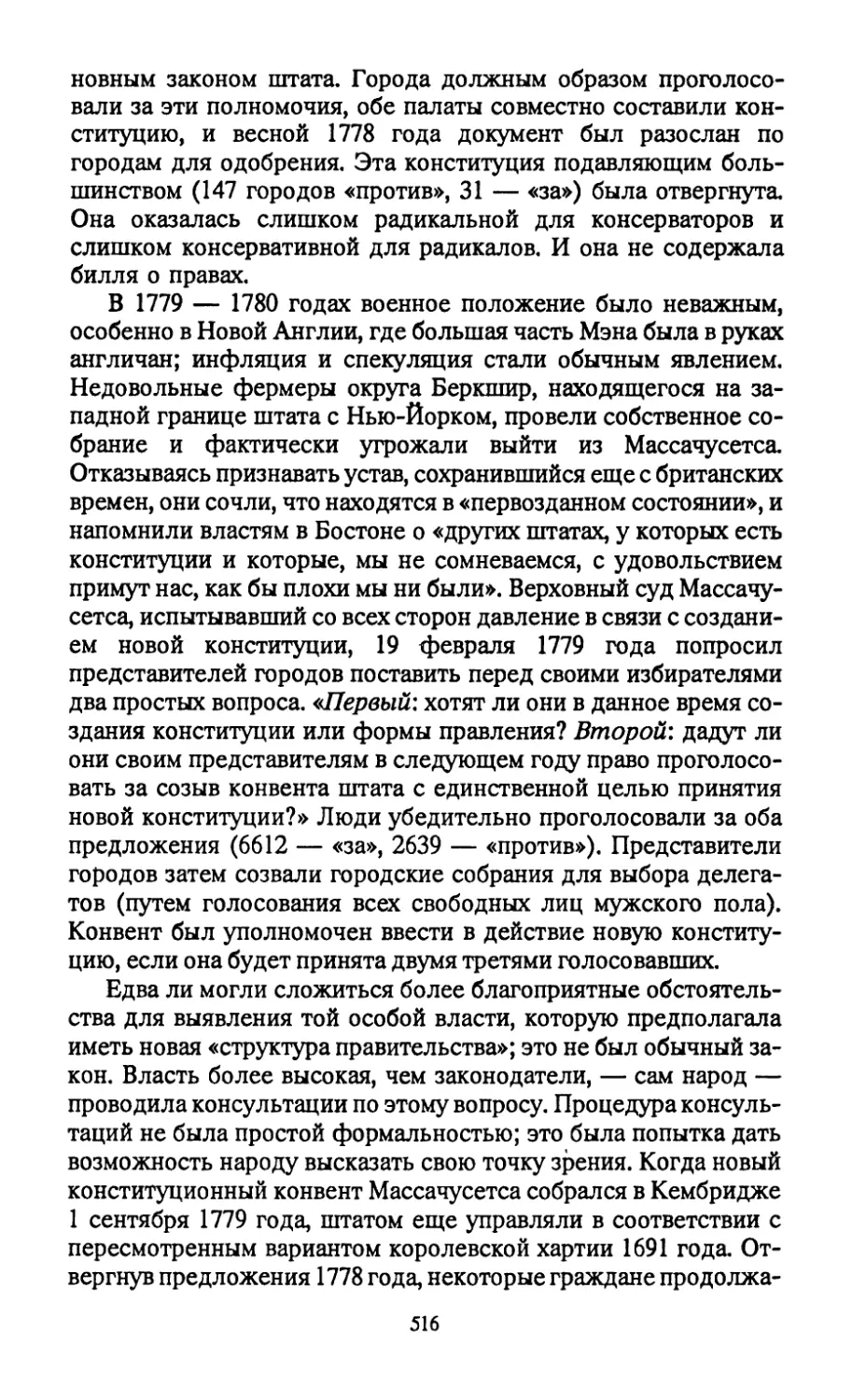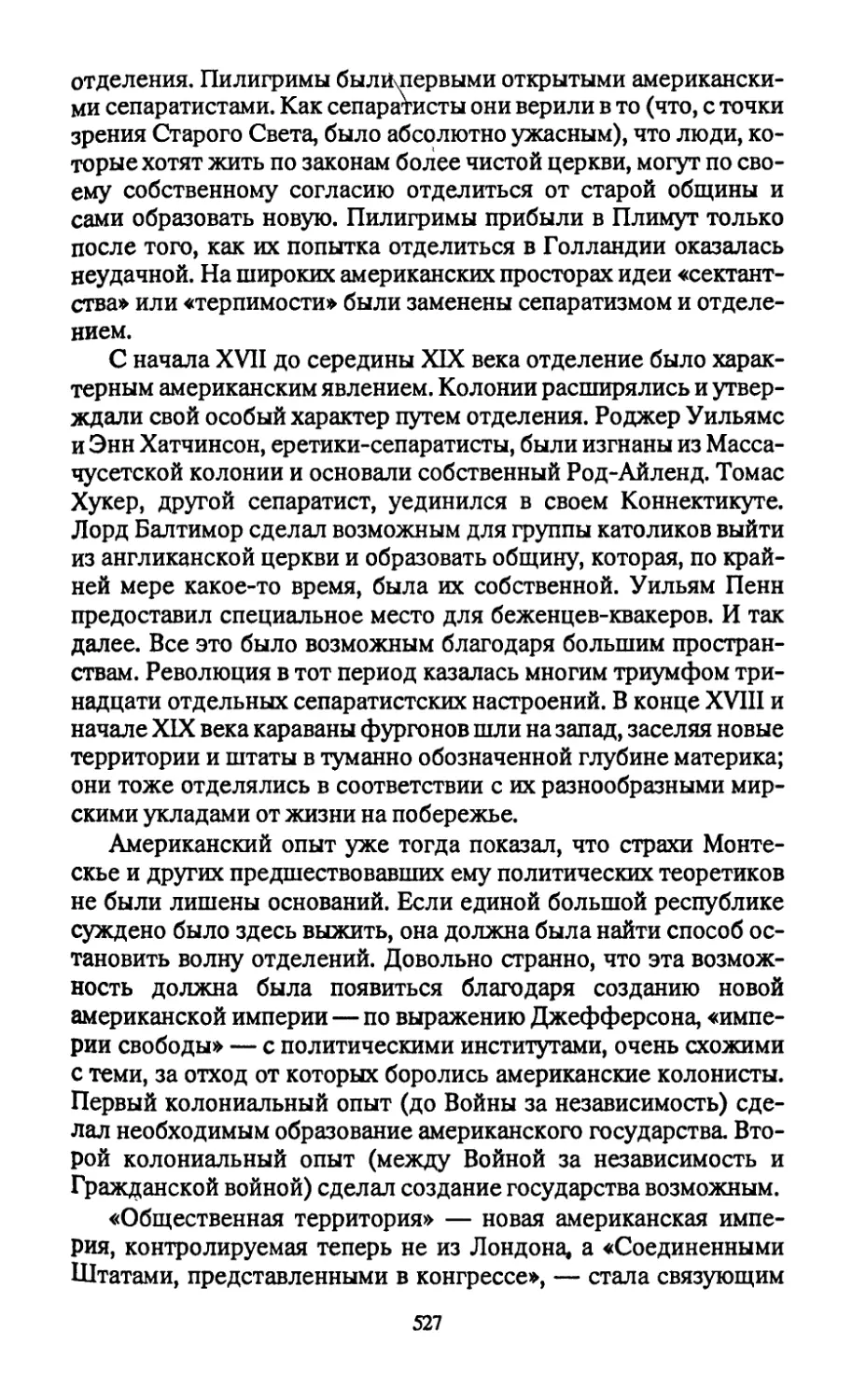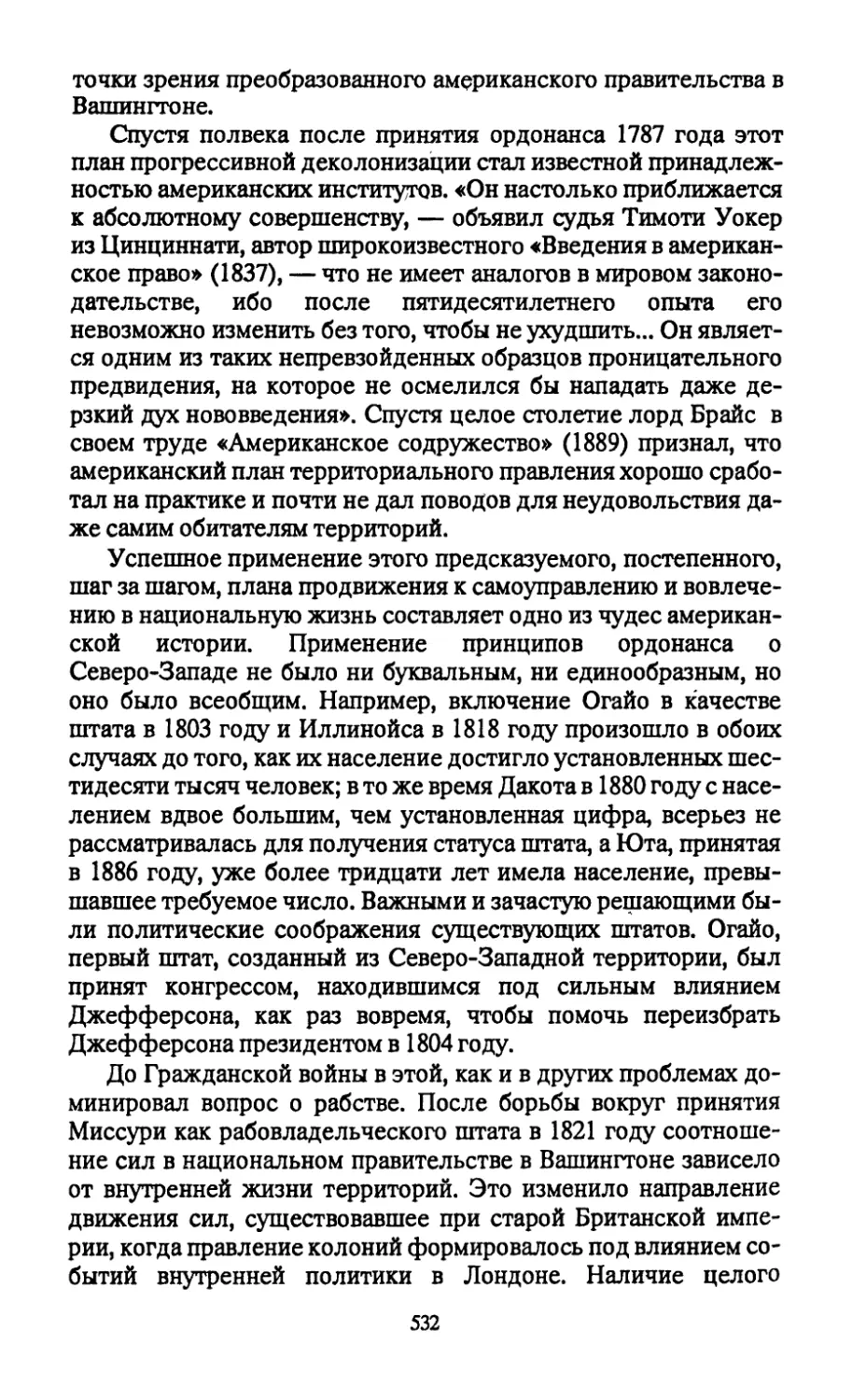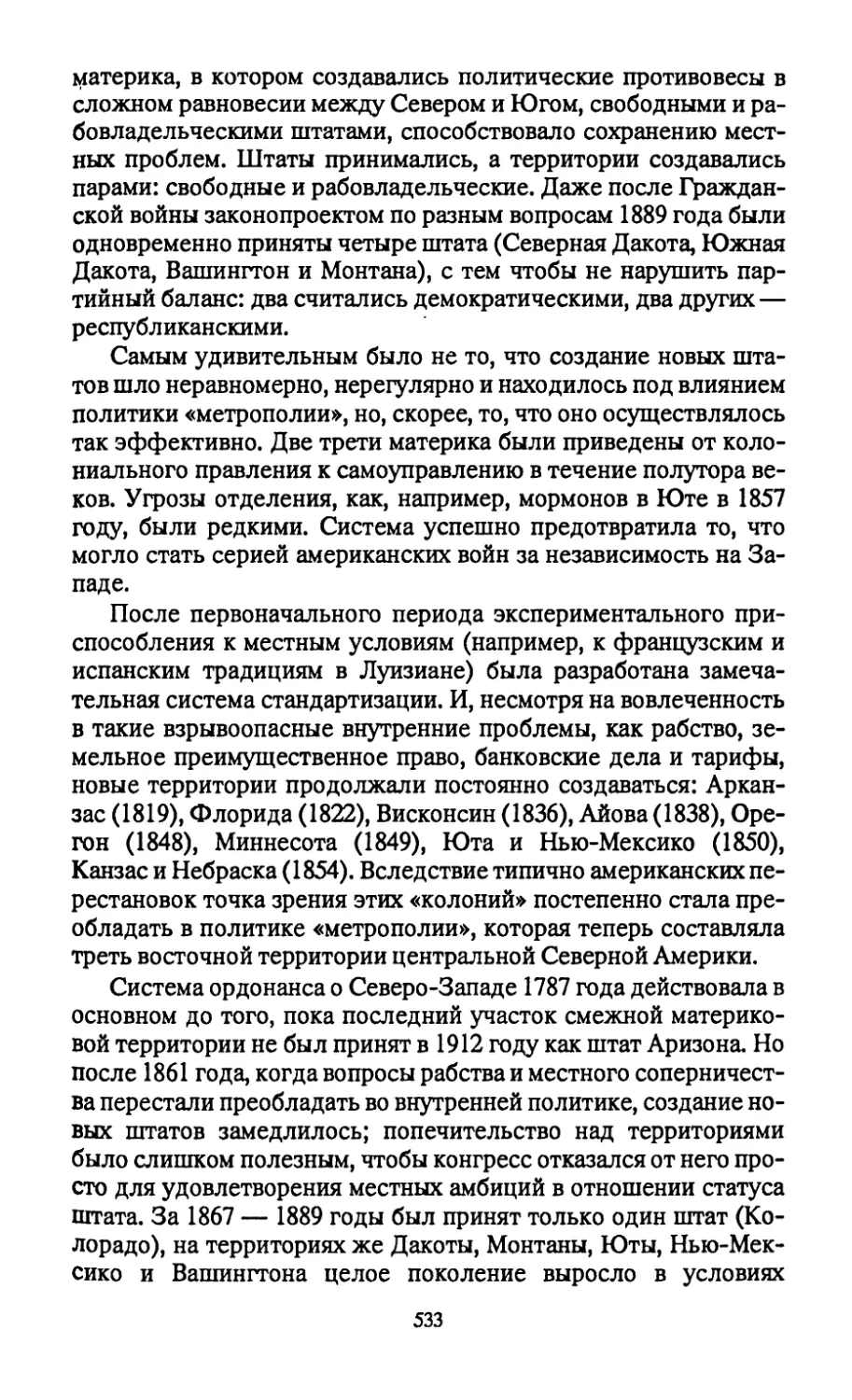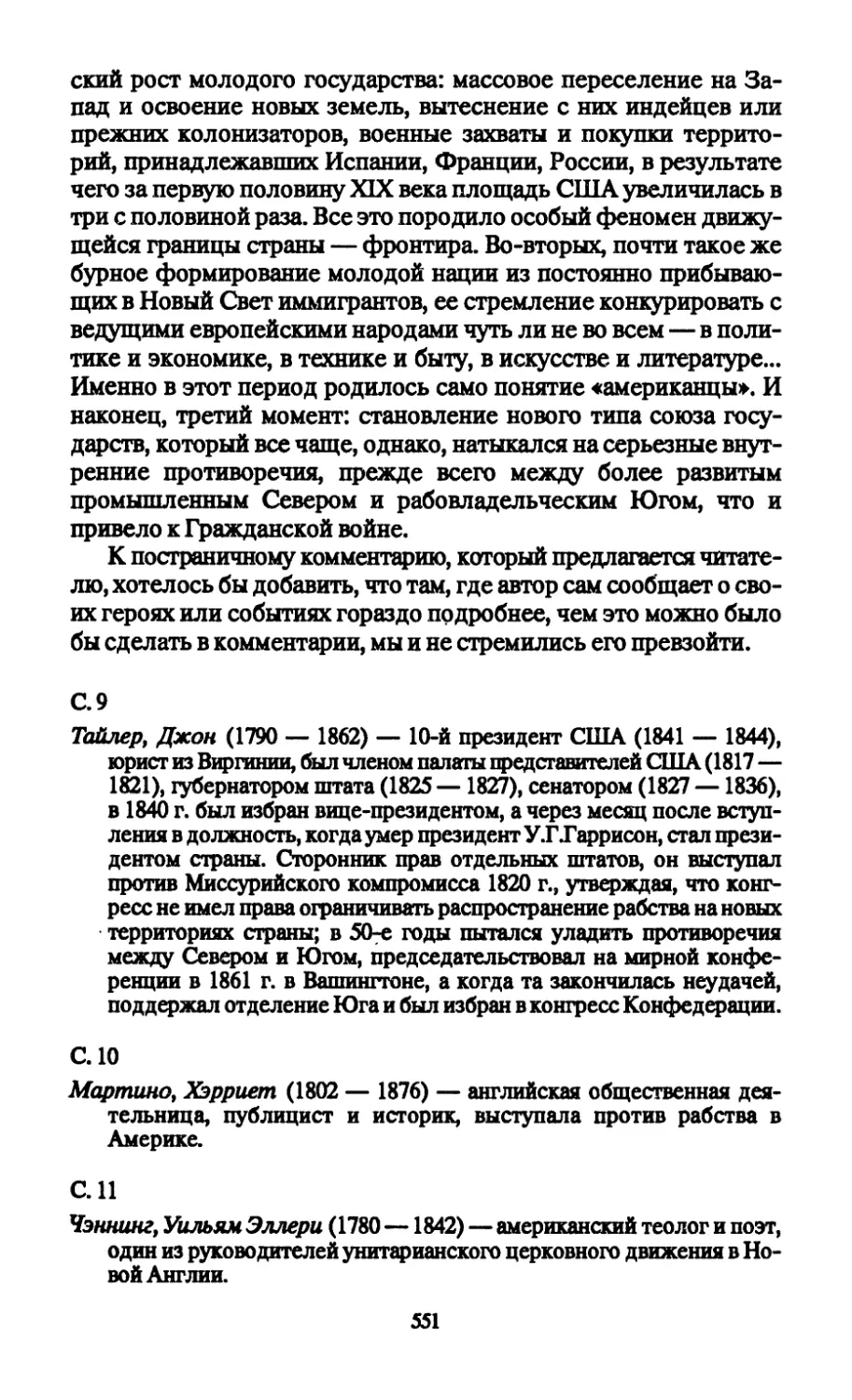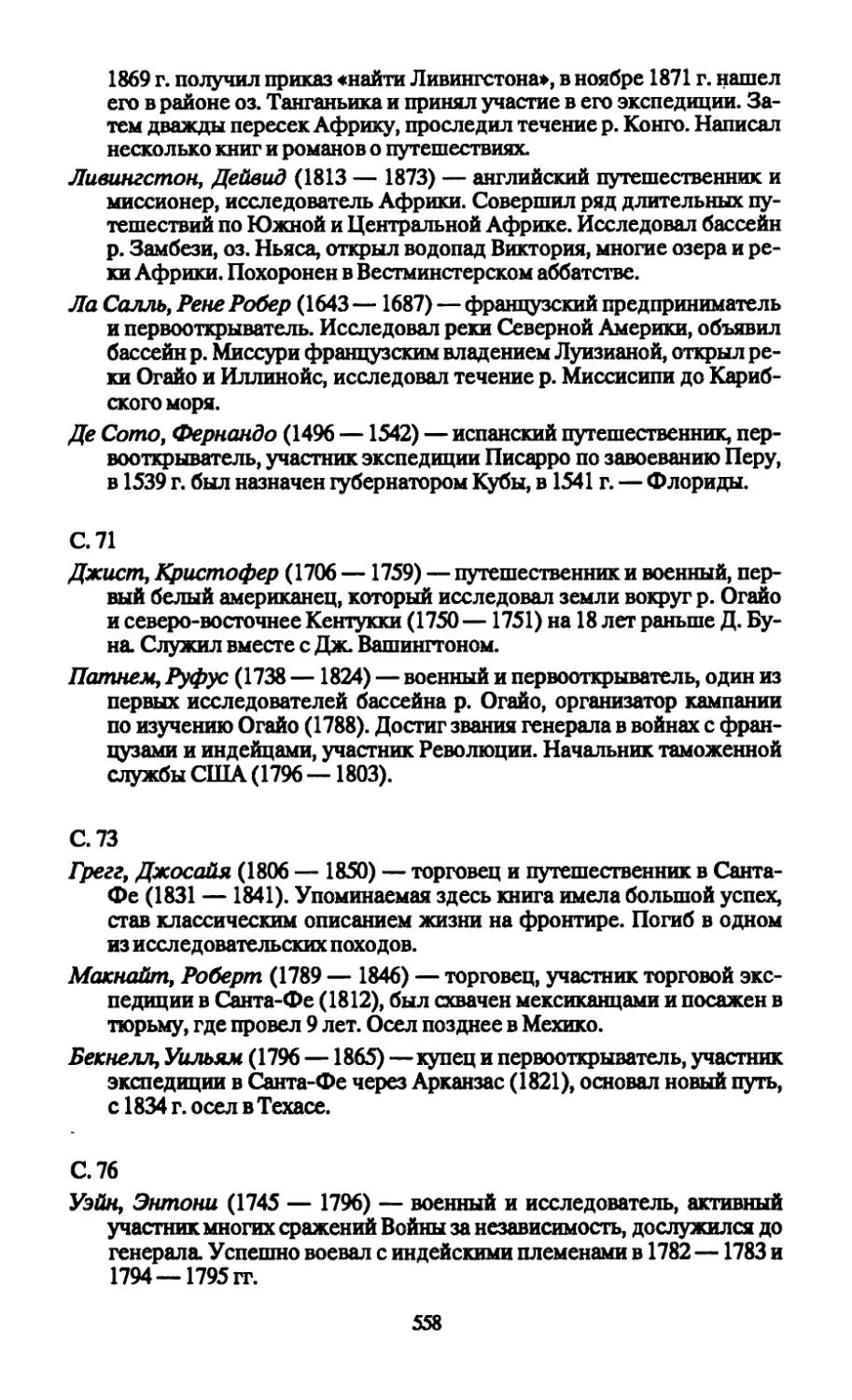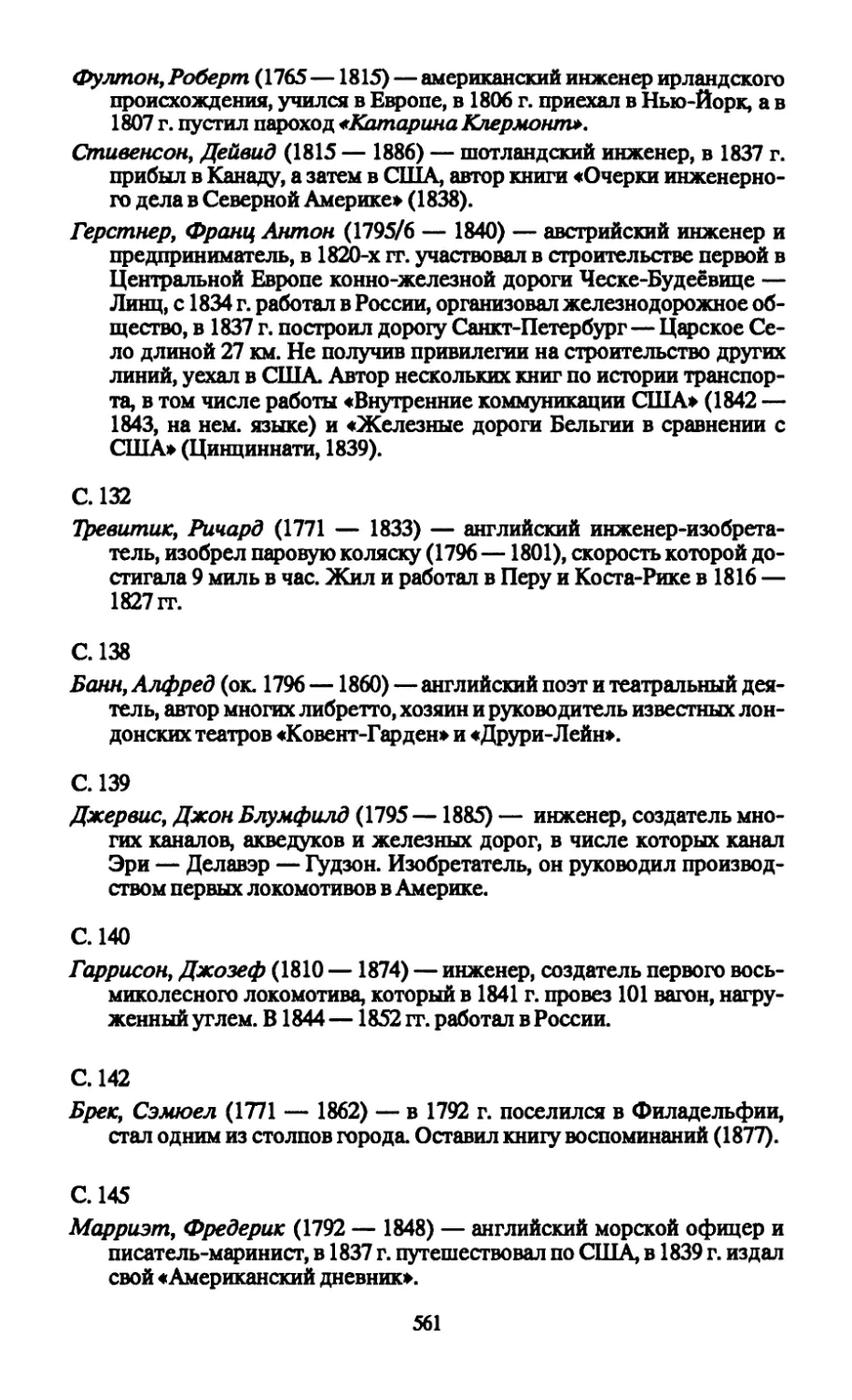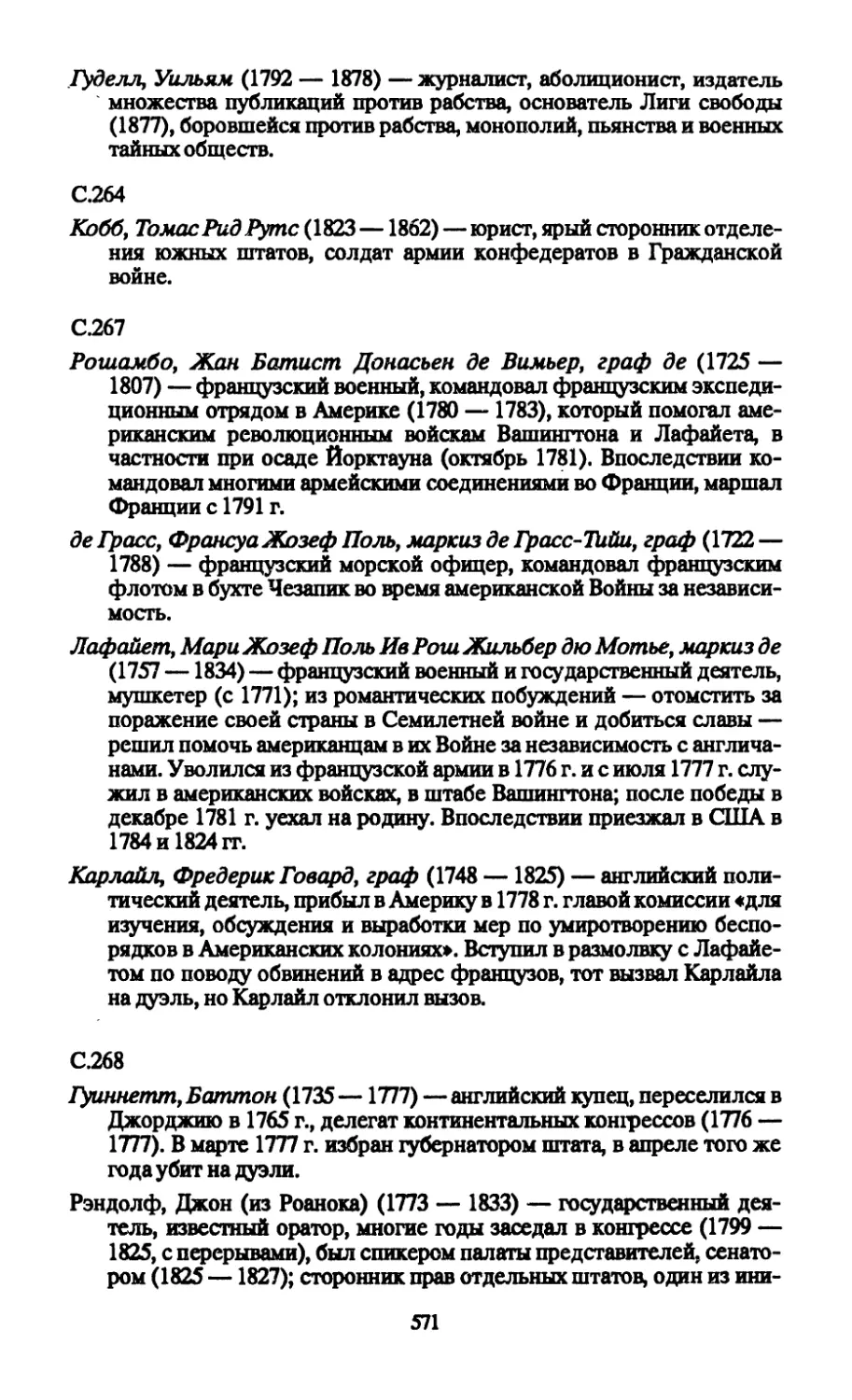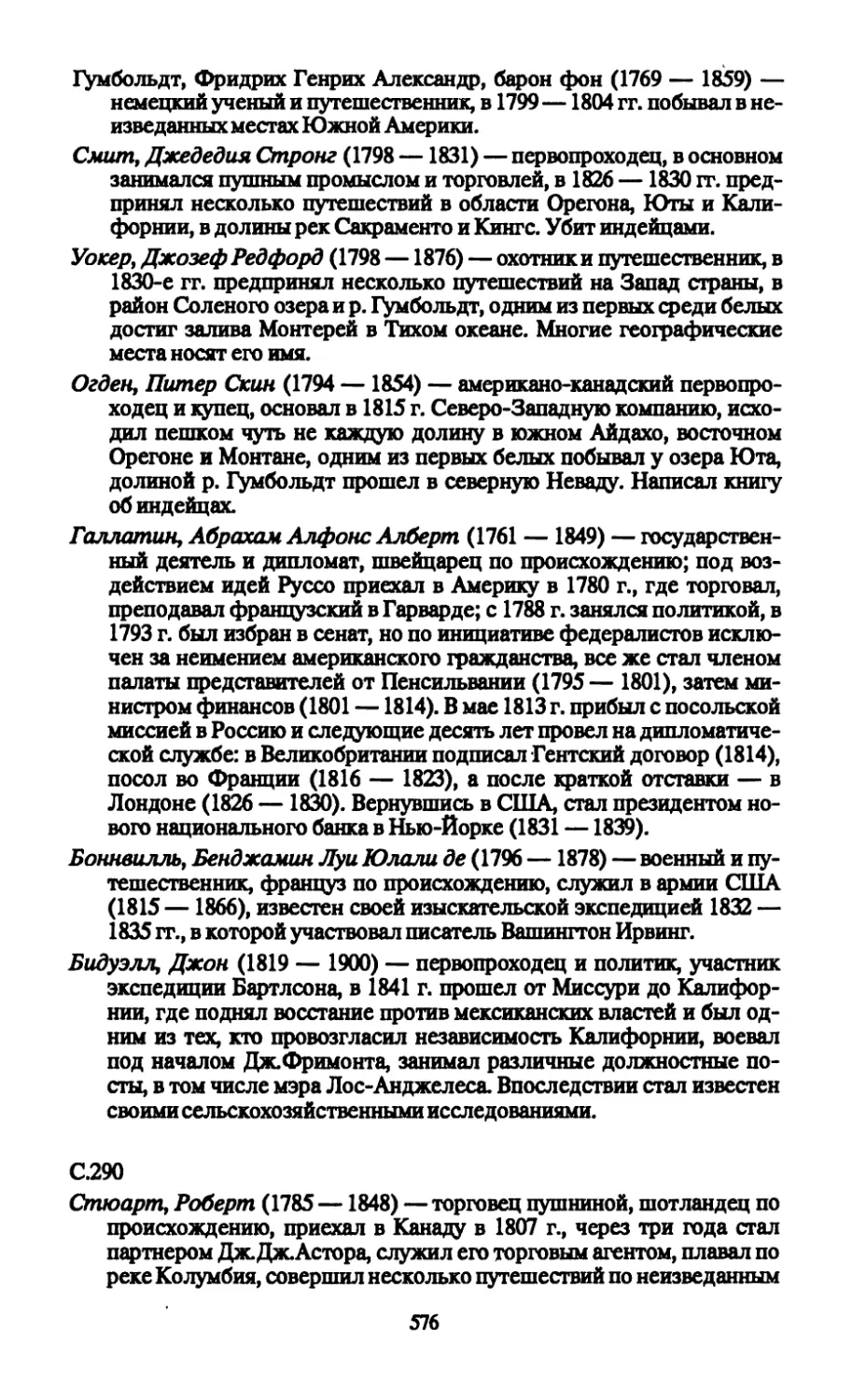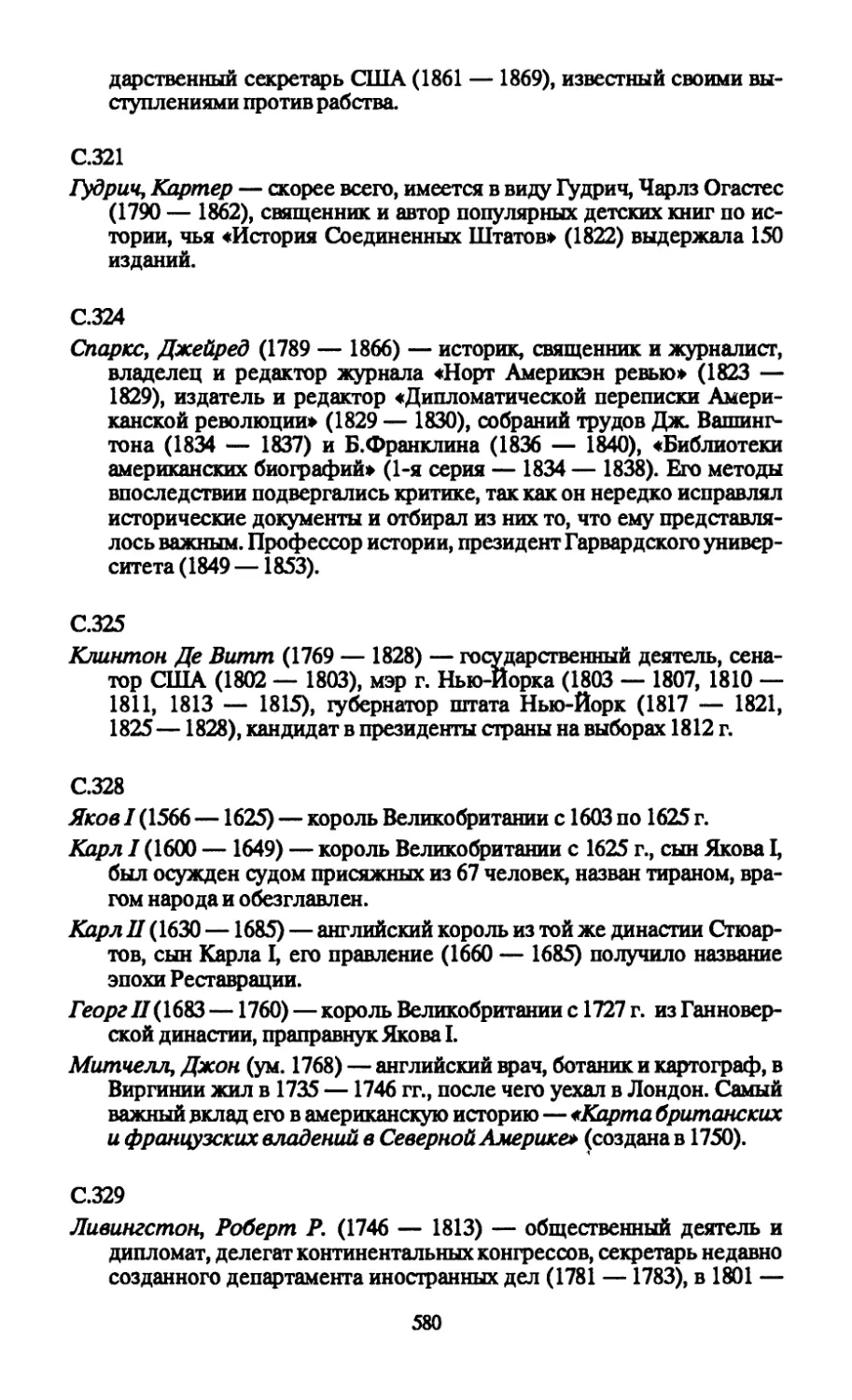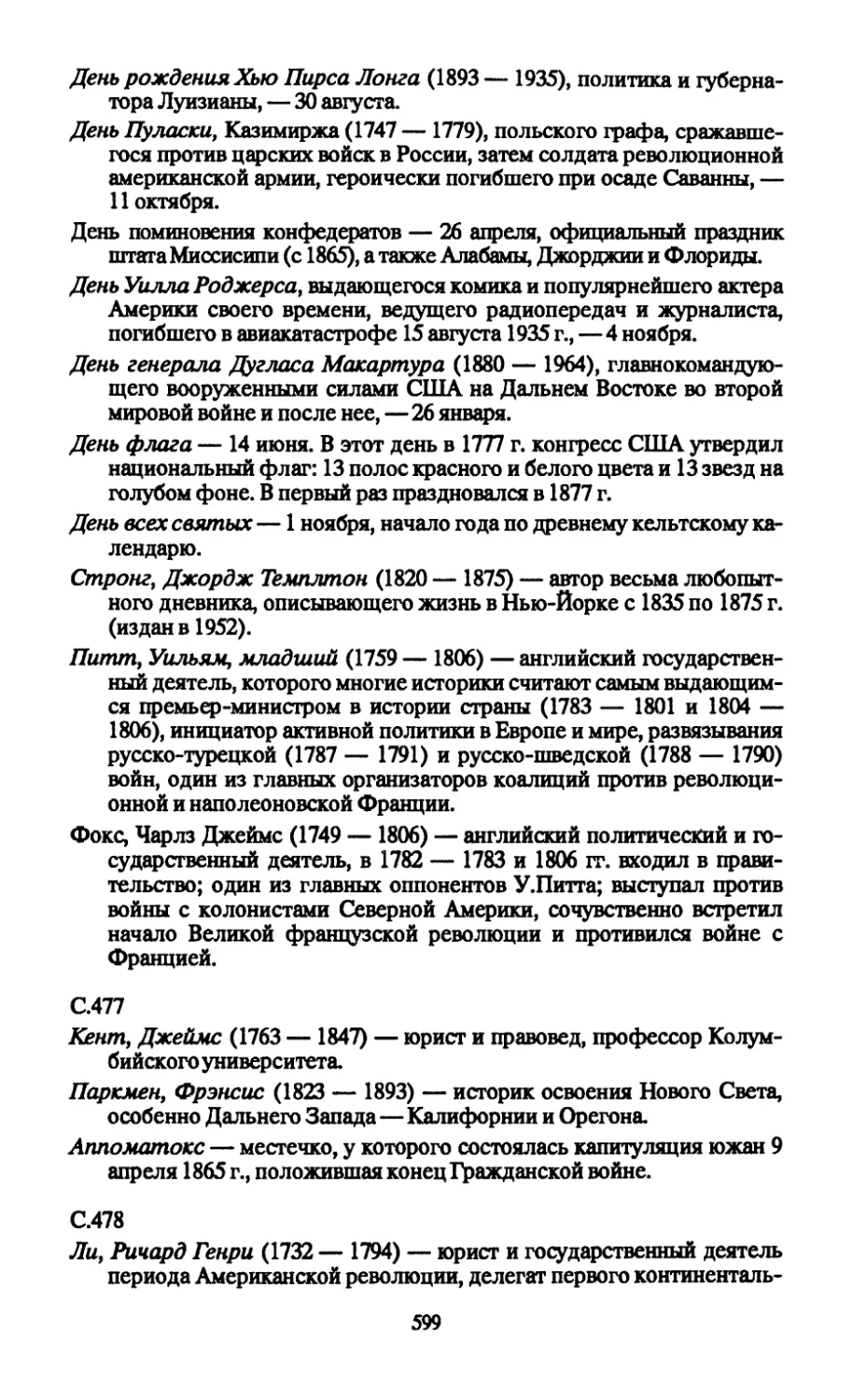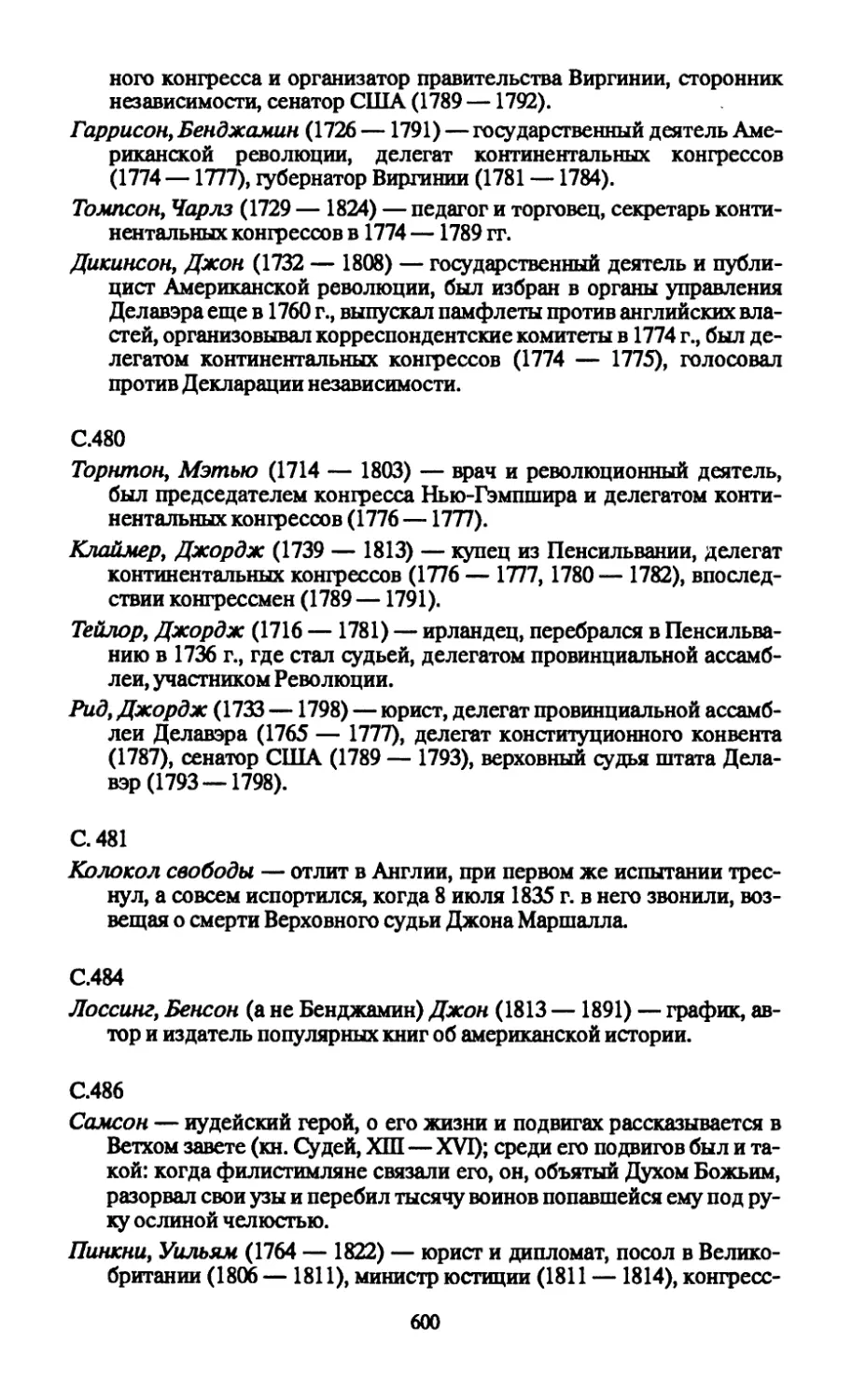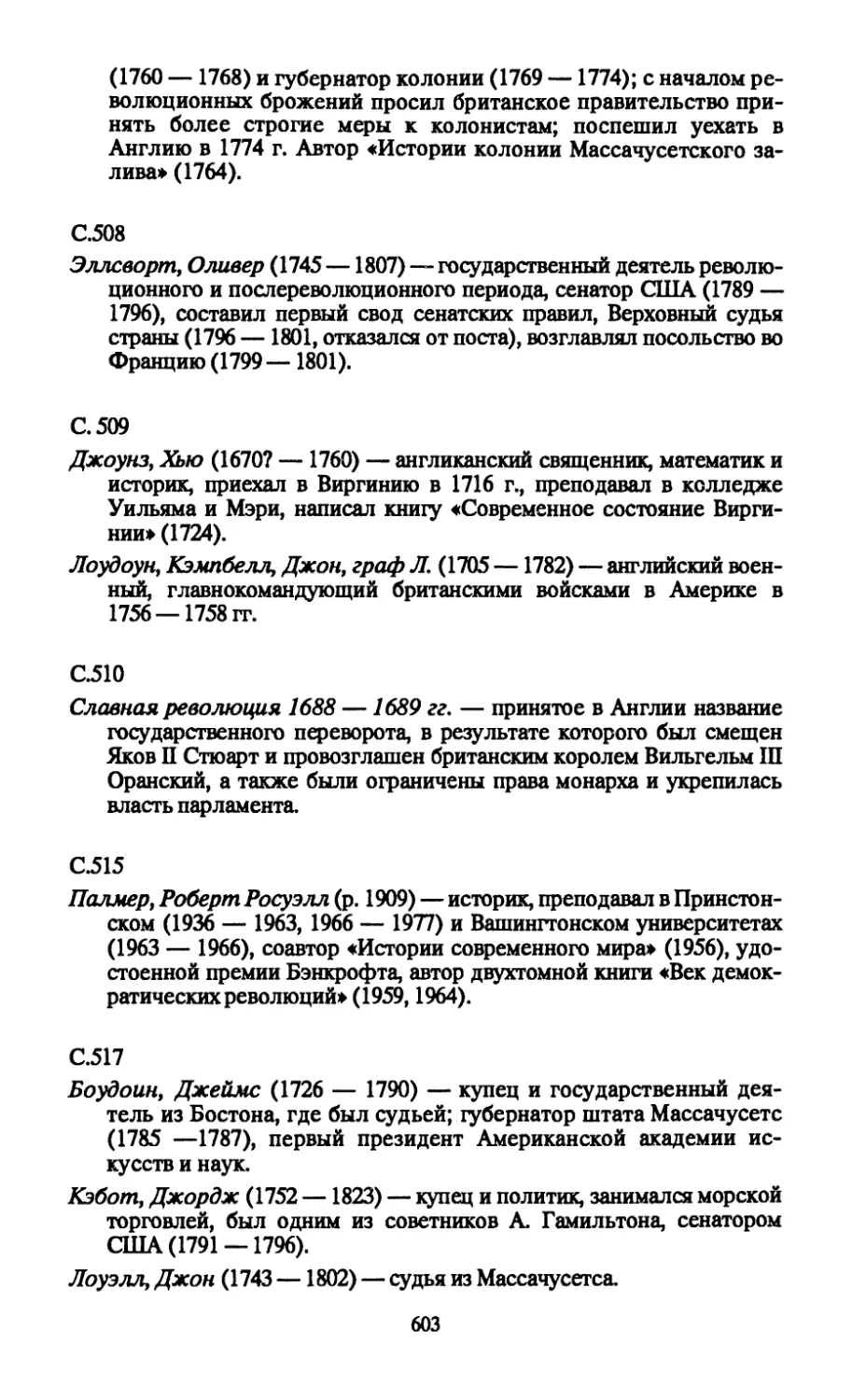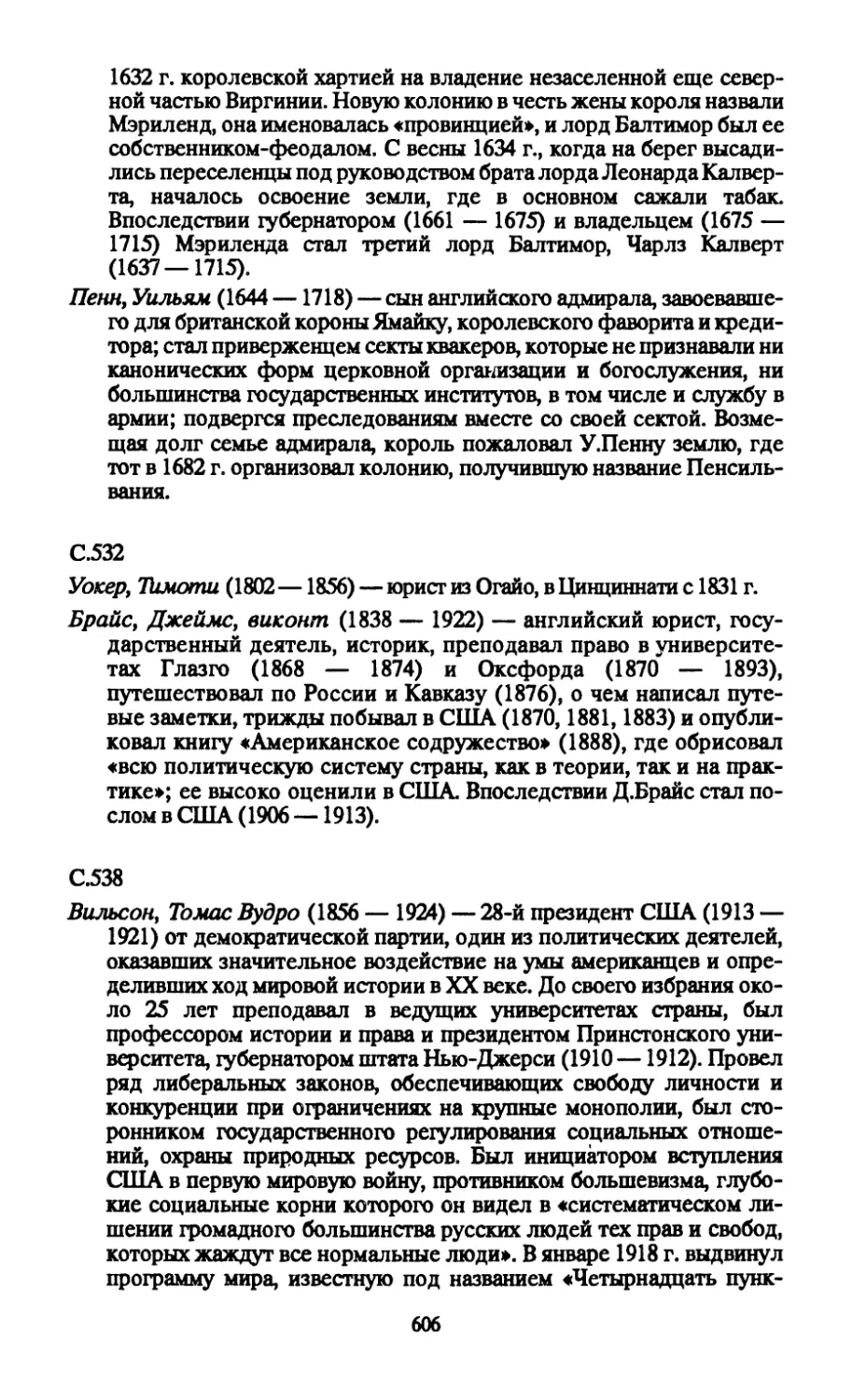Автор: Бурстин Д.
Теги: история культура история америки язык нация москва прогресс американская цивилизация
ISBN: 5-01-002602-3
Год: 1993
Текст
ЛЭНИБ1
БУРСТИН
шционмьныи опыт
лмериюнцы:
Н4ЦИ0Н41ЬНЫЙ ОПЫТ
THE /1MERIG1NS THE MTIOML EXPERIENCE
BY DANIEL J.BOORSTIN
ДЭНИ&1 БУРСТИН американцы: 1-ИЦИ0Н41ЬНЫЙ ОПЫТ
Перевод с английского
МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС» «ЛИТЕРА»
1993
ББК 63.3(7 США) Б92
Перевод ЮЛ.ЗАРАХОВИЧА, В.С.НЕСТЕРОВА
Послесловие В.П.ШЕСТАКОВА
Комментарий П.В.БАЛДИЦЫНА
Художник В.АКОРОЛЬКОВ
Редактор О.М.ДЕГТЯРЕВА
Бурстин Д.
Б92 Американцы: Национальный опыт: Пер. с англ. Авт. послеслов. Шестаков В.П.; Коммент. Балдицына П.В. — М.: Изд. группа «Прогресс»—«Литера», 1993. — 624 с.
Трехтомный труд американского историка и публициста Дэниела Бурстина «Американцы» (с соответствующими подзаголовками — «Колониальный опыт», «Национальный опыт» и «Демократический опыт») представляет собой классическое исследование истории становления американской цивилизации — от первых европейских переселенцев и до середины XX века. Говоря словами автора, это картина того, что «американская цивилизация сделала с американцами и для американцев». Наряду с рассказом о формировании американской нации, национального характера, языка, культуры и государственности труд Д.Бурстина сообщает читателю массу новых сведений о создании американского общественного богатства, возникновении массового производства общедоступных товаров, средств транспорта и т.д.
Б~7^^^~02 КБ—35—97—92 ББК 63.3 (7 США)
006(01 )-93 ' '
Издание осуществлено при содействии Информационного агентства США (USIA)
ISBN 5-01-002602-3
ISBN 5-01-002604-Х
© Copyright 1972, by Daniel J. Boorstin
© Перевод на русский язык, послесловие, комментарий и художественное оформление издательская группа «Прогресс», 1993
Посвящается
РУФИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
К РУССКОМ ИЗДАНИЮ
В XX веке история распорядилась так, что судьбы американцев и русских—людей различного жизненного опыта, живущих на противоположных сторонах земного шара, — переплелись довольно тесно. Нас объединяет революционная традиция. Полтора столетия назад классик в области критики американской культуры иностранец Алексис Токвиль увидел русских и американцев, «неожиданно занимающих свои места среди лидирующих наций», идущих «легко и стремительно вперед по пути, которому не видно конца». Он с уверенностью предрекал, что каждый из наших двух народов «по какому-то тайному замыслу Провидения» будет «однажды держать в своих руках судьбу половины мира».
Теперь-то мы знаем, что такая ноша никому не по силам. Но остается непостижимая связь между русским и американским жизненным опытом. Вероятно, во многом будущее мира будет зависеть от нашей способности понимать друг друга. А понять народ без знания его истории невозможно.
До недавнего времени русским читателям была доступна лишь официальная советская версия американской истории. Американцы, напротив, имели преимущество знакомиться как с официальными взглядами советской науки на историю России, так и со взглядами бесчисленных наблюдателей со стороны. Теперь перед читателями вашей страны откроется наконец возможность по-новому взглянуть на историю Америки.
Я счастлив, что в России будут читать мою историю американского опыта. Эти тома, результат двадцатипятилетних ис
7
следований и размышлений, во многом излагают мою собственную точку зрения. Я отбирал темы, на мой взгляд наиболее ярко характеризующие американский опыт, а также те, какие сам считал интересными. Советский Союз и Соединенные Штаты объединили свои усилия в исследовании космического пространства. Теперь русские читатели имеют возможность вместе с американцами исследовать прошлое и заново открывать друг друга.
Дэниел Бурстин
Что может сравниться с простором новой страны!
Джон Тайлер
НАЧИНАЯ СЫЗНОВА
В 1845 году Лэнсфорд Хастингс запечатлел в «Справочнике переселенца в Орегон и Калифорнию» путешествие, совершенное с отрядом из ста шестидесяти человек, вышедших из Индепенденса, Миссури, 16 мая 1842 года:
Мы ринулись в неизведанные просторы, в дикие края ♦западного мира», охваченные бурной радостью, искрящимся весельем и ожиданием счастья. Сплотившие нас гармония чувств, единство целей и общность интересов не предвещали, казалось, ничего, кроме прочно установившегося порядка, гармонии и мира перед лицом испытаний, предстоящих в долгом и трудном пути. Но стоило лишь нескольким дням пути отдалить нас от родных мест, где царили порядок и безопасность, как ♦американский характер» проявил себя во всей красе. Все были преисполнены решимости командовать, но никак не подчиняться. И вот мы очутились в состоянии полного хаоса — без закона, без порядка и без выдержки! Одних охватила печаль, других — веселье. И пока отважные испытывали сомнения, робких била дрожь! В разгар этой сумятицы наш капитан предложил ♦встать на якорь», разбить лагерь и разработать кодекс правил для дальнейшего управления нашей компанией. Предложение получило мгновенную поддержку, ибо в роли законодателя предстояло выступить каждому.
* * *
Нация начиналась не в одном каком-либо месте и не в одно какое-то время, но снова и снова рождалась прямо на глазах. По всем необъятным просторам Запада американцы создавали новые и реформировали старые общины. Менее чем через сто лет после Американской революции — еще до начала Гражданской войны — полоске колониальных поселений, отделенных океаном от метрополии, суждено было превратиться в страну-континент.
Книга первая
ОБЩИНА
В Америке, казалось, было всё... В пределы Соединенных Штатов вошло так много земель и природных различий, так много стран, что единого закона не могло быть для всех.
Хэрриет Мартино
Америка росла в поисках общины. В период между Революцией и Гражданской войной юная страна преуспела не в находках, но в поисках. И процветала она не благодаря совершенству избираемых путей, а благодаря их гибкости. Она жила в постоянной надежде, что новый день принесет что-то новое, что-то, может быть, лучшее, чем сегодня. Побочным продуктом поисков путей к человеческому общежитию стала новая цивилизация, сила которой основывалась не столько на идеализме, сколько на готовности довольствоваться чем-то более скромным, нежели искомый идеал. Американцы были вполне удовлетворены тем, что все росло и развивалось. Когда-нибудь прежде человек возлагал столько надежд на неизведанное?
Часть первая
«И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ...»: ЛЮДИ НОВОЙ АНГЛИИ
Пою Новую Англию, в сердце прерии огонь своего очага несущую...
Уильям Эллери Чэннинг
Град на Холме, заложенный американскими пуританами, процветал, ибо был градом у моря. Насколько иными путями могла бы пойти история Новой Англии, а то и всей Америки, обрети она свой Сион где-нибудь в глубине материка — этакую американскую Швейцарию: уединенную, укрытую за горными хребтами долину! Море же сподобило обитателей Новой Англии искать опору и ресурсы не в земле, но в самих себе и в целом мире. Море послужило величайшим фактором, открывшим им и обширные рынки, и широкий кругозор.
Кто мог предсказать превращение пуританина в янки? Кто мог предвидеть, что люди, прославившиеся в Старом Свете своим твердокаменным догматизмом, по ту сторону океана явят образец предприимчивости? Что сектанты, печально известные в Старой Англии своей прямолинейностью, в Новой Англии превратятся в эталон гибкости и разнообразия? Что англичане, прославленные умением находить дорогу в рай, овладеют небывалым мастерством поиска новых рынков и гибкости капиталовложений?
Люди Новой Англии доказали умение американцев мотаться по свету, не утрачивая своих корней, не теряя связей с очагами предков. Волны морские носили сотни суденышек — и на борту каждой из этих скорлупок крепко держалась тесно спаянная группка людей, пустившихся в неизвестный путь, унося свою Новую Англию с собой.
Каким-то образом космополитизм Новой Англии оберегал своеобразие этой наиболее колониальной части новой страны. Та же система взглядов, что спасла американских пуритан XVII века от утопизма, помогала их наследникам справляться с меняющимся характером встающих перед ними проблем. Люди Ho
ll
вой Англии владели методологией Старого Света куда лучше большинства других американцев. И умели применять ее к овладению потенциалом Нового Света.
На первом этапе формирования американской нации обитатели Новой Англии были своего рода «саженцами». И отношения между людьми складывались так, что, скажем, бостонский предприниматель был для своего манчестерского собрата тем же, чем плантатор из Виргинии был для английского эсквайра, а Томас Джефферсон — для сквайра Уэстерна. Новая Англия — этот оплот и консерватизма, и радикализма, это пристанище и утонченных денди, и немытых оборванцев-иммигрантов — дала новой нации куда больше, чем можно было ожидать и по числу ее обитателей, и по размеру территории. Географическое положение, качественный состав населения и уровень мышления сделали ее в культурном отношении неким чистилищем между упорно цепляющимся за жизнь уходящим старым миром и еще не вполне сформировавшимся новым.
1.
МОРСКИЕ ДОРОГИ ПРОХОДЯТ ПОВСЮДУ
Прямой путь из Старой Англии в Новую — путь от Вавилона к Сиону — лежал через море. Море стало как бы пуповиной, соединяющей колонию с матерью-отчизной, и одновременно бездной, отделяющей колонистов от ее нищеты, упадка и династических конфликтов. Море стало торной дорогой в большой мир.
Море было бесстрастно. Волны его несли кого угодно и куда угодно: пуритан с их Библиями и священными текстами строить Град на Холме; ром — в Западную Африку в обмен на рабов, которым предстояло умирать от непосильного труда в Вест-Индии; опиум — из Смирны в Китай. Многоликость моря стала многоликостью Новой Англии.
Морские просторы были безлюдны и пустынны, и только на борту корабля жизнь путешественников текла своим чередом. И это было благословением для пилигримов, которые могли плыть куда угодно, не расставаясь при этом со своим жилищем. Первые пуритане плыли в Новую Англию, сгрудившись на палубе, предавшись воле Бога и стихии. Их новая общинная жизнь начиналась в море. Мэйфлауэрский договор был заключен до высадки на берег, а корабельные проповеди типауинтроповской о «примере христианского милосердия» укрепляли общину еще
12
в пути. В отличие от тех групп американцев, которые впоследствии продвигались на Запад страны, морских путешественников не ошеломляли ни невиданные растения, ни диковинные животные и не страшили встречи с враждебными племенами. Сухопутные путешественники разбивали на новых землях бивуаки, растекались и оседали на них. Корабли же, уносившие паломников в Новую Англию, их Землю Обетованную, заставляли их держаться вместе тесно, компактно, обособленно от всего мира. И, ступая на новую землю, они ощущали между собой куда больше единства, чем когда они покидали старую.
К началу XIX века обитатель Новой Англии уже умел обращаться и с торговцем-индусом в Калькутте, и с мандарином в Китае. Главным же свойством его оставалась неспособность забыть родную страну. Капитан-мореход часто тосковал по ферме и цыплятам на земле своего детства. Удалившись в идеальном варианте на покой, он возвращался взорами к океанским просторам с «капитанского мостика» на чердаке своей фермы, но море не становилось его домом. Когда Джефферсон обвинил торговое сословие в отсутствии патриотизма, его устами говорил провинциальный Старый Юг, и он лишь расписался в своем незнании Новой Англии. Мало кому из виргинцев было дано понять рвущуюся в море душу обитателей Новой Англии, которые тем больше тосковали по родным берегам, чем дальше уплывали от них. Любовь Джефферсона к Виргинии выражалась в привязанности к Монтиселло и привычному виду с веранды своего дома. Любовь же массачусетцев к своей «стране» — новоанглийский патриотизм Адамсов, Перкинсов, Джексонов, Кэботов и Ли — была при той же глубине чувства куда более всесторонней. Они относились к ней как к духовному и коммерческому центру своего мира.
С ранних дней существования Массачусетса богатство моря компенсировало бедность земли. «В здешнее изобилие морской живности невозможно поверить, — писал в 1630 году Фрэнсис Хиггинсон, — да и сам бы я не поверил, не узри его воочию». Первопоселенцы доставали из сетей не только макрель, треску, окуня и омара, но также и «сельдь, тюрбо, палтуса, осетра, брос-ме, пикшу, кефаль, угрей, крабов и устриц». Рыболовство оставалось главным промыслом Массачусетского залива вплоть до конца XVII века. Треска стала для колонистов Массачусетса тем же, чем табак был для колонистов Виргинии. Если Старый Доминион, как утверждали недоброжелатели, был основан «на дыме», то пуританское содружество держалось на соленой воде. Рыбакам Новой Англии, как и рыбацким общинам по всему ми
13
ру, был свойствен своеобразный консерватизм. В известные времена превратить ловца трески в ловца макрели или китобоя казалось лишь немногим легче, чем превратить англичанина во француза или в итальянца. И все же, в то время как табак и новая вездесущая южная культура — хлопок — все крепче и крепче привязывали южан к земле, рыболовные суда все больше и больше открывали миру Новую Англию.
Морская торговля требовала универсальности, быстрых решений и готовности сбросить за борт невыгодный груз. Она требовала способности объявиться в Буэнос-Айресе с самым дефицитным там на данный момент товаром, умения с ходу заключить неожиданно подвернувшуюся сделку, решимости изменить курс с Кантона на Калькутту, если путь вдруг преграждали превратности войны или бури, а то и сбыть с рук сам корабль, коль продолжение путешествия не сулило дальнейшей выгоды. Капитаны и суперкарго1 решали по собственному усмотрению, в какой товар вкладывать средства, куда прокладывать маршрут, на ходу меняя цель путешествия, продолжая его или поворачивая домой, то есть принимали любое самое оптимальное решение.
К1784 году, когда палата представителей штата Массачусетс приняла резолюцию «вывесить в зале заседаний палаты изображение рыбы-трески в знак признания важности трескового промысла для процветания Республики» (сей символ пребывал на отведенном ему месте вплоть до середины XX столетия), священная рыба вполне заслужила подобную честь. Сама Революция в известной степени явилась побочным порождением рыболовных промыслов Новой Англии, ибо именно для своих рыбаков начали строить собственные корабли обитатели Новой Англии, вызвав тем самым у британцев зависть к колониальному торговому флоту. Место сбора массачусетских повстанцев — Фаньел-холл, названный Дэниелом Уэбстером «колыбелью американской свободы», был подарен общине Питером Фанье-лом, бостонским купцом, разбогатевшим на поставках новоанглийской трески на дальние рынки.
Пик расцвета рыболовных промыслов Новой Англии пришелся на десятилетие перед Революцией, когда уловы были значительно выше и составляли значительно большую часть дохода колонистов, нежели когда-либо в прошлом или в будущем. В эпоху Революции промысел рыбы в Новой Англии сократился, и не столько по воле британских законов, сколько в силу
1
Представитель владельца груза (англ., мор.). —Прим.ред.
14
превратностей и потребностей войны. В 1774 году, например, маленький город Чатем все еще посылал на тресковый промысел двадцать семь судов; десять же лет спустя их осталось всего четыре или пять. Остальные рыбацкие шхуны стали каперами, мирные же рыбаки превратились в военных моряков.
Ничто так не способствовало обретению американцами чувства независимости, как сама Война за независимость. Каперство открывало теперь новые возможности для таких людей, как, например, Джордж Кэбот (который к восемнадцати годам уже командовал рыболовецкой шхуной). Бескрайний мир за пределами Британской Империи, некогда доступный лишь контрабандисту, отныне искушал каждого торговца Новой Англии. Джон Адамс из Массачусетса, выдвинув лозунг: «Либо рыболовные промыслы, либо никакого мира», — обеспечил включение в мирный договор 1783 года с Великобританией обширных прав на рыболовство по всей территории Британской Америки. И хотя ближе к концу войны рыболовство снова встало на ноги, воображение Новой Англии уже разжигало открытие новых рынков для традиционных товаров и новых товаров для традиционных рынков.
Существует множество примеров исканий подобного рода; это истории о давно забытых людях (ведь рискованные предприятия были в те времена обычным делом), рассказы о товарах, названия которых нами сегодня почти забыты. Типичный пример представляет собой рассказ о майоре Сэмюеле Шоу и торговле женьшенем.
Первый американский корабль, достигший берегов Китая, бросил якорь 30 августа 1784 года в Кантоне. Деловой стороной этого предприятия руководил майор Сэмюел Шоу, уроженец Бостона и ветеран Американской революции. Шоу еще не было тридцати, когда он сражался под Трентоном, Принстоном и Брэндивайном, перенес суровые испытания вместе с генералом Вашингтоном в долине Вэлли-Фордж, был свидетелем солдатских бунтов в Пенсильвании и Нью-Джерси, слышал волнующую до слез прощальную речь Вашингтона перед своими офицерами в декабре 1783 года. На следующий год Шоу, подобно многим другим, вернулся к обычной жизни неимущим и обремененным долгами. Группа бизнесменов, купивших «Императрицу Китая», судно водоизмещением 360 тонн, для экспорта женьшеня в Кантон, назначила Шоу суперкарго. Подняв якорь в Нью-Йоркском порту в начале 1784 года, корабль Шоу взял курс на восток, к островам Зеленого Мыса. После веселого праздника в честь первого пересечения экватора, после
15
встреч с китами и рыбой-меч, после полугодового плавания Шоу наконец достиг экзотических берегов Явы и Макао. Путь же его лежал еще дальше — в Кантон.
До появления первого судна из Новой Англии под американским флагом у берегов Китая считалось, что годовое потребление в Китае женьшеня — редчайшего корня, растущего как в Северной Америке, так и в Китае и ценимого китайскими врачами как снадобье, способствующее возбуждению чувственности и продлению жизни, — не превышало четырех тонн. Однако только один корабль Шоу доставил груз женьшеня, в десять раз превышающий эту цифру. На протяжении же последующего года американцы более чем удвоили экспорт женьшеня в Китай. Спрос и цена на женьшень продолжали расти. В обмен на него американцы вывозили из Китая чай и другие пользующиеся спросом товары, извлекая попутно дополнительную прибыль.
Поначалу, как объясняет в судовом журнале Шоу, китайцы не вполне понимали разницу между англичанами и американцами. «Они называли нас «новые люди». Когда же мы с помощью карты дали им представление о размерах нашей страны, о численности и росте ее населения, китайцы весьма обрадовались перспективам торговли на столь обширном рынке товарами их собственной империи».
Не оставалось такого уголка Земли, куда не пришли бы мореходы из Новой Англии. В 1784 году один из кораблей Джорджа Кэбота бросил якорь в гавани Санкт-Петербурга. Это было первое судно под американским флагом у берегов столицы Российской империи. Корабли уходили из порта Сейлем торговать с западным побережьем Африки, доставляя копал для производства лака с острова Занзибар, расположенного на ее восточном побережье, каучук и калоши из Бразилии. Корабли из Бостона доставляли продовольствие голодающим ирландцам. Везли сандаловое дерево с Гавайских островов и шкуры выдры из Британской Колумбии в обмен на китайский чай. Другие рыскали в поисках дешевых кож в Южной Америке и Калифорнии, снабжая ими новые обувные фабрики на родной земле. Отправлялись искать лучшие сорта кофе в Южном полушарии, скупали хинную кору для производства хинина от малярии, джут для изготовления мешков, льняное масло для красок и чернил, шеллак для судов и мебели.
Для предпринимателей Новой Англии не существовало дел слишком мелких или слишком крупных, товаров слишком экзотических или слишком обыкновенных. Сейлем быстро вырос в мировой центр торговли перечным зерном, потребность в кото
16
ром до наступления эры холодильников испытывали все. В 1791 году Соединенные Штаты реэкспортировали менее 500 фунтов перца, в 1805-м — 7 500 000 фунтов, то есть почти весь урожай Северо-Западной Суматры. Подвергаясь смертельному риску, китобои уходили в долгое плавание, нередко длившееся целых три года, по всей Северной Атлантике и южной части Тихого океана, уходили на промысел гигантского кита, добыча которого была в то время основой хозяйства для Нью-Бедфорда и Нантакета.
На дальних окраинах «Новая Англия» стала синонимом новой страны. На северо-западном побережье Северной Америки, где промышляли выдру, слово «Бостон» служило синонимом «Соединенных Штатов». В 1830-х годах состоятельные туземные купцы островов южной части Тихого океана считали Сейлем «независимой страной, одной из самых богатых и значительных в мире».
Мореходные предприятия Новой Англии носили хаотичный, калейдоскопический характер. До Революции они, как правило, выходили за рамки закона. После Революции эти предприятия в большинстве своем были столь же рискованны и опасны, как и новые торговые пути. У традиционно же мореходных народов этот дух предприимчивости по сравнению с американцами сильно ослаб; в странах Старого Света доходы извлекали лишь из проторенных торговых путей. В Англии начала XIX века, например, в морской торговле продолжали доминировать организации типа «Восточно-Индийской компании», которая возникла еще во времена королевы Елизаветы. Эти организации придерживались давно установившихся традиций, их деятельность регулировалась освященными временем правительственными уложениями. И не случайно британская «Восточно-Индийская компания», как правило, предоставляла вакансии лишенным предприимчивости младшим сыновьям или любимым племянникам из богатых семейств. Не только в Англии, но и повсеместно в Европе как на море, так и на суше командовали выходцы из правящей аристократии. Для простого моряка выбиться в первые помощники, а то и в капитаны оставалось делом почти неслыханным: он не обладал для этого ни должным образованием, ни языком, ни манерами, ни происхождением. В Новой же Англии молодой человек, начинавший морскую службу простым матросом, становился капитаном собственного судна. Один капитан из Биверли, начинавший палубным матросом в Сейлеме, вспоминал, что все тринадцать матросов его первого экипажа
17
впоследствии стали судовладельцами. Поскольку Новая Англия не знала ни старых торговых домов, ни, соответственно, тесных оков привычек и традиций ведения дел, ее предпринимательство возглавили выскочки Кэботы, Джексоны, Ли, Хиггинсы и Перкинсы, проявившие изобретательность в поисках новых рынков и прокладывании новых путей. Новая Англия не унаследовала ни потомственной аристократии, поставлявшей флоту морских офицеров, ни пролетариев моря, давших жизнь «старым морским волкам» в английской литературе и фольклоре.
2.
В ПОИСКАХ РЕСУРСОВ: ЛЕД ДЛЯ ИНДИЙ
В Новой Англии не выращивали ни перца, ни кофе, ни сахара, ни хлопка, ни какой-либо иной культуры, пользовавшейся спросом на мировом рынке. Величайшим ресурсом Новой Англии была ее предприимчивость. Используя возможности моря, гибкость ума обитателей Новой Англии превратила даже пороки ландшафта в предмет коммерции. «Новая Англия, — гласила расхожая в то время шутка, — не производит ничего, кроме льда и гранита». Способность Новой Англии извлечь выгоду из своих каменистых почв и суровых зим послужила самым неоспоримым доказательством ее предприимчивости.
Почти до середины XIX столетия использование летом льда для охлаждения считалось редкостной роскошью. Древние римляне спускали в долины снежные глыбы с горных вершин как диковину. Еще с незапамятных времен рацион питания ограничивался временем года. Свежие овощи и фрукты были доступны лишь в период созревания, мясо — только от свежезабитых животных, а молоко — только свеженадоен-ное. Рецепт XVIII века для изготовления молочного пунша гласил: «Подсластите кварту сидра двойной дозой рафинированного сахара, добавьте молотого мускатного ореха, затем в полученный напиток подоите корову». До появления рефрижераторных установок молоко могло сохраняться лишь в виде масла или сыра, мясо же приходилось вялить или солить. Все приходилось сдабривать специями либо для вкуса, либо чтобы отбить запах.
В Париже, Лондоне и колониях XVIII века мороженое подавалось на стол лишь в домах аристократов. Иногда на стой
18
ке буфета большого английского загородного дома можно было увидеть кувшин со льдом для охлаждения напитков. Ледник составлял часть роскошной обстановки дворца королевского губернатора Виргинии в Уильямсбурге, дома Вашингтона в Маунт-Верноне, усадьбы Джефферсона в Монтиселло, дома Монро в Ашлауне. Ближе к концу XVIII века группа филадельфийских семей обзавелась совместным ледником, появился собственный ледник и в по меньшей мере одном из богатых кембриджских поместий. В целом же с того зимнего дня 1626 года, когда сэр Фрэнсис Бэкон схватил роковую простуду, закапывая эксперимента ради цыпленка в снег, никакого особо заметного прогресса в развитии рефрижераторного дела не наблюдалось.
Поскольку летние месяцы в Северной Америке, расположенной на одной широте с Европой, были еще жарче, пища здесь портилась гораздо быстрее. Гнилое мясо, протухшая птица, прогорклая сметана и скисшее молоко снискали соответствующую оценку американской кухне у высокомерных европейских путешественников в XVIII и XIX столетиях.
И вдруг совершенно неожиданно в течение полувека, предшествовавшего Гражданской войне, потребление льда увеличилось больше, чем за все предшествующее тысячелетие. К 1860 году холодильник (слово, соответственно, придумали в Америке) стал обычным предметом домашнего обихода в растущих американских городах, и авторы поваренных книг восприняли его как нечто естественное. Повседневным блюдом стало мороженое, описанное в «Ледис бук» Годи (август 1850 года) как одна из жизненных необходимостей; считалось, что прием без мороженого — это все равно что завтрак без хлеба или обед без жаркого. В некоторых нью-йоркских семьях даже подавали воду со льдом на протяжении всего лета.
Быстрый рост городов отдалял все большее и большее количество людей от непосредственных источников свежего молока, мяса и овощей. Увеличивающееся же количество домашних холодильников увеличивало и спрос на лед. Новый Орлеан, к концу 1820-х годов потреблявший менее 400 тонн льда в год, за десятилетие увеличил потребление льда в десять раз, за следующее десятилетие — в двадцать, а к началу Гражданской войны — в семьдесят раз. На протяжении того же периода почти столь же стремительно возросло потребление льда в таких северных городах, как Бостон и Нью-Йорк. К концу 1830-х годов, когда купцы Новой Англии страдали от непомерных тарифов, а бостонская торговля между Калькут
19
той и Европой сократилась до катастрофического уровня, новая отрасль создала стабильный экспорт льда и тем самым помогла спасти Бостонский порт и возродить бостонскую торговлю с обеими Индиями.
Начался «ледовый век» американского меню — с акцентом на высокую гигиеничность, питательность и свежесть продуктов, на здоровье тела, а не услаждение нёба. К середине XX века корень «лед» создал такое количество различных производных в лексике американцев, как, пожалуй, ни одно другое слово.
Особую роль в «судьбе» льда как атрибута американского образа жизни сыграл бостонец Фредерик Тюдор, обретший известность под именем ледового короля. Сей предприимчивый бизнесмен, порождение Новой Англии, отнюдь не походил на персонажей Хорейшио Олджера и преуспел благодаря отнюдь не таким прозаическим качествам, как умеренность и бережливость, но благодаря неукротимому, пылкому, энергичному и временами безрассудному нраву. Он не отличался скромностью и заботой о ближнем, щедростью и бережливостью. Напротив — был тщеславен, надменен, презирал конкурентов и ничего не спускал врагам. Конкурентную борьбу вел энергично, но предпочитал узаконенный монополизм. Тюдору не пришлось выбиваться из нищеты; подобно многим другим зажиточным массачусетским купцам, он нажил состояние, используя любые возможности, в том числе общественное положение и семейные связи.
Происходил Тюдор из известной бостойской семьи. Отец его, выпускник Гарварда, изучал право в конторе Джона Адамса, служил главным военным прокурором в армии генерала Вашингтона, а затем обзавелся прибыльной юридической практикой. Закончили Гарвард и три брата Фредерика. Сам же он с тринадцатилетнего возраста занялся бизнесом, благодаря чему впоследствии дал братьям работу и сумел поправить семейные дела. Несмотря на всеядный ум и ненасытную любознательность, Фредерик Тюдор превозносил активную деятельность. Праздной же «ученой» жизни он не доверял и был серьезно обеспокоен, посетив однажды брата Джона в Гарварде и обнаружив у него в комнате кисти и холсты соседа по общежитию — романтического художника Вашингтона Олстона.
Зимой 1805 года, когда Фредерику исполнился всего лишь двадцать один год, на веселой пирушке в Бостоне его брат Уильям спросил шутки ради, почему в окрестных водоемах не собирают лед и не продают его в карибских портах. Фредерик отнесся к этому всерьез, как бы стремясь доказать, что для ком
20
мерсантов Новой Англии не существует ни заумных предприятий, ни невозможных товаров. Купив тетрадь, он озаглавил ее «Ледниковый дневник» и 1 августа 1805 года внес в него первую запись, которой суждено было стать классикой новоанглийского делового предпринимательства. На кожаной обложке дневника он заказал вытеснить свой девиз: «Тот, кто отступает при первой же попытке отпора и теряет веру в победу, даже не нанеся второго удара, не был, не является и не будет героем ни в бою, ни в любви, ни в делах».
Весь Бостон провозгласил его безумцем, когда в течение года он вложил десять тысяч долларов в поставку 130 тонн льда на плавящийся от жары остров Мартиника. Затем Тюдор посетил Мартинику сам, дабы способствовать развитию торговли, лично обучал потенциальную клиентуру, как пользоваться льдом и сохранять его. 10 марта 1806 года он писал домой из Сент-Пьера:
Управляющий садами Тиволи уверяет, что в здешних краях мороженого не сделаешь, что лед растает прежде, чем успеешь доставить его! А я сказал ему, что уже делал здесь мороженое... я заказал 40 фунтов льда и очень вежливо настоял на том, чтобы приготовили крем для мороженого, пообещав приехать утром и заморозить его, что я и сделал, преисполнившись решимости не жалеть усилий и убедить всех, что они могут иметь не только лед, но и все сопряженные с ним удобства так же, как в любом ином месте. Управляющий Тиволи за один вечер выручил продажей мороженого 300 долларов, после чего вел себя ниже травы, тише воды...
Но мартиникская операция дала почти четыре тысячи долларов убытку, когда за полтора месяца растаял весь груз.
Пятнадцать лет ушло у Тюдора на то, чтобы торговля льдом начала давать прибыль. Все эти годы он боролся: за право монопольной торговли, за исключительное право строительства ледников в Чарлстоне, Гаване, британских и французских владениях Вест-Индии, за контроль над озерами Новой Англии — основным источником льда; за создание спроса на лед, рекламируя напитки со льдом, мороженое, мороженые фрукты, мясо и молоко во всех уголках Земли, куда только могли дойти его корабли. Одно время Тюдор продавал охлажденные напитки по той же цене, что и не охлажденные, надеясь таким образом привить у потребителя привычку к холодным напиткам. Он демонстрировал способы применения льда в больницах. Везде, где ему удавалось построить добротные хранилища для льда, он сразу завоевывал преимущество перед конкурентами: продавал лед по пенни за фунт, пока весь груз конкурента не растает в порту, а затем поднимал це
21
ны, чтобы компенсировать потерянную прибыль. «Пейте, испанцы, и наслаждайтесь прохладой, — призывал он обливавшихся потом завсегдатаев вест-индийских кофеен, — чтобы я, столь много претерпевший за успех дела, мог вернуться домой и согреться у своего очага».
Не реши Тюдор технических проблем, ничего бы он не добился. И он упорно вгрызался в поиски оптимального решения проекта ледника. Сознательно рискуя заболеть в Гаване желтой лихорадкой, он экспериментировал со всевозможными теплоизоляторами — соломой, стружкой, одеялами. С часами в руке он простаивал у своего ледника в Гаване, замеряя скорость таяния льда и делая пометки — какое влияние на этот процесс оказывают изменения в конструкции ледника и открывание дверей. В итоге родился экономичный и эффективный проект ледника для тропического климата. Подземные ледники старого типа теряли за сезон более 60% товара. Потери ледохранилищ Тюдора составляли менее 8%.
Для обеспечения поставок большого количества льда в тропики Тюдору предстояло усовершенствовать способ добычи льда из водоемов Новой Англии, а также облегчить его транспортировку и хранение. В начале XIX века лед заготавливали вручную, нарезая его глыбами различных размеров, на что уходило много сил и времени. Когда поступления льда с прудов Новой Англии сокращались из-за теплой зимы, как, например, в 1818 году, капитан бостонского брига бывал не прочь рискнуть кораблем и экипажем, ломами и топорами отрубая куски от сползшего с Лабрадора в океан айсберга. Но эти неровные нестандартные глыбы плохо поддавались транспортировке и хранению. Идя на юг, капитаны судов были согласны брать лед вместо камня в качестве балласта, но против этого возражали судовладельцы: лед нельзя было прочно уложить, он двигался в трюме, а подтаяв, мог попортить другие грузы. Таким образом, вставала необходимость изыскать возможность массового производства стандартных блоков натурального льда.
Решить проблему помог Тюдору удачный выбор компаньона. Он заручился поддержкой изобретательного человека, отпрыска еще одной благополучной кембриджской семьи, Натаниела Джарвиса Уайета, унаследовавшего часть побережья Фреш-Понд — одного из лучших источников льда в округе. Хотя его отец закончил Гарвард, Уайет, как и Тюдор, пренебрег Гарвардом ради бизнеса. Ему еще не исполнилось и тридцати, а он уже успешно управлял отелем «Фреш-Понд», ставшим привлекательным летним курортом для жителей окрестных городов
22
благодаря гребным лодкам, кеглям и иным развлечениям. В 1824 году Уайет стал управляющим компанией Тюдора по торговле льдом, заготавливавшей товар на озере Фреш-Понд. Вскоре он изобрел машину, значительно усовершенствовавшую процесс заготовки льда, без которой не встала бы на ноги мощная индустрия торговли льдом Новой Англии.
Уайета осенила простая идея, возможно подсказанная следами, оставляемыми на льду полозьями санок во время зимних катаний на Фреш-Понде. Его ледорез состоял из двух разделенных двадцатью дюймами параллельных металлических полозьев на конной тяге. Каждый полоз был заточен, как пила. Таким образом ледорез прорезал во льду две параллельные канавки. Затем канавки углублялись повторением операции, и параллельно им нарезались другие. Затем упряжку разворачивали под прямым углом, нарезая подобным образом лед на квадраты. Затем рабочие ломами высвобождали стандартные кубы льда и сплавляли их по каналу, в конце которого Уайет оборудовал лебедку на конной тяге, с помощью которой кубы извлекались из воды и через воронку загружались в ледник, построенный на берегу водоема.
Приспособления, пущенные Уайетом в ход к 1825 году, сократили себестоимость заготовки льда с 30 до 10 центов за тонну. По соглашению, заключенному с Уайетом, контроль за использованием этих технических средств оставался за Тюдором. Но вклад Уайета в развитие бизнеса по заготовке льда на том не ограничился. Он продолжал работать, совершенствуя свои изобретения. Ко времени кончины Уайета в 1856 году почти вся технология отрасли целиком основывалась на его идеях. Уайет разработал новый тип ледоочистителя, выскабливавшего поверхность льда перед нарезанием на блоки, что способствовало дальнейшей стандартизации продукта. Уайет придумал пересыпать блоки льда древесными опилкамй, чтобы избежать таяния при транспортировке, и заодно создал спрос на прежде бросовые отходы производства лесопилок штата Мэн.
Но одним лишь изобретательством деятельность Уайета отнюдь не ограничивалась. Отойдя после 1832 года на пять лет от торговли льдом, Уайет возглавил сухопутную экспедицию в Орегон, где учредил компанию по добыче в бассейне реки Колумбия лосося и мехов, заготовкам строительного леса и табака, став, таким образом, «первопроходцем из первопроходцев» на северо-западе тихоокеанского побережья. Несмотря на цепь трагических неудач — корабль его фирмы в порту Вальпараисо поразила молния, а в торговле мехами чинили
23
препятствия конкурирующие «Роки маунтин фер трейдинг компани» и «Хадсон бей компани», — Уайет сумел заложить Форт-Холл, ставший известнейшей факторией на торговых путях от Орегона до Калифорнии. Поскольку Уайету не хватало ресурсов на учреждение собственной постоянной торговли мехами, он вернулся в Бостон, снова занялся льдом — теперь уже самостоятельно — ив значительной степени улучшил технологию. Новый универсальный ледорез конструкции Уайета был опробован при весьма драматических обстоятельствах в 1844 году, когда в Бостонской гавани вмерзла в лед «Британия», лайнер компании Кьюнарда. За три дня Уайет прорезал в незамерзающие воды канал длиною в семь миль и шириною в двести футов.
Несмотря на конкуренцию со стороны Уайета и других, Тюдор оставался ледовым королем. Но этим его предприимчивость отнюдь не ограничивалась. В начале деловой карьеры он торговал душистым перцем, мускатным орехом, мукой, сахаром, чаем, свечами, хлопком, шелком и кларетом. Позднее он добывал уголь на Мартас-Виньярде, изобрел помпу для откачивания воды из корабельных трюмов, разработал новый проект корабельного корпуса ("Черный лебедь") и проект рыбацкого катамарана, превосходившего, как считалось, по своим качествам прежние типы рыбацких суденышек. Тюдор управлял шахтой по добыче графита, делал бумагу из белой сосны, пробовал разводить табак и хлопок в Нэхенте. Тюдор привез в Новую Англию первый паровой локомотив — двигатель мощностью в пол-лошадиные силы, приводивший в действие одноместную повозку со скоростью четыре мили в час. Тюдор заложил первый, пожалуй, парк аттракционов в Америке. И даже пытался разводить морскую рыбу в пресноводном водоеме Фреш-Понд.
Из-за своих бесчисленных авантюр Тюдор то и дело оставался в долгу, как в шелку, даже тогда, когда уже поставил заготовку льда на прибыльную основу. Торгуя, например, кофе, он к концу 1834 года задолжал 200 000 долларов. Но это лишь заставило его удвоить усилия по торговле льдом, доходы от которой позволили ему выплатить долг за кофе в течение последующих пятнадцати лет.
Теперь Тюдор решил поставлять лед в другую часть света — в Индию. В мае 1833 года Тюдор пустился в самое отчаянное предприятие, отправив корабль «Таскани», груженный 180 тоннами льда, в Калькутту. Чтобы добраться из Бостона до Индии, кораблю предстояло дважды пересечь экватор, четыре месяца сохраняя на борту груз льда. Тюдор напомнил капита
24
ну: так далеко на юг лед еще никто не возил, его корабль служит первопроходцем. «Таскани» достиг порта назначения, порадовав его обитателей и новой забавой, и новым лакомством. Первая партия товара выгодно разошлась. Репутация Тюдора росла как на дрожжах. Торговля льдом между Бостоном и далеким Востоком быстро процветала. Используя накопленный в Карибском бассейне опыт, Тюдор построил в Калькутте большой ледник и рекламировал среди англо-индийцев холодильники для продуктов и воды. Он стремился повлиять на их вкусы, поставляя хорошо сохранившиеся масло, сыр и свежие яблоки.
Вскоре лед доставлялся из Бостона повсюду. К 1846 году было поставлено шестьдесят пять тысяч тонн льда. Всего лишь десять лет спустя объем поставок льда увеличился более чем в два раза, лед был отгружен почти четырьмя сотнями партий по более чем пятидесяти адресам в США, бассейне Ка-рибского моря, Южной Америке, Индии, Китае, Австралии и на Филиппинах. Лед стал одним из основных предметов торговли, товаром, активно поставляемым Новой Англией на мировой рынок.
Брошюра, пропагандирующая строительство железной дороги от Фреш-Понда к порту Чарлстон, вопрошала: разве лед не принес «свежесть и прохладу обитателям Юга так же, как уголь дал тепло и уют жителям Севера»? Рассматривался лед и с точки зрения ценности его вклада в укрепление общественной морали. «Как часто здравым людям приходится употреблять крепкие напитки только лишь из-за отсутствия хорошей питьевой воды или из-за недостатка льда, способного и затхлую водицу сделать свежей и приятной?» Эдвард Эверетт, американский посланник в Англии, сообщал о признательности одного персидского принца за поставки льда из Новой Англии—они спасли в Персии жизнь не одного больного, которому сбивали лихорадку, делая примочки со льдом.
Созданный Тюдором ледовый бизнес не только достиг Персии, но и нарушил уединение и покой стремящегося к отшельничеству на берегах Уолденского озера некоего Торо, писавшего в дневниках 1846 —1847 годов:
Сотня ирландцев под присмотром янки приезжают каждый день из Кембриджа добывать лед. Его режут на блоки методами (Уайета), достаточно общеизвестными, чтобы требовалось их описание, затем доставляют на берег, где быстро поднимают на ледовую платформу, откуда крюками, блоками и талями, приводимыми в движение лошадьми, переваливают на помост, будто бочки с мукой, укладывают ровнехонько один к одному, ряд на ряд, будто
25
фундамент огромного обелиска, предназначенного пронзить облака. Говорят, за удачный день можно заготовить тысячу тонн — добыча с одного примерно акра... Говорят также, в их ледниках на Фреш-Понде хранится лед, заложенный еще пять лет назад и ни капельки не подтаявший... измученные жарой обитатели Чарлстона, Нью-Орлеана, Мадраса, Бомбея и Калькутты припадают к моему колодцу... Чистая вода Уолдена сливается со священными водами Ганга.
3.
В ПОИСКАХ РЕСУРСОВ: ГРАНИТ ДЛЯ НОВОГО КАМЕННОГО ВЕКА
Первые фермеры Новой Англии проклинали валуны, усеивавшие их поля: о валуны ломались плуги, валуны приходилось, не разгибая спины, собирать и сносить на межу, выкладывая границы наделов. Первопоселенцы Бостона то и дело использовали при строительстве булыжники, здесь и там разбросанные по земле, но их было недостаточно, чтобы стать широко применяемым строительным материалом. Строили если не из дерева, то из глины, кирпича, сланца, цемента либо красного коннектикутского песчаника. Огромные грубые гранитные глыбы шли на фундаменты и ступеньки, но и тех было так мало, что городское собрание Брейнтри в 1715 году, например, постановило наказывать каждого, кто унесет валун из общественного фонда. Для строительства королевской часовни в Бостоне валуны выкапывались из земли, затем прямо на них разводили костры, а затем их разбивали тяжелыми чугунными базами. Строительный камень, получаемый подобным привычным способом, обходился дорого, да и добывался нерегулярно, поскольку использовать можно было лишь валуны, хотя бы одной стороной выходящие на поверхность. С середины XVII века немецкие иммигранты в Брейнтри начали применять порох, откалывая большие куски гранитных глыб (стремясь делать их более ровными), а затем разбивали их на камни поменьше, старательно долбя в граните бороздки каме-нотесными молотками, заточенными, как топоры.
В конце XVIII века энергичный губернатор Массачусетса, объезжая территорию штата в поисках дешевого камня для новой тюрьмы, которую предстояло построить в Чарлстоне, наткнулся близ Сейлема на каменотеса, применившего новый метод дробления камня: он сверлил в камне дыры на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, а затем раскалывал камень по
26
прямой, проходящей через них. Найдя широкое применение, этот метод резки гранита сократил его стоимость в два раза, впервые создав спрос на тесаный гранит как на строительный материал. Новый Миддлсекский канал, самый протяженный в стране, пролегающий от Челмсфорда до Бостона (все его 16 шлюзов были выложены гранитом), открыл удобный водный путь для транспортировки материала от месторождения к городу и порту.
Начался великий каменный век архитектуры Новой Англии, иногда также именуемый греческим Возрождением. Со времен майя и ацтеков не видела Северная Америка такого монументального строительства из камня. В 1818 году было поставлено на 25 тысяч долларов обтесанного гранита для строительства церкви в Саванне, штат Джорджия. И вот уже лучшие архитекторы Новой Англии (Чарлз Булфинч, Александр Пэррис, Соломон Уиллард, Эмми Бернхэм Янг, Гридли Брайент и Г.Х.Ричардсон) начали строить из гранита дома, церкви и общественные здания во всех восточных и южных штатах. Такое стало возможным лишь благодаря тому, что жители Новой Англии — открыв каменоломни, изобретя новые способы добычи, обработки и перевозки гранита и обратясь к помощи своего старого союзника моря — превратили камень в доходную статью экспорта.
Нежданно-негаданно косвенным толчком к добыче гранита в Куинси послужила Американская революция. Уильяму (брату Фредерика) Тюдору, первому мимоходом подавшему идею продажи льда в страны Карибского бассейна, приписывают также и высказанное впервые в 1822 году предложение воздвигнуть монумент ("величественнейшую в мире колонну") на Банкер-Хилле в ознаменование первого сражения в защиту Республики. Проект и инженерное решение монумента на Банкер-Хилле принадлежали Соломону Уилларду, талантливому мастеру на все руки. Отпрыск старой новоанглийской семьи и потомок знаменитого проповедника Сэмюела Уилларда, он тем не менее был из числа людей, выбившихся самостоятельно, как объясняет его современник-биограф, «гражданин, типичный для нашей страны, родившийся вместе с ней — существовавший даже еще до ее становления как независимой нации — и росший вместе с ней с той самой энергией, что неоспоримо доказывает: нация эта есть плоть от плоти и кровь от крови своей земли». Сын плотника, Соломон Уиллард получил лишь начатки образования и тоже стал плотником. Самостоятельно изучая основы архитектуры, упорно трудясь и не упуская открывающихся воз
27
можностей, он вырос в состоятельного и авторитетного гражданина. Под руководством Чарлза Булфинча он выполнил в 1818 году архитектурную модель национального капитолия. В 1820-х годах, когда в Америке начали разрабатывать месторождения каменного угля, Уиллард изобрел систему обогрева воздуха и подачи его по трубам в жилые комнаты от устанавливаемых в подвале котлов, создав тем самым первую широко применявшуюся американскую систему центрального отопления.
В 1825 году Уиллард был выбран на должность архитектора и руководителя работ по установке монумента на Банкер-Хилле, за сооружение которого он и нес ответственность на протяжении двадцати нелегких лет. Реальная стоимость возведения монумента, по подсчетам Уилларда, перевалила за сто тысяч долларов. Учитывая же некомпенсированные затраты по обслуживанию, она, вероятно, была в несколько раз больше. Финансировалось сооружение исключительно за счет добровольных пожертвований, но строили его бостонцы в два раза дольше, чем воевали за победу Революции. На открытии монумента в 1843 году в присутствии президента Джона Тайлера и членов его кабинета основным оратором выступил Дэниел Уэбстер, восемнадцатью годами ранее произнесший одну из своих самых пламенных речей при его закладке. На монументе, заметил Уэбстер, не выбито никакого посвящения, «да в нем и нужды нет, ибо уроки патриотизма, кои он возведен увековечить, могут быть запечатлены лишь в сердцах тех, кто исповедует его».
Неожиданным следствием возведения монумента на Банкер-Хилле явилось рождение великой гранитной индустрии Новой Англии. В поисках подходящего материала для монумента Уиллард прошел пешком триста миль, изучил различные каменоломни, пока в конечном счете не наткнулся на гранитный карьер в Куинси. Этот карьер приобрел в июне 1825 года Гридли Брайант, перепродавший его за 350 долларов Ассоциации по возведению монумента на Банкер-Хилле (при этом выручив, как говорилось в те времена, «приличный доход»). Из так называемого разреза Банкер-Хилл в карьере Куинси и поступал камень для монумента. Добывая этот камень, Соломон Уиллард разработал практически чуть ли не всю технику, впоследствии используемую в гранитной индустрии: домкрат, подъемник, лебедку и иные приспособления для передвижения и установки больших гранитных блоков. Составной частью инфраструктуры строительства служила знаменитая железная дорога для транспортировки гранита, созданная Гридли Брайентом. Иногда ее
28
называют первой железной дорогой в Америке. Гранитные плиты из карьера к берегу моря волокли лошадьми на примитивной деревянной платформе шестидюймовой высоты, расположенной на каменных опорах и покрытой железными пластинами. Именно создавая эту дорогу, Брайант разработал свою знаменитую восьмиколесную модель платформы и прочие основные элементы железной дороги: стрелку, поворотный круг, снежный плуг и передвижной деррик-кран.
Вскоре разрез Банкер-Хилл превратился в экспериментальное полномасштабное производство гранита. Продавая гранит по себестоимости—то есть только за стоимость труда и материала, непосредственно затраченных при производстве продукции, составлявшую лишь четверть существующей рыночной цены, — Уиллард восстановил против себя конкурентов, но существенно расширил рынок. По завершению строительства монумента на Банкер-Хилле, Уиллард имел все основания гордиться тем, что широкое применение гранита в качестве строительного материала в значительной степени явилось результатом новшеств, разработанных в процессе сооружения монумента. «С началом работ... выросло целое производство, ныне раскинувшееся на площади в несколько миль... уже давшее продукции на 3 000 000 долларов, которого без обелиска не было бы совсем и в котором сам обелиск составлял лишь тридцатую часть».
В городах по всему Восточному и Южному побережью самые видные общественные здания — таможни, суды, рынки, банки, биржи — строились теперь из гранита. Усовершенствованные Уиллардом методы транспортировки и укладки камня практически породили новый архитектурный стиль. Раньше небольшие гранитные плитки использовались лишь для облицовки цоколей, оконных и дверных проемов, подвальных стен. Теперь же Уиллард разработал технику использования крупных гранитных блоков, создающих монументальный эффект, первым примером чего, разумеется, служил сам монумент на Банкер-Хилле. Уиллард с удовлетворением отмечал, что методы строительства при сооружении из гранита сухих доков в Чарлстоуне и Норфолке, заложенных вскоре по завершении монумента, стали совершеннее. Он наблюдал последующие улучшения «архитектурного вкуса и уровня производства работ» на примере многих зданий: отеля «Астор-хаус» и торговой биржи в Нью-Йорке, отеля «Тремонт-хаус», биржи и таможни в Бостоне, а также многочисленных общественных зданий повсюду. В эпоху помпезности и излишеств в архитек
29
туре сама неподатливая природа гранита рождала благородную простоту архитектурного решения.
Совпадение устремлений развития общественного здравоохранения и парковой архитектуры привело к созданию движения, задавшегося целью заменить зловонные склепы и спонтанно возникавшие, перегруженные кладбища колониальной поры новым типом кладбища — «кладбищем-парком». Возглавил его человек разносторонних интересов, врач и ботаник из Бостона Джейкоб Биглоу, основавший кладбище Маунт-Оберн в Кембридже в 1831 году. На его грандиозный египетский портал, на памятники и ограды могил богачей и знаменитостей, аккуратно выложенные дорожки ушло немало камня из карьера Банкер-Хилла. По мере увеличения числа зеленых кладбищ они создали для гранита из Куинси новый рынок.
С ростом городов рос и спрос на твердое покрытие для мощеных мостовых. Первые блоки куинсовского гранита Соломон Уиллард уложил перед «Тремонт-хаус» в 1840 году. К концу века Новая Англия производила более 60 миллионов штук гранитной брусчатки в год.
Гранит расширял сферу влияния все дальше и дальше — к морю, за море и среди тех, кто трудился в море. Путешествуя по Массачусетсу в конце 1835 — начале 1836 года, Хэрриет Мартино оказалась свидетельницей того, как жители полуострова Кейп-Анн добывали на суше гранит с помощью моря, как камень для погрузки на суда свозился на запряженных быками повозках: «Гранитные плиты лежали по обочинам дороги, размеченные... для отправки на строительство величественного здания то ли в Нью-Йорке, то ли в Мобиле, то ли в Новом Орлеане... Спустившись в каменоломню, мы обнаружили неисчислимое богатство — пласты растрескавшегося гранита. Рабочие неустанно трудятся даже зимой. Когда ложится снег и бурить уже нельзя, они убирают наколотые плиты, расчищают площадку для всяческих работ. Они выдают продукции на 250 000 долларов в год, и спрос постоянно растет».
Триумфом гранитной архитектуры явилось сооружение маяка на мысе Мино в Бостонской гавани, на которое ушло целых восемь лет планирования и производства работ. В силу специфики выбранного места устанавливать гранитные блоки можно было лишь при абсолютном спокойствии моря, в полный штиль и при низкой весенней приливной волне. Да и тогда лишь маленький парусник, способный поднять двухтонный блок, мог пришвартоваться у единственного доступного причала на мысу. Огонь, зажженный на башне маяка мыса Мино
30
15 ноября 1860 года, являл собой символ архитектуры и морского инженерного искусства. На деле он олицетворял не только значительные свойства гранита, но и способность обитателей Новой Англии справиться с вызовом моря. И очень скоро самые уважаемые ораторы Новой Англии уже были способны переиначить старую пословицу. Никто теперь не мог оспаривать горделивого утверждения, высказанного Чарлзом Фрэнсисом Адамсом-младшим: «Три кита Новой Англии — лед, скалы и люди».
4.
СОЗДАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ФАБРИКИ
К середине XIX столетия европейцы начали отмечать существование «американской системы производства», значительно отличающейся от их собственной. С их стороны было бы правильнее назвать эту систему «новоанглийской», ибо вряд ли в период формирования нации, предшествовавший Гражданской войне, сыскалось бы хоть одно мало-мальски существенное техническое новшество, не опробованное самым тщательным образом на северо-востоке страны.
Эта новоанглийская система строилась на универсальности, возведенной в принцип производства. И произрастала она не из особого мастерства в производстве какого-то конкретного товара, будь то часы, ружья, сапоги или текстиль, но из умения делать все. Она являлась порождением изобретательности и отсутствия квалификации, нехватки рабочих рук и обширности рынка, избытка гидроэнергии и недостатка сырья, личных устремлений и масштабных совместных усилий, коммерческой предприимчивости, корпоративного капитала, государственных субсидий и счастливых случайностей. Она впервые создала условия, позволившие мореходам Новой Англии проявить свои способности на суше.
Преобразуя производство путем слияния одних операций и разделения других, новые фабричные методы отличались революционной простотой, недоступной ослепленному катарактой привычек Старому Свету. Новое просто-напросто состояло в объединении различных процессов для производства конечного продукта под единым руководством и под одной крышей. В нем и заключалось новое американское фабричное производство, являющееся темой настоящей главы. Второй аспект—новая метода
31
разделения на операции — будет рассматриваться в следующей главе.
Система, которой позже суждено было обрести вид крупного открытия и смелого изобретения, начала складываться из будничного экспериментаторства людей, не отягощенных грузом веками накапливавшихся приемов и сложных общественных отношений. Если американская фабричная система стала триумфом организации и сотрудничества, то она была также и триумфом неискушенности, ибо суть ее составлял отказ от привычек и стереотипов мышления. Невежество и «отсталость» уберегли американцев от старой, наезженной колеи. Важнейшие нововведения осуществлялись именно в силу того, что иных способов решения своих проблем американцы не знали.
Буквально все аспекты американской системы производства — от элементов новой текстильной техники до концепции взаимозаменяемых деталей — были практически еще раньше найдены европейцами. Но если некоторые европейцы и видели открывающиеся возможности, то общество все равно не позволяло им опробовать свои идеи на деле. Слишком многим была выгодна приверженность старому. В Европе индустриальный прогресс предполагал немалое мужество для борьбы со сложившимися устоями. В Америке же требовалась лишь готовность попробовать на практике очевидное. Американский гений основывался не столько на изобретении или открытии, сколько на эксперименте.
Не случайно те же американцы, которые занимались предпринимательством на море, превратились в промышленных предпринимателей. И в том и в другом случаях они занимались транспортировкой сырья из дальних земель, вели морскую торговлю. Готовность переключаться с одного бизнеса на другой, вкладывать гигантские деньги и тут же перемещать вклады, экспериментировать с невиданными экзотическими товарами, охотно идти в неведомые порты и прокладывать неизведанные маршруты — все эти качества требовались от нового типа предпринимателя.
Морская торговля способствовала накоплению капитала. И преуспевшие морские купцы научились держать значительную долю этого капитала в обороте, ибо климат, ландшафт и сложившийся образ жизни Новой Англии не способствовали обретению гигантских барских поместий либо возведению роскошных дворцов для потомства. Кто слышал когда-либо о новоанглийских Маунт-Верноне, Монтиселло, Монпелье или
32
Ашлауне? Богатство, выловленное в море род-айлендскими Браунами или массачусетскими Трейси, Ли, Кэботами, Хиггинсами и Лоуэллами, шло на строительство фабрик. Так, например, Натан Эплтон, начавший карьеру морским торговцем, а позже ставший основателем американской текстильной промышленности, всегда откладывал не менее одной трети капитала на новые проекты и непредвиденные возможности. Этому наряду с другими приемами он и приписывал успехи своих предприятий там, где другие терпели неудачи.
Освоение моря, когда оно служило торной дорогой в мир, означало и освоение источников сырья. Способность Новой Англии поставлять большими партиями хлопок с Юга или из Египта, кожи из Аргентины или с северо-западного Тихоокеанского побережья, позволяла бесперебойно обеспечивать сырьем фабрики, производившие текстиль, обувь и почти все, что угодно. Море же вело к любому клиенту на свете. Километры грубых тканей, сотканных на фабриках Лоуэлла, и тысячи пар дешевой обуви, сшитой на фабриках Линна, выгодно расходились за тысячи километров от дома, одевая и обувая население Африки, Азии и Латинской Америки, вместо того чтобы затоваривать местный рынок.
Развитию Новой Англии способствовали и косвенные причины. Невозможность стабильных богатых урожаев основных сельскохозяйственных культур и отсутствие минеральных ресурсов сделали невозможным получение прибыли традиционным путем, основанным лишь на производстве одного-двух привычных товаров. Поэтому дельцы Новой Англии бесстрастно пускали в ход хлопок из Джорджии, Египта или Индии, кожи из Южной Америки и металл из Англии.
Даже политические неудачи, и те подталкивали Новую Англию к экспериментам с новыми формами организации фабричного производства. Эмбарго Джефферсона (1807 — 1809) и война 1812 года разрушили большую часть ее внешней торговли и вынудили искать новые возможности внутренних инвестиций. За пределами Новой Англии существовали такие города, как Олбани, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор и другие, лежавшие близ речных торговых путей, ведущих в глубь западных районов страны. Давно заселенные районы штата Нью-Йорк образовывали преграду меж Бостоном и растущим в глубине страны рынком. Основные реки Новой Англии — Коннектикут, Мерримак, Кеннебек и Пенобскот — текли на север. Географическое положение Новой Англии никак не способствовало переключению с внешней торговли на внутреннюю. Труд и капитал,
зз
более не имеющие выхода в море, испытывали искушение поискать нового применения в собственном доме, прежде чек предпринять большой скачок на Запад.
«Отсталость» американской экономики и техники практически облегчила внедрение нового фабричного производства. В высокоразвитой английской экономике, например, давно уже сложился ряд четко определенных стадий производства: каждая превратилась в отрасль, закрепившуюся в определенном районе со своими собственными производственными навыками и деловыми традициями. В английском производстве текстиля из хлопка чесальщик, ткач, красильщик и печатник строго придерживались сложившихся традиций, каждый считал свое производство абсолютно самостоятельной отраслью. На каждом этапе производства товара существовал и свой обособленный рынок. Система сложнейших обменов регулировала специализированную торговлю пряжей, тканями и красителями. В результате многие группы сознательно не были заинтересованы в централизации или упрощении производства. Американский же подход резко отличался. В колониальные времена, когда в Англии уже сложились крупные мануфактуры, большую часть американской промышленности олицетворяли мелкие семейные ремесленные мастерские. Даже ближе к концу колониального периода значительная часть мануфактур североамериканских колоний вырастала на базе мастерских деревенских ремесленников. Удаленность от больших городов и от коллег по ремеслу препятствовала их объединению в гильдии. Американцы по-прежнему жили без крупных организационных структур.
В текстильной промышленности, где и предстояло появиться первому крупному фабричному производству нового американского типа, американцы еще сохраняли старую, «домашнюю» систему производства. В колониальные времена сельская новоанглийская семья обычно сама пряла пряжу и шила одежду. Единственной стадией текстильного производства, обычно осуществлявшейся вне дома, было «валяние», выделка сукна из шерсти, чем и занимался деревенский валяльщик. Одежду в основном шили из кожи, сукна и полотна. Хлопковые ткани все еще оставались довольно дорогими. Те американские колонисты, которые не ткали сами, приобретали шерстяные изделия английского производства либо хлопковые ткани, сделанные в Манчестере или далеко на Востоке.
До изобретения парового двигателя вода была основным источником получения энергии для английских фабрик. Желанные права на каждый ручеек, где только можно было по
34
ставить вращаемые водой колеса, устанавливались, захватывались, делились на протяжении веков. Каждый существенный источник энергии давным-давно был поделен и разбит между многочисленными мелкими потребителями. Таким образом, в Англии начала XIX века практически не нашлось бы достаточно мощного энергоисточника для обеспечения в одном месте комбинированного производственного процесса. Освященная обычаем фрагментарность энергоснабжения способствовала сохранению освященной обычаем фрагментарности производства. Первые шаги паровой энергетики поначалу даже усилили эти тенденции. В Англии изобретение парового двигателя и широкое его промышленное применение до 1820-х годов сделали возможным наличие любого количества малых мобильных источников энергии, что более, чем когда-либо прежде, облегчило функционирование крошечных предприятий, выполнявших лишь одну операцию производственного процесса.
В «неразвитой» Новой Англии начала XIX века все складывалось совершенно иначе. До наступления эры железных дорог уголь оставался недоступен из-за высокой стоимости. Паровой двигатель приспосабливался к нуждам производства крайне медленно и вытеснил воду как источник энергии лишь ко времени Гражданской войны. Поскольку очень многие водоемы вообще никогда не использовались как источники энергии, то и права их использования не были юридически регламентированы. Таким образом, компания, строившая фабрику в Новой Англии, могла еще приобрести и безраздельно контролировать крупный источник энергии. Когда, например, предприниматели, учредившие первую фабрику по производству текстиля из хлопка в Уолтеме, вознамерились учредить еще одну, первым делом они «предприняли поиски соответствующего источника энергии». Они искали крупный новый источник, никем не эксплуатировавшийся ранее, что было бы абсолютно бессмысленным делом в Англии. «Почему бы им не купить Паутакетский канал? — вспоминал позже Натан Эплтон вопрос, заданный одним его приятелем. — Тогда в их распоряжении окажется вся мощь реки Мэрримак, там ведь перепад больше тридцати футов». Так они и поступили. «Мы исходили весь этот район, прикинули все его потенциальные возможности, — рассказывал он о своей поездке в ноябре 1821 года в деревушку, где тогда насчитывалось не более десятка домов, вскоре превратившуюся в процветающий город Лоуэлл, — и кто-то заметил, что мы еще Увидим здесь город с населением не менее двадцати тысяч человек».
35
Обитатели Новой Англии испытывали вполне понятный соблазн укрупнить и централизовать производство и свести целый ряд различных процессов под одну крышу. В 1814 году в Уолтеме, штат Массачусетс, появилась фабрика, на которой все процессы изготовления сложного продукта выполнялись с помощью единого источника энергии на одном производстве. Здесь родилась современная фабричная организация труда, которой на протяжении грядущего столетия суждено было принципиальным образом изменить устройство всего мира. Именно она пробудила к жизни коренные перемены в отношениях труда и капитала, преобразила город и деревню, положение женщины и роль семьи. Прямо либо косвенно ею объясняется большинство отличий образа жизни середины XX века от образа жизни середины века XVIII.
Фабрика в Уолтеме не производила ничего экзотического или особенного — обычную хлопковую ткань. Не применялось там и каких-либо принципиальных технологических новшеств. Если не считать ряда усовершенствований, предложенных Фрэнсисом Кэботом Лоуэллом для энергообеспечения ткацких станков, операции, сведенные воедино на этой большой фабрике, оставались такими же, что и раньше, когда они выполнялись по отдельности на разбросанных здесь и там малых предприятиях. Главное же новшество, как и пояснил один из основателей фабрики, рассказывая историю своего предприятия, заключалось не в самих производственных процессах, но, скорее, в способе их организации: «принципиально новой организации, экономящей затраты труда при переходе от одной операции к другой». Вся технологическая цепочка организовывалась и выстраивалась так, чтобы с одной стороны на фабрику поступал хлопок-сырец, а с другой выходила готовая хлопковая ткань.
На протяжении нескольких последующих десятилетий примеру «Бостон мэньюфэкчуринг компани» в Уолтеме предстояло распространиться по всей Новой Англии. Движущей силой этого процесса служил Фрэнсис Кэбот Лоуэлл, сделавший состояние на экспортно-импортных операциях. Поездка по текстильным фабрикам английского Ланкашира пробудила в нем мысли о возможностях создания аналогичной промышленности в Новой Англии; вынужденный же перерыв в мореходных предприятиях, вызванный войной 1812 года, дал ему достаточно свободного времени и вдохновения для воплощения своих проектов в Америке. Ему очень повезло с помощником. Это был Пол Мууди, изобретатель-самоучка, позже создавший первую
36
американскую фабрику по производству станков для текстильной промышленности. Главными партнерами Лоуэлла были его шурин Патрик Трейси Джексон (внук нищего ирландского иммигранта и сын процветающего делегата континентального конгресса от Бостона), никогда не учившийся в колледже, но сумевший нажить состояние торговлей с обеими Индиями, в двадцать лет начав с должности суперкарго на грузовом судне, и талантливый организатор Натан Эплтон (которого готовили к поступлению в Дартмутский колледж и который вместо этого с пятнадцатилетнего возраста занялся бизнесом). Все трое, казалось, олицетворяли дух предприимчивости Новой Англии.
С точки зрения внешнего мира самым примечательным в уолтемской фабрике было не столько то, что к 1814 году она уже вошла в эксплуатацию, сколько то, что новшество, явно лежавшее на поверхности, заключавшееся лишь в комбинации привычных известных процессов, никого не осенило ранее. Теперь же самая прогрессивная в мире форма организации промышленного производства внезапно обнаружилась на задворках Нового Света.
Вид новых американских фабрик приводил европейских путешественников в изумление. Они ожидали подобия английских фабрик, утопающих в зловонном чаду перенаселенных загнивающих городов. Фабрики же Новой Англии раскинулись на не тронутых человеком землях. Французский экономист Мишель Шевалье, путешествовавший по США в 1830-х годах, был изумлен, увидев «новенькие и свежие, словно декорации на оперной сцене, американские фабрики». В 1837 году контраст между ними и фабриками ее родной Англии поразил Хэрриет Мартино. Правда, заметила она, туриста, путешествующего по Америке, не могут не раздражать современные фабрики, уродующие монументальную красоту природы. Но не следует забывать, что значит для американского рабочего
...иметь жилище и работу там, где вздымаются холмы, а воды кипят и разбиваются о пороги, вместо того чтобы прозябать в глухих пригородах, и где они, их труд не омрачат взор любителя живописной природы. Мне всегда доставляло радость видеть мастеровых за работой в таких местах, как водопад Глена, водопад Дженесси, на берегах бурных рек в долинах Новой Англии. Мне кажется, они не менее способны ловить отблески прекрасного на челе Природы, чем обживающий Запад поселенец... С этой точки зрения Удел бедного ремесленника в сердце нашего английского Манчестера вызывает сожаление. Удел же энергичного труженика в живописнейших окрестностях Шеффилда, пожалуй, ничем не уступит в глазах почитателя
37
природы уделу любого труженика на любой земле. Вот такая счастливая доля и выпала американскому мастеровому.
Двадцатью годами позже английский путешественник Чарлз Уэлд все еще мог восхищаться счастливым следствием американской отсталости в вытеснении энергии воды энергией пара: перспективой «бездымного фабричного городка под сенью итальянского неба». Американский анахронизм — фабрика в глуши — помогал объяснить не только специфику американской фабрики, но и многие иные американские потенциальные возможности наивных новшеств в скованном силой традиций промышленном мире.
5.
ОТ МАСТЕРСТВА К ТЕХНОЛОГИИ: «СОЦИАЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ»
Создатели новой фабрики в Уолтеме — Фрэнсис Кэбот Лоуэлл, Натан Эплтон и Патрик Трейси Джексон — раньше никогда не занимались ни текстильным, ни каким-либо иным промышленным производством. Эпохальные новшества, введенные ими, стали возможны благодаря не столько их познаниям в области техники, сколько их смелости, энергии, гибкости, предприимчивости и в первую очередь организационным способностям. Более того, отсутствие у них прочных традиционных профессиональных навыков практически служит объяснением того, почему фабрики нового типа впервые появились именно в Новой Англии.
В колониальные времена американские ремесленные промыслы концентрировались в Филадельфии. Там работали лучшие портные, лучшие шляпники, лучшие сапожники, лучшие краснодеревщики и мастера по металлу. В районе Филадельфии в основном и оседали иммигранты-мастеровые XVIII века, по большей части выходцы из Германии и стран Центральной Европы. Именно искусству швейцарских и немецких мастеров, едва успевших прижиться в Филадельфии, обязаны происхождением два наиболее ярко выраженных образца американского ремесленного производства — пенсильванская винтовка (позже прозванная «кентуккийской») и конестогский фургон (по названию города Конестога в округе Ланкастер, позже ставший известным под названием «крытый фургон»). Также в районе Филадельфии сконцентрировалось и много квалифицирован
38
ных текстильщиков — прядильщиков и ткачей, производивших в своих маленьких мастерских высококачественные ткани, модную шотландку и рукоделия оригинальных фасонов.
Эти традиции высокого мастерства скорее, казалось, затрудняли, нежели способствовали внедрению новшеств. Так же как и европейская промышленная революция сначала постучалась в двери Англии, но не Франции с ее богатейшими традициями ремесленного производства предметов роскоши, так и американская фабрика, совершая революционный переворот, пришла сперва в Новую Англию, а не в Филадельфию.
С первых своих шагов «американская промышленная система» отнюдь не была триумфом гения американской изобретательности. Почти все основные изобретения, позволившие механизировать процесс производства текстиля, пришли из Англии. И достигали они Америки очень медленно. Вот, например, оборудование для прядения хлопка. С тех пор как Ричард Аркрайт пустил в Англии первую прядильную машину, прошло целых двадцать лет, прежде чем американцы сумели воспроизвести ее — притом более преуспев в контрабанде, чем в технической мысли.
Техническая отсталость Америки не была бы столь очевидной, если бы американцы так упорно не стремились разработать машины, подобные тем, что использовались в Англии. В штатах проводились лотереи для сбора денег на премии первому преуспевшему изобретателю. Законодательное собрание штата Массачусетс даже предлагало субсидировать изобретения. Однако, несмотря на все подобные стимулы, одна попытка за другой кончались неудачей.
Не умея изобрести ничего своего, американцы предпринимали отчаянные попытки импортировать или копировать английские образцы. Однако английские законы возбраняли экспорт производственного машиностроения, включая модели и чертежи станков. Запрещалась даже эмиграция любому квалифицированному рабочему, способному воспроизвести известную ему технику за рубежом. Обитатели же Новой Англии, казалось, все поголовно утратили навыки контрабанды, вносившие столь существенный вклад в становление и развитие их экономики в колониальные времена. Тенч Коукс, ярый общественный деятель из Филадельфии, убедил нескольких лондонских рабочих отлить ему медные модели запатентованных Аркрайтом станков, ио, когда модели уже были упакованы и готовы к отправке за море, британские таможенники обнаружили их в порту.
39
Подвиг, решительно изменивший положение дел, совершил наконец юный английский авантюрист Сэмюел Слейтер, которому повезло в четырнадцатилетием возрасте проходить ученичество у Джедедиа Стратта, партнера Ричарда Аркрайта. Ему исполнился лишь двадцать один к 1789 году, когда он приехал в Нью-Йорк, куда его привлекли объявления американских газет, рекламирующие спрос на современные хлопкообрабатывающие станки. Согласно английским законам, Слейтер не имел права на выезд из страны в силу своей осведомленности о станках Аркрайта, поэтому он уехал тайно, не сказав даже матери. Не смея взять с собой ни чертежей, ни моделей, Слейтер заучил все необходимые данные, положившись на свою феноменальную память. Нью-Йорк разочаровал его отсутствием как деловой предприимчивости, так и мощных гидроэнергетических ресурсов, поэтому Слейтер принял приглашение Мозеса Брауна, торговца-филантропа из города Провиденс, в честь которого назван Брауновский университет, учредить хлопкоочистительную фабрику в штате Род-Айленд. Браун и его зять Уильям Ол-ми сразу оценили возможности, которые раскрывали им познания Слейтера. Они предоставили начальный капитал и дали Слейтеру пятьдесят процентов дохода от производства. Слейтер — исключительно по памяти — соорудил и запустил прядильный станок на двадцать четыре шпинделя. Фирма «Браун энд Олми» преуспела с первых же дней существования.
В самой Англии наниматели могли черпать рабочую силу из большого количества физически здоровых нищих и безработных. Рабочие, навербованные из переполненных домов для бедных, не могли позволить себе разборчивости по части условий труда и найма. В Новой Англии домов для бедных почти не су-ществцвало, рабочим было из чего выбирать, земли были полно, людей не хватало. Еще в 1791 году Александр Гамильтон отмечал эти обстоятельства как препятствующие развитию американской промышленности. Сорока годами позже некоторые европейские путешественники, подобно французу Шевалье, все еще удивлялись тому, что конкуренция среди американских разнорабочих ничуть не снижает их заработную плату. Таким образом, американская промышленность могла привлечь рабочую силу только за счет оттока из других отраслей экономики либо за счет притока на рынок труда новых трудовых ресурсов.
Такие сторонники промышленного развития Америки, как Александр Гамильтон, с самого начала были озабочены тем, чтобы рост фабричного производства не подорвал основы образа жизни сельской Америки, отвлекая оттуда основную рабочую
40
силу. Как отмечал сам Гамильтон, единственными рабочими руками, которые могли уступить американские фермы, оставались женщины и дети. Первая хлопкоочистительная фабрика фирмы «Браун энд Олми» в Провиденсе, чем особенно гордился сам Мозес Браун, поначалу совсем не отвлекала работоспособных мужчин из других производств. Напротив, привлекая новые трудовые ресурсы, фабрика обеспечивала «чуть ли не повсеместную экономию рабочей силы страны». Первый рабочий контингент фабрики состоял из семи мальчиков и двух девочек в возрасте от семи до двенадцати лет. Однако находить достаточное количество женщин и детей даже для укомплектования этой фабрички в Провиденсе удавалось недолго. Тогда Слейтер обратился к традиционным английским методам, привлекая целые семьи жить в фабричных домах. При подобной «семейной» системе каждый член семьи старше семи лет уже работал на фабрике. Эти методы привились и стали преобладающими в Род-Айленде, Коннектикуте и южном Массачусетсе, где начали складываться условия жизни, весьма схожие с положением рабочего класса в Англии в 1844 году, столь ярко описанным Фридрихом Энгельсом.
В некоторых местах наиболее характерно проявился американский способ вербовки фабричной рабочей силы, который воспламенил воображение американцев и повлиял на их представления о классах общества: а что, если Америке удастся обзавестись фабриками, но при этом обойтись без «фабричного класса»? Подобная возможность, оставшаяся чистейшей воды фантазией в Англии, казалась вполне реальной в Америке в силу широкого выбора работ по найму, благосостояния населения, дешевизны земельных угодий и относительной молодости американских городов, не успевших еще обзавестись трущобами.
Посещая в 1810 — 1812 годах Англию, Фрэнсис Кэбот Лоуэлл восхищался текстильной промышленностью Ланкастера, но условия жизни нового класса фабричных рабочих привели его в ужас. Лоуэлл и его партнеры решительно не желали заставлять Новую Англию расплачиваться подобной ценой за промышленный прогресс. Натан Эплтон вспоминал:
Рабочие промышленных городов Европы отличались особо низким уровнем интеллектуального развития и морали. Поэтому возник вопрос, который подвергли серьезному изучению: была ли такая деградация следствием условий данного рода занятий или каких-то других причин? Трудно было понять, почему условия труда именно данной профессии столь сильно от
41
личались по своему воздействию на личность по сравнению с другими профессиями.
В то время был низкий спрос на женский труд, поскольку усовершенствованные механизмы вытеснили надомный труд. Именно здесь для Новой Англии лежали резервы трудовых ресурсов — среди людей грамотных и добродетельных.
Трудно было представить, чтобы хорошие условия труда могли способствовать разрушению личности. Самыми существенными гарантиями таких условий стали общежития, создававшиеся за счет компаний и находившиеся под наблюдением респектабельных матрон; кроме того, были созданы все возможности для отправления религиозных обрядов. В этих условиях дочери респектабельных фермеров охотно нанимались на фабрики на некоторое время.
Так выглядела «уолтемская», или «лоуэлловская» система, иногда именуемая «пансионной». Основывалась она на убеждении, что в Новой Англии не существует и не должно существовать постоянного класса фабричных рабочих. Уолтем и Лоуэлл стали показательными общинами, подтверждающими горделивые утверждения предпринимателя Новой Англии, что его новая система «превратила население, занятое в нашем промышленном производстве, в чудо света». Посетив эти фабрики в 1835 году, Хэрриет Мартино, дочь фабриканта из Норвегии, опасалась, что любое правдивое их описание соблазнит большинство английских рабочих перебраться в Новый Свет. Чарлз Диккенс, отнюдь не испытавший симпатий к чему-либо американскому, объездил Новую Англию в 1842 году и не мог сдержать восхищения, описывая контрасты с английскими фабричными городами как различие «между Добром и Злом; живительным светом и мертвящей тьмой».
Счастливые общины хорошо одетых молодых дам, живущих в просторных домах с верандами и зелеными жалюзи, проводящих свободное от работы время в церквах, библиотеках и лекционных залах, никоим образом не служили олицетворением нового, связанного со становлением промышленности, образа жизни. Даже в Америке. В Новой Англии, разумеется, хватало бездушных фабрикантов, считавших рабочих лишь придатками своих машин, однако же надежда на создание фабрик без постоянного класса фабричных рабочих широко захватывала умы и будила воображение.
Уже в 1856 году Джон Эмори Лоуэлл, племянник Фрэнсиса Кэбота Лоуэлла, горделиво провозглашал образ жизни американской фабрики неким принципиально новым явлением в жизни человечества. Девушка, занятая на фабрике, говорил он,
42
вовсе не стремится остаться рабочей до гробовой доски. Она всего лишь приходит сюда на несколько лет, чтобы справить приданое либо помочь получить профессиональное образование брату. «Таким образом, дело можно вести без создания постоянно занятой в нем группы населения. Рабочие не образуют более обособленную касту, наследуя от поколения к поколению малоподвижную работу в перегретых фабричных цехах, но круговоротом поступают из среды здорового и благочестивого населения страны». Этот идеал «социального круговорота» взамен статичного класса — идеал людей подвижных, а не бредущих всю жизнь по избитой колее—сложился естественным путем и расцвел в не разделенном сословными барьерами мире, где все непривычное считалось нормой. Ушел сложившийся в Старом Свете образ прилежного бедняка. Неопределенность классовых перегородок стала в еще большей степени идеалом Америки, чем даже идеал равенства.
В начале XIX века труд рабочих в Америке по большей части оплачивался лучше, чем в Англии. Однако ситуация в Америке складывалась в основном в пользу неквалифицированной рабочей силы: в 1820-х годах, например, их заработки были на треть, а то и наполовину выше, чем в Англии, в то время как заработки высококвалифицированных мастеров едва превышали английские, а то и находились на том же уровне. Таким образом, в десятилетия, предшествовавшие Гражданской войне, мастерство ценилось в Америке куда меньше, нежели в Англии. Общая нехватка рабочих рук, похоже, действовала обычно в пользу наименее квалифицированной части работников наряду с другими факторами, такими, как изобилие земли, обширная географическая и социальная мобильность, общая грамотность и отсутствие организованных гильдий. Сочетание всех этих факторов способствовало подрыву экономической и социальной стимуляции к овладению мастерством. Стоило ли глубоко осваивать профессию, которую рабочий надеялся и собирался вскоре оставить? Американцы и американки, уже обратившие на себя внимание мира уровнем грамотности и интеллектуального развития, отнюдь не отличались профессионализмом.
Цель «системы взаимозаменяемости», объяснял сам Илай Уитни, состояла в том, чтобы «заменить эффективной и точной работой машины ту квалификацию художника, что обретается лишь долгой практикой и большим опытом, навык, не очень широко распространенный в нашей стране». Никем не провозглашенная технологическая революция проложила новый путь не
43
только производству продукции, но и производству средств производства. Изменение простое, но с далеко идущими последствиями и маловероятное в Европе, богатой традициями, установлениями и традиционными ремеслами.
В американской промышленности произошло то же, что и в иных областях жизни страны. Скудость юридических знаний не привела к скудости законодательства и недостатку законников (очень скоро мы стали страной с наибольшим числом юристов и наиболее разветвленным законодательством в мире), но, напротив, способствовала становлению юриспруденции и новой концепции права; недостаток специализированного медицинского образования вскоре привел к созданию новой концепции медицины и появлению нового типа медика; отсутствие богословского образования выразилось в появлении нового типа священнослужителя и новых представлений о религии. Также и недостаток мастерства создал предпосылки для нового способа производства товаров, в мастерстве почти не нуждавшегося. Так закладывались основы новых представлений о материальном изобилии и потреблении, впоследствии названных американским уровнем жизни.
Технологическая революция открыла почти каждому самые широкие возможности выпускать все, что угодно! И вот что странно: чем сложнее и лучше требовалось изготовить агрегат, тем более экономичным и эффективным оказывалось новое технологическое решение. Стремительно развиваясь, этот новый американский способ производства разжигал у людей стремление обладать вещами, неведомыми ранее и в небывалых количествах.
Центром происходящего служила Новая Англия. Складывавшейся системе первоначально суждено было называться «системой унификации», или «системой Уитни», ибо Илай Уитни сыграл в ее становлении решающую роль. Но хотя европейцы именовали систему «американской», изобрели ее не в Америке и изобрел ее не Уитни. Более чем десятью годами ранее Джефферсон наблюдал эту систему во Франции, однако французы, столкнувшись с трудностями, предпочли проверенные временем навыки сомнительным экспериментам. Также и в Англии Джереми Бентем, его брат Сэмюел и изобретательный Марк Изамбар Бранел наладили массовый выпуск деревянных талей для военно-морского флота, стремясь занять делом праздные руки заключенных и докеров. Но и в Англии такие нововведения не могли прижиться десятилетиями.
44
Система унификации была сама простота, однако, чтобы осмыслить ее, требовалось вырваться из освященной веками избитой колеи. Американское фабричное производство, описанное в предыдущей главе, просто-напросто сводило различные производственные процессы под одну крышу. Система унификации Уитни была более новаторской: она изменила роль рабочего и в корне трансформировала само понятие квалификации. В Европе изготовление сложного механизма, будь то ружье или часы, оставалось целиком в руках одного высококвалифицированного мастера. Оружейник или часовщик сам делал и собирал все детали ружья или часов. С незапамятных времен каждое ружье или каждые часы являлись штучным товаром ручной работы, отмеченным печатью мастера. При необходимости ремонта его возвращали либо изготовителю, либо другому мастеру, который изготавливал нужную деталь. Самый что ни на есть очевидный факт: производство ружей и часов непосредственно зависело от количества квалифицированных оружейников и часовых дел мастеров.
Новая система унификации разложила процесс изготовления ружья, как и любого иного сложного механизма, на процессы раздельного изготовления комплектующих деталей. Таким образом, каждая деталь могла изготавливаться независимо и в больших количествах рабочими, не обладавшими достаточной квалификацией для сборки всего механизма в целом. Массовое производство деталей было налажено по единому стандарту, позволяющему каждую из них установить на любом из производимых механизмов, а в случае поломки произвести замену без доводки и подгонки.
Мы не знаем, как сам Уитни пришел к столь простой и революционной идее — величайшему трудосберегающему новшеству в истории человечества, позволяющему обойтись без мастерства. Вероятно, его осенило, когда он искал способы массового производства хлопкоочистительных станков. Впервые новый способ был успешно опробован при массовом производстве мушкетов: в бурную эпоху европейских наполеонрвских войн новое государство ощущало потребность в оружии. В 1798 году правящая во Франции революционная диктатура угрожала войной не готовым к ней Соединенным Штатам. Большая часть мушкетов, с помощью которых американцы одержали победу во время своей Революции пятнадцатью годами ранее, была изготовлена во Франции либо в Других европейских странах. Поскольку в Соединенных Штатах ружей в большом количестве никто не производил, то
45
страна и оставалась практически безоружной. Ужесточение Закона о натурализации и печально известный Закон об иностранцах и подстрекательстве к мятежу являлись симптомами истеричности, порожденной неуверенностью в собственной безопасности.
В марте 1798 года президент Джон Адамс заявил, что дипломаты потерпели крах. И вскоре, уже 1 мая, Илай Уитни из штата Коннектикут написал министру финансов, предлагая свое оборудование, гидроэнергетические источники и рабочих (нанятых было изготавливать хлопкоочистительные станки) для производства мушкетов. Уитни подписал договор на поставку десяти тысяч мушкетов — фантастического количества по тем временам — в течение двадцати восьми месяцев за 134 000 долларов. То есть средняя стоимость одного мушкета лишь на несколько долларов превышала стоимость импортных моделей. Вероятно, это был первый контракт по-американски на массовое производство продукции.
Примечательно, что в производстве оружия Уитни опыта не имел. Вряд ли он вообще тщательно изучал мушкет чарлвилль-ской модели, который подрядился изготавливать. Будь он мастером-оружейником, умей он испытывать наслаждение, созерцая и держа в руках изящно сделанное и инкрустированное ружье, он никогда не дерзнул бы нарушить веками сложившиеся в ремесле устои, согласившись на массовое производство оружия. Уитни же знал одно: предложить он мог не мастерство, но умение, общие организаторские способности наладить производство чего угодно.
Отведенные ему сроки Уитни использовал на отработку своего нового способа производства. Двадцать восемь месяцев — срок контракта на поставку им оружия — истекли, но ни одного мушкета он еще не поставил. Все это время Уитни строил и оснащал свою новую оружейную фабрику в Милл-Роке близ Нью-Хейвена. В январе 1801 года, остро нуждаясь в средствах и моральной поддержке против влиятельных особ, уже готовых списать его как шарлатана, он отправился в Вашингтон, где устроил яркую демонстрацию, убедившую президента Джона Адамса, вице-президента Джефферсона и членов кабинета в практичности и эффективности разработанной им «системы взаимозаменяемости». Разложив перед ними мушкет и набор запасных деталей к нему, он предложил каждому выбрать наугад деталь и собственноручно проверить, можно ли соединить ее с любой другой, собирая затвор мушкета. Результат оказался ошеломляющим. «Он изобрел станки и формовки для изготов
46
ления настолько стандартных деталей затвора, — сообщал Джефферсон, — что если разобрать 100 затворов на части и как следует перемешать, то 100 затворов все равно можно собрать из первых попавшихся под руку деталей... Можно собрать отличные затворы, не прибегая к помощи оружейника».
Теперь Уитни попросил отсрочки на шесть месяцев для поставки по контракту первых 500 мушкетов и еще на два года — для поставки остального количества. Все его просьбы были удовлетворены, в том числе и еще один аванс в 10 000 долларов, наряду с согласием правительства выплатить за три месяца дополнительные 5000 долларов, и еще по 5000 при поставке каждой партии в 500 мушкетов. Хотя по новому договору сумма аванса утраивалась, а сроки поставок удваивались, Уитни в целом так и не сумел выполнить заказ к установленному времени. Лишь к январю 1809 года, десять лет спустя после подписания первого контракта, Уитни поставил последний мушкет из оговоренных десяти тысяч. Работа, поглотившая десять лет, принесла ему всего лишь 25 000 долларов дохода.
Однако Уитни обосновал наконец и успешно применял на практике основополагающий принцип американского массового производства, без которого был бы невозможен американский уровень жизни. Это был триумф организации. Может, первоначальная концепция принадлежала и не ему — в Новой Англии в ту же пору экспериментировали в этой области и другие. Всего лишь в двадцати милях от его фабрики, в Миддлтауне, Симеон Норт, в основном промышлявший производством кос, подписал в 1799 году свой первый контракт с военным министерством на поставку в течение года 500 седельных пистолетов. Один из его последующих контрактов (на поставку 20 000 пистолетов в 1813 году) особо оговаривал: «Комплектующие детали пистолетов должны настолько соответствовать друг другу, чтобы любая часть или деталь одного пистолета подходила любому другому пистолету из двадцати тысяч». Сыну Симеона, Силаху Норту, молва приписывает изобретение формовки, в которую любой рабочий мог залить металл, дабы получить изделие требуемой формы.
И еще один аспект заслуживает здесь внимания. Существенную роль играли правительственные субсидии. Широкие возможности, позволяющие правительству вкладывать капитал и ждать результатов вложений, позволили Уитни построить фабрику и оснастить ее для нужд массового производства. Этот первый величайший триумф американского предпринимателя
47
состоялся с помощью и при поддержке государства — но без вмешательства государствав управление.
Америка уже начинала превращаться в страну спасения человека от материальной расточительности. Универсальность Новой Англии стала способствовать отныне формированию по меньшей мере двух великих и прочных тенденций американской цивилизации.
Специализация машин, но не людей. Там, где не хватало рабочих рук, где от человека требовалось умение легко переключаться с одной работы на другую, отсутствие у него необходимой квалификации приходилось восполнять машине. Система взаимозаменяемости Уитни, как он сам объяснял, была «планом, неизвестным в Европе, главной направленностью и целью которого служило заменить точными и эффективными машинными операциями артистизм ремесла, накапливаемый только лишь большим опытом и долгой практикой, которых в нашей стране практически не существует». Неспециализированная рабочая сила вооружалась специализированной техникой. «Одна из моих главных задач,—писал Уитни,—создать станки, способные автоматически выполнить работу, придавая каждой детали нужную форму». Американской технологии предстояло превратиться в опору не знающего узкой специализации человека: универсального и мобильного американца. И Новая Англия служила здесь первопроходцем.
Общее развитие прежде всего. Когда в Старом Свете рабочего называли неквалифицированным, подразумевалось, что он не имеет специальности, и труд его не дорого ценился. В Америке же новая система производства уничтожила различие между квалификацией и ее отсутствием. Незнание ремесла более не мешало человеку участвовать в производстве сложных изделий. Старые ремесла начали отмирать. В Америке «гуманитарное» — то бишь неспециализированное — образование не служило более доказательством принадлежности к знати, поскольку не показывало более, что его обладатель был свободен от необходимости иметь доходное занятие. Неспециализированное образование приносило пользу всем.
Англичане, наблюдавшие за жизнью Америки середины XIX века, восхищались той легкостью, с которой американские рабочие меняли работу, путешествуя по всей стране. Их изумляла общая свобода от страха перед безработицей, размытость соци
48
альных структур, возможность перехода из одного класса в другой. Эти факторы наряду с другими, считали они, объясняют отсутствие профсоюзов и забастовок и восприимчивость американских рабочих к новым методам. Даже имевший ремесло иммигрант со временем находил затруднительным оставаться в прежней наезженной колее. Если в Европе соседние страны ревностно хранили друг от друга свои секреты, то здесь рабочие из Англии, Франции и Германии свободно общались, делились опытом и учились друг у друга.
В новоанглийской системе производства, которой суждено было стать всеамериканской системой, ценились широта ума, грамотность, гибкость и стремление к познанию. По мере того как производственное оборудование укрупнялось, усложнялось, становилось более дорогим и требовало большей степени интеграции, от рабочих требовалось все больше и больше внимательности и способности к обучению. Восприимчивый ум оказывался ценнее квалифицированных рук. Английские инженеры и промышленники отмечали, что в Америке складывается новый тип рабочего. И с прискорбием констатировали, что самые квалифицированные английские механики проявляют такую «робость, проистекающую из традиционных представлений и привязанности к старым методам даже среди наиболее одаренных из них, что оказываются далеко позади». При американской системе, считали они, «успех зависит не от мастерства, но целиком и полностью от сообразительности». Нуждаясь в людях толковых и предприимчивых, Новая Англия приступила к перестройке системы образования, которая закладывалась два столетия назад на принципах догматической целеустремленности. Подобные же изменения претерпевало отношение Новой Англии к праву, а в результате и ко всей проблематике социальных перемен.
6.
ОБЩЕЕ ПРАВО КАК ПРИНЦИП АМЕРИКАНСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Новая Англия создала столь же ярко выраженную американскую систему права, сколь и систему производства. К началу Американской революции не было опубликовано ни одного тома норм американского права. Законодательные акты носили разрозненный характер и были плохо оформлены. Не существовало ни одного специализированного научного труда
49
по вопросам права, не говоря уже об авторитетном обзоре. Юрист-самоучка и не имевший профессиональной подготовки судья были повсеместным явлением. К началу же Гражданской войны все коренным образом изменилось. Новая Англия наметила очертания великих преобразований в одном из невоспетых творческих порывов современной правовой истории, сравнимых с великой эпохой римского права при Антонинах или с наполеоновским преобразованием Гражданского кодекса.
Отнюдь не случайно динамичный центр американской коммерции и промышленности стал также и центром американской юриспруденции. Еще много веков назад Платон отметил, что морская торговля приумножает законы. В последующую эпоху великими инициаторами правотворчества выступают энергичные нации. Римляне, французы, англичане — все они создавали лучшие работы в области права в периоды широкого, имперского размаха своей деятельности. Поэтому неудивительно, что ныне законодателем для новой американской нации становится Новая Англия.
Почву для этого подготовила пуританская традиция в ее своеобразной новоанглийской форме. Сердцем конгрегационалистской церкви служила кафедра, а не алтарь, ибо пуритане почитали Слово. Их теология, как и все их мышление, по большей части строилась на правовых концепциях; ее теологический республиканизм основывался на «завете», то есть на понятии сугубо правовом. Колонисты Новой Англии всеми силами пытались жить одновременно и по закону Божьему, и по закону Англии. С самого начала, с первого же закона, учредившего в Новой Англии школы, община Массачусетского залива наставляла своих граждан изучать и понимать законы Господа. Частые обвинения в религиозной ереси, в нарушении своих собственных законов и законов Англии приучили их держаться настороже. Снова и снова им приходилось доказывать обоснованность и законность своих действий. Американская революция, возглавленная в Новой Англии, как и в других штатах, людьми, именовавшими себя юристами, сама по себе послужила защитой и доказательством их законных прав.
Главным достижением юристов Новой Англии, так же как и ее бизнесменов и промышленников, стала работа по использованию и организации. Они скорее умели творчески заимствовать, нежели изобретать смелые и оригинальные идеи. Сырье и даже техника изготовления новой американской правовой системы не были американского происхождения. Гибкость шла рука об руку с колониализмом, позволяя Новой Англии сохранять главенст
50
вующее положение в сохранении английской правовой традиции в Новом Свете. Новая Англия подогнала традиционные английские законы к нуждам нового общества, меняющегося с беспрецедентной скоростью, и, что не менее важно, способствовала введению совершенно иной правовой традиции.
За годы политической революции и быстрых социальных перемен в Западной Европе первой половины XIX века наблюдалось широкое движение в пользу изменения законов, отмены устаревших технических и профессиональных монополий. Многих юристов и правоведов взволновали впечатляющие достижения наполеоновского кодекса 1804 года. Резкий голос Джереми Бентема, одного из самых оригинальных и мрачных умов столетия, доносился даже до России и восточных стран, призывая к созданию на принципах науки обновленных унифицированных кодексов. Бентем призывал нас «закрыть наши порты перед общим правом, как мы закрываем их перед чумой». С 1811 по 1817 год в письмах президенту Мэдисону, губернаторам штатов и американскому народу Бентем щедро предлагал составить полный кодекс законов для США. Некоторым американцам предложение показалось привлекательным, однако трезво мыслящих обитателей Новой Англии столь привычное средство не соблазнило. «Англия помешалась на кодификации... — восклицал в 1827 году Джордж Бэнкрофт. — Сохрани нас, Боже, от этой панацеи!»
С 1800 по 1823 год юристы и судьи Массачусетса уже свели воедино и подвергли ревизии действовавшие у них законы. Приняв Пересмотренные Уложения (разработаны в 1823 — 1824 годах, действительны с 1836 года), обогащенные опытом Нью-Йорка, Массачусетс сумел систематизировать и уточнить свои писаные законы. Штат не отказывался от своего прошлого. Целью, как отмечал наблюдатель-современник, ставились лишь «пересмотр и упрочение законов... дабы включить в кодекс обновленные решения, принимаемые в прошлом для создания правовых норм». Это служило своего рода прививкой против мании кодификации. Пересмотренные Уложения штата Массачусетс 1836 года в свою очередь создали модель, которой придерживались другие штаты, доказывая, что и их законы могли обновляться, не подвергаясь полному пересмотру.
В эпоху Американской революции неискушенным американцам помогали ориентироваться в дебрях английской юриспруденции «Комментарии к английскому законодательству» Блэкстоуна (1765 — 1769), первый доступный и удобочитаемый справочник по правовой системе метрополии и одна из первых
51
книг типа «сделай сам», впоследствии столь популярных в стране. Но Блэкстоун все же описывал систему английскую, а не американскую. Она вполне годилась для колонистов, стремящихся подражать метрополии, но никак не для энергичной новой нации, испытывавшей потребность в становлении собственных институтов.
Первый успех на этой ниве стяжал Натан Дейн, массачусетский юрист, в 1778 году закончивший Гарвардский колледж. Дейн дважды участвовал в работе комиссий, создаваемых для пересмотра законов его штата. Его «Общее краткое изложение американского законодательства» (8 томов, 1823) послужило первым всесторонним исследованием законодательства новой нации. Дейн выполнил работу, строго придерживаясь великой английской традиции сжатого, сокращенного изложения положений общего права, позволявшей свести мириады прецедентов в практическую действенную систему для повседневной деятельности. Однако «американский Блэкстоун» появился не в Массачусетсе, но в Нью-Йорке, втором великом центре законотворчества, когда Джеймс Кент (выпускник Иейлского университета, 1781) опубликовал свои «Комментарии к американскому законодательству» (4 тома, 1826 — 1830). Книга Кента стала классическим трудом американской юриспруденции, выдержав шесть прижизненных и не менее восьми посмертных изданий. И все же именно Дейн оказал решительное влияние на постановку правового образования в Массачусетсе, придав тем самым юристам и американскому праву четко выраженный характер.
Новая Англия служила естественной средой обитания американской юридической школы. Первое юридическое высшее учебное заведение основал около 1784 годаТэппинг Рив в Литчфилде, штат Коннектикут, где пятью годами позже Эфраим Кирби опубликовал первый том статей американских законов. Юридическая школа в Литчфилде приобрела всеамериканскую известность и положила начало твердо прижившейся в стране традиции профессиональной юридической подготовки наших общественных деятелей. Среди первых ее выпускников были представители всех штатов, в том числе Аарон Бэрр из Нью-Йорка, Джон Кэлхун из Южной Каролины, Горас Манн из Массачусетса, Джордж Мейсон из Виргинии и Леви Вудбери из Нью-Гэмпшира. В начале XIX века Литчфилд выпускал от 10 до 55 человек в год. До своего закрытия в 1833 году Литчфилдская школа выпустила более тысячи человек, в том числе и основателей новых юридических школ в Нортгемптоне и Дедеме, штат Массачусетс; в Цинциннати, штат Огайо; в Огасте, штат Джорд
52
жия, и в Олбани, штат Нью-Йорк. Но, доказав практическую возможность создания юридических школ в Америке, Литчфилд-ская школа не смогла дать модели американской юридической подготовки (нормальный курс обучения студентов из других штатов ограничивался всего лишь одним годом).
До 1829 года в Гарварде обучалось больше студентов-юристов, чем в Литчфилде. Но в том году имело место событие, сыгравшее решающую роль в становлении американской правовой традиции: из гонораров, полученных за «Общее краткое изложение...», Натан Дейн предложил Джосайе Куинси, заступавшему на пост президента Гарвардского университета, 10 000 долларов (позже он увеличил сумму до 15 000) на учреждение ставки профессора кафедры юриспруденции с условием, чтобы первым профессором стал Джозеф Стори, в то время член Верховного суда Соединенных Штатов. Второе условие Дейна заключалось в том, что новый профессор будет читать лекции по «аспектам обычного права и права справедливости, действующего на всей территории федеральной республики». Профессору надлежало уделять особое внимание тем областям права, которые имели характер «наиболее важных с общенациональной точки зрения, то есть... сходных с законами других штатов нашего Союза, что сделает лекции о законодательстве данного штата полезными и для других». Этот дар способствовал становлению американской правовой системы как института, существовавшего за рамками законодательства отдельных штатов. Без такой общеамериканской правовой системы, детально разработанной и изложенной в юридической литературе, свободная торговля между нашими штатами и промышленное единство нашей страны могли оказаться невозможными. Дейна больше волновала судьба страны, нежели профессии. Он ставил перед собой задачу не столько подготовки американских юристов, сколько разработки основ жизнеспособного американского права.
В Массачусетсе, где всего лишь два века назад пуритане Новой Англии неуклонно стремились применять законы Священного писания для создания Сиона в пустыне, их потомки проявили исключительную энергию, дабы развить и применить законодательство Новой Англии для создания новой нации. За десять лет до этого, в 1816 году, Гарвардская корпорация (только что перешедшая из рук священнослужителей в руки юристов) учредила первую в Гарварде ставку профессора права. И когда Джозеф Стори стал душою Гарварда, перестройка юридического образования и формирование американской правовой
53
системы пошли полным ходом. За пятнадцать лет новорожденное американское право обрело свое собственное лицо.
Джозеф Стори, совмещавший работу в Верховном суде и преподавание в Гарвардской юридической школе, показал себя человеком незаурядного дарования. Стори выпускал в среднем по одному тому в год юридических комментариев по широчайшему кругу правовых проблем — от освобождения под залог, делового партнерства, посредничества, оборота векселей, долговых обязательств и исков до конституционного права, законодательных противоречий и норм общего права. Книги, вполне научные и детальные, не были сухо педантичными. Напротив, написанные смело и широко, они энергично и конструктивно толковали положения законодательства.
Обзор законодательства, ранее созданный Кентом в доступной широкому читателю форме, доказал существование американского права. Стори же разработал методику приведения его в действие. Если его трактаты и не охватывали все темы без исключения, то в них нашли освещение те вопросы коммерции и промышленности, которые претерпевали наиболее быстрые изменения, в том числе законодательные противоречия, конституционное законодательство и право справедливости — наиболе важные для растущего федерального государства. Книги Стори были результатом преподавательской работы, в основу их ложились лекции, которые он читал в Гарварде. Вплоть до начала следующего века им предстояло оставаться основой правоведения в стране. Стори обладал гениальной способностью находить обобщающие принципы в бесконечных вереницах старых английских судебных дел и затем трактовать их применительно к новым условиям, тем самым адаптируя старые положения общего права к американским проблемам. Одним из наиболее блестящих его достижений явилось введение в доктрину американского общего права сложных и обособленных английских концепций «права справедливости». Показывая, как удачно эти концепции вобрали в себя мудрость римского права, Стори внес немалый вклад в обеспечение гарантий будущего развития Соединенных Штатов согласно нормам английского общего права.
Различием между английским и американским правом, представлявшим наибольшие трудности, служило то, что Англия располагала единой юрисдикцией, единой общенациональной законодательно-судебной системой. В Америке же каждый штат имел свою собственную. Теперь труды Стори и других ученых выявили весьма ощутимое единообразие, ана
54
лизируя судебные решения, вынесенные в разных штатах. Юридическая школа, изобретенная Новой Англией, создала форум для воистину общенациональной правовой системы. Студенты Гарварда, съехавшиеся со всех концов страны, искали общие принципы, выходящие за рамки отдельных штатов. Этот поиск «общеамериканского законодательства» практически и породил его. Таким образом, американская юридическая школа оказала в конечном счете влияние на формирование общенационального мышления, сравнимое с тем, что на протяжении веков оказывали на представителей правящих классов Англии Итон и Хэрроу, Оксфорд и Кембридж.
Основы общего права во многом закрепились и приобрели доминирующее значение в Соединенных Штатах благодаря новаторским работам Стори. Однако общее право по-прежнему оставалось в основном правом, интерпретируемым судьей. Трактовка зависела от прецедента, и до опубликования в печати свода судебных решений по коренным правовым вопросам нормы американского общего права не могли прочно установиться. И в этой области сослужила службу Новая Англия, и в частности Массачусетс. На протяжении полувека мнения и взгляды целой плеяды исключительно плодотворно работавших судей — членов верховного суда этого штата утвердили независимый характер, способность к энергичному развитию и верность основополагающим принципам американской правовой системы.
Первым в этом ряду был Теофилиус Парсонс, ставший председателем верховного суда в 1806 году и известный в свое время как «титан юриспруденции». Когда он вступил в должность, штат Массачусетс располагал одним-единственным сборником опубликованных судебных решений. Взгляды же Парсонса, выработанные за семь лет пребывания его в должности верховного судьи, нашли отражение в девяти томах, составивших первый монументальный труд по американскому общему праву. Исходя из английских прецедентов, английских доктрин и неписаных массачусетских норм колониального периода, Парсонс составил первый объемный и широко цитируемый свод прецедентов американских. Он представлял собою истинного сына Новой Англии как в своих чувствах к местным обычаям, так и в своем стремлении следовать традициям купечества, особенно в области коммерческого, страхового и морского права. Работу Парсонса продолжил его преемник на посту верховного судьи Айзек Паркер (профессор права в Гарварде в 1816 году и автор первоначального проекта учреждения там юридической школы в 1817 году).
55
Величайшим судьей-законотворцем века — и во многом основателем американской правовой системы — стал следующий верховный судья штата Массачусетс, Лэмюел Шоу. Ни в качественном, ни в количественном отношении его труд не имеет себе равных.
Выражаясь словами Леонарда Леви, его биографа, Шоу «приручил английское общее право к повседневным нуждам нашего бытия». За тридцать лет службы верховным судьей (1830 — 1860), Шоу вынес 2200 зарегистрированных протоколами судебных решений, которые охватывали почти все аспекты права и которых хватило бы на двадцать томов. Решения Шоу по сей день широко цитируются там, где живы основы общего права. Мало кому из судей доводилось создать великую правовую систему столь решительно и надолго.
24 августа 1830 года, в тот же день, когда Шоу стал председателем верховного суда штата, прошли первые успешные испытания американского паровоза. Смелая трактовка Шоу положений общего права применительно к нуждам железнодорожного транспорта служит лишь одним примером его готовности реагировать на требование времени. Первые железные дороги создали целый ряд проблем, теперь уже давно забытых, далеко выходивших за рамки средневекового общего права. Так, например, все прежние дефиниции дорог, частных ли, общественных ли, подразумевали наличие путей, по которым каждый, внеся плату, имел право передвигаться на собственных транспортных средствах. Раннее железнодорожное законодательство подразумевало сохранение данного принципа, считая (как припоминал позже Шоу) железную дорогу не чем иным, как «железной магистралью, по которой частным лицам и транспортным компаниям предстояло... провозить свои собственные вагоны и повозки, внося плату корпорации лишь за пользование дорогой». Издревле существовавшие транспортные артели (возчики, например) получали и доставляли груз непосредственно к дверям клиента. Старые нормы общего права возлагали поэтому на перевозчиков ответственность за любую пропажу или порчу перевозимого имущества, до тех пор пока оно не выгружалось по месту доставки. Перевозчиков практически заставляли страховать перевозимый груз, поскольку клиент платил за гарантированную доставку от места отгрузки до места получения. Более того, контингент служащих они держали немногочисленный, травмы служащим особенно не угрожали, а опасностей можно было избежать, руководствуясь собственным здравым смыслом.
56
К железным же дорогам все эти концепции оказывались неприменимыми. Ясно же: разреши кому попало ездить по железнодорожной колее на собственном транспорте, и хаоса и аварий не оберешься. Да и не могла железная дорога, подобно остальным, извиваться по всей округе. Напротив, полноценно выполнять свои функции она могла, лишь проходя кратчайшим прямым путем. Она обладала известными свойствами природного монополизма как в возможностях использования, так и в требуемых для ее прокладки направлениях. Исходя из необходимости решений вновь возникающих проблем, Шоу предложил важнейшую концепцию, выраженную в «праве государства на принудительное отчуждение частной собственности». Это американское правовое новшество наделяло государство полномочиями выкупать частную собственность для общественного пользования, что включало теперь и сферу действия железных дорог. Таким образом, Шоу признал следующий факт: хотя железнодорожные компании и использовали на дорогах только свой собственный подвижной состав, дороги на практике являлись новым видом общественного транспорта. Данная идея легла в основу разработанной Шоу новой индустриальной концепции «предприятий общественного пользования». Шоу также юридически обосновал неприменимость прежних норм ответственности, первоначально разработанных для владельцев фургонов и иных «транспортных средств», к железным дорогам, «где рельсовые пути и конечные пункты доставки привязаны к местности». Отныне железнодорожным компаниям вменялось в обязанность содержать вокзалы и багажные склады для удобства пассажиров. И хотя им по-прежнему приходилось проявлять разумную заботу о грузах, страховщиками их они более не являлись. Шоу разработал также правило, регулировавшее отношения между сослуживцами в том плане, что наниматель освобождался от ответственности за травму, полученную при исполнении служебных обязанностей одним его служащим по вине другого. Шоу исходил из того, что в нынешних условиях служащим было виднее, как избежать проявлений халатности со стороны их коллег, чем работодателю. Все эти решения внесли лепту в ускорение строительства и повышение доходности железных дорог.
Когда Шоу лишь заступил на пост председателя верховного суда в 1830 году, торговцы Бостона почувствовали угрозу конкуренции со стороны канала Эри, только что открывшего водный путь из Нью-Йорка на запад страны. Железные дороги
57
переживали период становления, будущее их казалось сомнительным. Предложение о строительстве железной дороги от Бостона к реке Гудзон было охарактеризовано бостонским «Курьером» (27 июня 1827 года) как «предприятие столь же бессмысленное, что и строительство железной дороги от Бостона до Луны». В те дни, как позже вспоминал Шоу, память о «разорительном» для частных граждан Массачусетса помещении капитала в строительство магистралей и каналов «крайне затрудняла новые попытки пробудить у состоятельных лиц доверие к мероприятиям, способным улучшить жизнь страны». Осознавая важность для общества железных дорог, Шоу был преисполнен решимости не дать устаревшему законодательству помешать их развитию. Благодаря пониманию необходимости создать правовые нормы для развития железных дорог Шоу сумел превратить общее право в мощного союзника промышленного развития. Так председатель верховного суда штата Массачусетс Шоу и его коллеги дали стране железнодорожный кодекс.
Величайшим достижением юристов Массачусетса стало их отношение к социальным проблемам с упором на поиск конкретных решений постоянно меняющихся и непредсказуемых проблем, не поступаясь при этом принципами. Они не гнались за абсолютом и не тратили запас мысли на доктринерские дебаты. Однако динамизм права Новой Англии рос благодаря приверженности процедуре и форме. Печатный текст, письменное слово широко использовались для описания, определения и ограничения каждого вносимого изменения. Перемены не могли представлять собой угрозу, коль скоро так пристально наблюдались и технически контролировались.
В Новой Англии проблемы рассматривались по одной, а не все сразу. «Первый гудок паровоза на железной дороге, — вспоминал один из коллег Шоу по верховному суду, — провозгласил революцию в правовых нормах, касающихся залогов и грузопе-ревозчиков». Все по порядку! — так можно сформулировать девиз старинного английского общего права и девиз нового американского общего права. Продвигаясь бдительно и творчески от одного дела к другому, общее право обогащалось осторожностью в решении индивидуальных дел, но обеднялось отсутствием наработанных теоретических принципов. Оно было применимо в решении проблем и неприемлемо для их философского обобщения.
58
Все это сопровождалось неизбежными рассуждениями о всепроницающих принципах, не поддающихся точным дефинициям.
В 1854 году председатель верховного суда Шоу объяснил ход своих мыслей следующим образом:
Ответственность перевозчиков грузов по железным дорогам, основы, точные пределы и ограничения этой ответственности становятся предметами чрезвычайного интереса и важности для общества. Перед нами новый вид транспорта, в одних аспектах схожий с водными перевозками, осуществляемыми судами, лихтерами и канальными баржами, в других — с перевозками фургонами по суше, в ряде же иных аспектов отличающийся и от тех, и от других. Хотя практика эта и нова, закон, определяющий права и обязанности владельцев, грузоотправителей и самих перевозчиков, стар и установлен давно. В том и заключается одно из великих достоинств и преимуществ общего права, что вместо ряда детально разработанных практических уложений, установленных путем позитивных положений и адаптированных к конкретным обстоятельствам конкретных дел, способных устаревать и становиться неприменимыми, когда практика и суть деловых операций, где они применялись ранее, видоизменяются или уходят со сцены совсем, общее право состоит из нескольких широких и всеобъемлющих принципов, основанных на разуме, естественной справедливости и просвещенной политике общества, способных модифицироваться и адаптироваться к обстоятельствам любого конкретного дела, лежащего в их сфере. Эти общие принципы права справедливости и политики доводятся до конкретных точных форм и адаптируются для применения на практике, служащей доказательством их общей обоснованности и приемлемости для всех и — более того — юридическим их выражением... ("Норвей плейнз Ко” против железной дороги Бостон —Мейн, 1, Грей 263).
Всего лишь несколько лет спустя, в период Гражданской войны, подобному подходу к опыту практической деятельности, основанному на нормах общего права, предстояло развиться в целую философию, или, вернее, в американский вариант философии. Имя ему — прагматизм. Оливер Уэнделл Холмс-млад-ший — этот Шоу начала XX столетия — был влиятельным членом маленького бостонского дискуссионного кружка, куда входили Чонси Райт, Чарлз Сандерс Пирс и Уильям Джеймс и которому суждено было сформулировать новые яркие постулаты прагматической философии. Есть основания полагать, что философия прагматизма, собственно говоря, и легла в основу такого правового подхода.
В Новой Англии любили сочетание различных идей. В слове «содружество», как и в определениях «право государства на отчуждение частной собственности» и «предприятия обще
59
ственного пользования», отражалась вера в сочетание общественных и частных интересов. Старинное пуританское название Массачусетса было закреплено в конституции штата 1780 года и полностью соответствовало характеру общины, в которой жил председатель верховного суда Шоу. Богатство этой общины, будь оно в частной или общественной собственности, каким-то образом принадлежало всем. Изначально Массачусетс возник как концессионная торговая компания, все его обитатели были одновременно и гражданами, и пайщиками. И как утверждалось, об этом смешанном его характере не следовало забывать. «Общее благо» в преамбуле массачусетской конституции было понятием куда более расплывчатым, нежели «суверенитет», «права» и вся остальная разменная монета политических теоретиков; смысл же понятия «содружество» приходилось постигать не столько логикой, сколько опытом.
7.
РЕФОРМАТОРСКИЙ ДУХ
Крохотная Новая Англия обрела фантастическое разнообразие институтов, интересов и даже образов жизни. Обитатели Новой Англии все больше и больше видели себя сборной солянкой из горожан и деревенских, фермеров и рабочих, коммерсантов и фабрикантов, железнодорожников, строителей каналов и кораблей, старых поселенцев и недавних иммигрантов (негров, ирландцев, немцев), конгрегационалистов, католиков, баптистов, епископалистов, методистов, унитаристов, универсалистов, пресвитерианцев и иудеев. По крайней мере до середины века, когда уже только около трети населения Бостона составляли люди, родившиеся за пределами Соединенных Штатов, из-за Моря продолжали прибывать новые волны иммигрантов. Почти по всем параметрам Новая Англия все больше и больше превращалась в край с разнородным населением.
До Гражданской войны Новая Англия являлась центром иммиграции. Поразительно большое количество обитателей Новой Англии искало счастья в шахтерских городках Запада, и многие устремившиеся на Запад компании первоначально возникли в Новой Англии. Одни, как энтузиаст из Орегона Холл Джексон Келли, отправлялись открывать и осваивать северо-западное побережье Тихого океана; других подбивал «покорить Техас, пока Техас не покорил нас», Эдвард Эверетт Хейл; третьих Илай Тейер призывал встать в ряды борцов против рабства в
60
штате Канзас. Некоторые создавали фактории и торговые миссии на Сандвичевых островах. Так или иначе, оставшиеся дома все равно были связаны с бесчисленным множеством проблем и интересов тех, кто находился далеко и от кого они ожидали денежные переводы, получали письма, по ком скучали. После 1830 года жители Новой Англии уже практически не могли не видеть, что их страна стала центром перемен. Разнообразие интересов, которое не принимали южане и которому поневоле противилось их более статичное общество, составляло там основу существования.
Поразительной чертой общественной жизни Новой Англии было изобилие всевозможных движений за реформы. Почти любая концепция усовершенствования общества в целом либо какого-то аспекта его жизни вскоре приводила к созданию группы, активно начинавшей бороться за поддержку, средства и новых сторонников. Каждое подобное движение отвечало чьим-то представлениям о несоответствии того, чем их община была и чем должна была бы быть. В 1850 году, когда Бостон еще оставался городом с населением менее 140 000 человек, в нем уже насчитывались десятки организаций, преследующих различные благородные цели. Южане справедливо называли Новую Англию родиной «измов», но ошибались, считая, будто эта тенденция ослабляла ее. Напротив, жизненная сила реформистских движений служила наилучшим показателем жизненной силы общества в целом. Редко когда столь значительное количество граждан столь внимательно сопоставляло реальные достижения своего общества с его наивысшими потенциальными возможностями.
Наиболее расплывчатыми и туманными представлялись позиции тех, кто именовался «трансценденталистами». В свое время их притягательность во многом и основывалась именно на расплывчатости устремлений. Их раздутая репутация в глазах последующих поколений объяснялась широтой диапазона, нравоучительностью и афористичностью оставленного ими литературного наследия. Еще более характерными для Новой Англии за тридцать лет до Гражданской войны представлялись движения против конкретных пороков, весьма определенно и ясно сформулированных в их социально-критических выступлениях. Так, например, Горас Манн из Массачусетса и Генри Барнард из Коннектикута первыми начали кампанию за усовершенствование государственных школ с позиций самых что ни на есть практических. Попечители школ штата Коннектикут жаловались в своем отчете 1839 года, что из сорока
61
школьных зданий в одном из округов штата лишь единственное было оборудовано вентиляцией, что средние размеры школьного здания (каждое приблизительно на 30 детей) составляли 18,5 фута длины, 7,5 фута ширины и 7 футов высоты. В их отчете 1848 года отмечалось, что из 1663 школьных зданий штата лишь 873 имели наружные туалеты, а 745 не имели никаких средств санитарии и гигиены вообще. В 1842 году издаваемый Манном школьный журнал сравнил «содержание детей, похожее на содержание рабов на рабовладельческих судах», с добротными помещениями и выгонами, которые предприимчивые фермеры Новой Англии строили для своих свиней.
Джосайе Куинси (мэру Бостона с 1823 по 1828 год и президенту Гарвардского университета с 1829 по 1845 год), зачинателю муниципальных реформ, молва приписывает первую тщательную уборку улиц города за двести лет его существования. Куинси добивался строительства муниципального водопровода и канализации, боролся с азартными играми и проституцией. Возглавил он и пропагандистскую войну против грязи, убогости и жестокости новоанглийских тюрем. Его речь перед большим жюри в Саффолке в 1822 году явилась сенсационным разоблачением последствий содержания малолетних вместе с закоренелыми преступниками. В 1825 году сложилось Общество борьбы за порядок в тюрьмах и начались частичные реформы.
Борьба с жестоким обращением с больными психиатрических больниц стала делом всей жизни Доротеи Дикс. Начав преподавать в воскресной школе исправительного дома Ист-Кембриджа в 1841 году, она обнаружила, что психически больных пациентов содержат зимой в нетопленых помещениях. На протяжении последующих двух лет Доротея Дикс составила доскональное свидетельство об условиях содержания душевнобольных в тюрьмах, приютах и исправительных домах штата. В 1843 году она направила в законодательное собрание штата документированный меморандум, осуждая «нынешнее положение душевнобольных, содержащихся в нашем штате в клетках, чуланах, подвалах, конюшнях и конурах. Их заковывают в цепи, лишают одежды, избивают дубинками и подвергают порке с целью добиться беспрекословного послушания!». Результатом явилось принятие постановления о расширении Вустерской психиатрической больницы. Дикс продолжала свою деятельность в остальных штатах Новой Англии, а затем и по всей стране, добиваясь потрясающих успехов.
62
Аналогичные истории можно припомнить и о других движениях, направленных на то, чтобы облегчить участь несчастных и неимущих. Преподобный Томас Голлодет, пытавшийся обучать глухого ребенка своего земляка в Хартфорде, был в 1815 году послан одной из общественных групп за границу с целью овладеть методикой обучения глухонемых. В Англии* Голлодет обнаружил, что обучение глухонемых уже на протяжении двух поколений монополизировала одна семья, наотрез отказавшаяся делиться своими секретами. Эта семья уже сорвала организацию подобных школ в Ирландии и теперь пыталась распространить свою монополию на Америку. Во Франции ему повезло больше. Вернувшись домой с преподавателем-французом, он основал в 1817 году в Хартфорде первую бесплатную американскую школу для глухонемых. Школа оказала примечательно эффективное воздействие на постановку организации дела обучения глухонемых по всей стране. Голлодет нашел также время учредить в Коннектикуте центры подготовки преподавателей для расширения образования среди негров, высшего образования для женщин и добиваться внедрения в (учебные) программы обучения ручному труду.
Примерно в тот же период доктор Сэмюел Гридли Хоу (выпускник Гарварда, 1824) начал работу по усовершенствованию обучения слепых. Массачусетс принял решение о создании первой школы для слепых в 1829 году. В 1831 году Хоу пригласили организовать ее. Прожив некоторое время с повязкой на глазах, дабы лучше ощутить себя в шкуре своих подопечных, Хоу сумел разработать для них новые методы обучения. Демонстрируя достижения своих слепых учеников, Хоу преуспел в сборе средств. На протяжении сорока четырех лет он возглавлял Институт Перкинса для слепых, где обучал преподавателей для школ слепых. Самым примечательным его достижением явилось обучение слепой и глухой девочки Лоры Дьюи Бриджмен. Лора поступила в школу Хоу накануне того, как ей исполнилось восемь лет. В течение года Хоу научил ее общаться с внешним миром и вскоре впервые доказал, что слепоглухие вовсе не обязательно умственно отсталые. Впоследствии Лора и сама принимала участие в обучении других слепоглухих учеников и помогала в Институте Перкинса по хозяйству. Очаровательная умница Лора и другой слепоглухой ученик Хоу — Оливер Касуэл — глубоко тронули Чарлза Диккенса, посетившего бостонскую школу Хоу в 1842 году и посвятившего его деятельности почти сорок страниц своих кратких «Американских заметок». Филантропические институты Бостона в отличие от многих других увиденных Дик-
63
кенсом американских институтов показались ему достойными примерами для подражания в Англии.
Движения в пользу крупных социальных реформ, таких, как движения за мир и против рабства, также находили энергичных сторонников в Новой Англии, особенно в Бостоне. Процветало здесь и движение против пьянства. В 1838 году Массачусетс принял крутые, хотя и недолговечные (они были отменены в 1840 году) меры по борьбе с пьянством — так называемый закон пятнадцати галлонов, запрещавший единовременную продажу спиртного в количестве, превышавшем пятнадцать галлонов, за исключением медицинской надобности по указанию врача. Общества трезвости Новой Англии распространили миллионы печатных материалов, а их красноречивые пропагандисты снискали международное признание.
♦ ♦ ♦
Более глубокие реформы ставили задачу помочь рабочим сбросить средневековые путы, препятствовавшие осуществлению их права на организацию. Именно в Бостоне было наконец пересмотрено в 1842 году устаревшее положение общего права о заговорщической деятельности, и американское рабочее движение получило правовой статус. Это оказалось возможным благодаря более широкому и реалистическому подходу к конкурентной экономике и честному признанию существования конфликта интересов. Интеллектуальный рынок и рынок промышленный процветали совместно.
До наступления фабричной эры рабочие условия определялись характером работы. Работу на ферме, скажем, не сведешь к определенному количеству часов. Подмастерье жил и работал у своего мастера, атам, где ремесленники работали семейно либо с небольшим количеством помощников из числа близких, не было смысла мерить рабочий день по часам. Появление же более крупных производственных блоков, тесно интегрированных производственных цепочек, механизмов и неприродных источников энергии многое здесь изменило. Включение и выключение механизмов превратились в весьма сложный процесс, каждый час простоя дорогого оборудования съедал капиталовложения; производственные процессы, идущие под одной крышей, тесно увязывались друг с другом. Все это вело к увеличению продолжительности рабочих смен и более напряженному и строгому темпу работы. Древняя традиция работать «от восхода до заката», как в поле, теряла смысл. Отныне продолжительность рабочего
64
дня варьировалась от места к месту. Некоторые массачусетские фабрики вводили тринадцатичасовой рабочий день для детей, за исключением субботы. По меньшей мере одна коннектикутская фабрика установила рабочий день для взрослых продолжительностью в пятнадцать часов десять минут. Первыми в Новой Англии начали агитировать за сокращение рабочего дня не фабричные рабочие, а ремесленники. В 1825 году забастовали, требуя сокращения рабочего дня, плотники-домостроители в Бостоне. Аналогичные забастовки последовали в 1830 и 1831 годах. Некоторые рабочие начали объединяться в организации. Первая организованная группа рабочих сложилась в 1828 году в Филадельфии, затем в следующем году появилась аналогичная группа в Нью-Йорке, а в 1834 году — в Массачусетсе. Примерно в это же время в Бостоне сложился первый профсоюз Новой Англии.
Хозяева, естественно, испытывали обеспокоенность. Сокращение рабочего дня, предупреждали они, «окажет нездоровое влияние на фабричных учеников, отвлекая их от прилежания и экономии времени, которое мы стремимся им привить. Квалифицированных же мастеров это подтолкнет ко многим соблазнам и опрометчивым поступкам». Борьбе рабочих против новых зол противостояли мощь и престиж старинного английского общего права. По крайней мере с момента принятия Статута рабочих в 1349 году английский закон карал за коллективные попытки добиваться улучшения заработной платы и условий труда. А в 1800 году парламент принял новый законодательный акт, направленный против рабочих объединений. Эти и иные законоположения подкреплялись нормами английского общего права о преступной заговорщической деятельности, которые в силу своей беспредельной расплывчатости становились ловушкой для всех «смутьянов». В начале XIX столетия эти нормы преследовали в основном те же цели, что и судебные запреты на деятельность рабочих организаций полвека спустя. Объединение рабочих, с юридической изобретательностью утверждало общее право, может оказаться преступным сообществом заговорщиков, даже если ставит перед собою законные цели и не прибегает для их достижения к незаконным методам. Сам акт объединения, утверждали юристы, придавал их образу действий незаконный и антиобщественный характер (“чреватый общественными беспорядками и ущербом для частных лиц"). Доказывали, будто любое подобное объединение неизбежно нарушает «нормальное» функционирование рынка, терроризируя нанимателей и остальных рабочих. В период между 1806 и
65
1842 годами слушалось не менее десятка дел в разных штатах, по которым суды вынесли приговоры рабочим, обвиненным в «преступном» создании объединений.
Дело «Содружество против Ханта» возникло в 1840 году, когда Иеремия Хорн, член бостонского союза квалифицированных сапожников, возмутился решением своего союза, оштрафовавшим его за выполнение сверхурочных работ без дополнительной оплаты. Союз возместил Хорну сумму штрафа, когда хозяин выплатил ему причитавшиеся сверхурочные, но, когда Хорна оштрафовали в следующий раз за другое нарушение профсоюзного устава, Хорн платить штраф отказался, хотя хозяин и на этот раз изъявил согласие возместить ему убыток. Тогда профсоюз исключил Хорна из своих рядов, потребовал его увольнения с работы и запретил членам профсоюза работать у предпринимателя, продолжавшего держать рабочего, увольнения которого потребовал профсоюз. Испугавшись забастовки, хозяин уволил Хорна, и тот обратился с жалобой к окружному прокурору. Окружной прокурор предъявил бостонскому союзу квалифицированных сапожников обвинение в заговорщической деятельности.
Судья бостонского муниципального суда уведомил присяжных, что с точки зрения закона объединение подобного рода подпадает под трактовку преступного заговора, и им остается лишь решить, действительно ли объединение преследовало подобного рода цели. Двадцать минут спустя присяжные признали профсоюз виновным. Членов союза защищал Роберт Рантул-младший, пылкий сторонник реформ, проявивший незаурядную энергию в составе первой комиссии штата по вопросам образования, один из лидеров общества трезвости и активный борец против смертной казни (помимо других своих дел). Рантул добился слушания дела в высшей судебной инстанции Массачусетса, где его рассматривал сам председатель верховного суда штата Шоу. Рантул повторил свои аргументы, отрицая правомочность применения в штате Массачусетс положений английского общего права о заговорщической деятельности, охарактеризовав их как явление «той самой английской тирании, из-под гнета которой мы вырвались».
Шоу, человек более гибкий, нежели Рантул, стремился и сохранить традиции английского права, и обеспечить потребности нового индустриального общества. Вместо того чтобы отменить положения общего права, он заново сформулировал их. Главным фактором, четко сформулированным Шоу в эпохальном ре
66
шении, вынесенном им в 1842 году, отныне считалась необходимость определить, ставило ли сообщество задачи «осуществления каких-либо незаконных или преступных намерений либо преследовало цели, сами по себе преступными и незаконными не являющиеся, и не прибегало ли к преступным и незаконным средствам». Поскольку задачей членов союза было убедить «всех занятых в данной профессии вступить в их ряды», по мнению Шоу, данная цель преступного характера не имела.
То обстоятельство, добавил Шоу, что осуществление подобных законных действий потенциально способно «разорить» других, не делало их незаконными. С известной точки зрения весь процесс рыночной торговли является попыткой «разорить» остальных. Здесь Шоу декларировал веру в конкурентную экономику и готовность легализовать концепцию конфликта интересов в обществе. Разумеется, члены профсоюза обладали «правом работать по найму по собственному выбору либо не работать, если предпочитают. При таком положении дел мы не можем считать преступным стремление людей согласовывать порядок осуществления признанных за ними прав путем, наиболее отвечающим их интересам». «Предположим, — продолжил Шоу, — что группа коммерсантов продает свой товар так дешево, что их конкуренты разоряются. Подобное деяние, разумеется, не считается заговором. Но в таком случае не может считаться заговором и акт объединения в аналогичную группу рабочих, совместно устанавливающих по своему усмотрению цены и условия своего труда». Иногда конкуренция, ориентированная на разорение других, может сослужить «в высшей степени достойную службу обществу». «Лучшие результаты торговли и промышленности достигаются благодаря конкуренции».
Так Шоу легализовал профсоюзы, одновременно вдохнув новую жизнь в каноны общего права.
Подобное судебное решение могло выноситься и исполняться лишь в обществе, способном обдумывать и приветствовать перемены. Рантул, адвокат, защищавший интересы профсоюза (впоследствии основатель Иллинойской центральной железной дороги), был, как и сам Шоу, давним приверженцем развития железных дорог. Свободный обмен товарами и услугами в плюралистическом обществе, полном конфликтных ситуаций, — это единственное, что может способствовать развитию и процветанию страны.
з*
Часть вторая
«ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»: ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ
Хорошо быть легким на подъем в новой стране.
Джонсон Хупер
Американец за все берется. «Как-нибудь прорвемся» — вот его девиз. Для этой цивилизации характерна... экстенсивность... Американский народ растекается по всему континенту, повсеместно распространяя свою энергию и свой капитал.
Джеймс Стерлинг
В центре континента сложился новый тип человека—homo Americanus — определяемый, скорее, не столько средой обитания, сколько своей мобильностью. Этот тип человека преобладал в стране в период от Американской революции до Гражданской войны и превращал новую страну в Новый Свет.
Новая порода людей, свободно ориентировавшаяся в пространстве, делилась на два вида: «перекати-поле» (бродяг) и выскочек (или толкачей). Общины «перекати-поля» плодили бродяг своим кочевым образом жизни. Общины выскочек плодили темпами своего роста толкачей. Осев на месте, кочевые общины «перекати-поля» превращались в общины выскочек.
Многие черты новой нации сложились именно среди этих американцев, продвигавшихся от побережья в глубь континента. Подобно океану, континент манил просторами, неизведанной территорией, осваивать которую надлежало сообща. Путешествия по континенту походили на путешествия по океану. Опасности заставляли людей пускаться в путь сообща и держаться в пути вместе, образуя тем самым кочевые общины.
Американцы «перекати-поле» представали явлением некоего нового порядка. Да, конечно, кочевые народы — бедуины,
68
конкистадоры, крестоносцы, исследователи, совершавшие набеги варварские племена — существовали с незапамятных времен. Но где и когда еще приходило в постоянное движение по всему огромному континенту столь значительное количество людей? Где еще раньше мигранты были оснащены орудиями, столь превосходящими возможности коренного населения? Когда еще так много людей отправлялось по собственной воле в путь, не надеясь вернуться домой? Когда еще столько людей шло в неизведанные дали не покорять их или обращать в свою веру и укреплять ее и даже не с целью торговать, но ради того, чтобы обрести дом и создать общину для себя и своих потомков?
В пути складывались новые институты. Чтобы выдержать тяготы пути, приходилось объединяться в новые общины. Новым общинам приходилось на ходу устанавливать законы и на ходу учиться внедрять их в практику без помощи ученых юристов и ученых книг. В пути приходилось бросать людей и пожитки. И прежде всего обретать волю продвигаться вперед любой ценой и создавать новые общины, не ожидая, пока Бог или правительство проложит им дорогу.
8.
НА ПРОСТОРАХ КОНТИНЕНТА-ОКЕАНА: ЛЮДИ НЕ ПУТЕШЕСТВУЮТ В ОДИНОЧКУ
Всем известно: когда первые европейские колонисты пересекли океан и основали Джеймстаун, Плимут и колонию Массачусетского залива, они делали это сообща. Прибывали за океан общинами, в которых все зависели друг от друга. Джон Смит шел в Виргинию на трех кораблях, и 24 мая 1607 года с ним высадились в Джеймстауне 105 человек. Перегруженный «Мэйфлау-эр» нес на борту 101 пассажира, помимо экипажа. «Арбелла», на борту которой плыл создавать колонию Массачусетского залива Джон Уинтроп, была одним из четырех судов (и еще семь снялись с якоря месяц спустя); всего эта эскадра доставила человек шестьсот-семьсот колонистов. Нет, в одиночку через океан не ходили.
Но среди всех американских мифов нет более живучего, нежели миф об одиноком скитальце, идущем на Запад. Особо не размышляя, мы приняли как данность, что, высадившись на новых берегах, колонист не нуждался более в общине, продолжая свое путешествие по суше. Дух пионерства, твердят нам, сино
69
нимичен «индивидуализму». Мужество идти в неизведанные земли и заниматься неизведанным делом подается как мужество делать это в одиночку, всецело, углубленно и направленно замыкаясь на собственном «я». Только так, говорят нам, и мог выжить пионер среди грозивших отовсюду опасностей. И именно так, говорят нам, сложился американский образ жизни.
Что ж, верно: герой-одиночка привлек к себе внимание на авансцене истории. Бесчисленное количество мужчин и женщин оставили хроники своих индивидуальных поисков, запечатлев в них собственные надежды и разочарования, акты личного мужества и предприимчивости. Группы же — особенно те, в которые люди непринужденно, легко и естественно собираются для путешествий и которые так же легко разваливаются, — дневников не ведут, писем не пишут, автобиографий не создают. Мы знаем имена Дэниела Буна, Льюиса и Кларка, Зебулона Пайка и Джона Чарлза Фримонта. Но многие ли слышали об «Огайо компани оф эссошиэйтс», о «Грин энд Джерси каунти компани» или о «Бартлсон парти»?
Тайны коллективно путешествующих американцев остаются скрытыми от нас больше других тайн истории. Группки людей, собравшихся вместе с одной-единственной целью (пересечь континент, например), остаются безымянными, если только не обретают финансовую или политическую базу для сохранения единства. Если их хроникам и суждено появиться, то материал для этих хроник придется искать в тысячах мест. Их конторы были всегда с ними, а они вечно находились в пути. Они не держали ни трепетно хранимых архивов, ни ученых архивариусов, ни материалов судебных дел, ни документов на право владения землей.
Да, конечно, иногда встречались и одиночки-путешественники, и одиночки-исследователи. Обычно такой человек приходил в новые края первым, но редко в них оседал. Одинокий волк-авантюрист — эдакий Стэнли или Ливингстон — служит «звездой» только в кино, на телеэкране или на лекционной кафедре. В истории же великими первооткрывателями оказывались люди, способные увлечь за собой других во имя достижения общей цели, невзирая на непредсказуемые трудности и опасности. Великие географические открытия обычно совершались коллективами, а не одиночками. В своем первом путешествии Колумб командовал тремя кораблями, во втором — семнадцатью с экипажами в полторы тысячи человек. Гений Колумба, Васко да Гамы, Ла Салля, Магеллана и Де Сото был гением организации. Основателем и лидером новой общины
70
в дальних краях оказывался тот, кто первым приводил людей в опасные и необжитые края.
Континент — тот же океан. Человек мог безопасно пересечь дикий континент только вкупе с другими. В период между Американской революцией и Гражданской войной те, кто, подобно отцам-пилигримам, отрывался от обжитых территорий далеко на Запад, редко уходили туда в одиночку; статистическими данными здесь мы не располагаем. Но в те годы, когда складывались основы американского образа жизни, многие — вероятно, даже большинство — из тех, кому предстояло первым осваивать территории за пределами обжитых районов Атлантического побережья, отправлялись в путь группами. И это обстоятельство оказалось одним из ключевых в формировании американских институтов.
В одиночку обычно выходили в путь священники-миссионеры, профессиональные путешественники, землеустроители, проводники и охотники. Первопоселенцы же, то есть те, кто шел, чтобы не возвращаться в насиженные гнезда, и превратился в становой хребет новых заселивших Запад общин, обычно выходили в путь не одни. В группах, которые складывались в пути, они находили выражение своим потребностям и чаяниям. В общине их представления о жизни менялись под влиянием быта и образа жизни в коллективе, с которым они благополучно достигали искомой цели. Когда еще дальше на Запад двинулись правнуки пилигримов, они, подобно своим предкам, обычно выходили в путь и оседали на новых землях группами, тесно спаянными совместно преодолеваемыми трудностями жизни в неизведанных краях. Этот опыт существования в общине, которому предстояло повторяться снова и снова по всему континенту, пережили и первые поселения в долине Огайо.
«Огайо компани» была основана в 1748 году несколькими виргинцами, направившими профессионального землеустроителя Кристофера Джиста исследовать их территорию. Однако постоянные поселения устраивала там созданная в более позднее время «Огайо компани оф эссошиэйтс», учрежденная ветеранами Американской революции в Новой Англии, стремившимися приумножить свои богатства. В число ее руководителей входили генерал Руфус Патнем и преподобный Манасса Катлер. Человек разносторонних интересов, Катлер успел уже заняться медициной и правом, измерением расстояния между звездами, определением высоты горы Вашингтон и составлением первого систематического каталога флоры Новой Англии, прежде чем отправился в Нью-Йорк убеждать конгресс уступить его компа
71
нии полтора миллиона акров земли в Огайо в среднем по восемь центов за акр. Контракт с правительством был заключен 27 октября 1787 года. Еще до конца года генерал Патнем вышел на Запад с экспедицией квартирьеров. Экспедиция состояла из двух групп, отправившихся в район бассейна реки Огайо — одна из Данверса, штат Массачусетс, вторая — из Хартфорда, штат Коннектикут. 2 апреля 1788 года обе группы встретились у Сам-рилл-Ферри в Западной Пенсильвании на реке Йокогейни, откуда им предстоял путь вниз по реке Мононгахила и затем по реке Огайо. 7 апреля экспедиция в составе сорока восьми человек высадилась на западном берегу реки Маскингем в месте ее впадения в реку Огайо, прямо напротив форта Хармар. Счастье их, что экспедиция оказалась столь многочисленной, ибо у семидесяти индейцев племен делавэров и виандотов, появившихся с мехами на продажу, в противном случае могли возникнуть и иные планы.
Экспедиция быстро заложила свой собственный город по компактному новоанглийскому образцу. Каждый поселенец получил маленький «городской» участок для дома и «загородный» — размером в восемь акров для пашни. 2 июля 1788 года представители и дирекция «Огайо компани» провели первое заседание в новом поселении и нарекли его Мариеттой. Опять же следуя примеру Новой Англии, они быстро воздвигли в городе церковь и школу, которые действовали уже к концу июля. За несколько последующих месяцев в город переселилось еще несколько семей и довольно много одиноких мужчин. Мужское население Мариетты теперь составляло 132 человека.
Необходимость в гарнизонных поселениях подобного рода объяснялась постоянной угрозой со стороны индейцев. В районе этого первого в Огайо города жили племена шоуни, делавэров, Майами и виандотов, а также остатки шести народов, вытесненных из штата Нью-Йорк. Необузданные и мстительные, они то и дело обрушивались на беззащитных поселенцев, скальпируя и убивая их. Один из таких налетов, стоивший жизни восьмерым поселенцам, имел место в мае 1788 года. Самонадеянные пионеры, поддавшиеся соблазну в одиночку искать новые земли для поселений, быстро утратили свою самонадеянность. Снова ви-андоты и делавэры обрушились на колонистов 2 января 1791 года, атаковав поселение вне города на реке Маскингем, убивая людей и сжигая дома. После этого набега другие поселенцы построили в том же районе форт Фрай — треугольный частокол, за которым укрывались двадцать семей, десять холостых мужчин и восемьдесят солдат из форта Хармар, стоявшего ниже по
72
реке. Все ранние поселения в районе Огайо представляли собой цепь подобных колоний — Фармерскасл, Бельпре, Колумбия, Лозантивилл, форт Вашингтон (позже переименованный в Цинциннати), Норт-Бенд, Галлиполи, Манчестер и многие другие.
Люди, идущие так далеко в неведомые края, полные неизвестности, опасностей и тревог, держались вместе — не столько из любви к ближнему или каких-то иных врожденных качеств, сколько из сугубо практической необходимости друг в друге. Повсеместно первопроходцы Запада считали совершенно естественным и путешествовать, и жить общинами.
Город Индепенденс в Миссури, исходный пункт тропы Санта-Фе, а также калифорнийского и орегонского направлений, с 1820-х по 1850-е годы снискал известность сборного пункта возможных попутчиков. Здесь или несколькими милями западней, как отмечал в своей «Торговле в прериях» 1844 года Джосайя Грегг, располагался «главный порт отправления» во все стороны великих западного и северного «океанов прерий», где люди, никогда доселе друг друга в глаза не видевшие, соглашались вместе делить повседневные заботы, тяготы и смертельные опасности, пока не достигнут места назначения.
Тропа Санта-Фе шла почти по прямой от Индепенденса через форт Додж (ныне Додж-Сити) на реке Арканзас к городу Санта-Фе, в те времена находившемуся далеко на территории Мексики. Пользовались ею не столько эмигранты, сколько торговцы. Проложенная Робертом Макнайтом и его небольшим караваном в 1821 году и в том же году обкатанная капитаном Уильямом Бекнеллом, она проложила дорогу оживленной торговле и бесчисленным караванам путников, прошедшим по ней на протяжении последующих десятилетий. Грегг оставил нам яркое описание тропы в период ее расцвета. 15 мая 1831 года он вышел из города Индепенденс во главе небольшой экспедиции в первое из своих многочисленных успешных путешествий по этому маршруту. «Ближайшей целью и местом общего сбора был Каунсил-Гров. Торговцы обычно сходятся туда мелкими группами, а там стараются сорганизоваться для обеспечения взаимной безопасности и обороны на протяжении оставшейся части пути».
В тот же день группа Грегга примкнула к арьергарду каравана, состоявшему из тридцати фургонов. 26 мая к ним присоединилось еще семнадцать фургонов. В Каунсил-Грове они соединились с основным караваном, и теперь экспедиция насчитывала почти двести человек. Только лишь к середине июля, проведя в пути два месяца, караван достиг Санта-Фе.
73
Дорожные приключения, описанные Греггом, показывают, почему совместные путешествия представлялись естественными и целесообразными. Одно лишь количество путешествующих сдерживало индейцев от нападения и гарантировало возможность защиты. «Становясь лагерем, фургоны выстраивают в «квадратную ограду»... одновременно образующую и загон для животных при необходимости, и укрепление на случай нападения индейцев». Путешественникам, лишенным такой «ограды из фургонов», было бы невозможно загнать на ночь тягловых быков и другой скот.
Передвижение группой помогало справиться и с естественными препятствиями. «Мы вступили в чрезвычайно труднопроходимый болотистый район, — писал Грегг. — Едешь по абсолютно сухой и твердой поверхности, и вдруг фургон погружается в трясину по самые втулки колес. Чтобы вытащить его, требовалось снимать возчиков с двух-трех соседних фургонов, бросая клич: «Все на колеса», — и так вместе с хозяевами вытаскивали фургон, стоя по пояс в грязи и воде».
Постоянная необходимость выставлять на ночь посты на случай нападения индейцев и для присмотра за скотом, чтобы не разбежался, служила еще одним аргументом против путешествий слишком малыми группами. «Обычно дежурили восемь смен, каждой приходилось нести вахту четвертую часть каждой второй ночи, — вспоминал Грегг о своем караване 1831 года. — В караванах меньшей численности количество вахт обычно сокращалось. В совсем же маленьких группах для обеспечения безопасности каждой смене приходится дежурить половину каждой ночи». Нетрудно представить себе, что могло произойти в результате несчастного случая, имевшего место на тропе летом 1826 года. Некий мистер Брод ас случайным выстрелом раздробил себе кисть руки, доставая ружье из фургона дулом вперед. Для него путешествие в группе означало выбор между жизнью и смертью, поскольку спутники по каравану не дали ему умереть от гангрены:
Весь их «набор хирургических инструментов» состоял из ножовки, мяс-ницкого ножа и большого железного болта. Разводку ножовки сочли слишком грубой, поэтому, принявшись за работу, быстро нарезали зубьев потоньше с тыльной ее стороны. Навострив нож, как бритву, и подержав болт на огне, они приступили к операции и быстрее, чем рассказывается все это, вскрыли кисть до кости, которую отпилили в одно мгновение, а затем прижгли культю раскаленным железом так эффективно, что артерии сразу закрылись. Затем наложили повязки, и весь караван тронулся дальше, буд
74
то ничего не произошло. Рука стала быстро заживать, через несколько недель пациент полностью поправился и, вероятно, жив и здравствует по сей день, являя собой живое свидетельство превосходства «раскаленного железа» над наложением лигатуры для «схватывания» артерий.
Еще более очевидными оказывались преимущества групповых путешествий на эмигрантских маршрутах, где было больше багажа, больше женщин и больше детей. Сохранилось множество описаний путешествий в Калифорнию и Орегон между 1842 годом и Гражданской войной. Эти маршруты, как и тропа Санта-Фе, начинались в Индепенденсе, штат Миссури, где формировались караваны, но затем путь их лежал по реке Платт, мимо форта Ларами, через южный перевал в горах Уинд-Ривер центрального Вайоминга, на северо-запад к форту Холл (близ нынешнего Покателло в Айдахо), после чего дороги расходились. Орегонская тропа шла затем по реке Снейк к фортам Уалла-Уалла и Уильям (позже ставшим городом Портлендом). Калифорнийская тропа сворачивала на юго-запад через пустыню, минуя сегодняшний Карсон в Неваде, и шла через Сьерру на форт Саттер (близ современного Сакраменто). Около 2000 миль дороги от Индепенденса до форта Саттер фургоны покрывали в среднем месяцев за пять. Вместо фургонов можно было, разумеется, использовать и караваны навьюченных мулов, что имело даже свои преимущества: легче было форсировать реки и пробираться по горным тропам, а при удачном стечении обстоятельств можно было сэкономить около месяца в пути. Однако поклажей не укроешься от палящего солнца, да и не под силу ехать верхом на мулах беременным женщинам, малым детям, старикам и больным. Поэтому обычйым средством передвижения эмигрантов становился фургон. Пусть он был громоздок, неуклюж, ехал медленно, с трудом поворачивал, еле переезжал реки вброд, застревал на горных дорогах и легко ломался, все равно фургону отдавалось предпочтение, ибо он укрывал от солнца, ветра и дождя, днем служил полевым госпиталем, а ночью — крепостью. Даже без подвесок, при скорости около двух миль в час в фургоне не так уж и трясло, а на особо сложных участках дороги те, кто мог идти, шли пешком.
На дорогах, ведущих в Орегон и Калифорнию, чаще использовался более легкий фургон, чем тяжелая повозка с шестеркой лошадей, сработанная немцами в Пенсильванской долине Конестога. Здесь ездили на облегченной модели, которая была в два раза короче и почти в два раза ниже. Длина фургона составляла
75
около десяти футов, высота — от днища до крыши — восемь с половиной; брал он, полностью загруженный, тонну груза. Обычно фургон запрягали шестеркой быков в упряжках по два и был он достаточно легок, чтобы передвигаться даже в случае падежа одной тягловой пары.
Фургон наглядно представлял собою коммунальный транспорт: все его устройство подразумевало путешествие группой. Чтобы форсировать глубокие реки или одолевать крутые горные склоны, приходилось удваивать тягловые упряжки и тащить фургоны по очереди. Изыскивались разнообразнейшие варианты объединения всех коллективных ресурсов и возможностей для преодоления препятствий и борьбы с опасностями. Так, например, у входа в каньон Гольфстрим, на высоте 150 футов, с длиною склона 250 футов и перепадом в 35 градусов, экспедиция Брауна в 1846 году установила сложное приспособление для перевалки фургонов через горы Сьерра-Невады. Пятнадцать пар быков тянули цепной блок, установленный на вершине горы, затягивая фургон по склону наверх.
Спуск по крутому склону также создавал проблемы. На примитивные тормоза особенно надеяться не приходилось, вечно грозила опасность разгона и избыточной скорости, из-за чего фургоны опрокидывались, а быки ломали ноги. Например, гора в Норт-Платт-Вэлли, прозванная Воротной, образовывала такой крутой спуск, что никто не решался рисковать на нем головой, а деревьев, чтобы подложить под колеса и замедлить ход, там почти не росло. Поэтому вошло в обычай, что каждая экспедиция использовала один из собственных фургонов для изготовления ворота, с помощью которого спускались вниз остальные фургоны.
К востоку от Миссисипи миграция большими группами прекратилась довольно быстро. Победа, одержанная генералом Энтони Уэйном в битве Поваленных Деревьев в 1794 году, позволяла отдельным лицам и семьям с большей степенью безопасности осваивать новые земли, создавая разбросанные поселения. Установилась ретулярная речная навигация, обустраивались дороги, расположенные по ним гостиницы предлагали кров и пищу, заработала почта. К западу же от Миссисипи миграция больших групп продолжалась, поскольку индейская угроза сохранялась там по меньшей мере вплоть до поражения вождей Сидящего Быка и Бешеного Коня 31 октября 1876 года и окончательного завершения войны с племенем неперсе год спустя. Однако путь туда по-прежнему оставался долог и полон естественных опасностей.
76
Мы, разумеется, можем не знать точно, сколько человек ушло на Запад большими группами, состоящими из одной-двух или более семей. Но имеющиеся сведения позволяют предполагать большие цифры. Так, например, на «дороге Платта» (участке пути в пятьсот миль от форта Кирни к форту Ларами) первая большая экспедиция 1845 года под руководством полковника Стивена Кирни образовала колонну фургонов длиною в три мили. Как показали подсчеты, в октябре-ноябре 1858 года (отнюдь не в разгар экспедиционного сезона), через южный перевал в штате Вайоминг прошло 95 отдельных экспедиций, в общей сложности насчитывавших 597 фургонов и 1366 человек.
В современной истории эта великая миграция по американскому континенту-океану остается беспрецедентной. По словам Байарда Тэйлора, репортера нью-йоркской «Трибюн», командированного в Калифорнию, она «превзошла великие военные походы средневековья размахом, степенью опасности и авантюризмом».
День, когда путешествие на Дальний Запад стало естественным и безопасным для отдельного человека и для отдельной семьи, пришел позже — с появлением железных дорог.
9.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Бескрайние просторы Америки и необходимость передвигаться только вместе с другими давали власть лидеру. Людей, живущих за пределами юрисдикции правительства, вдали от очагов и обычаев отцов, приходилось убеждать выполнять свои обязанности. Так появилась потребность в человеке с особым сочетанием качеств, делавших его способным убедить или заставить каждого вносить свою долю в общее дело. Руководителю экспедиции надлежало добиваться результатов, не имея возможности опираться ни на силу традиции, ни на авторитет армейского военачальника. Ему надо было быстро установить esprit de corps1 и сохранять его в разнородном сборище людей перед лицом голода, жажды, болезней, уныния, роковых опасностей и смерти. Сочетание целого ряда факторов наделяло организатора властью, редко когда доступной за пределами
1 Корпоративный дух (фр.). —Прим, перев.
77
вооруженных сил и гражданской администрации. В устоявшемся обществе со сложившимися традициями сделать человека руководителем мохут многие факторы: благородное происхождение, земельные владения, богатство, отвага, воинское мастерство, ученость, ум или красноречие. В общине же «перекати-поля», передвигающейся по полупустынной Америке, лидером становился человек, умеющий убеждать и организовывать.
Пестрые группы «мужчин всех слоев и сортов общества с редкими вкраплениями особ слабого пола», собиравшиеся в Индепенденсе или несколькими милями западнее его на дороге, нуждались в организаторах. Фургонный караван сбивал вожак. Такой человек, как полковник Огивен Кирни, обладавший опытом и воинским чином, просто-напросто брал бразды правления в руки. А иногда вожаком становился тот, за кем, как за Джоном Бартлсоном, стояли еще семь-восемь человек, необходимых каравану, чтобы двинуться в путь, и отказывавшихся следовать с ним, если лидером не признают их кандидата. Однако зачастую пост вожака каравана получал тот, кто сочетал организаторские способности с умением завоевывать голоса избирателей, ибо по большей части вожак избирался демократическим путем.
Выбор капитана согласно тому, что Грегг называл «сложившимся обычаем этих разношерстных караванов», обычно происходил после бурной избирательной кампании и «борьбы партий». Претенденты объявляли свои кандидатуры, вербовали сторонников и рекламировали собственные достоинства, затем «после пылких споров и перепалок» проводились выборы, и победитель провозглашался «капитаном каравана».
Не существовало каких-либо «положений конституции», определявших полномочия сего должностного лица, почему они и оставались расплывчатыми и неопределенными: поскольку его приказания воспринимались всего лишь как просьбы, они зачастую выполнялись или игнорировались в зависимости от настроения. Следует, однако, отметить, что капитану надлежит определять порядок дня и выбирать места для ночных стоянок, а также осуществлять многие иные функции общего руководства, при котором группа исполняет его указания, если находит их для себя удобными... Но по завершению выборов перед капитаном встают главные организационные задачи. Прежде всего владельцы фургонов уведомляются «декларацией» о необходимости предоставить списки их фургонов и людей. Последние обычно разбиваются на четыре «колонны», особенно в больших караванах — а наш состоял чуть ли не из ста фургонов да еще десятка экипажей поменьше и двух легких пушек (четырех- и шестифунтовой), установленных на повоз
78
ках. Возглавлять каждую колонну назначался «лейтенант», в обязанности которого входило тщательно исследовать все встречающиеся в пути овраги и ручьи, выбирать оптимальные места для переправ и руководить, как выражаются в прериях, «оформлением» лагеря.
Стоимость груза, перевозимого караваном, случалось, достигала 200 000 долларов. И спрос существовал отнюдь не на бесстрашных одиночек-лесовиков, метких стрелков в замшевых штанах с бахромой, а на толковых и умелых организаторов. От вожака переселенцев требовалось умение сделать общину жизнеспособной, вдохновлять, убеждать, подкупать, а то и угрозами заставлять ее членов выполнять непривычные работы в неизведанных чужих краях перед лицом неисчислимых опасностей. Часто гибкость, отзывчивость, умение войти в положение, широта души и ободряющий голос оказывались куда важнее, чем достоинство, респектабельность и благородное происхождение. Становлению организаторских талантов способствовали не только караванные пути, но и многие иные специфические черты и особенности жизни на огромном и редкозаселенном континенте. Хорошим примером тому служит пушная торговля.
Первым крупным североамериканским предприятием по торговле пушниной стала «Хадсон бей компани», получившая монополию от Чарльза II. После 1821 года под энергичным руководством юного Джорджа Симпсона, шотландца, самостоятельно, на американский манер выбившегося в люди, компания достигла нового уровня влияния и процветания, основав сложную и разветвленную торговую организацию с центром в Лондоне. Строго говоря, компания прежде всего занималась не добычей, а торговлей мехами, что не в последнюю очередь объяснялось образом жизни индейцев, среди которых она работала. Алгонкины и другие северные племена быстро обрели вкус (а затем и потребность) к ружьям, чайникам и одеялам, получить которые можно было только у европейцев, поэтому индейцы этих племен с такой готовностью и выменивали добытую ими пушнину на эти вещи. Индейцев же южных прерий и предгорий, для которых неисчерпаемым источником сырья служили бизоньи стада, белый человек пока еще не совратил. Поскольку особых потребностей в европейских товарах эти индейцы не испытывали, то белым приходилось самим добывать меха на их территориях, что отнюдь не облегчало решения организационных проблем. Напротив, белым приходилось организовывать весь процесс, начиная с добычи пушного зверя, вместо того что
79
бы просто открывать фактории, куда бы сносили свою добычу охотники-индейцы.
Яркие записки генерала Хайрама Читтендена живописуют красочную хронику пушной торговли на Дальнем Западе, повествуя об организации и дезорганизации, компаниях и коммуникациях, факториях и захолустных городах, верности и измене. С первых же шагов организация транспорта, без которого западная торговля мехами не была бы ни прибыльной, ни возможной, стала делом коллективным. Прежде всего разработали килевую баржу. Это судно, игравшее главенствующую роль в торговле на Миссури по меньшей мере до 1830-х годов и лишь потом постепенно вытесненное, строилось от пятидесяти до семидесяти с лишним футов длиной, от пятнадцати до восемнадцати футов в поперечнике, с неглубокой осадкой, заостренными носом и кормой. По обоим бортам от кормы до носа шел палубный настил. Созданная специально для движения вверх по течению, она никак не могла управляться одним человеком. Ее обычно тянули канатом — крепили длинный конец за верхушку мачты, затем пропускали сквозь шкив, закрепленный коротким концом на корме, чтобы легче было направлять баржу, и тянули с берега группами от двадцати до сорока человек. Если тянуть канатом не получалось, вставали по нескольку человек на палубных настилах и толкали баржу шестами, упираясь в дно реки и постепенно переходя ближе к корме, заставляя судно идти против течения. Когда не помогали ни канат, ни шесты, баржу вели на веслах, по пять-шесть с каждого борта. Во время тысячемильных переходов такая баржа могла в лучшем случае осилить миль восемнадцать в день — и каждая миля требовала от всех исключительного напряжения сил.
Постепенно баржу вытеснили паровые суда. Но и они являли собой продукт сотрудничества, становясь маленькой общиной. Эти суда везли из Сент-Луиса вверх по Миссури торговцев и трапперов, оборудование и товары для торговли, доставляли измотанных торговцев и трапперов, уже завершивших свои экспедиции, обратно, а с ними и добычу, взятую в диких краях.
Важнейшую функцию выполняли также караваны и места сбора. По сравнению с водными маршрутами сухопутные требовали еще более тщательной организационной подготовки. Караваны, идущие на Запад за пушниной, формировались обычно в Индепенденсе, Миссури, куда стекались люди, свозились и паковались товары для долгого пути на вьючных мулах или фургонах. Там, куда не доходили реки, не оставалось иного способа доставки товаров, необходимых трапперам для
80
их промысла и для того, чтобы хоть как-то скрасить жизнь на отдаленных форпостах. Караваны могли осилить от пятнадцати до двадцати пяти миль в день, каждую ночь становясь лагерем там, где находили траву, дрова и воду, каждую ночь готовясь отразить возможное нападение индейцев. Им предстоял путь в тысячу миль, а то и больше, до пункта ежегодного сбора. Эти места встреч представляли собой как образец тщательных приготовлений, так зачастую и наглядную картину пьяных дебошей.
Место сбора — важное явление в американской пушной торговле на протяжении почти двух десятилетий начиная с 1820 года — требовало куда более подвижной, гибкой, а во многих случаях и куда более сложной организационной работы, нежели управление былыми владениями «Хадсон бей компани». Там, на севере, вошло в практику сооружение постоянных факторий и укрепленных поселений. Но содержание их доставляло много трудностей и влетало в копейку. Они требовали постоянного снабжения, нередко вызывали недовольство индейцев и не могли легко перебрасываться с места на место. Уильям Эшли, разносторонний и предприимчивый делец из Сент-Луиса, и его партнер Эндрю Генри создали систему встреч, значительно расширившую диапазон деятельности трапперов. Их мысль просто-напросто заключалась в том, чтобы вести торговлю не из оседлых факторий и фортов, а на оговоренных местах ежегодных встреч.
Каждый год Эшли и Генри определяли место сбора, которое можно было каждый год менять в зависимости от изменчивых превратностей торговли. Отпадала нужда в расходах по круглосуточному содержанию факторий, организации постоянной обороны от нападений индейцев.
Подобное ведение дел обходилось куда дешевле, но и требовало куда более высокого уровня организации, постоянного внимания ко всем деталям, способности быстро сориентироваться и заручиться поддержкой десятков новых людей, коих неустанно искали Эшли и Генри. Старая система обходилась ограниченным числом постоянных служащих, которым трапперы приносили добытую пушнину; теперь же навербованные трапперы отправлялись в экспедиции, откуда им надлежало вернуться в оговоренное время и в условленное место. 20 марта 1822 года компаньоны дали объявление в «Миссури рипабликен», бросив клич «сотне молодых людей подняться до самых истоков Миссури». В период особенно активного создания и организации лагерей сбора вдоль горных ручьев Скалистых гор промышляло
81
до шести сотен трапперов, которые ежегодно собирались с добытой пушниной в постоянно меняющихся, но всегда четко оговоренных я подготовленных местах встречи.
Разумеется, пушная торговля не могла бы процветать без выдержки я отваги этих одиночек-'горцев". Они владели искусством выживания в глухих лесах, знали, где промышлять бобра и как уйти от индейцев или заручиться их помощью. Хью Гласс, один из первых сотрудников Эшли и Генри, стяжавший легендарную славу, отбился от своей охотничьей группы в 1823 году и подвергся нападению медведя-гризли. Спутники сочли его погибшим, однако он прополз сто миль до форта Кайова и, отлежавшись там, снова взялся за ремесло охотника-траппера, уходя неизведанными дальними тропами и как бы мстя за пережитое.
Без организатора все эти достижения, как и деяния Джима Бриджера и Билла Саблетта, оказались бы бесплодны и безрезультатны. Такими опытными и умелыми организаторами, способными направить предприимчивость и энергию других на осуществление грандиозного и прибыльного дела, стали люди типа Джона Джейкоба Астора или Уильяма Эшли, хотя их имена и не воспеты, подобно Улиссу, в сагах американского Запада.
Даже те, кто поразил воображение общества своими выдуманными и невыдуманными подвигами в искусстве стрельбы и охоты, в немалой степени преуспели благодаря умению убеждать других людей работать вместе. Дэниел Бун, например, прославился благодаря не только охотничьим подвигам, но и умению руководить. У Буна за плечами осталась долгая и деятельная карьера хорошего организатора: в качестве представителя Трансильванской компании он повел первую партию поселенцев закладывать новую колонию в Кентукки в марте 1775 года, а также руководил строительством поселения Бунсборо; затем был сначала капитаном, а позже—майором ополчения, сборщиком средств с поселенцев для выкупа земельных ордеров, подполковником округа Файетт.
Всего лишь за несколькими исключениями, наиболее удачливые торговцы пушниной, лесовики и следопыты Запада начала XIX века преуспели и на политическом поприще. Самой примечательной стала карьера Джона Чарлза Фримонта, первого кандидата в президенты от республиканской партии в 1856 году, избранного первым сенатором от Калифорнии в 1850 году и занимавшего множество иных постов. Дэниел Бун, помимо того, что заслужил воинские звания, дважды избирался в законодательное собрание Виргинии и мировым судьей в Миссури.
82
Дейвид Крокетт, несмотря на репутацию человека простодушного, избирался и мировым судьей, и полковником ополчения, и членом законодательного собрания штата, прежде чем его на два срока выбрали в конгресс. Уильям Генри Эшли, пионер пушной торговли и основатель системы встреч, баллотировался на пост сенатора и дважды в губернаторы Миссури, прежде чем занять на два срока место в конгрессе. Билл Саблетт занимал несколько государственных должностей и исполнял обязанности выборщика. Он также баллотировался в конгресс.
Обычной ступенью карьеры для человека, оставившего заметный след в пушной торговле или освоении Запада, служила должность мирового судьи, после чего он претендовал на пост губернатора или конгрессмена.
От дорог пушных промыслов Запада пролегала прямая тропа к законодательным органам территорий, штатов и всей страны. Людям, преуспевшим в организации западных экспедиций, были свойственны склонность и значительные способности к участию в демократическом политическом процессе. Репутация же «одиночек», предпочитающих глухие, безлюдные чащи, пришла ко многим из них значительно позже, часто в результате значительных преувеличений со стороны литераторов и журналистов восточных штатов, живописавших этих первопроходцев Запада в романтических тонах, не выходя из своих городских кабинетов.
♦ ♦ ♦
Религия, как и политика, дала еще один показательный пример успешной деятельности американца-организатора, осваивавшего Запад. Ибо задачу обрести и возделать Землю Обетованную поставили перед собой мормоны, во многом, безусловно, напоминавшие хорошо организованных пуритан Новой Англии, также стремившихся возвести свой Сион. Подобно своим предшественникам-пуританам, мормоны не испытывали ни малейших сомнений в том, что обладали истиной, на фундаменте коей и может строиться праведное общество. Если пуритане членов своей церкви именовали «живыми святыми», то мормоны считали себя святыми последнего дня церкви Иисуса Христа. Как и у ранних пуритан, в жизненном укладе мормонов царил дух патернализма и авторитаризма.
Учение их основывалось на «Книге Мормона», таинственным и чудотворным образом переведенной с золотых скрижалей и впервые опубликованной в 1830 году Джозефом Смитом
83
из штата Нью-Йорк. Мормоны оказались единственной к тому времени значительной сектой, вера которой строилась на Священном писании, открытом Америке. Считалось, что «Книга Мормона» продолжала и развивала темы Библии и иных священных христианских заветов применительно к Новому Свету. Мормоны, славившиеся необычайным мужеством, энергией и силой духа, тем не менее не считались удобными соседями даже среди поселенцев Запада, обычно проявлявших гостеприимство по отношению ко всем новоприбывшим. Сгоняемые то с одного, то с другого места, они были вынуждены продвигаться все дальше на Запад, волна за волной, группами, каждая из которых являла собой все более совершенный образец организации.
В 1836 году Джозеф Смит и его последователи возвели впечатляющий храм в первом своем поселении в Кертленде, Огайо, но вскоре, занявшись земельными спекуляциями, обанкротились. Тем временем группа их единоверцев осела близ города Индепенденс в округе Джексон, Миссури, где их прилежание, предприимчивость, энергия и претензии на божественное вдохновение вскоре пробудили у соседей ревность, а дружественные отношения с индейцами — подозрительность. После изгнания из округа Джексон, где их типографию разрушили, а предводителей общины изваляли в дегте и перьях, мормоны переселились в соседний округ Клей, заручившись согласием законодательного собрания штата Миссури образовать собственный округ. Центр этого округа, Фар-Уэст, построили согласно геометрическому плану Джозефа Смита: город двенадцати храмов и нарезанных квадратами кварталов, рассчитанный в конечном счете на двадцать тысяч человек. Снова мормоны процветали. И снова возбудили зависть и подозрение соседей. Антагонизм окружения заставил их создать отряд самообороны, известный как «даниты», или «сыны Дана», который стал благотворной почвой для мрачных легенд о мормонах. Когда на выборах 1838 года немормоны предприняли попытку лишить мормонов права голоса, мормоны ответили силой.
Так началась первая из целого ряда гражданских войн, которые они вели. Войско мормонов насчитывало более тысячи человек. Джозеф Смит, сравнивавший себя с Магометом, позаимствовал у него лозунг «Коран либо меч» и предсказал: «Так оно будет и у нас: Джозеф Смит либо меч!» Но мормоны потерпели поражение. Джозеф Смит капитулировал и был приговорен к расстрелу. Воспользовавшись отказом командира пленившей его части выполнить приказ, Джозеф Смит и его святые
84
бежали еще дальше на Запад в Куинси, штат Иллинойс. Первая мормонская война обошлась святым в миллион долларов и человек сорок погибших.
В Иллинойсе в 1839 году все началось сызнова. Очередной Сион предполагалось выстроить в Науву также по геометрическому плану Джозефа Смита, только в меньших масштабах. К 1842 году население города составляло уже около пятнадцати тысяч человек.
Хартия законодательного собрания Иллинойса закрепила за Науву права почти независимого города-штата, который вскоре уже гордился собственным «университетом» и строил все более и более радужные виды на будущее. Вдохновляемые убеждением в том, что они «народ избранный», и воспользовавшись полученной на Западе независимостью, мормоны применяли свой организационный гений к созданию и введению новых элементов в свое вероучение, ритуалы и институты. Это касалось крещения усопших, новых церемоний «пожертвований» и принесения обетов в храмах.
Хотя Джозеф Смит и другие лидеры публично отрекались от многоженства — одного из нововведений мормонов, принесшего им самую дурную славу, — оно практиковалось в Науву. Откровение, делающее полигамию духовной доктриной, снизошло на Смита в 1843 году, но, пока мормоны не двинулись дальше на Запад, лидеры их церкви упорно отрицали существование его на практике. Позже, со времени основания в 1852 году Солт-Лейк-Сити, многоженство объявили не только доктриной церкви, но и обязанностью ее членов. Институт полигамии был органично связан со всеми остальными положениями вероучения мормонов, и особенно с их верой в существование до жизни. Если, как утверждали мормоны, мир полон сонмищами бесплотных духов, пылко жаждущих воплощения в сосуде телесном на этой земле, то долг каждого мужчины и каждой женщины в том и состоит, чтобы творить для них подобные сосуды, и, чем быстрее и больше, тем лучше. Женщина спасется лишь браком, а мужчине выпадет тем большая награда в потусторонней жизни, чем больше он произведет на свет детей в этой. Таким образом, многоженство превратилось, скорее, в суровую необходимость, нежели в источник чувственного удовольствия. «Мы должны перепоясать чресла, — проповедовал Брайем Янг в Юте, — и исполнять сию обязанность, как и любую другую».
В Науву полигамию еще не провозгласили публично доктриной церкви, но хватало и других причин, чтобы разжечь антаго
85
низм среди иноверцев-соседей. Растущий город становился все более независимым и все более воинственным. Политическое влияние мормонов (на выборах в законодательное собрание Иллинойса они голосовали единым блоком) казалось все более грозным. Способность же их выстроить на иллинойских болотах процветающий город вселяла в соседей еще больший страх, чем прежде. Повторялась та же история, что и в Миссури. В рядах мормонов произошел раскол — сложилась фракция, выступившая против диктатуры Смита.
Для подавления внутреннего врага Смит прибегнул к силе, и в это время вспыхнула новая гражданская война с внешним миром. Джозефа Смита с тремя другими вождями мормонов убили в тюрьме в июне 1844 года. На следующий год законодательное собрание Иллинойса отменило хартию, дарованную Науву, и мормонам вновь пришлось перебираться дальше на Запад.
Морозным февралем 1846 года Брайем Янг возглавил мормонов на долгом пути к штату Юта. Этот блестящий пример коллективного похода на Запад явился одним из величайших организационных триумфов всей американской истории. Для долгого марша через Айову мормоны строили дороги и мосты и даже сажали злаки, урожай которых собирать предстояло тем, кто двинется за ними на следующий год. Ко 2 августу 1847 года Брайем Янг уже закладывал Новый Сион, будущий Солт-Лейк-Сити. Он снова применил геометрический проект Джозефа Смита. Согласно четко разработанным и эффективно выполненным планам Янга, группа за группой пересекали равнины. В начале октября в Юту пришла партия мормонов, насчитывавшая 1540 человек в 540 фургонах со 124 лошадьми, 9 мулами, 2213 быками, 887 коровами, 358 овцами, 35 свиньями и 716 цыплятами. Когда годом позже прибыла еще одна партия почти в 2500 человек под личным руководством Янга, она обнаружила процветающую «столицу» и десять поселений, где уже действовали две мельницы и четыре лесопилки.
Ненависть к мормонам, ранее возникавшая у их соседей в каждом новом поселении, ныне достигла небывалого накала, охватив всю страну. Последнюю мормонскую войну федеральные войска вели против процветающей общины, сумевшей обустроиться менее чем за десять лет. В этой невоспетой и бесславной гражданской войне 1857 — 1858 годов президент Бьюкенен послал части под командованием полковника Алберта Сидни Джонсона подавить «восстание» мормонов и восстановить порядок, свободу и мораль. Вожди мормонов, безуспешно пытавшиеся ссылаться на Декларацию независимости и Конституцию,
86
гарантирующие им права, задумывались даже об отделении от Соединенных Штатов.
При всей исключительной практичности Брайема Янга мормонам так и не удалось войти в политическую жизнь страны на собственных условиях: они не отстояли так много для них значившего названия Дезерет и не сумели основать свой собственный, исключительно мормонский штат. Ценою для вхождения в жизнь страны послужило изменение вероучения. Начиная с Акта Морилла 1862 года, был принят целый ряд федеральных законов, направленных на запрет многоженства. Наконец, в 1890 году полигамия была запрещена официальным манифестом Уилфорда Вудраффа, главы церкви. Штат Юта, принятый в Союз лишь в 1896 году, по сей день напоминает о том просторе, который давал Запад для размаха организаторской деятельности.
10.
ПРИОРИТЕТ ОБЩИНЫ
К началу XIX века в перенаселенной Европе, где не оставалось клочка свободной земли, таблички с надписью «Проезд запрещен» встречались на каждом шагу. От правительственного контроля некуда было деться. Америка же являла этому резкий контраст. Еще задолго до того, как появились правительственные органы, здесь сложились общины, чтобы заботиться об общественных нуждах либо заставлять выполнять общественный долг. В современной Европе подобный порядок представлялся маловероятным. В Америке — нормальным.
Классическим примером, прототипом модели дальнейшего развития американцев, служил опыт пилигримов, высадившихся в Плимуте в 1620 году. Их, разумеется, объединяло мощное чувство единства цели. Но, высадившись на неизведанном берегу и вне юрисдикции какого-либо правительства (они шли в Виргинию, а не в Новую Англию), они оказались общиной без правительства. Еще на борту «Мэйфлауэра» лидеров общины напугала похвальба нескольких разнузданных пассажиров, угрожавших воспользоваться именно этим обстоятельством, как только они сойдут на берег. Поэтому они установили новую форму правления, заключив Мэйфлауэрский договор. Таким образом община пилигримов предвосхитила правительство Плимута.
87
Подобный порядок событий повторялся снова и снова на протяжении всей американской истории. Став типичным для кочевых общин в период их расцвета между Революцией и Гражданской войной, он помогает понять многие характерные черты американской жизни последующего века. Как мы уже видели, мигрирующие на Запад группы объединялись в общины, чтобы одолеть гигантские расстояния, помочь друг другу тащить фургоны в гору или через брод, защищаться вместе от индейцев и в силу тысяч иных причин. Зная, что идут туда, где закон слаб или вообще не существует, они решили не дожидаться, пока правительство отладит свою машину. Если в функциях, повсеместно исполняемых правительственными службами, возникала нужда, их приходилось осуществлять путем частной инициативы.
Своего рода Мэйфлауэрский договор заключался, таким образом, каждой группой, направлявшейся на Запад. Ко времени «золотой лихорадки» 1849 года уже стало общепринятой традицией для тех, кто отваживался идти «сквозь земли, не подпадающие под защиту законов нашей общей страны», организовываться в своего рода политическую структуру. Одни группы принимали организационные формы в местах своих первых стоянок — в Сент-Луисе или Индепенденсе. Многие другие ждали, пока не окажутся за пределами юрисдикции Соединенных Штатов. Вот, например, резолюция, принятая группой путешественников 9 мая 1849 года, единодушно одобренная и подписанная каждым из них:
...Мы, нижеподписавшиеся члены групп «Грин» и «Джерси», переселяющиеся в Калифорнию и ныне объединившиеся в Сент-Джозефе, исходя из предстоящего нам долгого и трудного путешествия, согласны, что наши собственные интересы требуют — в целях обеспечения безопасности, удобств, доброй воли и, что еще более важно, предотвращения ненужных задержек — принятия строгих установлений и правил, коими надлежит руководствоваться в пути; подписывая настоящую резолюцию, мы обязуемся друг перед другом подчиняться всем решениям и установлениям, принятым большинством голосов, как законам, принимаемым на период путешествия; мужественно оказывать поддержку и содействие любому уполномоченному на то лицу в его усилиях неуклонно осуществлять все подобные вынесенные решения и установления. А также, случись кому из членов экспедиции оказаться лишенным возможности продолжать путь вместе со всеми из-за потери быков или мулов, поломки фургона, ограбления индейцами либо в силу любой иной причины, от него не зависящей, мы обязуемся ни при каких обстоятельствах его не оставлять, но помогать из наших собственных ресур
88
сов, пока не достигнем форта Саттер, и обязуемся стоять друг за друга при любых обстоятельствах до смерти.
Затем та же группа приняла конституцию и законы, открывавшиеся преамбулой, выдержанной в духе федеральной Конституции и не оставлявшей сомнений в стремлении авторов учредить политическое сообщество. «Мы, члены групп «Грин» и «Джерси», переселяющиеся в Калифорнию, учреждаем и устанавливаем настоящую конституцию в целях защиты наших жизней и собственности и как лучший способ обеспечения быстрого и легкого путешествия». Затем следует перечень должностных лиц (капитан, заместитель капитана, казначей, секретарь и другие, согласно установлениям закона) и их функций, а также процедуры отмены или принятия поправок к конституции (для чего требуется две трети голосов всех членов, экспедиции).
Законы этих новых кочевых общин имели определенные схожие черты. Общины создавались отчасти по военным, отчасти по гражданским правилам. Должностные лица избирались большинством голосов на непродолжительный срок (капитан и заместитель — дней на двадцать; казначей и секретарь — на четыре месяца) и в любой момент могли быть освобождены от обязанностей двумя третями голосов. Описывались преступления, процедура суда и выносимые за них наказания. Уставом «Грин энд Джерси компани», например, предусматривалось судебное разбирательство на каждом следующем привале, если капитану поступила жалоба «о нарушении принятых правил либо о нарушителе правил порядка, норм права и справедливости, очевидных для всех людей». Учреждался, как правило, суд присяжных, которых отбирали жеребьевкой из числа путников, за исключением обвиняемых, свидетелей и их близких друзей. При рассмотрении мелких правонарушений обходились только присяжными, которые решали дело простым большинством голосов. Убийство рассматривалось двенадцатью присяжными, и их вердикт должен был выноситься единогласно. Если три подряд состава жюри оказывались не способны прийти к единому мнению, подсудимый считался оправданным. Признание виновного в убийстве означало смертную казнь. Наказания за мелкие правонарушения выносили присяжные. Угроза убийства товарища по экспедиции обычно наказывалась изгнанием (с выдачей припасов, достаточных, чтобы достичь ближайшего населенного пункта). Если же изгнанный возвращался, его ждала смерть.
89
Законы были просты, преступления — редки, а правила — всем доступны.
Чтобы изложить их, хватало пяти-шести страниц. Иногда нарушением считались азартные игры, и наказывались они несением вне очереди караульный службы. Могли ввести правило соблюдать субботу «как день отдыха для людей и животных» — но только «в случаях, когда это было практически целесообразно и безопасно для экспедиции». Законом охранялись права друзей и родных есть вместе и ехать рядом, законы определяли продолжительность и порядок несения караульной службы, запрещали держать в фургонах заряженное оружие и устанавливали порядок распределения имущества умерших.
Редко когда возникала хотя бы тень сомнения в том, что контроль над всем остается за большинством, которое лишь недавно создало конституцию и законы и могло изменить или отменить их. Большинство избирало всех должностных лиц и решало в каждом отдельном случае, имел ли место состав преступления и заслуживает ли проступок наказания. Большинство служило своего рода апелляционным судом: в случае мелких правонарушений (но не в случае убийства) две трети голосов всей экспедиции могли отклонить вердикт присяжных.
Подобные кодексы использовались первыми экспедициями, пересекавшими континент караваном из нескольких фургонов. Первая партия переселенцев, вышедшая в Калифорнию по суше с Востока, так называемая экспедиция Бартлсона, прибывшая туда в ноябре 1841 года после полугодового путешествия из Индепенденса, Миссури, в которой из шестидесяти девяти человек дошли до цели тридцать три, приняла подобный кодекс 18 мая 1841 года, почти в самом начале пути. Чуть ли не в каждом из многочисленных сохранившихся путевых журналов сухопутных экспедиций встречаются записи о составлении конституции и законов «для управления экспедицией».
В 1849 году, в период «золотой лихорадки», многие также путешествовали морем. Эти «аргонавты 49-го» (как их окрестил историк того периода О. Хоу) насчитывали более сотни групп, в среднем около сорока человек каждая, архивы которых сохранились. Каждая из них учреждала собственные конституцию и устав. Правила, разработанные ими, в основном схожи с правилами сухопутных групп, но также несут традиционный отпечаток морских порядков и мореходных обычаев. Имели они и свои особенности. Большинство сухопутных групп сплачивалось исключительно в силу необходимости
90
обеспечить взаимную защиту в длительном и опасном путешествии, что не требовало особенно большого капитала. Мореходные же экспедиции, нуждавшиеся в изрядном капитале для оснастки корабля, надеялись окупить стоимость путешествия, выручив прибыль за груз. Они складывались как общины не только политические, но и коммерческие. Так, например, когда член «Бостон энд Калифорния майнинг компани» был признан виновным в краже, находясь на борту корабля, только что обогнувшего мыс Горн, он был исключен тремя четвертями голосов пайщиков и лишен пая и внесенных им трехсот долларов.
Эти органы управления, основанные по принципу «сделай сам», располагали весьма ограниченным опытом, во всяком случае, в сухопутных экспедициях. Их не окружал ореол тайны или традиции, они складывались по всей стране прямо на глазах у людей для удовлетворения насущных потребностей. Ничто так не отличалось от правительств Старого Света, возглавляемых помазанниками Божьими, чья власть уходила корнями в глубокую древность и считалась незыблемой благодаря «провидению Господню, воистину хранящему королей».
Простые инструкции по образованию подобных органов управления встречаются во многих справочниках для эмигрантов наряду с советами, как обращаться с быками, чинить фургон, где лучше искать брод. Вот, например, выдержка из книги Рэндолфа Марси «Путешественник по прерии. Справочник для сухопутных экспедиций» (1859, выдержала несколько изданий), имевшей полуофициальный статус, поскольку выпускалась под эгидой военного министерства:
Организация товарищества
После того как выбран конкретный маршрут путешествия через равнины, а требуемое количество людей собралось на Востоке в исходной точке путешествия, им надлежит прежде всего организоваться в товарищество и избрать себе командира. Товарищество должно быть достаточно большим, чтобы управляться со скотом и обеспечивать защиту от индейцев.
Для этих целей достаточно от пятидесяти до семидесяти соответственно вооруженных и оснащенных людей. Слишком большая численность лишь затруднит передвижения экспедиции.
Затем следует составить соглашение, подписанное всеми членами данного сообщества, согласно которому каждый обязуется во всех случаях повиноваться распоряжениям и решениям капитана и оказывать ему всяческое посильное содействие в выполнении им своих обязанностей. Им надлежит также принять взаимные обязательства по отношению друг к другу, дабы
91
личные интересы каждого из них становились предметом заботы всего сообщества. Для обеспечения сего надлежит учредить фонд с целью приобретения запасного тяглового скота на случай болезни и падежа животных в пути; если же выйдет из строя фургон либо упряжка кого-либо из членов сообщества не выдержит пути и их придется бросить в дороге, сообщество должно принять обязательство обеспечить перевозку его имущества, а капитану надлежит обеспечить размещение его в караване наравне со всеми остальными. В подобном случае все члены сообщества будут заинтересованы в том, чтобы беречь и охранять собственность других наравне со своею...
Создание обрисованной мною ассоциации открывает многочисленные преимущества. Скот можно сгонять вместе и охранять по очереди, тем самым гарантируя всем возможность сна и отдыха. Более того, это единственный путь оградить себя от посягательств индейцев, от их набегов и попыток угона скота. Эффективность совместных действий проявляется во всех отношениях, особенно при переправах через реки, ремонте дорог и т.д.
Стало привычным покидать одно сообщество и присоединяться к другому или третьему, расставаясь и с ним, когда в нем иссякала нужда. Человек обычно оставался со своей группой лишь до тех пор, пока она выполняла свои коллективные функции, достигала тех целей, ради которых он в нее и входил. Легкость подобных переходов являлась еще одним преимуществом этих проторенных маршрутов. По всей вероятности, считалось обычным пристраиваться по дороге то к одной, то к другой группе по очереди, прежде чем человек достигал места назначения.
Так, например, Джеймс Притчард, молодой человек тридцати двух лет, 10 апреля 1849 года вышел из Питерсберга, Кентукки, с мулами, фургонами и семью спутниками. Погрузившись на пароход «Камбрия», они поплыли вверх по Миссисипи и 13 апреля прибыли в Сент-Луис. Там к их группе присоединились еще несколько человек, и все вместе они к 22 апреля достигли города Индепенденс. 3 мая, завершив все приготовления, они «теперь были окончательно готовы сказать «прощай» дому, друзьям и благословенной родине». 9 мая они уже достигли «индейской территории, где земля изобилует всяческими слухами об их набегах на караваны эмигрантов». Встретив караван из Индианы из семнадцати фургонов и шестидесяти человек под командованием капитана Фэша, они «временно присоединились к нему, чтобы иметь возможность подготовиться к дальнейшему путешествию». И двух дней не прошло, как группа Притчарда начала тяготиться своими новыми спутниками. Капитан Фэш с его многочисленными фур
92
гонами продвигался медленно. На второй же вечер совместного путешествия семерых из восьми человек группы Притчарда отрядили в караул. Менее чем через неделю группа Притчарда, а с нею и еще четыре фургона откололись от каравана Фэ-ша и продолжили путь самостоятельно. Но всего лишь два дня спустя, как отмечал в дневнике Притчард, им пришлось расплачиваться за недостаточную организованность:
Вчера, в четверг, 17-го числа вечером, мы разбили лагерь, не позаботясь ни о позиции, ни об ее удобстве, поскольку среди нас не было никого, в чью обязанность входили бы подобные заботы. Таким образом, мы не позаботились ни о наших мулах, ни об их безопасности. Около десяти вечера, как только лагерь заснул, огромный горный волк дал о себе знать таким жутким воем, что и спящий самым крепким сном проснется и вообразит, будто на него уже напали исчадия ада. И тут не выдержали ни колья, ни веревки загона: ринувшись на них, сорок наших мулов вырвались на волю и разбежались. Лагерь поднялся по тревоге, и мы довольно быстро переловили всех разбежавшихся животных, кроме пяти мулов и одного коня. Во все стороны разослали людей. Обыскав местность на милю-другую вокруг, они вернулись ни с чем. Утром выслали верховых, и часам к 11 утра они вернулись, отыскав и мулов, и коня.
После чего всем стало ясно: необходимо иметь капитана или командира каравана, дабы организовывать все должным образом, с должными правилами и ограничениями.
На должность капитана выдвинули троих. Каждый кандидат отходил в сторону, чтобы вокруг него собрались сторонники. Притчард набрал тридцать восемь из сорока голосов (за него проголосовал один из кандидатов). Затем он высказал ряд «уместных замечаний» касательно пережитых злоключений, предстоящих трудностей и взаимных обязанностей по отношению друг к другу, после чего «собравшиеся исторгли единодушный вопль. Потом капитан предложил, чтобы каждый фургон избрал делегата для немедленного совещания по составлению конституции и устава, которые определили бы дальнейшую организацию и управление сообществом, что и было сделано». 24 мая были утверждены устав и конституция.
Политические проблемы, сложившиеся в сообществе, простым решениям не поддавались. 29 мая один фургон отказался следовать в установленном для него порядке. Его экипажу указали на нарушение конституции и неподчинение приказу. Поскольку экипаж признать свою вину отказался, его изгнали из каравана, но неприятности только лишь начинались. Всего неделю спустя вспыхнули серьезные разногласия между восьме
93
рыми кентуккийцами, с самого начала входившими в состав экспедиции, которые и привели к расколу, в свою очередь повлекшему за собой раздел имущества после сложного арбитражного решения. Разногласия продолжались и дальше, пока группа Притчарда не распалась окончательно, достигнув Калифорнии.
Сообщества эти воистину оказывались преходящими во всех смыслах. Состав их и численность характеризовались текучестью; чрезмерно разрастаясь и осложняя нормальное управление в пути (как, например, караван капитана Саблетта из пятидесяти фургонов, встреченный Притчардом), они могли разделиться; оказываясь малочисленными (как группа самого Притчарда после выхода из каравана капитана Фэша), они охотно принимали в свои ряды новые фургоны. Очень редко, практически никогда, сообщества путников не сохранялись по прибытии на место назначения, поскольку создавались лишь для осуществления конкретной задачи — безопасного перехода через континент, — после выполнения которой и распадались.
Так, например, из 124 сухопутных и морских экспедиций, вышедших из Массачусетса в Калифорнию в 1849 году, ни одна не осталась в том же составе, достигнув Западного побережья. И это отнюдь не служило особенностью времен «золотой лихорадки». В отличие от отцов-пилигримов, которых в общине удерживали сама жизнь и кодекс твердых принципов,. эти преходящие сообщества периода между Революцией и Гражданской войной (кроме нескольких примечательных исключений, подобных мормонам) объединялись почти всегда по необходимости. Так, члены экспедиции Барт-лсона на протяжении полугода делили все трудности и вместе смотрели в глаза смерти, но по прибытии в Калифорнию тут же разбрелись в разные стороны.
Это разнообразие, текучесть и опасности путешествий по континенту и через океан породили силы, под продолжительным воздействием которых формировалось американское общество, многое унаследовавшее от эпохи переселения.
Правление большинства. В истории редко случалось, чтобы большое количество людей оказывалось в сообществах, которые они не только выбрали для себя сами, но в создании которых сами активно участвовали. Именно это и произошло с общинами переселенцев Запада. Правление большинства стало в них законом не в силу очевидных теоретических факторов, но в силу элементарной целесообразности. Группам никогда ранее друг друга не знавших людей приходилось на
94
делить кого-то властью, устанавливать и пересматривать правила, принимать жизненно важные решения. И за неимением иных способов решать приходилось считать по головам. Эти подвижные общины не могли иметь традиций в силу своей молодости или формироваться в общественные классы в силу своей текучести. Не обладали они и достаточным состоянием, чтобы власть и влияние могли обрести богачи. Здесь не шли в расчет ни престиж происхождения, ни слава, ни власть по той простой причине, что главным критерием оценки была личность самого человека. Родители и предки были далеко. Спутникам переселенца оставался неизвестным даже его адрес, не говоря уже о материальном и социальном положении, а также о роде его занятий. Правление большинства было наиболее целесообразным, простым и наименее насильственным в данном случае способом управления людьми.
Функциональная община. Данные обстоятельства не могли способствовать развитию шовинизма. Община, не выполнявшая своего назначения, не могла требовать верности себе. Органы правления, созданные столь недавно и в целях столь конкретных, сами по себе не представлялись ни плохими, ни хорошими; судить о них оставалось лишь по их эффективности.
К нормам поведения, установленным в общине, относились не с большим благоговением (и уж куда с меньшей сентиментальной привязанностью), чем к мулам, быкам и фургонам. И то и другое ценилось за приносимую пользу. Поэтому и отношение к правительству в этих преходящих общинах переселенцев складывалось совсем иное, нежели там, где слава древних битв и достоинства вождей-помазанников требовали преданности, выходящей за все разумные рамки.
Размытость границ между общественным и личным. Самым, пожалуй, важным результатом образа жизни кочевых общин явилось размывание грани, столь много значащей в европейском образе жизни и уже становившейся центром политических дискуссий в Европе начала XIX века, — грани между сферой жизни личности и сферой жизни общества, что позднее Спенсер выразил словами «человек против государства» и что на языке политических дискуссий прозвучало как «индивидуализм против коллективизма», «капитализм против социализма». В Америке же в силу ряда причин границы между этими понятиями неким образом во многом утрачивали смысл. Одной из таких причин послужило то обстоятельство, что в ранних американских общинах грань между личным и общественным оказалась довольно расплывчатой. Община и созда-
95
валась прежде всего для того, чтобы служить личным интересам; личные же интересы обеспечивались лишь быстрым созданием эффективных общественных структур.
Все эти мощные факторы особенно ярко отразились в поисках общинами правовых норм.
11.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ОБЩИН: ЗАЯВОЧНЫЕ КЛУБЫ И ЗАКОН ПРИОРИТЕТА
Еще задолго до «золотой лихорадки» имела место «лихорадка земельная». О ней мы слышим меньше, ибо это всего лишь иное название для большого периода американской истории. Местом действия служил полупустой континент. Люди, которым в Старом Свете приходилось из поколения в поколение мечтать о наделе в 10 — 20 акров, начинали лишь несколько недель или месяцев спустя после переезда в Новый Свет думать о наделах в 160 или 320 акров.
Но как защитить такие наделы? Ведь ими владели общины, еще не успевшие обзавестись эффективной формой правления. Они, в общем-то, и становились так быстро достоянием новых поселенцев, потому что находились за пределами правительственной власти. Ждать защиты закона с обжитого, но далекого Востока грозило потерей преимущества, полученного вследствии того, что человек добрался до Запада в числе первых. Первопроходцам надлежало создавать и вводить в силу свои собственные законы и делать это по-своему. Подобно тому, как пЬрядки, установленные обществами виджилантов1, определили уголовные законы для приискового края, фермерам и землеторговцам Запада предстояло установить также свои собственные законы о собственности. Ими и стали правила заявочных клубов.
Многие проблемы переселенцев возникали из-за того, что общественные земли Запада, предоставленные для заселения, формально оставались в ведении федерального правительства новых Соединенных Штатов, находившегося далеко на северо-востоке. Федеральное законодательство, хотя и претерпевавшее постоянные изменения, предлагало процедуры,
1 Членов комитета бдительности. —Прим.ред.
96
обладавшие, по меньшей мере на взгляд со стороны, достоинствами порядка и скрупулезности.
В образе мышления людей Восточного побережья первоочередное значение приобретало землеустройство. Нельзя же распоряжаться землей на расстоянии, говорили они, не зная точно, чем распоряжаешься. Еще в 1785 году федеральный закон определил нарезку прямоугольных наделов для «городской застройки» (каждый надел представлял собой шестимильный квадрат из тридцати шести секторов) и участков (каждый в квадратную милю, то есть 640 акров). Подобный подход остался характерным и для нашего Запада. Простейшим, наиболее управляемым и наиболее быстро окупаемым способом оказалась продажа этих гигантских наделов людям из восточных штатов, имеющим солидную финансовую базу. Те, кто шел на Запад и оседал там, не имея соответствующих документов, лишь вносили элемент беспорядка. И федеральное правительство (начиная с принятия в 1803 году в Союз штата Огайо, первого штата с общественной собственностью на землю) придерживалось политики сохранения за собой права владения всеми не закрепленными ни за кем землями (за исключением участка, отводимого в каждом городе под строительство школ). Таким образом федеральное правительство сохраняло контроль над той частью земельного закона, который больше всего затрагивал интересы поселенцев.
Но поселенцы крупными программами не интересовались. Они оседали то здесь, то там в зависимости от выпавшего фургону маршрута, притягательности слухов или приглянувшейся земли. Они не ждали, пока эту землю обмерит землемер или пока их опередит правительство. Они не могли документально оформить себе право на владение землей перед тем, как отправиться в путь, ибо далеко не всегда знали, куда именно он лежал. Да и на месте не сидели — ведь они пускались в дорогу, надеясь на лучшее, и эти надежды вели их с места на место. Как бы упорядоченно и аккуратно ни выглядели федеральные планы и законы, реальное расселение шло отнюдь не упорядоченным образом, поскольку движение американцев на Запад в XIX веке почти целиком обратилось в «земельную лихорадку». И если сумятице «золотой лихорадки» предстояло охватить лишь отдельные районы, то сумятица «земельной лихорадки» охватила весь континент. Поселенцев куда больше волновало качество земли, нежели формальности закона. Они ставили дома и распахивали землю, не дожидаясь совета законников.
97
Таким образом, в этот критический ранний период заселения Запада большинство, если не все поселенцы, оказывались скваттерами1. Являлись ли они «владельцами» земли в строго юридическом смысле слова? Ответ зависел от быстро меняющихся формальных положений, о которых первопоселенцы мало беспокоились и еще меньше знали. Освоение Запада, как и многие иные ключевые моменты американской истории, проходило в атмосфере, чреватой юридической неопределенностью.
Землемеры обычно не поспевали за поселенцами, а тем самым и за новыми общинами. Переселенцы проявляли не меньше нетерпения по отношению к бюрократии, не способной нарезать им землю, чем впоследствии проявят золотоискатели по отношению к правительству, не способному обуздать преступность. В Иллинойсе, например, к концу 1828 года почти две трети населения составляли скваттеры — поселенцы на земле, формально все еще принадлежавшей правительству Соединенных Штатов. Само слово «скваттер» в Англии и в густозаселенных восточных штатах звучало не без отрицательного оттенка. Там скваттером именовался человек, поселившийся на земле, уже кому-то законно принадлежавшей, чтобы либо претендовать на владение в силу факта занятия земли, либо воспользоваться возможными изъянами в юридическом оформлении на владение первоначальным хозяином. Но не на Западе, где скваттер обычно являл собою первопроходца, первопоселенца — в общем, того, кто пришел сюда первым.
Очень нескоро федеральное законодательство стало принимать в расчет и эти факты жизни, и нужды поселенцев. Их интересы на протяжении своей тридцатилетней (1821 — 1851) карьеры сенатора от нового штата Миссури отстаивал Томас Харт Бентон. Возглавив своих коллег из западных штатов, он вел успешную кампанию против твердой минимальной цены на все земельные участки на Западе и настаивал на введении системы оценки в зависимости от их фактического качества. Что еще более важно, Бентон обеспечил внесение изменений в законы, защищавшие поселенцев, возделывавших наделы на общественных землях без выполнения предварительных формальностей. Законодательство медленно трансформировалось в пользу первопоселенцев.
1 Людьми, поселившимися на государственной земле с целью ее приобретения. —Прим. ред.
98
С их точки зрения — неоправданно медленно из-за хитросплетений и сложностей самих законов и многочисленных положений и оговорок. Впервые поселенец в известной мере получил требуемую защиту от не проживающих на земле покупателей ее благодаря временному положению 1830 года (улучшенному и получившему постоянный статус закона в 1841 году). Отныне поселенец получал право первой руки по минимальной цене на надел площадью до 160 акров, площадь же за пределами подобного надела обычно шла уже с аукциона. Федеральное законодательство так и не сумело угнаться за нуждами поселенцев на местах даже с принятием Закона о гомстедах1 1862 года, наделявшего поселенца правом бесплатно получить надел федеральной земли в 160 акров (после пяти лет постоянного проживания на нем и выплаты номинального регистрационного взноса). К тому времени основная часть лучших земель уже оказалась занятой и сложился западный образ жизни.
Вполне закономерно, что первопоселенцы организовались для защиты своих земель так же, как это сделали позднее золотоискатели, создавшие комитеты бдительности для борьбы с убийцами и разбойниками с большой дороги.
За отсутствием судов они основали заявочные клубы (иногда именуемые «ассоциациями» или «союзами»). Десятки подобных организаций возникали в быстро заселяемых районах Запада. Например, близ Эльхорн-Крик, штат Висконсин, сорок семейств заселили рощу, окруженную землей, уже отведенной под город, но еще не разбитой на участки и, таким образом, формально на рынке еще не предложенной. Путешествующий методист-проповедник отмечал, проезжая это место в 1835 году:
Поскольку не было соответствующего закона, они собрались и установили себе закон сами. Разбив территорию города, они установили, что участок номер 16, отведенный под школу, находился в роще. Они огородили его и назначили уполномоченных следить за его целостностью и сохранностью и беречь лес, чтобы сделать участок максимально ценным к тому времени, как город начнет регулярно заселяться согласно закону. Затем они нарезали каждому по сорок акров леса и столько акров в прерии, сколько ему хотелось взять. Лес же, главный предмет вожделений в том краю, они никому не позволили монополизировать... Кроме того, между поселенцами существовала договоренность, имевшая силу закона, согласно которой поселенцы
1 Земельных участках, предоставляемых поселенцам. —Прим. ред.
99
должны были поддерживать друг друга против действий спекулянтов и не посягать на чужую землю.
Если на ферму поселенца станет претендовать спекулянт, его могут избить и вышвырнуть из земельного управления. А если того, кто его вышвырнул, судят и приговаривают к штрафу, поселенцы с общего согласия выплачивают сумму штрафа сообща. Но, прежде чем наложить штраф и определить его сумму, дело рассматривается присяжными, которых, естественно, из самих поселенцев и отбирают. Можно понять, что никакие присяжные в подобном случае не признают поселенца виновным, поскольку сочтут его действия самозащитой.
...Зная все это, ни один спекулянт не осмелится претендовать на фермы поселенцев, как никто из поселенцев не осмелится посягать на ферму соседа. Каждый получает землю по установленной конгрессом цене 1,25 доллара за акр.
Но если комитеты бдительности создавались лишь на время вспышек преступности, необходимость в заявочных клубах возникнув с самого начала, сохранялась постоянно. Без этих клубов фермеры, только что осевшие на земле, еще официально не обмеренной и не разбитой на участки, не могли бы иметь никаких гарантий, что земля останется за ними, что плоды их трудов пойдут им на благо и что они вообще сумеют собрать посеянный ими урожай. Подобные клубы росли, «как подсолнухи» (по свидетельству, дошедшему до нас), «везде, где поднимали целину прерий», — в Иллинойсе, Висконсине, Айове, Миннесоте, Небраске — везде, где оседали поселенцы. Организация их часто начиналась с общего собрания местных поселенцев, которые основывали комитет по составлению конституции и устава, а затем избирали должностных лиц. Каждый клуб учреждал собственный порядок избрания состава суда присяжных для разбора и улаживания конфликтов, обычно устанавливая жалованье их председателю и судебному исполнителю на период избрания. Они вели также регистр застолбленных участков и во многом осуществляли функции обычного представительства земельного ведомства правительства Соединенных Штатов. В ряде мест клубы целиком и полностью превратились в правительство, наказывая все преступления против личности и собственности. Строго говоря, их деятельность лежала «за пределами закона», но лишь только одни эти клубы и способствовали внедрению зачатков закона и порядка.
Членство в клубах, как и в прочих преходящих сообществах, давалось легко и свободно. На общем собрании поселенцев президент мог наделить правом голоса и статусом законного жите
100
ля каждого, кто мог указать на дым из трубы своего дома. Типичная конституция клуба оговаривала, что «все люди, прожившие на территории округа два месяца, признаются и считаются его гражданами». Несмотря на неопределенность границ, доставлявшую немалые хлопоты, неопытность землемеров и текучесть населения, правила устанавливались простые, всем понятные и неукоснительно выполнялись. Каждый член клуба имел право на защиту со стороны других, но юридических формальностей в клубах не терпели. «Мы считаем законы, — гласило решение заявочного клуба округа Грин штата Висконсин (1845), — неизбежно несовершенными, как и любой другой учреждаемый людьми институт, но несовершенство законов отнюдь не извиняет того, кто решил воспользоваться им для унижения и угнетения своих собратьев».
При всех недостатках законы заявочных клубов обычно быстро и эффективно выполнялись. Так, например, исследователь истории заявочной ассоциации округа Джонсон, штат Айова, обнаружил всего лишь две попытки «перебить заявку» в нарушение установленных ассоциацией правил. В одном случае признать эти правила главным законом жизни общины нарушителя быстро заставила порка. Второй случай, имевший место в ноябре 1839 года, касался человека по имени Кроуфорд, «перебившего» заявку в миле к северу от Айова-Сити. По правилам ассоциации надел законным образом принадлежал Уильяму Стерджису (члену юридического комитета ассоциации). Кроуфорд, захвативший заявку, не желал отказаться от претензий на нее даже после просьбы об этом со стороны ассоциации. Тогда судебный исполнитель ассоциации уведомил всех членов о собрании, назначенном в таверне Асафа Аллена в Айова-Сити ровно на 10 утра 7 ноября. В указанный час явились шестьдесят крепких мужчин. Они отправились к хижине Кроуфорда, которую тот как раз отделывал изнутри. Они еще раз попросили Кроуфорда снять свою заявку. Стерджис даже посулил возместить ему все затраты, вложенные в участок. И снова Кроуфорд отказался. «В ту же минуту, — пишет один из членов ассоциации, — собравшиеся разошлись по углам дома, и четверть часа спустя от него и следа не осталось. Мистер Кроуфорд так и застыл с топором в руке посреди ровного места, ранее занимаемого его домом. Кое-кто из присутствующих напомнил, что река Айова совсем рядом, но возобладали настроения более мирные, поэтому ограничились сделанным». Стерджис опять переговорил с Кроуфордом и затем объявил, что конфликт исчерпан, к полному его удовлет
101
ворению, после чего вся компания разошлась. Позже Кроуфорд пытался добиться судебного наказания для некоторых членов заявочной ассоциации. Но, поскольку в Айове практически не нашлось бы судьи, адвоката либо присяжного, который сам не имел бы заявки на надел, Кроуфорд в своих деяниях так и не преуспел, и членов ассоциации по подобным поводам собирать больше не пришлось.
К тому времени, когда, согласно Закону о преимущественном праве на землю от 4 сентября 1841 года, открылись наконец федеральные земельные бюро, предприимчивые переселенцы и спекулянты научились дьявольски изворотливо соблюдать букву закона. Переселенцы процветали под сенью закона собственных клубов, спонтанно порожденного их общинами, отрицавшего формальность в пользу реальной справедливости. Переселенцы всячески издевались над формализмом, практикуемым в тех земельных бюро, где форма уважалась больше, нежели содержание.
Согласно уложениям большинства подобных бюро, человек не получал преимущественного права на владение землей, если не имел дома площадью не менее двенадцати квадратных футов. Но скваттер мог охотно присягнуть, что имеет дом «двенадцать на четырнадцать», даже когда имел на участке одно-единственное сооружение, да и то вырезанное перочинным ножом, размером двенадцать на четырнадцать дюймов. Согласно требованиям, предъявляемым некоторыми бюро, «домом», пригодным для получения преимущественного права владения землей, могло считаться лишь строение, имеющее стеклянное окно. Многие путешественники вспоминают об удивлении, с которым не раз находили в тесных, построенных без окон хижинах застекленную оконную раму, висевшую на вбитом во внутреннюю стенку гвозде. Увидев подобное в нескольких домах подряд, один путешественник спросил хозяина, зачем это нужно.
—Чтобы было чем обосновать заявку, — последовал ответ. — Это как?
— Вы что, не понимаете? Чтоб мой свидетель мог поклясться, что в моем доме есть окно.
Случалось, разные люди использовали по очереди одну и ту же хижину, перетаскивая ее с места на место, пока добрый десяток претендентов не оформлял с ее помощью право на свой надел. Один репортер описал, как в 1850 году в Небраске с этой целью построили маленький щитовой домик на колесах, который и перевозили упряжкой быков. Арендуемый за пять долла
102
ров в день, он давал возможность поселенцу претендовать на землю. Утверждали, что с его помощью удалось получить несколько десятков наделов.
Согласно закону, женщина могла иметь преимущественное право на землю, только будучи вдовой либо «главою семейства». Целеустремленные и независимые девы-пионерки не могли соблюсти дух закона, но дотошно блюли его букву, выцарапывая свои 160 акров. Ходили рассказы о младенцах, сдаваемых напрокат для дам-претенденток, подобно тому как мужчины использовали уже известную хижину. Юная дама одалживала ребенка, оформляла усыновление, присягала в том, что является главою семьи, и получала надел. После чего аннулировала усыновление и возвращала младенца родителям с подобающим подношением.
На протяжении большей части раннего периода заселения Запада — по меньшей мере с первых десятилетий XIX века до начала Гражданской войны — законом переселенческому Западу служил «клубный закон». Он имел свои недостатки, но не страдал пороками бюрократизма, формализма или крючкотворства. Как и «закон виджилантов», «клубный закон» олицетворял народную юриспруденцию, быстрые решения, непрофессионализм и эмпирический поиск справедливости. Закон типа «сделай сам» — виджилантизм1 новых землевладельцев, действующий за пределами сферы влияния государственной юрисдикции.
Заявочные клубы отнюдь не всегда олицетворяли собою дух демократии. И отнюдь не всегда защищали честного поселенцу от махинатора-спекулянта. Хотя «клубное право» часто служило щитом честному гомстедеру2, пока в его край не приходил федеральный закон, оно могло также служить и орудием местного спекулянта. Заявочные клубы действовали не только в защиту права скваттера на землю, которую он обрабатывал и обживал, но и помогали защищать его необрабатываемые второй и третий наделы от наплыва новых пришельцев.
Заявочные клубы (иногда именуемые «ассоциациями поселенцев» или «клубами скваттеров») было бы точнее назвать
^десь имеется в виду создание своего рода института правосудия, заменявшего у поселенцев как суды, так и полицию, поскольку федеральное правительство не в состоянии было своевременно обеспечить соответствующими структурами новые территории. —Прим. ред.
Ч1о лучившему участок поселенцу. — Прим. ред.
103
«клубами первопоселенцев». С их помощью первопоселенцы отстаивали не только право возделывания земли, но и право перепродажи своих наделов. Как писал мэдисонский «Аргус» (22 октября 1850 года), человек, наживший деньги продажей земли на Западе, сам там не проживая, казался «редкой птицей, куда более редкой, чем удачливый золотоискатель». Залежные земли, принадлежавшие далеким владельцам, эксплуатировались и открыто, и тайком. Подчас их просто захватывали, и заявочный клуб брал право владения на себя. Иногда местные жители принимали дорогостоящие программы развития — строительства дорог и школ, например, — и изыскивали требуемые немалые средства для них, облагая налогом земли не проживавших на местах хозяев. Кое-где подобный подход открыто практиковался с целью вынудить издалека спекулировавших своими наделами далеких владельцев продать землю местным жителям (либо хотя бы местным спекулянтам). Спекулянтов землей на Западе всегда хватало в избытке, но поддержкой заявочных клубов пользовались лишь те из них, кто проживал непосредственно на Западе.
♦ * *
Заявочные клубы и установленные ими правовые нормы служили отражением отчетливо определившихся настроений, прочно укрепившихся в характере новой нации. Они отстаивали принцип приоритета — предпочтения тому, кто, попросту говоря, пришел первым, — а также первенство норм и правил, сложившихся в общине еще до учреждения формального правительства. Принцип приоритета сам по себе побуждал людей поспешать, настаивая на том, что факт прибытия первым является не просто фактом истории или биографии, но деянием, за которое даже богатство не представлялось достаточно высоким вознаграждением. Опоздавший, медлительный, ленивый, тяжелый на подъем — это все слабаки, которым только остатками и довольствоваться. Разумеется, принцип приоритета отражал необжитость и новизну Америки. Примененный первоначально к земельному праву, он применялся поочередно к каждому последующему витку гонки за богатствами континента: золотом, водой, пастбищами и нефтью.
Искателям золота предстояло впоследствии испытать многие из тех проблем, что выпали на долю искателей земли. Ибо золотые прииски тоже находились далеко за пределами влияния федерального правительства. Сходство законов зая
104
вочных клубов и более позднего заявочного права золотых приисков проистекало, видимо, как из сходства проблем, так и в память о решениях, принимавшихся в прошлом. Подобно пионерам-фермерам, пионеры-золотоискатели не ждали, пока им спустят образ правления из федеральной столицы или из столицы штата. Самостоятельно основав приисковую общину задолго до того, как принималось эффективное федеральное, территориальное, либо штатное законодательство о приисках, они просто-напросто устанавливали свои собственные законы:
Поскольку на нашей территории не имеется ясных законов и положений о приисках, то мы, старатели такого-то района, собравшись вместе, настоящим торжественно обязуемся руководствоваться следующими правилами.
Еще в 1851 году законодательное собрание Калифорнии объявило, что порядок заявок на прииски «будет регулироваться местными обычаями, правилами и установлениями, не противоречащими конституции и законам штата». К 1866 году сложилось более пятисот самодеятельных приисковых районов в Калифорнии, двести в Неваде, по сто в Аризоне, Айдахо и Орегоне и примерно по пятьдесят в Монтане, Нью-Мексико и Колорадо. Всего больше тысячи ста. Эти самоуправляемые, законотворческие общины вырабатывали нормы, разнообразные в деталях, но основывающиеся на общем убеждении в том, что сообщество людей на местах может и должно устанавливать свои собственные законы. Комитет сената Соединенных Штатов, изучавший эти законы, сделал в 1866 году свои выводы с присущей сенаторам элегантностью:
В этой велеколепной системе, установленной самими людьми благодаря их прирожденным способностям и свидетельствующей о таланте американского народа в создании государства и порядка, проявляется один из важнейших аспектов народного суверенитета, что побуждает нас не разрушать ее, а, напротив, придать ей силу государственной власти и сделать ее авторитет непререкаемым.
Таким образом, конгресс, приняв 26 июля 1866 года свой первый существенный акт о приисках, просто-напросто признал «силу местных приисковых обычаев, установленных старателями правил, не противоречащих законам Соединенных Штатов».
105
Все местные структуры заявочных клубов сходились на принятии принципа приоритета. «Правила и установления, введенные старателями, — отмечалось в докладе сенатской комиссии по разработке нового федерального закона, — формируют основу достойной восхищения и ныне действующей системы, возникшей из практической необходимости; они превратились в средства, принятые всеми и обеспечивающие защиту справедливости для каждого... Отныне правила, покоящиеся на основной идее приоритета владения, признаются судами повсеместно, начиная с Калифорнии».
Это означало, что факт открытия и приоритетного освоения собственности в виде полезных ископаемых повсеместно считался законной мотивацией права на владение. Золотые призы, как и призы земельные, доставались тому, кто приходил первым.
Разумеется, приисковая практика применения настоящего принципа породила и свою специфику.
Постоянное пользование застолбленным участком рассматривалось — во всяком случае, на раннем этапе — непременным условием на право постоянного законного владения. Генри Джордж (наряду с другими) охотно окрасил этот закон приисков в романтические тона. «Никому не разрешалось брать больше, чем он мог разумно использовать, либо удерживать участок дольше, чем он мог разрабатывать... Никому не позволялось скупать и держать под спудом полезные ископаемые». На деле же просто не имелось возможности обеспечить права собственности старателя на участок, который он не разрабатывал. Но стоило лишь возникнуть аппарату подобного обеспечения, как заявки на полезные ископаемые тут же превратились в еще одну форму собственности и предмет купли-продажи.
Принцип приоритета осуществлялся и применительно к воде. За сотым меридианом, где свободных земель лежало в изобилии, воды не хватало. Однако без воды земля не годилась ни под пашню, ни под пастбище, да и золота из руды без нее не намоешь. И здесь снова американский принцип приоритета трансформировал закон. В Англии, стране с влажным климатом и обильными осадками, с многочисленными речушками, общее право издавна установило принцип «прибрежного права» (то есть равных прав на владение водой всех собственников прибрежной полосы водоемов). Каждый владелец наделялся равными правами на пользование проточной водой независимо от того, вверх или вниз по течению располагался его участок, и от срока приобретения его. Определенные фор
106
мальные нюансы между «естественным» и «чрезвычайным» водопользованием обычно применялись в Англии с целью воспрепятствовать владельцу истоков ручья или реки блокировать течение, тем самым охраняя права владельцев, чьи земли лежали ниже. Таким образом, права на повседневное и привычное водопользование получали все, и вопрос приоритета не возникал.
Иная картина сложилась на американском Западе. При всех разнообразных вариациях на местах (наиболее радикальные изменения в общее право вносились обычна там, где испытывался наиболее острый недостаток воды: от Айдахо и Монтаны до Аризоны и Нью-Мексико) английское законодательство претерпело коренную модификацию почти на всех территориях, охваченных земельной лихорадкой. Люди Запада заменили доктрину равных прав водопользования владельцев прибрежной полосы принципом приоритета. В самой радикальной своей форме принцип приоритета гласил, что человек, первым достигший источника и застолбивший его, получал право использовать столько воды, сколько мог.
Ему разрешалось отводить воду каналами, лотками и водоводами для работы в копях или для ирригации земель, лежащих на значительном удалении от источника, даже если источник осушался при этом до дна. Здесь принцип приоритета совершенно явственно вытеснил принцип равенства. Новый порядок, повсеместно вошедший в традицию, возвели в ранг федерального закона Актом от 1866 года. Некоторые историки (Уолтер Прескотт Уэбб, например) полагали, что подобные изменения в законодательстве о водопользовании проистекли прежде всего из специфической потребности в ирригации для возделывания засушливых земель. Однако этим все же нельзя объяснить, почему право водопользования обрело столь новаторские формы на Западе. Понять данную проблему можно, лишь рассмотрев ее в общеамериканской перспективе, где все обстоятельства складывались, в пользу принципа приоритета. ।
Принцип права первого — права на вознаграждение первопришельца — сохранялся по меньшей мере до конца столетия. Ярчайшим символом всей системы распределения, определившей образ жизни кочевого Запада, стал апрельский день 1889 года, когда почти сто тысяч мужчин и женщин — пеших, конных, в фургонах или с ручными тележками — выстроились в ряд на границе территории, принадлежавшей индейцам, ожидая сигнального залпа армейских офицеров.
107
1 920 000 акров земли Оклахомы обрели новых хозяев всего лишь за несколько часов. Мало кто понимал толком, почему он ухватил именно тот участок или этот. И никто не мог знать, что он выиграл или потерял, поселившись здесь или там. Никому и в голову не приходило, что в тысячах футов под ногами скрывается черное золото. Люди просто ринулись ухватить участок по вкусу... либо тот, что остался от сограждан попроворнее.
12.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ОБЩИН: ВИДЖИЛАНТИЗМ И ПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА
Виджилантизм переселенцев зародился в общинах, в которых еще не сложились формы правления. Поначалу он возник не для того, чтобы действовать в обход судов, а для того, чтобы иметь их; и не потому, что чересчур усложнился государственный механизм, но потому, что подобного механизма не существовало вообще; не для того, чтобы нейтрализовать уже функционирующие институты, но для того, чтобы заполнить вакуум. Виджилантизм этот явно отличался от правовых традиций, формальностей и профессионализма, складывавшихся в те же годы в Англии. Отличался он, хотя не столь явно, и от действовавшего на Юге суда Линча, ибо его неписаные законы являлись инструментом поддержания устоявшихся обычаев прочно сложившихся общин.
Один из наиболее широко читаемых справочников — «Справочник переселенца j Орегон и Калифорнию» Лэнсфор-да Хастингса (1845) — в отрывке, уже цитировавшемся в начале настоящего тома, знакомит будущего путешественника с опытом экспедиции самого Хастингса в составе ста шестидесяти человек (в том числе восьмидесядти вооруженных мужчин), отправившихся 16 мая 1842 года по суше из Индепенденса в Орегон: «Стоило лишь нескольким дням пути отдалить нас от родных мест, где царили порядок и безопасность, как «американский характер» проявил себя во всей красе. Все были преисполнены решимости командовать, но никак не подчиняться. Вот мы и очутились в состоянии полного хаоса — без закона, без порядка и без выдержки!» «В разгар этой сумятицы, — объясняет Хастингс, — наш капитан и предложил «встать на якорь», разбить лагерь и разработать кодекс правил для дальнейшего управления нашей компанией.
108
Предложение получило мгновенную поддержку, ибо в роли законодателя предстояло выступить каждому». Один из путников, ранее высказывавший намерение украсть у индейцев лошадь, действительно обзавелся веревкой и собрался на «дело». Разумеется, в прериях выходка подобного рода могла дорого обойтись всем. «Законодательный орган», состоявший из всех членов экспедиции, отложил тогда разработку общего кодекса и задался вопросом, является ли этот проступок нарушением установленных им правил. Имели место выступления обвинения и защиты. Решающим аргументом в пользу обвиняемого служило то, что толки о краже лошади у индейцев не составляли ни malum in se, ни malum prohibitum1.
Сам проступок не был преступлением, поскольку вообще ничего собою не представлял, ибо человек еще ничего не сделал. Он не являлся преступлением оттого, что запрещался, ибо на том младенческом этапе существования нашего общества мы не имели еще «запретительного кодекса». Оправдательный вердикт приняли почти единогласно.
Члены экспедиции продолжили обсуждение, нужен ли им кодекс. И наконец большинством голосов приняли доклад созданной ими комиссии, гласивший: «По нашему мнению, мы не испытываем необходимости в каком-либо ином кодексе, кроме того, что дан Творцом Вселенной, и который запечатлен в сердце каждого». Тем не менее, сообщает Хастингс, часть путников проявила изрядную решимость ввести хотя бы какие-то правовые нормы.
Коль скоро давать юридическую трактовку прописных истин сочли излишним, был принят запрет на всех собак, требующий «немедленного и обязательного истребления всей собачьей породы — молодых собак и старых, сук и кобелей, где бы они ни оказались обнаружены в пределах нашей юрисдикции». Однако после казни нескольких собак сложилась оппозиция. Некоторые хозяева пригрозили смертью каждому, кто поднимет на их собак руку, и партия ненавистников собак вооружилась, готовясь к схватке. Тогда капитан снова созвал общее собрание «для осуществления законодательного права общества», и собрание почти единогласно постановило отменить ранее принятый запрет. «Так, — вспоминает Хастингс, — закончилась наша первая и последняя попытка законодательной инициативы».
1 Ни «зло в себе», ни «зло запретное» (лат.), — Прим, перев.
109
Подобные поиски законодательных форм, но уже в большем масштабе, наблюдаются в приисковых лагерях 1840-х и 1850-х годов. Эти лагеря складывались как общины временно оседлых переселенцев. Они обычно тоже находились на изрядном удалении от сложившихся административных центров, законодательных собраний и судов.
Рассказывая о создании правовых норм на приисках, мы опираемся на уникальные свидетельства, почерпнутые из живописных очерков двух людей, выросших на Дальнем Западе. Героем этих очерков отнюдь не выступает размахивающий револьвером буян и задира десятифутового роста. В центре внимания — сама община, настойчиво пытающаяся обрести коллективную совесть. Американский философ Джосайя Ройс, чья семья пересекла континент в 1849 году, и Чарлз Говард Шинн, ставший одним из главных защитников природы в то время, в известном смысле вступили в сотрудничество. Оба глубоко интересовались тем, как жизнь Запада входила в упорядоченное русло, и обменивались мнениями и информацией. И Шинн в своем исследовании «Приисковые лагеря: приграничное самоуправление» (1884), и Ройс в своей «Калифорнии» (1886) излагают историю приисковых лагерей как сагу об общинах в поисках правовых норм. Ройс отмечает, что
нигде и никогда общественные обязанности не оказываются более мучительными и более требовательными, нежели в бурные дни становления новой страны. Ведь куда труднее месяцами сотрудничать в комитете бдительности, чем раз в жизни исполнить функцию присяжного заседателя в законном суде тихого городка. С другой стороны, легкость, с которой составлялось на бумаге городское правительство, временами и убаюкивала политическое сознание обыкновенного человека, и изначально наделяла общину чрезмерной самоуверенностью. В глазах старателей закон каким-то образом сам собой открывался и сам собой устанавливался. В то же время их зарождавшееся общество волей-неволей приучало своих граждан кожей чувствовать вездесущее присутствие закона и неизбежную потребность в общине.
Никогда прежде не давались легендарным странникам пустыни положения вечного закона, явленные столь ясно то из облака днем, то из пламени ночью, как давались этим первым калифорнийцам величие закона и порядка и верность обществу, сотканные из их повседневных забот и событий жизни. В воздухе воистину витала незримая божественная паутина общественных обязанностей и, снижаясь, неизбежно обволакивала всех этих веселых и беззаботных охотников за счастьем в то самое время, как они похвалялись своей свободой.
110
Сам способ добычи золота все в большей и большей мере способствовал укреплению духа кооперации и чувства локтя, поскольку начинали золотоискатели с простой кастрюли, но вскоре ее сменил лоток, а вслед за ним появился и рудопромывательный желоб: каждое новое приспособление оказывалось сложнее и требовало большего сотрудничества, чем предыдущее. С кастрюлей управлялись в одиночку. Однако лоток, приспособление на шестах в шесть — восемь футов длиной, приходилось трясти, чтобы вымывать золото из породы, для чего обычно требовалось не менее четырех человек. Для работы с желобом нужно было прорыть разветвленную систему рвов и канав, чтобы направить золотоносный поток через короба, где золото оседало. Строительство такой системы, уход за ней и управление ею предполагали совместные усилия нескольких человек. Как и все другие процессы на приисках, эволюция здесь шла быстро. К 1850 году желоб широко вошел в обиход, чем еще больше упрочил дух коллективизма. В этих же общинах сложилась и идея партнерства, позднее окрашенная в романтические тона сочинительством на темы жизни Запада. Впервые жаргонное словцо «компаньон», означавшее куда больше, чем просто коллега по коммерции, зазвучало, пожалуй, на этих приисках около 1850 года. К тому времени, когда золотоискательство распространилось из Калифорнии на район Скалистых гор после 1858 года, «одинокий искатель» был не более чем мифом. Золотоискательство стало предприятием коллективным.
Многое в жизни золотоискателей заставляло их предпочитать юридическим формальностям скорый суд. Уж где-где, а на новых приисках время воистину материализовывалось в деньги. На заре «золотой лихорадки» человек легко зарабатывал от 16 до 100 долларов в день. Испанские законы о разработках полезных ископаемых предписывали «незамедлительный» разбор всех дел, касающихся приисков, ибо всего несколько часов могли отделять удачу от краха.
Другой побудительной причиной к скорому суду служило то, что судей из числа должностных лиц приисков назначали без содержания, вот они и старались вдвойне избегать любых проволочек. Особые причины торопиться находились и при рассмотрении уголовных дел. Тюрьмы встречались редко, платные стражи заключенных — и того реже. Потому и приходилось споро судить и споро выносить наказание. При разборе одного умышленного хладнокровного убийства, свидетелями которого оказалось около дюжины людей, суд
111
состоялся, и преступника повесили через час после совершения преступления. Изгнание, порка или смертная казнь стали наиболее распространенными средствами наказания, поскольку (в отличие от заключения) не требовали дорогостоящих институтов и могли быть безотлагательно приведены в исполнение. В условиях «постоянной текучести» населения обидчик на следующий день мог уже исчезнуть. Возможно, и потерпевшему надо было двигаться в путь. Чтобы служить человеку, закон должен был действовать немедля.
Закон был невидим именно потому, что был вездесущ. Старатели считали иногда, что у них вообще нет закона. «Мы прекрасно обходились без всяких законов, — писал один из первых золотоискателей, — пока не появились законники». Никогда люди не ощущали себя столь свободными от гнета чуждых им формальностей, но это чувство лишь служило симптомом особого рода права, которое они сами создали и которым руководствовались. Их право имело характер спонтанный и неосознанный и служило неукоснительным кодексом поведения для всей общины.
Анахронизм ситуации тем более способствовал ощущению отсутствия закона. Здесь опять (как и в колониальный период) американский опыт отступил к прежним, менее дифференцированным устоям жизни. Англичане, жившие в эпоху средневековья и становления общего права, также не видели возможности применения закона. Закон в их глазах был не более чем обычаем, «к которому склоняется ум человека, а не наоборот». В свою очередь и американские поселенцы отдавали себе отчет в наличии сложных правил и осознанных норм поведения. Не традиционность, а именно новаторская суть их общин приучила их с подозрением относиться ко всякому изощренному, явному и свежеиспеченному крючкотворству. Хотя все они пришли из мест, где закон являл собою изжившую себя техническую структуру, в своих новых общинах они даже представить себе не могли, что кого-то нужно заставлять с уважением относиться к пусть и непонятным для него обычаям. В среде бродячих приискателей закон был делом каждого — каждому надлежало понимать, защищать и охранять его.
Подобно другим американцам до и после них, подобно основателям заявочных клубов, они сложились в ярко выраженную коммунальную общину до того, как обрели четкие формы организованного управления. Пионер округа Невада, штат Калифорния, вспоминал: «Было мало законности, но много доброго
112
порядка. Не было церквей, но было много веры. Не было политики, но было много политиков. Не было контор и — как это ни странно звучит для моих соотечественников, — не было претендентов на чиновничьи должности».
Хотя воспоминания некоторых пионеров идеализируют прошлое и окрашены застарелым предубеждением против судейских, есть достаточные основания полагать, что жизнь их была не менее, а может, и более упорядочена, чем в устоявшихся уже общинах на Востоке страны.
Неохраняемой собственности, как правило, не причинялось ущерба. На большинстве приисков можно было оставить на столе в открытой палатке таз с намытым золотым песком и пойти спокойно работать на своем участке. Еду и инструменты крали редко, хотя полиции не было. Воровство, убийства, насилия всякого рода случались редко.
Чем бы это ни объяснялось, но начало существования калифорнийских приисков в каньонах Сьерра-Невады отмечалось спонтанностью, местным патриотизмом и правотворческой независимостью. Сперва, разумеется, золотоискатели жили вне (или вопреки) законов Мексики, но еще и не под юрисдикцией какого-либо из штатов. У тогдашних губернаторов Калифорнии и без того хватало хлопот, чтобы пытаться управлять золотоискателями против их воли.
Одним из редких представителей наследия испанского колониального господства был алькальд, то есть судья первой инстанции. Именно алькальд разбирал конфликты в тесном школьном классе на площади Сан-Франциско в смутные дни 1849 года. При разборе гражданских дел алькальд выслушивал аргументацию сторон, выносил решение и назначал цену оказанных юридических услуг, которые надлежало выплатить ему из карманов участников тяжбы. Теоретически его решение можно было обжаловать у губернатора в Монтерее, но на практике этого почти никогда не случалось. Отдельные жалобы на неправомочность суда алькальда свидетельствуют, что юридические институты тех стихийно складывавшихся общин не были (по мнению недовольных) «ни мексиканскими, ни американскими». Зачастую «алькальдом» для пущей важности просто именовали какого-нибудь мелкого местного чиновника, малосведущего как в мексиканском, так и в американском праве. Иногда на полках его кабинета появлялись для украшения разрозненные тома законов Айовы, Иллинойса, Миссури, Южной Каролины, а то и какая-нибудь французская, испанская, немецкая или английская юридическая литерату
113
ра. Удержавшиеся в памяти обрывки сведений о законах-этих дальних стран дополнялись голосом совести и здравого смысла.
Самое же примечательное то, насколько редко пестрое бродячее население приисковых лагерей оказывалось склонным полагаться на посторонние инстанции власти. Их закон и порядок не основывались на мощи или достоинстве властных структур, устоявшихся в других местах. Отдельные прииски сами устанавливали нормы площади, столбления и защиты заявок. Сами определяли состав преступлений и выносимые за них наказания. Сами определяли образ управления. Четкие и ясные постановления подобного рода обычно принимались тем же образом, каким вершилось все правление общиной — полным собранием всех старателей района. При всей неформальности оно служило одновременно органом как законодательной, так и исполнительной и судебной власти. Ценз же участия был предельно либерален — любой присутствующий, пусть даже пятнадцатилетний подросток, наделялся правом голоса.
Поскольку никакого предшествующего аппарата управления не существовало, каждый новый его элемент создавался для конкретной цели. За исключением случайных алькальдов с их весьма смутно очерченными полномочиями, общине не досталось в наследство ни представителей власти, ни административных структур. Функции правления проявлялись бессистемно, должностные лица избирались лишь по мере надобности. И утрачивали полученные полномочия, как только надобность в них отпадала.
Должностные лица принимали лишь те решения, которые могли быстро и эффективно проводиться в жизнь. Один из деятелей 1849 года вспоминал позже:
Преступности почти не знали, ибо наказание было неотвратимо. Как-то раз, помню, сам с каким-то болезненным удовлетворением наблюдал, как Чарли Уильямс врезал троим нашим согражданам от двадцати одной до сорока плетей по голой спине за кражу денег у соседа. В роли судей выступили все присутствующие, и безо всякого вознаграждения. Не помню, чтобы кто-либо получал за участие в суде жалованье. Вряд ли когда еще правосудие осуществлялось быстрее и дешевле. Больше мы в Невада-Сити воровства не знали, пока жизнь людей не стала более оседлой и лучше устроенной.
«Приисковый суд» (то же самое открытое общее собрание веек, кто махал кайлом или застолбил участок, только под иным
114
названием) не только карал за воровство и убийство, но и выносил решения о принадлежности и границах участков. Этот суд не стремился взимать долги либо рассматривать иные мелкие личные дрязги. Ранние суды приискового Запада не имели постоянных должностнызйлиц (за исключением находящихся на службе алькальдов) и не имели письменных законов. Протоколы судебных заседаний не велись. Заседания же созывались по требованию любого, а кто не считал дело заслуживающим внимания, мог просто не приходить.
Эти разношерстные старатели проявляли впечатляющие способности к самоорганизации. Как, например, старатели из лагеря Джексон-Крик в Роуг-Уэлли (впоследствии штат Орегон), свалившие алькальда Роджерса. Роджерса выбрала на занимаемую должность кучка старателей еще до того, как прииск разросся в городок. У некоего Спренджера, пострадавшего в аварии, самым бесстыжим образом отобрал законную заявку его партнер Сим, подкупивший Роджерса, чтобы тот «законным образом» санкционировал грабеж. Роджерс упорно отказывался пересмотреть дело либо передать его на рассмотрение суда и тем более уйти с должности алькальда. Осенним днем 1852 года, не раз впоследствии воспетом в приисковых сагах Южного Орегона, более тысячи старателей (каждый из которых мог бы заработать от пяти до пятидесяти долларов, не оставь он в тот день работу) бросили кайла, лотки и желоба и собрались в главном лагере. Собрание направило к Роджерсу делегацию, предлагая тому последнюю возможность пересмотреть дело Сим против Спренджера. Вернувшись с отказом, комиссия тут же была преобразована в апелляционный суд. Немедленно был избран председатель апелляционного суда — свой брат-старатель Хейден. Суд провел пересмотр дела, соблюдая известные элементы юридических формальностей — выбор присяжных, приведение к присяге, заслушивание свидетелей и прения сторон.
Попытки самосуда над Симом и Роджерсом были пресечены. В соответствии с решениями апелляционного суда Спрен-джер восстанавливался в законных правах владения, а Роджерс смещался с должности алькальда. Здравый смысл большинства позволил воспрепятствовать как коррупции, так и насилию. Хотя стихия толпы нередко приводила к безобразным эксцессам — подобным тому, что художественно описан в «Случае у брода», — в деле Сим против Спренджера, как и в десятках схожих дел, виджилантизм переселенцев проявил себя с наилучшей стороны.
115
Таким образом, даже в отсутствие законности жизнью приисков отнюдь не правило беззаконие, однако рудиментар-ность существовавших в них управленческих структур временами облегчала уголовным элементам захват каких ни на есть рычагов власти. В подобных случаях старатели также прибегали к виджилантизму, дабы вновь вернуть свои незатейливые властные структуры на путь истинный, что требовало немалого такта и отваги наряду с изрядными организационными способностями.
Одна из наиболее впечатляющих и наиболее полно зафиксированных документально побед виджилантизма имела место у города Банак на недавно освоенных приисках территории1 Айдахо (ныне штат Монтана). Ход событий, к счастью, был детально изложен получившим образование в Оксфорде англичанином — профессором Томасом Димсдейлом — в серии очерков «Виджи-ланты Монтаны» (1866), первой книге, опубликованной на территории. Главным злодеем сюжета был Генри Пламмер, прибывший на прииски в 1852 году совсем еще в юных летах и поселившийся в Невада-Сити, лежащем в горах Калифорнии. До приезда в Банак осенью 1862 года Пламмер сменил несколько приисков, создавая пекарни и игорные притоны. Он сколотил шайку разбойников, грабивших путников на большой дороге. Когда 28 июля 1862 года нашли месторождение золота у Грейс-хопер-Крика на восточном склоне гор (первое в штате Монтана), Пламмер имел репутацию весьма значительного коммерсанта в Льюистауне. На месте, где нашли золото, быстро вырос городок Банак. В октябре 1862 года в Льюистауне повесили бандитов, ограбивших караван, который вез четырнадцать фунтов золота. Пламмер намек понял и перебрался в Банак, где к апрелю 1863 года сколотил новую шайку дорожных грабителей. Каким-то неизъяснимым образом Пламмер добился избрания в шерифы. 24 мая 1863 года нашли еще одну золотую жилу, впоследствии оказавшуюся в числе крупнейших месторождений золота в мире, на этот раз — в Олдер-Галче, в восьмидесяти милях к востоку от Банака. Всего лишь три недели спустя там вырос новый город — Виктория-Сити. Было решено иметь одного шерифа на всю приисковую зону к востоку от хребта Битеррут, и должность эта досталась Пламмеру.
К лету 1863 года хорошо организованные «дорожные агенты» Генри Пламмера вовсю грабили золотые караваны, идущие
1 Территория — район, не получивший статуса штата, но имеющий свой законодательный орган. —Прим, ред.
116
из богатых недавно открытых месторождений Западной Монтаны. Пламмер, их тайный предводитель, нашел куда более выгодным трясти старателей, чем трясти золотоносную породу. Штаб-квартирой, убежищем, арсеналом и базой отдыха служило банде ранчо «Гремучая змея». У ворот ранчо стоял столб, который использовали как мишень для стрельбы. Пламмер, умевший выхватить и разрядить пятизарядный револьвер за три секунды, снискал репутацию самого проворного стрелка в горах. Использовала банда и ранчо непричастных людей, которым «и четверти часа не прожить бы, имей они глупость хоть намекнуть, что знают о происходящем». По самым осторожным подсчетам, основанным на найденных трупах и полученных признаниях, от рук бандитов пало не менее 102 человек, помимо тех, чьи останки не были найдены, и тех, чью судьбу не удалось установить.
Должность шерифа открывала перед Пламмером широкие возможности. Троих своих головорезов — Джека Галлахера, Бака Стинсона и Неда Рея — он произвел в должность заместителей шерифа. Единственного оставшегося честным заместителя шерифа Диллингема люди Пламмера хладнокровно расстреляли, причем «залп произвели так слаженно, что количество произведенных выстрелов легче было определить на глаз по попаданиям, чем на слух».
Тогда и начали сплачиваться честные граждане. Судить убийц Диллингема собрались все без исключения старатели. Председательствовал «судья» Дж. Биссел, медик, которому ассистировали два его собрата по медицинской профессии. Функцию общественного обвинителя выполнял кузнец И.Катлер. В роли присяжных выступали все присутствующие. «Ложей присяжных служил Олдер-Галч, а... троном правосудия — фургон, развернутый в начале нынешней Уоллас-стрит». Процесс, проходивший прямо на улице, завершился к середине второго дня, когда собрание вынесло обвинительный вердикт. Но в самый последний момент взыграло милосердие (пробужденное немногими присутствующими женщинами), и людей Пламмера отпустили.
Однако община пришла в возбуждение. И это послужило началом конца Пламмера и его шайки. Дальнейшие преступления дорожных грабителей сходили им с рук лишь до того дня, пока в зарослях кустарника в долине Вонючей Воды случайно не обнаружили изуродованное окровавленное тело юного Николаса Тальта, осиротевшего сына немецких иммигрантов, которого убили, чтобы завладеть его деньгами и мула
117
ми. Как установили вскоре, убийцей оказался Джордж Айвз, один из ближайших помощников Пламмера. Осуждение и наказание Джорджа Айвза явились первой значительной победой виджилантов Монтаны. «Под сенью их широко распростершихся крыльев, — писал профессор Димсдейл в 1866 году, — граждане Монтаны могут спать спокойно и в мире». Несколько жителей Невада-Сити мгновенно набрали отряд из двадцати пяти человек, которые пленили Айвза и двух его сообщников — Фрэнка, прзванного Долговязым Джоном, и Джорджа Хилдермана, чьи гастрономические похождения в Банаке снискали ему титул Американский Пожиратель Пирогов. В Невада-Сити (лежащем как раз «за пределами юрисдикции» Пламмера и его заместителей) собрались под лучами яркого солнца мягким осенним утром 19 октября 1863 года полторы тысячи человек, чтобы принять участие в суде над Джорджем Айвзом.
После непродолжительных споров было наконец решено, что выносить вердикт надлежит всему собранию, а не маленькой группе присяжных. Поскольку подсудимые уже несколько раз пытались бежать, а процесс проводился под открытым небом, Айвза и его сообщников сковали легкой цепью, какой связывают бревна, замкнув ее на замки. Суд начался во второй половине дня и продолжался допоздна. Утром 21 октября старатели, поддерживавшие обвинение, потребовали, чтобы суд был завершен к 3 часам того же дня — к особой радости тех, кто и так уже оторвал для суда два дня без компенсации.
Процесс имел традиционные элементы судебного разбирательства. Айвз пытался доказать свое алиби, опираясь на свидетельские показания некоего человека по кличке Джо Честный Виски. Адвокаты (приглашенные специально для настоящего случая) демонстрировали свои обычные приемы запугивания свидетелей и использовали каждую возможность, дающую формальное право проявлять безнаказанную наглость. Защитник всеми силами пытался дискредитировать обвинителя, напирая на то, что тот — выходец из Оберлин-колледжа. Были приведены многочисленные факты, показывающие, что и до этого преступления Айвз не раз совершал грабежи и убийства.
После того как, заслушав дело, совещательное жюри вынесло (23 к 1) приговор «виновен», собрание поставило его на голосование. Ни один из присутствовавших полутора тысяч человек не проголосовал против. Обвинитель тут же потребо
118
вал, «чтобы Джордж Айвз был здесь же повешен за шею, пока не умрет». Предложение было принято. Пятьдесят восемь минут спустя Айвза возвели на импровизированный эшафот, под который приспособили остов недостроенного дома в десяти ярдах от того места, на котором он просидел весь суд. До последней секунды он молил о пощаде и пытался свалить всю вину на одного из сообщников. Хилдермана навеки изгнали из Монтаны, а Долговязого Джона, согласившегося выступить свидетелем обвинения и дать показания, освободили и позволили остаться на территории.
Урок, данный судом, не прошел для старателей Монтаны даром. «Не менее полутора тысяч человек потратили четыре дня впустую,—писал полковник Сандерс, поддерживавший обвинение на суде, — из уважения американцев к формальным процедурам, но, когда процесс завершился, кое-кто начал задаваться вопросом, требует ли подобного внимания каждая трагедия и сколько подобное уважение к процедурам оставит нам времени на наши повседневные практические дела. Отсюда появились предложения о создании комитета бдительности. Бескомпромиссная принципиальность, проявленная старателями Олдер-Галча, придала нам уверенности... И вечером следующего дня, насколько я помню, сложилось ядро комитета, впоследствии разросшегося до внушительных размеров и преисполненного решимости добиться окончательной победы порядка в отчаянной борьбе с преступностью».
Пятеро человек собрались в Виргиния-Сити и четверо — в Банаке, чтобы приступить к организации комитетов бдительности. Собрание группы в Виргиния-Сити проходило в задней комнате магазина, свет был погашен, участники собрания выстроились в темноте, образовав круг, и, торжественно воздев руки, поклялись: «Мы, нижеподписавшиеся, объединенные достойной целью вылавливать воров и убийц и возвращать краденое, честью обязуемся друг другу и торжественно присягаем хранить тайну, соблюдать закон и всегда быть верными друг другу и нашей идее справедливости, и да поможет нам Бог».
Те, «кому было что терять», оказывали виджилантам поддержку. Всего лишь несколько недель спустя схватили и повесили самого Пламмера и его приспешников. Разгулу террора в Олдер-Галче, Вцргиния-Сити и Банаке пришел конец. Документы о производстве Пламмеру в ранг федерального шерифа территории (он выступил претендентом на эту должность в самый разгар своей карьеры) прибыли уже после того, как он был повешен.
119
13.
ЧТО ОСТАВАЛОСЬ ПОЗАДИ
Позади у переселенцев оставалось их прошлое с накопившимся в нем неравенством. Как могла община спрашивать с детей за грехи отцов, коль скоро отцы оставались в безвестности?
В старых деревнях Новой Англии к церкви, подчёркнуто выделявшейся близ места общинных собраний, примыкало кладбище, где имена обитателей деревни перечислялись в обстоятельных надгробных надписях. В поселенческих же общинах все обстояло иначе. Ведь «по обычаю прерий» хоронили поспешно — не для того, чтобы оставить памятный знак, но для того, чтобы убрать тело. Как пишет Грегг, на тропе Санта-Фе обычно хоронили быстро и без церемоний: «Труп, облаченный лишь в собственную одежду и уложенный вместо гроба в одеяло, предают земле. Могилу обычно заваливают булыжниками и кольями, чтобы уберечь от прожорливых волков прерий». Путешественники вспоминают, как тщательно их экспедиции стремились закамуфлировать подобные могилы. По ним прогоняли скот и провозили фургоны, стирая все следы захоронения, чтобы их не заметили индейцы и не раскопали труп.
Таким образом, новообретенная община и новые люди быстро вытесняли в сознании путников их прежнюю общину и традиции предков. В экспедициях, а особенно в приисковых лагерях, родовые имена вытеснялись прозвищами и даже более меткими кличками. Прозвище, конечно, не доставалось по наследству, подобно фамилии, а приставало к человеку в силу его каких-то сугубо личных качеств, его положения, рода занятий, конкретного поступка, жеста, черты характера, физической характеристики, голоса или аппетита. На приисках Запада прозвища типа Джо Честный Виски, Американский Пожиратель Пирогов или Правдивый Джеймс давались людям, оторванным от семейных корней и прошлого, их образ создавался их же собственными поступками.
В устоявшихся общинах наследуемое имущество (в том числе и наследуемое имя) наделяет человека добром, которое не им самим нажито. Самым ценным достоянием, во всяком случае в Европе, была земля, ибо она была неприкосновенной собственностью семьи и передавалась из поколения в поколение согласно нерушимым правилам. Лишь к концу периода средних веков английский закон позволил вносить изменения
120
в эти жесткие древние правила наследования путем составления завещаний. Разумеется, тронувшись в путь, свою землю с собой не потащишь. В новых же, легкоподвижных общинах земля, лишенная родовых корней, превратилась просто в предмет потребления. Ценность ее заключалась в цене, г, пена колебалась в зависимости от рынка. «Обживай и продавай» — таким был расхожий девиз Запада.
Первая аксиома устремившегося на Запад — путешествуй налегке. Если человек, отправляясь в путь, не понимал этого, то дорога учила его сама. В дневниках Джеймса Эбби, жизнерадостного юноши, подавшегося в апреле 1849 года в Калифорнию из Нью-Олбани, штат Индиана, сохранилась запись с перечнем имущества, оставленного накануне перехода через пустыню, когда его экспедиция подошла к Сьерра-Неваде:
2 августа. Вышли в путь в четыре утра. В шесть остановились готовить завтрак и облегчить фургоны, выбросив самую тяжелую одежду и все имущество, без которого можно обойтись. Весь день шли так быстро, как только могли, намереваясь по возможности пересечь пустыню, но скот настолько выбился из сил, что пришлось остановиться. Оказавшись без воды, я, Роули и Вудфил купили два галлона у торговца (припасшего воду специально для продажи) по очень сходной цене — доллар за галлон. Пустыня, через которую лежит наш путь, усеяна трупами быков, лошадей и мулов. На протяжении пятнадцати миль я насчитал 350 павших лошадей, 280 быков и 120 мулов; также сотнями бросают и живых, но ослабевших животных. Вот каково пересекать пустыню... По сравнению с этим зрелищем даже бойня или кожевенный завод покажется благоуханным садом. В караване из Миссури сегодня пристрелили двадцать быков. Сколько ценного добра просто бросают в пустыне: кожаные сундуки, одежду, фургоны и т.д., — на каких-нибудь двадцати милях разбросано тысяч на сто долларов. На последних десяти милях я насчитал 362 фургона, каждый из которых в Штатах стоил бы долларов 120. Фургоны бросают, чтобы уберечь быков и добратьться до цели путешествия по возможности быстрее, все время продолжая идти вперед. Потеря личного имущества по сравнению с этим уже ничего не значит.
Исходя из обретенного за четверть века опыта, Рэндолф Марси предупреждал во вступительной главе своего получившего полуофициальное признание справочника, что багаж «следует паковать самым надежным, компактным и пригодным для переноски образом, оставляя место и сохраняя силы для транспортировки пищи, воды, средств укрытия, боеприпасов и инструментов». Важно, писал он, иметь с собой запасной котелок и наковальню с изрядным запасом кожи, чтобы чинить
121
обувь, упряжь и седла. Но вещи, повсеместно отличающие богатых от бедных — элегантную одежду, резную мебель и серебряные сервизы, — явно следует оставлять дома.
Наиболее ценным из всего, что обычно оставляли дома, были, разумеется, женщины. Прииски складывались как мир мужчин. Считается, что весной 1849 года во всем Сан-Франциско было всего липп> пятнадцать женщин. Крепкие, бородатые, до бронзы обветренные золотоискатели часами бродили по улицам, только бы наткнуться и посмотреть на играющего ребенка. Каждый прииск обслуживало несколько проституток, процветавших на этом рынке благодаря высокому спросу и острой дефицитности предоставляемых ими услуг, но мужчины нередко отправлялись за десятки миль, чтобы просто поздороваться «с первой настоящей дамой на прииске». Семнадцатилетний юноша из Новой Англии проехал тридцать пять миль после недели тяжелого труда на участке отца, только чтобы увидеть недавно прибывшую на прииск жену одного рудокопа, «потому что, — как он объяснял отцу, — хотел посмотреть на настоящую даму, как у нас дома. И представляешь, отец, она пришила мне пуговицу и предостерегла от пьянства и азартных игр. Точь-в-точь как мама».
Нехватка женщин приводила к понижению уровня половой морали и, безусловно, способствовала огрублению нравов, но вносила и свои преимущества, ибо впоследствии, придя в эти края, женщины вместе с моралью принесли и неравенство. Еще в 1839 году (и это несмотря на недавний финансовый кризис) «элегантные и утонченные» чикагские дамы платили по 500 долларов за бальное платье. В переселенческой же среде Запада, где женщин было меньше, труднее было и пыль пускать в глаза. Создание социальных отличий было делом рук женщин. «Показуха, — писал один репортер с приисков Монтаны, — вызывает у всех неприязнь... Ее не забывают и не прощают, а это убивает человека не хуже пули». В кочующей общине неизбежно складывалось ощущение большего равенства между людьми, чем в оседлой, — не в силу убеждения, но в силу образа жизни.
Удачливый переселенец привыкал быть легким на подъем и нигде не пускать корней. Караваны фургонов ежедневно становились на новую стоянку. С самого начала просторы Запада служили безмолвными свидетелями немедленной готовности сняться с места и вновь отправиться в путь. Если покидали город в других краях, это становилось важнейшим событием, вызванным катастрофой, внезапной социальной рево
122
люцией либо вековым загниванием. Девять троянских городов, каждый из которых строился на развалинах предшественника, накапливались на протяжении тысячелетия, начиная с каменного века до Римской империи. Помпеи похоронило извержение вулкана. В XVIII веке «брошенные деревни» Англии, оплаканные Оливером Голдсмитом, служили признаками пробуждающейся экономики и сулимых ею коренных перемен: огораживаний, промышленной революции и миграции в города. В Старом Свете существовали города-призраки, по большей части похороненные под обломками надежд предшествующих поколений, на которых современники и пытались строить свое.
В Америке же вся археология племени, носившегося, как перекати-поле, вдоль и поперек полупустого континента, образовывала тонкий поверхностный слой. Своеобразным ее производным служили оставленные места поселений (города-призраки), а не погибшие и захороненные. Характерными реликвиями стали вещи, сознательно брошенные за ненадобностью, а не потому, что отслужили свой век. Пространства здесь имелось настолько больше, чем времени, что прошлое Америки было разбросано по всей ее территории.
Составление подробного перечня брошенных поселений вряд ли возможно. Но любое из них напоминает нам об американской археологии пространства, о следах, оставленных переселенцами. В Айове, например, составленный в 1830-х годах перечень поселков, деревень и почтовых отделений, заброшенных с тех пор, как Айова получила в 1838 году статус территории, насчитывал 2205 единиц. Причем в перечень не входили поселки или деревни, поглощенные другими населенными пунктами, либо населенные пункты, сменившие названия, либо те, что были заложены, но так и не были построены. Нет, речь шла о действительно брошенных поселениях, где когда-то действительно жили, получали почту, строили дома и планы люди, перебравшиеся затем в иные края. Аналогичный перечень «прекративших существование географических местоположений» (пунктов, заселенных и брошенных с 1852 по 1912 год), составленный в Канзасе, насчитывает более двух тысяч пятисот наименований. Подобные примеры напоминают об экспериментальном характере американских общин.
Новый американец, оставивший родню и собственность в Старом Свете, не мог обременять себя сожалениями. Переселенцы, устремившиеся на Запад, все больше испытывали со
123
блазн, потребность и возможности продвигаться все дальше и дальше. Дух перемены места поощрялся нестабильностью складывавшейся в Америке ситуации с первых же дней заселения Восточного побережья. Джеймстаун, первое «постоянное» английское поселение в Америке, стал также одним из первых американских городов-призраков. Основанный в 1607 году, Джеймстаун служил местом работы первого законодательного собрания Америки в 1619 году и до 1698 года практически являлся столицей Виргинии. После разрушений, причиненных городу мятежом Натаниела Бейкона в 1676 году, он начал приходить в упадок. В 1699 году столицу штата перенесли в Уильямсбург. В 1722 году проезжавший через Джеймстаун путешественник отмечал, что там «нет ничего, кроме обилия битого кирпича да трех-четырех сохранившихся заселенных домов».
Мы забываем, насколько мобильными были столицы наших штатов — даже старейших из них, расположенных вдоль побережья Атлантики. И Вашингтон в округе Колумбия отнюдь не являлся нашей первой специально построенной столицей. К 1812 году в восьми из первых тринадцати штатов столицы уже располагались не там, где находились в день провозглашения Декларации независимости, всего какие-то тридцать пять лет назад. В некоторых из них вновь провозглашенные столицы, еще не сущестствующие как реальные города, специально замысливались с этой целью. Столицу штата Нью-Гэмпшир перенесли из Портсмута в Конкорд (1808); штата Нью-Йорк — из Нью-Йорка в Олбани (1797); Пенсильвании — из Филадельфии в Гаррисберг (1812); Нью-Джерси — из Принстона в Трентон (1790); Делавэра — из Ньюкасла в Довер (1779); Северной Каролины — из Нью-Берна сначала в Хилсборо, а затем в ряд других городов, прежде чем остановиться окончательно на Роли (1794); Южной Каролины — из Чарлстона в Колумбию (1786); Виргинии — из Уильямсбурга в Ричмонд (1779). Эти перемещения служили признаками мобильности американцев и постоянной тенденции смещения центров политической власти к центрам скопления населения.
Не менее мобильными оказывались и столицы новых западных территорий и штатов. Взять, например, Огайо. Здесь первым постоянным поселением и первым центром гражданской администрации согласно Указу о заселении Северо-Запада от 1787 года стала Мариетта, где 7 апреля 1788 года с «Огайо Мэйфлау-эр» высадилось сорок семь членов экспедиции из Новой Англии, возглавляемой генералом Руфусом Патнемом.
124
Но на первое свое заседание 16 сентября 1799 года, когда население Огайо стало отвечать условиям, определенным Указом (то есть насчитывать пять тысяч свободных совершеннолетних жителей мужского пола), генеральная ассамблея собралась в Цинциннати. Конгресс же, однако, утвердил столицей территории Огайо город Чилликоте, где 3 ноября 1800 года проводилась вторая сессия. Затем ассамблея проголосовала за перемещение правительства из Чилликоте обратно в Цинциннати в 1801 году. Однако новая конституция штата, принятая в 1802 году, вновь определила местом пребывания столицы Чилликоте. Но на подобную честь претендовали и многие другие города. Тогда один из законодательных актов 1810 года определил, что столица должна быть расположена «не... более чем в сорока милях от... общепринятого центра штата, определяемого по карте Мэнсфилда». Предлагался и рассматривался целый ряд городов и еще не заселенных пунктов. В 1812 году было принято решение перенести столицу на восточный «высокий» берег реки Шиото напротив Франклинтона на место будущего города Колумбус.
Мигрировала столица и в Индиане. Столицей территории служил ее старейший город Винсенс (1800 — 1813), но потребность иметь столицу ближе к центру привела к перемещению ее в ныне забытый Коридон, где проводилась конституционная ассамблея 1816 года. Коридон, внезапно расцветший, дабы соответствовать удостоенной чести, вскоре обзавелся великолепным новым отелем (всего лишь в миле от капитолия), «построенном на века», с каменными стенами в восемнадцать дюймов толщиной. Но к 1825 году звезда Коридона уже закатилась, ибо в тот год столицу перевели в Индианаполис (засе-леннный лишь в 1820 году).
Территория Иллинойса, созданная в 1809 году, первой своей столицей назвала Каскаскию, но в 1820 столицу перенесли в Вандейлию, а затем (по настоянию молодого Эйба Линкольна) в 1837 году в Спрингфилд. Аналогичная ситуация складывалась в большинстве западных штатов.
Здесь лишний раз проявлялось функциональное отношение американцев к своим правительствам. Коль скоро один центр больше не годился, а другой мог оказаться куда удобнее — пора перебираться.
Созданный нами образ охотника за золотом образца 1849 года позволял нам думать, что переселенцы по большей части знали, за чем идут, даже если и не знали толком, где найдут искомое. Вглядываясь более пристально в судьбы отдельных
125
людей и общин, мы находим, что пути их часто оказывались туманны, а цели неопределенны.
Предприимчивость? Возможно. Целеустремленность? Возможно. Но и наряду с тем — вечная неуверенность, куда эти предприимчивость и целеустремленность приложить.
Мы ошибаемся, представляя себе продвижение линии поселений на Запад подобно продвижению линии фронта. Ошибаемся и тогда, когда воспринимаем всю в целом картину смелого расширения границ, предпринятого в XIX веке, только лишь как продвижение на Запад. Речь-то шла не о том, что люди неуклонно продвигались на Запад, а о том, что люди непрестанно передвигались по Западу.
Топтание вокруг да около, переселение с места на место где поудобнее, являлось такой же чертой американского опыта, как и движение в одном определенном направлении.
Другие народы предпринимали экспедиции в поисках либо определенного места, либо воплощенного идеала — во время крестовых походов, нашествий и миграций. Американцы же явили миру своего рода новых бедуинов. Более, чем что-либо другое, они ценили свободу передвижения, стремясь в самом акте его обрести искомое. Поэтому возможность поисков американцы ценили выше самой цели.
Итак, переселенческие общины перемещались с места на место по самым разнообразным причинам, а то и вовсе без причин. Подвигнуть на это их могли и бесперспективность возможностей в месте пребывания, и ложные догадки, и истощенные прииски, и тщетный оптимизм, и засуха, и нападения индейцев, и пожар, и железная дорога, не прошедшая рядом с ними, и охота к перемене мест наряду со слишком большими надеждами. Многие «исчезнувшие географические пункты» оказались реликтами исчерпанных ресурсов. Красноречиво описал археологию Нового Света Чарлз Говард Шинн, вновь посетивший районы золотой лихорадки в 1870-х и 1880-х годах.
Даже сегодня самый маленький из этих хиреющих лагерей заслуживает терпеливого изучения. В траншеях, раскопанных акр за акром и ныне поросших цветущим плющом, лежат тонны породы, перекопанной, просеянной и зарытой руками пионеров; некоторые из них покоятся в поросших травою могилках на солнечных склонах холма после упорных усилий и отчаянной и страстной борьбы за добытое тяжким трудом богатство. Когда-то это был Прииск Красного Пса, или Ущелье Сумасшедшего Мула, или Пристанище Убийцы. Ныне они превратились в безымянные каньоны, похожие на сотни других, разбросанных по территории в пятьсот миль длиной и пятьдесят
126
миль шириной, каждый из которых когда-то был полон бившей через край шумной, ревущей, грохочущей, пульсирующей мужской жизнью. Спустись и заговори с призрачными обитателями старого прииска — у тебя кровь заиграет в жилах от их рассказов о былом.
Сколько минуло лет — двадцать, тридцать? Какое там! Минула целая вечность!
Перемещались и сельскохозяйственные общины. Эти люди, пришедшие на новые земли не в такой спешке, и уходили постепенно, покидая обжитые места, которые сегодня можно было бы назвать земледельческими лагерями по аналогии с приисковыми. В Америке — особенно на Западе — человек рассчитывал на большее, чем просто на прожиточный минимум, и, если бороться становилось чересчур тяжело, а надежды не реализовывались, человек был готов искать где лучше.
Из многих ликов американского города-призрака типичнейшим остается быстро заселяемый и столь же быстро покидаемый городок приисковой общины. Поскольку старатели бросали и дома, и большую часть пожитков, восстановить такие города, как Сентрал-Сити или Остин в Колорадо, особого труда не составляло. Когда едешь на машине по дорогам Запада, города-призраки то и дело попадаются на глаза: улицы пришедших в упадок домов, «грустные брошенные обиталища, памятники не-сбывшимся надеждам». Осталась лишь внешняя оболочка, а душа—ушла.
Типичным явлением для Запада были тысячи городов-призраков совсем иного сорта (подобные тем, что подсчитывались в Айове и Канзасе), нежели бывшие приисковые поселения. Это были городки, постепенно приходившие в упадок, а иногда полностью исчезнувшие. Но иногда в них оставалась часть населения, и они сохранялись, как маленькие деревушки или поселки у перекрестков дорог. Оставшиеся жители, нуждаясь в дефицитном дереве, разбирали брошенные дома, которые теперь служили лишь убежищем для грызунов и насекомых да создавали угрозу пожара. Проезжая по этим поселениям сегодня, не много увидишь следов былого процветания. Уже и внешней оболочки почти не осталось. Запад полон подобных городов-призраков, куда более призрачных, чем места бывших приисков, — здесь-то ушли и душа, и тело.
История почти что любого из таких городов — хроника сложного сочетания неотделимых друг от друга разочарований и надежд. Некоторые из них всего лишь через несколько лет после основания становились, выражаясь вошедшей в анналы
127
фразой канзасских партизан Гражданской войны, «такими дохлыми, что и шкуры не сдерешь». Но иногда и с мертвых городов сдирали шкуру: унося из них свои надежды, жители иной раз уносили с собой и свои дома. Когда, например, пришел в упадок город Нинингер в Миннесоте, большую его часть разобрали и перенесли на более перспективное место. Его лесопилку, построенную в 1857 году, демонтировали, а оборудование продали в 1860 году. Отель «Хэндисайд-хаус», рассчитанный на пятьдесят постояльцев, перенесли в соседний и более преуспевающий городок Хастингс. Перенесли и конкурирующий с ним «Клин-тон-хаус». Возведенный в Нинингере «Тремонт-холл» приобрела масонская ложа близлежащего Коттедж-Грова и перевезла его туда. В этом городке, где в 1835 году практически никто еще и не жил, к лету 1837 года поселилось уже пятьсот, а в 1838 году — тысяча человек. К восьмой федеральной переписи 1860 года не сохранилось ни одного из первоначальных зданий. Поселение исчезло.
Перемещение зданий вошло в повседневную практику. Маленький деревянный городок Ньюпорт в Висконсине, когда-то с большими надеждами заселенный в удобном месте близ Деллеса, где шла навигация по реке Висконсин, начал приходить в упадок, когда железная дорога, минуя его, прошла по восточному берегу реки. Последнее бревно из Ньюпорта сплавили вниз по реке в 1880 году, но город уже был брошен задолго до того. Как отмечал местный ньюпортский историк, промашка с железной дорогой вызвала изрядное огорчение, и вскоре «по долам потянулась процессия зданий, перемещавшихся с места на место, подобно доисторическим чудищам».
Переселенцы могли иногда расставаться со своими жилищами, но ни в коем случае не с надеждами. Надежды переживали любые переезды. Но смогли бы выжить сами переселенцы, не покинь они истощенный прииск, пострадавшую от засухи ферму или деревянный городок, обойденный железной дорогой? Исходя из опыта других континентов, не скажешь, что им обязательно грозила стопроцентная гибель. Но для них просто выжить было мало, они стремились к процветанию. Чтобы сняться с места, хватало одного — понять, что здесь процветанием и не пахнет. Таким образом, уровень мобильности переселенцев измерялся их решимостью добиваться бескомпромиссного осуществления своих надежд. Недавние пришельцы, занесенные в новые края быстрыми ветрами, они оставались всегда легкими на подъем.
128
14.
ПРИШЕДШИЕ ПЕРВЫМИ
Потребность в быстрых перемещениях на дальние расстояния сформировала внешний облик дорог и средств передвижения, с помощью которых переселенцы продвигались на Запад. Более того, она породила технологию спешки. Всегда впереди маячили призы, которые достанутся другим, если не поспеешь вовремя. А путь к ним лежал тяжелый и долгий. То палящее солнце пустыни, то нехватка воды, то глубокий снег и враждебно настроенные индейцы заставляли любого здравомыслящего человека искать возможности сократить этот путь. Может, Америка и вправду была страною будущего, но переселенцу она представлялась страной, где жизнь диктует принцип «сейчас или никогда».
Американцы мастерили фургоны, пароходы и железные дороги, не думая ни о грядущем поколении, ни о грядущем десятилетии, ни даже о будущем годе. Мастеровой беззастенчиво думал лишь о сегодняшнем дне. Самым важным считалось поспеть первым, а если не первым — то хотя бы как можно раньше. Именно чувство спешки и сформировало американскую технологию средств передвижения.
Любое транспортное средство, которым пользовались на Западе, отличалось легкостью конструкции, подвижностью и маневренностью. Идущие на Запад предпочитали фургоны иной модели, чем те, что были приняты на Востоке, или вообще бросали повозки и перегружали имущество на вьючных лошадей и мулов. Им не подходили ни элегантные экипажи из Конкорда, ни тяжелые фургоны, сработанные в Конестоге. Они предпочитали легкий «степной фургон» — «меньшего размера, более легкий и менее прочный, без двери, с очень плохими рессорами и с полотняными занавесками вместо окон». Фургоны эти, построенные для быстрого передвижения, буквально носились по прериям. Но иногда их бросали у подножия гор Сьерра-Невада. Нередко их продавали в дороге — целиком или по частям: колеса, оси, деревянные части представляли собой ценный товар. Фургон обычно и не рассчитывали использовать более чем в одном путешествии.
История путешествий по Западу в пик движения переселенцев в период между Революцией и Гражданской войной повсеместно представляется историей скорости. Широкая Миссисипи, простирающаяся почти на четыре тысячи миль от
129
истоков Миссури, судоходные притоки которой расходятся на восемьсот миль вдоль побережья Тихого океана, представляла собой естественную гигантскую транспортную артерию. Методом же работы западных пароходов стали гонки. Поначалу западная страсть добраться первым диктовалась прозаическими, практическими и коммерческими интересами, но очень скоро выделилась в самостоятельный феномен. То, что началось как грубая необходимость, развилось в опасное и восхитительное развлечение. Подобно скачкам лошадей, гонки пароходов по Миссисипи, столь впечатлившие Марка Твена на заре его дней, превратились в спортивную самоцель. Но в отличие от скачек, спорта индивидуального и аристократического, гонки пароходов стали соревнованиями массовыми и популярными.
Еще в 1787 году Джон Фитч спустил на воду первый в Соединенных Штатах корабль, приводимый в действие силой пара. Двадцать лет спустя пароход Роберта Фултона «Клермонт» добрался от Нью-Йорка до Олбани за тридцать два часа. К1838 году, когда английский инженер Дейвид Стивенсон приехал ознакомиться с баснословными успехами, которыми молва наделила американские паровые суда, они курсировали по Гудзону со скоростью, значительно превышающей скорость любого европейского парохода. Дух пароходных гонок периода 1840 года суммировал знавший в них толк и бывший очевидцем их эксцессов барон де Герстнер:
Американцы — самый, как известно, предприимчивый в мире народ — справедливо говорят о себе: «Мы всегда рвемся вперед». Здешние демократы не любят оставаться позади; напротив, каждый стремится опередить другого. Стоит двум пароходам оказаться борт о борт, пассажиры подбивают капитанов на гонку, и те соглашаются. В котлах, рассчитанных на давление лишь в 100 фунтов на квадратный дюйм, давление, нагнетаемое струей пара, поднимается до 150, а то и 200 фунтов, и временами доходит до того, что дело кончается взрывом. В отличие от Европы на здешних пароходах редко устанавливается клапан, позволяющий при определенном уровне нагрева залить топки водой. Часто причиной взрывов пароходных котлов служат гонки, и тем не менее они постоянно продолжаются. Но ведь жизнь американца и есть постоянная гонка, так стоит ли бояться ее на борту парохода?
При проектировании речных судов на Западе издавна руководствовались соображениями скорости и экономности конструкции. До наступления века пара по реке в основном ходили плоскодонки любых форм и размеров, длиною от двадцати до
130
ста и шириною от двенадцати до двадцати футов, простейших конструкций, часто сшитых, что называется, «на живую нитку» и держащихся на плаву лишь столько, чтобы выдержать маршрут хотя бы в один конец. Отслужив свое, суденышки бросались прямо на реке либо использовались то как кров, то как топливо. В Новом Орлеане спрос на пиленый лес для тротуаров и домов обеспечивал активный рынок для пущенных на слом плавсредств.
К 1820-м годам, когда пароходы стали на реках Запада привычными, они оснащались в основном машинами, сделанными здесь же, на Западе (в Питтсбурге, Цинциннати или Луисвилле), сработанными по специальному западному образцу, наиболее отвечающему местным потребностям. Первые паровые машины, нашедшие практическое применение в Англии и Америке, были рассчитаны на низкое давление. Такой была первая машина, разработанная Уаттом и производимая затем фирмой Бултона—Уатта, надолго ставшая образцом для промышленного производства паровых двигателей. Пар накапливался в большом вертикальном цилиндре двойного действия, но развивал давление лишь в несколько фунтов на квадратный дюйм. Из цилиндра пар отводился в конденсатор, где осаждающая его струя холодной воды создавала частичный вакуум. Вакуум в свою очередь позволял давлению приводить в действие поршень. Для получения мощности, достаточной для какого-либо практического применения, требовался, естественно, цилиндр большого диаметра. Подобные машины с низким давлением и были первоначально использованы Фултоном, который импортировал для «Клермонт» двигатель фирмы Бултона — Уатта. Но этот двигатель оказался дорогим и сложным и требовал множества точно подогнанных подвижных частей как для цилиндра, так и для конденсатора.
На пароходах Запада прижилась паровая машина иного, нового образца, созданная главным образом одним из забытых героев американского индустриального прогресса, Оливером Эвансом (1755 —1819). Самоучка, сын фермера из штата Делавэр, Эванс с юных лет увлекся возможностями, которые открывали механическое производство и сила пара. Насмешки и отсутствие поддержки со стороны общественности не позволили Эвансу реализовать на практике проект экипажа на паровой тяге, но уже в 1802 году он применял у себя на фабрике стационарную паровую машину с высоким давлением. Машины подобного типа существовали и до Эванса, но считались непрактичными и опасными. Эвансу и работавшему независимо
131
от него англичанину Ричарду Тревитику принадлежит честь создания широко используемого парового двигателя высокого давления.
Этот двигатель был намного проще. Пар накапливался в его цилиндре под гораздо более высоким давлением — поначалу от сорока до шестидесяти фунтов на квадратный дюйм, а к 1840 году была создана модель, в которой давление доводилось до ста фунтов. Конденсатора не требовалось, поскольку расширяющаяся струя пара приводила поршень в действие непосредственно. Цилиндр же был намного меньше в диаметре, чем в машинах такой же мощности с низким давлением. Используя эти очевидные преимущества, Эванс вскоре разработал двигатель гораздо более компактный, дешевый и легкий в производстве, эксплуатации и уходе, чем машины с низким давлением пара. В 1805 году Эванс издал руководство типа ♦сделай сам», вооружившись которым любой квалифицированный механик мог изготовить и эксплуатировать паровой двигатель высокого давления. Книга именовалась весьма занятно: «Основы справочника молодого инженера-паровика, содержащие рассмотрение принципов, конструкции и мощности паровых машин».
Лет десять спустя новый тип паровой машины высокого давления стал повсеместно использоваться на водных путях Запада. Оказавшись как нельзя более пригодным для специфики навигации в тех краях, он значительно продлил век пароходов. Критики, несведущие в специфике Запада, не единожды клеймили его как неэкономичный и опасный. Но те, кто по-настоящему знал Огайо, Миссури и Миссисипи, с полным на то основанием утверждали, что иной тип парового двигателя им не нужен. В мелких водах западных рек вес судна и двигателя служил важным фактором; тяжесть машины усугубляла трудности навигации. По сравнению с двигателем низкого давления двигатель высокого давления выигрывал в весе пропорционально количеству лошадиных сил и, имея почти в два раза меньше движущихся частей, был намного легче и дешевле поддавался ремонту. Более того, машина низкого давления не обладала гибкостью и резервными мощностями, необходимыми, чтобы справиться с изменениями течений, разливами и внезапными препятствиями, создаваемыми быстрыми потоками вод в узких извивающихся тоннелях. Главным преимуществом машины низкого давления были безопасность и экономичный расход топлива — достоинства, которые мало принимались во внимание на Западе. На протяжении долгого
132
времени лес по берегам рек почти ничего не стоил, а когда поредели чащи, стал доступен дешевый уголь. Таким образом, даже тридцатипроцентная разница в расходе топлива особого значения не имела.
Люди Запада, снедаемые желанием во что бы то ни стало добраться первыми, охотно шли на немалый риск, путешествуя на судах, оснащенных машинами высокого давления. Американский парусник служил лет тридцать, век китобойного корабля достигал лет шестидесяти. Срок службы парового судна на Западе был коротким. Контраст с продолжительностью срока эксплуатации пароходов на восточных реках был также очевиден: в 1860 году, например, проверка, проводившаяся в Нью-Йорке, установила, что речной пароход изнашивается за девять лет. В Питтсбурге пароход срабатывался чуть больше чем за два года.
На западных реках с пароходами случалось чудовищное количество аварий. Не раз отмечалось, что плыть по Миссисипи было куда опаснее, чем пересекать океан. До 1852 года официальной статистики не публиковалось, но можно предположить, что из всех пароходов, построенных в первой половине века, около тридцати процентов погибло в авариях. Около трети материальных убытков, половины погибших и двух третей пострадавших в пароходных авариях, зарегистрированных в первой половине столетия, связано со взрывами паровых машин. Разлетающиеся обломки, струи пара и кипятка поражали людей сотнями. Не последнюю роль в столь ужасном уровне катастроф играл всеобщий спрос на механиков, способных «проворно раскочегарить» самую изношенную топку, выжимая из нее последние пары.
Люди, охваченные «земельной лихорадкой», люди, охваченные «золотой лихорадкой»; спекулянты недвижимостью; торговцы, неприметные суетливые эмигранты — все были одержимы желанием «как-нибудь, но двигаться вперед».
«Бросьте мне заливать про эти ваши посудины на северных реках, — презрительно кривил губы кочегар парохода на Миссисипи, разговаривая в 1844 году с пассажиром, едущим из восточных штатов. — У вас там за пять лет ни один не накрылся. Вот чтоб на этих «крокодилах» гонять, надо быть не робкого десятка: на всех парах, клапана до отказа, шестьсот душ на борту, и все вот-вот разнесет к чертям».
Речники, собравшиеся в 1838 году в Цинциннати обсудить причины аварий, отмечали, что зачастую виною тому служили
133
небрежность и некомпетентность. Но пришли к следующему выводу:
...Общественность сама в немалой степени способствовала росту этого зла, и не только газетной шумихой, но и неизменным стремлением «плыть как можно быстрее», изъявляемым большинством пассажиров, и даже требованиями увеличить скорость.
Что же удивляться, если под таким нажимом некоторые капитаны дают уговорить себя увеличить скорость судов до опасных пределов, тем более что предпринятый ими риск вознаграждается овациями и всеобщим одобрением. Нездоровая тяга пассажиров «вырваться вперед» и служит, пожалуй, одной из главных причин зла...
Хотя пароходам случалось взрываться и в других местах, этот вид аварий стал отличительной чертой Запада. Множились посвященные им малоправдоподобные рассказы: пассажиров, мол, еще не оплативших проезд, помещали на корме, где опасность погибнуть при взрыве грозила меньше, чтобы в случае аварии с них еще можно было собрать деньги. А кочегарами, мол, предпочитали брать вместо рабов ирландцев, ибо их гибель не влекла за собой убытков для администрации. Но и неприукрашенная реальность выглядела достаточно жутко. За вторую четверть прошлого столетия на западных реках произошло не менее ста пятидесяти крупных взрывов паровых машин, в которых погибло не менее тысячи четырехсот человек. Несчастье следовало за несчастьем. Одним из самых известных был взрыв парохода «Мозель» 25 апреля 1838 года. Его капитан Перрин снискал своему судну «громкую славу»: он бил все рекорды скорости, топя канифолью, не задерживаясь у пристаней ни на секунду и не стравливая пары из котлов. Погибло не менее 150 из 280 пассажиров — кого обварило, кто утонул, кого задавили в панике. Страшной кульминацией приключений Марка Твена на Миссисипи стал взрыв парохода «Пенсильвания» в середине июля 1858 года, унесший жизни более 150 человек.
Та же страсть к скорости, что побуждала путников Запада идти в огонь и воду, лишь бы первыми добраться до цели пароходом, и подталкивала пассажиров «Пони экспресс» рисковать жизнью и здоровьем, объясняла быстрое вытеснение парохода железной дорогой — поезда переманивали пассажира, потому что доставляли его за два-три дня туда, куда пароход добирался неделю. Американские железные дороги тоже
134
будут отличаться своими особенностями — назначением, устройством и качеством.
Пароходы шли маршрутами, проложенными самой природой. Железные дороги (хотя и направляемые всегда очертаниями рельефа и ориентирующиеся по ним) являлись путями сами по себе. Железные дороги американского Запада обладали способностью торить тропу для заселения территории. Эту уникальную потенциальную способность железных дорог подметили проницательные европейцы. «Построить железную дорогу в заселенных районах — это одно, — писал англичанин-путеец в 1851 году. — Но построить ее, чтобы привлечь людей в ненаселенные районы, — совсем другое дело». Шотландец Джеймс Стирлинг, путешествовавший по Западу в 1856 — 1857 годах, писал: «Между прерией и железной дорогой существует как бы предопределенная гармония, ибо прерия как нельзя лучше приспособлена для прокладывания железной дороги, а железные дороги необходимы для развития прерии. На протяжении сотен миль достаточно лишь снять слой дерна и проложить шпалы — не нужно ни нивелировать почву, ни наводить мосты. Не нужно ни инженерных сооружений, ни практически землеустроительных работ. Железная дорога идет длинной ровной полосой по равнине. Равнина же, не забудьте, не стоит ровно ничего. В худшем случае — доллар с четвертью за акр. Искусственных препятствий там еще меньше, чем естественных. Нет городов, которые пришлось бы огибать либо строить виадуки за баснословные деньги. Нет поместий, «целостность» которых надо сохранить... Опять же — прерии позволяют прокладывать железные дороги совершенно без убытка для кого-либо. Железная дорога так способствует развитию страны, что вчерашние бросовые земли становятся ценными участками. Таким образом, действие рождает взаимодействие: железная дорога способствует развитию края, развитие же края обогащает железную дорогу... ничто в истории не может сравниться с этими семимильными шагами цивилизации. Впервые в мире мы видим высокоцивилизованный народ, спокойно расселяющийся по необъятной неосвоенной территории и, как по мановению волшебной палочки, превращающий пустошь в возделанный Цветущий край».
Само состязание с целью захватить и завладеть этими необъятными невозделанными просторами и сформировало ре-пштельным образом облик американских железных дорог, стимулируя развитие технологии спешки, оказавшейся в то же
135
время и технологией прогресса. Найдя яркое воплощение в железных дорогах, она нашла затем отражение и во многих иных аспектах жизни Америки. Железные дороги пожинали также плоды трудов, положенных первопроходцами, — придя первыми, они получали значительное вознаграждение. Ярчайшим примером, разумеется, служила первая трансконтинентальная железная дорога. Закон о Тихоокеанской железной дороге от 1 июля 1862 года предусматривал строительство центральной тихоокеанской линии на восток от Калифорнии до Невадской дороги, где ей надлежало соединиться с союзной тихоокеанской линией. Но к 1866 году лоббисты центральной тихоокеанской линии, в лучших традициях калифорнийских земельной и золотой лихорадок, убедили конгресс внести в закон изменения. Новая редакция закона позволяла каждой компании прокладывать ветку на любое возможное расстояние, пока она не соединялась с веткой, идущей навстречу с противоположного направления. Так открывались ценные и исключительно американские новые возможности. Каждая дополнительная миля прокладываемого пути обеспечивала его строителям крупные займы из федеральной казны (от 16 000 до 48 000 долларов в зависимости от рельефа местности), а также право на владение пути длиною в 400 футов и десятью земельными участками земли. Первая американская трансконтинентальная железная дорога превратилась, таким образом, из инженерного проекта в гонку, в которой методы строительства, применяемые конкурирующими компаниями, вызывали общенациональные скандалы.
Аналогичные стимулы меньшего масштаба ускоряли строительство повсеместно. Первые дороги зачастую получали монопольные преимущества, подобно дороге компании «Камден энд Эмбой» в Нью-Джерси, либо исключительное право пересечь индейскую территорию, предоставляемое авансом той компании, которая первой подойдет к ее границам.
Таким образом, неудивительно, что американские железные дороги прокладывались стремительно, без внимания к безопасности, комфорту или долговечности. Потому и прокладывалась одна колея (с разъездами для встречных поездов), а не две. Потому и шла колея неровно и с крутыми поворотами, что некогда было засыпать овраги, пробивать тоннели или делать насыпи. Американцы охотно (и часто безрассудно) экспериментировали в поисках более дешевых и быстрых способов прокладки железных дорог, используя узкие колеи, деревянные подмостки вместо земляных или каменных насыпей, не
136
закрепленное полотно, любой мыслимый и немыслимый материал и возможность пройти напрямую.
Хлипкость сооружений и огромная скорость, развиваемая на неогороженной, плохо укрепленной дороге, проложенной с крутыми поворотами по пересеченной местности, вызывали многочисленные катастрофы. К середине прошлого столетия крушения поездов на американских железных дорогах, особенно западных, стали такими же частыми и печально известными, как взрывы пароходов лет десять — двадцать назад. Чарлз Диккенс, которого не просто было привести в шок, отнес свою поездку по дороге Бостон — Лоуэлл в 1842 году к ужасающим переживаниям. Иностранцев, путешествующих поездами по Соединенным Штатам, обычно приводило в ужас количество катастроф и изумляло спокойствие, с которым воспринимали их американцы. Англичанин Чарлз Ричард Уэлд записал свои впечатления от поездки на поезде в 1855 году из Камберленда, Западная Виргиния, в Вашингтон, округ Колумбия. Поскольку поезд вышел из Камберленда с большой задержкой, то приходилось ехать очень быстро, чтобы скомпенсировать опоздание, как объяснил кондуктор.
Из Камберленда линия следует извивам реки Потомак, образуя весьма крутые повороты. По ним, подобно стремительной ракете, и летел во весь опор паровоз, так швыряя наш вагон из стороны в сторону, что приходилось держаться. Ощутимым признаком неминуемой катастрофы послужило падение мне на голову тяжелого лампового плафона. К счастью, я отделался лишь крепким ударом. Затем еще одно ламповое стекло вылетело из плафона прямо на колени одной из пассажирок. Тем временем тряска вагона усилилась еще больше.
Теперь дело приняло столь серьезный оборот, что я ждал крушения с минуты на минуту. Мою уверенность разделял и господин, имеющий на своем попечении двух дам. Сохраняя спокойствие, достойное лучшего применения, этот господин инструктировал нас, как следует рассаживаться, особо подчеркивая важность сидения боком, дабы удар не пришелся непосредственно по коленям, и рекомендуя держаться за спинки сидений перед нами. Советы господина подкреплялись заверениями в его опытности по части железнодорожных катастроф. Затем господин добавил, что в среднем вагоне ехать безопаснее, чем в последнем, а посему было бы разумно на следующей станции пересесть.
Как мы и ожидали, крушение действительно произошло, причем такое, что, останься мы в последнем вагоне, последствия могли оказаться куда более серьезными. Тщетны были призывы к кондуктору сбавить безумную скорость. Со слепым, если не умышленным безрассудством, поезд несся все с той же скоростью, пока наконец миль через шесть после станции, где мы пересели в другой вагон, жуткий грохот удара, за которым последовали тол
137
чки и рывки, не завершился мертвой тишиной после того, как наш вагон, перевернувшись, застыл на месте, нагляднейшим образом давая понять, что поезд сошел с рельсов.
Выбравшись из-под обломков, Уэлд обнаружил, что, кроме паровоза и части среднего вагона, все остальное раздавлено в лепешку. Вокруг валялись колеса. Рельсы либо сорвало от шпал, либо скрутило в штопор. К охватившему Уэлда ужасу прибавилось чувство возмущения, когда оказалось, что никто из товарищей по несчастью не намерен присоединиться к его попытке обжаловать безрассудство машиниста. Напротив, большинство из них воздавали хвалу усилиям последнего прибыть по расписанию.
Зачастую катастрофы случались в одном и том же месте. Алфред Банн, английский театральный деятель, путешествовавший по Америке в 1851 году, рассказывал с изумлением о том, что его знакомый, не успевший передать посылку на станции близ его дома, даже и бровью не повел, поскольку знал, что поезда обычно сходят с рельсов через одну милю. Так и вышло — этот поезд тоже сошел с рельсов, и знакомый Банна без проблем сгрузил свою посылку.
Количество крушений на железных дорогах было ужасающим по сравнению с европейским. И это стало, подобно количеству автомобильных катастроф в XX веке, общепризнанной чертой американской жизни. К середине XIX века в стране усилился протест против жертв, вызванных железнодорожными катастрофами, но спешка, дешевизна строительства и одержимость скоростью сводили все прилагаемые усилия на нет.
Все же американская решимость поспеть первым, строить быстро и дешево и передвигаться с большой скоростью не была лишена и положительных сторон, что объясняет многие специфические достоинства, заметные уже тогда в развитии американской техники.
Так, например, неровное, изобиловавшее крутыми поворотами полотно американских железных дорог стимулировало улучшение моделей локомотивов. Мишель Шевалье, наблюдательный француз, прибывший сюда в 1834 году изучать американские общественные работы, отмечал, что подъем в 50 футов на милю (то есть в два раза больше предельной нормы, установленной французскими инженерами) американцев не смущал. Для поворотов французы установили минимальный радиус 2700 футов. Но на железной дороге Балтимор — Огайо
138
встречались повороты с радиусом всего лишь до 400 футов, а радиус в 1000 футов считался совершенно нормальным. Английские инженеры вообще сомневались в возможности использования паровозов на рельсовых изгибах, и уж мало кому из них приходило в голову, что на изгибах с таким коротким радиусом можно безопасно водить паровозы, да еще на большой скорости.
Прогнозы англичан подтвердились, когда паровозы, за огромные деньги доставленные из-за моря, не сумели справиться с изгибами американских железных дорог. Самым знаменитым из завезенных локомотивов был «Сгорбридж лайон», весивший семь тонн (в два раза больше, чем оговаривалось контрактом). После демонстрационного пробега в 1829 году знаменитый локомотив бросили ржаветь на запасных путях. Некоторые его детали сохранились в Национальном музее в Вашингтоне. Именно те качества, за которые так ценились «Сторбридж лайон» и другие английские локомотивы, завезенные сюда в первой половине века, — прочность, жесткость, основательность конструкции — и делали их непригодными для американских дорог.
Следовательно, для этих дорог необходимо было разработать локомотив особой конструкции. Легкий и маневренный, способный одолеть и крутые подъемы, и крутые повороты и не продавить легкие деревянные эстакады. Американские проектировщики оказались на высоте задачи, в кратчайшие сроки создав ярко выраженный американский локомотив, в котором нашли отражение не столько высокое качество (тогда еще не существовавшей) американской техники, сколько хлипкость, спешка и необходимость экономии при прокладке дорог, скудность капиталов в целом и недостаток основных видов сырья (как, например, железа) в частности, разнообразие рельефа местности, а также гигантские расстояния и одержимость скоростью.
Первоначально пробовались незначительные модификации, но новые американские проблемы требовали коренных изменений, которые вскоре и наступили. Пионер американского инженерного дела Джон Блумфилд Джервис, не имевший европейского опыта, который мог дезориентировать и запутать его, окинул американские проблемы свежим взглядом, позволившим совершить первый принципиально новый шаг в разработке новой модели паровоза. Он создал устойчивый кузов на четырех маленьких колесах, несущих переднюю часть локомотива, а тяжелые приводные колеса (сначала два, затем четыре)
139
установил сзади. По этой модели был изготовлен в 1832 году его паровоз «Братец Джонатан» (иногда именуемый также «Эксперимент»), один из первых шестиколесных локомотивов. В свое время «Братец Джонатан» был самым быстрым паровозом в мире, способным развивать скорость от 40 до 60 миль в час. В скором времени все основные достижения передового американского паровозостроения нашли отражение в модели «Меркурий» (1842), сочетавшей монтируемую на исключительно легкой раме чрезвычайно гибкую подвеску кузова Джервиса с усовершенствованными приводами колес Джозефа Гаррисона, компенсирующими тряску. «Меркурий», перевозивший пассажирские составы со скоростью 60 миль в час, наездил за год (1844) 37 000 миль, что составило самый большой пробег для паровоза в то время.
Мелкие технические изменения привели к еще большему отличию американских моделей от английских. Английские локомотивы были солидными, устойчивыми, тяжелыми, прочными и добротными. Являя собою чудо мощи и точности, они вообще были малоподвижными и неповоротливыми. Американские же локомотивы по сравнению с ними, отмечал в 1879 году популярный писатель, казались «какими-то нелепыми корзинками»: «Рама — легкая и открытая, однако прочная... Двигатель висит на системе рычагов, равномерно сбалансированных во все стороны. Как бы ни извивался, ни опускался и ни вздымался путь, эта гибкая, как корзинка, конструкция рамы и ее опор балансируют двигатель каждую секунду». Подобная легкость, простота и гибкость будут и впредь отличать большинство американских промышленных разработок.
♦ ♦ ♦
Технология спешки отражала особое отношение ко времени — к настоящему и будущему, а также к взаимосвязи между ними. Может, Америка и была страною будущего, но американцы редко воспринимали себя людьми, строящими будущее. Точнее говоря, американская техника была техникой настоящего, формируемой спешкой, недостатком мастерства, денег и сырья, наряду с твердой уверенностью в неизбежности ее быстрой эволюции.
Британские путейцы, напротив, сознательно строили для будущего, но стали пленниками жесткости собственных намерений.
140
Изобретение железных дорог представлялось нам конечным достижением средств передвижения, — объяснял английский инженер-путеец Эдвард Уоткин, посетивший Америку в середине XIX века, — а посему мы и строили «навечно» из кирпича и цемента. Мы укладывали рельсы, достаточно прочные, чтобы выдержать двигатель любого веса; оборудовали дренаж, способный отвести любые потоки, и наводили мосты, способные выдержать любые перегрузки.
Американцы же строили для сегодняшнего дня. Заботясь прежде всего о том, как растянуть подольше (в прямом и переносном смысле) ограниченные средства, они не могли особенно заботиться о долговечности. Куда важнее было прийти первым и побыстрее, чем прокладывать дорогу для внуков. «При сооружении железных дорог, — объяснял американец, которого в 1841 году заслушивал британский парламентский комитет по экспорту машиностроения, — прежде всего принимаются во внимание факторы экономии, скорости и конкуренции. Общепринято считать, что лучше сразу протянуть дорогу как можно дальше, удовлетворяясь качеством, доступным при данных обстоятельствах, чем откладывать производство работ, столь исключительно благотворных для страны».
Строя быстро и на живую нитку, американцы отказались стать заложниками будущего. Они укрепились в своей вере, что в Америке будет меняться все — в том числе, разумеется, и технология строительства железных дорог. Они-то никоим образом не видели в железных дорогах «предела возможностей развития средств передвижения». Уверенность англичан в будущем и уподобление его настоящему помешали им даже представить себе вероятность устаревания. Для американцев же представление о том, что устаревает все, стало символом веры.
15.
ДЕМОКРАТИЯ СПЕШКИ
Открывшиеся американцам возможности путешествовать служили всеобщему равенству. Развивающиеся здесь средства транспорта, как отмечал в 1835 году Шевалье, способствовали «сокращению расстояний не только между регионами, но и между классами. Там, где богатый и знатный путешествует с пышной свитой, а бедняк, идущий в соседнюю деревню, бредет, продираясь сквозь грязь, Ьесок, камни и кустарник, слово
141
«равенство» звучит ложью и насмешкой, и аристократия смотрит на вас с презрением». Неважно, как именуется форма правления, принятая в Индии, Китае, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, отмечал Шевалье. Крестьянину или рабочему нипочем не убедить себя, что он ровня военному, брамину, мандарину, паше или дворянину, чья свита пронеслась мимо, обрызгав его грязью. Процессии оных преисполняли бедняка благоговейным ужасом, он пропускал их, стоя на коленях. В Англии же, несмотря на неравенство состояний и происхождений, «механик или рабочий мог пойти в кассу и купить билет на поезд, если у него нашлось несколько шиллингов, и имел право, заплати он за это, ехать в одном вагоне, на одном сиденье с баронетом, пэром и герцегом, ощущая свое человеческое достоинство и воочию убеждаясь в отсутствии непреодолимой пропасти между ним и дворянством».
Шевалье и многие другие сходились в том, что уравнительный эффект частых и свободных путешествий еще заметнее сказывался в Америке. Здесь, где расстояния были куда более дальними, чем в Англии, и где простые люди путешествовали чаще, путешествие поездом сводило большее количество людей в более тесные группы и на больший срок. Все это способствовало стиранию непрочных классовых барьеров. Экономичность конструкции, необходимость как можно более быстрого производства транспортных средств, готовность путешествующих мириться с неудобствами, лишь бы добраться поскорее, также способствовали более тесному и неразборчивому общению. Вечно торопясь куда-то, пассажиры забывали о различиях, принятых в иных краях и в иные времена, не обращали на них внимания или просто забывали.
Филадельфийский аристократ Сэмюел Брек, путешествовавший из Бостона в Провиденс жарким июльским днем 1835 года, описывал ужас, охватывавший его по мере того, как в вагон набивалось все больше и больше народа. «Двое бедолаг, явно не очень привыкших уделять внимание своему туалету, притиснули меня в угол, а горячее солнце заставляло их одежду испускать мерзкий запах соли, рыбы, смолы и патоки». Затем появились двенадцать «вертлявых фабричных работниц», быстро освоившихся в вагоне и тут же начавших сосать лимоны и грызть зеленые яблоки. Значительные социальные последствия путешествий в переполненном, быстром американском транспорте (будь то проход или вагон поезда) угнетали его:
142
Богатые и бедные, образованные и невежественные, воспитанные и хамы, все набивались битком в этих современных транспортах. Результатом было полнейшее стирание граней. Хозяин и слуга стоят голова к голове на полу пароходной каюты, едят за одним столом, а в поезде сидят Друг у друга на коленях, и все ради того, чтобы с большими неудобствами проделать за два дня путь, который с большим удовольствием можно было бы проделать за восемь-десять дней... Ну какие могут быть дамы на пароходе или в поезде! Да никаких. Я себя сам никогда не ощущаю там джентльменом и не Moiy заметить ни 1рамма благородства ни в ком, кто становится частью путешествующей толпы. При виде женщин, коих в гостиных или иных пристойных местах я привык почитать, проявляя все возможное уважение, — так вот, при виде женщин, локтями распихивающих толпу немытых эмигрантов и нашего сермяжного простонародья, чтобы продраться сквозь них к столу, накрытому на сто, а то и более человек, я не способен воспринимать их претензии на аристократизм и отношусь к ним как ко всей этой орде плебса. Дабы вернуть даму в надлежащий ей круг, позвольте ей путешествовать в избранном обществе со скоростью не более пяти миль в час и принимать пищу в уюте доброй гостиницы, где она может достойно отобедать...
Я всецело стою за старомодный способ передвижения со скоростью пять — шесть миль в час, который позволяет ощущать себя хозяином положения и к которому снова вернутся будущие поколения.
Иностранцы, подобно Диккенсу, с удивлением отмечали, что поезда в Америке в отличие от Англии и других стран не делятся на вагоны первого, второго и третьего классов. Иногда, однако (особенно на Юге), встречались отдельные вагоны для мужчин, для женщин, для негров, для иммигрантов или для военных. Как отметил Диккенс, вагоны для мужчин отличались от вагонов для женщин в основном тем, что в мужских курили, а в женских — нет. Повсеместно распространенное жевание табака служило одним из мощнейших аргументов женщин в пользу отдельных вагонов. Но держать специальные вагоны влетало в копеечку, и (за рядом примечательных исключений) практика их использования сошла на нет.
Американские железнодорожные вагоны отличались не только отсутствием «классовых» различий, но и общей конструкцией. Отличительная черта, по сей день бросающаяся в глаза американцу, путешествующему по железной дороге в Англии или на Европейском континенте, возникла почти с самого начала. Первые американские вагоны, как и европейские, делились на несколько полностью изолированных купе, каждое на шесть — восемь человек, где пассажиры и проводили все время поездки. Но такая модель отражала традиционную и консервативную технологию: первые вагоны, составлявшие две — три длины упряжного экипажа, просто собирались из
143
нескольких старых экипажей на одном каркасе. Этим объяснялось и то, почему двери сначала располагались в стенах вагонов, а не во входных тамбурах. Но вскоре на смену пришла более радикальная модель вагона. Отныне пассажиров рассаживали в длинных коробообразных вагонах, куда входили в двери, расположенные с обоих концов, и которые не делились на изолированные отсеки. Европейская модель вагона сохранила перегородки и маленькие купе еще от старых экипажей на конной тяге. До самого недавнего времени встретить в Европе американскую модель без купе и перегородок можно было лишь в вагонах третьего класса. В этих открытых интерьерах, давно уже отличающих американскую модель, пассажиры (за исключением встречавшихся иногда дамских вагонов) чувствовали себя свободно и раскованно, удобно устраивались, снимая ботинки и верхнюю одежду. Они ели, пили и непринужденно общались с соседями.
Путешественников-европейцев, принадлежавших к высшим слоям общества, это коробило. Американцы, общительные по природе, казались им назойливыми, развязными и вечно лезущими в чужие дела. Дальние расстояния Запада подвергали суровым испытаниям привередливых и склонных к уединению. В пассажирских поездах десятки самых разных людей днями делили общество друг друга. Виконтесса Авонмур отмечала в 1874 году неудобства путешествия с «тридцатью или сорока людьми... набившимися вместе на целую неделю, днем сидящими на головах друг у друга и спящими ночью в той же атмосфере». Всем приходилось ложиться и вставать в одно и то же время, поскольку все постели приходилось одновременно доставать и убирать. На глазах у виконтессы одна из ее спутниц-плебеек каждое утро доставала из кармана фальшивую челюсть, подробно объясняя, что не спит с ней, потому что вещь слишком дорогая, как бы не сносилась. Уборная находилась в конце вагона и не позволяла ни уединиться от пассажиров, ни дать пассажирам забыть о себе.
«Ни волос не заколешь, ни засучишь рукава, — жаловалась виконтесса, — без того, чтобы какой-нибудь джентльмен либо кондуктор не заметил, проходя, что умывание освежает». Эта дружелюбная атмосфера общины к тому же поддерживалась ежедневной утренней газетой «Грейт Пасифик лайн газетт», печатавшейся прямо в поезде.
Считалось, что американцы, не выносившие уединения и одиночества, настолько непоседливы, что не могут выдержать и короткой поездки по железной дороге. Отмечали иностран
144
цы и сугубо американскую конструкцию, позволявшую неусидчивому пассажиру шататься по всему поезду, выходя из двери в торце своего вагона и перебираясь по открытой платформе в следующий. На опасность быть сброшенным с поезда резким толчком или раздавленным между вагонами американцы просто не обращали внимания. Невзирая на строгие предупреждения (одна железнодорожная компания украсила каждую дверь в своих поездах изображением надгробий), американцы настойчиво шатались по всему поезду, общаясь с пассажирами то одного, то другого вагона. Им также была свойственна странная привычка идти до самого последнего вагона и стоять там в заднем тамбуре, молча наслаждаясь уходящим за горизонт пейзажем.
До появления вагонов-ресторанов скорость путешествия не оставляла времени на неторопливые трапезы или долгие элегантные церемонии, позволяющие «вкушать пищу». Склонность американцев к «быстрым ленчам» широко отмечалась еще в начале XIX века. Обладавший раздражительным характером капитан Британского флота Фредерик Марриэт с недовольством отмечал в 1839 году, что необходимость есть на ходу делает путешествие по американской железной дорогое особенно утомительным: «Поезд останавливается, все двери распахиваются настежь, пассажиры вылетают пробкой, как мальчишки из школы, и сбиваются вокруг столов, дабы ублажить себя пирогами, печеньями, пирожными, вареными яйцами, ветчиной, сладкими кремами и разнообразнейшими железнодорожными лакомствами, которых все и не перечислишь. Колокол бьет отъезд, и все несутся обратно по вагонам с полными руками и набитыми ртами и едут дальше, пока следующая остановка не соблазняет их нарушить однообразие путешествия, задав работу челюстям, даже если есть и не хочется».
Американская техника скоростного питания родилась очень рано. Закусочная, одновременно предлагавшая и быстрое обслуживание, и полный дискомфорт, чтобы не поощрять клиента слишком долго возиться с едой, была американским изобретением той эпохи, побочным продуктом спешки железнодорожных путешествий. Американское выражение «lunch-counter» встречается в письменных источниках уже лет десять спустя после Гражданской войны. Газета «Нью-Йорк тайме» от 10 июня 1857 года с чувствительностью, свойственной представителям восточных штатов, жаловалась, что называть места, отведенные
145
на станциях для еды и питья, «закусочными салонами» означает грубо искажать смысл этих слов:
Трудно было бы найти более неподходящее и мерзкое место для этой цели. Директора железных дорог считают, видимо, что пассажиры напрочь лишены желудков, что людям, совершающим долгое путешествие, еда и питье просто ни к чему, но что главное — не давать им долго мучиться. Три — четыре сотни взрослых и детей... должны гурьбой нестись в мрачную длинную комнату, чтобы управиться с завтраком, обедом или ужином за пятнадцать минут.
По утрам усталого путешественника будил вопль кондуктора: «Пограмвилл — пятнадцать минут на завтрак!» Не имея ни возможности, ни времени умыться, он еле успевал выскочить из вагона, схватить, что попадется под руку, и добежать обратно. К концу поездки он неизбежно «наживал себе предрасположенность к диспепсии, склонность к легочным заболеваниям и лихорадке». Мало где на железных дорогах страны встречалась возможность привести себя в порядок и пристойно поесть.
Только лишь в 1863 году Джордж Пульман ввел в эксплуатацию свой первый вагон-ресторан, доступный всем пассажирам. Но несколько лет спустя компания Пульмана сочла ресторанный бизнес невыгодным и вышла из него. С тех пор и по сей день вагон-ресторан остается проблемой для американских железных дорог. В основном люди ели в станционных ресторанах или за буфетными стойками. С 1876 года сложилась сеть ресторанов Фреда Харви, обслуживавших железные дороги Запада. Широкую известность им принесли симпатичные официантки и их девиз: «Режь ветчину потоньше!»
Англичанин, путешествовавший по Западу в 1878 году, отмечал, как быстрое обслуживание и примитивность условий уравнивают всех пассажиров:
Проехав тридцать миль от Джулсбурга, мы достигли станции Сидни — места значительного, поскольку там кормят. Поезд остановился на полчаса, чтобы все могли выйти и наспех позавтракать... Всех обслуживали одинаково, каждый получал то же, что и сосед. Ножей и вилок, как всегда, увы, не хватало. Один нож и одна вилка каждому на всю трапезу — таков общепринятый порядок в здешних краях... Все ели так, будто от этого зависело спасение их жизни. В результате с едой покончили за четверть часа до отправления. Берут за эту трапезу доллар, как и за любую другую на дороге Омаха—Сан-Франциско, кроме как на двух остановках.
146
Спешка и давка не только способствовали стиранию социальных граней, но и моментально сбивали путешествующих в общины. Снова вступал в дело и снова служил равенству принцип первенства. Там, где, как на речных пароходах, не хватало кресел или места на палубе, их получал тот, кто приходил первым. Люди добродушно подчинялись жеребьевке, определявшей, кто из пассажиров получит спальные места. Известные различия на борту пароходов, курсирующих по рекам Запада, существовали: «каютных» пассажиров от «палубных», с которыми обращались, как с грузом, отделяла глубокая пропасть. Но для тех, кто путешествовал в каютах, было обычным делом общаться легко и свободно, не принимая во внимание имущественные и социальные различия. Путешественников-иностранцев такая легкая фамильярность возмущала.
Подобно фургонным караванам, пароходы на западных реках часто оказывались за пределами действия юрисдикции федеральных властей, властей штата или местных органов власти, превращаясь во временные плавучие общины. В них также принимались и соблюдались законы виджилантизма и правления большинства. Бытовало широко распространенное мнение, что законной властью на борту являются не капитан или далекое правительство, но сами пассажиры. «Ежедневно в полдень, — гласило объявление в салоне парохода «Новый Орлеан» (после перечисления обычных легких проступков), — будет заседать суд в составе трех человек, избранных большинством пассажиров. Суд будет назначать штрафы за вышеуказанные проступки, суммы же штрафов будут расходоваться на угощение пассажиров вином после ужина. За всякое нарушение чистоты и порядка, не предусмотренное настоящими правилами, суд налагает штраф по своему усмотрению».
Мало кому из пассажиров приходило в голову оспаривать решения подобного суда. Как и в других самочинных судах Запада, процедура здесь была недолгой и решения выносились быстрые. Убийцу передавали в руки властей в следующем порту, воров, карманников и других мелких правонарушителей пороли и высаживали на ближайший берег (будь то остров или отмель посреди реки), мимо которого проплывало судно. Один из самых потрясающих примеров суда скорого и эффективного имел место в 1859 году на борту парохода, проплывавшего Цинциннати, когда у самозваного комитета бдительных граждан вызвали подозрения юноша и девушка, путешествую
147
щие как двоюродные брат и сестра. Застукав их в одной койке, комитет задержал наутро пароход у следующей пристани, препроводил молодого человека получить разрешение на брак, а затем доставил парочку к священнику и заставил обвенчаться.
Таким образом, жизнь на колесах приучала путешественников к правлению большинства и принципу приоритета. Результатом подобного опыта явилось примитивное равенство.
Часть третья
ВЫСКОЧКИ: ТОЛКАЧИ
Умеешь ли ты играть на скрипке?
— Нет, — отвечал Фемистокл, - но я владею умением превратить захудалую деревушку в огромный город.
Девиз на обложке «Эмигрант эйд джорнел*
Воистину этот мир не ведает почтения к установившемуся порядку вещей и лишь отбрасывает его не глядя, и вот! — землей и ее богатством владеет выскочка.
«Пайонир», газета города Таскоса, Техас
Быстрый рост придал людям и общинам, городам и правительствам свойства, неведомые в Старом Свете. Быстро выросший город, основанный и построенный живущим в нем поколением, не имел памятников прошлого. Им владели мнимое величие настоящего и долг перед будущим. Само существование города-выскочки — города нового типа — зависело от способности привлекать к себе свободных скитальцев. Сила древних метрополий произрастала из неспособности или нежелания населения покидать их. Города же Нового Света зависели от вновь формирующихся чувств верности и энтузиазма — поверхностных и легко переносимых на новую почву.
О средневековом городе можно было судить по толщине и прочности окружавших его стен. Массивные бастионы Каркас-сонна, Брюгге и Сен-Мало свидетельствовали о дальновидности и гражданской верности их обитателей. Города Старого Света зачастую разрастались за пределы своих стен. У города-
149
выскочки стен не было. С самого начала они строились не столько на концепции защиты или сохранения (сохранять-то было еще нечего), сколько на концепции роста. И мерилом служила способность не отражать пришельцев, но привлекать иммигрантов. В этом корни отождествления американцами жизни с прогрессом.
Переселенцы создавали свои общины с целью осуществления быстрых и безопасных путешествий либо иных краткосрочных дел, вроде золотоискательства. Осев на месте, они жили там некоторое время и, если им улыбалась удача, через год или два благополучно перебирались на другое место. Поселившись основательно, «перекати-поле» превращались в выскочек, которые жили уже послезавтрашним днем. Они задумывались о своем поколении, о судьбе своих детей и отныне предпочитали не движение, но развитие. Их жизнь зависела от их собственной веры (или своего рода добровольного отказа от безверия), что им суждено жить вечно в этом новом Риме, этих новых Афинах или этом новом Лондоне, которым надлежит стать центром мироздания для них и всех остальных.
В последующих главах описывается образ мышления и жизни, ставший результатом того, как складывались эти общины, какими темпами организовывались, какие надежды и иллюзии питали, какое испытывали чувство предназначения и устремленности в будущее. Старые антитезы — между личным и общественным благосостоянием, частным и общим — отошли в прошлое. Новые институты новых городов перекраивали жизнь всей новой нации.
16.
БИЗНЕСМЕН КАК АМЕРИКАНСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Американский бизнесмен — продукт (и создатель) быстро растущих городов американского Запада периода между Революцией и Гражданской войной — не был американской разновидностью предприимчивого европейского горожанина, банкира или фабриканта. Не будучи ни американским Фугге-ром, ни американским Медичи, ни Ротшильдом, ни Аркрайтом, он был явлением совершенно иного рода. Его карьера и его идеалы служили аллегорией американской идеи общины, ибо он был рожден и вскормлен динамичным американским урбанизмом в период самого бурного его расцвета.
150
Ключом здесь служит изменение смысла и значения самого слова «бизнесмен». В Англии XVIII века назвать кого-то «человеком дела» означало, что этот человек вовлечен в общественные дела. Дейвид Хьюм в 1752 году именовал «человеком дела» Перикла. К концу XVIII века первоначальный основной смысл начал утрачиваться, и слово стало употребляться для характеристики человека, занятого делами торговыми. Оно превратилось в отдаленный синоним слова «купец». Похоже, что повсеместно распространенное слово «бизнесмен» — американского происхождения. Оно вошло в обиход где-то около 1830 года, в тот самый период, когда закладывались и особенно быстро росли новые города Запада. Но даже поверхностное знакомство с этим ранним типом американского бизнесмена, с его образом действий и представлениями о своей работе покажет, насколько неточным будет описание его как человека, занятого всего лишь коммерческими операциями. Более точно было бы охарактеризовать его как сугубо американский тип основателя и руководителя общины. Отправной точкой ему служила вера в сочетание интересов общественного и личного процветания. Возникший в условиях расплывчатых социальных границ, что было неизвестно Старому Свету, он стал характерным явлением Нового Света.
Первоначальной средой обитания для американского бизнесмена служил город, вырастающий на пустом месте, не имеющий истории, но полный необузданных надежд. Первым его товаром в период становления была земля, вторым — транспортные услуги. Превращение права на транспорт и на землю из политических символов и фамильных ценностей в обычный товар тоже было сугубо американским феноменом.
Черты характера бизнесмена обнаруживаются в жизнеописании любого из тысяч людей, сколотивших состояние в начале XIX века. «Я родился подле лесопилки, — хвастал Уильям Огден (1808 — 1877), — рано осиротел, люлькой мне служило корыто для варки сахара, крестили меня в фабричном пруду, учился я в бревенчатой школе, а в четырнадцать лет решил, что преуспею во всем, чем ни займусь, и что для меня нет ничего невозможного. И с тех пор, мадам, пытаюсь доказать это, и даже небезуспешно». Огдену выпала судьба бизнесмена-первопроходца героического масштаба. Отпрыск одной из ведущих местных семей маленького городка Катскиллз в штате Нью-Йорк, он активно торговал недвижимостью, когда ему не было еще пятнадцати. А когда ему не исполнилось еще и тридцати, его избрали в законодательное собрание штата Нью-Йорк. Программой
151
Огдена предусматривалось строительство железной дороги Нью-Йорк — Эри с помощью бюджета штата. Огден много сделал для своего штата и считал необходимым для его развития иметь железную дорогу. «В противном случае, — утверждал он, — скипетр будет утрачен, и Нью-Йорк впредь не будет имперским штатом... Филадельфия — вот ваш великий соперник. Если Нью-Йорк погрязнет в безделии, всю великую торговлю с Западом возьмет на себя она».
Но энтузиазм Огдена не ограничивался только Нью-Йорком. В 1835 году, том самом, когда были выделены ассигнования на железную дорогу Нью-Йорк — Эри, он познакомился с группой вкладчиков денег из восточных штатов, основавших Американскую земельную компанию, предусмотрительно вложивших средства в недвижимую собственность в Чикаго. Одним из них был Чарлз Батлер, юрист из Олбани, склонный к политике и филантропии, женатый на сестре Огдена. Сам Батлер (когда-то служивший клерком в юридической конторе Мартина Ван-Бю-рена) энергично участвовал в торговле недвижимостью и строительстве железных дорог. Человек широких общественных интересов, он основал Хоубарт-колледж и духовную семинарию, оказывал активную поддержку становлению Нью-Йоркского университета наряду с другими своими общественными занятиями. Батлер предложил Огдену переехать в Чикаго и стать управляющим его делами. Затем Огден приобрел в Чикаго значительные участки земли.
Уильям Огден прибыл в Чикаго в июне 1835 года. Согласно переписи, население города составляло 3265 человек. Почти все из них перебрались туда после 1832 года, а до того в Чикаго не насчитывалось и сотни жителей. Интересы Огдена очень быстро переместились с имперского штата в город Чикаго. В 1837 году Огдена избрали первым мэром Чикаго; население города уже выросло до 4170 человек — почти на тридцать процентов за два года.
«Он не мог забыть, — отмечал один из деловых коллег Огдена, — что все, идущее на пользу Чикаго и укрепляющее великий Запад, шло на пользу и ему. Да и зачем ему было забывать об этом?» Товаром Огдену служила земля, стоимость которой увеличивалась пропорционально численности населения. Чикаго же рос так, как никакой другой город до него. Население Чикаго за каждое последующее десятилетие примерно утраивалось: с 29 963 человек в 1850 году до 109 260 в 1860-м и до 298 977 в 1870 году. В 1880 году в Чикаго проживало более полумиллиона человек, а к 1890-му, когда он стал
152
уже вторым городом на континенте, — более миллиона. Тем временем стоимость недвижимости росла еще более впечатляющими темпами, особенно в тех районах, в которых достаточно дальновидный Огден скупил земли. Люди, подобные Огдену, с гордостью фиксировали свои деловые успехи как лучшее доказательство их веры в свой город. «В 1844 году, — вспоминал Огден, — я приобрел за 8000 долларов то, что восемь лет спустя продал за три миллиона долларов, и перечень подобных ситуаций можно продолжать чуть ли не до бесконечности». Собственность, скупленная Огденом в 1845 году за 15 000 долларов, стоила десять миллионов всего лишь двадцать лет спустя. Успехи были столь неожиданными и повсе-дневыми, что трудно было понять, где кончается факт и начинается вымысел. Имела здесь, разумеется, место и заурядная мания спекуляции. Издававшаяся в Чикаго газета «Амери-канэн» (от 23 апреля 1836 года) похвалялась участком, проданным за 96 700 долларов, что в переводе на язык романтической математики составляло «рост в цене темпами по сто процентов в день на протяжении пяти с половиной лет начиная с 1830 года».
Не способствовать росту своего города означало расписаться в отсутствии как патриотизма, так и деловых качеств. «Самой, пожалуй, яркой чертой его характера, — говорил об Огдене современник, — была абсолютная вера в Чикаго. В1836 году он видел не только сегодняшний Чикаго, но и Чикаго будущего, великий город континента. И с тех пор вера его не пошатнулась ни на йоту. В добрые времена или плохие, в расцвете сил или в период краха, в процветающем Чикаго или увядающем великое будущее этого города оставалось для Огдена несомненным фактом». Вполне естественно, Огден выдвинулся в лидеры общины, и несколько лет спустя чикагцы назвали его своим «представителем».
Трудно назвать меры по развитию города, в которых Огден не принял бы участия. Он построил первый разводной мост через реку Чикаго, проложил и открыл множество улиц в северной и восточной частях города, вел кампанию за строительство канала Иллинойс — Мичиган и за принятие законов по его строительству и расширению, проектировал и строил тысячи миль железных дорог, обслуживавших Чикаго, очень много сделал для развития водоснабжения, канализации и парков. За счет личных средств Огдена и покупавших у него недвижимость клиентов были проложены сотни миль улиц и построены сотни мостов. Огден способствовал распространению на Западе
153
уборочных машин Маккормика и строительству первой крупной фабрики для их производства. Огден был первым президентом медицинского колледжа (первого в Чикаго), членом Чикагского исторического общества, президентом совета попечителей первого Чикагского университета и одним из первых директоров «Мерчанте лоан энд траст компани» (1857). В 1860 году он был избран в сенат штата Иллинойс от республиканской партии. Огден способствовал созданию Духовной семинарии Северо-Запада, Академии наук и астрономического общества. Французский историк Гизо не намного преувеличил, сказав, что Огден построил и владеет Чикаго.
Показательным был и интерес Огдена к усовершенствованию транспорта. Община выскочек, община толкачей, эталоном в которой служили темпы роста, по-новому зависела от транспорта. Устоявшиеся общины Старого Света — Бордо, Лион, Манчестер или Бирмингем — особенно в начале XIX века, когда они быстро становились промышленными городами, нуждались в транспорте, чтобы подвозить на фабрики сырье и рабочую силу и вывозить готовую продукцию. Для Чикаго же, как и для других поднимавшихся городов американского Запада, транспортные линии становились жизненно важными артериями. В Старом Свете город мог расти или приходить в упадок, процветать или чахнуть, завися от транспорта наряду со многими иными факторами. Здесь же без транспортных коммуникаций город не мог существовать вообще.
Американский город должен был «привлекать» людей. Главной функцией общины должно было стать умение сделать так, чтобы людям было как можно легче, приятнее и дешевле вступать в нее. Огден и здесь служил примером для подражания, ибо стал пионером прокладки железных дорог. Одной из первых оказалась линия Галена — Чикаго, построенная с целью соединить Чикаго с гигантской транспортной речной артерией Миссисипи. Чикагские бизнесмены скупили контрольный пакет акций в 1846 году и пытались собрать деньги на завершение строительства среди местных граждан. Огден упорно работал, собирая многочисленные индивидуальные подписки на малые суммы. Их первая железная дорога открыла новую эру в жизни и развитии Чикаго. Граждане подписывались на акции, «руководствуясь общественным интересом, а не стремлением поместить капитал». «Железные дороги, — хвастал позднее один из соратников Огдена, — создавались как государственное предприятие, а не как акционерная компания. Они рассматривались как дороги, построен
154
ные народом либо за счет правительства, либо за счет частного капитала для удовлетворения общественных нужд, а не для извлечения выгоды держателями акций». В апреле 1849 года первый локомотив выехал из Чикаго на Запад, в сторону Галены.
Огден возглавил кампанию по агитации в пользу дальнейшего строительства железных дорог для Чикаго. В 1853 году он был директором дороги Питтсбург — Форт-Уэйн — Чикаго. В 1857 году — президентом дороги Чикаго — Сент-Пол — Фон-дю-Лак, впоследствии ставшей частью дороги Чикаго — Северо-Запад, которую также в качестве президента возглавил Огден. И, разумеется, Огден мечтал о трансконтинентальной железной дороге с крупнейшим узлом в Чикаго. В 1850 году Уильям Огден председательствовал на национальном железнодорожном съезде и, когда в 1862 году организовалась компания «Юнион Пасифик», стал ее первым президентом.
История Огдена тысячекратно разыгрывалась по всей Америке, всюду, где только росли новые города. Менялся антураж, снижались ставки, масштабы не всегда одинаково впечатляли, но суть оставалась неизменной. На сцену выходил человек новой породы — организатор общины в городе периода становления, где личный и общественный рост, личное и общественное процветание становились неразрывно связанными.
Еще одним примером подобного рода служит история доктора Дэниела Дрейка (1785—1852), родившегося в Нью-Джерси и выросшего в Кентукки. Когда Дрейку исполнилось пятнадцать, семья отправила его в ученики к известному врачу небольшого форта Вашингтон (позднее переименованного в Цинциннати). За несколько лет Дрейк сам стал наиболее известным в городе практикующим врачом. Открыв аптеку, Дрейк начал первым (в 1816 году) продавать искусственную минеральную воду. Вскоре он также открыл и магазин. Его «Очерк о Цинциннати в 1815 году», содержащий подробные статистические данные наряду с живым описанием археологических исследований, топографии, климата и потенциала развития города, был переведен и получил широкую известность за рубежом. В своем роде Дрейк был таким же толкачом, как и Огден. Прибегая к тонким приемам точно рассчитанных недоговоренностей, он создал первое подробное описание города-выскочки. Многие разделяли высказанное им мнение, что маленьким городкам, подобным Цинциннати, «суждено еще до конца нынешнего столетия вырасти в великолепные города с многочисленным населением». Дрейк завоевал прочное поло
155
жение в процветающих кругах Цинциннати, прежде чем наступил кризис 1819 года.
Деятельность Дрейка носила такой же энергичный характер, как и деятельность Огдена. В 1819 году, стремясь превратить Цинциннати в крупный центр медицинских исследований, он основал медицинский колледж в Огайо (позднее ставший медицинским колледжем Университета Цинциннати). Дрейк активно содействовал всему, что создавалось для города: коммерческой больнице, психиатрической больнице, глазной клинике, библиотеке, педагогическому колледжу. Он способствовал проектированию и прокладке каналов и железных дорог на Юг, в частности успешно действующей муниципальной железной дороги «Цинциннати сазен».
Еще одним таким примером был генерал Уильям Лаример (1809 —1875), проживавший ближе к Западу. Родившийся и выросший в Пенсильвании, он перепробовал массу занятий в районе Питтсбурга: держал магазин, бакалейную лавку и отцовский отель, торговал лошадьми, работал на железной дороге, занимался перевозкой грузов и банковским делом. Потеряв все во время кризиса 1854 года, Лаример тут же решил все начать заново подальше на Западе и следующей же весной перебрался в Небраску. Там он тоже приложил руку к быстрому развитию города, который тогда еще не существовал. Мы располагаем сведениями из писем личного характера, которые он отправлял на Восток страны. Вот письмо от 23 мая 1855 года:
Я застолбил два участка в Ла-Плате, на территории штата Небраска... и мы закладываем город. Меня избрали президентом компании, и я закрепил за собой третью часть территории города... Право, здешние края мне по душе... Думаю, за несколько лет я многого здесь добьюсь.
Лаример уже имел прочные шансы добиться избрания в конгресс от штата Небраска. Неделю спустя он был настроен еще более оптимистично: владея тысячью акров земли в пределах планируемого города, он решил расплатиться с кредиторами городскими участками.
Теперь я хочу сделать так: поселюсь в городе Ла-Плата, обзаведусь большой фермой, буду выращивать коноплю, кукурузу — да что угодно... Буду продолжать на этой ферме работать, а как потребуется земля для города — то пожалуйста... Я не просто заведу ферму, я открою торговое дело. Буду снабжать территорию железными гвоздями, строительным лесом и
156
всем подобным. Это не только принесет доходы, но и во многом будет способствовать развитию города. Если я поеду туда, то смогу построить город, если не поеду, просто распродам участки в городе, которого может и не быть.
Лаример рассчитывал, что трансконтинентальная железная дорога пройдет через Ла-Плату, но ошибся в своих ожиданиях. Затем, после трудной зимы, город пережил сильное весеннее наводнение. «И мы вскоре пришли к выводу, что строительство города здесь обречено». Такими были надежды на Западе — все или ничего.
Из Ла-Платы Лаример переехал в Омаху, где поселился в сборном доме. Дом, кстати говоря, построили в Питтсбурге, разобрали и вывезли в 1856 году. Когда и в Омахе (менее чем два года спустя) дела не пошли на лад, Лаример перебрался в Ливенворт, в Канзас. Это случилось в 1858 году, в то самое время, когда он узнал о том, что у Черри-Крика близ Пика Пайка нашли золото. Не желая ждать наступления следующей весны и благоприятных условий для путешествия, Лаример и его сын немедленно сколотили экспедицию и двинулись в путь той же осенью. После сорока семи дней пути Ларимеры одними из первых прибыли в устье Черри-Крика, где уже строились десятка два хижин.
Это первое в Колорадо поселение получило название Аура-рия. Сын Ларимера так описал события 17 ноября 1858 года:
В первый же вечер нашего пребывания здесь отец, не сказав ни слова никому, кроме спутников, вышедших с нами из Ливенворта, уложил одеяла, немного еды, покинул лагерь и переправился через ручей поискать иное место для стоянки, велев нам запрягать быков и следовать за ним, поскольку он считал, что восточный берег лучше подходит для закладки города — там еще никто не делал заявок, либо заявки были давно брошены, а их владельцы ушли... Перебравшись наконец на восточный берег, мы нашли отца у костра, который он развел, поджидая нас. Отец сбил кресты из четырех вырезанных из тополя шестов и врыл их в землю, объявив, что забивает это место под город. Тот самый город, который ныне стал красою и гордостью штата Колорадо.
На сей раз Лаример не ошибся в выборе, ибо заложил он город Денвер.
Поначалу между площадками на обоих берегах ручья существовала конкуренция. Но затем держатели акций объединились и слились в единый город, названный в 1860 году Денвером в честь виргинца, ставшего губернатором террито
157
рии Канзас. «Город Денвер — это я», — заметил Лаример в письме, написанном в феврале 1859 года. Вся последующая деятельность американских бизнесменов этих дикорастущих городов продемонстрировала их необычайную способность слить себя и свою судьбу воедино с судьбою общины — по крайней мере до тех пор, пока община процветала и сохраняла потенциал.
Поначалу Ларимеру поручили управление городом и распределение участков, наделив его правом выделять два участка городской земли каждому, кто возведет в черте города строение хотя бы 16 на 16 футов. Лаример добился строительства хорошей гостиницы и раздал ценные акции людям, «заинтересованным или способным заинтересоваться благосостоянием города и способным оказывать влияние на строительство транспортной сети, в которой Денвер стал бы значительным узлом». Лаример поощрял открытие аптек, магазинов, лесопилок и газет. Высказав недовольство отсутствием в городе места последнего успокоения, он в конце концов добился обустройства городского кладбища.
Можно еще привести подобные примеры. Но даже эти трое — Огден, Дрейк и-Лаример — показывают диапазон возможностей, мотиваций и образа действий, создавших новый тип человека — американского бизнесмена. Среда их обитания не содержала никаких новых черт. Новое было в совершенно американских формах их проявления и сочетания.
Города без истории. Эти новоявленные западные города служили редчайшим примером создания динамичной урбанистической среды на практически не подготовленной исторической почве. Традиционно города складывались как культурные центры, где хранились документация и архивы, где печаталось и боготворилось оформленное в летописи и хроники прошлое. Города служили местом возведения дворцов, соборов, библиотек, архивов и великих памятников всех типов. Американский же новоявленный город не имел прошлого и начинал существование свободным от корыстных интересов, монополий, гильдий, навыков и объявлений типа «Посторонним вход воспрещен». В его жизни проявлялась свойственная городам текучесть — пространственная масштабность, движение, многоликость и переменчивость, — но без исторической глубины. И никаких перегородок, возводимых издревле между классами, профессиями, национальностями и кварталами. Новоявленные американские города входили
158
в жизнь без наследственного местнического патриотизма и без гетто. «Нам было открыто все», — вспоминал Лаример.
Быстрый рост и большие надежды. Темпы роста городов-выскочек не поддаются воображению. В городе, в котором еще десять лет назад не было ни души, а сегодня жило уже несколько тысяч человек, через несколько десятилетий могло жить уже несколько десятков или сотен тысяч. Человечеству потребовалось не менее миллиона лет, чтобы сложилась первая урбанистическая община в миллион человек. У чикагцев на это ушло менее столетия. В нескольких часах пути фургоном от основанного Дрейком Цинциннати были заложены десятки городов, каждому из которых гарантировались непревзойденные преимущества. Ровно неделю спустя после того, как Лаример вбил четыре тополиных шеста на месте будущего Денвера, он писал оставшейся на Востоке жене: «Мы здесь рассчитываем на второе Сакраменто-Сити, не менее того». В 1834 году Г. Брэкенридж отмечал, что его Питтсбург изменяется так быстро, что каждый возвратившийся после десятилетнего отсутствия ощущает себя чужаком. И с уверенностью предсказывал, что поселение, выросшее из деревни в большой город за четверть века, вскоре составит полмиллиона человек. Его не удивляло, что Цинциннати из леса превратился в город за тринадцать лет. Он и сам рассчитывал «достичь богатства и отличия на берегах Огайо или Миссисипи так же быстро и с таким же успехом, с каким обретали величие эти обширные районы». В 1876 году очерк о столетней истории Сент-Луиса называл местоположение города не имеющим равных в мире и предсказывал, что по завершении строительства к нему железной дороги он превзойдет Чикаго и крупные центры восточных штатов. «Но, сказав это, мы лишь начали рассказ о чудесах нашего города, которому суждено в будущем сравняться с Лондоном по численности населения, с Афинами — в философии, искусстве и культуре, с Римом — своими отелями, соборами, церквами и величием и превратиться в главный коммерческий центр континента».
Приоритет общины над правительством. И в этих условиях было в порядке вещей сначала складываться обществу, а затем уже формироваться правительству. Люди, внезапно оказавшиеся бок о бок в связи с условиями городской жизни, связанные специфическими и конкретными задачами, сначала ощущали общность своих нужд. А потом уже образовывали правительство. Таким образом, правительство в силу обстоятельств носило функциональный характер. Перед первыми гражданами
159
Чикаго, как и перед гражданами иных новоявленных городов, не стояла проблема, как обойти обветшавшие уложения или преобразовать освященную веками тиранию. Они просто объединяли усилия, дабы обеспечить себя водопроводом, канализацией, тротуарами, улицами, мостами и парками. Они основывали медицинские школы, университеты и музеи. Нуждаясь в этих и иных вещах, они создавали муниципальные органы управления, а также прибегали к содействию правительств штатов и федерации. Новоявленное городское правительство не рядилось ни в тогу святости, ни в тогу тирании, но всего лишь служило инструментом, действующим и на личное, и на общее благо одновременно.
Пылкая и легко изменяющая объект поклонения верность. Верность населения своим новоявленным городам проявлялась обратно пропорционально возрасту их общины до пределов, граничащих с абсурдом. Города постарше могли иметь в активе лишь отдельные фактические достижения, в то время как неопределенное будущее манило и, конечно, давало больше надежд. Огден легко перенес свой энтузиазм с Нью-Йорка на Чикаго. Лаример — с Ла-Платы на Омаху, с Омахи на Ливенворт, с Ливенворта на Аурарию, с Аурарии на Денвер. Люди поступали подобным образом и глазом не моргнув, без оглядки. Надежды, а не достижения поддерживали верность и будоражили дух. Человек изменял и себе, и духу освоения Америки, если он оставался рабом мечты, лишенной надежды. Город-призрак и дух первооткрывателя-толкача были двумя сторонами одной и той же медали.
Конкуренция между общинами. Обстоятельства жизни американцев в городах-выскочках Запада рождали дух активной состязательности. Самой характерной и наиболее плодотворной областью состязательности оказалась конкуренция между общинами. Лозунги индивидуализма дезориентировали нас. Точно таким же образом, как состязательность между колониальными прибрежными городами способствовала распространению американской культуры, предотвратив концентрацию ее в городах европейского типа, состязательность между новоявленными городами Запада помогла формированию духа инициативы. Там, где раньше вообще не было городов, где все росло очень быстро, не было и традиционно устоявшейся табели о рангах между городами. Если Лексингтон в Кентукки мог быстро сложиться к 1800 году как самый многочисленный город Запада, если так быстро выросли Сент-Луис, Цинциннати и Чикаго, то почему же не мог вытес
160
нить их всех какой-нибудь новый Лексингтон? Каждая община учреждала многие из своих институтов только лишь с тем, чтобы обрести более конкурентоспособный характер. Медицинский колледж доктора Дрейка помог Цинциннати вырваться вперед Лексингтона, так же как улицы, мосты и парки Огдена помогли Чикаго обойти Цинциннати. Там, где процветание частных лиц сочеталось с процветанием общины, конкуренция между частными лицами становилась и конкуренцией между общинами.
♦ ♦ ♦
Тип бизнесмена, складывавшийся в городах-выскочках, многое роднило с типом энергичного американца предшествующего поколения. Бизнесмен явился Франклином американского Запада. Он был тем же на все руки мастером колониального периода, но в антураже более богатом. Язык современной ему эпохи нарек его бизнесменом, ретроспективный язык нашего века нарекает его толкачом. Он преуспевал одновременно с ростом и развитием. Верность его была сильной, наивной, оптимистичной и переменчивой.
Отличительной чертой его служила многоликость. Он обычно был свободен как от преимуществ, так и от пороков специализации в навыках либо монополизма в защите своих интересов. В Цинциннати доктора Дрейка врачи становились торговцами, священнослужители — банкирами, юристы — фабрикантами. «Молодому юристу, — давал мудрый совет Г. Брэкенридж искателю счастья на Западе (это был один из первых известных случаев употребления слова «бизнесмен»), — следует больше думать о том, чтобы довольствоваться малым, а не витать в облаках. Он должен быть доволен, что может стать бизнесменом, а остальное пусть предоставит фортуне». В этих условиях для успеха уже недостаточно обладать профессиональной квалификацией — юриста, врача, финансиста или инженера. Награду получал организатор, умеющий убеждать и раскрывать перспективы, предприимчивый, готовый рисковать, а также человек, способный быстро и с выгодой примкнуть к какой-либо группе и оставаться с ней, пока не станет ясно, оправдывает ли она возлагаемые на нее надежды.
161
17.
ПРЕССА ТОЛКАЧЕЙ
Быстрый рост городов Запада создавал немало анахронизмов по мере того, как новые общины заимствовали методы и институты либо Старого Света, либо ранее сложившихся городов Восточного побережья. Одним из наиболее явных и в конечном счете наиболее могущественных новшеств, порожденных анахронизмом, стала западная газета. Для города, все еще существующего в основном в воображении, газета могла сослужить — и сослужила — службу, почти что доселе неслыханную. В Европе газеты появились для обслуживания потребностей сперва небольшого литературного или просто грамотного круга людей, а впоследствии — более широких читающих кругов. Точно так же и первые газеты Атлантического побережья, часто начинавшие существование с издания какого-нибудь официального «Паблик принтер», выпускались для людей, уже заселивших эти края. Газете же пионеров новоявленного города, как и железной дороге, надлежало формировать то самое население, которому она должна была служить. Это придавало ей известные отличительные черты, которым надолго будет суждено формировать американский образ жизни.
В Старом Свете даже в XIX веке пресса жестко контролировалась правительством. Позволять без разрешения обзаводиться печатным станком и выпускать газеты и книги считалось настолько же опасным, насколько разрешить населению иметь огнестрельное оружие. Знание текущих событий могло оказаться взрывоопасным.
Правительственный контроль над прессой на Атлантическом побережье колониального периода не носил такого непосредственного характера, как в Европе, но оставался тем не менее весьма ощутимым. Лицензия на издание «Паблик принтер», дававшая также побочную привилегию почтовой монополии (которая первоначально использовалась с целью привлечь квалифицированных печатников в малозаселенные колонии), поощряла сохранение надежного и безопасного консерватизма. На побережье к тому же не представляло трудностей контролировать импорт печатных станков в те немногие города, где им нашлось бы применение.
Продвижение на Запад многое в этой области изменило. Огромные просторы и увеличивавшееся рассредоточение насе
162
ления затрудняли контроль над распространением печатных станков и их продукцией. Вскоре после Американской революции, по мере продвижения печатных станков на Запад, начало расти количество и разнообразие американских газет. В 1775 году, по оценке Исайи Томаса, одного из ведущих печатников той эпохи, во всех колониях насчитывалось всего с полсотни печатных станков, и почти все они находились в городах побережья. К 1783 году не осталось ни одного мало-мальски приметного города во внутренних районах страны, не располагавшего собственным печатным станком. Подобно мушкету, газета становилась оружием и инструментом, без которого не проживешь в лесу и не построишь новый город.
Первой задачей печатника в новоявленном городе было создать общину, в которой могла бы выжить газета. Если первые английские газеты начинались как литературные журналы и лишь потом превращались в источники новостей, то первые газеты американского Запада чаще начинались как рекламные издания, а потом превращались в источники новостей. И лишь значительно позднее, да и то случайно, обращались к беллетристике. Начинали они с рекламы несуществующего города, на активное участие в жизни которого и рассчитывали. Зазывая поселенцев со всех уголков страны, они, пожалуй, служили нашими самыми первыми средствами национальной рекламы. В Старом Свете газеты удовлетворяли потребности, здесь — возбуждали надежды. Капитан Генри Кинг (1841 — 1915), участвовавший в создании первых газет в Иллинойсе, Канзасе и Миссури и долго редактировавший «Глоб демократ» в Сент-Луисе, вспоминал:
Газеты первые проявили дух поиска, стремясь возглавить прогресс, а не следовать за ним, становясь частью истории заселения и развития... Не беспочвенны критические суждения о том, что нелогично, непрактично и смехотворно создавать газету, когда еще нет никаких новостей для публикации. Но в Канзасе подобных суждений не придерживались ни тогда, ни позднее. Новизна дела оказывалась заразительной. Вскоре открыли еще одну газету, в Кикапу. В начале 1855 года появились две у нас, в Лоуренсе. Газеты выходили одна за другой по мере становления новых городов. Впереди всех обычных институтов общества шел печатный станок. Он не ждал, пока сложится и установится самый элементарный порядок вещей. Дух приключения гнал его вперед, заставлял опережать каталажку, почту, школу и церковь и превращал в символ победы цивилизации. Так гласность становилась весомым фактором в продвижении на Запад американского народа и его учреждений; так Канзас познал откровение, реально расширившее диапазон и значимость современной журналистики.
163
Как ни парадоксально, американская пресса росла именно в силу необъятности и незаселенности американского Запада. В 1857 году путешественник из Шотландии Джеймс Стерлинг замечал, что в давно уже сложившемся и заселенном городе Мейконе, штат Джорджия, издаются только три еженедельные газеты и ни одной ежедневной, в то время как в новом городе Сент-Пол, в Миннесоте (с населением тоже в десять тысяч человек), уже выходят четыре ежедневные и три еженедельные газеты. Это доказывает, говорил он, что в Америке газеты процветают не пропорционально количеству населения, но пропорционально уровню «общей активности». Таким образом, нельзя утверждать, что своим многообразием американские газеты обязаны своей дешевизне (как иногда утверждали англичане) либо исключительным умственным способностям своих читателей (как иногда утверждали американцы). Оно, скорее, являлось производным от общей социальной ситуации в Америке. «Молодое и немногочисленное население должно заявить о себе, о своих нуждах и целях, а лучше всего это можно сделать через общественную газету. В старой и густо заселенной стране, где все живут в тесном соседстве и точно знают друг о друге, кто что покупает и продает, реклама скорее является роскошью, чем необходимостью. Но в стране, где на квадратную милю приходится пять-шесть человек и половина населения которой прибыла, наверное, последним пароходом, новичку-янки просто абсолютно необходимо объявить о своем прибытии и благих намерениях сбывать консервированные продукты, скупать «зерно за наличные», читать лекции о спиритизме или драть зубы. Реклама здесь — необходимое условие бытия, а газета живет именно рекламой».
Судьбы этих газет-толкачей складывались по известному образцу, различаясь лишь в деталях, как и судьбы бизнесменов. Это проявилось в судьбе первого же печатного станка, переправленного через Аллеганы. Когда первый номер питтсбургской газеты увидел свет 29 июля 1786 года, Питтсбург был всего лишь деревушкой с населением в три сотни человек, но в глазах человека инициативного выглядел зародышем великого города. Хью Генри Брэкенридж, юрист-пионер и автор «Современного рыцарства» (книги, иногда именуемой первым литературным произведением американского Запада), перебрался в Питтсбург и связал с ним свое будущее в 1781 году, когда тот был еще меньше — всего лишь захудалым лесным кордоном. В 1786 году, стремясь обеспечить будущий город типографией, Брэкенридж помог убедить Джона Скалла и его партнера Джозефа Холла
164
(вскоре умершего) переехать в Питтсбург из Филадельфии. Маленькую типографию, вместе с печатным станком, шрифтом, запасами типографской краски и бумаги, упаковали и перевезли через горы. С материалами вечно возникали проблемы. Однажды, когда кончилась газетная бумага, пришлось одолжить бумагу для патронных гильз в Форт-Питте. Ввиду отсутствия почты Скалл первое время разносил газету по деревне сам, а за пределы деревни отправлял с оказией. Главной целью газеты служило привлечение в Питтсбург поселенцев. Расцвет общины повлек за собой и процветание газеты. Еще до кончины Скалла в 1828 году Питтсбург превратился в бурно растущий город с населением в двенадцать тысяч человек, да еще столько же, пожалуй, жило в окружавших его городах-спутниках. Скалл стал руководителем общины, созданию которой сам же и способствовал. Он помог обеспечить Питтсбургу почтовую связь, стал почтмейстером, президентом второго основанного в Питтсбурге банка, одним из основателей Западного университета Пенсильвании (впоследствии Питтсбургского университета) и членом первого городского совета.
В это же время проявилась потребность в газете на редко заселенной территории Кентукки. Там тоже стремились привлечь поселенцев, дабы обосновать свои притязания на статус самостоятельного штата, отдельного от Виргинии. Не сумев найти опытного газетчика, в конце концов, нашли предприимчивого юнца двадцати с лишним лет, уже успевшего повоевать с индейцами и поработать топографом, но о. печатном деле понятия не имевшего. Звали его Джон Брэдфорд, но в родстве ни с массачусетскими, ни с пенсильванскими Брэдфордами он не состоял. Ему суждено было стать первым издателем в Кентукки. В конце 1786 года, согласившись на предложенную работу и получив бесплатный надел в деревне Лексингтон, Брэдфорд послал в Питтсбург брата подучиться печатному делу у Джона Скалла. Брат Джона Брэдфорда вез станок и шрифт (заказанный в Филадельфии) четыреста миль по реке Огайо баржей из Питтсбурга, а потом по суше до Лексингтона. Первый номер кентуккийской газеты (с марта 1789 года именуемой «Кентукки») был отпечатан в его бревенчатой типографии 11 апреля 1787 года. Главной целью было создать общину. Поначалу Брэдфорд имел привилегию на издание всей печатной продукции по государственным заказам. Большую часть этих заказов он удерживал за собой на протяжении многих лет. Брэдфорд издал «Кентуккийский альманах» (1788), первую брошюру о Западе и «Акты первой сессии за-
165
коно дательного собрания Кентукки» (1792) — первую изданную в штате книгу. Брэдфорд заработал прозвище кентуккийского Франклина, поскольку продолжал заниматься топографией, математикой и астрономией, помог основать Трансильванскую семинарию, Трансильванский университет и Лексингтонскую библиотеку. Он представлял свой округ в палате представителей Кентукки и тоже стал лидером общины, которую сам же и помог создать.
Первая газета, основанная к северо-западу от реки Огайо, также ставила перед собой новаторские цели. В крошечной деревеньке Цинциннати, где едва ли проживало более трехсот — четырехсот человек, Уильям Максвелл 9 ноября 1793 года отпечатал в бревенчатой избушке первый номер «Сентинел оф зе Норт-Уэст территори». Предупреждая об опасности убийств и поджога домов индейцами, объявление «К сведению общественности» предлагало 168 долларов за «каждый скальп в комплекте с правым ухом первых десяти индейцев», убитых в районе Цинциннати. Поскольку «потребность в регулярной и постоянной торговле по Миссисипи» остро ощущалась в Цинциннати, Максвелл вел кампанию, чтобы открыть эту реку для общеамериканской торговли, которая пойдет на пользу городу, а заодно и его газете.
По мере продвижения прессы на Запад все активнее проявлялась американская специфика. Инициативный дух требовал повышенной готовности к риску. Чем более открытой, отдаленной и незаселенной была окружающая территория, тем больше была вероятность ошибки. Над каждым городом-призраком витал дух одной или более газеты-призрака, память о неудавшихся попытках рекламы. Снова и снова полные надежд бродячие газетчики проникались не столько известными нуждами уже существующих общин, сколько нуждами общин будущих, к созданию которых они так стремились. Первый выпуск «Журнала помощи эмигрантам» (1856) Игнатиуса Доннелли, воспевавшего несравненные достоинства города Нинингера (который только еще предстояло построить) в Миннесоте, на деле был отпечатан в Филадельфии.
Неудивительно, что в своем энтузиазме они нередко путали мечты с реальностью, что (как заметил один редактор) они «иногда подавали события, которые в действительности не имели места быть». История никогда не расскажет, как старательно редакторы выискивали факты, способные повлиять на читателя, и с каким энтузиазмом они чуть было не превращались в лжесвидетелей — и не против своих соседей, но, на
166
оборот, от их имени... Редакторы всего лишь стремились предвидеть правильные ответы, но не предвосхищать их. Яйца-то уже снеслись, и всего-то оставалось подождать, когда из них вылупятся цыплята. Ведь если мечтам и предсказаниям обязательно суждено сбыться, почему же нельзя подавать их наравне с текущими фактами реально существующей действительности? «Грин-Бей интеллиндженсер», первая газета в Висконсине, объявила в первом выпуске от И декабря 1833 года «своей основной целью развитие территории к западу от озера Мичиган». Начав как двухнедельная, она выражала надежду, что с расширением навигации по озерам благодаря сооружению канала между реками Фокс и Висконсин и с ростом города она станет еженедельной. Газета хвастала, что Грин-Бей значил для территории Висконсин (которую еще предстояло создать) «больше, чем Детройт для Мичигана»: «Ему, безусловно, суждено стать одним из главных торговых маршрутов (наряду с Чикаго)».
В то же время на расстоянии всего лишь ста миль делались столь же экстравагантные заявления относительно будущего-города Милуоки. 14 июля 1836 года, за два месяца до первой официальной продажи земли в Милуоки и всего лишь через десять дней после официального начала существования территории Висконсин, вышел первый номер первой милуокской газеты «Эдвертайзер». Ее редактор, Дэниел Ричардс, перебрался на Запад из Нью-Йорка всего лишь в 1835 году. Он проезжал Чикаго, где подумывал приобрести недавно учрежденную первую чикагскую газету «Демократ». Краткая поездка в Милуоки убедила его (как он сам рассказывал спустя несколько лет), «что там существовали несомненные преимущества по сравнению с Чикаго и именно там следовало учредить типографию, хотя в радиусе пятидесяти миль не проживало и двухсот человек». Честолюбивого Ричардса убедил связать свое будущее с Милуоки прежде всего Байрон Кибурн, торговец недвижимостью на западном берегу реки Милуоки. Газета Ричардса расходилась в основном в тех общинах, которые и должны были составить население будущего поселка Кибур-на. Милуокский «Эдвертайзер», как объяснял его создатель Ричардс, был тогда «неотъемлемой частью плана по созданию города и заселению новой территории Висконсин». Она не просто была первой газетой, она сама по себе служила первым предприятием по созданию города, который и намеревалась «рекламировать».
167
Новые политические и юридические формы организации открывали печатникам новые возможности: требовалось издавать законы и указы, сообщать о решениях судов, публиковать юридические постановления и документы. Это была гарантированная работа для «Паблик принтер», которая в колониальные времена помогала привлекать печатников в сложившиеся уже города Восточного побережья и тем более была необходима, чтобы соблазнить квалифицированного печатника податься в бог знает какую глушь. Когда в начале 1849 года Джеймс Гудхью (лишь недавно перебравшийся на Запад из Нью-Йорка) редактировал «Грант кантри геральд» в Ланкастере, Висконсин, он уже следил за развитием событий в Миннесоте. Как только Гудхью услышал о создании новой территории, он погрузил печатный станок на пароход, шедший по Миссисипи в Сент-Пол, недавно ставший столицей, надеясь получить подряд на должность печатника территории. Его «Миннесота пайонир» (от названия «Ипистл оф Сент-Пол» он отказался) вышла в свет 28 апреля 1849 года со следующим объяснением:
Всего лишь немногим более недели назад мы высадились в Сент-Поле посреди толпы незнакомцев с первым печатным станком на земле Миннесоты. Не имея ни подписки, ни гарантий помощи, ни хотя бы личного знакомства с кем-либо из политических деятелей этой юной территории, мы приступили к изданию «Пайонира», положившись на добрую волю всего населения Миннесоты оказать ей заслуженную поддержку и покровительство. Один из наших основных принципов — доверять народу, а не правителям... Все наши интересы, таким образом, связаны с процветанием этого города и благоденствием этой территории.
Поначалу Гудхью сам доставлял газеты, одновременно собирая новости для следующего номера. Отвечая на страницах газеты на вопросы потенциальных поселенцев, он стал самым известным рекламодателем в Сент-Поле и Миннесоте.
Процветающий бизнес публикации юридических ведомостей сам по себе являлся побочным продуктом быстрого заселения и расширения. Он не просто приносил газетам прибыль, во многих местах (в Нью-Йорке, например) одна лишь оплата публикаций юридических уведомлений делала возможным существование газеты округа. На Западе, где бум городского строительства рождал куда большие и более экстравагантные надежды, публикация юридических уведомлений оказывалась еще более прибыльной. Для закрепления заявки гомстедеру
168
требовалось «доказать» выполнение им всех условий правительства, и последним «доказательством» служила шестикратная публикация его заявки в ближайшей к месту жительства газете. Газета, взимавшая за подобную публикацию от шести до десяти долларов, имела незаменимый источник доходов по мере роста населения города. Полезными оказывались и «опровержения», стремившиеся доказать, что публикатор заявки всех установленных норм не выполнил, и обосновать право «опровергателя» на оспариваемый участок. Спорные заявки разрешалось публиковать в любой газете округа, где находился спорный участок. В Дакоте, например, когда резервацию индейцев сиу впервые открыли для гомстедеров, один предприимчивый издатель основал сразу тридцать типографий в разных местах для публикации заявок. В округе Сулли территории Дакота, где в те времена издавалось девять газет, к середине XX века сохранилось только две.
Обстоятельства местной жизни открывали издателям газет широкий диапазон особых возможностей и соблазнов. В Канзасе, например, газеты служили мощным — а также и прибыльным — оружием в борьбе между сторонниками и противниками рабовладения за заселение территории в 1850-х годах. Первой англоязычной газетой Канзаса и Небраски была «Канзас уикли геральд», начавшая выходить 15 сентября 1854 года, когда Ливенворт состоял из четырех палаток и не имел ни одного капитального строения. Первый номер набирали под сенью вяза. «Мы редактировали материалы, писали передовицу и вычитывали верстку, положив большую доску на колени вместо стола, — хвастал его создатель. — Вы, редакторы в уютных креслах хорошо обставленных кабинетов, подумайте об этом и перестаньте ныть». Пять месяцев спустя, 9 февраля 1855 года, газета сообщила, что ее тираж вырос до 2970 экземпляров.
Новоанглийское общество помощи эмигрантам — организатор борьбы против рабства — наняло некоего доктора Джорджа Брауна основать газету «Джералд оф фридом». Первый ее номер вышел на Востоке, но 6 января 1855 года с помощью кучки Других переселенцев Браун приступил к выпуску газеты в бревенчатой хижине в Лоуренсе. Говорили, что год спустя у него было уже восемь тысяч подписчиков. «Джералд оф фридом» являлась лишь одной из целого ряда газет, основанных для борьбы с рабством. Граждане же города Атчисона, сторонники рабства, наняли за четыреста долларов доктора Дж. Стрингфеллоу основать газету «Скваттер соверен». Во время бунтов 1856 года охотники за беглыми рабами, отстаивая дело рабовла
169
дения, сожгли редакцию «Джералда». Еще несколько месяцев спустя шрифт «Джералда» перелили в шестифунтовые пушечные ядра для штурма форта Титус.
«Отсутствие роста населения в округе Седар, — сообщал первый выпуск «Ньюз-леттер», вышедший в округе Седар штата Айова 13 сентября 1852 года, — объясняется только лишь отсутствием печатного органа, способного раскрыть его потенциальные преимущества и довести их до сведения эмигранта». Проблема, однако, представляла собой замкнутый круг, ибо создание газеты за пределами больших городов и заселенных территорий оказывалось делом нелегким. Главным, по свидетельству одного из исследователей прессы толкачей, было «добыть бумагу, узнать новости и добиться оплаты». Там, где с наличными оказывалось туго, редакторы первых газет охотно рекламировали готовность брать и натурой — кукурузой, патокой, картофелем, капустой, мукой, фруктами или дровами. Один отчаявшийся редактор завершил публикуемый список товаров, принимаемых в качестве гонораров, выражением готовности принять «и любой другой товар, кроме грудных младенцев».
Несмотря на все эти трудности и высокий уровень «смертности» (в одной лишь Небраске за 1858 год «умерло» не менее шести газет), число изданий росло. По всему Западу они шагали впереди создаваемых с их помощью общин. Развитию печати способствовало появление дешевых переносных печатных станков, каким был, например, «армейский станок» — цилиндр около фута в диаметре, установленный на раме и приводимый в движение ручкой. Его мог поднять один человек, он легко перевозился через прерии. В период Гражданской войны достаточно было 150 долларов, чтобы с помощью такого станка начать издавать газету.
Газеты плодились по всему континенту, подпитываемые в основном энтузиазмом и воображением. В Сан-Франциско первая газета появилась в 1850 году. В 1853 году там выходила уже дюжина ежедневных газет. В середине 1859 года двое только что прибывших печатников состязались за право выпускать первую газету Денвера. Поселенцы сделали ставки и избрали специальную судебную коллегию, которой надлежало определить победителя. Им оказался Уильям Байерс, землеустроитель из Омахи, отпечатавший «Роки-маунтин ньюз» к 22.30 23 апреля 1859 года, ровно на двадцать минут раньше своего соперника, выпустившего «Черри-Крик пайонир». Огорченный издатель «Пайонира» тут же продал оборудование Байерсу и подался в
170
золотоискатели. К концу 1860 года в Денвере издавалось уже три газеты.
Не один лишь блеск золота и серебра привлекал предприимчивых газетчиков. В Миннесоте, например, к концу 1857 года (за год до получения статуса штата) более сорока городов и деревень имели свои типографии, многие из которых печатали газеты.
В Висконсине к 1850 году работало около ста типографий, и все, кроме каких-то десяти — двенадцати, издавали газеты. В том году, когда перепись определила население Висконсина в 306 000 человек, а Милуоки — самого большого его города — в 20 000, в двадцати трех городах штата выходило сорок два издания. К концу 1867 года не менее четырех газет издавалось в Шайенне, городе с населением всего лишь чуть более семисот человек, на территории Вайоминг, где всего-то проживало более восьми тысяч. В 1870 году семь газет выходило в малозаселенной Дакоте.
Олицетворением роли прессы толкачей в становлении новых общин служила деятельность Роберта Томпсона Ван Хорна, редактора «Уэстерн джорнэл оф коммерс», зачинателя газетного дела в Канзас-Сити. Родившийся в 1824 году в Пенсильвании, он поначалу пробовал себя в учительстве и юриспруденции, а затем издавал ряд газет в Огайо и Пенсильвании. И везде активно способствовал развитию городов. «Если стоять, глазея по сторонам, и чесать в затылке, — предупреждала в 1850 году газета, издаваемая им на юго-востоке Огайо, — Помрой никогда не станет таким городом, каким он предназначен быть самой природой». Затем, когда сгорела типография ежедневной газеты, которую он собирался издавать в Цинциннати, Ван Хорн устроился клерком на речной пароход. «Еду на Запад, скорее всего — в Небраску, — писал он родителям в 1854 году, — где надеюсь снова стать на ноги и задать как следует жару туземцам». В июле 1855 года в Сент-Луисе Ван Хорн наткнулся на юриста, командированного комитетом бизнесменов Канзас-Сити с целью найти редактора для их местной газеты. Ван Хорн тут же подался в Канзас и принял предложение. Он выплатил первый взнос за газету в размере 250 долларов и год спустя должен был выплатить второй, но работал так хорошо и принес общине такую пользу, что от уплаты второго взноса комитет его освободил.
Не прошло и трех лет, как Ван Хорн уже стал гласом растущего Канзас-Сити, и прежде всего его бизнесменов. Любой приезжий в Канзас-Сити в 1858 году (как писал он своему дру
171
гу в Огайо) не мог «не задаться вопросом, почему Бог... сперва предложил человеку континент с его восточного входа, столь надолго оставив для него великий и славный Запад как terra incognita1. Это — чудо творения и верх топографического совершенства».
Выступая перед городскими торговцами накануне Рождества 1857 года, когда и мили железнодорожных путей не шло еще к городу, он превозносил великое будущее Канзас-Сити как крупного железнодорожного узла и торгового центра, который со временем затмит и Нью-Йорк, и Чикаго, и Сент-Луис, и Цинциннати, и Новый Орлеан. Все это, заявлял он, предопределено географией города, «ниспосланной чудесным мановением десницы Всевышнего».Оптимизм Ван Хорна уже имел под собой известные основания, о чем свидетельствовали статистические данные о населении, опубликованные в его же собственном «Уэстерн джорнэл оф коммерс» в 1857 году, когда от 2000 в январе количество жителей увеличилось к июню до 3224 и до 5158 к концу года.
Ван Хорн олицетворял как достоинства, так и недостатки склада ума людей породы толкачей. Жажда обеспечить городу будущее заставляла его восхищаться бизнесменом, но отнюдь не политиком. Прогресс казался ему куда важнее политики. Пытаясь вообще избежать политики, Ван Хорн лавировал меж изменчивыми ветрами общественного мнения. Гражданская война между сторонниками и противниками рабства, вспыхнувшая в 1856 году в Канзасе, не смогла отвлечь его от забот о коммерческом прогрессе Канзас-Сити. «Мы сожалеем, — торжественно заявил он в своей газете, — что стороны сочли нужным прибегнуть к войне и разрешить свои противоречия пролитием крови, но, коль скоро они уж пошли на это, мы хотим напомнить им, что они могут приобрести свинец и порох у наших торговцев по ценам Сент-Луиса, а другие предметы военного снаряжения — по гораздо более низким ценам». Живя в Огайо, Ван Хорн активно выступал против рабства. Сейчас же старые друзья с изумлением обнаружили, что'жизнь в Канзас-Сити превратила его в сторонника демократической партии и рабовладения. Один из коллег оправдывал его очень просто: «В округе Джексон этих взглядов придерживалось большинство, и поскольку его уважали в родных краях и он пользовался влиянием, то таким путем он мог добиться большего, чем если бы испове
1 Неизвестная, неведомая земля (лат.). —Прим, перев.
172
довал иные воззрения». К 1865 году, когда в штате и стране преобладала республиканская партия, Ван Хорн сменил политический курс. «И снова, — отмечал его современник, — он оказался на той стороне, где мог принести наибольшую пользу городу». И снова «Джорнэл» стал «рекламным листком города в устье Кау», как писала одна из ливенвортских газет. С тех пор политика газеты, прославляющей Канзас-Сити, никогда не менялась. Непостоянство политических взглядов Ван Хорна принесло ему пост мэра, привело в законодательное собрание штата, а затем и в конгресс США. Был же он и оставался до мозга костей толкачом.
Политика, считал Ван Хорн, хороша лишь постольку, поскольку может приносить пользу Канзас-Сити. Великой его победой было сооружение в 1869 году моста через Миссури в Канзас-Сити, обеспечившего городу превосходство над Сент-Джозефом, Ливенвортом и другими соперниками, превратив его в крупный железнодорожный и мясоторговый узел.
* * *
Задачи и возможности прессы толкачей в новоявленных городах породили прочно укоренившиеся особенности американских газет и их роли в жизни страны.
Количество, разнообразие и распространение. Возможно, к середине XX века потребление газет на душу населения было выше в ряде других стран (в Великобритании или Японии, например), но Соединенные Штаты сохраняли лидерство в количестве различных газет, издаваемых пропорционально численности населения. Примерно четверть из 7200 ежедневных газет, издававшихся в мире в середине XX века, приходилась на Соединенные Штаты. Несмотря на быстрое распространение газетного дела, сложные процессы слияния и поглощения, американская газета сохранила характер местного общинного предприятия, не имевший аналога ни в одной другой «газетной» державе мира. В Японии, например, почти половина дневных тиражей газет сосредоточивалась в двух городах — Токио и Осаке. В Англии еще больший процент национальной печати издавался в Лондоне, и концентрация продолжала расти. Во Франции над всей страной доминировала парижская пресса. В Америке же сложилась абсолютно иная ситуация. Разумеется, некоторые газеты крупных городов, как «Нью-Йорк тайме», например, обладали гигантским престижем, но тиражи всех дневных нью-йоркских газет все равно составляли не более десяти процентов
173
национальных тиражей. Из примерно 1800 выходивших в стране ежедневных газет более 1500 издавалось в городах с населением менее ста тысяч человек, составляя около трети всех ежедневных тиражей. Подобный широкий охват, на протяжении долгого времени остававшийся характерным для американской журналистики, уходил корнями в самый ранний период становления американских общин. Национальные и региональные пресс-службы (хотя и сложившиеся ранее) начали обретать упрочившуюся в более поздний период значимость только лишь с началом эпохи Гражданской войны; появление репортера-газетчика, сумевшего обрести национальную известность, во многом было связано с войной. Но затем и эти пресс-службы в изрядной степени стали опираться на персонал местных газет. Развитие транспорта и связи, такие меры, как введение министерством связи в 1897 году бесплатной доставки почтовых отправлений в сельской местности, не привели (несмотря на многочисленные предсказания обратных результатов) к исчезновению местной печати.
В середине XX века наряду с уже упоминавшимися ежедневными газетами малых городов существовало и около десяти тысяч «деревенских еженедельников», расходившихся среди доброй половины населения Соединенных Штатов. Широкое распространение прессы стало глубоко укоренившимся институтом Нового Света.
Свобода от цензуры и правительственного контроля. Разнообразие и широкий разброс местных органов печати в Америке сделали крайне затруднительными для .любого правительства попытки контролировать либо как-то ограничивать их деятельность. Если история печати в Англии или в любой континентальной европейской стране являет собою хронику почтовых налогов, цензуры, правительственного контроля и всего лишь частичного и постепенного освобождения от них, причем свободу печатного слова сдерживали еще и законы о клевете, то американская пресса обладала свободой, граничившей с анархией. В других странах, с меньшим количеством газет и гораздо более централизованной прессой, их распространение за пределами столиц повсеместно зависело также от развития почтовой связи. Потому и газеты легче было контролировать благодаря контролю правительства над почтой. Но как наденешь намордник на газеты, разбросанные по всем уголкам обширного континента?
Ориентация на интересы общины и внеидеологическая направленность. С самого начала огромное количество амери
174
канских газет служило рекламными агентами новых общин. Если они субсидировались, то, за редким исключением, это делалось местными бизнесменами, заинтересованными в развитии общины, а не в сведении каких-либо идеологических счетов. Многое из того, что позже будет ошибочно названо «изоляционизмом» (и объявлено агрессивным безразличием к внешнему миру) в газетах малых городов, было бы куда точнее определить как «приверженность общине»: забота о развитии и процветании своего собственного города. Дело не в том, что они не любили мир, дело в том, что просто свой Кеокук они любили больше. Многие черты американских политических партий — обращение к местным корням, многочисленные «независимые» избиратели, переходящие от одной партии к другой, их внеидео-логический характер — могут стать понятными только сквозь призму традиций печати, вдохновляемой и руководимой толкачами. Некоторые американские газетчики называли эту сосредоточенность на жизни своей общины главной характеристикой, принципиально новой чертой и тайной мощью американской журналистики.
18.
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВОРЦЫ»
«Отель, — отмечал британец, путешествующий по Соединенным Штатам в 1850-х годах, — является весьма характерным образованием данной страны». Слова, определявшие удобства путешественника, обрели здесь новое значение. В Англии под таверной подразумевалось место, где можно было подкрепиться едой и питьем. Место, где останавливались на постой, именовалось гостиницей. В Америке же (как отмечал Ной Уэбстер) различие в этих понятиях стерлось, как и во многих других. Здесь можно было найти и еду, и кров как в таверне, так и в гостинице. В эпоху Американской революции в быт широко вошло новое американское слово «отель», означавшее постоялый двор для путешественников и приезжих. Заимствованное из французского, в котором оно означало дворец вельможи либо (в словосочетании «hotel de ville») ратушу, в Америке это слово указывало на новый вид коммунального предприятия.
Одной из его приметных черт стала архитектура. Английский юрист Александр Маккей, путешествовавший по Америке в
175
1846 — 1847 годах, отмечал крайнюю невыразительность большинства зданий правительственных учреждений. В Новом Орлеане, например, он считал здания официальных учреждений «и неэлегантными, и невнушительными». Однако весьма внушительно выглядел отель «Сент-Чарлз», «с его большим и элегантным коринфским портиком и возвышавшимся над портиком величавым куполом». «У нас (в Англии) отели считаются исключительно частной собственностью и редко выделяются внешне из окружающей их массы частных домов. В Америке же отели во многом воспринимаются в свете общественных нужд и зачастую обретают внешний облик общественных зданий». Американский отель отнюдь не походил на английскую гостиницу, и не только внешним обликом, ибо выполнял куда более важную общественную функцию.
Великолепие этих первоклассных современных отелей, объясняла 19 июня 1827 года статья в «Нэшнл интеллидженсер», полностью оправдывало данное им название «общественных дворцов». Некоторые именовали их «народными дворцами». Не имея в иерархии общества королевского дворца, американцы заменили его общественным отелем.
«Народный дворец» представлял собою здание, выстроенное с экстравагантным оптимизмом исключительно с целью обслуживать каждого, кому это обслуживание по карману. И в XX веке отели, как правило, были в ряду самых грандиозных зданий крупных американских городов, часто затмевая все остальные сооружения в городах поменьше. Отель так глубоко вписался в американскую культуру и так широко прижился затем по всему миру, что американцы по большей части и не замечали его значимости.
С самого начала XIX века отели служили общественными центрами. Мог ли существовать более подходящий «дворец» для кочующего народа? В период наиболее бурного городского строительства каждый город судил о себе и ожидал суждений со стороны не по церквам или зданиям официальных учреждений, но по своим отелям. Отели, как правило, становились местами проведения пышных частных приемов (благодаря чему те обретали общественный резонанс) и наиважнейших общественных церемоний. Вестибюль отеля, подобно залам королевского дворца, становился местом времяпрепровождения, центром, куда стекались сплетни и слухи, где можно было хоть краем глаза увидеть богатых, знатных и могущественных.
Вскоре сложился и ярко выраженный архитектурный и строительный стиль, первым и наиболее влиятельным примером ко
176
торого стал «Тремонт-хаус», открытый в 1829 году в Бостоне. Роскошный шестиэтажный «Сити-хоутел» Дейвида Барнума, построенный в Балтиморе тремя годами ранее, уже отразил черты современного американского отеля: размах (двести номеров), общественно полезные функции и мастерское обслуживание. Но дизайн, на десятилетия ставший стандартом для первоклассных американских отелей, родился в Новой Англии. Прежде всего он явился делом рук Исайи Роджерса (1800 — 1869), одареннейшего архитектора-самоучки. Ему, сыну массачусетского кораблестроителя, выпала удача работать в архитектурной мастерской Соломона Уилларда — того самого Уилларда, который открыл гранитные карьеры в Куинси, возвел монумент на Банкер-Хилле и (что наиболее существенно в данном случае) разработал первую получившую широкое применение в Америке систему центрального отопления. В двадцать шесть лет Роджерс уже обзавелся собственной мастерской и два года спустя получил подряд на «Тремонт-хаус».
Строительство этого нового бостонского отеля обрело характер городского предприятия, когда в 1818 году сгорел бостонский отель «Иксчейцдж-кофе-хаус». Оплакиваемый всеми «Иксчейндж-хоутел», как привычно именовали старое здание, построила и содержала группа местных коммерсантов. Имея около 300 номеров, банкетные залы, рестораны и предоставляя многочисленные иные услуги, он часто именовался самым большим и лучшим отелем страны. Это в нем Дейвид Барнум, «Меттерних среди всех хозяев» и «император американских домовладельцев», стяжал себе общенациональную славу лучшего хозяина гостиницы. Гибель этого отеля от пожара была общественным несчастьем, но кризис 1819 года воспрепятствовал его немедленному восстановлению. В 1825 году комитет коммерсантов, руководимый Уильямом Говардом Элиотом, получил лицензию на создание компании по строительству отеля и дал подряд молодому архитектору Исайе Роджерсу.
Решение принесло удачу и Роджерсу, и Бостону, и в конечном счете каждой американской общине, которой суждено было процветать вместе (а в чем-то и благодаря им) со своими отелями. Роджерс, почти не располагая примерами для подражания, безошибочно сумел выразить общественную направленность здания, придав ему безупречную элегантность, великолепно используя модные в то время греческие ордеры. Фасад четырехэтажного здания, выполненный из гранита Куинси, был украшен порталом с колоннами и пилястрами по углам. Центральный, богато убранный круглый холл, многочисленные большие залы,
177
роскошный строгий ресторан с глубоко кессонированным потолком и рядами ионических колонн подчеркнуто отличали отель от гостиницы образца XVIII века.
Элегантный и удобный проект Роджерса быстро стал прототипом для современного первоклассного американского отеля, а сам Роджерс — ведущим архитектором страны в области строительства отелей. По его проектам возводились многие из лучших и наиболее известных отелей, построенных в его время: «Бангор-хаус» в Бангоре, Мэйн (1834); «Астор-хаус» в Нью-Йорке (1836); «Чарлстон-хоутел» в Чарлстоне, Южная Каролина (1839); «Иксчейндж-хоутел» в Ричмонде, штат Виргиния (1841); «Бернет-хаус» в Цинциннати (1850); знаменитый второй «Сент-Чарлз-хоутел» в Новом Орлеане (1851); «Бэттл-хаус» в Мобиле (1852); второй «Голт-хаус» в Луисвилле (1865), а также «Максвел л-хаус» на шестьсот номеров в Нэшвилле (1859 — 1869). Американский «общественный дворец» во многом стал творением Исайи Роджерса.
Американский отель новаторски сочетал архитектуру с механическим оборудованием, удобствами и техническими усовершенствованиями, предвосхищая будущее значение водопровода, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и десятков иных реальных или мнимых удобств американского домостроения. Ряд историков архитектуры считают «Тремонт-хаус» первым современным зданием. Это был первый отель—а возможно, и вообще первое крупное здание нового времени — с экстенсивной водопроводной и канализационной сетью. Самой известной его достопримечательностью стал блок из восьми ватерклозетов. Поскольку канализация выше первого этажа оставалась еще практически неизвестной, все они располагались на первом этаже с задней стороны и соединялись застекленными коридорами со спальными крыльями, рестораном и центральным холлом. Они, пожалуй, были первыми в Америке, если не считать нескольких, установленных в богатых особняках. Ванные комнаты в подвале снабжались холодной водопроводной водой, которая поступала также на кухню и в прачечную.
Одним из самых ошеломляющих новшеств следующего большого отеля, построенного Роджерсом, — «Астор-хаус» в Нью-Йорке — была сантехническая разводка на верхних этажах. Каждый этаж имел собственный ватерклозет и собственные ванные комнаты (всего семнадцать плюс две душевые), куда вода поступала из бака на крыше, наполняемого паровым насосом.
С тех самых пор американские отели остаются полигонами для испытаний новинок бытовой техники. Огромные капиталы,
178
вкладываемые в строительство отелей, наряду со стремлением превзойти соперников по причинам как делового, так и общественного характера превратили их в лаборатории и витрины бытового технического прогресса. Гигантский и быстро меняющийся поток постояльцев предоставил редкую возможность разжечь всеобщий аппетит на различные удобства, устройства и приспособления. Подобная возможность крупномасштабного экспериментирования и демонстрации сыграла в конечном счете немалую роль в становлении американского уровня жизни.
В американских отелях сначала опробовалось, а затем находило широкое применение одно бытовое новшество за другим. Так, например, первым общественным зданием, где было применено паровое отопление, стал «Истерн-иксчейндж-хоутел» в Бостоне (1846). Вскоре после этого в нескольких самых крупных отелях было установлено паровое отопление на всех этажах. Однако центральное отопление в основном применялось для общественных помещений и холлов спальных этажей, сами же номера по-прежнему отапливались печками и каминами. В отелях впервые был опробован и применен пассажирский лифт (первоначально именуемый «вертикальной железной дорогой»). Отель Холта в Нью-Йорке имел паровой лифт, используемый в основном для подъема багажа еще в 1833 году. Первые пассажирские лифты, установленные в старом «Фифс-авеню-хоу-тел» в Нью-Йорке в 1859 году, приносили значительную коммерческую выгоду. До тех пор комнаты на верхних этажах стоили дешевле; с помощью же лифта, как в шутку объяснял один автор, постоялец отеля «мог смотреть на окрестные здания сверху вниз точно таким же манером, как наша благороднейшая английская знать на крестьян».
Новая осветительная техника также была впервые широко опробована в отелях. Одной из новинок «Тремонт-хаус» было газовое освещение общественных помещений (номера по-прежнему освещались лампами с китовым маслом). «Амери-кэн-хаус», открывшийся в Бостоне шестью годами позже, уже весь освещался газом. Вызывавшее всеобщие восторги газовое освещение общественных помещений отеля «Астор-хаус» в Нью-Йорке обеспечивалось автономной установкой. Вскоре после того, как Томас Эдисон заявил о коммерческой целесообразности использования его лампы накаливания (21 октября 1879 года), ее опробовали в отелях. В начале 1882 года в отеле «Эверетт» на Парк-роу в Нью-Йорке — первом отеле с электрическим освещением — уже горела 101 лампа накаливания: в ресторане, холле, читальне и гостиных. Еще несколько меся
179
цев спустя «Палмер-хаус» в Чикаго уже установил собственный генератор для питания 96 лампочек накаливания в двух ресторанных залах.
Были отели первыми и в использовании электричества для сигнализации. Бостонский «Тремонт-хаус» установил «электромагнитный сигнал», способ пользования которым один лодырь описал следующим образом: «Один звонок — чтоб принесли холодной воды, два — чтоб пришел коридорный, три — швейцар, четыре — горничная, но никто из них и не думает откликаться, черт бы их побрал». Нажатием этих кнопочек, как говорят, первых в Америке, приводился в действие звонок в служебных помещениях, где показывался металлический кружок с номером комнаты. Эти звонки куда более способствовали приятной тишине, чем ранее применявшиеся постояльцами ручные. Отели ввели в обиход и телефоны. Когда в 1879 году открылась первая нью-йоркская телефонная станция, несколько отелей оказались среди немногих первых абонентов. Телефоны в номерах и собственный коммутатор для них впервые установил нью-йоркский отель «Нидерланд» в 1894 году. Многие мелкие удобства американской жизни были впервые опробованы в отелях. Пружинная кровать, еще неизвестная, когда в Бостоне открывали «Тремонт-хаус», была запатентована в 1831 году и лет через десять применялась в лучших отелях, хотя в быту нашла широкое применение лишь сорок лет спустя, когда была изобретена машина для массового производства кроватных пружин.
Роскошь и элегантность американских отелей стали нарицательными. Приезжим иностранцам быстро становилось понятно, почему их прозвали «дворцами» в демократической стране. «Американский отель по сравнению с английским отелем, — писал в 1861 году ошеломленный английский журналист, — все равно что слон по сравнению с барвинком... Американский отель (в большом городе) просторен, как Букингемский дворец, и ненамного уступит дворцу во внутреннем убранстве. В нем есть анфилады гостиных, многокомнатные номера, огромные лестницы и бесчисленные спальни». Один английский комик, живущий в роскошном нью-йоркском отеле «Сент-Николс» — эдаком видении из «Тысячи и одной ночи» с гардинами по 700 долларов штука, златоткаными портьёрами по 1000 долларов, с панелями красного дерева и резной мебелью из розового, диванами, обтянутыми фламандским полотном, и турецкими коврами ручной работы, — наотрез отказывался выставлять в коридор башмаки для чистки: боялся, что их позолотят.
180
Вполне естественно, что некоторые из первых попыток превратить американский отель в нечто новое начинались с большой помпой, как часть кампании по созданию новой национальной столицы в Вашингтоне, округ Колумбия. Федеральное правительство заняло территорию, выбранную президентом Вашинг-тоном под столицу в 1790 году, тольков 1800-м, ноужев 1793 году, когда города еще не существовало, уже были планы строительства городского отеля. Совет управляющих федеральным городом нанял Сэмюела Блоджета, предприимчивого выходца из Новой Англии, уже вложившего деньги в городскую недвижимость, руководить этим начинанием. Дав подряд на проект отеля Джеймсу Хобану, архитектору, по проекту которого строился дом президента, отцы города подчеркнули общественную значимость этого здания. 4 июля 1793 года состоялась публичная церемония закладки первого камня вольными каменщиками. Затем Блоджет пытался собрать необходимые для строительства средства с помощью федеральной лотереи, санкционированной городскими властями, первым призом в которой разыгрывалось право на владение будущим отелем стоимостью предположительно в 50 000 долларов. Именоваться ему предстояло «Юнион-паблик-хоу-тел» — первое, наверное, здание, объявившее себя «общественным отелем» в своем названии, но при всей шумихе об общественной важности этого дела отелем возведенное здание так и не стало. По завершении строительства в нем разместились почтовое ведомство и патентное бюро. Столица так и жила без первоклассного отеля до 1827 года, пока «Нэшнл-хоутел», принадлежащий Гэдсби, не был открыт торжественным балом в честь дня рождения Вашингтона.
Еще в 1790-х годах ведущие коммерсанты разработали хитроумный план финансирования строительства: была создана ассоциация «Тонтина», где доля каждого вкладчика возрастала по мере того, как умирали другие, пока наконец последний оставшийся в живых не получал все. По меньшей мере два нью-йоркских отеля, одним из которых был «Сити-Хоутел», самый знаменитый между 1820 — 1830 годами, были успешно построены аналогичным путем. Для сбора средств применялись тонтины1 и более сложные методы, привлекавшие многочисленных
1 Тонтина — одна из ранних форм страхования жизни, предложенная Лоренцо Тонти, неаполитанским банкиром, учредившим в XVII веке во Франции особый фонд. Этот фонд состоял из вкладов, вносимых группой лиц, и весь капитал доставался последнему из оставшихся в живых или нескольким лицам по истечении заранее обусловленного срока. —Прим. ред.
181
мелких вкладчиков к участию в строительстве впечатляющих отелей в их городах.
Закладка первого камня носила характер общественной церемонии и обычно проводилась 4 июля. В этот день закладывались и бостонский «Тремонт-хаус» в 1828 году, и нью-йоркский «Астор-хаус» в 1834 году, и многие другие, менее прославленные отели в различных городах. На обеде в честь открытия «Тремонт-хаус» 16 октября 1829 года тосты в честь нового заведения произносили Дэниел Уэбстер, Эдвард Эверетт и сотня других ведущих горожан.
В старых городах Восточного побережья — Бостоне, Нью-Йорке, Балтиморе и Чарлстоне — отели выполняли общественную функцию, еще не освоенную в Европе. Первые американские коммерческие биржи начинались с неформальных встреч коммерсантов в отелях. Многие отели, как, например, «Бостон-иксчейндж-хоутел», и именовались «биржами». Некоторые из них обладали правами банков и выпускали бумажные деньги. Еще в 1860-х годах отель «Бернет-хаус» в Цинциннати выпускал пятидолларовые ассигнации с гравированным изображением своего здания, заверенные его кассиром. В Новом Орлеане, например, вестибюль отеля «Сент-Чарлз» служил местом проведения публичных работорговых аукционов. В быстро растущих городах, отчасти по причине нехватки иных общественных помещений, отели служили обычным местом заседаний комитетов граждан, ассоциаций бизнесменов и даже, первоначально, муниципальных советов и иных официальных учреждений.
Отели служили и общественно-информационными центрами, куда приезжие приносили последние новости из дальних краев. Старомодный гостиничный регистрационный журнал (который в нашей стране существует не по требованию властей, как считают многие, но просто лишь как обычай деловой жизни) служил источником информации для широкой общественности. Фермер-англичанин, остановившийся в отеле Зейнсвилла, Огайо, отмечался в «фолианте, куда постояльцы вписывали имена, откуда прибыл и место назначения, а также любые новости, которые привозили с собой». Графа «Примечания» предоставляла возможность вписать несколько строк, рекомендующих свой товар, либо высказать взгляды на деловую жизнь в стране или положение дел в мире. «Дж.Сквайерс с женой и двумя детьми, — зарегистрировался постоялец отеля «Трентон-фолз» в Нью-Йорке и добавил: — Без слуги, уж больно трудные време
182
на». Следующий постоялец расписался следующим образом: «Дж. Дуглас со слугой. Без жены и детей — уж больно трудные времена».
Оценки, высказываемые постояльцами в регистрационных журналах отелей в годы президентских избирательных кампаний, превращались в первые опросы общественного мнения. «Каждый вписывал имя кандидата, за которого собирался голосовать, — рассказывал английский путешественник Дж. Букингем о регистрационном журнале в «Боллз-хоутел» города Браунсвилл, штат Пенсильвания, в 1840 году. — Например: «Гаррисон против всех. Ван-Бюрен — навсегда. Генри Клэй — гордость Кентукки. Джексону — Ура!» И так далее, страница за страницей. Таким образом, можно сделать попытку оценить силы той или иной партии». Позже в отелях размещались также первые местные отделения телеграфа.
Притягательным явлением в эпоху, предшествовавшую появлению публичных библиотек, стал и «читальный зал». Бостонский «Тремонт-хаус», например, собирал газеты, выходящие повсюду, предлагая их постояльцам бесплатно, а горожанам — за небольшой ежегодный взнос.
На протяжении XIX века в случае городского пожара первым среди восстанавливаемых зданий был отель. Когда в 1818 году сгорел бостонский отель «Иксчейндж-кофе-хаус», редактор одной из газет призывал восстановить его «для поддержания чести города». То же самое произошло после пожара 1867 года в Сент-Луисе. Большой чикагский пожар 8 октября 1871 года уничтожил почти все городские отели, в том числе и «Палмер-хаус», открывшийся всего лишь год назад и разрекламированный как «единственный в мире пожаробезопасный отель». Однако уже в течение последующих шести лет в Чикаго было построено 16 первоклассных отелей (от 200 до 800 мест каждый) и еще около 140 других гостиниц. Неудивительно, что, когда в 1860 году отель «Барнумз» в Балтиморе оказался вовлеченным в тяжбу, городской судья вынес постановление — отель не закрывать, поскольку как первоклассный отель «он представляет собой общественное заведение и необходим обществу».
* * *
Итак, в Америке начала XIX века отель, по общему признанию, получил новый статус. Еще до Гражданской войны ему подражали как в Европе, так и за ее пределами. Но в новых
183
городах американского Запада отель, как и газета, играл такую роль, которую не мог играть его собрат в Старом Свете. Здесь, в Америке, эти два детища новых городов должны были быть достойны друг друга. В Англии первыми появились железнодорожные отели. В Америке же отели возникли до появления железной дороги. Более того, их зачастую строили с целью заполучить железную дорогу, а вместе с ней поселенцев, газеты, торговцев, покупателей, юристов, врачей и все прочие атрибуты великолепия больших городов. Не случайно, что с возникновением новых городов отели стали расти как грибы.
В своей книге о Северной Америке, написанной в 1860 году, в главе «Американские отели» Энтони Троллоп очень живописно и подробно рассказывает о гостиницах:
Гостиницы в Америке совсем другие... Они представляют собой особый институт, самостоятельное явление. Найти их можно в каждом городе и чуть ли не в каждой деревне. В Англии и на континенте гостиницы расположены на традиционных торговых путях и в городах, имеющих торговый и политический вес. На безлюдных дорогах и в деревнях дело ограничивается каким-нибудь скромным домом, где нежданный путешественник может получить еду и кров и где местные жители обычно собираются вечерами выкурить трубку и пропустить стаканчик. В американских же штатах первым признаком зарождающегося поселения служит отель высотой в пять этажей, с офисом, баром, гардеробной, тремя мужскими гостиными и двумя дамскими, с подъездом для дам и двумястами спальнями... Откуда возьмутся постояльцы для этих спален и кто оплачивает ярко обитые диваны и бесчисленные шезлонги дамских гостиных? В любой другой стране рассчитывали бы исключительно на постояльцев-путешественников и иностранных гостей. В Америке дело обстоит иначе. Строя в пустынных местах новый отель, его хозяева уверены, что сюда приедут люди именно для того, чтобы поселиться в нем. Отель сам начнет создавать население — подобно железным дорогам. У нас железные дороги идут к городам. В Штатах — города идут к железным дорогам. И к отелям тоже.
На Западе случалось, что внезапные скопления людей вызывали потребность в крове, прежде чем успевали возвести капитальные строения. Например, в Лоуренсе, штат Канзас, первым «отелем» в 1850-х годах служила большая палатка, разделенная рядами ящиков на мужскую и женскую половины, с соломой на полу вместо постелей. Двадцатью пятью годами позже, в период бурного освоения территории Дакоты, предприимчивый житель Абердина предлагал ночлег в цирковом
184
шатре, пока не сумеет возвести на его месте нечто посолиднее. Говоря об охватившей Америку отельной мании, люди имели в виду вовсе не это.
В виду имелось совсем другое: смехотворное несоответствие отелей окружающей их обстановке, строительство отелей не для обслуживания, но для создания городов. Точно так же, как газеты на Западе зачастую начинали издаваться раньше, чем складывался город, в котором они выходили, а редакторы их работали под сенью вязов и печатали тиражи в бревенчатых хижинах, отели возникали в необитаемых лесах или посреди кукурузного поля. Они тоже служили олицетворением чьих-то надежд на создание большого города. Например, в Мемфисе, штат Теннесси, фасад «Гайосо-хаус», украшенный внушительной белой колоннадой и возвышающийся над рекой, рекламировался как «просторный и элегантный отель», хотя стоял посреди леса. Он был построен в 1846 году, за три года до того, как~Мемфис получил статус города, и за десять лет до того, как к городу проложили железную дорогу. Каким-то чудом отель должен был способствовать становлению города. Считалось, что Мемфис должен был стать столицей торговли хлопком, потому что уже имел общественный дворец, достойный такой столицы.
Около 1823 года группа предпринимателей, в которую входили Николас Биддл, президент банка Соединенных Штатов, и Сандерс Коутс, редактор газеты «Мобайл реджистер», решила построить на северо-западной территории город, дабы затмить Детройт и Сент-Луис. Они приступили к строительству города Порт-Шелдон (ныне заброшенное место милях в двенадцати к северо-западу от Холленда, Мичиган) в устье Голубиной реки. Первым пунктом плана предусматривалось сооружение «большого и вместительного отеля». «Оттава-ха-ус», обошедшийся в сумму около 200 000 долларов, был завершен как раз накануне кризиса 1837 года. Это грандиозное двухэтажное строение размером 80 на 150 футов, украшенное греческой колоннадой из шести резных колонн, было возведено в будущем сердце воображаемого города — прямо в глухом сосновом бору. Одна лишь обстановка отеля, «выдержанная в стиле, не превзойденном ни одним отелем страны... новенькая, с иголочки, отобранная в городах Восточного побережья», обошлась, говорят, в 60 000 долларов. Последняя запись в регистрационном журнале «Оттава-хаус» была сделана 1 марта 1842 года, всего лишь через пять лет после открытия. Когда стало ясно, что затея с городом провалилась, отель демонти
185
ровали. Четыре из шести его колонн оттащили быками для украшения особняка в городе Гранд-Рапидс.
Коридон, административный центр территории Луизиана, надеявшийся стать городом, в 1816 году, когда он существовал лишь в гипотетических прожектах, уже имел новый каменный отель со стенами в 18 дюймов толщиной и массивными потолочными балками. Когда в 1856 году Игнатиус Доннелли отправился создавать город Нинингер в Миннесоте, в его планы, естественно, входило и строительство отеля, и он рассчитывал, что каждый акционер подпишется на одну тысячу долларов. «Это в буквальном смысле слова кукурузное поле, поэтому я даже не смог сделать топографическую съемку, — объяснял Чарлз Эллиот Перкинс, управляющий Берлингтонской железной дороги, изучавший земельные участки к западу от Оттавы, штат Айова, в 1866 году, — но вчера у нас появился человек, желающий строить здесь отель. Для отелей здесь перспективы отличные».
«К весне мы построим хороший отель», — писал Уильям Лаример своей жене в ноябре 1858 года с почти пустынного места, которому предстояло превратиться в город Денвер. Он писал, что здание уже строится и что опытный управляющий уже выехал к ним из Омахи. Чикаго обзавелся первым каменным отелем еще в 1835 году, хотя двумя годами ранее все его население состояло из 350 человек. «Лейк-хаус» стоял на северной стороне реки у перекрестка улиц Мичиган и Норт-Уотер, в то время фешенебельном районе застройки. Отель был столь элегантен, что в ресторане подавали салфетки и первое в Чикаго отпечатанное меню. Его считали «не уступающим нью-йоркскому «Сити-хоутел», «гордостью города и предметом восхищения гостей». К середине 1850-х годов Чикаго, имевший около шестидесяти тысяч человек населения, насчитывал, как говорили, сто пятьдесят отелей.
Отели служили одной из первоначальных услуг дорожному люду, сплачивавших нацию воедино. Они одновременно и создавались общинами, и создавали общины, а также отражали неуклонное стремление к жизни в общине. У американцев уже входило в обычай съезжаться со всех концов страны для осуществления целей, в которых общественное смешивалось с личным, а дело — с удовольствием. Новым явлением стали всевозможные съезды; отели же предоставляли специфически американские возможности для их проведения. На протяжении столетия Соединенным Штатам предстояло стать страной, где
186
проводилось самое большое количество съездов в мире. Первый национальный съезд для выдвижения кандидата от одной из основных партий (республиканской, выдвинувшей 12 ноября 1831 года кандидатом в президенты Генри Клея) проводился в Балтиморе, чей отель считался тогда лучшим в стране. Наличие в Балтиморе «Сити-хоутел», принадлежавшего Барнуму, шестиэтажного здания с двумя сотнями номеров, объясняет, почему в этом городе проводились и многие другие первые национальные политические съезды.
В конечном счете американские отели сделали национальные съезды не только возможными, но и приятными, и празднично-веселыми. Укоренявшийся обычай созывать из дальних краев представителей любого рода групп — политических, коммерческих, профессиональных, научных и светских — в свою очередь способствовал развитию отелей. К середине XX века на различного рода съезды приходилась треть годовой занятости номеров всех гостиниц страны: в год проводилось около 18 000 различных съездов с общим количеством участников около десяти миллионов человек.
В Америке содержатель отеля, ничуть не похожий на добродушного, почтительного «хозяина» европейской гостиницы XVIII века, становился одним из почитаемых граждан. Владея крупной долей собственности в своей общине, он использовал свое влияние, чтобы способствовать ее процветанию. В качестве владельца или управляющего местного «общественного дворца» он создавал и формировал одну из основных притягательных черт общины. Иностранных путешественников его высокое положение на общественной лестнице изумляло и даже несколько шокировало. Все и вправду обстояло шиворот-навыворот в этой стране, если хозяин гостиницы оказывал постояльцу честь, уделяя ему внимание и общаясь с ним.
Иностранные наблюдатели середины XIX века объясняли расцвет отелей в стране «особенным рассредоточением населения по территории страны в силу естественного хода его промышленного развития». По их оценке, ни один американец из десяти не проживал в городе своего рождения. Согласно данным переписи 1850 года, одну треть всего населения страны составляли «пришлые» — те, кто родился за рубежом либо проживал за пределами своего родного штата. «Можно легко Догадаться, какую все это создает в стране систему отношений и как способствует развитию постоянных поездок друг к другу,
187
особенно среди людей, у которых так развито чувство привязанности к дому, как у американцев».
Начинали размываться принятые в Старом Свете перегородки, отделявшие «общественное» от «личного». Интимное, эмоционально нагруженное британское слово «дом» в Америке стало возможно заменить словом «жилище». Приватность уступала место публичности. Американцы вошли в новую сферу бытия, не имевшую четко очерченных рамок, дружелюбный коммунальный мир, который, строго говоря, не был ни публичным, ни приватным: мир, где все звали друг друга по имени, мир открытых дверей, крылечек и газонов, а также, разумеется, баров, ресторанов и вестибюлей отелей.
В этой новой атмосфере утрачивала многое из былой интимности семейная жизнь. Случайные знакомые вскоре уже воспринимались чуть ли не как «члены семьи». Классическим местом для формирования новой и зыбкой американской действительности, стирающей грани прежних различий, служил отель. Ключом к объяснению его особенной значимости служила введенная в американских отелях новая система, с самого начала так и именуемая — «американская система». В плату за проживание включалась стоимость еды, и постояльцы ели вместе в общем ресторане. Эта практика укоренилась в 1830-х и 1840-х годах, когда американцы обживали Запад, а города росли как грибы. Поначалу приезжие британцы именовали эту систему table d'hote 1 как якобы походившую по манере обслуживания на французскую. Вся еда выставлялась на стол, чтобы постояльцы обслуживали себя сами. Потребность в меню появилась значительно позже, когда изменившаяся система обслуживания позволила гостям индивидуальный выбор блюд. «В Соединенных Штатах сложился неизменный обычай, — жаловался еще в 1833 году английский путешественник Томас Гамильтон, — взимать плату по дням или неделям, заставляя таким образом постояльца платить за еду независимо от того, ест он ее или нет». «Американская система» укоренилась настолько повсеместно, что бостонский «Паркер-хаус», открытый в 1855 году, снискал широкую известность как первый в стране отель, применивший систему, именуемую для различия «европейской», при которой еда в стоимость проживания не включалась. К концу XIX века бедекеровский справочник «Соединенные Штаты» скрупулезно отмечал, какие отели при
1 Общий стол (фр.). —Прим, перев.
188
держиваются «американской системы», а какие — «европейской».
Изначально новые американские обычаи давали понять, что американцы рассматривают отели не просто как место для ночлега в пути, но как место проживания, как «дом вдали от дома». Иностранцев, изумленных количеством, размерами и удобствами американских отелей, изумляло и количество людей, проживающих в них постоянно. «Среди них (постоянных постояльцев) лишь иногда встречаются случайные путники, — отмечал Энтони Троллоп, — и они основного контингента проживающих в отеле не составляют».
С позволительной для туриста склонностью к преувеличению Троллоп следующим образом описывает гостиничный образ жизни американского среднего класса:
Молодые семейные пары в Америке не страдают склонностью к ведению домашнего хозяйства, имея самые различные к тому причины. Мужчины здесь отнюдь не скованы работой по найму, как у нас. Если какой-нибудь юный Бенедикт не сумел пристроиться адвокатом в Сейлеме, не исключено, что он вынырнет процветающим сапожником в Фермопилах. Джефферсон Джонсон потерпел неудачу со своей лесопилкой в Элеутерии, но, прослышав о вакансии баптистского проповедника в Биг-Мад-Крике, в течение недели сорвался с места с женой и тремя детьми. Эминадаб Уиггз устраивается клерком в контору пароходной компании на реке Понгоуонга с твердым убеждением, что через полгода будет уже зарабатывать себе на хлеб совсем в другом месте. При такой жизни даже большой гардероб в обузу, а мебельный гарнитур — что стадо слонов. К тому же молодые мужчины и женщины вступают в брак, не имея за душой никаких накоплений для начала совместной жизни. Они довольствуются своими надеждами и уверены, что средства придут. В легкомыслии их здесь никоим образом не упрекнешь — так живет вся страна, а в ней, если человек чего-то стоит, работа обязательно найдет его сама. Но жить он может только на свой заработок, которого хватает, только чтобы прожить иногда день, иногда неделю. Третьей же причиной, как мне кажется, можно считать то, что образ жизни в этих отелях нравится их постояльцам. Он им просто по душе.
Наши несовершенные статистические данные позволяют предположить, что в первой половине XIX века многие горожане-американцы жили в отелях или меблированных комнатах. Это особенно относится к новым городам Запада и главным образом к представителям среднего класса, то есть к тем ведущим гражданам, которые задавали тон. Английская феминистка миссис Бодичон отмечала в конце 1850-х годов,
189
что каждый большой город в США имеет пять, шесть, а иногда и более двадцати крупных отелей и пансионов, в которых живут сотни постояльцев. Большинство их, по ее словам, составляли семьи, проживающие там постоянно. В Чикаго, например, в 1844 году примерно каждый шестой житель города, зарегистрированный в городском справочнике, жил в отеле и примерно каждый четвертый — в меблированных комнатах либо в доме нанимателя. Помимо склонности юных новобрачных к перемене мест, объяснением тому служило преобладание мужчин в заселении обживаемых мест и недостаток женщин, способных вести домашнее хозяйство.
Существовало еще одно специфически американское обстоятельство, поощрявшее людей среднего класса селиться в отелях. Этим обстоятельством, побочным продуктом американского равенства и американских возможностей, являлись недостаток и высокая стоимость оплаты домашней прислуги. Кйк заметил британский путешественник в 1850-х годах, ирландская кухарка либо горничная была чрезвычайно дорогой роскошью в Америке. «Ирландская прислуга стремится хозяйничать в доме. Коренные же американцы на порядок самостоятельней и властолюбивей. Поэтому нет ничего удивительного, что американская матрона лет семнадцати-восемнадцати будет стремиться искать убежища от подобного бытового терроризма в золотых салонах «Святого Николса» или «Святого Чарлза», либо любого другого покровителя, способного предложить такое убежище за два с половиной доллара в день». Однако, как отмечала миссис Бодичон, праздность жизни в отеле портила женский характер. Она сравнивала американских дам, проживающих в отелях, с женщинами, увиденными ею в сералях Востока. «Женщины Востока проводят свои дни, умащивая себя, дабы ублажить одного господина и повелителя; женщины же Запада — дабы ублажить любое создание божье».
Каждый часто останавливавшийся в отелях вскоре замечал, как много различий и граней Старого Света стиралось в Америке. Европейские средние классы рассматривали право человека оставаться наедине с самим собой, либо наедине со своей семьей, либо с избранными друзьями как неоспоримое достоинство и признак цивилизованной респектабельности. Но человек, путешествовавший по Западу, оказавшийся за одним столом и приглашенный по-свойски поболтать с разношерстной компанией простых солдат, фермеров, работяг, грузчиков, адвокатов, врачей, священников, банкиров, судей и генералов,
190
вскоре обнаруживал, что американцы рассматривают склонность к уединению как порок того же порядка, что и гордость. Желание побыть в одиночестве рассматривалось как «проявление неуважения, а то и оскорбления, что явно ощущалось, даже если и не выражалось открыто. Американское общество терпимо и готово великодушно и безоговорочно простить многие ваши проступки и грешки, но этот грех никогда прощен не будет». Капитан Бейзил Холл, путешествовавший по Америке в 1827 — 1828 годах, жаловался на почти абсолютную недосягаемость гостиных, где можно было бы побыть одному даже в самых крупных отелях, и на почти полную невозможность в одиночестве пообедать или поужинать — это считалось редкой роскошью, предоставляемой лишь за отдельную плату, да и то далеко не всегда, какие бы деньги ни предлагались. Тридцатью пятью годами позже Энтони Троллоп с гордостью вспоминал чудесный комфорт уединения английской гостиницы, где человек мог, уединившись от всех, выпить чаю у камина и почитать книгу:
Вроде находишься в свободной стране... однако в американской гостинице никак не можешь устроиться по своему нраву. Рано утром ваши сладкие сны разгоняет жуткий удар в гонг, затем второй гонг полчаса спустя сообщает, что вас зовут на завтрак, одеты вы или нет. Вы, разумеется, можете продолжать заниматься своим туалетом и выйти к завтраку еще полчаса спустя. Никто, в общем-то, вас за это не упрекнет, однако завтрак, как здесь выражаются, уже весь к этому времени «вышел»... Есть и пить можете сколько влезет — никто не будет в претензии, зато претензии вызовет каждая проведенная в ресторане секунда, если вы не едите и не пьете. Вот что вас ждет в случае опоздания, потому никто и не опаздывает, а присоединяется к долгому ряду завтракающих, выполняющих свою миссию с упорством и энергией, которые выше всяких похвал.
Американский отель служил микрокосмом американской жизни. Членам кочевых и новых оседлых общин приходилось привыкать жить, есть и беседовать на глазах едва знакомых лиц. Это и была живая «американская система» в полном смысле слова. «Настоящая республика — единственный реально ощутимый и достойный признак республиканского характера нашего образа жизни», — так в 1844 году воспринимал жизнь в американском отеле известный своим остроумием М. Уиллис:
Страна еще никак не готова отказаться от преимуществ республиканского характера в устройстве быта наших современных отелей. Скажите се-
191
годня даме из провинции, что, приехав в Нью-Йорк, ей придется есть и проводить вечер взаперти в своем номере, и она просто никуда не поедет. Весь смысл, все очарование поездки в город в том и заключаются, чтобы, остановившись в «Асторе», отужинать в обществе двухсот хорошо одетых людей и посидеть во всем параде в роскошной гостиной, где собирается общество. Да по сравнению с этим театр — ничто! Бродвей, магазины и достопримечательности — дело пятое, всего лишь гарнир к главному блюду поездки.
Что толку от отеля или от республики, если ни то ни другое не дает возможности «прилично одетым и чинным гражданам» посидеть за общим столом?
В то время как отель становился символом быстротечности жизни в динамичной Америке, южане гордились своим иммунитетом к «гиблой совместной жизни в отелях и их меблированным комнатам». Отель годился для людей типа «перекати-поле», которых Старый Юг (к счастью своему, как там считали) почти не знал. Там, где люди оседали, каждый гражданин превращался в землевладельца с развитым «чувством дома». В постоянстве домашнего очага коренилось и чувство уважения к незыблемости общественных установлений страны.
Но если «американская система» как образ жизни для непоседливого предприимчивого населения новоявленных городов не была лишена недостатков, то и достоинствами она обладала немалыми. Ослабляя семейные узы, она в то же время сокрушала кастовые барьеры. И если приглушались интимность и индивидуальность, то стимулировалось чувство локтя. В Америке, пожалуй, складывался новый тип уз, связующих людей.
19.
«НАДУВНОЙ КАРКАС»
Граждане новоявленных городов могли прохлаждаться в роскошных салонах и барах «общественных дворцов», не имея при этом ни собственной кровати, ни крыши от дождя над головой. Некоторые «общественные» удобства были достойны большого города, многие же частные — недостойны даже деревни. Профессиональных и достойных содержателей отелей или газетчиков было хоть пруд пруди, заурядного же плотника нельзя было сыскать днем с огнем.
192
Нуждаясь в быстром и масштабном строительстве домов и почти не имея квалифицированных плотников, поселенцы изобрели новый способ строительства, которому суждено было задавать тон в грядущие десятилетия. История его становления служит еще одним примером того, как бедность ресурсов и примитивность производства оборачивались в Америке непредсказуемыми преимуществами. Подобно тому как нехватка квалифицированных оружейников побудила Илая Уитни и других изобретательных граждан Новой Англии изыскать возможности производства ружей без оных, нехватка квалифицированных строителей в период заселения Запада также принесла неожиданные дивиденды. «Надувной каркас», повсеместное явление XX века, остается непризнанным памятником американцам — жителям новоявленных городов.
Ларчик открывался просто: здравый смысл изыскал возможность удовлетворить острые жилищные потребности нетерпеливого переселенческого люда.
Веками англичане и другие народы, живущие в умеренном климате стран Западной Европы, строили деревянные дома (или дома с деревянными каркасами) определенным, привычным образом. Чтобы придать ему долговечность и прочность, дом строился на крепком остове из тяжелых балок толщиною около фута. Балки соединялись следующим образом: конец одной тонко стесывался, образуя «шип», который затем вставлялся в прорезь, сделанную в примыкающей балке, именуемую «паз». Там, где стык подвергался сильной нагрузке, балки скреплялись деревянной шпонкой, пропущенной в «замок», пробуравленный сквозь обе скрепленные детали. Подобный способ обычно считался единственно правильным для строительства дома и требовал немалого мастерства: чтобы стесать шипы, прорезать пазы, пробуравить замки, вырезать деревянные шпонки и, наконец, аккуратно собрать и пригнать все вместе, нужны были и инструменты, и квалифицированные плотники. Даже намек на возможность каких-либо иных методов означал покушение на практику целой гильдии.
Сама жесткость подобного подхода и привела к изготовлению первых сборных домов. Поначалу казалось удивительным, что в XVII веке через океан приходилось перевозить сборные дома в Америку, изобиловавшую девственными лесами. Но необходимость изготавливать блоки для дальнейшей сборки тогда, как и в описываемый нами период, диктовалась во многом нехваткой умелых рабочих рук там, где эти блоки предстояло собирать. Уже в 1820-х годах благочестивые бостонцы, стре
193
мясь облегчить жизнь миссионеров на далеких Гавайских островах, отправили туда сборный дом, основа которого состояла из массивного тесаного каркаса, демонтированного и готового к новой сборке, со всеми пазами, шипами и деревянными шпонками. Старый «Мишен-хаус», доставленный за 18000 миль вокруг мыса Горн, до сих пор стоит в центре Гонолулу, являясь старейшим его деревянным строением.
Подобный экспорт домов был легко осуществим в местах, доступных для мореходства. Перевозить же их по суше до появления железных дорог было совсем другим делом. Потребности новоявленных городов американского Запада предполагали кардинально иной подход к решению проблемы. И эти города увидели радикальный путь в изменении методов домостроения. Подобно другим американским новшествам, этот путь также служил способом достижения наилучшего результата и требовал меньше традиционных навыков.
Вполне естественно, что это великое новшество по-прежнему известно под его насмешливым прозвищем, поначалу вызванным к жизни контрастом между его легкостью и тяжестью традиционного рубленого дома. Он казался до того смехотворно легким, что старые почтенные строители прозвали его «надувной каркас». Он разлетится при первом же дуновении ветра, уверяли они. Однако конструкция, высмеиваемая ими, прочно вошла в быт на протяжении всего лишь нескольких десятилетий. Именно этот способ строительства сделал возможным массовую застройку американских городов. Без него были бы невозможны ни быстрый рост городов, ни высокое качество американского жилищного строительства, ни обширные американские пригороды.
Достоверное имя изобретателя «надувного каркаса» неизвестно. Однако мы знаем, что появился такой каркас в 1833 году в Чикаго и двадцать лет спустя доминировал во всех городах американского Запада. Первым зданием, построенным подобным методом, была, по-видимому, церковь Св. Марии, возведенная под руководством преподобного Джона Сен-Сира, первого назначенного в город пастыря. Церковь представляла собою одноэтажное здание длиной в 36, шириной в 24 и высотой в 12 футов со скошенной остроконечной крышей. Строителем (а возможно, и автором конструкции) был Августин Деодат Тейлор, плотник из Хартфорда, приехавший в Чикаго лишь за месяц до начала строительства. Строительство церкви обошлось в 4000 долларов, воздвигали ее около трех месяцев трое рабочих. То есть на нее ушло примерно в два раза мень
194
ше времени и денег, чем на строительство аналогичного здания общепринятым способом. Гости Чикаго изумлялись скорости, с которой росли в нем дома. Семь новых домов появились за одну лишь неделю в апреле 1834 года. К середине июня к ним прибавилось еще семьдесят пять. В начале октября 1834 года один современник отмечал, что если год назад в городе было всего лишь пятьдесят сборных зданий, то «сейчас я насчитал их в прошлое воскресенье 628, в день прибавляется по 4 — 5 домов, а 112 из них построены под магазины и лавки». Теперь строительство здания с момента начала работ занимало всего одну неделю!
Что представлял собою «надувной каркас»? Идея, лежащая в его основе, столь проста и столь широко применяется сегодня, что даже трудно представить, будто людям пришлось напрягаться и изобретать.
Прежний каркас из футовых балок на шипах, пазах и шпонках просто-напросто заменили легкой рамой два на четыре, скрепленной гвоздями. Перекладины (горизонтали), стояки (вертикали), перекрытия и стропила выполнялись из тонкого пиленого бруса (2x4 дюйма, 4 х 4, 2 х 6, 2 х 8), который сшивался гвоздями. Еще эту раму именовали «корзиной», потому что бруски образовывали простую корзинообразную конструкцию, легко обшиваемую любым нужным материалом снаружи и изнутри. Снаружи обычно использовались легкие панели. Ничего проще и не придумаешь. Три четверти домов в Соединенных Штатах строятся сегодня подобным способом.
Это замечательное изобретение не могло бы осуществиться без революционных усовершенствований в производстве гвоздей, имевших место' в основном в Новой Англии в 1830-х годах. Старую практику ручного изготовления гвоздей вытеснила американская система механизированного быстрого и дешевого их производства.
Недостаток квалифицированного труда во многих отношениях оказался ключевым фактором. В Чикаго (а до 1870 года «надувной каркас» был широко известен как «чикагский») вообще было мало квалифицированных рабочих, особенно плотников. Но гигантский поток поселенцев, устремившихся в новый город, требовал новых методов строительства.
«Надувной каркас» и стал решением специфических проблем американских новоявленных городов. В более устоявшихся и оседлых общинах, даже в Соединенных Штатах, можно было бы ожидать большего равновесия между спросом и предложением. К тому же в подобных общинах имелась воз
195
можность пожить либо у друзей или соседей, либо в меблированных комнатах, тавернах или амбарах в ожидании строительства дома. В глухих лесах можно было быстро поставить односкатную хижину (вроде той, что поставил в 1816 году отец Линкольна, переехав в Южную Индиану); с некоторой помощью и не так быстро, можно было срубить бревенчатый дом. Но в новых городах не могли жить в пристройках, хижинах из дерна и лагерях; им было некогда рубить бревенчатые дома, даже если хватало материала. Плотников было мало, да они и не обладали организацией, способной убедить клиентов в том, что строительство каждого дома непременно требовало их профессионального мастерства. Люди, остро нуждавшиеся в крыше над головой, никак не могли поверить в невозможность иных способов строительства. Не испытывали они склонности верить и в то, что более простой способ обязательно должен оказаться ненадежным. И вообще люди, которым прежде всего хотелось строиться побыстрее и поэкономнее, были склонны довольствоваться «не самыми высокими» стандартами.
Поначалу некоторые чикагцы, испытывавшие ностальгию по «красавцам домам» из тяжелых балок и мощных каменных глыб, проявляли недовольство тем, что весьма значительная часть их нового города застраивалась так легковесно, но постепенно большинство из них убедились, что «надувные» дома, пренебрежительно именовавшиеся иногда халупами, на самом деле оказывались куда прочнее и долговечнее своих массивных предшественников, ибо в шипово-пазовых замках скапливалась влага, вызывая гниение древесины. «Надувной каркас кажется легким, — указывали архитекторы — авторы «Домостроения в лесных краях», руководства, изданного в 1865 году и пользовавшегося широкой популярностью, — и презрительная кличка была дана ему консерваторами, приученными лишать деревянную деталь прочности и долговечности, стачивая ее в шипы, прорезая в ней пазы и буравя дыры, а затем убеждая нас, что она окажется прочнее куда более легкой и по-иному прикрепленной деревяшки, сохраняющей все свои природные качества». «Надувной каркас», составленный из тонких досок, сбитых гвоздями, указывал Солон Робинсон, редактор сельскохозяйственного отдела нью-йоркской «Трибюн», не только легче устанавливается, но и оказывается на деле «неизмеримо прочнее по завершении работ, чем если бы был собран из балок сечением в десять дюй
196
мов, просверленных тысячью дырок за сто дней работы теслом и буравом».
Иностранцев изумляло умение американцев передвигать дома еще задолго до появления «надувного каркаса». Сборные дома в Новой Англии иногда перемещались на более удобное место целиком и должны были быть особенно хорошо собраны, чтобы выдержать подобный переезд. Непоседливые американцы сочли каркас нового образца куда более подходящим для быстрой разборки и новой сборки. Дом, сбитый гвоздями, нетрудно демонтировать; его легкие детали удобно паковались и перевозились, а собрать его заново мог любой человек, способный держать в руках молоток. Церковь Св. Марии, первоначально воздвигнутая на берегу канала близ юго-восточной части перекрестка Стейт-стрит и Лейк-стрит, за десять лет после ее постройки в 1833 году трижды разбиралась, переносилась и возводилась заново на новом месте.
Меняющие место жительства американцы нередко желали брать свои дома с собой или отправлять их вперед. В 1856 году генерал Уильям Лаример жил в Омахе в доме, сбитом на «надувном каркасе», первоначально построенном в Питтсбурге, затем демонтированном и перевезенном в Омаху. Когда Омаха разрослась, генерал снова разобрал дом и перенес его на новое место. К середине века производство стандартных блочных домов, церквей и даже отелей, которые можно было заказать по почте с доставкой на фермы и в города Запада, превратилось в процветающий бизнес.
К 1850 году в одном только Нью-Йорке было построено около 5000 таких домов для поставки в Калифорнию, переживавшую острый жилищный кризис. Один концерн отгрузил 100 разборных деревянных домиков для перевозки вьючными мулами через Панамский перешеек и еще 175 — морем вокруг мыса Горн. «Астор-хаус», отель в Сан-Франциско высотой в три с половиной этажа и длиной в 180 футов на 100 номеров и десять магазинов, был отгружен в тот год партиями готовых блоков той же нью-йоркской фирмой.
Двадцать лет спустя после постройки первого дома на «надувном каркасе» в Чикаго влиятельные публицисты, такие, как Солон Робинсон, превозносили достоинства этой конструкции. Чтобы «собрать каркас и навесить стены традиционного образца, — говорил он в 1855 году, — требуются высокое мастерство целой бригады рабочих и большие усилия при установке тяжелых балок. Собрать же надувной каркас не труднее, чем сколотить дощатый забор».
197
20.
КУЛЬТУРА СО МНОЖЕСТВОМ СТОЛИЦ: КОЛЛЕДЖ ТОЛКАЧЕЙ
Одним из ключей к пониманию оптимистического восприятия американцем настоящего и будущего как единого целого была возникшая неясность в определениях, употреблявшихся для больших населенных пунктов. В Англии слово «сити» имело точный, определенный смысл, обозначая исторически и юридически сложившиеся отличия города от населенных пунктов меньшего размера. Еще до правления Генриха УШ словом «сити» именовался город, имевший кафедральный собор; когда же Генрих УШ основал новые епархии, местечки, ставшие резиденциями епископов, были официально возведены в ранг городов. Формально различия носили столь четкий характер, что в XIX веке титул города время от времени официально присваивался нескольким населенным пунктам, не являвшимся епископскими резиденциями, как, например, Бирмингему. Таким образом, в английской табели о рангах за «городом» (city) шел «городок» (town), а за «городком» — «деревня» (village), определяемая обычно как скопление домов, меньшее, чем «городок», но большее, чем «селение».
Все эти различия в определениях стирались на быстро растущем американском Западе. Каждый населенный пункт, воображаемый или реально существовавший, большой или малый, постоянный или временный, именовал себя городом (city). И каждый населенный пункт, претендовавший на честь именоваться подобным образом, стремился подтвердить свои притязания, стараясь обзавестить достойными титула институтами. Еще в 1747 году европеец, обосновавшийся в Берлингтоне, штат Нью-Джерси, отмечал, что жители именовали это место городом, «хотя оно было всего лишь деревней, состоявшей из 170 домов». Таким образом, в Америке слово «сити» употреблялось либо применительно к населенному пункту, большему, чем «городок», либо как выражение «упований на будущее величие заурядной деревушки». «За последние два дня,—не без изумления отмечал в 1826 году граф Дерби, — мы миновали несколько городов, хотя некоторые из них вообще трудно заметить невооруженным глазом».
«Странно, когда словом «сити» именуют недостроенный бревенчатый дом, — ядовито заметил в 1834 году капитан Мар-риэт, — но именно так обстоят дела в Техасе». Не один путешественник отмечал, что каждый прииск — а не только такие,
198
как Виргиния-Сити или Карсон-Сити, потрудившиеся включить это слово в официальные названия, — именовал себя «сити».
Простейшим способом доказать обоснованность надежд на «городскую» будущность того или иного поселения было обзавестись как можно скорее всеми атрибутами большого города, в число которых наряду с газетами и отелями входили и высшие учебные заведения. Создание колледжа толкачей показывает, как стремление к идеалу совершенной общины способствовало распространению американской культуры.
В четырех своих ежегодных обращениях к стране президент Мэдисон призывал к созданию национального университета в Вашингтоне, округ Колумбия, в дополнение к университетам, существующим в отдельных штатах. И декабря 1816 года это предложение одобрил сенатский комитет, и в 1817 году был подготовлен законопроект. Но президент Монро и другие сочли нужным принять поправку к Конституции, которая наделила бы федеральное правительство подобными полномочиями. Однако предлагаемая поправка была отклонена палатой представителей. Подъем предпринимательского духа укрепил возникшие сомнения. Теперь распространение культуры все больше и больше становилось делом энтузиастов в десятках новых общин, а не просто побочным продуктом складывавшихся в Америке условий.
Европейцу казалось странным, что между Революцией и Гражданской войной большая часть новых колледжей была основана в западных поселениях и на самых дальних заселенных рубежах. Из ста восьмидесяти с лишним колледжей и университетов, основанных в те годы и сохранившихся до XX века, более сотни возникли за пределами первых тринадцати колоний. Подобная диспропорция тем более впечатляет, если принять во внимание, что население по-прежнему продолжало концентрироваться в обжитых районах Атлантического побережья. Если в Европе колледжи и университеты основывались в древних городах, то в Соединенных Штатах они по большей части возникали в местах, которым только еще предстояло обзавестись населением и достигнуть развития. Эта особенность американского высшего образования объясняется двумя по меньшей мере факторами: духом предприимчивости, побуждавшим каждое поселение считать себя чуть ли не «Афинами Запада», и духом миссионерства, несущим веру в самые дальние поселения.
199
Религиозные вероучения, еще в колониальные времена приумножавшие количество учебных заведений и стимулировавшие конкуренцию между ними, сохраняли влияние и на заре становления новой науки. Как сторонники, так и противники влияния той или иной церкви не могли не согласиться, что к добру ли, к худу ли, но основная масса высших учебных заведений в Америке была создана ими. По оценке Фрэнсиса Уэйленда, миссионера и президента Брауновского университета (1827 — 1855), законодательное собрание не дало университету и десятой доли того, что он получал из религиозных источников. Филип Линдс-ли, президент-новатор нового внецерковного университета в Нэшвилле, пожелал, чтобы его учебное заведение было «религиозным», но в 1834 году высказал недовольство церковным сектантством:
Главной причиной чрезмерного множества и крошечных масштабов западных колледжей, несомненно, является раздробленность наших конфессий. Почти каждая церковная секта обзаводится собственным колледжем и в каждом штате имеет хотя бы по одному. Из десятка колледжей в Огайо, Кентукки и Теннесси лишь два-три не принадлежат церковным сектам.
Разумеется, мало какой из сектантских колледжей отвечает предназначению, которому мог и должен был бы отвечать. Многие из них лишь вводят людей в заблуждение. Это — достойное осуждения и растущее зло. И отнюдь не ясно, на каком основании должны быть сектантскими колледжи, если таковыми не являются исправительные заведения, банки, корпорации по строительству дорог и каналов. Колледж предназначен для наставления юношества в премудростях учения — в изысканной литературе, гуманитарных и точных науках, — а вовсе не в догматическом вероучении какой-либо секты или партии. Зачем же тогда крестить колледжи по названиям сект? Они что, будут обучать сектантскому греческому, сектантской математике, сектантской логике, истории, риторике, философии? В таком случае каждый штат должен быть раздроблен на такое количество ассоциаций колледжей, сколько в его границах существует религиозных сект? А в силу нашей ревности и недоверия друг к другу не сведены ли к нулю вся польза и возможные успехи любого учебного заведения?
Христианство в Америке (протестантство по меньшей мере) уже превратилось в рынок, на котором каждая секта стремилась предложить свой продукт и выгодно продать его любому потенциальному покупателю.
Борьба за выживание сектантских колледжей оказала мощное и продолжительное воздействие на неопределенность религиозной жизни страны. Хотя чуть ли не каждый колледж был
200
основан и управлялся какой-либо одной сектой, в целом их уставами возбранялась проверка религиозности преподавателей и студентов. Этот узаконенный либерализм укреплялся потребностью каждого колледжа в деньгах и студентах. Чтобы сделать колледж привлекательным для всех, для людей, верующих во что угодно либо ни во что, сами конфессии превращались в могучих пропагандистов «нигилизма», который ряд исследователей называли истинно доминирующим вероисповеданием в Америке. «Религиозному нигилисту, — отмечал во время своей поездки по США в 1845 году английский геолог Чарлз Лайел, — ...все равно, в какую церковь ходить — баптистскую, методистскую, пресвитерианскую либо конгрегационалистскую, — зачастую он склонен одинаково щедро жертвовать на каждую из них или на все сразу». Способность организованных конфессиями учебных заведений подняться выше своих узких интересов была продемонстрирована еще такими старейшими колледжами Восточного побережья, как Гарвард, Йейл, Дартмут, Амхерст и Уильямс.
Не вспомнив об активности этого сугубо американского конфессионализма, мы не придем даже к истокам понимания того, почему уже к 1870 году по меньшей мере И колледжей было основано в Кентукки, 21 — в Иллинойсе и 13 — в Айове. Дух «внутреннего миссионерства» не ослабевал. Например, в ноябре 1828 года группа пылких молодых студентов богословского факультета Йейлского университета под впечатлением прочитанного ими очерка «Зов Запада» собралась под вязами Нью-Хейвена и поклялась посвятить жизнь делу просвещения и духовного наставления Дальнего Запада, которым был тогда Иллинойс. Они именовали себя «Иллинойской ассоциацией» или «Йейлской группой». Один из них — Джулиан Стертевант — основал 4 января 1830 года Иллинойский колледж в Джексонвилле, в котором было 9 студентов. В 1837 году еще семеро йейлских богословов организовали «просветительскую ассоциацию Айовы... с целью создания прочной основы для будущего колледжа штата Айова». Этой «прочной основой», как и у других западных колледжей, была программа продажи земельных участков. Таким образом, поддержка миссионеров из восточных районов была не менее важна для становления западных колледжей, чем участие восточных капиталов в строительстве западных железных дорог.
201
Либеральный миссионерский энтузиазм основателей движения временами перерастал в сектантский зуд, распылявший их энергию и тормозивший деятельность, но в целом Америка не страдала odium theologicum1. В борьбе за существование колледжи, как объяснял Фредерик Рудолф, «не могли себе позволить выглядеть не слишком привлекательно, что часто бывало, а дрязги, в которые подчас встревали различные конфессии, у большинства американцев симпатий не вызывали». Поэтому понятно, что в целом колледжи стремились к «свободной от сектантства атмосфере».
«Страною колледжей» назвал Америку в 1851 году один из энтузиастов развития системы высшего образования. К 1880 году Фредерик Барнард, президент Колумбийского университета, удивлялся тому, что Англия, с ее населением в 23 миллиона человек, обходится четырьмя университетами, в то время как в штате Огайо всего на три миллиона населения их приходилось 37.
Причиной тому, не менее существенной, чем свобода веры, но само собою разумеющейся, так что Барнард ее и не упомянул, служил дух предприимчивости.
Ни одна община не ощущала себя полноценной при отсутствии колледжа или университета. Конфессии обычно давали первый толчок и предлагали программу, но далее колледж строила и содержала вся община вне зависимости от религиозной принадлежности. Подобным образом создаваемым колледжам было свойственно принимать имена городов, которые им предстояло прославить. Немногие колледжи, кроме римско-католических, назывались именами святых либо иными названиями, в которых отражалось бы то или иное вероисповедание. Позже ряд колледжей был назван именами их благодетелей.
В 1830-х годах, отмечал Джулиан Стертевант, один из членов «Йейлской группы», эта «мания строительства колледжей... стала результатом как распространенных спекуляций землей, так и стремления конфессий расширить свое влияние... Широко укоренилось убеждение, что создание в молодом городе колледжа, как ничто другое, способствует его развитию». Некоторые заведения, известные под названием «колледж», были просто коммерческими предприятиями, однако примечательно, учитывая все соблазны и трудности, что многие новые общины сумели
1 Религиозной нетерпимостью (лат.). —Прим, перев.
202
предложить своим гражданам возможности для получения достойного высшего образования.
В ряде более старых городов Восточного побережья достаточно было желания общины при самой незначительной поддержке конфессий или откровенных коммерческих интересов, чтобы открыть новое учебное заведение. Примером подобного рода может служить история создания колледжа Лафайета в Истоне, Пенсильвания. Джеймс Мэдисон Портер, юрист, строитель каналов и один из самых инициативных граждан Истона, в котором лишь недавно осел, видел, как колледжи повсеместно стимулируют развитие торговли и рост занятости. Портер задумал открыть колледж в Истоне при поддержке всей общины. 24 декабря 1824 года в истонских газетах появилось объявление, приглашающее всех заинтересованных граждан собраться в половине седьмого вечером следующего понедельника в «Истон-хоутел» на центральной площади. В большой гостиной, занимавшей целиком третий этаж здания, собрались горожане, они предприняли первые организационные шаги, необходимые для учреждения учебного заведения, выбрали для него название и избрали попечительский совет из 39 человек, в число которых входили бизнесмены, юристы, врач, двое газетчиков и двое содержателей отелей. Никто из них не был уроженцем Истона, и лишь один-единственный человек учился в колледже.
Истон, всего лишь 35 лет существовавший как зарегистрированная административная единица, в 1824 году считался очень перспективным, поскольку был выгодно расположен в месте слияния рек Лихай и Делавэр, вниз по которым пароходы доставляли в Филадельфию первые партии антрацита наряду с мукой и мясом для тамошних судостроителей.
К тому же город лежал на оживленном фургонном пути из Нью-Йорка в Новую Англию. За один лишь месяц 1824 года через город на Запад прошло 511 крытых фургонов, перевезших более 3000 эмигрантов. Истон казался городом будущего. Но где же было изыскать средства для колледжа столь малой общине? Первые попытки собрать средства не увенчались успехом. В 1832 году совет попечителей пригласил на должность президента колледжа преподобного Джорджа Джанкина, до того возглавлявшего отчаянно боровшуюся за существование Академию ручного труда в Джермантауне. Используя в основном рабочие руки студентов, Джанкин сумел построить несколько зданий и оживить интерес общины к колледжу. В начале 1833 года, когда все население Истона состояло из ка
203
ких-то 3700 человек, кампания по сбору пожертвований принесла 2925 долларов. На следующий год законодательное собрание штата ассигновало наконец 8000 долларов с условием, что ни цента из той суммы не должно было уйти на оплату преподавательского состава. 4 июля 1833 года праздничная процессия, начавшаяся у здания суда на центральной площади, продолжилась впечатляющей церемонией закладки первого камня нового здания колледжа. Это действо, самое красочное со дня основания Истона, подчеркнуло значение колледжа для общины и общины для колледжа.
В молодых городах Запада значение преуспевающего колледжа для процветания общины казалось еще более очевидным. Вот, например, Вустерский колледж. Пресвитерианский синод Огайо, на протяжении двадцати лет высказывавший озабоченность отсутствием там сильного пресвитерианского института, осенью 1865 года уполномочил свой комитет основать колледж в любом городе, способном предложить не менее 100 000 долларов. На это тут же откликнулись ведущие граждане Вустера, все население которого составляло тогда 5000 человек. «Это не только окажет городу честь, — настоятельно призывала издаваемая в Вустере газета «Рипабликэн» от 12 октября, — но и настолько повысит стоимость недвижимости во всем округе, что в накладе не останется никто... Население округа приложит усилия, чтобы собрать необходимую сумму в 100 000 долларов». Также предполагалось, что Вустер вырастет в крупный город, если каждый местный уроженец сможет, не покидая родные края, посещать «один из лучших в стране университетов». В начале декабря началась кампания по сбору средств, для чего были созданы территориальные комитеты.
Использовался и настойчиво повторялся любой возможный аргумент — от безусловного роста стоимости собственности до снижения пьянства в результате облагораживающего влияния университета. Но над всеми аргументами доминировала линия развития: колледж поможет Вустеру и окрестностям развиваться и процветать. Процветание же граждан неотъемлемо от процветания общины в целом. Три недели спустя было собрано 75 000 долларов. К концу марта 1866 года соперничающий с Вустером город Мэнсфилд вышел из игры. Право Вустера на колледж продолжал оспаривать лишь город Лондон. Планы создания «университета», писал в газете один из граждан Вустера, уже сделали их город путеводной звездой цивилизованного мира.
204
Намерения, высказанные в этой области округом Уэйн, уже прославили его по всей стране. Пресса, как светская, так и религиозная, разнесла известия по городам и весям, и об округе Уэйн заговорили и в Филадельфии, и в Нью-Йорке, и в Цинциннати, и в Чикаго — практически во всех уголках страны — как о благородном округе, очаге предприимчивых людей, вероятной обители гуманитарного просвещения. Взоры всей страны обращены к нам, и сотни людей готовы к нам отправиться.
Граждане округа Уэйн и Вустера предложили синоду Огайо, собравшемуся 18 октября 1866 года в этом городе, красивый холм (оцененный в 25 000 долларов) и 92 000 долларов наличными (сумму, позднее доведенную до круглой цифры 100 000 долларов). Колледж достался им и был наречен Вустерским университетом. «Мы стремимся, — заявил на одном из своих первых собраний совет попечителей, — сделать Вустер таким же значительным очагом образования в Огайо, как Оксфорд и Кембридж в Англии, как университеты в Германии и во Франции».
Подобные ситуации повторялись по всему Западу снова и снова. Менялись города и люди, не менялась лишь суть: инициатива церкви, предприимчивость и активный оптимизм.
Истории колледжей, как и истории городов, представляли собою летописи быстро менявшихся надежд и легко переносимых с места на место привязанностей. Под стать городам-призракам существовали и призраки-колледжи. Колледж, не сумевший быстро оправдать возлагаемых надежд, либо просто покидали, либо он передавал (а иногда продавал) свое название, скудные ресурсы и поиздержавшихся попечителей более перспективному преемнику. Многие колледжи, процветавшие в середине XX века, получили в наследство бесчисленные не-оправдавшиеся ожидания своих предшественников. С этой точки зрения стоит проследить родословную Гриннел-колледжа, например. Сессия территориальной ассамблеи Висконсина, проводившаяся в 1837 — 1838 годах, наметила открыть 18 учебных заведений, одно из которых было названо колледжем города Денмарк. Это заведение так и не состоялось, но вместо него родилась Денмаркская академия, признанная в 1843 году территориальным законодательным собранием Айовы первым официальным образовательным учреждением территории. Академия получила 72 городских участка и 14 загородных в дар от местного населения. Несколько лет спустя, в июне 1846 года, группа, в которой преобладали конгрегационалисты, основала колледж Айовы, резиденцией которого был выбран Да
205
венпорт; его жители выполнили требуемые условия, пообещав 1362 доллара и 13 земельных участков. Исходный план создания колледжа предполагал строительство основного здания, стоимость которого не должна была превышать 2000 долларов. Когда в 1858 году стало ясно, что Давенпорт не оправдывает возлагавшихся на него надежд, попечители распродали имущество колледжа и объявили о готовности рассмотреть предложения о переносе колледжа в иное место. На их объявление ответили по меньшей мере восемь городов и восемь частных землевладельцев. Самое привлекательное предложение поступило от Гриннеллского университета, куда попечители бывшего колледжа перенесли свою скудную библиотеку, немногие научные приборы, жалкие зачатки музея и старый сейф, хранивший документы колледжа и 9000 долларов наличными.
Гриннеллский университет (переименованный из Народного колледжа) был зарегистрирован лишь в 1856 году, когда население города Гриннелл составляло около 200 человек. Его основание служило частью сложного плана по созданию города трезвости, где каждый участок оформлялся с условием, что при продаже на нем крепких алкогольных напитков права на участок аннулируются. Университет и город процветали с самого начала во многом благодаря предпринимательскому гению Джосайи Бушнела Гриннелла, пылкого проповедника-кон-грегационалиста, охарактеризованного современником как «животворящий луч солнца, необходимый всем и везде как бесплатная реклама — в штате и за его пределами». Таким образом, будущий Гриннелл-колледж стал наследником всевозможных надежд.
Неудивительно, что уровень «смертности» колледжей был так же высок, как и уровень «смертности» городов. В юго-западных и западных штатах он составлял в среднем свыше 80 процентов. К 1930 году функционировало менее одного из пяти колледжей и университетов, основанных перед Гражданской войной. Более 700 колледжей приказало долго жить к 1860 году. В целом самый высокий уровень «продолжительности» жизни приходился на старые штаты Новой Англии. Или, говоря иначе, новоявленные города еще раз доказали, что они лучше, чем другие, способны начать все сначала.
Проявлялась здесь еще одна сторона тесной связи колледжа с общиной. С первых дней основания страны лидеры Америки стояли на том, что республиканское общество нуждается в высшем образовании нового типа. Многие, в том числе Томас
206
Джефферсон и Бенджамин Раш, неоднократно говорили о (выражаясь словами Раша) «типе образования, подобающем республике». «Наша республиканская форма правления, — призывал даже консервативный доклад Йейлского университета за 1828 год, — делает особо важным охват качественным образованием как можно большего числа людей. На Европейском континенте образование получают те немногие, кому суждено занять определенное место в политической жизни, в то время как широкие массы остаются по сравнению с ними в невежестве. В нашей же стране, где общественные должности доступны каждому обладающему достаточной квалификацией, чтобы занимать их, высшие достижения интеллектуального развития не должны оставаться достоянием лишь какой-то одной категории людей».
Община, лишенная кастовых перегородок, и человек, живущий в ней, должны были быть подготовлены к любым возможностям. Таким образом, характер высшего образования в Америке оказался производным от характера формирования американской общины.
Толкачи по всей стране имели четкое представление о том, как их колледжам следовало выражать дух своих общин,' служить им и управляться ими. Они способствовали распространению американской культуры и упрочению местных связей.
Сборы добровольных пожертвований граждан окрестных общин на нужды учебных заведений, вошедшие в практику на заре существования страны, так и сохранились неувядаемой традицией. В 1857 году конгрегационалисты территории Миннесоты сначала объявили о намерениях основать колледж, а затем разослали циркулярное письмо приходам двадцати городов, приглашая их принять участие в конкурсе. Пять городов (Замброта, Менторвилл, Коттедж-Гров, Лейк-Сити и Нортфилд) предложили землю, строительные материалы и наличные деньги. Больше всех предложил Нортфилд. Сбор средств достиг кульминации 10 октября 1865 года, когда горожане в приливе энтузиазма пожертвовали за один вечер 18 000 долларов. Телеграмма, сообщавшая о решении конференции разместить колледж в Нортфилде, была встречена колокольным звоном и всеобщим торжеством. Конференция конгрегационалистов объясняла свой выбор удачным местоположением Нортфилда близ населенных центров штата и его собственным внушительным населением, достигшим уже полутора тысяч. Фонд основателей Нортфилдского колледжа, позже переименованного в Карлтон-
207
колледж, составил 201 человек. Разумеется, на интересы местных общин ориентировались даже университеты штатов. Место для строительства университета штата Миссури, например, было определено конкурсом, проводимым между шестью лежавшими вдоль реки округами. Выиграл конкурс город Колумбия в округе Бун в 1839 году, жители которого собрали 82 381 доллар наличными и предложили землю стоимостью в 35 540 долларов. Эти вклады поступили от немногим более девятисот человек, почти пятьсот из которых пожертвовали по пять долларов или меньше.
Граждане, принимавшие столь активное участие в основании учебных заведений, считали, что либо они, либо их представители должны участвовать и в управлении колледжами. Они исходили из того, что колледж должен служить им и их общине. Подобный подход способствовал развитию и укреплению сугубо американского образа управления высшими учебными заведениями, который начал складываться еще в начале XVIII века. Юридически хозяевами большинства американских колледжей и университетов, имеющих над ними неограниченную власть, были попечительские советы, составляемые из представителей общины. Подобный подход, наследие Йейл-ского и Принстонского университетов колониального периода, был опробован задолго до начала всеобщего увлечения созданием колледжей в начале XIX века. Отсутствие старинных институтов и корпуса почитаемых и знающих ученых вкупе со многими иными проявлениями американской специфики сделали подобную форму управления более естественной в наших условиях, нежели автономия, унаследованная от средневековых ученых гильдий, или наполеоновский контроль со стороны центральных властей. Инициативный дух и активная поддержка на местах поощряли в Новом Свете тенденции к внешнему контролю над учебными заведениями и к укреплению их связей с общинами. По оптимистической оценке профессора Уильяма Тайлера из Амхерста, выступавшего в 1856 году перед Обществом по развитию высшего и богословского образования на Западе, американский колледж, с его попечителями, назначаемыми общиной, являл собою «магнетическую цепь взаимных влияний, в которой колледж проливает на общину свет знаний, а община вдыхает в колледж живую жизнь. Таким образом, если колледж избавляет общину от проклятия невежества, то община оберегает колледж от нездоровой тенденции к монастырской обособленности, загниванию и научному бесплодию».
208
* * *
Типичный американский колледж был и не государственным, и не частным. Он был общинным. Колледж в Америке служил одним из проявлений духа ориентации на общину, уже ставшего отличительной чертой нашей цивилизации. И снова противопоставление «человека государству», столь обострившееся в европейских классовых битвах XIX века, оказалось неуместным и невозможным в Америке. Мнимая непорочность «частных» институтов и их предполагаемая независимость от правительственной поддержки, время от времени разжигавшие страсти в XX веке, не имели корней в традиции или истории американских институтов.
Даже те институты, которые в более поздние времена особенно гордились своим «частным» характером, никоим образом не начинали существование сугубо частными заведениями. Гарвард, разумеется, был построен на ассигнования генерального суда колонии Массачусетского залива и, как и Йейл, был основан решением законодательного собрания Коннектикута. На заре своего существования оба учебных заведения обеспечивались нерегулярными ассигнованиями из общественных фондов (до 1789 года Гарвард получил от генерального суда более ста подобных ассигнований). В правления обоих университетов входили первые лица колонии. В начале XIX века фонды штата Нью-Йорк регулярно распределялись между такими «частными» колледжами, как Колумбийский, Гамильтон, Хобарт и Юнион. То же самое происходило и в Пенсильвании. «Частные» колледжи даже получали федеральные земельные наделы, как Майами в Огайо и Камберленд в Теннесси. Законодательные собрания штатов повсеместно проводили лотереи для сбора средств на обеспечение «частных» учебных заведений, причем доля вырученных от лотереи средств поступала к казну штата. Бенджамин Франклин, печатник, никогда не упускавший случая выгодно сочетать общественные интересы с частными, отпечатал однажды восемь тысяч билетов для лотереи, санкционированной властями Нью-Джерси в пользу Принстонского университета. В то же время университеты штатов в период становления финансировались из казны так скудно (зачастую непригодными зданиями или участками земли), что им приходилось полагаться на щедрость частных пожертвований.
Дело Дартмутского колледжа (1819), по которому вынес одно из важнейших своих судебных решений председатель Верховного суда Маршалл, явилось классическим выражением аме
209
риканской концепции общинного контроля, хотя о нем вспоминают обычно лишь как об одной из преград на пути регулирования отношений собственности законодательным путем. Дело возникло из-за конфликта президента Дартмутского колледжа Джона Уилока с попечительским советом. Уилок настаивал на праве управлять учебным заведением без какого бы то ни было контроля со стороны совета. Совет же подтвердил свои полномочия тем, что уволил его. Управление учебным заведением превратилось в вопрос межпартийной борьбы, когда в 1816 году губернатор-республиканец Нью-Гэмпшира подтвердил право законодательного собрания штата контролировать колледж во всех возможных отношениях и нажил политический капитал, подвергнув «окопавшийся» попечительский совет острой критике за «барство». Когда законодательное собрание изменило название Дартмутского колледжа на Дартмутский университет и различными способами начало ужесточать контроль, попечители обратились в суд. После мелодраматической речи Дэниела Уэбстера в пользу своей альма-матер, заставившей прослезиться членов Верховного суда Соединенных Штатов, попечители были наконец восстановлены в своих правах. Теперь граждане-активисты могли быть уверены, что даже после получения устава штата они все равно сохраняют свободу управлять своим учебным заведением согласно своим взглядам.
21.
ОБЩИНЫ-КОНКУРЕНТЫ
Зимою 1858 года юные ученики мужского лицея города Ни-нингера в Миннесоте, который существовал лишь восемнадцать месяцев (и которому суждено было прекратить существование пять лет спустя), горячо обсуждали, вырос ли Гастингс больше, чем Нинингер, за последний год. Вторым в дискуссии был вопрос: «Заслуживает ли Вашингтон большей похвалы, чем Бонапарт?» Ответ на первый вопрос представлялся столь же бесспорным, как и на второй.
Граждане любого нового города, молодые или пожилые, ощущали себя в постоянном соревновании со всеми остальными, и их дух состязательности наложил отпечаток на американский образ жизни в целом. «На бумаге все эти города великолепны, — сообщал в 1857 году из Канзаса Алберт Ричардсон. — Их мастерски литографированные карты украшают стены любого присутственного места. Приезжему, изучающему
210
одну из них, приходит в голову, что Нью-Вавилон уступает разве лишь своему древнему тезке. Его величественные парки, оперы, церкви, университеты, железнодорожные и речные вокзалы затмевают Нью-Йорк и Вашингтон... Это не было жульничество, это была мания, охватившая всех, в том числе и спекулянтов».
Все, питавшее дух инициативы, усиливало и конкуренцию между общинами, которая в свою очередь препятствовала централизованной деятельности. Мы видели уже, как подобная конкуренция приводила к переносу столиц штатов. Разделение коммерческих и политических центров штатов иногда являлось следствием сознательных усилий законодательных органов, направленных на достижение соответствующих компромиссов. Таким образом, спор между Лексингтоном и Луисвиллем привел в 1792 году к провозглашению столицей Кентукки города Франкфорта. В 1812 году в результате борьбы между Стьюбен-виллем, Цинциннати и другими городами столицей Огайо был учрежден Колумбус. На просторах новых штатов растущей новой страны не существовало ни господских замков, ни внушительных древних соборов, способных предъявить исторические права на роль столицы. Конкуренция была свободной для всех.
Возникновение новых крупных политических единиц — территорий и штатов — открыло много новых возможностей для честолюбивых, энергичных и инициативных общин. Самой большой наградой, разумеется, всегда служил статус столицы штата, но существовали ведь и другие. На негусто заселенном Западе должно было хватать на всех «политических пенок»: центры округов, резиденции университетов штатов, сельскохозяйственных колледжей, места расположения тюрем, землеустроительных бюро, домов для бедных, умалишенных, слепых и глухих. Но удовлетворения требовали не только уже существующие общины. Возникало бесчисленное множество устремленных в будущее новых городов, и каждый требовал свою долю.
Западный фольклор полон повествований об отчаянной борьбе предприимчивых первопоселенцев за любой государственный объект, — борьбе тем более отчаянной, что зачастую конкурирующие города существовали лишь в воображении. Оптимисты-толкачи охотно верили, что размещение у них правительственного учреждения само по себе придаст реальные очертания их мечтам и приведет к процветанию. Ведь каждый Подобный институт влек за собой строительство зданий, наем работников, расширение торговли продовольствием, одеждой и Услугами. Он означал клиентуру для юристов, пациентов для врачей, покупателей для магазинов, гостей для таверн и посто
211
яльцев для отелей. Более того, он означал рост населения, а с ним, как всегда, и рост цены на землю.
В ряде наиболее полно документированных историй речь идет о железных дорогах, ибо они имели крупные средства, позволявшие разжечь острое соперничество. Хорошим примером служит борьба за местоположение университета штата Иллинойс. По закону Моррилла 1862 года, новому университету полагалась значительная федеральная земельная субсидия, а также постоянная поддержка со стороны штата. Острая борьба в конце концов заставила законодательное собрание штата принять в январе 1867 года акт, позволявший заинтересованным общинам подавать заявки. Четыре города — Джексонвилл, Блумингтон, Линкольн и Шампейн — предложили деньги, землю, товары, а затем использовали любую возможность оказать влияние на принятие решения. Город Шампейн имел преимущество над другими, поскольку его действиями руководил С. Григгс, опытный лоббист и член законодательного собрания штата. Он был достаточно тертый калач, чтобы собрать большую сумму не на официальную заявку, но для финансирования добросклонности официальных лиц, от которых зависело принятие решения. Затем Григгс объездил весь штат, стремясь наиболее эффективно распределить собранные им деньги, и, несмотря на угрозу расследования, продолжал свою деятельность даже после того, как законодательное собрание открыло заседания.
Железнодорожная компания «Иллинойс сентрал», линия которой уже проходила через Шампейн, была, естественно, заинтересована в создании там университета. Компания имела большой надел земли, в основном еще не распроданной, много земельных участков в городе и, безусловно, выиграла бы от роста грузовых и пассажирских перевозок. Поэтому компания предложила добавить 50 000 долларов от грузовых перевозок к собранной городом сумме, что составило в общем 285 000 долларов. Однако ведущие три соперника предложили еще больше: Линкольн — 385 000 долларов, Блумингтон — 470 000 (включая 50 000 от Чикаго и железнодорожной компании «Олтон», конкурента «Иллинойс сентрал») и Джексонвилл — 491 000. Но Григгс пристроил свои деньги самым верным образом, предпочитая набивать карманы законодателей и политиков, нежели бесцельно вздувать цены на общественных аукционах. Его проницательность была вознаграждена 28 февраля 1867 года, когда после безудержного злопыхательства и споров было принято решение разместить университет в Шампейне. Вклады «Иллинойс сентрал» и отдельных предприимчивых лиц быстро верну
212
лись сторицей в виде дивидендов. К 1870 году Шампейн уже превратился в самый населенный город к югу от Чикаго, где недвижимость бурно росла в цене.
Поскольку штат обычно не мог содержать более одной тюрьмы, одного дома для умалишенных, или одного университета, то вошло в обычай рассредоточивать эти учреждения по разным городам, чтобы распределялись и доходы от них. Сами заведения из-за этого нередко страдали, ибо далеко не всегда оказывались расположенными в наиболее удобных для них местах. Но каждый должен был получить свою награду.
Хорошо или плохо, но этих наград нужно было чуть ли не бесчисленное множество. Тому способствовала малая заселенность и политическая неорганизованность Запада. Самыми крупными политическими и юридическими единицами Запада служили, разумеется, «территории» или «штаты», создаваемые и определяемые актами федерального конгресса, но учреждение более мелких единиц осталось прерогативой самих штатов. Никаких четких, ясных и общих правил к тому не существовало, и, что более важно, не существовало и автоматических решений, предлагаемых историей. В Англии, по контрасту, более мелкая административная единица, графство, была продуктом векового развития, являясь первоначально местом пребывания графа. Колонии также зачастую делились на «графства» — округа. К началу XIX века округа тринадцати первых штатов уже обрели историческую, даже патриотическую ауру. Но каким образованиям суждено сложиться на еще не заселенных новых территориях и в штатах Юго-Запада и Запада? И там тоже (за исключением Луизианы) административным единицам предстояло именоваться «округами». «Престол округа» (американизм, впервые зафиксированный в 1803 году) означал город в каждом округе, где находились его административные органы, суд, тюрьма и где хранились все его документы. И если город не мог стать столицей штата, то следующей наградой была возможность стать престолом округа. В таком случае политическая, юридическая и административная жизнь округа влекла бы за собой строительство там зданий, привлекала бы людей, имеющих деньги и готовых их тратить, ускорила бы развитие города и гарантировала от застоя. Какой город (либо будущий город) сделать центром округа? Сколько образовать округов? Об ответах на эти вопросы можно было лишь строить догадки. В осваиваемых штатах одна площадка под будущую городскую застройку имела ровно столько же исторических прав, что и другая. Во внимание не принимались даже географические факторы, по
213
скольку границы округов также еще не были определены. А если территория и границы округа еще не установлены, то какой город может претендовать на свое центральное в этом округе положение?
Результатом этого явились «войны за престол округа», которые велись между населенными пунктами либо за право стать престолом округа, либо за право образования новых округов, дабы создать нечто, центром чего могли бы стать и другие города. Таким образом, ставилась задача либо отбить награду у соперника, либо убедить законодательное собрание (там, где еще не существовало предела возможному количеству округов) образовать новые награды, за которые можно было бы воевать.
Округа являлись созданиями исключительно законодательных собраний штатов. Ограниченное в своих действиях лишь конституцией штата, законодательное собрание было вольно образовывать, упразднять, расширять или уменьшать любой округ. В новых штатах округ обычно начинался как понятие скорее географическое, чем населенный район. Границы округа устанавливались либо актом законодательного собрания, либо решением исполнительных органов власти. Вопросы же внутреннего его устройства оставались на усмотрение людей, которым случалось населять его. Разумеется, при определении границ округа, как и в решениях о местоположении столиц и центральных учреждений штатов, законодатели подвергались всевозможным видам давления: шантажу, взяткам, угрозам и даже физическому насилию. Спекулянты землей, перед которыми маячили гигантские прибыли (а также их союзники, жаждущие стремительного роста своих городов), легко от своих планов не отступались и особенной разборчивостью в методах не страдали.
Как правило, в новообразованных округах и велись войны за их престол. Законы штата предоставляли выбор центра самим гражданам. Нередко инициативу захватывали спекулянты землей, но лояльность горожан и дух инициативы придавали борьбе страстный, а иногда и кровавый характер.
Новый округ редко когда содержал один-единственный город, явно заслуживавший чести служить его престолом. Обычно в состязании участвовало два или несколько претендентов. Иногда в новом округе вообще не существовало городов. В подобных случаях дух конкуренции получал наибольший простор для размаха, поскольку любая группа спекулянтов могла выставить на конкурс свои владения. Формально эти войны за престол округа велись при голосовании, но на деле решались
214
взятками, подкупами, а иногда и пулями. Чаще всего и в наиболее острой форме подобные войны имели место на протяжении первых десятилетий жизни западных штатов, когда только складывались организационные формы. И происходили они не только в первоначальный период создания округов. Там, где неглубоки исторические корни, где люди и города привыкли легко перемещаться с места на место, ведущая роль городов никак не воспринимается окончательно устоявшейся. Проигравший в этом году может взять реванш и добиться победы через год-два, а затем снова быть вынужденным вступить в бой с только-только вылупившимся на карте новым городом.
В Айове, например, около двух третей из девяноста девяти центров округов были определены в результате состязания с соседними городами. Тридцать девять из девяноста двух округов Индианы имели в своей истории более чем один престол, а у некоторых их местоположение менялось до семи раз. Подобная борьба велась в большинстве округов Канзаса, Небраски и обеих Дакот; снова и снова велась по всему Юго-Западу и Западу на протяжении XIX века. У урн для голосования американцы отстаивали свои капиталовложения, свои личные надежды и свою гражданскую гордость.
Первые округа складывались с незначительным количеством населения. «Условия для создания округа были идеальные, — вспоминал один первопоселенец, — поскольку должностей хватало на каждого». На выборах престола округа Каминг в Небраске (1858) город Девитт, получивший всего лишь семь голосов, проиграл городу Уэст-Пойнту, набравшему двенадцать голосов. Когда престолом округа Буффало был избран Небраска-Сентер, он состоял из одного жилого дома, одного магазина и одного склада. В округе Харлан, штат Небраска, где право на престол оспаривали три «города», два из них — Рипаб-ликэн-Сити и Мелроуз — состояли каждый из магазина, коновязи и веревки для сушки белья, а третий — Альма — просто, говорят, был обозначен головой бизона на шесте.
Иногда выбор места для предполагаемого престола округа являло собой чистой воды спекуляцию недвижимостью. Когда в планируемом округе еще не было ни одного города, спекулянту представлялось выгодным предложить штату надел земли с условием, что центр округа будет расположен там. В округе Филмор, штат Небраска, один житель лично предложил построить здание суда стоимостью в 2500 долларов, и подобные предложения были отнюдь не редки. Спекулянты могли скупать земельные наделы по общей государственной цене 800 долларов за
215
одну квадратную милю (640 акров), надеясь разбить их на городские участки, когда данное поселение обретет ранг престола округа. Считая по восемь участков на акр, на территории города получалось 5120 участков. Если каждый шел по 100 долларов — далеко не экстравагантная цена по восточным меркам, — общая выручка (за вычетом трех-четырех тысяч долларов на межевание и иные расходы) могла составить кругленькую сумму в полмиллиона долларов.
Некоторые землеторговцы скупали наделы в соперничающих городах. Джоунз по кличке Буффало вполне по-деловому объяснял свои крупные вклады в борьбу городов, оспаривавших право на престол, одновременно в шести или восьми округах юго-западного Канзаса: оправдайся его ставка хотя бы в одном из них, он оправдал бы все затраты и остался обеспеченным до конца своих дней.
Если борьба между несуществовавшими городами часто велась без правил, то и в настоящих городах соперники ненамного больше изъявляли желания полагаться на непредсказуемые результаты честных выборов. Малое количество жителей исключало тайное голосование во многих округах. Дело запутывалось еще больше отсутствием четко установленных норм и правил, регулировавших процесс голосования. Обычно к нему допускали даже несовершеннолетних. Как при общей текучести населения установить, кто приехал в город лишь для того, чтобы проголосовать?
Канзас, в середине XIX века служивший всей стране полем битвы, где велись сражения вокруг рабства и иных больших и малых проблем, продолжал служить ареной баталий за престолы округов, полных выдумки, подкупов и блеска. На избирательном участке Форд округа Грей на юго-востоке штата в 1870-х годах сложилось тайное общество, иносказательно названное «Обществом уравнителей», в котором состояло семьдесят два человека. Единственной его целью (изложенной в уставе и программе) была продажа своих голосов с целью воспрепятствовать любому претенденту, предлагавшему самую высокую ставку в конкурсе за престол округа. Свою приверженность демократии члены общества подтверждали согласием поровну делить между собой все вырученные деньги. Все клятвенно обязались голосовать за тот город, в пользу которого заключалась сделка; нарушение же клятвы каралось смертью. Т. Ривс, руководитель кампании города Симаррон, предложил обществу 10 000 долларов, гарантированных займом, на который якобы подписались пятнадцать авторитетных граждан Симаррона. Об
216
щество отдало свои семьдесят два голоса за Симаррон, который и стал престолом округа. Однако, явившись в Симаррон за платой, они получили отказ — подписи оказались поддельными.
В округе Грант на юго-западе Канзаса борьба велась между городами Улисс и Аппоматтокс. Когда прямо накануне выборов стало похоже, что победит Улисс, двое руководителей аппомат-токской кампании заключили тайное соглашение с соперниками из Улисса с целью покрыть свои расходы. Соглашением предусматривалось, что стороны не будут прибегать к подкупам и иным бесчестным методам и что город-победитель возместит потери соперника, понесенные в попытках отстроить свой город. Затем побежденный город будет оставлен, и все усилия будут объединены в развитии и строительстве города, выбранного центром округа. Незадолго до конца голосования сведения о сделке просочились в Аппоматтокс; жители его, сочтя себя жертвами измены, взяли участников сделки под стражу, грозились их линчевать и выпустили лишь после того, как те пообещали возместить населению все расходы, понесенные им на ведение кампании. Граждане же Улисса стяжали репутацию деловых людей, поскольку платили каждому голосовавшему по десять долларов. Если подобная практика казалась вполне справедливой земельным спекулянтам и лидерам новых городов, то верховный суд штата Канзас не счел ее приемлемой и отменил результаты по меньшей мере одного такого голосования. Однако в конечном счете «демократия наличных» взяла верх, ибо Улисс так и остался престолом округа Грей.
Войны за престол округа обходились дорого: расплачивались не только деньгами, но и насилием, кровью и даже жизнями. Во время такой кампании в Додж-Сити, штат Канзас, понаехали бандитские шайки, о которых было известно как об убийцах. Хотя достоверных сведений о том, что ими совершались убийства, не зарегистрировано, сам факт их присутствия в городе оказал, видимо, свое воздействие. Еще в 1855 году борьба за престол округа Стивенс, штат Канзас, между городами Хью-готон и Вудсдейл приводила к похищению людей, убийствам, подкупу, мобилизации ополчения и серии уголовных процессов, последствия которых давали себя знать на протяжении четверти века.
Многие энтузиасты, а иногда и целые города оказывались обмануты и разочарованы в своих ожиданиях. Даже если за Победой не следовал ожидаемый волшебный рост, все равно казалось, что она приносит известные плоды. Если город, полупивший титул, не рос дальше, то без титула он ведь вообще мог
217
исчезнуть с лица земли. Растущий же город мог получить толчок к дальнейшему развитию. Подобного оптимизма было достаточно, чтобы округа плодились сотнями. Старые округа не умирали никогда! Однако новые продолжали появляться — то в результате слияния старых, то в результате деления вновь заселенных территорий и образуемых штатов. Все это способствовало умножению и дроблению правительственных контор, вовлекая интересы все большего количества американцев в рассеивание американской политической жизни и, кстати говоря, американской культуры. Во многих штатах обширного ненаселенного Запада округа оказывались такими же небольшими, как в Массачусетсе. В Индиане, например, территория одного округа в среднем составляла не более половины первых округов, основанных в Коннектикуте. Ко времени переписи 1960 года Соединенные Штаты состояли из 3072 округов. Каждый имел свой центр, в котором располагались суд, тюрьма и различные административные службы.
Округа оставались важным и дорогостоящим атрибутом американской жизни и в XX веке. В их оправдание нередко говорилось, что каждый фермер должен иметь возможность от восхода до заката доехать в двуколке до суда своего округа и обратно. В начале XX века губернатор Оклахомы Билл Меррей по прозвищу Люцерна даже утверждал, что именно для того и нужно иметь много мелких округов, чтобы стимулировать фермера ездить в двуколке, а не на автомобиле.
Но к XX веку эти мириады округов становились обременительными для бюджета штатов. Не многим из них оказались по карману мощеные дороги, необходимые для автомобильного транспорта. Смещение центров развития сельского хозяйства и промышленности лишило администрацию многих округов источников доходов от налогообложения. Становление и развитие городов с их собственными политическими механизмами заново оспаривало конкурентоспособность ранее доминировавших центров. Но кто стал бы выступать за слияние округов? Не сольешь ведь несколько малых округов в один большой, не ликвидировав при этом их центры, в каждом из которых свои суды, тюрьмы, приюты и прочее. Подобный вид политического самоубийства никого не прельщал. Поэтому в Америке и сохранились тысячи округов — живые памятники эпохи становления, отчаянных надежд, амбиций и подхлестывавшей конкуренции, иными словами—предпринимательского духа.
Предпринимательский дух Запада эпохи становления способствовал распространению культуры десятками иных путей,
218
слишком многочисленных для перечисления. Явление, классифицированное Ричардом Уэйдом как «правление городов», то есть состязательность многочисленных быстро растущих городских центров, каждый из которых стремился урвать, освоить и эксплуатировать район девственной глубинки, во многом сыграло ту же роль в распространении на нашем континенте цивилизации и коммерции, которую состязательный колониализм европейских стран сыграл в развитии и индустриализации глухих уголков Азии, Африки и Океании. Стремление каждого города стать конечным портом канала либо конечной станцией железной дороги часто и создавало каналы и дороги, становившиеся жизненно важными артериями на всей своей протяженности. Подобная состязательность привела к образованию фантастической транспортной сети, имевшей гораздо большую протяженность железных дорог пропорционально количеству населения, если сравнивать Соединенные Штаты с Западной Европой.
Часть четвертая
КОРЕННЫЕ И ПРИШЛЫЕ: ЮЖАНЕ, БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ
Трудность заключается в несходстве рас. Грань между ними проведена столь явно и столь упрочена силой привычки и воспитания, что в общине, где их соотношение, как в рабовладельческих штатах, приблизительно одинаково, совместное существование невозможно ни в какой иной форме, кроме той, в которой эти расы сегодня и существуют.
Джон Кэлхун
Войду и я в великий сонм, Войду и я в великий сонм, Тогда душа моя и воссияет.
Негритянский спиричуэл
«Остров Юг» начал складываться на юге Соединенных Штатов в первой половине XIX века по мере того, как все больше и больше живущих там людей начали осознавать себя отдельной и однородной нацией. Этот Юг отчасти являлся мифом, отчасти — фактом. Географически он в основном являл собой миф, поскольку земли ниже линии Мейсона — Диксона содержали образцы всех физиогеографическихзон, повсеместно встречающихся в Соединенных Штатах, да еще имели собственные своеобразные черты. Южные Аппалачи были самыми высокими горами к востоку от реки Миссисипи, а заболоченное побережье составляло самое большое пространство неосушенных земель страны. В Джорджии, Южной Каролине и Миссури росли девственные леса, но окраины юго-западных территорий напоминали
220
безлесные центральные прерии и полузасушливые равнины Запада. На побережье были глубокие гавани, как в заливе Чезапик, но были и недоступные судам песчаные отмели. Плодородные долины перемежались сосновыми борами, освежающая прохлада горных вершин Северной Каролины, Кентукки и Виргинии сменялась удушающей влажностью джунглей Луизианы, Миссисипи и Флориды. Для успешного сельского хозяйства открывались широкие возможности как на горных фермах, так и на долинных плантациях и болотистых рисовых полях. Географически Юг почти ничто не объединяло в одно целое: его разделял великий горный хребет, дорог или иных внутренних коммуникаций было мало; почти все крупные реки либо протекали по границам, либо уходили за пределы региона.
Культура Юга также складывалась из элементов весьма разнообразных. Наследие французской и испанской культуры в Луизиане и Флориде, а также римского права в Луизиане было распространено сильнее, прочнее и шире, чем любые иные привнесенные извне влияния в восточных штатах. Особенно четко очерченным представал разрыв в культурах немногочисленных джентльменов старого английского происхождения, считавших себя наследниками «рыцарских» традиций утонченной европейской аристократии, и сотен тысяч неграмотных «иммигрантов поневоле» из Африки, которые принесли с собой языки неведомых племен и которые знать не знали, что такое Европа. Расовые различия особенно бросались в глаза.
При этом ни у какой другой части нации не развилось подобного чувства обособленности одновременно со страстным желанием утвердить свою однородность. Тяга к общности способствовала ее созданию. Представлений о Юге существовало много, но после 1830 года у предводителей белых южан сохранилось только одно. Так история преобладала над географией, а воображение —над реальностью.
Если эти южане-американцы верили, что их край сплочен своею однородностью, то истинным фактором, побуждавшим его к самосознанию и сохранению целостности, служило глубокое (и по мнению белых южан, неискоренимое) разделение на белых и черных. «Особый институт» Юга являлся, по существу, фактором не объединения, а раздвоения жизни, надежд и судеб общин Юга. Почтенные граждане Юга убеждали себя, что, лишь разделив свои общины на два разных мира, они сумеют создать один, их собственный мир. Так Юг и стал самым невероятным, самым непреодолимым и самым катастрофичным проявлением упрощения в американской истории.
221
22.
КАК ПЛАНТАТОР УТРАТИЛ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
На старом Юге деятельность и свойства города растворялись в окрестностях. На протяжении всего колониального периода Виргиния, будучи самой населенной колонией, не имела ни одного города; ее столица Уильямсбург была не чем иным, как временным политическим центром, в котором круглый год проживало не более полутора тысяч человек. Каждый солидный плантатор, будучи отчасти и купцом, держащим магазин для соседей и импортирующим товар на собственные пристани, обладал известными торговыми навыками. Он должен был ориентироваться в условиях рынка, то есть в международных условиях. Юг не знал городов, но каждая энергично управляемая плантация сама представляла собою город. Поскольку хозяин-плантатор жил на реке, впадающей в Атлантический океан, и имел возможность сгружать лондонские товары с английских кораблей на свои собственные пристани, он сочетал гибкость коммерсанта с основательностью земледельца. Море, уносившее табак, приносило книги и идеи, а с ними и «уважение к мнениям человечества».
К1820 году рабовладельческие штаты уже имели семь городов с населением более восьми тысяч человек каждый. Все эти города выросли быстро, почти половина их была основана совсем недавно и с какой-то конкретной целью. Балтимор, с населением более 62 000 человек был третьим городом страны и разросся в половину Нью-Йорка. Основанный в 1729 году законодательным собранием Мэриленда как центр экспортной тор-говлй, он до середины XVIII века был не больше деревни. Ричмонд с населением более 12 000 человек стал новой столицей Виргинии лишь в 1779 году; до 1800 года его население не превышало пяти тысяч человек. Норфолк, новый морской порт Виргинии, все еще оставался скромным поселением, когда во время Революции патриоты сожгли его, чтобы не дать захватить врагу. Получив статус города лишь в 1805 году, к 1820-му он уже имел население более восьми тысяч человек. Александрия, также насчитывавшая более восьми тысяч жителей, была основана лишь в 1749 году и получила статус города в 1779-м. Вашингтон, в котором в 1820 году жило более 13 000 человек, стал действующей федеральной столицей лишь в 1800 году, и большая его часть была сожжена английскими войсками в войне 1812 года.
222
Юг не имел ни единого крупного центра, чья родословная начиналась бы в первой половине XVII века. За исключением Нового Орлеана и Чарлстона, ни один из южных городов не обладал атмосферой старины. Юг не имел своих Бостона, Филадельфии, Нью-Хейвена, Ньюпорта, Провиденса или Нью-Йорка, где урбанизм, торговля и промышленность расширяли кругозор старых семейств.
Если судить лишь по темпам роста, это были новоявленные города. Но влияние их на образ жизни Юга значительно отличалось от влияния на свои территории городов западных штатов, сложившихся до того, как были густо заселены окружавшие их земли. На Западе, как отмечал в 1885 году Джосайя Стронг, «все происходит в обратном порядке — сначала железная дорога, затем город, затем фермы. Соответственно и заселение идет более быстрыми темпами, а город накладывает отпечаток на сельскую местность, вместо того чтобы сельская местность накладывала отпечаток на город. На Западе города создают конституции штатов, устанавливают законы, формируют общественное мнение, устанавливают общественные критерии и стандарты морали». На Юге же, напротив, города появились лишь после того, как сельские поселения уже сформировали облик края. Таким образом, запоздалое становление городов Юга привело не только к запоздалому воздействию городов на его развитие. В силу специфических условий Юга наличие города имело уникальные последствия: на практике оно прививало руководству Юга в целом черты менее космополитичные и более провинциальные, вело к большей замкнутости.
Если коммерция перемещалась в город, то политическое руководство сохранялось за плантацией. Коммерческая предпринимательская деятельность плантаторов, ориентированная на внешний мир, переместилась в новые города, но дух южного лидерства сохранился в плантаторской усадьбе. Покидая столицу страны или столицу штата, плантатор возвращался в свое поместье — в свой Маунт-Вернон, в свое Монтиселло, в Монпелье, Ашлаун или Форт-Хилл.
Чтобы понять, почему это стало возможным полвека спустя после Революции, следует рассмотреть, как повлияли обретение независимости и становление новой сельскохозяйственной культуры на образ жизни и ведение дел на Юге. В колониальные времена плантатор продавал урожай табака лондонскому купцу или посреднику, отправлявшему за комиссионные товар колониального клиента, переводившему выручку на его банковский счет и делавшему для него покупки — любые, какие угод-
223
но: от «Комментариев» Блэкстоуна до дамской шляпки, элегантной коляски, ящика вина или пары дюжин башмаков для рабов. Посредник устраивал детям плантатора образование в Англии, поставлял новости и рекомендовал книги, ткани и политиков. Ему случалось даже пытаться помочь томившемуся одиночеством холостяку-плантатору, готовому жениться «после пятнадцатидневного ухаживания», если посредник отгрузит с остальными вещами молодую женщину «из порядочной семьи в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет, среднего роста и пропорционального сложения, с приятным лицом, мягким характером, безупречной репутацией, хорошим здоровьем и достаточно крепкой, чтобы перенести перемену климата».
Именно посредникам виргинские плантаторы были обязаны более, чем другим англичанам, но и те находились так далеко, что никак не могли разгрузить плантатора от всех его деловых обязанностей по ту сторону океана. Революция, окончательно обрезав связи виргинского плантатора с лондонским посредником, помогла становлению нового явления Юга—американского посредника, которому суждено было оказать значительное влияние на весь образ жизни и управления Югом. Американские посредники выполняли в своих американских центрах — Балтиморе, Норфолке, Александрии или Ричмонде — те же функции, что их английские предшественники на протяжении многих лет выполняли за океаном. Американец, живший в пределах досягаемости и хорошо ориентировавшийся в местных условиях, мог принести своему клиенту намного больше пользы. Теперь не приходилось по три месяца ждать ответа на письма. Деловые встречи можно было проводить за обедом на плантации либо на постоялых дворах Норфолка и Чарлстона. По мере собственного процветания посредники ускоряли рост южных городов. Рост городов в свою очередь расширял простор деятельности посредников, не связанной непосредственно с сельским хозяйством, но находившейся в руках колониальных плантаторов.
Поначалу посредник торговал табаком, культурой пограничных южных штатов Виргиния, Мэриленд и Кентукки. Его влияние увеличивалось по мере того, как одной из основных культур Юга повсеместно стал к 1820 году хлопок. Под контроль посредника попали и остальные главные культуры Юга — рис и сахарный тростник. Но пика своего развития система посредничества достигла при хлопке, занявшем гораздо больше посевных площадей, чем любая другая культура на Юге. Один из наиболее легко сохраняющихся сельскохозяйственных продуктов хлопок как нельзя лучше подходил для капиталистической
224
производства и рыночной спекуляции в век медленных перевозок, примитивных складов, грубой обработки и долгих проволочек.
С приходом к власти короля-хлопка посредник оказался стоящей за троном силой. Он решал, где, кому и по какой цене продавать урожай. Он во многом определял, что плантаторам покупать на вырученные деньги, где и за сколько. Он обладал куда большими возможностями оградить своего клиента от сложного мира городов, чем его английский предшественник. И мог не только заключать сделки за плантатора, но и помешать плантатору заключать сделки самому.
Методы посредников были просты и, несмотря на местные вариации, удивительно однообразны. Обычно посредник получал весь урожай плантатора целиком. В отличие от маклера, совершавшего сделку от имени своего клиента, посредник действовал от своего собственного имени. Товар до момента продажи юридически составлял предмет риска плантатора, но посредник был волен распоряжаться им по своему усмотрению. Недовольный сделкой плантатор никакого возмещения не получал, если только он не мог доказать (что обычно оказывалось невозможным) обман или недобросовестность со стороны посредника. Вознаграждение посредника обычно составляли два с половиной процента выручки за хлопок и два с половиной процента стоимости купленных для плантатора товаров, а также проценты от предоставляемых займов, авансированных кредитов и бесчисленных иных операций — страховки, сделки, взвешивания, взятия проб, складирования.
Ясно, что плантатор мог сэкономить на комиссионных, вози он сам свой урожай прямо в Нью-Йорк или Ливерпуль, но мало кто готов был рисковать. В 1835 году один английский купец подсчитал, что лишь четверть поступавшего в Ливерпуль хлопка присылалась самими плантаторами, а с течением времени и эта доля, вероятно, сократилась. Предлагая широкий диапазон услуг, посредник стал полномочным послом уютного плантаторского острова во внешнем мире. И плантатору с каждым годом становилось все труднее и труднее вырваться: он мог выбирать из нескольких посредников, но этот выбор мало что менял. Нехватка желания, нехватка опыта, нехватка связей и нехватка времени оставляли его прикованным к системе посредничества.
Даже если плантатор жил не в глубинке и не в районах новых плантаций за горными перевалами, он все равно не мог угнаться за меняющимися день ото дня условиями, определяющими ко
225
лебания в ценах на хлопок. В 1825 году, например, цены на горный хлопок высшего качества колебались от пятнадцати до тридцати центов за фунт, в 1840-м — от девяти до тринадцати с половиной центов за фунт. «Мы недавно писали вам, — сообщал в декабре 1844 года своему клиенту посредник из Нового Орлеана, — относительно хлопкового рынка и сообщали о получении 101 тюка вашего урожая, который, не ожидая каких-либо значительных колебаний в ценах текущего сезона, готовили к продаже утром того же дня, когда получили самые катастрофические вести за всю историю хлопкового рынка... резкое падение цен в Ливерпуле; владельцы требуют немедленной распродажи, а фабриканты скупают, диктуя цены... Как все это отразится на нашем рынке после того, как все уляжется, предсказать невозможно. Пока что предлагать к продаже ничего не будем».
В обязанности посредника входило умение предвидеть последствия как напряженности в международных делах, так и погодные условия — даже внезапные весенние оттепели или проливные дожди, способные сделать ближайшие малые реки судоходными и тем самым насытить рынок.
Посредник превратился в доверенное лицо плантатора, знающего его вкусы в еде, одежде и обстановке, а также деловые потребности. Его приглашали на плантацию клиента проводить праздники, он развлекал плантатора во время поездок того в город. Посредник мог ссудить изрядные суммы по записке плантатора, а то и просто с его слов. Эти отношения, как и многие другие на Юге, стали управляться кодексом чести, тем более непререкаемым, что письменно ничего не фиксировалось.
Подобная непринужденность отношений наряду с готовностью посредника ссужать деньги под неубранный (а то и непо-сеянный) урожай не могла не поощрять невоздержанность или по меньшей мере безответственность. Плантатор, финансовые дела которого вел кто-то в городе, никогда толком не знал своего собственного положения, всегда жил перспективами на будущее и не умел быть осторожным. «Склонность делать долги является одним из пороков, свойственных каролинцам, — писал доктор Дейвид Рамсей в своей «Истории Южной Каролины» в 1809 году. — Когда сделки заключаются под еще не собранный урожай, последствия нередко бывают катастрофическими, что после Революции случается гораздо чаще, чем до нее». Иностранные путешественники, в основном посещавшие города, вынесли предвзятое представление о южном характере из общения с раздраженными посредниками, жалующимися на плантаторов, берущих авансы лишь для того, чтобы «промотать их на моды,
226
роскошь, хорошую еду и вино или на поездку в северные штаты, где они гуляют месяц-другой, нанимают упряжки цугом, роскошные экипажи с ливрейными лакеями на запятках и верховой конвой, а потом возвращаются домой в почтовой карете, и им едва хватает оплатить проезд».
Посредники разжигали хлопковую манию и жили за счет этой мании. Каждый посредник стремился контролировать как можно больше хлопка. Каждый плантатор стремился вырастить его как можно больше, чтобы вырваться из долгов посреднику в недалеком будущем, когда обильные урожаи каким-то чудом совпадут с высокими ценами на хлопок. Для достижения этой цели плантатору требовалось все больше земли и все больше рабов. Но все его соседи ставили перед собой те же цели, что и он. Так же как и он, они наращивали производство хлопка, а рост производства способствовал снижению цен.
Тем не менее хлопковая мания продолжалась. «Продать хлопок, чтобы купить негров, с тем чтобы вырастить еще больше хлопка и купить еще больше негров, и так ad infinitum1, есть цель и единственное направление всех действий любого упорно работающего плантатора, — отмечал в 1833 году путешественник-северянин. — В это он вкладывает всю свою душу. Без плантаторов не было бы хлопка, без хлопка не было бы богатства. Без них Миссисипи оставалась бы пустынной и вернулась бы во власть аборигенов. Изведи завтра плантаторов, и этот штат, как и любой другой на Юге, можно купить ни за понюх табаку».
Итак, на Юге развивался капитализм, но не его дух. Жесткая система держала искателей прибыли в тюрьме обычаев и традиций. Посредники, олицетворение южного купечества, так и не выросли в торговых князей. Они остались людьми консервативного склада, опасающимися, как бы какое-нибудь нововведение не подорвало их комиссионных. Плантаторы оказались опутаны сетью, не дававшей сделать шаг к новым возможностям и иссушавшей волю к поискам нового. Для самого плантатора подобный способ ведения дел означал упадок предприимчивости и разносторонности. Для южной общины в целом очевидным и катастрофическим следствием было разделение богатства и престижа. Посредники, доминировавшие в торговле Юга, отнюдь не доминировали ни в политике, ни в культуре. Трудно найти хотя бы единственного южного государственного деятеля того периода, вышедшего из среды посредников. Деньги скаплива
1 До бесконечности (лат.). — Прим, перев.
221
лись в городах, политическая же сила и голос Юга по-прежнему оставались за плантациями.
Сельский Юг породил и взлелеял новое и беспрецедентное явление — некоммерческий дух. Одно дело — смотреть сверху вниз на торговцев, купцов и банкиров в старой Европе, с ее феодальным прошлым и древними традициями самодостаточного сельского хозяйства. Совсем другое — в обществе, основу которого составляет крупномасштабное капиталистическое сельское хозяйство. Юг отринул сам себя, провозгласив хлопок королем и тут же проявив снисходительное отношение к тем, кто вел хлопковые сделки. Такое же неадекватное восприятие сложившихся обстоятельств проявилось в отношении Юга к работорговцам, от которых хлопковый Юг также попадал во все большую зависимость.
В то время как Новая Англия и Нью-Йорк превозносили коммерцию, строили новые торговые биржи как «храмы общественного благосостояния» и почитали купцов как своих лидеров, Югу служили героями образы, созданные воображением сэра Вальтера Скотта, либо карикатуры на поместное дворянство из романов Джона Пендлтона Кеннеди и Натаниела Беверли Так-кера. Это были героический век американской торговли и промышленности и новая творческая эпоха для американских общин. Люди Новой Англии это знали. И не жалели почестей тем, кто создавал богатство, а почтения к вымышленным героям не испытывали. Юг же писал о богатых пренебрежительно, да и вообще имел слишком мало предприимчивых коммерсантов, чтобы о них писать.
* * *
Традиция Юга опираться на основные сельскохозяйственные культуры, уходившая корнями в колониальный период, позволяла хранить веру в неизменность образа жизни. Ибо табак, рис, сахар и хлопок означали незыблемость привычного порядка вещей. Техническое оснащение сельского хозяйства менялось медленно, если менялось вообще. Даже такой примитивный инструмент, как плуг, приживался постепенно, да и то не везде. Еще в 1856 году многие мелкие фермеры Южной Каролины все еще пользовались грубой мотыгой колониальных времен. Почти ничего не менялось на хлопкоочистительных фабриках — с 1820 года и до Гражданской войны применялись все те же очистительные и паковальные станки. Безынициативность
228
рабочих-рабов, их нежелание искать новые методы работы вошли в поговорку.
Внешним проявлением отсутствия перемен была охватившая Юг тишина. Когда северянин, привыкший к городскому шуму, путешествовал по мирному сельскому Югу, то предполагал, что там просто ничего не происходит. Нет, возражали южане, это не так. И объясняли, что у них на Юге не случается шумных перемен, зато идет процесс органичного тихого роста. Бог возделывает землю бесшумно. Южные города, опасавшиеся пожаров, дыма и шума, издали указы, запрещавшие применение паровых машин. «Почему нашим механикам запрещено использовать их в этом городе? — вопрошал Уильям Грегг в 1844 году в Чарлстоне. — Чтобы уберечь от их дыма нежные нервы плантатора, не дать рабочим разбудить своими молотками владельца недвижимости или важного коммерсанта, когда тем снятся волшебные сны...»
Столь же невосприимчив оказался Юг к юридическим новшествам. Как раз в те времена жители Новой Англии, такие, как судья Лэмюел Шоу, подгоняли нормы общего права к новым нуждам железных дорог и рабочих, сплачивавшихся для коллективных переговоров с хозяевами в городах. Они искусно создавали корпорации, способные отвечать потребностям времени: собирать пенни у мелких вкладчиков, поощрять крупные вклады, создавать юридические обоснования для любого предприятия. Это был век общих законов о корпорациях, освободивших бизнесменов от необходимости принимать специальные юридические постановления всякий раз, когда им предстояло учредить компанию с ограниченной ответственностью, и создавших простейшие правовые предпосылки для новых деловых операций. В южных же штатах эти новшества приживались так же медленно, как и любые другие.
Акционерные компании — привычные в Новой Англии, Нью-Йорке и центральных штатах, а также отчасти привившиеся в пограничных Мэриленде и Виргинии — были в диковинку южной глубинке. То, как северяне собирали средства со всей общины для строительства больших фабрик, не соответствовало ни южному складу ума, ни южному образу ведения дел. Деловые корпорации, создаваемые юристами, рождались из примечаний, набранных мелким шрифтом. Долги для южных джентльменов были делом сугубо личным. Вашингтону, Джефферсону и многим другим приходилось поднапрячься, чтобы выполнить обязательства, взятые в момент благородного или бездумного настроения, подписав вексель друзьям. Каждый джентльмен го
229
тов был разориться, лишь бы выплатить «долги чести». Так как же он мог прятаться за книгами зщсонов, чтобы ограничить свою ответственность за «просто» долги?
На акционерные компании приходилось три четверти обрабатывающей промышленности всех Соединенных Штатов. На Юге же складывалась иная картина. «Если мы захлопнем дверь перед акционерным капиталом и будем полагаться лишь на личные усилия, — предупреждал пионер южного хлопкопроизвод-ства Уильям Грегг, — нам придется обсуждать проблему еще пятьдесят лет, вместо того чтобы добиться изменений в развитии промышленности, важных для благосостояния нашего штата». В 1845 году Грегг разослал законодательным собраниям Джорджии и Южной Каролины красноречиво написанную брошюру и после энергично проведенной лично им пропагандистской кампании добился перевесом в один голос принятия законодательным собранием Южной Каролины постановления о создании корпорации для своей хлопковой фабрики. Но в Джорджии его попытки успехом не увенчались. И по всему Югу (за исключением пограничных штатов Виргинии и Мэриленда, а также Луизианы, сохранившей особенности французского права) законодательные собрания отказались принять уложения о корпорациях. Корпорация вошла в повседневную деловую практику Юга только после Гражданской войны.
Попытки разнообразить экономическую жизнь Юга были редки и малоэффективны. Перед Гражданской войной два лидера вели тщетную борьбу против мифа о неизменном однородном Юге. Первым был Дж. Дебоу, мать которого родилась на острове Святой Елены, а отец приехал из Нью-Джерси. Сам родом из Чарлстона, он тем не менее не соответствовал образу джентльмена-южанина, поскольку всего в этой жизни добился сам. В выступлении на съезде коммерсантов в Мемфисе в 1845 году, а также в «Дебоус ревью» и в самой смелой своей работе «Промышленные и другие ресурсы южных и западных штатов» (1853), которая на Севере разошлась тиражом в шесть раз большим, чем на Юге, он призывал к развитию на Юге торговли и промышленного производства. Однако, выступая за протекционистские тарифы, усовершенствование инфраструктуры и государственное субсидирование железных дорог, чтобы помочь встать на ноги пребывающей в младенческом возрасте южной промышленности, Дебоу видел все эти меры лишь в контексте сохранения «специфического института» Юга и основных для него сельскохозяйственных культур. Даже его труд «Промышленные ресурсы», написанный с целью представить широкий
230
диапазон возможностей Юга, был полон общих мест. «Юг обладает удобными и безопасными портами... Южане никогда не передоверяют воспитание детей нянькам, с самого рождения дети находятся под бдительным и ревностным присмотром материнского ока». Почти на каждой странице упоминаются как «плантатор-южанин», с его «чувством достоинства, открытостью и гостеприимством, теплотой и дружелюбием», так и «раб», с его покорностью и личной преданностью хозяину. На первой странице «Дебоус ревью» рядом с девизом «Торговля — вот король» стояли слова: «Хлопок — вот король». В конечном счете Дебоу стал яростным приверженцем Кэлхуна.
Если Дебоу, разворачивая аргументацию в защиту разнообразных возможностей Юга, использовал слова, то Уильям Грегг использовал доллары. Подобно Дебоу, он также всего добился в жизни сам. Рано отойдя от текущих дел, он посетил в 1844 году текстильные фабрики Севера и, вернувшись домой, год спустя опубликовал «Очерки по развитию местной промышленности», призывая южан строить фабрики. Его собственная фабрика в Гранитвилле, штат Южная Каролина, процветала до середины XX века. Но и Грегг свои разумные аргументы в пользу разностороннего развития Юга обратил в орудие южного шовинизма, используя каждую возможность для демонстрации особых преимуществ использования рабского труда даже на хлопкоперерабатывающих фабриках. В «Дебоус ревью» Грегг предупреждал о немощи Юга по сравнению с промышленно развитым Севером и непосредственно накануне отделения призывал Юг готовиться к обороне, создавая собственную промышленность. На протяжении Гражданской войны Грегг героическими усилиями обеспечивал работу текстильной фабрики, производившей форму для армии конфедератов.
Но разностороннее развитие Юга приверженцев имело мало, влияние их было незначительно, голоса их тонули в море хлопковых плантаций. Иллюзия однородности Юга поддерживалась стабильностью его населения и отсутствием массовой иммиграции из Европы, что, кстати сказать, придавало ему более европейский вид. Мало где еще почтенным гражданам было свойственно так гордиться своим происхождением и интересоваться генеалогией. И нигде больше не стояли так проблемы качества рода и «чистоты» расы.
В1860 году население страны составляло тридцать один с половиной миллиона человек, из них более трети проживало на Юге. Но из четырех миллионов белых американцев, рожденных за пределами США, более восьмидесяти пяти процентов жили к
231
северу от линии Мейсона — Диксона. Горстка недавних белых иммигрантов концентрировалась на Юге в городах пограничных штатов Мэриленд, Миссури и Луизиана. Некоторое количество иммигрантов-немцев осело в Техасе. Бежавшие от крепостничества люди не хотели соперничать с рабами. Многих иммигрантов рабство возмущало по моральным причинам. За исключением судов, выходивших из Гавра, корабли обычно шли из Европы к северным портам Америки. Неудивительно, что Юг знал мало пришельцев, попавших туда по своей воле. На Юге куда меньше, чем на Севере и Западе, было хорошей дешевой земли для землепашества, рабочих мест и возможности выбиться в люди. Да южане и не жалели, что их край не привлекает большего количества белых переселенцев. Более того, они сокрушались даже по поводу жалкого ручейка иммиграции, все же достигающего их берега. С чего это им открывать радушные объятия неуживчивым ирландцам, независимым немцам и неассимилируемым евреям, всё прибывавшим из-за океана? Что же до белых рабочих, способных переселиться с Севера, то в 1850-х годах редактор одной газеты предостерегал: «Это проклятие, а не благо. В целом они являют собой никчемный, разнузданный класс — угрозу нашим особым институтам». «В отличие от наших предков эти иммигранты вовсе не бегут от преследования по политическим или религиозным мотивам, — жаловался ричмондский «Икземинер», — но бредут, просто как животные, в поисках более богатых и сытных пастбищ... Осев огромными толпами, они вечно будут исповедовать и практиковать лишь чистый (вернее, нечистый) материализм». Представляя свои планы развития южных мануфактур, Грегг тщательно разъяснял, что лучшей рабочей силой будут рабы и безработные белые, уже тогда встречавшиеся на Юге. Многие представители Юга среди других причин были склонны видеть корни политических бед страны (и уменьшающегося влияния Юга) в притоке иммигрантов из Европы.
23.
НЕИЗГЛАДИМАЯ ПЕЧАТЬ ИММИГРАЦИИ
Если лидеры коммерции и культуры Юга все больше отличались от легких на подъем купцов и фабрикантов Новой Англии и от бизнесменов растущих городов, то и политические институты Юга начинали резко отличаться от институтов Севера. Толкачи завлекали к себе приезжих всеми правдами и не
232
правдами. Новый город на Западе не мог процветать, не сумев привлечь из ближних и дальних мест людей, настолько вдохновленных шансами на успех, что они охотно были готовы переносить лишения и даже рисковать жизнью ради возможности начать новую. Приняв к себе переселенцев, община в Чикаго, Цинциннати, Омахе или Денвере обретала силу и стабильность. Новые способы быстрого жилищного строительства по принципу «надувного каркаса», возведение «общественных дворцов», в которых недавно прибывшие свободно общались со старожилами, а также такие установления, как непродолжительный ценз оседлости для получения права голоса, помогали стирать грани различий. Создатели новых общин, такие, как Огден, Дрейк, Лаример и тысячи других, ломали головы над тем, как помочь приезжим максимально быстро ощутить себя «своими», чтобы им не захотелось уехать.
В южных же штатах рабовладение—этот «особый институт» Юга — навязывало совсем иное отношение к пришельцам. Если на протяжении полувека перед Гражданской войной толкачи стремились привлечь людей и помочь им приспособиться, то южане все больше заботились о том, как их обособить и вытеснить.
Южане, порицающие иммиграцию на севере страны, каким-то образом отказывались видеть «иммигрантов» в неграх. С 1830-х годов южане — сторонники рабовладения — все упорнее утверждали, что их рабы-негры и есть фактор, объясняющий целостность, прочность и стабильность Юга. В XX веке подобный образ мышления представляется странным, ибо негры, оказавшись здесь, за незначительными исключениями, не по своей воле, обладали ярко выраженными признаками иммигрантов: они прибыли издалека и принадлежали к иной культуре. Но даже после того, как примерно с 1820 года приток иммигрантов в страну начал учитываться статистикой и белых иммигрантов стали различать по стране происхождения, негры, завезенные из Вест-Индии и Африки, не регистрировались никак, ибо внешняя торговля рабами носила незаконный характер. После 1850 года, когда федеральная перепись начала различать среди белых граждан «местных уроженцев» и «родившихся за границей», всех негров по-прежнему считали скопом независимо от того, в Америке они были рождены или нет. Статистически их делили лишь на рабов и свободных.
Таким образом, статистика, в начале XIX века становившаяся все более и более точной и общедоступной касательно иммиграции белых, по-прежнему скрывала данные о неграх. Амери
233
канские историки, воспринявшие точку зрения южан, так и не научились воспринимать негритянское население как иммигрантское. Даже новаторские труды ведущего специалиста-историка американской иммиграции Маркуса Ли Хансена — «Миграция через Атлантику, 1607 —1860: история постепенного заселения Соединенных Штатов» (1940) и «Иммигрант в американской истории» (1940) — практически исключают негров из данной темы.
Южане не видели в неграх иммигрантов прежде всего потому, что не видели для них возможности ассимиляции в своей общине. Лишь свободные негры, к которым все чаще относились как к растущей угрозе, в известной мере воспринимались так же, как иммигранты в других краях. Однако негры составляли треть населения Юга, и многие из них появились здесь лишь в последние десятилетия, ежегодно увеличиваясь в числе. В реальности Юг, разумеется, имел куда больший контингент завезенного из-за рубежа неассимилированного населения, чем тот, который вызвал беспокойство даже в Нью-Йорке и Бостоне во время массового наплыва беженцев из Ирландии в конце 1840-х и в 1850-х годах. Юг стал краем невидимых иммигрантов, или, скорее, иммигрантов, которые стали казаться невидимыми именно потому, что институты Юга сделали их эмигрантский статус пожизненным.
С 1830-х годов сами южане объясняли деление Юга на две общины как неизбежный результат расовых различий: не видеть подобных различий, утверждали они, означало «оспаривать Божью мудрость». Однако история негритянского рабства на Юге США подобных взглядов не подтверждает. Негр превратился в раба лишь несколько десятков лет спустя после его появления в американских колониях. Обзор состояния всех категорий рабочей силы в Америке XVII века показывает, как продемонстрировали Оскар и Мэри Хэндлины, «что рабство не существовало изначально, что его не перенесли автоматически откуда-то извне и что оно никак не явилось последствием каких-то особенностей, органически присущих неграм. Оно, скорее, возникло в процессе приспособления традиционных европейских институтов к американским условиям».
На протяжении большей части XVII века виргинские негры, хотя и не были свободными, не обязательно .были рабами. Антонимом понятия «свободный» в те времена служило не понятие «раб», но понятие «несвободный», и градаций несвободы существовало много: крепостная зависимость, вынужденная отработка просроченных долгов, принудительные «обществен
234
ные работы» для осужденных за бродяжничество, труд сирот и незаконнорожденных, вынужденных зарабатывать себе на хлеб и кров, добровольное поступление в услужение на несколько лет, оговоренное заключением договора. Таким образом, на протяжении первых десятилетий становления Виргинии большинство ее населения в известном смысле оказывалось несвободным, поскольку несло те или иные формы принудительных обязательств, и примерно до 1675 года негр не находился в каком-то особом положении. Условия его зависимости не отличались от условий многих европейских иммигрантов — отработав установленный срок, он получал свободу; иногда становился землевладельцем, ремесленником либо хозяином других несвободных людей. Негры по-прежнему оставались обыкновенными слугами, просто приехавшими из Африки, а не из Англии, Ирландии или Шотландии. Слово «раб» имело общеупотребительный презрительный смысл («О, что за дрянь я, что за жалкий раб». — «Гамлет», акт II, сцена 2-я), но не являлось юридическим термином. Статус раба даже и не предусматривался английским правом.
Только ближе к концу XVII века слово «раб» начало обретать новый терминологический и юридический смысл в Британской Северной Америке, и статус раба начал закрепляться за негром. Однако форма, которую обретал институт рабства, не являлась заимствованием у португальцев или испанцев, давно знакомых с институтом рабства еще по римскому праву. И если подробности преобразований неясны, то результат достаточно очевиден. До 1660-х годов, как указывают Хэндлины, в британском колониальном законодательстве не содержались положения, касающиеся исключительно негров. Но колониальные власти изменили законодательство и сократили сроки пребывания в услужении для англичан и иных иммигрантов-христиан, которых Виргиния и Мэриленд стремились тогда привлечь в качестве рабочей силы. Тем самым перед слугой, связанным юридическими обязательствами, открывались радостные перспективы возобновления срока его службы. Колонисты-южане рассчитывали на то, что вести об этих реформах разнесутся среди потенциальных иммигрантов на Британских островах и ускорят «заселение страны». Африканец же, иммигрант поневоле, попадал сюда не потому, что его привлекали краткие сроки пребывания в услужении или перспективы новой жизни. Ему нечего было терять от ухудшения его статуса, в то время как от увеличения срока вынужденной службы кое-что можно было выиграть.
235
По мере роста спроса и цен на рабочую силу негров постепенно низвели до положения рабов, составляющих собственность хозяина, причем протестовать ни они, ни их соотечественники не имели права. Мэриленд принял закон, согласно которому «все негры и иные рабы будут оставаться таковыми до конца жизни». В 1670 году власти Виргинии постановили, что «все рабы, не являющиеся христианами», привезенные морем, таковыми до конца их дней и останутся, оговорив в то же время, что обращение раба в христианство от рабства его не освобождает. В начале XVIII века торговля африканскими рабами приобрела еще более активный характер: к 1708 году негритянское население Виргинии составляло 12 000 человек, четвертая часть которых была завезена за предыдущие три года. За последующие же семь лет негритянское население в штате почти удвоилось. Рост количества этих необычных и невольных иммигрантов, работавших по принуждению, явился причиной ужесточения юридического надзора над ними. Был проведен закон, запрещавший смешанные расовые браки, в основном с целью закрепить право рабовладельца на труд раба и его отпрысков, а не с целью сохранить чистоту расы— ведь браки с индейцами не наказывались. К 1705 году Виргиния приняла Черный кодекс, установивший особые юридические нормы для африканских иммигрантов и прочно закрепивший их статус рабов.
Однако даже в XVIII веке, когда негр в южных британских колониях повсеместно обрел статус раба, это еще не означало, что он обречен навеки остаться в Новом Свете неассимилируе-мым иммигрантом. Мыслящие южане были полны сомнений на сей счет. В известном разделе «Виргинских заметок» (1784) Томас Джефферсон, хотя и ставит под сомнение природные умственные способности негра, сокрушается о том, как воздействует рабство на белых хозяев, и выражает убеждение, что этот институт не может сохраняться вечно. Поскольку ассимиляция негров с белым населением Виргинии, по мнению Джефферсона, была невозможной, оптимальным решением представлялась колонизация ими островов Вест-Индии, а может, и каких-то африканских территорий — «перемещение туда части нашего населения с наибольшей выгодой как для них, так и для нас». В 1835 году, когда английская путешественница Хэрриет Мартино совершала паломничество в Монпелье, поместье экс-президента Джеймса Мэдисона, тот, будучи национальным президентом Американского общества колонизации, пылко рассуждал о порочности рабства и о своих надеждах покончить с ним, вывезя негров из страны.
236
Таким образом, южане далеко не сразу приняли рабство как постоянный атрибут своего общества. Не сразу расстались они и с надеждами очиститься от пороков рабства не отказом от него самого, а посредством переселения негров за общественный счет куда-нибудь подальше, где те могли бы продолжать жить уже свободными людьми. Расовая же приверженность все больше мучила южан подозрением, что этих иммигрантов не ассимилировать.
В то время как пионеры Запада раскрывали переселенцам ум, сердце и душу и бились над тем, как обеспечить рост создаваемых ими общин, южан беспокоила проблема противоположная: как оградить себя от зла, виновниками которого они отчасти признавали и самих себя, но которого не было бы вовсе, не окажись здесь эти странные люди из Африки. Но чего южане никак не могли, так это воспринимать негров такими же людьми, как они сами, точно так же ищущими новых возможностей в Новом Свете и имеющими равные права на плоды этих поисков. В глазах лидеров белых южан негр навечно оставался чуждым элементом.
Мы можем измерить глубину и прочность этих предубеждений южан о неассимилируемости негров, познакомившись с последней значительной попыткой аболиционизма на Юге. Странно начавшись, эта попытка еще более странно закончилась. Речь идет о самом кровавом восстании рабов в истории Юга. Утром 22 августа 1831 года в округе Саутгемптон в юго-восточной Виргинии Нэт Тернер при помощи семи собратьев-рабов убил своего хозяина и его семью, азатем взбунтовал остальныхнегров, в течение суток перебивших еще около шестидесяти белых, в основном детей и женщин. «Армия» Тернера — по всей вероятности, человек семьдесят, не более—росла, пока ее не уничтожили четыре роты ополчения штата с помощью подразделений федеральных войск, разных опереточных местных военных обществ и отрядов отъявленных пьянчуг, набежавших со всех сторон. Расстреляли несколько десятков негров, как виновных, так и невинных; из тех, кого предали суду, двадцать повесили и двенадцать выслали за пределы штата. Сам Тернер два месяца скрывался, пока его не поймали и не казнили.
Южан объял ужас. «Все ложатся спать, охваченные страхом, — сочувственно писал о виргинцах один северянин. — По вечерам почти никто не выходит из дому. Одна дама сказала мне, что даже месяцы спустя после трагедии она вздрагивала от каждого порыва ветра и хлопанья ставней. Везде ставились запбры и решетки, но жуткий страх преследовал людей день и ночь». Зловещий смысл обретали недавние кровавые восста
237
ния рабов на Мартинике, Антигуа, в Сантьяго, Каракасе и на Тортугезах. Сообщения о серьезных дебатах в британском парламенте в августе 1830 года, касавшихся отмены рабства в колониях, также заставляли волноваться.
Новые причины для беспокойства возникали и ближе к дому. Подозрений в том, что Денмарком Веси, свободным негром из Чарлстона, Южная Каролина, ведется подготовка восстания рабов, оказалось достаточно, чтобы в 1822 году казнить тридцать семь негров. В начале 1830 годау многих рабов в далеко расположенных друг от другаокругахюжных штатов находилиэкземпля-ры «Обращения... к цветным гражданам мира...» (изданного в Бостоне в 1829 году), содержавшего призыв к всеобщему восстанию и принадлежавшего перу ДейвидаУокера, свободнорожденного негра из Северной Каролины. Американское движение против рабства, казалось, набирало силу в различных районах страны: в 1821 году бродячий квакер Бенджамин Ланди начал издавать газету «Дух всеобщего освобождения». 1 января 1830 года вышел в свет первый номер неистового «Освободителя» Уильяма ЛлойдаГаррисона.
В юго-восточной Виргинии, где произошло восстание Нэта Тернера, у белых были особые причины испытывать беспокойство. Недавно опубликованные данные переписи населения 1830 года гласили, что в Виргинии, к востоку от хребта Блу-Ридж, негров обитало на 81 000 больше, чем белых. Виргинцы, населявшие побережье, видели в этом тенденцию роста: еще в 1790 году белых было на 25 000 больше, чем нетров. Но уже в 1800 году ситуация изменилась кардинально и негров стало на 3000 больше, чем белых, в 1810 году — на 48 000, в 1820 году — на 65 000. К чему же это все могло привести?
Но и эти причины переживаемых белыми тревогнемогли объяснить феномен самого Нэта Тернера. В то время как историки расходятся во мнениях относительно почти что всех аспектов его восстания, споря о причинах поведения негров-участников и количестве жертв с обеих сторон, определенные факты абсолютно очевидны из показаний, которые дал плененный Тернер и которые в основном представляются правдивыми.
Наиболее значимым является факт, изрядно обескураживший южан: Нэт Тернер не принадлежал жестокому хозяину. Согласно показаниям самого Тернера, хозяин обращался с ним хорошо. Сын хозяина даже обучил его чтению. Таким образом, восстание Тернера было направлено не против частных злоупотреблений рабства (их-то наличие южане — защитники рабства — признавали охотно), но против самого института.
238
Не против жестокого хозяина, но против хозяев вообще. Тернер оказался человеком, «в котором, — как недавно заметил Джозеф Роберт, — сфокусировались бурные страсти расы, обреченной на вынужденное рабство».
Существенным, по мнению южан, было обстоятельство, свидетельствующее о нетипичное™ натуры Тернера, — а именно то, что его подогревало пылкое религиозное чувство. «Он законченный фанатик либо мастерски прикидывается таковым», — писал Томас Грей, адвокат, которому была поручена защита Тернера.
Историки и позже были склонны преуменьшать роль Тернера и его восстания, объясняя все религиозным фанатизмом. Подобно своим предшественникам — пуританским и квакерским фанатикам, — он слышал голоса, искал небесные знамения, у него были видения. В том, что назначенный час близок, Тернера убедило солнечное затмение в 1831 году. Еще одно связанное с солнцем явление — когда 13 августа солнце стало «странного зелено-голубого цвета» — сподобило Тернера перенести время выступления на неделю позже. Тернер был баптистским проповедником и пользовался влиянием на соседних плантациях. Самого же его мать воспитала в убеждении, что он призван свыше вывести свой народ из рабства. И силу, и вдохновение Тернер черпал в религиозной вере. Несмотря на обвинения южан и похвальбу самих аболиционистов, нет убедительных доказательств, что северяне-аболиционисты сыграли в его восстании какую-то подстрекательскую роль.
Тернер во многом олицетворял тип лишенного корней африканского иммигранта. Его мать, уроженка Африки, была рабыней Бенджамина Тернера. Родившись на его плантации, Нэт получил фамилию владельца. К тридцати годам он уже побывал собственностью четырех хозяев, а затем был арендован тем, кого во время восстания и убил. Известно, что отец его, чье имя не сохранилось, бежал, когда Нэт был еще ребенком. Вряд ли удивительно, что не по летам смышленый раб «фанатично» искал наставления у Господа, если иных наставников был лишен.
Когда законодательное собрание Виргинии собралось в Ричмонде в декабре 1831 года, менее чем через четыре месяца после кровавого восстания в округе Саутгемптон, мало кто сомневался в необходимости принять меры, чтобы подобное не повторилось. В случае угрозы — или слуха об угрозе — негритянского восстания на Юге прибегали к привычному набору мер: ужесточали контроль, ограничивали передвижение свободных негров, затрудняли выдачу вольных и усиливали патрулирование. В
239
этом отношении виргинские законодатели традиции не изменили, но той зимой в Ричмонде этим дело не кончилось. Во многих отношениях двухнедельные дебаты, начавшиеся 11 января 1832 года, носили совершенно непривычный характер. Они явились новаторским и историческим событием не только потому, что в первый и последний раз орган общественного управления на Юге публично и свободно дебатировал все «за» и «против» рабства, но и потому, что в дебатах как в капле воды отразился расклад сил вокруг вопроса о рабстве в стране в целом. Более того, дебаты дали возможность опробовать аргументы «за» и «против» рабства, к которым предстояло прибегать на протяжении последующих трех десятилетий, и послужили поворотным пунктом в отношении южан к своему «особому институту». То, что дебаты состоялись в Виргинии, давшей новой стране четырех из пяти ее первых президентов и определявшей наряду с Южной Каролиной направление мысли на юге страны, делало их еще более значимыми.
Еще до созыва ассамблеи Виргинии поступило много предложений с целью освободить штат от язвы рабства. Предложения отличались деталями, но все исходили из простого положения, что избавление страны от рабства возможно лишь с избавлением ее от негров. Сведений о серьезных предложениях того времени в среде белых южан об отмене рабства, не предусматривающих последующую высылку освобожденных негров, не сохранилось. Таким образом, дискуссия о том, как «решить» расовую проблему, сконцентрировалась на вопросе, как наиболее экономично, быстро и гуманно вывести чернокожих. С теми, кого привезли сюда помимо их воли, и не собирались советоваться, прежде чем выдворить их.
Прежде всего, существовало общее согласие (подкрепленное углубляющимся беспокойством о возможностях контроля над увеличивающимся количеством рабов и свободных негров в растущих городах Юга) в том, что следует выслать всех свободных негров. Значительное количество южан рассматривало подобную меру лишь в качестве первого шага к желанной цели — депортации всего чернокожего населения. Более умеренное предложение, рассматривавшееся как мера безопасности против восстаний, имело в виду ежегодную высылку достаточного количества негров, чтобы изменить пропорциональную численность обеих рас. Кто-то подсчитал, что искомой цели можно достичь, ежегодно высылая за государственный счет около двух тысяч негров. Американское общество колонизации, возглавляемое экс-президентом Джеймсом Мэдисоном, надеялось, что
240
путем колонизации законодатели Виргинии не упустят возможности покончить с рабством вообще. Председатель Верховного суда судья Джон Маршалл, руководитель виргинского отделения общества, считал, что недавние события должны убедить законодательные собрания южных штатов предложить всем свободным неграм правовые и финансовые стимулы к эмиграции. Американское общество колонизации зафрахтовало корабль, которым отправило в Африку сотни две саутгемптонских негров, которых, однако, предварительно в качестве стимула регулярно пороли на ночь.
Наиболее влиятельным сторонником отмены рабства в этих краях был губернатор Виргинии Джон Флойд, сам владевший десятком рабов. Проработав двенадцать лет в конгрессе, он совсем недавно был избран законодательным собранием кандидатом, защищающим права штата. «К концу срока моего правления, — писал Флойд в своем дневнике в ноябре 1831 года, — я добьюсь проведения закона, поэтапно отменяющего в нашем штате рабство, или как минимум положу этому процессу начало, запретив рабство к западу от хребта Блу-Ридж». План Флойда, представленный губернатору Южной Каролины Гамильтону, состоял в том, чтобы ужесточить контроль над всем негритянским населением, выслать свободных негров, постепенно скупить и экспортировать из Виргинии все негритянское население.
Разногласия, проявившиеся в декабрьских дебатах, оживили конфликт между восточным и западным районами штата, уже известный в истории Виргинии и отражавший противоречия, существовавшие в стране в целом. Противники рабства жили в основном к западу от гор Блу-Ридж, где негров было мало; сторонники же его населяли районы к востоку от гор, а также побережье, где проживало много крупных рабовладельцев, вложивших немалые средства в живую собственность. Но были и исключения: люди, подобные Томасу Джефферсону Рэндолфу (внуку президента Джефферсона), Томасу Маршаллу (сыну председателя Верховного суда) и редакторам двух ведущих ричмондских газет Томасу Ритчи и Джону Хэмпде-ну Плезантсу, присоединились к тем, кто выступил против рабства.
Разделение голосов 134 членов законодательного собрания по основному вопросу — отменять ли рабство — показывает весьма равномерное разделение взглядов: около шестидесяти человек выступали за принятие какой-либо программы немедленного отказа от рабства; около шестидесяти (включая и тех,
241
кто соглашался, что рабство, может, и зло, но настаивал на существовании непреодолимых препятствий к его отмене) выступали против каких бы то ни было шагов подобного рода. Около дюжины голосов, которые и сохраняли равновесие сил, высказывались в пользу будущего освобождения негров и немедленного принятия какой-нибудь декларации против рабства, но искали компромисса, предпочитая отложить решение, нежели обострять проблему. В итоге верх взяли сторонники статус-кво, поскольку охотно согласились с выгодным для них решением, в то время как противников рабства не смогла объединить ни одна из предлагаемых программ его ликвидации.
В процессе работы законодательного собрания его делегатами были приведены чуть ли не все возможные аргументы «за» и «против» рабства в публичной и широко освещаемой дискуссии, по уровню здравого смысла, красноречия, страстности и свободы выражения не имевшей до этого аналога в истории Америки. Первые заседания пробудили большие надежды. «Из того, что мы слышим, представляется вероятным, — писал 7 января в передовой статье ричмондский «Ин-квайрер», — что Комитет по цветному населению предложит некий план избавления от свободных цветных. Но можно ли останавливаться на этом? Неужели мы вечно должны страдать от величайшего зла, способного стать проклятием нашей страны, которое не просто сохраняется, но растет? ...Мудрейшим нашим согражданам следует уделить этой проблеме все свое внимание — и незамедлительно». Некоторые виргинцы приходили в отчаяние от того, как свои же южане обнажали и даже афишировали пороки их общества. При окончательном голосовании 25 января предложение о целесообразности принятия данной сессией закона об отмене рабства было отклонено семьюдесятью тремя против пятидесяти восьми голосов. Суть событий подытожил несколько дней спустя редактор ричмондской газеты «Конститьюшнл виг».
Рассмотрение и обсуждение вопроса, таким образом, привело к формулированию следующих высказанных и подразумеваемых позиций среди членов законодательного собрания:
1) На настоящей сессии принятие закона об отмене рабства нецелесообразно.
2) Цветное население Виргинии есть источник большого зла.
242
3) Гуманные и политические соображения прежде всего требуют депортации свободных негров и тех, кому предстоит получить свободу (в силу широко практикуемого добровольного освобождения рабов).
4) Осуществление подобных мер поглотит все имеющиеся у нас ныне средства.
5) Безусловно подразумевается, что когда общественность выскажется более определенно и будут изысканы соответствующие средства, целесообразно приступить к системе ликвидации рабства.
На этом остановилось законодательное собрание, с нашей точки зрения и не имеющее полномочий идти дальше.
При всей кажущейся незначительности достигнутого дискуссия 1831 — 1832 годов глубоко взволновала сердца и умы. И незамедлительно породила волну самодовольного оптимизма среди тех, кто мог воспринимать явления лишь поверхностно либо не понимал результатов самой дискуссии. Северяне, считавшие Виргинию традиционным законодателем мнения на Юге, ожидали, что ее примеру последуют и другие южные штаты. Один янки назвал эту дискуссию самым славным событием в истории Виргинии после провозглашения Декларации независимости. Некоторые северяне использовали перечисление виргинцами печальных результатов рабства, дабы опровергнуть утверждение таких деятелей Юга, как сенатор от Южной Каролины Роберт Хейн, что истинной причиной затруднений Юга были протекционистские тарифы. Газеты же Мэриленда противопоставляли виргинской дискуссии, кроме слов, ничего не давшей, не только новые полицейские меры, но и значительные ассигнования, выделенные законодательным собранием Мэриленда на создание негритянских колоний в Африке.
Основным следствием дискуссии как в Виргинии, так и повсеместно на Юге было то, что сторонники рабства вынужденно заняли оборонительную позицию, высказали свои взгляды и тем самым вдохнули в дело защиты рабства на Юге новый пыл. На выборах в законодательное собрание весной 1832 года потерпел поражение ряд кандидатов от Восточной Виргинии, выступавших против рабства. Талантливые авторы-южане, не довольствуясь более одним лишь отражением нападок на их «особый институт» либо попытками доказать, что рабство вовсе не так бесчеловечно, как считалось всеми, и даже оказывает цивилизующее воздействие на свои жертвы, перешли в контрнаступление. Их новая стратегия, построенная отчасти на древних,
243
отчасти на современных концепциях, заключалась в утверждении, что рабство являло собой, безусловно, положительное начало. Еще раньше, во время дискуссии в конгрессе по Миссурийскому компромиссу 1820 года, некоторые южане уже отстаивали специфические достоинства этого своего института, а в 1820-х годах в его защиту появились такие сочинения, как работы доктора Томаса Купера, доказывающие, что рабство не возбранялось Библией и что этот институт в той или иной форме фактически существовал повсеместно. Для виргинских же сторонников рабовладения библией на несколько последующих решающих десятилетий суждено было стать «Обзору дискуссий в законодательном собрании Виргинии 1831 и 1832 годов» (Ричмонд, 1832) Томаса Р. Дью. Дью, в то время тридцатилетний профессор колледжа Уильяма и Мэри, четыре года спустя после публикации «Обзора» стал президентом этого колледжа, а затем возглавил фалангу ученых-виргинцев, выступавших в защиту «особого института».
Сутью новой рабовладельческой ортодоксии была не защита рабства как абстрактного понятия либо просто как института, сохранившегося с библейских времен и потому неприкосновенного. Теперь аргументация обрела уклон сугубо американский, не только отличавший упорных американских сторонников рабства от их иноземных предшественников, но и резко контрастировавший с тенденциями, складывавшимися в жизни общин других районов страны. В контексте сугубо американском и южном всю проблему рабовладения сформулировал Дью: «Могут ли эти две различные расы рода людского, ныне живущие, как хозяева и слуги, навечно остаться разделенными? Можно ли отослать черных обратно на родину в Африку? Может ли прийти такой день, когда, освободившись от рабства, черный поднимется на уровень цивилизации и прав, делающий его равным белому?» Этапы аргументации Дью были просты. Простота эта опять же проистекала из общепринятой (и типично южной) предпосылки, по словам Дью, предельно обнажившейся в виргинской дискуссии: «Там, где вопрос о рабстве обсуждался наиболее тщательным образом, все, как представляется, приходили к полному согласию о необходимости депортации в случае освобождения». Таким образом, складывалось впечатление, что Дью переносит спор с зыбкой почвы религии, этики и социальной теории в реальный мир экономики и повседневных дел. Он вплотную подошел к тому, чтобы свести весь вопрос просто к проблеме перемещения. Неудивительно тогда, что Дж. Дебоу, один из тех южных
244
деятелей, кто мыслил прежде всего статистическими категориями, объявил, что «талантливый очерк Дью об институте рабства заслужил ему долгую признательность всего Юга».
Дью начал с того, что рассмотрел различные предлагаемые варианты колонизации и заключил, «что никак нельзя рассчитывать на отправку нашего черного населения за его собственный счет». Затем ему оставалось лишь напомнить читателям об их собственном аксиоматическом убеждении, что «освобождение без депортации» было немыслимо, «что рабы как с экономической, так и с моральной точки зрения абсолютно неприспособлены к жизни в условиях свободы среди белых». Вывод, к которому он приходил, становился, таким образом, неизбежен: рабство, будь оно добром или злом, оставалось обязательным состоянием негров в Соединенных Штатах. Разумеется, Дью украшал свой тезис испытанными и привлекательными библейскими, социологическими и биологическими аргументами, которым суждено было обретать все большую известность на протяжении грядущих десятилетий. Самым же новым и самым убедительным в его позиции была ее простота, кажущаяся практичность и очевидная фактическая основа. Неудивительно, что Дафф Грин, ведущий демократ и влиятельный редактор «Юнайтед Сгейтс телеграф», издал очерк Дью брошюрой стоимостью в шесть центов, надеясь сплотить южан. Джон Куинси Адамс, лидер их оппонентов, заявил, что Дью открыл новую эру в истории Америки.
Адамс был прав. Перенеся спор о рабстве в сугубо американский контекст, Дью обострил растущий конфликт между позицией южан и остальных американцев — жителей Новой Англии, переселенцев и граждан новых городов. В стране, населенной иммигрантами, которая росла и процветала, потому что создавала и развивала новые города, привлекала новых поселенцев и ассимилировала их в новых общинах, «особый институт» Юга стоял особняком и выделялся все более мрачным контрастом. Проблема рабства объявлялась теперь иммиграционной проблемой; «ее решение», на котором сходилось большинство южан, состояло в том, чтобы оставить этих иммигрантов в Америке, но за пределами основной американской общины. Хотя гетто было чуждым для Америки явлением, южане не только создали теперь его американскую разновидность, но и объявили ее ключевым фактором обеспечения мира и процветания. В более широкой перспективе американской истории Юг и вся страна в целом страдали, возможно, даже
245
не столько от самого института рабства (который в той или иной форме имело, испытало и изжило большинство европейских народов), сколько от признания возможности существования категории вечных иммигрантов. Этой концепции суждено было жить среди южан даже после того, как институт рабства был упразднен юридически. И пока эта идея оставалась в ходу, «освобождение» продолжало оставаться малоэффективным. Дью и его сторонники исходили из убеждения, что освобождение негров практически невозможно. «В Италии или во Франции раб мог получить вольную или бежать в город, — писал Дью, — и вскоре все документы о его былом положении оказывались утерянными, а сам он постепенно ассимилировался с окружающими его свободными людьми. Освободившийся же от рабства черный, к несчастью, несет клеймо, которое не в силах стереть даже время и навеки сохраняет неизгладимый знак своей неполноценности. Не может эфиоп сменить кожу, как леопард не может сменить свою пятнистую шкуру».
1А.
НЕЗРИМЫЕ ОБЩИНЫ: НЕГРИТЯНСКИЕ ЦЕРКВИ
Таким образом, рабство навязывало негру-иммигранту опыт, абсолютно противоположный опыту остальных новых американцев. Негр, лишенный свободы и живущий под ярмом законов, установленных его хозяином с момента отправки в Америку, не сразу и лишь под принуждением понимал, где он и что от него хотят. Сначала он подчинялся силе, но, даже усвоив порядки и требования хозяина, приучался к мысли, что устремления и цели хозяина разделить не может. Американский опыт приоритета общины перед правительством — опыт людей, объединившихся на почве общих интересов и целей прежде, нежели сложилась эффективная сила, требующая от них повиновения, — был не для него.
В караванах, идущих на Запад, и особенно в новых городах царил дух добровольности и конкуренции. Предприимчивый человек всегда стремился показать, что находится там, где находится, и по собственному выбору предпочитает свою общину всем другим на земле, убеждая остальных перебраться жить в его город не из чувства каких-либо юридических побуждений или традиций, но потому, что верил в перспективность этого го
246
рода. В мире раба ничего подобного не существовало. Сутью его жизни была подневольность. Существуя по воле хозяина, раб (за исключением беглых) никогда не становился мигрантом, но всегда был движимым имуществом. Даже если ему приходилось оказаться в новой общине, как иногда случалось на юго-западных границах Алабамы, Миссисипи и Луизианы, то не по своему выбору, а по чужой воле.
Это был не единственный способ, которым раба лишали чувства единства целей и общности с согражданами. Способ порабощения негра, как показал Франклин Фрейзер, состоял в разрушении его африканской культуры и лишении всех его былых традиций по мере перемещения в Новый Свет. Негр не сразу забывал свой родной язык и овладевал языком хозяина. Африканские языки столь многочисленны, а рабы представляли столь различные языковые группы, что на первых порах рабам было трудно общаться даже друг с другом. Этот исторический аспект, как и все касающееся устной речи, неясен и туманен. Но есть данные, позволяющие судить о языковых сложностях наряду с прочими, обострявшими чувство одиночества и обособленности у завозимых в страну африканцев. Гулла, диалект значительного числа негров в прибрежных районах Южной Каролины и Джорджии, до сих пор содержит слова, восходящие к двадцати различным языкам Западной Африки. Если значительные языковые сложности сохраняются и в середине XX века, какими же они были до Гражданской войны, когда огромное количество американских негров были уроженцами Африки, откуда каждый год их доставляли еще и еще? Только в 1858 году (полвека спустя после официального запрета африканской работорговли) в один из портов Джорджии доставили 420 негров прямо из Африки. Можно себе представить это вавилонское столпотворение! Хозяева не снисходили до того, чтобы изучать язык своих рабов. Рабам же, зачастую не способным общаться на родном языке даже друг с другом, приходилось учить или изобретать какое-то наречие для общения.
Африканский иммигрант был человеком без семьи. Сведений о сохранении здесь даже общих африканских семейных структур почти нет. Отдельные семьи безрассудно разрушались работорговцами. В то же время рабство препятствовало неграм создавать собственные американские семьи, подобно белым южанам. Наиболее очевидным доказательством этого служило отсутствие у негров семейных фамилий. Африканцы не были единственной группой иммигрантов, прибывавших в
247
Америку без фамилий: в XVII веке так же приезжали в Америку шведы, армяне и евреи. Эти группы, как отмечали Хэнд-лины, к XVIII веку уже обзаводились фамилиями. Негры — нет.
Ни один из аспектов рабства не имел таких бесчеловечных последствий, как вытаптывание материнских чувств. «Там, где пресекались естественные заботы матери о своих детях, где возбранялось даже кормить детей грудью и ласкать их, — отмечал Франклин Фрейзер в своем классическом труде «Негритянская семья в Соединенных Штатах» (1939), — вполне понятным было отсутствие привязанности матери к своему ребенку». Разлучение матерей с детьми все больше входило в практику по мере того, как работорговля набирала размах на протяжении десятилетий перед Гражданской войной. Жизнь рабов в бараках не способствовала созданию семейной атмосферы. Нередко материнский инстинкт сублимировался в привязанности кормилицы — «мамки» — к ее «белым детям», которым она и обязана была уделять всю свою любовь и заботу. Идеализированный образ негритянской матери, как отмечает Фрейзер, вырос не столько из преданий о ее самопожертвовании ради детей под игом рабства, сколько из традиций негритянских «мамок», чья материнская ласка доставалась чужим детям. Приоритет матери в негритянской семье сложился из мрачной действительности рабства: собственнических интересов хозяина к ее потомству и вынужденной скудости чувств в отношениях мужа и жены. Рабам и даже вольным неграм было, разумеется, заказано чувство общины, проистекающее из обладания гражданскими правами и особенно из участия в деятельности политических групп — городских собраний, например. Отсюда очевидно, что рабу были недоступны интересы общественного развития, обычно рождаемые владением собственности, экономическим соперничеством и участием в деловых начинаниях.
Короче говоря, раб был человеком без общины. Даже его связь с плантацией, где он трудился, или с хозяином, которого он зачастую уважал, могла быть прервана помимо его воли, а новое место работы — навязано произвольно. Одним из многих экономических аргументов в пользу рабства служило то, что трудовые ресурсы можно было перемещать по усмотрению хозяина. Многочисленные обстоятельства, над которыми раб был невластен и которых мог и не знать, — от банкротства хозяина, распродажи имущества наследниками, колебаний цен на табак, рис и хлопок до каприза или гнева владельца — мог
248
ли разлучить его с родным гнездом, лишить друзей и близких и заставить очутиться там, где он и не думал не гадал.
Как же было негру обрести свою общину? В чем-то его положение походило на ситуацию, в которой оказались пилигримы двумя столетиями ранее. Негр вполне мог бы согласиться с объяснением, данным Уильямом Брэдфордом религиозному пылу первых иммигрантов: «Не дано было им и взойти на гору Фасга, чтобы узреть из пустынь своих Землю Обетованную, которая питала бы их надежды, и куда бы ни обратили они взор свой (кроме как к небесам), мало что радовало глаз или давало успокоение душе». Неудивительно, что негр всеми силами стремился вырваться из навязанной ему изоляции. И не нужны надуманные и формальные объяснения выживших африканцев, чтобы понять, почему негр обратился к религии.
Скромной компенсацией за муки рабства служило обострение религиозного чувства, принявшего формы обращения глубоко личного, наивного и страстного, не испорченного ни институтами, ни расчетом. Редко когда еще — до или после — так полностью стиралась отмечаемая пуританами грань между церковью «видимой» и «невидимой». Американский негр открыл новую разновидность религиозного опыта: особо остро чувствуя одиночество, неприкаянность и неравенство, он мог надеяться обрести утешение, лишь обратясь к Всевышнему. Эти поиски и устремления сохранились в духовных негритянских песнопениях.
Мать моя небесная Затмевает солнце. Отец мой небесный Затмевает солнце. Сестра моя небесная Затмевает солнце. И все мы, придя на небо, Затмим солнце Больше, чем луна.
Отсюда, из неудовлетворенных потребностей личности и отсутствия каких-либо иных путей выражения ее, и выросла многогранная, живая и вездесущая негритянская церковь.
Войду и я в великий сонм, Войду и я в великий сонм, Тогда душа моя и воссияет.
Эти церкви сложились и обрели свой особый характер именно в силу тех самых ограничений, в рамки которых заклю
249
чалась вся жизнь раба. Изменчивое отношение белых южан к крещению негров складывалось из надежд и страхов, сугубо практических и эгоистических интересов, из проповеднического пыла и проявлений гуманности. Древняя традиция, согласно которой христиан не полагалось держать в рабстве, препятствовала первоначальным попыткам обращения в веру индейцев и негров, пока к концу XVII века не было определено законом, что обращение не делает раба свободным. На протяжении колониального периода отдельные попытки обращения негров в веру предпринимались в основном посылаемыми из Лондона миссионерскими группами — священниками англиканской церкви, эмиссарами Общества распространения Священного писания в чужеземных странах либо отдельными рьяными проповедниками баптистских и методистских сект. Даже несмотря на усилия евангелистов второго «Великого пробуждения», относительно малое количество негров стало членами официальных христианских церквей. Когда в таких местах, как Восточная Виргиния, численность негритянского населения начала превышать численность белых, белые прежде всего беспокоились об эффективности применения христианского учения для удержания негров в покорности. Сумеет ли христианство, проповедуя, что Бог благословил рабство, за которое он ниспошлет вознаграждение в жизни иной, убедить негров мириться с их униженным положением? Либо, напротив, возбудит в них опасные идеи равенства и, открыв возможности общения, предоставит кафедру? Простейшим же соображением, пронизывающим религиозное мышление белых южан с начала XIX века, оставалась возможность воздействия христианства на рабство: смягчение его пороков, упрочение положительных сторон и сохранение немой покорности негров.
Вся история христианства показывает, что это религия одновременно смирения и отваги, религия мученика и крестоносца, святого Франциска и святого Людовика. В Священном писании негр мог одновременно обрести как бальзам для своих ран и оправдание своей покорности, так и обоснование стремления к равенству и побуждение к бунту. Но проповедники-южане без труда подавали христианство всего лишь как удобную декорацию рабства: идеализируя рабство как форму библейской патриархальной семьи, они самозванно возлагали на себя обязанности наставлять «родителей» (то есть хозяев) в их долге по отношению к «детям» (то есть рабам), а детей — в их долге по отношению к родителям. «Каждый плантатор, по
250
сути, патриарх, — таким был общепринятый аргумент. — Положение обязывает его быть правителем дома... Общество обретает иудейскую форму... Пятая заповедь становится основой общества. Государство рассматривается лишь как высший представитель во внешних сношениях, в то время как регулирование отношений внутренних, таких, как обеспечение, воспитание и обязанности членов семьи, отдается на усмотрение ее главы».
К 1820-м годам белые священники-южане энергичнейшим образом толковали о патриархальной системе отношений. «Если при всех иных соображениях перемещение негров из их страны в эту явилось способом их умственного и религиозного просвещения и тем самым дорогой к спасению, что многие из них и исповедуют с радостью и благодарностью, — объяснял вскоре после заговора Денмарка Веси доктор Ричард Фурман, президент конгрегации баптистов Южной Каролины, — то справедливый и гуманный хозяин, управляющий своими рабами и заботящийся о них согласно христианским правилам, может быть спокоен: имея рабов, он не ввергает свою душу в моральный грех и никак в этом смысле не поступает противно духу христианства». Однако страх перед негритянскими восстаниями снова и снова приводил к ограничениям религиозной активности негров, ибо Денмарк Веси был пылким методистом, а «генерал» Нэт Тернер — проповедником. Открывая историческое заседание законодательного собрания Виргинии в декабре 1831 года, губернатор Флойд заклеймил негритянских проповедников как «распространителей среди наших рабов подстрекательских брошюр и публикаций, завозимых сюда агентами и эмиссарами из других штатов», на основании чего и потребовал запретить неграм проповедничество.
По мере подъема аболиционистского движения на Севере и использования религиозных миссионеров для распространения его идей среди негров южане обрели новую причину насаждать среди рабов свою собственную разновидность христианства. Преподобный Чарлз Колкок Джоунз напоминал в своем наставлении для хозяев «Религиозное воспитание негров» (Саванна, Джорджия, 1842), что начиная с 1820 года можно говорить о «возрождении религии как о конкретной обязанности во всех штатах Юга». И старательно стремился Доказать, что хозяину даже не надо ждать будущей жизни, чтобы получить награду за обращение своих рабов в христианство:
251
Неизбежным следствием этого будет упрочение финансового положения хозяина.
Я не хочу этим сказать, что приобщение плантации к Священному писанию само по себе вдохнет новую жизнь и энергию в работников и в землю, которую они возделывают, и неизбежно превратит ее в более прибыльную, чем та, что к Писанию не приобщена. Отнюдь нет. Подобное утверждение оказалось бы необоснованным. Ибо существуют хозяева, совсем не заботящиеся о духовном наставлении своих негров, однако хорошо их одевающие, кормящие и содержащие. Проявляя человечность и заботу о своих неграх, такие хозяева добиваются умелым, рачительным и настойчивым руководством куда больших доходов, нежели их религиозные соседи. Но я хочу сказать следующее: религиозное воспитание не помеха, а, напротив, скорее помощь — при прочих равных условиях плантация, приобщенная к религиозному просвещению, даст своему хозяину куда больше, нежели до введения подобного просвещения. Добродетель прибыльнее греха; пусть это и не открытие, зато неоспоримая истина...
Религиозное просвещение негров будет способствовать сохранению безопасности... Хотя в рабовладельческой стране положение наше таково, что, насколько можно предвидеть, любые попытки восстания со стороны нашего рабочего класса безнадежны, однако любого врага (если уж врага суждено иметь), даже самого слабого, не следует недооценивать и ни одну опасность, даже самую отдаленную, оставлять без внимания...
Я всегда твердо верил в эффективность глубокого религиозного просвещения как средства достижения искомой цели.
Можно привести обоснования этой веры. Они содержатся в самой сути и направленности Писания. Суть его есть мир в самом полном и широком смысле слова. Его направленность, даже там, где его преобразующее воздействие на личность не осознается, заключается в смягчении и обуздании человеческих страстей. Человек проявляет больше уважения к интересам других, больше заботится о снискании их расположения, становится более покорным власти и терпеливым к обиде, начинает особенно ценить человеческую жизнь... Слуга признает всемогущество Провидения, располагающего людьми и обстоятельствами по своему усмотрению... Таким образом, он предоставляет Господу распорядиться своею участью и воздать каждому по заслугам, повинуется кому должно и кого должно чтит. И не смеет вырвать из рук Господних заботу о себе и защиту самого себя.
Представительный форум многих конфессий, посвященный религиозному воспитанию негров, был проведен в Чарлстоне в мае 1845 года с целью совершенствовать сию благую деятельность далее, а также дать отпор обвинениям северян в том, что южане губят души негров. На этом влиятельном собрании были представлены епископальная, методистская, баптистская и пресвитерианская церкви. В нем принимали участие не только такие священнослужители, как преподобный Ч.К. Джоунз и преподобный Уильям Кейперс, которому
252
предстояло стать основателем методистской церкви Юга, но и такие миряне, как сенатор Дэниел Хьюгер от Южной Каролины и Роберт Барнуэлл Ретт, которому предстояло унаследовать в сенате место Кэлхуна. Собрание, подытожив сведения, поступавшие из всех уголков Юга, подтвердило благостное воздействие религии на уровень дисциплины негров. Одно из сообщений отмечало, что «даже те, кто не практикует религию, щедро оплачивают религиозное просвещение своих рабов, что убедительно свидетельствует о его насущности и реальной пользе». «Мы действительно рассматриваем религиозное просвещение негров, — заключило собрание, — как величайший долг и — в самом лучшем и истинном смысле слова — твердую и неизменную политику Юга... Эту деятельность необходимо продолжить».
Деятельность и продолжалась самыми разнообразными путями, отнюдь не все из которых соответствовали планам сторонников сохранения рабства. Многие сельские рабовладельцы следовали советам преподобного Ч.К. Джоунза о «наилучшей форме организации церкви для негров»:
В свободных штатах как белые, так и черные считают наиболее разумным, чтобы последние имели собственные места богослужения и собственную церковную организацию, независимую от первых.
В рабовладельческих же штатах разделять черных и белых не рекомендуется. Предпочтительнее, чтобы обе группы отправляли службы в одном здании и были объединены в одной и той же церкви у одного пастыря, имея доступ ко всем обрядам, крещению и причастию Господню в одно и то же время, с одинаковой заботой и дисциплиной, совместно образуя единую паству, единую церковь и единый приход.
Если неграм в силу непреодолимых обстоятельств приходится собираться и выслушивать проповеди в обособленном помещении, их все равно следует считать неотъемлемой частью белой церкви. Принимать и отлучать от лона церкви, а также отправлять обряды надлежит в присутствии всего прихода.
Подобное общение обеих групп в церкви упрочивает связующие их узы и рождает добрые чувства, способствует укреплению послушания и развитию благочестия и морали негров. Независимые же негритянские церковные организации в рабовладельческих штатах приводят, как правило, к обратным результатам.
Назначение цветных проповедников и старост... в белых церквах и под постоянным присмотром белых имело положительный эффект во многих районах страны...
На некоторых плантациях неграм вменялось в постоянную обязанность присутствовать во время богослужений семьи
253
хозяина, для чего им отводились балконы или специальные места.
Но эти организованные белыми церкви отнюдь не охватывали всю религиозную жизнь негра-южанина. Негр имел свою собственную религиозную жизнь. Многое из этой жизни осталось неизвестным, поскольку религиозные собрания негров часто проводились тайно и большая часть их участников, нередко и проповедник в том числе, были неграмотны. Тем не менее достоверно известно, что подобные религиозные собрания были явлением распространенным и послужили основой для образования негритянской общины.
Религиозная жизнь негров активно развивалась в формах, зачастую невидимых белым хозяевам и едва различимых глазом современного историка. В городах религиозные общины негров иногда существовали вполне открыто: их названия и даже имена их негритянских пастырей вносились в городские справочники. Там же, в городах, потребность негра в общине находила светское выражение в веселой, живой атмосфере общения в бакалейной лавке и пивной. Но то, что бесчисленные «церкви» рабов на плантациях были разбросаны, неорганизова-ны, безвестны и не описаны историей, нисколько не умаляет их значимости. Они не должны остаться незамеченными даже на фоне более традиционных религиозных организаций, созданных первоначально неграми на Севере.
Историю существования организованной негритянской церкви обычно начинают прослеживать с Филадельфии, где двое вольных негров-священников, Ричард Аллен и Авессалом Джоунз, которых убедили передать свою негритянскую паству в руки местной конгрегации белых методистов, были изгнаны одним воскресным днем, едва успев преклонить колени для молитвы, поскольку отказались уйти на отведенный для негров балкон. В 1787 году они основали Свободное африканское общество. Джоунз затем отделился и основал Африканскую протестантскую епископальную церковь,, а Аллен основал влиятельную Африканскую методистскую епископальную церковь, ставшую в 1816 году национальной организацией (Аллен был ее первым епископом) и впоследствии сотрудничавшую с «Андеграунд рейлроуд».
В целом, однако, на жизнь чернокожих американцев оказывали значительное воздействие раздробленность и неосязаемость религиозных общин порабощенных негров. Подобно тому как отношение еврея к религии и своей общине формировалось жизнью в гетто, так и отношение негра формирова
254
лось жизнью в рабстве. И американские негры вовлекались в бесчисленное множество религиозных общин.
Даже там, где хозяин опасался сплочения своих негров по религиозным мотивам, он мог оказаться не в силах предотвратить его, и осторожные плантаторы нередко позволяли своим рабам иметь подобную отдушину. Фредерик Ло Олмстед сообщал после поездки по царству хлопка в конце 1850-х годов:
На многих плантациях отправление религиозных обрядов является чуть ли не единственным регулярно позволяемым неграм отдохновением от тягот постоянного унылого труда, не носящим сугубо плотского характера; развлечение для ума в иных формах, как правило, не поощряется. Религиозные отправления редко когда подвергаются запрету, в них позволяется куда большая свобода для индивидуального и творческого самовыражения, чем при участии в каких-либо забавах или учебе. Естественно и неизбежно, что в богослужении и причастии вырывается наружу все то, что обычно подавляется в негритянской душе, и вырывается с такой силой и яростью, что чуть ли не внушает ужас. Соблюдение благочестия, необходимое для того, чтобы принять заметное участие в установленных общественным обычаем ритуалах, носит характер почти повсеместный, кроме плантаций, где не поощряются бурные религиозные собрания, или в городах, где рабам доступны иные развлечения.
Атмосферу спорадических религиозных собраний представить нелегко; возможно, негры и чувствовали себя непринужденно лишь в отсутствии белых.
Иногда деревенским рабам случалось забредать по воскресеньям в близлежащий город, где они попадали на собрания негритянских конгрегаций. Одно такое собрание близ Чарлстона в 1851 году описала шведская романистка Фредерика Бремер:
...В деревне было тихо и спокойно. Несколько чернокожих мужчин и женщин стояли по сторонам, выглядели они людьми добрыми и ухоженными. Из одного дома доносились звуки молитвы и усердных песнопений. Войдя, я увидела собравшихся негров, в основном женщин, с благоговением внимающих негру, пылко читающему им проповедь, сопровождаемую энергичной жестикуляцией и ударами сжатыми кулаками по столу. Проповедь его сводилась к следующему: «Так будем же исполнять заповеди Христовы, возлюбим друг друга. Тогда Он придет к нам, болящим и умирающим, Он сделает нас свободными, и мы соединимся с Ним и будем близ Него во славе Его».
Истинная картина богослужения в бесчисленных негритянских церквах навеки от нас сокрыта; ее никогда не удастся
255
представить статистически. Но мы можем проследить становление формы религиозной жизни — отчетливо американской и выросшей непосредственно из условий негритянского рабства.
Невидимые негритянские религиозные общины имели вполне определенные черты. Прежде всего, разумеется, «церквей» существовало великое множество, и каждой было свойственно иметь очень ограниченную паству. У белых протестантов традиционные, обрядовые и богословские различия, разделявшие верующих на секты, в то же время способствовали сплочению отдельных конгрегаций в большие конфессии. Но новым и текучим негритянским конгрегациям, руководимым полуграмотными неграми, тонкости сектантских разногласий были неведомы. Обособленная рабская «церковь», которой возбранялись сношения с другими, тяготела, таким образом, к превращению в своего рода самостоятельную конфессию. За неимением навыков традиционного богословия, проповедник всецело занят был отправлением обрядов, объединяя свой приход силой собственной индивидуальности. Внутренняя автономия баптистской церкви, большая даже, чем в методистской, давала негритянскому проповеднику большую свободу, чем и способствовала особой ее притягательности. Среди самих негров проповедники обрели уникальный престиж. Их полуграмотность, поддерживаемая страхом белых перед «учеными» неграми, и делала их скорее эмоциональными проповедниками, чем наставниками. Главным требованием служило умение пылко и красноречиво говорить, петь и лицедействовать, приправляя церемонию цитатами из Библии. Таким образом, религиозные собрания позволяли способному негру проявить качества лидера, что было невозможно где-либо еще. У прихожан же религиозные переживания никоим образом не сводились к интеллектуальному осмыслению либо формальному холодному ритуалу, но имели тенденцию проявляться самым непосредственным образом, эмоциональным, наивным и глубоко личным. Самое же главное, что религиозная община негра, принадлежа ему, а не белому человеку, заключала в себе целостность его бытия, все стороны его политической, культурной, эстетической и общественной жизни: она образовывала «народ в народе».
Все эти черты сохранились и после Гражданской войны, даже тогда, когда невидимые церкви рабов слились с более четко оформленными религиозными институтами, сложившимися в основном в среде вольных городских негров. Негритян
256
скую церковь продолжали терзать расколы, отделения и возникновение бесчисленных новых сект. Те, кто заботился о религиозной жизни американского негра, не единожды жаловались, что у него «чересчур уж много церквей». Многие из этих церквей по-прежнему страдали под пятой авторитарных пастырей — людей, реализующих таким образом свои мужские наклонности к руководству, заказанные им в иных сферах жизни их ограниченного мира. Они по-прежнему сохраняли эмоциональность и приверженность старине. Благодаря своему всеобъемлющему характеру, религиозные общины смогли помочь негру, растерявшемуся после освобождения, обрести какие-то культурные, политические, преобразовательные ориентиры, какое-то пространство для проявления самостоятельности.
Эти особенности негритянских церквей оказались особенно важными, когда негр столкнулся с ошеломившим его миром городской жизни и с новыми проявлениями дискриминации.
25.
НЕПИСАНЫЙ ЗАКОН:
ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РАБСТВА
В те же самые годы, когда в Новой Англии развивалась американская юридическая система со всеми ее принадлежностями, с юридическими школами, томами юридических прецедентов и профессиональных наставлений, жизнь южан все больше руководствовалась неписаным законом. Юридические формальности, буква закона и примечания мелким шрифтом, только крючкотворам-янки и нужны, считали южане. Крупные плантаторы вели дела без формальностей, на слово, по джентльменским соглашениям и ручательствам чести. Мало когда еще в новой истории столь крупный бизнес вершился при столь малом количестве бумаг.
Этим объясняется тот факт, что стольким вопросам об образе жизни Юга суждено навеки остаться без ответа: ответы этц унесены ветром. Парадоксально, но это же обстоятельство отражает и косность образа жизни южан, поскольку помогает понять, почему южане уверовали в его незыблемость и неизменность.
257
Становлению на Юге неписаного закона способствовало рабство. Между 1790 и 1860 годами негры в южных штатах составляли более одной трети населения. Почти все они были рабами. Количество вольных цветных не составляло и одной десятой всего негритянского населения региона. Соотношение негров и белых менялось от штата к штату. В 1850 году, например, негры составляли более половины населения Южной Каролины и Луизианы, но всего лишь около одной пятой в Теннесси и Кентукки. В целом рабовладельцы составляли лишь небольшую часть всего белого населения Юга, и лишь некоторые из них имели больше чем несколько рабов. К началу Гражданской войны рабов имели менее пяти процентов белых южан и менее одного процента этих рабовладельцев имели до сотни рабов. Тем не менее рабовладение повсеместно определяло отношения белых к неграм на Юге. Южане не ошибались, говоря, что оно определяет весь их образ жизни.
Критики рабства, особенно на Севере, видели в нем один лишь произвол. Если в своем отношении к рабу хозяин руководствовался какими-либо иными мотивами, чем страсть или корысть, северяне редко их признавали. Рабство, говорили они, есть деспотизм. Главный его порок в том, что оно делает одного человека абсолютно разнузданным в обращении с другим. Но джентльмен-южанин воспринимал рабство по-иному. С его точки зрения, отличительной чертой рабства служило вовсе не то, что хозяин-южанин получал неограниченную власть над рабочей силой, в то время как власть хозяина-северянина ограничивалась законом. Совсем напротив, южане были склонны считать, что хозяина-северянина только конкретные положения писаного закона и сдерживают, в то время как они руководствуются тонкими вездесущими «правилами чести» — всеобъемлющим неписаным законом. Не отсутствие закона, но наличие закона иного рода и отличало рабовладельческое общество от всех прочих. Южане — сторонники рабства — этим фактом и обосновывали превосходство своего общества.
Являясь всеобъемлющим, закон Юга и должен был оставаться неписаным. Это позволяло избегать путаницы и буквализма, мелочного крючкотворства людей, вечно изучающих и «улучшающих» законы, билли о правах и судебные решения. Лишь божьему суду и суду своей совести мог подвергнуть себя джентльмен-южанин, с подозрением взирающий на суд человеческий. «Он смел, совестлив и сам себе во всем опора до мозга костей, знает, в чем его долг, и следует ему, — писал
258
один из почитателей. — Долг же его Небесный Учитель воплотил в известном завете: «Господин, будь к слугам своим... справедлив и беспристрастен, ибо и у тебя есть Господь на небесах». И джентльмен-южанин выполняет этот завет с радостью. Северянину почти невозможно понять, сколь прочны узы, связующие джентльмена-южанина с принадлежащими ему слугами, и наоборот».
Так Юг обретал гуманность и милосердие, тепло и благородство, которые, как казалось, и отличали его от свободных обществ. Юг избежал скупердяйства нанимателей, выкладывавших монету своим «свободным» рабочим за каждую оказанную услугу, и бездушия нанимателей, не ожидавших никаких иных услуг, кроме записанных в контракте. Какое уж тут благородство, если каждый шаг покупается и оплачивается, если все услуги и работы приходится скрупулезно перечислять? Фабрикант-янки правил круто, с законом в одной руке и расчетной книгой в другой. Плантатор-южанин правил либерально, потому что над ним стоял тайный, неизреченный закон.
Нет, утверждали апологеты южан, более удачной формы правления для исполненного достоинства господствующего класса, чем рабовладение, ибо она сводит до минимума вмешательство государства в отношения между хозяином и слугой. Они приписывали этой системе все очевидные преимущества laissez-faire.) Но рабовладельческое общество Юга обладало рядом особенностей, еще более способствовавших сохранению неписаных законов и тем самым делавших их еще более косными, чем законы других рабовладельческих обществ.
Как ни иронично, но прежде всего речь идет о последствиях вольнолюбивого характера английского общего права. Вот вам потрясающий пример непредсказуемости вывертов юридического мышления. Английские юристы издавна похвалялись приверженностью их общего права свободе: человек считается невиновным, пока не доказано обратное; его дом — его крепость; его личные права священны; его свободу нельзя ограничивать, за исключением случаев, оправдываемых законом и конституцией, и только при соблюдении всех формальностей. На протяжении нескольких веков классическим выражением этого духа служил отказ английского права признавать институт рабства. Еще в правление королевы Елизаве-
1 Свободы действий (фр.). —Прим, перев.
259
ты I судьи отрицали право хозяина подвергать порке привезенного из России «раба», «считая, что в Англии слишком чистый воздух, чтобы им дышали рабы». Таким образом, в период начала колонизации Америки английское право не знало рабства. Этот принцип получил дальнейшее подтверждение, когда лорд Мэнсфилд в королевском лондонском суде в 1772 году отказался вынести решение о возвращении негра человеку, которому негр принадлежал по законам Ямайки и которого он привез в Англию. «Состояние рабства столь гнусно, — заявил Мэнсфилд, — что ничто не должно его поддерживать». Законы Англии поддержки рабству не оказали.
Катастрофическим следствием подобного свободолюбия оказалось то, что, когда в Британской империи распространилось рабство, не нашлось кодифицированного законодательства, способного регулировать его. Больше всего это вышло боком негру, лишив его какой бы то ни было защиты. Прочная ориентация английского права на свободу была благом в Англии, но стала проклятием негру в Америке. В Британской Вест-Индии, например, суды вынесли шокирующее заключение, «что поскольку колонии приняли общее право, а в Великобритании негритянского рабства не существует, то в законе и не может содержаться никаких положений о нем, в силу чего власть хозяина остается абсолютной, пока не будет ограничена законом». Всего лишь с небольшими уточнениями этому положению суждено было стать доминирующей юридической доктриной южных штатов, где раб имел меньше юридических прав и меньше защищался буквой закона, нежели где-либо еще среди цивилизованных народов.
Нигде в Новом Свете, например в испанских и французских колониях, раб не был настолько лишен юридических прав. Поскольку рабство давно существовало в Испании, испанские колонисты располагали готовым кодексом рабовладения. Свод законов, составленный Альфонсо Мудрым, королем Кастилии и Леона в XIII веке, который привезли с собой испанские поселенцы, регулировал порядок бракосочетания рабов, условия, на которых раб мог владеть имуществом и выкупать свободу, меры по обузданию жестокости хозяев и правила предоставления вольных. Таким образом, раб обладал юридически защищенным статусом, предполагавшим многочисленные конкретные права. Условия его услужения предопределялись законом. Нет никакого сомнения, что в глазах закона он представал личностью.
260
Эта доктрина укреплялась отказом католической церкви признавать неполноценность негра в глазах Господа. Прилагались усилия с целью привить ему христианские правила, подготовить к крещению, приучить ходить к мессе — приобщить к церкви. Церковь, как и государство, вставала меж рабом и хозяином. Отсюда следовало, что в испанских колониях по закону власть хозяина над рабом не могла быть абсолютной. Рабство представляло собою лишь разновидность найма и, подобно всем другим, контролировалось церковным и гражданским правом. История испанского права показала, что рабство могло так или иначе видоизменяться и раб мог получать дополнительные права без ущерба для собственности хозяина, создаваемой трудом раба.
Условия же, сложившиеся в южных штатах, придали рабству абсолютный характер и тот юридический примитивизм, который не был известен новой истории. Законодательные и судебные власти Юга стремились низвести раба до уровня бесправного движимого имущества. На Юг прибывали поселенцы, плохо подготовленные к встрече с институтом, столь новым для мира английского права. Не имея возможности опереться на нюансы традиционного права, они применяли единственное доступное им грубое различие — между людьми и вещами. Оказавшись перед столь упрощенным выбором, южное право предпочло отнести рабов к разряду вещей. Судя по всему, единственным спорным вопросом оставалась классификация негров по разряду либо недвижимого имущества (подобно земле), либо личного имущества (подобно скоту и мебели). Различаясь в деталях, законы южных штатов закрепляли за рабами некоторые из юридических характеристик обеих категорий.
Еще одно исторически важное обстоятельство усугубило и без того слишком упрощенный подход южан к этой проблеме. В космополитичном мире римского права, частью которого была Испания, рабство служило уделом многих народов. В Британской же Северной Америке, если не считать отдельных случаев порабощения индейцев, несущественных для экономики и полностью исчезнувших на Юге к началу XVIII века, рабство прочно отождествлялось с неграми. Итак, впервые в истории Запада статус раба совпал с расовыми различиями.
Отсюда южане пришли к убеждению, будто расовые различия сами собой оправдывали рабство. Тщательно разработанные древние законы, предназначенные для мира, в котором превратности войны или нищета могли обратить в раба кого
261
угодно, казались излишними и ненужными. «Трудность заключается в несходстве рас, — объяснял Кэлхун. — Грань между ними проведена столь явно и столь упрочена силой привычки и воспитания, что в общине, где их соотношение, как в рабовладельческих штатах, приблизительно одинаково, совместное существование невозможно ни в какой иной форме, кроме той, в которой эти расы сегодня и существуют». Когда разница между белым и негром означала разницу между свободой и рабством, особой нужды в формальных градациях прав, отличавших римские и иные законы о рабстве, не имелось. Несмотря на большое число людей смешанной крови, в южных штатах обычно признавали лишь негров (предположительно рабов) и белых (предположительно свободных). Перенося обоснование рабства на почву биологии и расовой теории, южане предавали забвению основы, выработанные греческой философией и римским правом. Тем самым они невольно подвели под свой «особый институт» самое шаткое из всех возможных обоснований.
В это фундаментальное упрощение внесла свою лепту англиканская церковь, доминировавшая в религиозной жизни Юга в колониальный период. Отрезанные от римской античности и от римско-католической умудренности в обращении с рабами и неевропейскими расами, английские священнослужители позволили религии подтвердить абсолютность южного рабства. Лишь постепенно англиканская церковь признала негра «существом, достойным крещения». Если раб не был христианином, его «брак» не мог быть таинством и, следовательно, не требовал правового оформления. По мере увеличения страха перед восстанием рабов наряду с ростом численности негритянского населения церковь не раз потакала запретам на обучение негров и предоставление им права собраний. В глазах рабовладельцев-южан их «особый институт» не мог не выглядеть статичным и хрупким. Жесткость института представлялась мерой его совершенства. Любое «вмешательство» — под чем понималась какая бы то ни была попытка ограничить права хозяина — воспринималось не иначе, как аболиционизм и изъятие у хозяина его собственности в лице раба. Кэлхун и его непоколебимые сторонники пришли к убеждению, что вопрос о рабстве — «это не только вопрос нашей свободы, но, что еще важнее (если вообще что-либо может быть важнее для свободных людей), вопрос самого нашего существования. Отношения, сложившиеся между обеими расами в рабовладельческих штатах, существуют на про
262
тяжении уже двух веков... И их не заменить никакими другими». Отношения с рабами удивительно мало изменились в период расцвета Юга.
Самой примечательной характеристикой южных законов о рабстве является их малочисленность. Существовали лишь отдельные уложения, регулирующие зависимое состояние рабов или определяющие их права. Задача составления единого кодекса законов о рабстве оказалась не по плечу колонистам южных штатов (за исключением Луизианы, унаследовавшей римское право); они лишь разрабатывали иногда отдельные положения. Не существовало ничего, что могло бы по праву именоваться кодексом законов о рабстве и сравниться с испанским законодательством, защищавшим наряду с другими подданными империи и рабов. По мере возникновения опасности южане вводили репрессивное законодательство (иногда именуемое «кодексами») временного чрезвычайного характера; в целом же свод законов о рабстве оставался скуден — самый, вероятно, неразработанный свод письменных законов, при помощи которых когда-либо в современном обществе управляли рабочей силой и регулировали наиважнейшие отношения собственности.
Не менее удивительно и то, как мало книг о рабстве было издано на Юге. Разумеется, начиная с 1830-х годов южане — юристы, проповедники, медики и политики — выдвигали массу доводов в оправдание негритянского рабства. Утверждали, что оно основывается на законах человеческой натуры, биологии, богословия, Библии и навеки находится под защитой общего права и федеральной Конституции. Однако почти никаких солидных трудов по повседневному законодательству о рабстве эта аргументация не породила. За крайне редкими исключениями, подобные труды приходили с Севера. Джон Кодмэн Херд, автор «Законодательства о свободе и кабальном рабстве в Соединенных Штатах» (1858, 1862), основополагающего труда по американскому законодательству о рабстве, был Уроженцем Бостона, получившим образование в Колумбийском и Йейлском университетах, профессиональная деятельность которого распространялась на Бостон и Нью-Йорк. Некоторые северяне, подобно Джорджу М. Страуду из Филадельфии и Уильяму Гуделлу из Нью-Йорка, писали аболиционистские трактаты, изложенные в форме трудов по Юриспруденции. Другие, как Джейкоб Д. Уилер из Нью-Йорка, безразличные к реформам, предлагали целые сборники судеб
263
ных решений. Примечателен факт, что юристы-южане по этому важному вопросу написали так мало.
Это странное явление в обществе, похвалявшемся тем, что оно основано на рабстве, отчасти объясняется другой странностью (часто отмечаемой самими южанами): глубоким несоответствием между буквой закона — то есть немногими существовавшими письменными законами — и реальным положением дел. Южанам — защитникам «особого института» — трудно было оспаривать суровый характер существовавшего у них законодательства. Но они упорно напоминали о том, что на деле Юг живет по иному закону — неписаному. Те немногие юридические труды, что были изданы на Юге, сами и предостерегали от ошибочного восприятия законов как истинного описания южного образа жизни. «Рабство здесь модифицировалось настолько, — предупреждал Томас Кобб из Джорджии, чей труд «К вопросу о правовых основах негритянского рабства» (1858) был наиболее подробным и компетентным из всех изданных на Юге, — отчасти в силу законов природы, отчасти в силу сложившейся практики, но еще в большей степени под воздействием цивилизации и христианского просвещения, что зачастую нелегко проследить сугубо правовые источники многих охранительных барьеров, отрицание существования которых привело бы в смятение просвещенное общественное мнение». Первым «законом» рабовладения, как настоятельно утверждали судья Джон Белтон О’Нил из Южной Каролины и другие выдающиеся южане, «является доброта хозяина по отношению к рабу... рабство перерастает в семейные отношения, приближаясь по характеру к привязанности родителей и детей».
Как отмечали даже враждебно настроенные наблюдатели, жесткие формальные законы не находили строгого и пунктуального воплощения на практике. Многие из них, принятые в моменты страха и под влиянием истерии, сохранялись по инерции, на случай возможного возникновения чрезвычайных обстоятельств в будущем. Пожалуй, никогда ни раньше, ни позже — за исключением современных тоталитарных государств — формальные законы не применялись столь произвольно, волюнтаристски и непредсказуемо. И хотя южане доказывали, что именно подобное отношение сделало возможным улучшение условий жизни рабов, на деле отступления от буквы закона лишь ухудшали положение негров по сравнению с тем, что закон предусматривал.
264
Неоспоримо, однако, утверждение, что несоответствие между законом и практикой царило повсеместно. «Закон накладывает на негров суровейшие ограничения, которые в реальной действительности не соблюдаются», — отмечал в 1835 году путешественник-янки. Южане справедливо считали, что представления о жизни Юга, почерпнутые аболиционистами из юридической литературы, истинному положению дел не соответствуют. Мы уже отмечали попустительство, с которым хозяева относились к несоблюдению запретов на религиозные собрания негров. Можно привести и многие иные примеры. Законы, учреждавшие «патрулирование» — местное ополчение, контролировавшее передвижения негров, — звучали грозно, но в спокойные времена выполнялись спустя рукава. Суды наставляли патрульных «не принимать во внимание безобидные проступки и мелкие отступления от буквы закона». В целом законы возбраняли неграм заниматься торговлей и приобретать в собственность лошадей, суда, огнестрельное оружие и любое иное имущество, которое могло быть использовано для побега или восстания. Но и на эти уточнения смотрели сквозь пальцы, чтобы выжать из рабов больше пользы для хозяев или приспособить к полезному делу. Многочисленные цензы возбраняли обучение негров чтению и письму. Законы Южной Каролины, повсеместно принимаемые как пример для подражания, еще в 1740 году предусматривали штраф в 100 фунтов стерлингов за каждое правонарушение подобного рода. Юридические санкции в этой области были ужесточены наряду с введением дополнительного законодательства с целью борьбы против аболиционистской литературы. Но в 1857 году не симпатизирующий южанам шотландский путешественник отмечал, что в Ричмонде почти всех детей рабов обучают чтению; что в Колумбии, штат Южная Каролина, человек двадцать-тридцать негров зарабатывают по доллару в месяц, обучая чтению собратьев-рабов; что белые обучают грамоте негров прямо в коридорах его отеля.
«Неправомочность раба вступать в контрактные отношения, — разъяснял Кобб в «Правовых основах негритянского рабства», — распространяется и на заключение брачного контракта, что и делает невозможным признание брачных отношений между неграми в глазах закона». Но и здесь реальность была совершенно иной. Сложилось множество способов признания брачных отношений между неграми. Вошло в обычай приглашать для брачных обрядов негритянских или белых
265
проповедников, за чем иногда следовало пиршество, на котором вручались подарки от хозяев и других гостей.
Таким образом, идеализация Югом своего неписаного закона как явления, цементирующего общество и облагораживающего его институты, становилась неизбежной. Именно потому, что закон был не писан, он казался и не поддающимся никаким изменениям. Неписаный закон не просто правил Югом — он правил им тиранически. Подобно тому как до этого было с квакерами, южане не допускали никаких компромиссов из боязни потерять все: как квакеры жили по неписаному богословию, так южане жили по неписаному гражданскому праву — оба кодекса были жесткими и незыблемыми.
26.
КАК ДЖЕНТЛЬМЕН-ЮЖАНИН СТАЛ НЕВОЛЬНИКОМ ЧЕСТИ
Виргинец Томас Джефферсон закончил Декларацию независимости пылкой клятвой почитать «нашей священной честью» отстаивание конституционных прав Британской Америки. В 1830 году джентльмены-южане трансформировали свой кодекс чести в явление куда более личного характера. В общении с равными себе, как и в общении с низшими, джентльмену-южанину не надлежало руководствоваться буквой закона. Однако было бы неверным считать, что он вообще был свободен от повиновения закону, ибо должен был следовать закону неписаному, столь же скрупулезному в своих нормах, сколь они были расплывчаты, столь же неотступно требовательному в соблюдении нюансов, сколь они были неуловимы. Как сложился подобный кодекс и чем завоевал добровольное, но раболепное повиновение, и является предметом рассмотрения настоящей главы.
Неписаный закон — закон милосердия и совести — должен был соответствовать закону писаному, устанавливающему отношения между хозяином и рабом. Среди равных же неписаный закон, именуемый «кодексом чести», применялся куда шире и куда строже. От джентльменов-южан, повиновавшихся кодексу, требовалось улаживать серьезные конфликты между собой не только вне норм писаного закона, но и с вопиющим нарушением оных. В основе кодекса чести лежала дуэль. Апологеты южного образа жизни вполне справедливо именовали дуэль пробным камнем южной морали, ибо дуэль показывала, за что готовы рис
266
ковать жизнью столпы общества. Дуэль дает нам возможность понять критерии их мужества, отваги и порядочности.
Дуэль в жизни Юга приобретает особую значимость еще и потому, что она была совершенно определенно запрещена официальным законодательством. Законы всех южных штатов начала XIX века недвусмысленно запрещали дуэль конкретным и жестким образом. Северная Каролина (актом от 1802 года) предусматривала за дуэль смертную казнь. В Южной Каролине акт от 1812 года предусматривал год тюремного заключения и штраф в 2000 долларов для всех участников дуэли, включая секундантов; уцелевший же на дуэли'считался виновным в убийстве. Дуэлянты автоматически отстранялись от практики в юриспруденции, медицине, богословии и не допускались к занятию общественных должностей. В ряде штатов — в Алабаме, например, — от членов законодательного собрания и других должностных лиц требовалась присяга в том, что они никогда не дрались на дуэли сами и не участвовали в дуэлях ни в качестве секундантов, ни в какой-либо иной роли.
Однако дуэль все же не имела глубоких исторических корней на Юге. На протяжении колониального периода дуэли вообще редко случались в Британской Америке, включая и Юг. Во всех колониях сохранились документальные свидетельства лишь о десятке дуэлей за полтора века, с основания Джеймстауна до начала Революции. Общественное мнение колоний, как правило, порицало дуэли, и в те времена джентльмен-виргинец мог отмахнуться от вызова, не потеряв лица. Те же, кто бросал вызов, сами иногда подвергались законному наказанию. На тех немногочисленных дуэлях, которые имели место, в основном дрались военные.
Дуэли получили широкое распространение лишь во время Американской революции. Обладавшие развитым чувством кастовости европейские офицеры — британские, немецкие, французские, — отправившиеся воевать на Гражданскую войну, привезли с собой рыцарские традиции личного поединка за честь джентльмена. Юные аристократы, служившие у Рошамбо и Де Грасса, предпочитали дуэль как средство разрешения определенных разногласий. Есть сведения, что Лафайет искал поединка с графом Карлайлем, посланным британцами для мирных переговоров. Позже, уже после Французской революции и падения Бонапарта, французские эмигранты принесли в Новый Орлеан «дуэльный ренессанс и иные острые жизненные ощущения», как выразился один житель Луизианы.
267
Дуэль обрела характерный для Америки размах в период между Революцией и Гражданской войной. На дуэлях дрались во всех концах страны. Менее чем через год после того, как Баттон Гуиннетт поставил свою подпись под Декларацией независимости, он был убит на дуэли в Джорджии (в результате чего резко поднялись цены на его автографы). Самую дурную славу стяжал поединок между Аароном Бэрром и Александром Гамильтоном Юиюля 1804 года на холмах Уихокен в Нью-Джерси, в котором Гамильтон был убит—на том же самом месте, где погиб на дуэли его сын Филипп тремя годами ранее. Поединок Бэрра и Гамильтона побудил президента Йейлского университета Тимоти Дуайта выступить перед своими студентами с проповедью, осуждающей дуэли (9 сентября 1804 года), и способствовал росту движения против дуэлей наряду с другими преобразовательными устремлениями на Севере. Одновременно на Юге дуэли прижились прочнее, чем где-либо, и были распространены еще долго после Гражданской войны.
Трудно найти хотя бы одного из государственных деятелей Юга, получившего известность после 1790 года, кто не участвовал бы в дуэлях. Ибо хотя дуэли и запрещались законом, дела по ним возбуждались крайне редко, и достоверных статистических данных для обоснованных выводов нет. Многочисленные известные нам поединки составляют лишь малую часть имевших место. Эндрю Джексон, Генри Клей, Джон Рэндолф из Роанока, Джефферсон Дейвис, Александр Стивенс, Джудас Бенджамин, У. Янси и Сэм Хьюстон — всем им приходилось в свое время бросать либо принимать вызов, а большинству из них даже не однократно.
История Юга того периода полна дуэльными драмами с выдающимися личностями в главных ролях. Например: поединок Генри Клея с Хэмфри Маршаллом (19 января 1809 года) и с Джоном Рэндолфом из Роанока (8 апреля 1826 года); Джеймса Бэррона с коммодором Стивеном Декатуром (22 марта 1820 года в Блейденсбурге, Мэриленд), в котором Декатур был убит; Томаса Харта Бентона с Чарлзом Лукасом (27 сентября 1817 года в Сент-Луисе), в котором погиб Лукас; губернатора Луизианы Уильяма Клейборна с Дэниелом Кларком (летом 1807 года в Новом Орлеане); Эдмунда Флэгга с редактором газеты «Сенти-нел» города Виксбурга, штат Виргиния (1840); Эдвина Форреста, актера, с Джеймсом Колдуэллом (1824, в Новом Орлеане; Колдуэлл вызова не принял); генерала Натана Бедфорда Форреста (принесшего извинения после получения вызова); губернатора Южной Каролины Джеймса Гамильтона, дравшегося,
268
как говорят, четырнадцать раз и всегда наносившего ранения противнику; Роджера Хэнсона из Кентукки, впоследствии генерала армии конфедератов; конгрессмена от Джорджии Джорджа Макдаффи с конгрессменом от Джорджии Уильямом Каммингом (1822, Вашингтон), а также с конгрессменом от Кентукки Томасом Меткалфом и с конгрессменом Джозефом Вэнсом от Огайо (уклонившимся от дуэли); конгрессмена от Северной Каролины Ричарда Спейта с конгрессменом от Северной Каролины Д жоном Стэнли (1802). И десятки других.
Под сеныо дуэлей разрешались обычно памятные конфликты общественной жизни Юга. Генерал-майор (впоследствии президент) Эндрю Джексон сошелся в поединке с Чарлзом Дикинсоном из Нашвилла, красавцем юристом, спортсменом и душою общества. Это произошло 30 мая 1806 года в Логан-Каунти, Кентукки, на самой границе штата (которую перешли, дабы избежать нарушения законов штата Теннесси). За этим поединком стояли политическое соперничество (Джексон уже успел побывать судьей апелляционного суда штата Теннесси и членом конгресса), честь дамы, любовь к лошадям и прочая атрибутика южного рыцарства. Сомнительное поведение Джексона в этой дуэли — он спустил курок второй раз после осечки — припоминалось ему на протяжении всей последующей политической жизни. Поводом для дуэли Генри Клея с Хэмфри Маршаллом послужили нападки Маршалла на «демагогию» Клея в поддержку мер, принятых законодательным собранием Кентукки и направленных на защиту промышленников; оба дуэлянта получили легкие ранения, но в результате Клей три недели не участвовал в работе законодательного собрания, что позволило потом его сторонникам выставлять его героем, который «дрался и пролил кровь за политику протекционизма, впервые выступив в ее защиту». Именно вызов, посланный Джудасом Бенджамином Джефферсону Дейвису, прибегнувшему в дискуссии к недостойным выражениям (Дейвис отказался драться, принеся публичные извинения), позволил Дейвису высоко оценить моральные качества Бенджамина и положил начало их тесному политическому сотрудничеству.
Отдельные факты позволяют понять, как широко прижились дуэли среди лидеров Юга и с какой готовностью их прощало и восторгалось ими общественное мнение. В Алабаме, например, генеральная ассамблея приняла в 1841 году специальные акты, освобождая тринадцать поименованных в них граждан от присяги, подтверждающей их неучастие в дуэлях. На протяжении последующих шести лет в Алабаме принимались
269
по меньшей мере еще два таких акта. «Счет дуэлям, — вспоминала дама из Нового Орлеана, — велся, как счет предложениям, сделанным девушке на выданье». На счету некоторых было до полусотни дуэлей. Один человек дрался с собственным шурином, другой назначил поединок на тот же день, что и его сын. Одним воскресным днем 1839 года только в Новом Орлеане состоялось десять поединков. Много могильных камней на его старом городском кладбище было украшено словами: «Пал на поле чести».
О частоте проведения поединков свидетельствуют также детальность и обилие установленных правил. Наиболее популярным справочником служил «Кодекс чести, или Правила поведения участников поединков и их секундантов» (1838), принадлежавший перу губернатора Южной Каролины Джону Лайду Уилсону и выдержавший несколько изданий — последнее вышло в свет в 1858 году. Жители Луизианы предпочитали пользоваться более скрупулезными «двадцатью шестью заповедями» дуэлянтов, составленными Джоном Макдоналдом Тэйлором из Нового Орлеана. В различных районах страны было в обычае и различное оружие: шпаги в Луизиане, пистолеты в Кентукки. Истинный джентльмен руководствовался правилами дуэльного этикета: вызов должен быть составлен «изысканным языком», без порочащих и оскорбительных эпитетов; вызов от неджентльмена не принимался; все полномочия по организации дуэли в полной мере передавались секунданту. Кодекс почитался до тончайших нюансов. В 1806 году секунданты обеих сторон подписали следующий формальный договор об условиях поединка между Джексоном и Дикинсоном:
Согласно договоренности, дистанция устанавливается в 24 фута, причем стороны должны стоять лицом друг к другу, держать пистолеты опущенными перпендикулярно к земле. Когда оба будут готовы, дается сигнал одним словом «огонь», по которому оба сразу же могут открывать огонь по своему усмотрению. Если же один из участников выстрелит раньше, чем будет подана команда, мы обязуемся немедленно застрелить его. Человек, подающий команду, будет определен жеребьевкой, равно как и выбор позиции. Вышеуказанные правила совместно приняты нами в защиту чести генерала Эндрю Джексона и Чарлза Дикинсона, эсквайра.
Еще в одном случае, получив вызов от человека, которого он «знал как неджентльмена», Эндрю Джексон принять вызов отказался, но предложил все же отправиться в любой «уединенный лесок» и стреляться там неофициально, оговорив, что этот поединок не будет считаться джентльменской дуэлью. Когда
270
Джеймс Гамильтон-младший, известный дуэлянт, одно время бывший губернатором Южной Каролины, выступал однажды в роли секунданта, он запретил дерущемуся — конгрессмену от Джорджии Джоржу Макдаффи — его дуэль с конгрессменом от Кентукки Томасом Меткалфом, поскольку последний нарушил дуэльный кодекс, выбрав винтовки.
Стилизованную церемонию правильной южной дуэли между двумя джентльменами не следует путать с заурядной «скандальной перестрелкой» (американизм, впервые зафиксированный в 1831 году) — привычным в те времена явлением во всех концах страны. На недавно заселенных западных землях Юга — в Арканзасе, Алабаме, Миссисипи, в горах Теннесси и Кентукки, — как и среди простонародья старого Юга, существовала склонность к неформальному выяснению отношений. Те же законы, что запрещали формальные дуэли, зачастую запрещали и менее формальные дела чести. Например, законы, принятые в Алабаме в 1837 году (запрещавшие дуэли в целом), предусматривали, в частности, наказание за ношение или применение своего рода бедняцкой шпаги, «известной как охотничий нож Боуи, или арканзасская зубочистка». Целый мир лежал между тщательно разработанным ритуалом поединка двух южных джентльменов и внезапным взрывом страстей бездумно хватавшихся за револьверы обитателей Запада, но признаки дуэльных формальностей нередко проявлялись и здесь. В своих «Сценках из Джорджии» (1835) Огастес Лонгстрит вспоминает стычку, в которой соперники, дравшиеся лишь голыми руками и зубами (откусив ухо, кусок щеки и палец), закончили тем, что смыли кровь, пожали друг другу руки и, подобно джентльменам, только что дравшимся на дуэли, признали возникшие между ними разногласия ^счерпанными.
Человек зачастую дрался на дуэли за нечто более эфемерное, нежели его законные права. Ибо «фатальный обычай» Юга существовал не для отмщения за убийство или для защиты жизни и собственности, а ради поддержания «доброго имени». Дуэли в обиходе именовались «делами чести», а место дуэли — «полем чести», но слово «честь» выступало здесь лишь синонимом репутации. «Кодекс чести» Уилсона гласил, что хорошая репутация куда важнее самой жизни. Одним лишь решением Драться на дуэли человек показывал, что ценит мнение о себе Других джентльменов больше, чем жизнь или юридические права. «Клеветнический язык злопыхателя, гнусными сплетнями и интриганскими наветами подрывающий репутацию» — вот страшнейшее зло, против которого единственным достойным
271
щитом джентльмена была дуэль. «Клеветник... хуже убийцы», — заявлял Эндрю Джексон и признавал тщетность всех попыток запретить дуэли, пока общество не изыщет иного способа «выразить неодобрение» клеветнику. Лишь когда Дикинсон публично назвал Джексона «никчемным негодяем, отъявленным трусом и заячьей душонкой», Джексон послал ему вызов. Почти все известные нам дуэли проистекали из оскорблений, высказанных устно или письменно.
Таким образом, дуэль служила ритуалом, посредством которого джентльмен добивался доброго мнения общины, или, скорее, мнения равных себе, в обиходе именуемым «кодексом чести». Выражением такого же отношения служила военная традиция чести, олицетворяемая рыцарским духом Джорджа Вашингтона, Эндрю Джексона и Роберта Ли и сохранившаяся в период между войнами во многих мелких военных училищах Юга. Порождением той же эпохи стал так называемый «экзамен чести». В 1842 году Генри Сент-Джордж Таккер, возглавлявший верховный суд Виргинии, прежде чем стать профессором права и главою преподавательского состава Виргинского университета, ввел этот обычай в американскую жизнь. Вскоре он повсеместно прижился как на Юге, так и в других районах страны.
«Честь», стоявшая за всем этим, не поддавалась простому объяснению для посторонних, что и составило одну из ее наиболее важных характеристик. «Эта честь, — замечал северянин Фредерик Ло Олмстед, — вряд ли превышает стандартный уровень чувств и действий, который должен быть привычен для человека, дабы позволить ему считать себя джентльменом». «Честью» был назван очевидный парадокс, заключавшийся в том, что джентльмены-южане, афишируя на протяжении трех десятилетий, предшествовавших Гражданской войне, высокомерное безразличие к «общественному мнению» и мнению всего мира, больше всего на свете уважали свою репутацию на родине и доброе о себе мнение таких же джентльменов-южан, как они сами. «Для тех, чей Бог — честь, бесчестье — единственный грех». Если раб общественного мнения подвластен суждениям прессы и ропоту низкой толпы, объясняли они, то джентльмен, человек чести, руководствуется негласными нормами поведения, принятыми среди людей, равных ему. Правила кодекса чести, присущие устоявшемуся образу жизни, нельзя было толком ни выучить, ни преподать, ни тем паче почерпнуть из книг. Их
272
можно было лишь унаследовать, либо уловить в окружающей атмосфере. Этот кодекс отличался всем, чем только мог, от становившихся все более формальными и все более профессиональными законов Новой Англии. Дух его был также совершенно иным, нежели в кочевых общинах и новых городах, где приоритетное право заявочных клубов устанавливалось но-вопришельцами и где приисковые добровольцы вершили суд при всем честном народе.
Кодекс чести джентльмена-южанина — при всех детально разработанных правилах дуэльных справочников — надо было усваивать с молоком матери; он был доступен лишь посвященным. Письменных инструкций, как стать джентльменом, не существовало. Таким образом, важнейшие законы Юга, основные и требующие неуклонного выполнения, произросли на его собственной почве с его «особым институтом». Подобные мистические эманации не отразишь в юридической литературе, не объяснишь доходчиво янки, иммигрантам или иностранцам.
Мистика чести, таким образом, подразумевала веру в неизменность общества. Вера южан в неписаный закон, проявляемая в их отношении к рабству, дуэли и многому другому, выражала веру в стабильность — даже незыблемость — южного образа жизни. Не во власти человека творить либо изменять неписаный закон. Как ни странно, его соблюдения и не приходилось добиваться, за исключением особых и крайних случаев, ибо он выражал лишь то, как в действительности функционировала община. И среди джентльменов-южан «честь» превратилась не столько в идеал, к которому они стремились, сколько в способ идеализации их обычного поведения.
27.
МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Кажущееся соответствие действительного должному проистекало из представлений о бесконфликтности общества.
«В силу величайшего разнообразия интересов в свободных штатах, — отмечал в 1860 году южанин, — общественные деятели не задерживаются там долго на своих постах, без чего государственному деятелю никак не добиться успеха в своих свершениях. Существуй на Севере один над всем доминирующий интерес — не важно какой, но всегда способный получить всеобщую поддержку, — очень скоро его общественные
273
деятели во многом изменились бы к лучшему». Политическая жизнь Севера, раздираемая противоречиями, не привлекала более «избранные души», то есть тех, кто стремился вести безукоризненный образ жизни, подобающий джентльмену. Невзирая на существующую раздробленность жизни Юга, южане проявляли все большее нежелание замечать противоречия и рассматривать свой край как лабораторию для создания новых институтов или новых общин. «Все это лежит за пределами понимания южанина, — отмечал в 1854 году Олмстед. — Он воспринимает те институты, манеры и обычаи, в которых воспитан, как естественную необходимость, ниспосланную ему Провидением. Он хранит верность обществу; попытки же чем-то обогатить жизнь общества или от чего-нибудь избавить противоречат его фундаментальным представлениям о том, что есть джентльмен».
В Новой Англии острое осознание противоречивых интересов породило активную преобразовательную деятельность. Складывались бесчисленные общества, движения за налоговую и тюремную реформы; за спасение моряков и учреждение воскресных школ; за трезвость и десятичасовой рабочий день; против долговых тюрем и смертной казни, против банков и монополий; за бесплатное образование; за освобождение негров; за права женщин и мир во всем мире — и за многое другое, большое и малое. Объединенный съезд друзей универсальной реформы собрал в 1840 году в Бостоне под одной крышей феминисток, аболиционистов, членов сект маггелтонов и данкеров, адвентистов седьмого дня, унитариев и некоторых членов сект, к которым, кроме них, никто не принадлежал. Также в те годы повсеместно возникали всякого рода экспериментальные общины: «Новая гармония» в Индиане (1825); Брук-Фарм в Массачусетсе (1841—1846); «Фаланга Сильвания» в Пенсильвании (1842); «Колония свободной любви Онейда» в штате Нью-Йорк (1848); «Современная деревня» на Лонг-Айленде (1851); икарий-ские общины в Техасе (1848), Иллинойсе (1849), Миссури (1856), Айове (1857) и многие другие.
Еще в 1830-х годах отзвуки реформистских настроений звучали южнее реки Потомак — в исторической дискуссии об отмене рабства, проводимой зимой 1831/32 года законодательным собранием Виргинии, например. Но тогда; как мы видели, южане — сторонники рабства выдвинули изощренную аргументацию, а с основанием в 1833 году в Филадельфии Американского антирабовладельческого общества, с проведением дискуссии 1834 года в семинарии Лейна в Цинциннати и с
274
трансформацией аболиционизма в широкое обновленное религиозное движение под покровительством Теодора Дуайта Уэлда, Уильяма Ллойда Гаррисона и Уэнделла Филлипса сопротивление южан ужесточилось. Южане создали то, что Клемент Итон назвал «интеллектуальной блокадой». Преподобный Чарлз Колкок Джоунз из Райсборо, штат Джорджия, писал в 1842 году:
Ввиду возбуждения озабоченности на Севере и Западе общим состоянием негров Юг стал более чутким. Необходимость вынудила нас занять оборонительную позицию, и сила наша проистекает из нашего единства. Потому наш общественный разум и не дремлет, храня постоянную бдительность, чтобы суметь заметить любые чувства и мнения, враждебные нашему общественному строю, приходящие извне или зарождающиеся изнутри. Ведется меньше дискуссий и с меньшей свободой, чем в былые дни. То, что мы были готовы терпеть у самих себя раньше, ныне терпится с трудом. Теперь человек рискует утратить общественную поддержку, если его откровенные выступления и призывы, имеющие целью принести пользу своему краю, жадно подхватываются, извращаются и используются для обвинений извне. Ему приходится лавировать между Сциллой и Харибдой.
Как клир, так и пресса вынюхивали малейшие проявления социальной критики. По гордому замечанию Уильяма Вудса Холдена (превратившего свою «Норт Кэролайна стэндед» в самую влиятельную газету штата), южное «единство отвергает все «измы», заразившие Европу, а также восточные и западные штаты нашей страны»: «Газетам, приверженным делу социализма, социального равенства, нигилизма, коммунизма или проявляющим нелояльность в любой форме, не выжить в атмосфере Северной Каролины». Когда в 1836 году Ангелина Гримке опубликовала в Филадельфии антирабовладельческую статью, мэр Чарлстона поставил в известность ее проживавшую в Чарлстоне аристократическую семью, что возвращение в город ей запрещено. На Юге не получила широкого распространения даже такая сдержанно критическая литература, как произведения Ралфа Уолдо Эмерсона.
Местные почтмейстеры мешками уничтожали аболиционистскую пропаганду, и создание препятствий работе федеральной почты (во имя «общественной безопасности») служило оплотом самодовольства южан. Джозеф Холт, юрист из Кентукки, министр связи в правительстве Бьюкенена, санкционировал (1859) решение властей Виргинии, запрещавшее пересылку почтой аболиционистской литературы. Его брат, Р. Холт, также пылкий патриот Юга, спрашивал, не наносит ли урона «рыцар
275
ской чести южанина» импорт льда из северных штатов для излюбленных на Юге мятных коктейлей.
Яростный защитник «особого института» Джордж Фицхью посвятил целую главу своего труда «Все каннибалы!» (1857): «Философии измов — почему они изобилуют на Севере и неизвестны на Юге». Автор выдвинул обезоруживающе простой резон: Север-де куда больше нуждается в реформах, в то время как Юг, благословленный рабством, не знает тех самых пороков, которые вызывают потребность в реформах. Реформы, писал он, подобно общественной филантропии, были столь же лишними на Юге, сколь необходимыми на Севере.
Единственным «измом», встречавшим какой-то отклик на Юге, был наименее радикальный из всех: антиалкоголизм. На протяжении тридцати с лишним лет до Гражданской войны движение за трезвость было единственной «реформой», сумевшей привлечь хотя бы небольшую группу ведущих граждан Юга. Предшественник Кэлхуна в сенате Роберт Барнуэлл Ретт из Южной Каролины, которого иногда называли «отцом сепаратизма», а также губернатор Виргинии, впоследствии генерал армии конфедератов, Генри Уайз были известными трезвенниками и сторонниками сухого закона. В 1839 году Джозеф Флоурной, богатый плантатор из Джорджии, собирал по всему штату подписи под огромной петицией о введении сухого закона, получившей в законодательном собрании внушительное число голосов — пятьдесят четыре против девяноста восьми, отклонивших законопроект. В 1851 году общество «Сыны трезвости» в Джорджии заявило, что в его рядах состоит тринадцать тысяч человек. Генерал Джон Кок из Бремо, штат Виргиния, состоятельный плантатор из почтенной семьи, на протяжении тридцати трех лет направлявший деятельность совета попечителей Виргинского университета, возглавил кампанию за введение федерального сухого закона и был в 1836 году избран президентом Американского общества трезвости.
Некоторые южане считали, что «образ жизни на природе и в седле», присущий джентльмену-южанину, объяснял его «здоровое», некритическое восприятие своего общества. Перенаселенные города Севера, утверждали они, создают естественную среду обитания для подстрекателей и истеричных реформаторов. Неудивительно, что движение по распространению знаний, основанное Джосайей Холбруком в Милбери, штат Массачусетс, в 1826 году и имевшее два года спустя около 100 отделений, на Юге не прижилось. Южная аудитория не приветствовала полемические лекции, предлагавшиеся широкой публике лекцион
276
ным обществом в Бостоне, Институтом Франклина в Филадельфии, колледжем «Купер-Юнион» в Нью-Йорке и бесчисленным количеством иных организаций по всей стране.
Ограждению Юга от чуждых подстрекательских идей способствовало и отсутствие существенной европейской иммиграции. В Новой Англии заимствованные доктрины немецкого трансцендентализма и восточного мистицизма стали родоначальниками различных реформаторских идей. Немецкое политическое мышление в лице Карла Шурца способствовало возникновению на Западе республиканской партии. Юг же подобных заимствований почти не знал. Заметным исключением из правила служил Фрэнсис Либер, бежавший от политических преследований (1819—1824) из Германии. Либер преподавал в колледже Южной Каролины, но, несмотря на мировое признание, не смог добиться избрания на пост президента колледжа, ибо вызывал подозрения своими аболиционистскими настроениями. Одной из наиболее «европейских» черт облика Юга была его тенденция черпать идеи не у честолюбивых иммигрантов или разочаровавшихся революционеров, но со страниц безвредных книжонок. Непосредственному проникновению идей из Европы препятствовало и то, что основные железные дороги Верхнего Юга шли от портов прямо на Север, а не в глубь южных районов. Поскольку импорт на Юг шел в основном через Север, реформаторские идеи вряд ли могли доходить до него в неискаженном виде, если доходили вообще. На Север реформистские идеи из Европы попадали фрагментарно, но Юга они достигали уже в виде четко сформулированных концепцией, включавших аболиционизм. Таким образом, на всех реформах стояло клеймо янки.
Между тем на Севере и Западе начало XIX века ознаменовалось расширением избирательного права и становлением массовых политических партий. В политической жизни страны эпоха «виргинской династии» — Вашингтона, Джефферсона, Мэдисона и Монро — продолжалась лишь до 1825 года; имущественный ценз для участия в выборах тогда еще сохранялся. Нью-Джерси (1807) и Мэриленд (1810) сняли имущественные цензы, но всеобщее избирательное право для белого мужского населения стало повсеместным лишь с принятием в Союз новых западных штатов (Индианы в 1816 году, Иллинойса в 1818-м, Алабамы в 1819-м). Постепенно демократическое движение взяло верх в густонаселенных штатах Коннектикут (1818), Массачусетс (1821) и Нью-Йорк (1821) и набирало силу с пересмотром конституций ряда других штатов (1816 —1830). К1830 году чис
277
ло имеющих право голоса возросло вдвое по сравнению с тем, что было десять лет назад. Новыми формами массовой политической жизни стали национальные партийные съезды, шумные избирательные кампании городских политических боссов; формировалось политическое управление на местах и умение вырабатывать политические компромиссы.
На однородном же Юге, где, как предполагалось, все люди доброй воли имели одинаковые интересы, искусству компромисса, как и выработке политического курса, привлекательного для масс, столь важного значения не придавалось. Начиная с колониального периода человек мог достичь в палате представителей Виргинии политической власти, не вступая в конфликт ни с одной представляющей чьи-то интересы сильной группой: крупные и более красноречивые плантаторы просто представляли плантаторов помельче и менее красноречивых. «Они пытались добиваться своего, идя скорее параллельными курсами, нежели разрешая конфликты», — отмечал Ч.С. Сиднор. Почти каждый белый был занят в сельском хозяйстве; плантаторы отличались лишь масштабом, но не родом деятельности. Палата представителей функционировала скорее как торговая ассоциация, чем как законодательный орган развитой многогранной общины. Так закладывались основы общества, ценившего верность и честь, но почти не владевшего искусством компромисса.
Более того, компромисс стал ассоциироваться с бесчестьем. Ибо честь, подобно целомудрию, не могла устанавливаться на договорных уровнях. Начиная с 1830 года все возрастающая приверженность джентльмена-южанина своему кодексу, подобно приверженности квакера чистоте помыслов и совести, служила росту непонимания и даже пренебрежения искусством политики. Бенджамин Перри, редактор газеты в Южной Каролине, заявлял в 1860 году: «Все вы ныне катитесь в ад, и я качусь вместе с вами. Честь и патриотизм обязывают меня стоять за мой штат, прав он или не прав». Каким-то странным образом его слова заставляют вспомнить мученицу из квакеров Мэри Дайер.
Бесконфликтность патриархального общества Юга стала аксиомой. Что на пользу хозяину, то на пользу и рабу; антагонизм же интересов, будь то между негром и белым либо посредником и плантатором, — это всего лишь измышление пропаганды Севера. Коль скоро не существовало достойных уважения «особых интересов», то каждый честный политик Юга рассматривался как государственный деятель, представлявший всю свою общину. Инакомыслие постепенно приравнялось к измене, малейший же намек на измену требовал защиты
278
чести. Открытый политический форум, на котором противоречия так никогда и не находили окончательных решений, мог только вытеснить патриотизм — добродетель простую и непорочную. Подразумевалось, что серьезным разногласиям надлежит «разрешаться на поле чести», где кодекс каким-то образом признавал правыми обе стороны. В итоге Гражданская война обратила в «поле чести» всю страну. Южане, провозглашал Александр Стивенс, будущий вице-президент конфедерации, должны отстаивать свои права «в самых тяжелых условиях, даже если на карту не ставится ничего, кроме их чести». Малейший «булавочный укол», нанесенный чести Юга, заявил в 1856 году губернатор Виргинии Уайз, оправдает разрушение любимого всеми Союза. С точки зрения южан, Гражданская война велась не столько ради решения проблем, сколько ради того, чтобы отомстить за оскорбленную честь.
Беды, переживаемые газетчиками-южанами, служат хорошей иллюстрацией этого бескомпромиссного духа политической жизни Юга. Газетчик, желавший остаться в живых, должен был тщательно выбирать выражения. Поскольку искать судебной защиты от клеветы считалось не по-мужски, газетчику всегда приходилось быть готовым отстаивать свою точку зрения с пером в одной руке и дуэльным пистолетом в другой. В 1832 году, например, Бенджамин Перри, издававший газету «Маунтини-ер» в городе Гринвилле, выступил против решения властей Южной Каролины не признавать федерального законодательства и призвал к компромиссу, за что и был вызван на дуэль Тернером Байнумом, редактором конкурирующей с ним газеты «Сентинел». Байнум, по словам Перри, был «лицемерным демагогом и иезуитом-клеветником, патриотизм которого сводился к эгоистическим декларациям, а все рыцарство ушло в слова». Утром 6 ав1уста 1832 года их секунданты отсчитали дистанцию в небольшом лесу на острове реки Тугалу, где Перри очень неохотно встретился с Байнумом на «поле чести» и, убив его, закрыл вопрос. Еще пример: редактор издававшейся в Батон-Руже «Гэзетт» Дж. Хьюстон как-то упрекнул демократов за выдвижение ими в конгресс Элси Лабранша (одного из немногих общественных деятелей Луизианы, никогда не дравшегося на Дуэлях), заявив, что тот «лишен мужества и силы духа». Затем Последовала дуэль, в которой Лабранш отстоял свою честь, а Хьюстон расстался с жизнью. Еще до войны на протяжении двух лет редактор ричмондского «Инквайерера» Дженнингс Уайз Дрался в восьми поединках.
279
После 1830 года апологеты Юга похвалялись своей свободой от «общественного мнения», будто мнение это было болезнью. И на протяжении трех десятилетий, предшествовавших Гражданской войне, Юг предпочитал образованность немногих грамотности большинства. Процветали колледжи и военные училища для детей правящих плантаторов. В 1850-х годах в пропорциональном отношении к количеству белого населения Виргиния имела больше выпускников колледжей, чем Массачусетс; в 1860 году в Виргинии и Джорджии было больше колледжей в пропорциональном отношении к общему количеству населения, чем в Нью-Йорке или Массачусетсе. Но общественное образование приходило в упадок. Системы начального и среднего образования, а также уровень грамотности значительно отставали. Даже при отсутствии надежных статистических данных есть все основания полагать, что на Юге неграмотность была распространена куда больше, чем где-либо еще в стране: основная масса негров и значительно большее количество белых, чем на Севере, оставались неграмотными. Значение, придаваемое южанами образованному руководству, было явлением того же рода, что и безразличие к политическому просвещению. «Дабы защитить верный путь, — объяснял в 1857 году Джордж Фицхью с присущим ему крайним экстремизмом, — мы должны снять оковы с гения и обуздать посредственность. Свободу — избранным, рабство — во всех его проявлениях — массам!»
В период между 1830-ми годами и Гражданской войной джентльмены-южане демонстрировали высокомерное безразличие к мировому общественному мнению, по мере того как оно все отчетливее вырабатывало позицию неприятия рабства. «Подобающее уважение к мнению человечества», которое Джефферсон считал опорой патриотизма, ныне воспринималось как измена. Д. Хандли восклицал в 1860 году:
Джентльмен-южанин... предпочитает иметь собственное честное мнение и скорее согласится поменяться местами с самым жалким рабом плантации, с самой ленивой и тупой скотиной, чью спину мочалила плеть надсмотрщика, чем превратиться в эту ханжескую и жалкую карикатуру на человека — раба общественного мнения... Потому И неудивительно, что на джентльмена-южанина никогда не влияло и не влияет осуждение всем миром нашего «особого института». Ибо он — мужчина до мозга костей, отважный, самостоятельный и сознательный, помнящий о собственных понятиях долга и способный следовать им.
280
Подобное безразличие к меняющимся ветрам настроений и поискам компромиссов между противоречивыми интересами помогает также понять расцвет политической теории на предвоенном Юге. Будь жители Новой Англии, штатов Нью-Йорк и Иллинойс меньше заинтересованы в компромиссе, может, и они стремились бы сосредоточиться на своих особенностях? Это был великий период американской политической теории, и практически все американские труды, способные встать вровень с трудами Старого Света, появились на Юге. Так ли уж удивительно, что народ, привыкший жить по незыблемым законам неписаного права, оказался столь способным к абстракциям политической мысли? Первым заявил о себе Джон Тэйлор из округа Каролина, штат Виргиния. Его солидные, тщательно продуманные работы — «Земледелец» (1813), «К вопросу о принципах и политике правительства Соединенных Штатов» (1814), «Толкование основ и оправдание конституций» (1820), «Разоблаченная тирания» (1822) и «Новый взгляд на Конституцию» (1823) — отстаивали аграрный характер и права штатов. Затем появился Кэлхун, его «Исследование правительства» и «Рассуждения о Конституции Соединенных Штатов» (обе опубликованы посмертно в 1851 году) стали вершиной политической мысли Америки. И наконец, Александр Стивенс из Джорджии, трактат которого «Недавняя война между штатами с точки зрения Конституции» (1868 — 1870) дал мастерский анализ прав Юга. Это трио теоретиков политической науки остается непревзойденным во всей американской истории.
«Политики-метафизики», — так практичные северяне еще в 1839 году окрестили патриотов Юга — отличались от тех, кто преследовал непосредственные цели развития торговли и транспорта. Каждая северная газета пропагандировала лишь какую-то конкретную составную политической системы: одна — банк в Нью-Йорке, другая — банк в Филадельфии и так далее. Апологеты же Юга все больше и больше отстаивали не конкретные начинания и даже не регион в целом, но абстрактную идею: «Юг». Поэтому то, что на Юге считалось политикой, в действительности политикой не было. Довоенные съезды представителей Юга — даже так называемые коммерческие съезды в Мейконе, Огасте и Чарлстоне — не породили почти никаких практических проектов. «Юг, — сокрушался один из его граждан, — ищет пути к промышленному развитию словно на ощупь, в тумане, как новичок, не знающий, куда приложить силы... и никак не желающий начать у себя дома с того, что диктуется осознанием истинных экономических по
281
требностей». Государственные деятели Юга предлагали добиться свободы судоходства по Амазонке, проложить канал сквозь перешеек Теуантепек, отправить экспедиции поискать удачи в Никарагуа, построить железную дорогу от Миссисипи к Тихому Океану или ввести рабовладение в Центральной Америке. Если это и была политика, то вряд ли та, в которой так остро нуждался Юг.
Книга вторая
СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИИ
Предопределение судьбы — это наука езды в никуда либо в другое место еще до того, как ты поймешь куда.
Джош Биллингс
Главным ресурсом Америки была неопределенность. Результат незнания и прогресса, она порождала оптимизм и энергию. В период между Революцией и Гражданской войной эта неопределенность, мало кем признаваемая, была источником американской мощи. Уже в те времена американцев отличали не столько конкретные знания или твердая уверенность, сколько грандиозные и неясные надежды. Если другие нации сплачивали общие пределы, то американцев объединяли общая неясность и общее беспокойство. Их первым свершением было открытие того, кто они такие, где находятся, в какое время, на что способны и как мотуг расширяться и организовываться. Их Америка была лишь немногим больше точки отсчета. Нация еще долго будет извлекать пользу из того, что она родилась, не будучи зачатой.
Часть пятая
НЕИЗВЕДАННАЯ СТРАНА
Ну что сказать о Великой Американской пустыне, которая еще поколение назад занимала так много места на карте? Кочующая и неуловимая, она отступала перед надвигающейся цивилизацией, как индейцы и бизоны, которые когда-то бродили по ней... Гонимая из прерий к восточной части Скалистых гор, Великая Американская пустыня превратилась в беглеца и бродягу на поверхности Земли. Одно время картографы обозначали ее в штате Юта, но, преследуемая, она бежала в Аризону и Неваду.
Джосайя Стронг
Ничто так не способствовало готовности американца к восприятию самых невероятных открытий и счастливых случайностей, как безграничные просторы, на которых он жил. Конечно, он был готов к неожиданностям. И тем не менее в американском опыте было столько непредсказуемого, что трудно было даже вообразить. Никогда прежде такая многочисленная современная нация не жила на столь неясно обозначенной территории. Континент был едва исследован, тем не менее поселенцы опережали исследователей. Они располагали небольшим количеством карт, да и те были никуда не годными. Нанесенные на них воображаемые цепи гор, реки, озера, пустыни оказывались порождением оптимизма или отчаяния: рай или ад — Великий Американский сад или Великая Американская пустыня.
В первое столетие своего национального существования американцы жили, не имея границ, на бесчисленных островах неопределенных очертаний. Продвижению на запад не было предела. Вся американская жизнь, как и сама нация, отличалась отсутствием четких границ. Континент был покрыт полутенями,
284
состоящими из знакомого и неизвестного, факта и мифа, настоящего и будущего, местного и чужеродного, добра и зла.
Они жили на малознакомом материке, даже не подозревая, как мало они о нем знают. Однако если бы они знали больше, то, вероятно, отважились бы на меньшее. Их предприимчивость подогревалась выдумкой, небылицами, дикими надеждами и безосновательной уверенностью.
28.
МАЛОЗНАКОМАЯ ТЕРРИТОРИЯ: ЗАСЕЛЕНИЕ ДО ОТКРЫТИЯ
Открытие Америки только начиналось. Одним из решающих американских несоответствий, одним из необычных, счастливых, создающих эту страну обстоятельств было то, что она начала процветать еще до того, как была исследована, — и частично именно потому, что не была исследована. Этим во многом объясняется ее раннее развитие и жизнеспособность. В Новом Свете страна могла расти, открывая самое себя.
Следовательно, для американцев открытие и рост с самого начала были синонимами. Нации Старого Света знали—или думали, что знают, — свои размеры, границы, топографию, ресурсы. Американцы же рассчитывали на рост страны, по мере того как обнаруживали себя на новом месте. Если бы Америка не оставалась «таинственным континентом» в течение почти всего первого века своего национального существования, то едва ли американцы смогли бы стать столь жизнеспособными и энергичными.
Америка питала такое обилие надежд, поскольку являлась притягательным объектом для иллюзий. Карта Америки состояла из незаполненных пространств, которые предстояло заполнить. Там, где не хватало реальных фактов, возникали мифы, в основном европейского происхождения. Один лишь слух о том, что Коронадо где-то достиг моря, превращался в картографическое свидетельство его прикосновения к великому Западному океану. Места, открытые Коронадо, путешествовали по всей Карте вместе с названиями, предложенными Ницей и другими, еще раньше сбитыми с толку исследователями. Куивайра, по своему происхождению, вероятно, маленькая деревушка индейского племени уичита в центральном Канзасе, превратилась в великое мистическое царство Куивайра. Картографы, не имея новых данных, были благодарны за эти мифические географические имена — Куивайра, Тайгу, Сибоула, Тонтоник, — кото
285
рые они произвольно передвигали по карте. «Их можно было использовать в тех случаях, когда белое пятно на карте свидетельствовало бы о географическом неведении, а поскольку клиенты никогда, конечно, не доберутся до Куивайры, чтобы установить истину, то картографы находились в полной безопасности». Блуждание этих и других мифических селений отражено в великолепных сочинениях Карла Уита, непревзойденных одиссеях выдуманных городов, носившихся по волнам бурного моря воображения.
Чтобы проиллюстрировать это всеобщее неведение, я лишь вкратце расскажу об одном клубке таких иллюзий. История мифической реки американского Запада — Сан-Буэнавентуры — богата символикой и иронией. Старинное происхождение и грандиозность этого удивительного вымысла, просуществовавшего вплоть до середины XIX века, придают всей истории особый интерес. Встречи европейцев с Америкой в конце XV века во многом были несомненным результатом их интереса к Востоку. Надежда достичь западного водного пути в Азию не покидала европейцев. Когда же на пути встал Североамериканский континент, то поиски водного пути через него стали особенно энергичными. По мере постепенного определения очертаний Нового Света наличие водного западного прохода исключалось то в одном, то в другом месте. Но надежда на существующий водный путь не умирала; она просто перемещалась туда, где было пока еще белое пятно на карте. Эта картографическая миграция составляет один из самых трогательных в истории эпизодов, когда желаемое выдавалось за действительное. Ирония, с которой он завершился, достойна усмешки какого-то недоброго бога.
Поиск водного пути через материк шел в двух направлениях. Между XVI и XVIII веками испанские мореплаватели, искавшие трансконтинентальный проход в Тихом океане, фактически обследовали побережье Северной Америки вплоть до 60° северной широты. Экспедиция Домингеса и Эскаланте 1776 года, надеявшаяся найти путь от Санта-Фе до испанского поселения в Монтерее на Калифорнийском побережье, исследовала и впервые нанесла на карту великое плато Колорадо. Их карта многообещающе изобразила большое озеро Тимпаногос (соединение Большого Соленого озера и озера Юта) вместе с широкой, предположительно судоходной рекой, текущей на запад, вероятно к Тихому океану. Тем временем оптимистически настроенные испанские отцы в Калифорнии изо всех сил сочиняли миф о водном пути в глубь континента, считая,
286
что низвергающиеся с ближайших гор потоки вод зарождаются в Скалистых горах. Они заявляли, что эти реки, вероятно, являются судоходными, и обещали долгожданные торговые пути между Испанией и Китаем.
Все эти обозначения в 1784 году были нанесены на карту испанской Северной Америки, которая, несмотря на имеющиеся в ней ошибки, была тогда самой точной. Изображения русла рек на Тихоокеанском побережье показывали, как воды с западных склонов Скалистых гор к северу от реки Колорадо текут на запад в Тихий океан. Вплоть до 1793 года испанцы продолжали исследовать западный водный путь через материк на Тихоокеанском побережье. Тогда же испанские исследователи из Луизианы поднялись по долине реки Миссури, устремленной к океану. Исследователи, желавшие придать особое значение своим открытиям, писатели, стремившиеся в путевых заметках доставить больше удовольствия читателям, и картографы, желавшие раскрасить белые пятна на географических картах, в едином стремлении пытались навсегда сохранить давнюю, уважаемую веру в водный путь через материк.
Разногласия сводились не к тому, есть ли он вообще, а к тому, где такой трансконтинентальный морской проход будет найден. Шотландский исследователь Александр Маккензи в своем дневнике 1802 года предположил, что река Колумбия (которую он принял за реку Фрейзер, протекающую на самом деле намного севернее в Британской Колумбии) является вероятным будущим путем между Атлантикой и Тихим океаном. Сам Томас Джефферсон спутал реку Колумбию с Орегоном (или Рекой Запада, остатком мифического Западного моря, известного еще со времен Веррацано). Он верил, что путь в Индию пройдет через Миссури и Колумбию, и с надеждой наставлял в 1803 году Мэри-везера Льюиса: «Цель твоей миссии одна — найти прямое сообщение от моря до моря по руслу Миссури и, возможно, Орегона...» Льюис и Кларк установили сухопутное сообщение между реками Миссури и Колумбия, но проходы в Скалистых горах, которые они нашли, были очень крутыми, и, естественно, они не обнаружили судоходного водного пути. С ростом передвижения населения и знаний об этом районе становилось очевидно, что долгожданный морской проход должен быть найден в Другом месте.
Неиссякаемые надежды нуждались в новом приюте. К этому времени его могли предоставить только два района, география Которых оставалась неизученной. Одним из таких районов, конечно, была Арктика. Когда за 1815 —1817 годы ледяной барьер
287
к востоку от Гренландии растаял, англичане, которые уже более двух веков не искали здесь пути в Индию, энергично возобновили свои поиски. Другим возможным районом, последним крупным хранилищем географических тайн в границах современных Соединенных Штатов, было то, что мы называем ныне Большим Бассейном. Это пространство между сорок второй параллелью и рекой Мохаве. Большое количество сразу же появившихся «свидетельств» указывало на действительное существование долго разыскиваемого трансконтинентального водного пути в этом последнем пристанище.
Таким образом, первая половина XIX века была свидетелем того, что Глория Клайн удачно назвала «картографическим сумасбродством», когда легенда вновь и вновь почти что побеждала реальность. Авторитетные карты Александра Гумбольдта, Зебулона Пайка, а также Льюиса и Кларка периода 1810 — 1814 годов единодушно документировали миф, которому было суждено просуществовать еще три десятилетия. Это неудивительно, поскольку и Пайк, и Льюис с Кларком скопировали карту Гумбольдта; сам же Гумбольдт никогда не видел этого района, а скопировал более раннюю карту почти сорокалетней давности. Льюис и Кларк показывали, что желанная река начинается в Скалистых горах и течет прямо через горы на запад к океану. Другие предприимчивые картографы, считая, что раз есть один такой речной путь, то должны быть и другие, изображали сразу полдюжины питаемых Скалистыми горами рек, текущих в Тихий океан. Самой широкой, самой привлекательной и дольше других прожившей была река под названием Сан-Буэнавентура, впервые помеченная картографом испанской экспедиции 1776 года. Повседневные наблюдения таких торговцев мехами, как Эшли, Смит, Уокер и Питер Скин Огден, мало что сделали для осушения этой реки. Не помогли делу и карты Галлатина, Боннвилля и Бэрра, которые начали заполнять белое пятно внутренним бассейном, лишенным стока в море. Все эти карты были изданы до 1840 года, но либо они отсутствовали в обращении, либо приводили в такое уныние, что им не хотелось верить. «На некоторых картах, с которыми я консультировался и которые, как считалось, были достоверными, — писал Джон Бидуэлл о подготовке к своему эпохальному сухопутному путешествию 1841 года в Калифорнию, — было нанесено озеро вблизи тех мест, где сегодня находится Соленое озеро; озеро изображалось длинным, в триста или четыреста миль, узким и с двумя стоками в Тихий океан, каждый из которых был, очевидно,
288
длиннее, чем река Миссисипи». Соленая вода Большого Соленого озера была, бесспорно, дьявольской случайностью, не оставлявшей даже намека на сомнение, что это не вытянутый залив великого Западного океана.
Вера в то, что где-то должен быть западный водный путь, была широко распространенной и авторитетной. Сенатор Томас Харт Бентон из Миссури в течение длительного времени с упорством доказывал наличие морского пути в Индию. Сначала он намеревался последовать по пути Джефферсона вверх по реке Миссури, но был настолько оптимистом, что послал своего зятя Джона Фримонта на поиски еще и других путей. Конечно, это удивительно напоминало историю великой реки Сан-Буэнавентуры. Материк обследовался в основном по воде, сначала вдоль Атлантического побережья, а затем по рекам бассейна Миссисипи. Что еще могло так повлиять на будущую судьбу, как наличие подобных путей сообщения, проходящих через весь Запад?
Место последнего приюта мифического пути с Запада на Восток оказалось потрясающей насмешкой, поскольку в конце концов исследователи, картографы и склонные к фантазиям государственные мужи в отчаянии поместили предмет своих страстных желаний — свою Сан-Буэнавентуру — в тот огромный район Североамериканского континента, в котором не только не было больших рек, но вообще не имелось выхода к морю! Они расположили ее в Большом Бассейне! Это место действительно представляло собой географическое чудовище: в сердцевине обильно снабженного водой материка на обширной территории вода не уходила в один из океанов, а таинственно из-чезала под землю. Можно ли было предугадать, чем завершится одна из самых стойких американских иллюзий?
Только в 1844 году, и не раньше, Фримонт пришел к за-: ключению, что возможный трансатлантический водный путь не только не проходит по рекам, текущим к океану, но вообще не имеет какого-либо внешнего выхода. Почти на год покинув Канзас 23 мая 1844 года, Фримонт побывал на берегах озера Юта и описал наконец обширные земли между горным хребтом Уосатч и хребтами Сьерра-Невады (включая большую часть Орегона, практически всю Неваду, западную Юту и Калифорнию к северу от реки Мохаве), определив их как район внутреннего стока, своеобразный Большой Бассейн без выходов к морю. Произошло не просто исчезновение еще одного белого пятна на карте, но великое географическое открытие, приподнявшее покрывало неизвестности с Северной Америки
289
и обнаружившее пустоту на месте последнего воображаемого пристанища мифической Сан-Буэнавентуры. Это был отрезвляющий и разочаровывающий опыт.
• * *
История Сан-Буэнавентуры — лишь один эпизод в американском Декамероне, описывающем любовную привязанность людей к своими иллюзиям. В начале XIX века Северная Америка, особенно ее часть, прилегающая к новым Соединенным Штатам, имела идеальные характеристики, чтобы соблазнять исследователей, картографов, ботаников, геологов, художников, антропологов и сонмы прочих поклонников новых тогда еще наук. Новый Свет пребывал в заманчивой полутени: он не был настолько освещен, чтобы лишать воображения, и не казался в такой степени покрытым мраком неизвестности, чтобы отпугнуть не очень смелых.
Сохранению всеобщего географического невежества на американском Западе способствовали многочисленные обстоятельства. Колониальные распри не благоприятствовали распространению уже имеющихся сведений. Первые испанские исследователи Северной Америки также не стремились поделиться скудным запасом знаний, который был драгоценным достоянием империи и охранялся так же строго, как высококвалифицированные мастера или слитки золота.
Хроника освоения Запада изобилует сделанными впервые, никому не известными открытиями. Жизни проходили впустую лишь потому, что эти открытия не были преданы гласности. Знаменитый южный путь в Вайоминг, по которому в середине века хлынули калифорнийские иммигранты, был, вероятно, открыт в 1812 году Робертом Стюартом, служащим Джона Джейкоба Астора, но информация об этом не распространялась. Никто точно не был уверен, где прошел Стюарт. Сведения о южном пути стали всеобщим достоянием только после того, как в 1824 году его открыл Джедедиа Смит, и им стали пользоваться торговцы мехами. Аналогично оспаривается и честь открытия Большого Соленого озера. Принадлежала ли она Джиму Бриджеру? В начале 1825 года, исследуя устье реки Бэр в составе одной из охотничьих партий торговца мехами Эшли (возглавляемой, возможно, Биллом Саблеттом), Бриджер прошел по реке через каньон и достиг края соленого озера, думая, что это морской залив. Видел ли это озеро осенью 1824 года охотник Этьен Прово? Если никто из них не видел озера, то честь его открытия
290
может принадлежать экспедиции Питера Скина Огдена в район реки Снейк в 1824 — 1825 годах. В дневнике экспедиции Огден записал 5 мая 1825 года, что «прекрасная равнина была покрыта бизонами и тысячами маленьких чаек, последнее казалось странным, и я предположил, что где-то рядом находится большая вода, для всех нас еще неизвестная». Если кто-либо из экспедиции и видел озеро, то это, видимо, был не Огден, а кто-то из его людей. Сам же Огден, скорее всего, не видел озера до 26 декабря 1828 года. Удивительно, как мало они знали о том, что уже сделали или делают другие.
Единственным преимуществом такого отсутствия связей было лишь то, что радость первого открытия распространялась на многих людей. В сентябре 1843 года, спустя пятнадцать лет после того, как Огден впервые бросил взгляд на Большое Соленое озеро, Фримонт увидел «предмет нашего страстного поиска — воды расположенного внутри страны моря, простиравшегося в спокойном и уединенном величии далеко за пределы нашего видения». «Мы испытывали удовольствие, сознавая, что были первыми среди тех, кто, согласно преданиям, посетил острова и звуками человеческих голосов нарушил вековую уединенность этого места». Фримонт не знал, что почти за двадцать лет до этого, в 1826 году, партия охотников Джима Бриджера обогнула большую часть озера в самодельных лодках из бизоньих и лосиных шкур. Может быть, и хорошо, что не знал и мог свободно радоваться своему «открытию».
Во время следующей экспедиции, в 1845 году, когда Фримонт и его отряд двинулись на запад от южной оконечности Большого Соленого озера, они снова радовались, впервые столкнувшись с этим грандиозным явлением материка. Ему сказали, что до него никто не пересекал здесь бескрайние равнины. Встретившиеся индейцы заверили его в этом; это был безводный путь. Хорошо знавшие горы проводники его отряда Кит Карсон и Роберт Уокер не располагали сведениями об этой местности. Оглядываясь вновь на прошлое, мы видим, как плохо они были информированы, поскольку почти за двадцать лет до этого Джедедиа Смит уже пересек Большую Соленую пустыню.
За причинами так дорого обходившегося нежелания делиться информацией не надо было далеко ходить. Как объяснял Уильям Гетцман, охотники за мехами, которым были известны богатые живностью ручьи и удобные к ним пути, напоминали рыболова, знающего хорошее рыбное место. Он не стремится поделиться тем, что знает. Удачливые охотники
291
знали, как добраться к самым богатым бобровым ручьям наилегчайшим путем и через самые зеленые пастбища; они знали самый безопасный путь пересечения пустыни. Их делом были* меха, а не географические карты. Например, Джедедиа Смит, который в то время, вероятно, был знаком с Западом лучше других, нарисовал очень мало карт, и все они были потеряны. Джим Бриджер, который вел в 1850 году экспедицию Стэнсбери к Большому Соленому озеру, и возглавлявший экспедицию 1859 года к Йеллоустону капитан Уильям Рейнолдс не могли бы, если бы их попросили, предложить ничего лучше, чем приблизительные схемы, наспех начерченные углем на куске шкуры бизона.
Однако, существовала такая система встреч, которая требовала не только исключительного организаторского таланта, но и детального знания местности. Год за годом несколько сотен людей, рассеянных по отдаленным охотничьим уголкам Запада, ухитрялись собираться точно по заданному расписанию. «Они не имели сходства с Ахиллесом, — объяснял Бернард де Во-то, — но были готовы встретиться с сотнями других охотников в назначенный день и в указанном месте, не смущаясь тем, что географы смещали его на целый десяток градусов. Они расхаживали по белым пятнам на карте с той же уверенностью, с какой другие ходят по коровнику. Великая Американская пустыня была их задним двором». Они не нуждались в картах: все необходимые сведения хранились у них в голове. Это делало их незаменимыми и долго еще держало в тайне для остального мира американский Запад.
Если бы географы знали больше или, наоборот, меньше, то незаполненный материк не был бы столь привлекательным. Это чудесное полузнание Америки помогает объяснить энергию и страсть, навязчивую целеустремленность и ту легкость, с какой американцы так быстро переносили свои надежды от одной Сан-Буэнавентуры к другой.
Поскольку мало что менялось, то надежды и страхи часто достигали самых крайних размеров. Воображение приукрашивало действительность; не желая заполнять пустые пространства на карте чем-то обыденным вроде бесплодных степей или умеренных пастбищ, люди хватались за свидетельства о более интересном, более ярком, более опасном и все- вознаграждающем ландшафте.
«Я часто встречал на своем пути, — писал о своем путешествии к западу от девяносто пятого меридиана Зебулон Пайк в 1806 году, — пространства, тянущиеся на многие лье, где
292
ветер насыпал песок, придавая ему самые фантастические формы океанских бушующих волн, и где не было даже островка какой-либо растительности». В 1819 —1820 годах Стивен Лонг из Корпуса топографических инженеров Соединенных Штатов совершил путешествие из лагеря, расположенного у слияния рек Платт и Миссури (ныне граница между Небраской и Айовой), вдоль реки Платт к подножию Скалистых гор, затем к югу и востоку через Оклахому до Форт-Смита в Арканзасе. «Что касается этой обширной части страны, — заметил он опрометчиво, — я без колебания высказываю мнение, что земля ее почти целиком не приспособлена для обработки и, конечно, для заселения людьми, существование которых зависит от сельского хозяйства. Хотя сравнительно большие участки плодородной почвы и встречаются время от времени, но почти повсеместное отсутствие воды и леса создает непреодолимое препятствие для заселения этих земель». Прилегающие к Скалистым горам с востока обширные районы, по его мнению, могут быть пригодными для бизонов, диких коз и других диких животных, но больше ни для кого. На составленной им карте, изданной в 1823 году, он написал в этом месте крупными буквами: «Великая Американская пустыня». Тем самым он помог созданию новой географической легенды, которой было предназначено стать одним из самых жизнеспособных и убедительных мифов первой половины XIX века.
Многочисленные неясности, окружающие значение слова «пустыня», соединялись с неопределенностями ландшафта. По мере того как слово становилось все более распространенным в описании западных территорий, для одних оно означало что-то вроде американской Сахары, для других — гиблое место, годное лишь для индейцев, для третьих содержало множество прочих непривлекательных смыслов, оказавшись почти одинаково неясным как по содержанию, так и по расположению.
Нехватка леса и воды на обширных территориях была, конечно, реальностью, которая, как показали в XX веке Уолтер Прескотт Уэбб и другие, оказала определяющее влияние на эту часть Запада. Но безводная, безлесная, необитаемая пустыня к востоку от Скалистых гор — пустыня, родившаяся в воображении Лонга и получившая подтверждение у десятков Других картографов, путешественников, писателей и рассказчиков историй у костра, — была чистым мифом, не более реальным, чем величественная Сан-Буэнавентура. И как безосновательные надежды на великую Миссисипи Запада заставляли исследователей рисковать жизнью, случайно делая
293
неожиданные, но очень основательные открытия, так и вера в Великую Американскую пустыню владела тысячами американцев вплоть до окончания Гражданской войны. Преследуемые видениями пышущих жаром песков и ослепительного солнца, американцы поспешно двинулись на Запад. К воображаемым географическим опасностям добавлялись реальные угрозы, создаваемые природой и индейцами, а также нехваткой лесов, воды и прочего. Они оставляли позади гостеприимные просторы Среднего Запада, продвигаясь неизведанным путем к более засушливым местам. Великие равнины стали барьером, поспешное преодоление которого задержало, вероятно, заселение плодородного Среднего Запада на несколько десятилетий.
Эти пугающие видения имели и другие последствия. Не была ли Великая Американская пустыня удивительно подходящей для индейцев? В 1823 году военный министр Джон Кэлхун предложил президенту Монро переместить примерно 14 тысяч индейцев, живших тогда на Старом Северо-Западе (район Великих озер и между реками Огайо и Миссисипи), в северную часть пустыни, а 79 тысяч индейцев, включающих южные племена, — в южную ее часть. Среди вытекающих из этого преимуществ Кэлхун назвал предоставление ценных восточных земель белым поселенцам, предотвращение в будущем расовых конфликтов и изоляцию индейцев от дальнейшего заражения грехами и болезнями белых. 30 тысяч долларов, которые потребовались бы, чтобы убедить индейцев, по мнению Кэлхуна, были небольшой платой за «окончательное» решение индейской проблемы. Такой взгляд стал популярным, хотя, как засвидетельствовал недавно Фрэнсис Пол Пруча, некоторые профессиональные географы и правительственные чиновники не были согласны с переселением индейцев в пустыню. Предложенная Кэлхуном в 1825 году «постоянная индейская граница», оказалась менее постоянной, чем он думал, поскольку легенда о Великой Американской пустыне не длилась вечно. И по мере того, как она постепенно рушилась, белые начали размышлять, не слишком ли хороши, в самом деле, земли к западу от девяносто пятого меридиана, чем того заслуживают индейцы.
Люди, которые, несмотря ни на что, во все большем количестве селились в 30-е, 40-е и 50-е годы прошлого века к западу от Миссисипи в самом сердце Великой пустыни, восстали против клеветы на избранную ими землю. Исполнительный комитет Канзасского исторического общества в 1860 году до
294
кладывал, что, как все хорошо помнят, в школьные годы «книги учили нас, что эта центральная равнина, на которой мы живем, была частью Великой Американской пустыни». Они создали собственную контрлегенду. Они не просто опровергли миф о бесплодии своего района, а сочинили новый — о его уникальном плодородии. Но старый миф сдавался медленно. Обследования, проведенные Тихоокеанской железной дорогой в 1850-х годах, еще рисовали непривлекательную картину. Основанная в 1862 году железная дорога «Юнион Пасифик» скорее предназначалась для создания скоростного моста через континет, чем для обеспечения связи с равнинами. Это был кратчайший путь через горный барьер, соединивший поселенцев в долине Миссисипи с теми, кто жил на Тихоокеанском побережье.
Новый миф, как и старый, свидетельствовал о неукротимом желании людей верить. Теперь поселенцы, которые двинулись вверх по долинам рек Платт и Канзас, сменили, как об этом красноречиво повествует Генри Нэш Смит, миф о Пустыне на миф о Саде. С самых ранних колониальных времен европейцы рассматривали земли атлантических поселений как сад Нового Света, который долго оставался целиной, чтобы уравновесить чрезмерное возделывание Старого. Распространить эту легенду за пределы Миссисипи было легко.
Джосайя Грегг в своей «Торговле в прериях» еще в 1844 году намекал на магическое действие, посредством которого воображаемое запустение может быть превращено в воображаемый рай. Не совершило ли это превращение появление в этих местах поселенцев?
Почему бы нам не предположить, что благотворное влияние цивилизации — активная обработка земли — могло привести к увеличению дождей, как это бесспорно в отношении увеличения родников? Или что тенистые рощи по мере продвижения в прерии могли оказать влияние на климат? По крайней мере многие старые поселенцы утверждают, что засухи стали на Западе не такими гнетущими. Жители Нью-Мексико уверяют нас также, что количество дождей возросло за последние годы, — явление, которое простой народ суеверно связывает с появлением миссурийских торговцев. Так почему бы нам не надеяться на то, что эти бесплодные районы могут быть оживлены и возделаны, а их поверхность однажды покроется цветущими поселениями вплоть до Скалистых гор?
Именно Грегг высказал предположение, что значительное изменение климата произошло исключительно благодаря мелиорации.
295
Еще более привлекательная версия легенды была распространена газетчиками в сообщении о строительстве железной дороги «Юнион Пасифик» среди увеличившегося в 1866 и 1867 годах населения Канзаса и Небраски. Они утверждали, что, чем больше людей туда приезжает, тем чаще выпадают дожди. Желаемое «научное» обоснование новых мифических надежд содержалось в широко разрекламированных геологическом и географическом обзорах областей, начатых под федеральным покровительством и под руководством Фердинанда Хейдена в Небраске в 1867 году. Технические данные обзоров были очень популярны на Западе. Хейден официально сообщал министру внутренних дел (1867):
Полагают... что посадка десяти — пятнадцати акров лесных насаждений на каждой четвертой части секции земли окажет очень большое влияние на климат, уравновешивая и увеличивая влажность и в значительной степени способствуя росту плодородия почвы. Заселение территории и увеличение лесов уже улучшили климат районов Небраски, расположенных вдоль Миссури, так что за последние двенадцать или четырнадцать лет количество дождей постепенно возросло, и они стали выпадать более регулярно в течение года. Я уверен, что эти изменения будут распространяться и дальше через засушливую зону к подножию Скалистых Гор по мере расширения поселений и насаждения лесов в должных количествах.
Эта привлекательная теория была поддержана в монографии «Сельское хозяйство в Колорадо» энтомологом и ботаником Хейдена Сайрусом Томасом, в которой было зафиксировано «твердое убеждение» ученого в том, что увеличивающееся выпадение осадков каким-то образом связано с заселением территории, что «с ростом населения возрастет и степень влажности». Уважаемые агрономы вроде профессора естественных наук нового университета в Небраске Сэмюела Оги поддержали оптимистическую теорию. Их совместные усилия удачно совпали с целым рядом необычно дождливых лет после Гражданской войны. Появился и десятилетиями повторялся лозунг «Дождь идет за плугом».
Нетрудно понять вдохновляющую роль этой теории. Первоначально идея могла быть заимствована у французских или английских ученых. Но на бурном Западе отрицать ее или даже сомневаться в ней было равносильно измене обществу. Скотоводов, которые отказывались в это верить, обвиняли в эгоистическом желании отбить охоту к переселению, с тем чтобы сохранить за пастбищами земли, более пригодные для посевов. Проекты мелиорации отвергались не только потому, что активное заселение делало ее как бы ненужной, но и по
296
тому, что разговоры о мелиорации снижали ценность земли, свидетельствуя о выпадении недостаточного количества осадков.
Скоро нелепость ответного пропагандистского мифа намного превзошла нелепость самого мифа о Великой Американской пустыне. Особенно притягательной длягородскихвластей была теория незаурядного Уильяма Гилпина (1813 — 1892). Человек с разносторонними интересами, воин, исследователь и издатель, входивший в экспедицию Фримонта в 1843 году, он присоединился к Томасу Харту Бентону, поддерживая идею центрального прохода для трансконтинентальной железной дороги, и стал первым губернатором территории Колорадо. В трех книгах—«Центральный золотой район» (1860), «Миссия североамериканского народа» (1872) и «Космополитическая железная дорога» (1890)— Гилпин разработал собственную удивительно простую теорию, которую он широко пропагандировал в речах и статьях начиная примерно с 1846 года.
Основываясь на учении немецкого философа-натуралиста Александра Гумбольдта, он разработал теорию географического детерминизма, способную угодить самым восторженным пропагандистам Среднего Запада. Следуя Гумбольдту, Гилпин обнаружил ключ к своим пророчествам в «изотермическом Зодиаке», представлявшем собой волнообразный пояс приблизительно в 30° (около 2300 миль шириной; примерно от 25 до 55°), охватывающий землю вдоль Северного полушария. Через середину этого пояса, примерно по сороковому градусу северной широты, проходила «энергетическая ось», где среднегодовая температура составляла 52Р по Фаренгейту.
В пределах этого изотермического пояса человеческий род, с которым связан священный и вдохновляющий огонь цивилизации, передвигался, сопровождаемый солнцем, с востока на запад с самых давних времен. На этой энергетической оси были построены первые великие города, которые из века в век концентрировали в себе интеллектуальную деятельность и мощь... Китайские, индийские, персидские, греческие, римские, испанские, британские и, наконец, республиканская держава народа Северной Америки... Этот пояс окружает земной шар в той его части, где расширяются материки и сужаются океаны, он проходит в зоне теплой температуры (в среднем 52°): на этой территории проживает девяносто пять — сто процентов всего белого населения земного шара и находится вся его цивилизация!
Что же в этой связи представлялось более очевидным, чем строительство всемирной железной дороги вокруг Земли вдоль энергетической оси? Гидрографические карты в работе Гилпина «Центральный золотой район» показывали, что Боль
297
шой Бассейн Миссисипи был «амфитеатром мира... самым замечательным творением Бога, предназначенным для человеческого жилья». Сравните материки: центр Европы размещается в альпийских ледниках, так же как в Азии он поднимается к Гималаям; представления об Африке и Южной Америке были «затруднены разрозненными сведениями» о них.
Внутренняя часть Северной Америки, напротив, обращена к небесам как расширяющаяся чаша, готовая принять и слить в гармонии все, что туда попадает. Тогда как любой другой континент представляет собой перевернутую чашу, с вершины которой все расходится лучами.
...Как в географии существует противопоставление Старому Свету, так в обществе мы есть и будем его противоположностью.
В каждом из космических обобщений Гилпина звучала преувеличенная восторженность по поводу проектов Среднего Запада, в которых сам Гилпин оказывался заинтересованным. Например, главное направление (вдоль тридцать девятой параллели) для трансконтинентальной железной дороги. В 1840 году Гилпин приобрел землю на окраине города Индепенденс вдоль реки Миссури. Затем он убедил городской муниципалитет так расширить границы города, чтобы они включали его собственность, которую он поделил на городские участки. Эта земля, как оказалось, находилась в центре гилпинских гидрографических кругов на материке. Карта «Центрополиса», которую Гилпин составил и широко распространял, показывала, что национальная столица в силу высшей географической необходимости должна быть перенесена в самый центр Гилпинтауна. Рекламируя собственные земли, он открыл еще один географический закон: великие торговые центры мира располагались на больших реках, и в Северной Америке расстояние между городами должно быть около ста лье (350 миль). По счастливому совпадению именно на этом расстоянии Индепенденс и Гилпинтаун находились от Сент-Луиса.
Когда честолюбивый проект Гилпинтауна провалился, Гилпин, к счастью, обнаружил, что разместил свой великий главный город на десять миль восточнее, чем надо. Так что уже в 1858 году на новой карте «Центрополиса» столица находилась на месте нынешнего Большого Канзас-Сити, к которому Гилпин и обратил свое повышенное внимание. Когда же через десяток лет внимание Гилпина сосредоточилось на территории, расположенной еще дальше на запад к Денверу, то и его наука шагнула в ногу с его вложениями. В «Заметках о Колорадо»
298
(1870) Гилпин сделал открытие, согласно которому сосредоточение населения западнее энергетической оси делало Денвер «фокусом непоколебимой мощи в топографическом очертании материала». В судьбе Гилпина это было последнее место на карте, где он и нашел подлинные врата для всего трансконтинентального движения.
♦ ♦ ♦
Географическая неизведанность Запада позволяла таким, как Гилпин, убедить себя и других, что они нашли желаемое. Но очень часто под ее покровом скрывался просто мошенник, который увлекал свою жертву неким белым пятном на карте, обещая найти там все, что душе угодно. Обман стал характерным явлением Запада, о чем свидетельствует западный фольклор. Мифические шахты исчислялись тысячами; они плодились на неведомых просторах, где усталость, отчаяние и оптимизм готовили путешественников к мысли о том, что они найдут свою Голконду. Прекрасным примером может служить Большой алмазный обман 1872 года, признанный крупнейшим на Западе приисковым надувательством XIX века.
Однажды туманным утром в начале 1872 года два неряшливо одетых старателя, которые выглядели так, словно только что прибыли с отдаленных приисков, вошли в банк Сан-Франциско и попросили, чтобы банковский служащий принял их наедине. С тщательно отрепетированной таинственностью они поручили ему принять на хранение небольшой мешочек, содержание которого, по их не очень охотному признанию, составляли алмазы. Они заставили его поклясться, что он будет хранить молчание, и затем исчезли. Разумеется, клерк немедленно передал секретную информацию другим служащим банка, они в свою очередь доверили ее избранному обществу из числа самых богатых людей в Сан-Франциско, а те немедленно начали поиск двух таинственных старателей. По счастливому совпадению Филип Арнолд и Джон Слэк через несколько недель появились снова. После долгих уговоров (в которые входила выплата им около 600 тысяч долларов) они разрешили включить себя в состав новой приисковой компании, единственной целью которой была разработка мифических и неизвестно где расположенных рудников. В обществе нескольких компаньонов Арнолд направился на Восток, где нью-йоркская компания «Тиффани энд К0» должна была установить подлинность алмазов. Когда Тиффани заявил, что алмазы настоящие,
299
была организована дополнительная группа нью-йоркских участников этого предприятия. Чтобы убедить себя и других потенциальных вкладчиков, они наняли кристально честного в этой области консультанта для подготовки немедленного сообщения с места приисков. Генри Джанин (составивший себе репутацию тем, что браковал почти каждый проект, представленный ему на рассмотрение) согласился поехать и оценить алмазные копи. Арнолд и Слэк отвезли Джанина на прииски, место нахождения которых путем различных уловок продолжало оставаться неизвестным. Джанин вернулся и заявил, что алмазные копи подлинные. Вскоре по крайней мере один вкладчик внес 660 тысяч долларов, а другие вложили в «дело» сумму в размере десяти миллионов долларов.
Арнолд и Слэк, будучи далеко не теми неотесанными парнями, впечатление которых производили, оказались двумя самыми изощренными мошенниками своего времени. В отдаленных столовых горах северо-западного Колорадо они действительно застолбили участок и не пожалели ни денег, ни трудов, чтобы начинить его мелкими алмазами и рубинами. Защитой им служили необъятность территории, отдаленность находки и общее географическое неведение. Если бы они смогли сохранить в тайне от широкой публики местонахождение алмазных копей, позволяя проникать туда лишь некоторым доверчивым компаньонам, то у них была бы возможность превратить сделанные вложения в приличное состояние до того, как их разоблачат.
Алмазная лихорадка росла с мая по ноябрь 1872 года. Всевозможные мошенники — или активные участники — появлялись по всему Западу, не только в Сан-Франциско, но и в Денвере, и в Солт-Лейк-Сити, повсюду. Раскрытие обмана могло задержаться на неопределенное время, если бы мошенники необдуманно не поместили свои алмазные копи по соседству с сороковой параллелью. В 1867 году конгресс поручил провести знаменитое «Исследование сороковой параллели»: «геологическое и топографическое изучение территории между Скалистыми горами и хребтами Сьерра-Невады, в том числе пути или путей Тихоокеанской железной дороги». Во главе проекта стоял неукротимый Кларенс Кинг, которым восхищался Генри Адамс, считая его «идеальным американцем, достойным примером для всех». Летом 1872 года* Кинг и его люди еще продолжали свое исследование. Когда Кинг услышал об алмазных копях (следов которых ему нигде пока не удавалось обнаружить), он встревожился. Непременным условием обсле
зоо
дования должен был стать доклад конгрессу и стране о природных ресурсах района; и если он действительно пропустил такое богатство, как алмазные копи, то его собственная профессиональная репутация и репутация всего исследования сороковой параллели (как и других будущих исследований) будут поставлены под сомнение.
В результате необычайно хитрого детективного расследования Кингу и его трем коллегам удалось сложить вместе фрагменты информации, неосторожно сообщенной алмазными предпринимателями. Эта информация привела их к бассейну рек Ямпа — Грин-Ривер на севере Колорадо и Юты и в южной части Вайоминга. К концу путешествия группа Кинга не располагала никакими сведениями, кроме намека, оброненного Джанином: охотники за алмазами размещались у подножия горы, покрытой соснами, которая в июне была еще отчасти в снегу и к северо-востоку от которой не было видно гор. Наконец в начале ноября Кинг нашел заброшенное место, где были установлены заявочные столбы (оно до сих пор называется в Колорадо Алмазным пиком). Сопоставление отдельных свидетельств привело к песчаному уступу. Здесь на небольшой глубине исследователи нашли множество мелких алмазов и рубинов. Удивленный уже тем, что драгоценные камни обнаружены в почве подобной геологической формации, Кинг заметил, что алмазы и рубины имеются только в центре заявки около не защищенной от ветра плоской скалы. Он отметил также и такой любопытный факт, что на каждые двенадцать рубинов приходится один алмаз. Тогда его группа достала свои сита и исследовала окружающие места. Они нашли камни только там, где земля была ранее потревожена. Несколько камней было обнаружено внутри муравейников, но невдалеке виднелись предательские отпечатки ног. Для окончательной проверки Кинг и его группа вырыли глубокую яму и просеяли всю землю: камней не было.
Теперь Кинг был убежден, что алмазные копи — сплошной обман, который он в состоянии разоблачить. Он поспешил к железной дороге на Сан-Франциско, стремясь встретиться с Джанином и другими невинными участниками «дела» до того, как слухи об обмане дадут мошенникам шанс исчезнуть либо Дополнительно нажиться. Кингу удалось убедить вкладчиков в том, что их обманули. Мошенников так и не предали суду, но Кинг стал героем благодаря своему мужеству, научной дотошности и знанию географии Запада. Ирония судьбы состояла, однако, в том, что хотя семь больших томов «Исследования
301
сороковой параллели (1870 — 1878)» подняли правительственные издания на новый научный уровень, стали всемирной географической классикой и привели к созданию Геологической разведки Соединенных Штатов во главе с Кингом (1878), однако внимание общественности к Кингу было привлечено только в результате удачного разоблачения алмазного обмана. Газета «Кроникл» в Сан-Франциско благодарила «Бога и Кларенса Кинга» за предотвращение «великого финансового бедствия». Другие газеты также отмечали, что один лишь этот поступок с лихвой возместил все расходы по изучению сороковой параллели и доказал необходимость дальнейших исследований. Сами того не желая, мошенники Алмазного ущелья способствовали исследованию материка.
* * *
Неопределенность, которая вдохновляла на выдумки картографов, а мошенников — на невероятные обещания, породила стремление американцев получить изображение своего экзотического материка. Недостаток точных знаний придавал своеобразную привлекательность имевшимся сведениям. В колониальный период разрозненная информация о новом мире способствовала развитию естественной истории. Обилие нового заставляло натуралистов начала XIX века беспокоиться о названиях, классификации и описании увиденного. Джон Джеймс Одюбон (1785 — 1851), прежде чем стать таксидермистом в Цинциннати, провел в Кентукки большую часть своей юности, где рано начал рисовать красками птиц Нового Света на фоне среды их обитания. В 1826 году он отправился в Англию и с помощью лондонского гравера выпустил огромные тома размером в 28x3 дюйма (“Птицы Америки", 1827 — 1838), которые содержали около тысячи цветных иллюстраций пятисот видов птиц в натуральную величину. Но работы, подобные трудам Одюбона, предназначались для натуралистов или богатых коллекционеров. Широкий же спрос на картины с колоритным изображением Запада, его поселений и ландшафтов позволял пейзажистам процветать, как никогда.
Огромные панорамные картины реки Миссисипи стали одной из наиболее впечатляющих попыток охватить все великое разнообразие материка. Самым знаменитым’ из художников, писавших панорамы, был Джон Банвард, родившийся в 1815 году в Нью-Йорке. В возрасте пятнадцати лет он отправился на Запад и там самостоятельно научился рисовать. Примерно
302
в 1841 году он задумал «написать картину с видами прекрасной Миссисипи, которая превзошла бы все прочие своими размерами так, как эта удивительная река превосходит ручейки Европы. Гигантская идея! Она кажется удивительно схожей с бескрайними лесами и широкими просторами его родного края». «Мысль о заработке ни разу не пришла ему в голову, когда он приступал к осуществлению своего замысла, — писал его неизвестный биограф (возможно, сам Банвард), — им двигало патриотическое и благородное желание создать самую большую в мире картину». Чтобы получить эскизы для своего шедевра, художник около года плавал на лодке вверх и вниз по реке, претерпевая всевозможные неудобства.
Когда завершенное полотно Банварда было впервые выставлено в Луисвилле в октябре 1846 года, оно сразу же имело большой успех. Луисвиллский «Курьер» назвал картину «величайшим и великолепнейшим произведением мирового искусства». Проспект к картине (включавший версию легенды о Майке Финке «Последний гребец...») имел следующий заголовок: «Описание Банвардом панорамы реки Миссисипи, выполненное на трех милях холста, демонстрирующего обзор местности протяженностью в 1200 миль, простирающейся от устья реки Миссури до города Нового Орлеана, самая большая картина, когда-либо созданная человеком». Когда Банвард отправился со своим творением в поездку по стране, его везде встречали бурными приветствиями. Лонгфелло, только что закончивший первую часть своей «Евангелины», писал в Бостоне в своем дневнике: «Это случилось очень кстати. Река- приходит ко мне, вместо того чтобы мне идти к ней; и поскольку мне предстоит плыть по страницам поэмы, я смотрю на это как на особое благословение». А после посещения демонстрации картины он записал: «Ходил смотреть волнующую диораму Миссисипи Банварда. Кажется, что плывешь вниз с великим потоком, видишь лодки и песчаные отмели, засаженные тополями, и заливы при лунном свете. Три мили полотна и масса достоинств». После успеха в Новом Орлеане, Нью-Йорке и Вашингтоне (где сенат и палата представителей приняли резолюции, объявлявшие панораму «воистину удивительным и великолепным произведением») Банвард, вооружившись рекомендательным письмом от бывшего посланника в Англии Эдварда Эверетта к президенту Королевского географического общества, отправился навстречу еще большему триумфу за границу, где ему выпала честь удостоиться приглашения королевы Виктории представить картину в Виндзорском замке.
303
Его способ демонстрации полотна высотой в десять футов был изобретательным и вместе с тем простым. Накрученная на вертикально вращающиеся примерно в двадцати футах один от другого цилиндры картина постепенно разворачивалась перед зрителями, сопровождаемая комментариями автора. «Ил-люстрейтед Лондон ныос» сообщала: «На сцене сидит мистер Банвард и рассказывает о той местности, которая возникает на картине по мере ее движения, он разнообразит свой комментарий американизмами и шутками, стихами и прибаутками, которые приводят в восторг публику; временами, чтобы нарушить монотонность речи, раздаются звуки рояля». Поскольку картина была в движении и смотреть ее нужно было на расстоянии, то все это напоминало скорее сценическое действие, чем изобразительное искусство. Заметка в печати поясняла:
Мимо вас мелькают, как при быстрой езде, храм, замок и город; за полтора часа просмотра перед вами как живые разворачиваются сцены из первобытной и цивилизованной жизни — от вигвамов индейцев и бревенчатых хижин поселенцев до высоких куполов и изящных шпилей оживленных и людных городов. Вы проноситесь мимо рисовых полей, бросаете взгляд на джунгли, задерживаетесь на какое-то время в прериях и буквально теряетесь от восхищения столь разнообразным, но всегда великолепным одеянием, в которое с явным удовольствием рядится природа западного мира.
У Банварда были конкуренты. По крайней мере еще четыре художника предлагали свои варианты «величайшей картины мира», запечатлевшей самую длинную в мире реку. Каждый полагал, что является «подлинным автором» этой идеи, и гордился, что его полотно больше, а следовательно, лучше других. Один из самых первых конкурентов Банварда по имени Джон Роусон Смит считал свою работу «на одну треть длиннее любой существующей картины; четыре мили общей протяженности» и «без всякого сравнения лучше меньшего по размерам полотна Банварда». Предполагаемые измерения всех панорам содержали в себе как правду, так и тягу к преувеличениям. Приз за размер, по всей вероятности, должен был быть присужден Генри Льюису, чье «великое национальное творение» было двенадцати футов в высоту и около 4000 футов (примерно три четверти мили) в длину. Посмотреть ее можно было за два вечера.
Интерес к этим картинам был скорее географический, чем художественный: и художники, и организаторы показов рекламировали их образовательное и научное значение. «В Америке, — объяснял Джон Роусон Смит, — пейзаж все вре
304
мя меняется, и через полвека те, кто смотрит на нынешний портрет Миссисипи, не смогут признать и двадцатой части его деталей. Там, где сегодня леса покрывают землю, предоставляя убежище диким зверям, появятся кукурузные поля, сады, города и поселки, которые расскажут о трудолюбии и предприимчивости людей, что в свою очередь будет стимулировать новые и неустанные усилия». «Резвящиеся то тут, то там аллигаторы и другие глубоководные создания, о которых европейцы только слышали или читали, постоянно напоминают зрителю, что он является свидетелем весьма необычного зрелища». Интерес американцев к информации о Западе подтверждало то, что за шесть недель в Саратоге, штат Нью-Йорк, панорама Смита заработала двадцать тысяч долларов.
Но процветали не только народные художники географической хроники. Середина века была пиком славы значительной и эстетически более достойной группы художников, которую Джеймс Томас Флекснер окрестил американской «местной школой». По словам Флекснера, они отражали широко распространенные «общинный опыт и идеалы», изображая величие, загадочность, разнообразие и колорит американского пейзажа. Во второй половине XVIII века великие американские художники — Гилберт Стюарт, Бенджамин Уэст, Джон Трамбулл и другие — создавали полотна с изображением исторических или аллегорических сцен, выполненные в духе академической европейской традиции. Но портретная живопись все-таки больше соответствовала аристократическому обществу Англии XVIII века либо купечеству Голландии XVII века, чем американскому обществу. В середине XIX века многие из лучших американских художников еще проходили период ученичества и зарабатывали себе на хлеб тем, что создавали вещи, которые позднее станут уделом фотографов, а важные и характерные для этого времени работы были иного рода. На э^от своеобразный вызов, брошенный американцам, указывал Уильям Каллен Брайент, когда в своих стихах напутствовал художника, собирающегося в Европу:
Прекрасные пейзажи будут встречать тебя повсюду, Куда бы ты ни отправился, — прекрасные, Но другие, и везде—след человека.
Дороги, дома, могилы, руины — от низин
До тех мест, где жизнь замирает под суровым альпийским дыханием. Пристально смотри на все, пока слезы не затуманят взора, Но сохрани в душе тот образ первозданный, дикий.
305
Работы живших тогда американских художников — многие из которых воссоздавали «тот первозданный образ» — вызывали всенародный интерес, который, возможно, никогда уже не был превзойден. Выставки этих картин в Нью-Йорке в период между 1839 и 1851 годами собирали в течение года около половины населения города, что соответственно в три раза превышало количество посещений музея Метрополитен спустя сто лет..
Изобразительная мощь американских пейзажистов впечатляла. Первыми были Томас Коул и Ашер Дьюранд, основавшие так называемую школу реки Гудзон. Они отправились в горы Катскилл, где прямо с натуры рисовали точные, хотя и романтизированные картины первозданной природы. Были на Западе и великие иллюстраторы жизни американских индейцев. Льюис и Кларк не брали в экспедиции художника, но когда майор Лонг пересек в 1819 — 1820 годах Великие равнины и вышел к Скалистым горам, то его сопровождал художник Сэмюел Сеймур, чьи рисунки из жизни индейцев вскоре вызвали широкий интерес. Самым видным и последовательным бытописателем индейцев стал Джордж Кэтлин (1796 — 1872), который вырос в долине Вайоминга в Пенсильвании в атмосфере воспоминаний о самых кровавых налетах индейцев во времена Революции. После учебы в знаменитой юридической школе в Литчфилде, штат Коннектикут, и короткой правовой карьеры Кэтлин обратился к живописи и в течение небольшого времени зарабатывал на жизнь как портретист; затем, когда примерно в 1824 году в Филадельфии он увидел делегацию индейцев с Запада — «во всей своей классической красоте, в шлемах и со щитами, в туниках и накидках, раскрашенных и татуированных как бы специально для кисти художника», — то решил (по примеру галереи портретов героев Революции Чарлза Уилсона Пила) создать свою «галерею портретов индейцев».
В последовавшие затем годы Кэтлин вместе со своей женой путешествовал по Западу, делая рисунки и наброски, «дабы использовать все мое искусство и возможности в той мере, в какой это потребуется, чтобы спасти от забвения облик и обычаи исчезающей расы коренных жителей Америки». Его проблемы отличались от проблем модных портретистов, которые обслуживали аристократическую клиентуру, поскольку многие индейцы опасались того, что умрут, если у художника останется их изображение. В своих рисунках и живописных работах, как и в «Письмах и заметках об образе жизни, обычаях
306
и положении североамериканских индейцев» (1841), он оставил блестящие образцы экзотического американского пейзажа. Но даже искусство не избежало политики экспансии Запада и проблем, вытекающих из неопределенности западной границы. В 1852 году, когда Дэниел Уэбстер призывал сенаторов северных штатов поддержать приобретение «индейской галереи» Кэтлина для страны, южное большинство проголосовало против. Южанам был нужен Запад для установления там своих собственных законов, и они опасались, что картины Кэтлина могут вызвать чувства симпатии к индейцам, которых южане со своими рабами должны будут вытеснить.
Кэтлин был лишь одним из представителей целого созвездия художников индейского Запада. Карл Бодмер, Алфред Джейкоб Миллер, Чарлз Дис и другие, преуспевавшие до Гражданской войны художники, прибавили ярких красок к общей картине неопределенных национальных границ на Западе. Их работу дополнили другие пейзажисты, которые искали более удаленные и более дикие места, чем те, что манили художников школы реки Гудзон. Это основатель школы Скалистых гор Алберт Бирштадт, Томас Моран, который написал огромные полотна Большого каньона Йеллоустона и ущелий Колорадо (купленные конгрессом за десять тысяч долларов каждое), и другие, имена которых, связанные с далекими западными озерами, горами и реками, напоминали американцам о том, как много еще предстоит освоить и открыть на той земле, где они поселились.
* * *
Америка была одним из последних мест на Земле, где множество поселенцев появлялось раньше исследователей, географов, художников и профессиональных натуралистов. Уже в колониальный период этот любопытный факт отождествил в американском сознании физическую и умственную экспансии. Знание приходило естественно, и это придавало знанию очень конкретную форму, что оказалось решающим также и для формирования духа новой нации.
Немыслимо опереться на еще не приобретенные знания. На полуизведанном континенте было трудно опровергнуть даже самые нелепые предсказания — морского пути в Индию, мифического сада, в который превратятся большие города, новой Голконды. Все это укрепляло и поддерживало бодрое состояние Духа, а также конкуренцию между общинами. Что нельзя было
307
опровергнуть о Найнинджере, не могло быть опровергнуто и о Гастингсе. Само незнание было непризнанным источником воображения и энергии. Их не могло остановить то, чего они не знали. Конечно, западным поселенцам временами являлись несуществующие Великие Американские пустыни. Но более важно то, что так же часто они были увлечены невероятными видениями будущего, которые на самом деле не существовали, но воплощению которых способствовала именно эта невероятность. Обескураживающие факты можно было не принимать в расчет, а ошибочные принять за их противоположность, но вдохновляющую роль сумасбродства нельзя опровергнуть. И если неведение в тех краях было велико, то еще больше его было на Восточном побережье, где должны были приниматься многие важные решения.
29.
«УПАКОВКА» КОНТИНЕНТА
Вернемся на Восточное побережье, где людей, возглавлявших правительство новых Соединенных Штатов, не беспокоило собственное невежество. Не многие члены конгресса побывали на малознакомом Западе. Для них материк — или по крайней мере федеральная земля, составлявшая значительную часть будущих Соединенных Штатов, — была товаром. Его надо было аккуратно «упаковать» для продажи. Конгрессменов не волновало, как добраться из одного места в другое, где именно должен быть обнаружен путь на юг, куда течет эта река. Их волновали две проблемы: первая — как в кратчайший срок подготовить для продажи большую часть Запада с наименьшими затратами на дорогостоящие исследования или составление карт; вторая — как преподнести эти участки таким образом, чтобы покупатель точно мог знать, где находится его участок, и, следовательно, не беспокоиться ни о своих правах на него, ни о самой собственности. Эти противоречивые интересы, как бы далеки они ни были от насущных проблем действительной жизни Запада, определили направление развития американского землевладения и землепользования, а также последующее истощение земли.
Американская особенность заселения земли до ее открытия, как мы видим, порождала оптимизм, способность к конкуренции и бодрость духа. Они помогали американцам сохранять подвиж
308
ность, увлеченность и не слишком большую осведомленность в том, какие на самом деле ресурсы имеются в их распоряжении. Специфическое отношение к земле, которая наносилась на карту и продавалась до того, как ее разведали, изучили или обследовали, имело почти настолько же глубокие, насколько далеко идущие последствия. Решающим фактором было то, что конгресс Соединенных Штатов начал обсуждать американскую земельную политику и определять пути продажи земли задолго до того, как он получил хотя бы самую туманную информацию о тех обширных территориях, которыми располагал.
Основы для систематических исследований были заложены только с созданием Корпуса топографических инженеров, учрежденного Актом конгресса от 5 июля 1838 года. Под его руководством и под руководством связанных с ним организаций была в конце концов проделана огромная работа. Однако составление карт носило фрагментарный характер и ставило перед собой ограниченные цели: гужевая, железная дорога либо обозначение мексиканской границы. Только после Гражданской войны стали проводиться систематические, подлинно научные исследования больших районов.
Наконец, за последние десятилетия минувшего века, между 1867 и 1879 годами, состоялись четыре большие географические и геологические экспедиции по изучению обширных районов Запада. Все они прошли под покровительством федерального правительства, и каждая была названа в честь ее руководителя. Фердинанд Вандевир Хейден (1829 — 1887), отправившись в экспедицию в 1867 году, стал пионером в изучении большой части Колорадо, Айдахо, Монтаны, Вайоминга и Юты. Затем было проведено исследование сороковой параллели Кларенсом Кингом (1866 —1877) от восточного Колорадо и до границы с Калифорнией. Джон Уэсли Пауэлл с риском для жизни прошел по течению реки Колорадо (1869) и обследовал район Скалистых гор (1871 — 1878). Итогом знаменитых экспедиций лейтенанта Джорджа Монтегю Уиллера (1871 — 1879) стал доклад, посвященный землям к западу от сотого меридиана. Но еще за три четверти века до того, как начались эти знаменитые исследования, а большая часть континента оставалась окутанной неизвестностью, чиновники правительства новых Соединенных Штатов на Восточном побережье настойчиво требовали определить политику землевладения.
В предшествующих цивилизациях земля отличалась от других подлежащих продаже вещей двумя наиболее важными параметрами. Первый — качественная уникальность каждого
309
участка: он может быть расположен в одном-единственном месте; два участка не могут иметь одинакового расположения. Второй — нетленность его: дом может развалиться, лошадь — умереть, серебро можно похитить, алмаз — потерять, «род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки». Нигде — даже в Америке — землю нельзя лишить этих неотъемлемых особенностей, и, однако, здесь с ней начали обходиться почти так, как будто у нее их нет.
Огромное незанятое пространство, скудные сведения о нем и редкость поселений сделали землю в Америке чем-то вроде зерна или денег, с равными частями которых можно обращаться одинаково. Например, считалось, что землю можно просто «израсходовать», и ее пользователь имел возможность потом перебраться на «новую» землю. Снова необъятность американских просторов привела к тому, что им в Америке перестали придавать значение. Ничто другое так не определяло отношения американцев к земле, как факт длительного существования неизученного и не нанесенного на карту материка, ибо незнание чиновников, которые занимались землей, привело к такому с ней обращению, которое предполагало приблизительное равенство участков.
До принятия федеральной Конституции 1787 года молодая страна даже испытывала затруднения в связи с земельным богатством, которое нужно было каким-то образом определить, организовать и которое требовало того или иного управления. Как только 1 марта 1774 годаконгресс принял переданные Виргинией земли к северо-западу от реки Огайо, они были определены как национальные владения. Передача земель Массачусетсом и Коннектикутом, а также присоединение участков, отобранных у индейцев, быстро увеличили эти владения, расширяя старый Северо-Запад. Таким образом, почти через год после того, как был подписан Парижский договор, признавший независимость Америки, страна оказалась перед проблемой организации территории, находящейся за пределами самих штатов и размерами в два раза превышающей Францию,—территории, география и ресурсы которой пребывали во мраке.
Дискуссии в конгрессе относительно очертаний, размеров и точного местонахождения предполагаемых новых областей и возможности образования штатов в этом районе имели характер метафизических упражнений и преждевременных предсказаний. Они не могли быть соотнесены с реальными географическими факторами — особенностями и опасностями природы, с ливнями, ветрами, почвами или водными путями. Все это остава
310
лось пока неизвестным. Вновь проявилась склонность Джефферсона к геометрическому реформаторству (которая уже заставила его поддерживать метрическую систему измерения и денежных знаков), и его комитет предложил план для всех западных земель, который и стал, после небольших изменений, Законом 1784 года.
Географический принцип, предложенный Джефферсоном, был образцом аккуратности. Начиная к северу от тридцать первой параллели, каждый новый штат должен был иметь форму прямоугольника, включающего два градуса широты. Восточными и западными границами должны были стать меридианы долготы: один проходил через водопады Огайо, другой через устье реки Грейт-Канауа. Это напоминало своеобразную шахматную доску. Каждый квадрат получал искусственное имя вроде Полипотамии, Полисипии, Метропотамии или Ассо-нисипии. Подлинная четкость схемы Джефферсона не просматривается, если мы наложим ее на современную карту, но на неточной карте Томаса Хатчинса 1778 года (видимо, на нее полагался Джефферсон) схема выглядит гораздо лучше, поскольку здесь северо-южный меридиан Джефферсона, проходящий через водопады Огайо, достигает озера Мичиган почти точно в его южной оконечности.
Схема шахматной доски Джефферсона, включенная в Закон о земле 1784 года, никогда не применялась на практике в основном из-за возражений Джеймса Монро, который сам только что вернулся из поездки на Северо-Запад. Монро сообщил, что земли там «чрезвычайно бедны». Вокруг озера Мичиган и озера Эри, а также вдоль рек Миссисипи и Иллинойс он увидел обширные болота и топи, временами прерываемые «большими равнинами, на которых с момента их образования не было ни кустика и, судя по всему, никогда не будет». Следовательно, заключил он, маленькие прямоугольники Джефферсона никогда не подойдут для штатов, нужны участки больших и меньших размеров. Джордж Вашингтон тоже выступил против схемы Джефферсона, которая, как он опасался, будет способствовать редкому и разбросанному расселению. «Комплексное и интенсивное заселение придаст силу Союзу. Редкое заселение новых штатов будет иметь обратный эффект». Закон 1787 года о северо-западных территориях в общей форме выражал мнение Монро о создании штатов, число которых было бы меньше, а размеры больше ("не менее трех, но не более пяти”), однако разумно оставил их точные очертания будущему.
311
Если некоторые из крупномасштабных вопросов можно было отложить, то мелкие требовали немедленного решения. Конгресс мог подождать с определением количества штатов и их границ, но не мог тянуть с установлением точных участков, предлагаемых на продажу. Люди селились там каждый день, создавая новые фермы и общины. Они хотели владеть своей землей и иметь уверенность, что их права на нее будут защищены. Несмотря на топографическое невежество, которое было так же велико, как и географическое, конгресс не мог ждать. Различные группы давления заставили конгресс приступить к делу до выяснения того, что же предлагается на продажу. К счастью, схема Джефферсона по созданию штатов накладыванием прямоугольников на еще неизвестную западную местность была отвергнута, но его геометрическая схема была применена в меньших масштабах для определения индивидуальных участков. Вот почему в XX веке огромная и разнообразная территория Соединенных Штатов поражает воздушного путешественника прямоугольной симметрией своих оград и дорог.
Более трех четвертей нынешней территории материковых Соединенных Штатов отчетливо поделены по прямоугольному принципу. Дороги сориентированы на основные точки компаса. Земля Америки (маленькие прямоугольники, разделенные на квадраты миля на милю, которые в свою очередь объединены в большие квадраты шесть на шесть миль) остается, таким образом, одним из самых значительных памятников априоризму во всей истории человечества. И это в стране, являющейся символом приспособляемости и практицизма! Наш земельный раздел явился следствием стремления молодой страны превратить землю в товар, поспешно составив на нее карту и продав прежде, чем она будет изучена или обследована. Это был один из первых примеров, указывающих на особую важность для Америки такого явления, как упаковка.
Упаковке подлежали участки далекой дикой местности. Один из членов конгресса в 1784 году таким образом объяснял два направления в политике, из которых делался выбор:
Обычаем южных штатов была выдача ордера земельным органом. Получившее ордер лицо должно было отыскать любую землю, на которую распространялся ордер, и сделать на нее заявку. Таким образом высматривалась и в первую очередь захватывалась лучшая земля, а менее ценная и разнородная оставалась в руках общества. Но и она... скоро поднималась в цене и покупалась владельцами прилегающих участков хорошей земли в целях собственной безопасности. В восточных штатах (в Новой Англии)... были за
312
ведены продажа либо целого района по долговым распискам (в рамках установленных границ), либо целиком определенных участков, с плохими и хорошими землями и затем их активное заселение.
Какой вариант избрать? Южный, где земля вначале заселяется, а затем обследуется? Или пойти по пути Новой Англии, когда маленькие смежные участки, уже достаточно обследованные, один за другим постепенно заполняются поселенцами? Южная система была хорошо приспособлена для продажи отдельным желающим. С другой стороны, система Новой Англии основывалась на практике первоначальной передачи прав на весь район организованной группе владельцев, которые затем продавали эти права отдельным лицам, что хорошо подходило для обширного заселения. Первые составители плана заселения общественных земель Томас Джефферсон из Виргинии и Хью Уильямсон из Северной Каролины, естественно, склонялись к южной системе, которую знали. Она больше соответствовала потребностям Запада, ибо не требовала предварительного обследования земель.
Новыми обстоятельствами в этой ситуации явились особое отношение Джефферсона к метрической системе и опыт Уильямсона, приобретенный в Голландии. Одним из любимых проектов Джефферсона в это время было стремление упростить все единицы измерения; он, видимо, находился под влиянием большого французского проекта топографической съемки территории, проводившейся от взятой за основу параллели. В то же время образование, полученное Уильямсоном в Голландии, в стране римского права, привело его к знакомству с римской и голландской прямоугольными системами раздела земли. Поэтому оба, хотя и по разным причинам, выступали за введение четкой координационной сетки независимо от естественных качеств земель. Их доклад конгрессу в 1784 году с изменениями лег в основу Закона о земле 1796 года, который с тех пор успешно действовал на обширных федеральных землях.
Идея раздела всей местности на аккуратные прямоугольники была далеко не нова. В 1669 году, еще до того, как лорды-владельцы Каролины послали колонистов в Новый Свет, основные уложения Каролины предусматривали обследование всей земельной территории колонии по квадратам, каждый в 12 000 акров (примерно 4x4 мили). В начале следующего века схема сэра Роберта Монтгомери (1717) определила для лондонских планировщиков Джорджии геометрические районы между реками Олтамахо и Саванна, включавшие 116 квадратов точно по 640 ак
313
ров (1x1 милю) каждый. Опубликованный в 1765 году план генерала Генри Букета по расселению гарнизонов в верхней части реки Огайо исходил из точно такой же схемы. В начале XIX века Дэниел Дрейк заметил, что «изогнутые линии, думается, подходят для сельской местности, прямые — для города». С четкостью шахматной доски была проведена планировка улиц в таких западных городах, как Сент-Луис и Цинциннати.
Принцип, положенный в конце концов в основу Закона 1796 года, явился новоанглийской модификацией южной системы передачи полномочий. Разрешалось заселение до обследования, но землю можно было купить только прямоугольными участками. Каждый маленький прямоугольник (640 акров), названный по-новому «секцией», состоял из одной квадратной мили. Они объединялись в большие прямоугольные «районы» в шесть квадратных миль. Минимальная цена за акр была единой независимо от качества земли. Половина районов продавалась по одной секции, а половина — участками по восемь секций. Принцип шахматной доски был распространен почти по всей стране за пределами первоначальных колоний: богатые долины, увлажненные прерии, бесплодные пустыни, склоны Скалистых гор — все было разрезано на квадраты и предлагалось в одинаковой упаковке.
Хотя такой вид продажи игнорировал своеобразие каждого куска земли, он «сопровождался минимальными расходами, которые во всех случаях включали определение только двух сторон квадрата». Простота очертаний владения должна была, вероятно, также «избавить от споров о прохождении границ в прошлые времена». Каждый участок получал свой номер в стандартной номерной системе. Это позволило отойти от употреблявшейся в американских колониях неуклюжей европейской практики описания участков по «их признакам и месторасположению». В колониальные времена землевладелец в Массачусетсе мог иметь участок, который юридически определялся как «начинающийся у подножия Галли ниже его дома и продолжающийся на 320 вех на север, 5° к западу до Красного дуба, обозначенного буквами АВ, затем проходящий на 83 вехи к востоку до Хвойного дерева, обозначенного буквами АВ, затем к югу на 300 и 20 вех до Высокой сосны, обозначенной буквами АВ, затем идущий на 53 вехи к западу и на юг, что составляет 100 и 34 акра». По новой клеточной системе владелец мог бы описать свой участок просто как «северо-восточная четверть секции 6 в северном районе 39, ряд 14, на восток от третьего основного меридиана». Любой поселенец, обладавший самыми примитивными
314
средствами измерения, мог теперь проверить границы своей покупки.
Но возникла техническая проблема в связи с тем, что земля сферическая и меридианы сходятся к полюсу. Если бы линии границ соответствовали подлинным меридианам, то участки не могли бы быть абсолютно квадратными. Согласно постановлению, разработанному к 1804 году, обследование каждого большого пространства начиналось с наложения в удобной и произвольно взятой точке «основного меридиана» (на меридиане долготы), затем «основной линии» (на параллели широты), которые пересекались под прямыми углами. Начиная с точки пересечения, прилегающие земли размечались на прямоугольные подразделы в четырех самостоятельных квадратах. Новые параллели широты (названные «стандартными широтами») шли с интервалами в двадцать четыре мили. Это означало, что только каждый четвертый район был ограничен подлинной параллелью широты. На каждой параллели происходило небольшое смещение границ, но это не создавало существенных проблем, поскольку корректировка «стандартных широт» каждые двадцать четыре мили сводила накопление ошибки к минимуму.
Значительная практическая проблема возникла из того факта, что вся система предполагала обследование до заселения. Но предварительное обследование каждого небольшого участка в обширных общественных владениях было нереальным. Как мы уже видели, поселенцы лавиной устремились на обширные просторы Запада, не дожидаясь юридических формальностей. Часто земля, которую они обрабатывали, переходила из одной четверти секции или целой секции в другую. Они имели весьма туманное представление о том, где следует искать нанесенные в шахматном порядке границы, но они очень быстро узнавали, где текут ручьи, какие участки песчаные, какие скалистые, болотистые или хорошо осушенные. Многие общины, через свои клубы оформлявшие заявки, устанавливали собственные правила. Позже, когда проводились федеральные обследования, энергичные меры предосторожности местных властей помешали чрезмерному разрушению существовавшего института собственности.
Сама земля была более разнообразной, чем Джефферсон и его современники могли себе вообразить. В те дни даже Дальний Запад (тогда Северо-Западная территория) не давал представления о той широкой географической палитре — от покрытых снегом горных вершин и субарктической тундры до пышных субтропических лесов, болотистых равнин и пустынь из
315
песка и соли, — которая впоследствии составила все многообразие Соединенных Штатов. Повсеместное прямоугольное освоение земли во всем предполагало одну и ту же схему. Повсюду сетка становилась основой для геометрической прокладки дорог, полей, оград и улиц. В конце концов даже формы землепользования стали определяться формами и размерами участков, с самого начала «упакованных» для продажи.
Отцы-основатели успешно, изобрели дешевый путь подготовки земли для продажи на рынке. Прочие последствия этой системы обнаружились слишком поздно. Размер обычного фермерского участка (базовая «секция» в 640 акров и ее подразделы: 320-акровые полусекции и 160-акровые четвертьсекции) совершенно естественно определялся обычными потребностями фермеров влажного Восточного побережья. На Востоке среднегодовой уровень осадков поразительно одинаков — между сорока и шестьюдесятью дюймами в год, — и земли, естественно, орошены широко раскинувшейся сетью рек и ручьев. В этих местах не много участков земли, равных по величине полусекции, где не хватает воды. Но во многих районах Запада, и особенно к западу от сотого меридиана, вода — дело редкое.
Об этом решающем различии сообщил Джон Уэсли Пауэлл в своем эпохальном «Докладе о землях засушливого региона в Соединенных Штатах». В соответствии с этим докладом более четырех десятых всех континентальных Соединенных Штатов (кроме Аляски) было «засушливым регионом». На широких пространствах Запада, где в среднем ежегодное выпадение осадков не достигало двадцати дюймов, нельзя было вести сельское хозяйство так, как на Восточном побережье. Там, где оно вообще было возможным, сельское хозяйство Запада зависело от орошения. Основным источником воды его незначительной орошаемой части были большие ручьи, использование которых зависело либо от коллективного труда, либо от больших капиталовложений на строительство плотин. Лесные участки составляли не более 20 процентов засушливого региона. Основная его часть годилась только под пастбища, и поскольку травы были скудные, ценность представляли лишь большие участки земли. Каждое пастбищное хозяйство нуждалось хотя бы в клочке земли, орошаемом маленьким ручьем или родником. Пастбищная земля была, конечно, бесполезной без воды, которую в этих районах редких осадков могли давать только ручьи.
В засушливом регионе система координатной сетки оказалась схоластической бессмыслицей. Секция в 640 акров была слишком мала, чтобы прокормить семью, содержащую скот.
316
Многие из этих прямоугольников вообще не имели воды. По мнению Пауэлла, минимальная пастбищная единица должна была быть в четыре раза больше, то есть в 2560 акров. Поскольку вода была сосредоточена только на нескольких секциях, их счастливые обладатели располагали властью даровать жизнь или смерть своим соседям.
Пауэлл считал, что сила общины состояла в единении. Границы участков должны были соответствовать водным потокам, а не компасу, поскольку сама жизнь скотоводов зависит от их способности делиться водой и совместно создавать прочие необходимые условия существования. Характер земель будет объединять поселенцев засушливого Запада так же, как пуритан Новой Англии за два века до этого объединяли их убеждения. «Поскольку пастбища должны иметь доступ к воде и орошаться, поскольку проживание должно быть компактным и поскольку земля не может иметь экономическую изоляцию и должна быть общей, — замечал Пауэлл в 1878 году, — то необходимы одинаковые правила или совместные действия». Ирония этого заявления заключалась в том, что в будущем на Западе оказалось гораздо меньше сторонников совместных усилий, приветствующих коллективные ирригационные проекты, сооружение плотин и контролируемых водных источников, чем в первые годы национального существования, когда им способствовали упрощенные формы предоставления земли.
зо.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТИТУТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Итак, Америка обратилась к «созданию» землевладельцев, и никакая государственная власть не играла такой роли, как та, что предоставляла права собственности на участки в Новом Свете. Власть правительства над землей определила особенное отношение американцев к правительству. Те, кто привык думать, что их право первородства включает и право на кусок земли, считали также, что задача властей состоит в том, чтобы сделать эту землю досягаемой, увеличивая тем самым ее ценность и полезность. Существовали различные правительственные организации для оказания гражданам подобного рода услуг.
«Обилие хорошей земли, — объяснял Адам Смит в своем труде «Богатство народов» (1776), — и свобода предпринимательства стали, вероятно, двумя великими источниками процве
317
тания всех новых колоний». Смит гордился тем, что Британия раньше других стран обратилась к освоению колониальных земель. Он утверждал, что в британских колониях крупнопоместное землевладение развито меньше, чем где бы то ни было. Однако, с точки зрения американцев, британская земельная политика не выглядела достаточно свободной. Декларация независимости обвиняла короля в «стремлении предотвратить рост населения в этих штатах, препятствуя действию законов натурализации иностранцев, отказывая в поддержке желающим мигрировать и затрудняя условия приобретения новых земель». Своей Прокламацией 1763 года, по которой Аппалачи объявлялись западной границей между поселениями колонистов и постоянной индейской резервацией, англичане ограничили территорию колоний. Затем, Квебекским актом 1774 года парламент продвинул границы Канады на юг до реки Огайо за счет обширных территорий, на которые уже давно претендовало несколько колоний. По этим и многим другим причинам, включая расточительное ведение колониального сельского хозяйства, американцы все больше и больше нуждались в земле.
Во время и после Революции земли оставались главным камнем преткновения в развитии нового американского государства. Из первоначально образованных тринадцати колоний семь предъявляли претензии на обширные и зачастую перемежающиеся западные земли (вплоть до Западного океана); остальные пребывали в четко обозначенных тесных границах вдоль морского побережья. Небольшие или окруженные другими штаты во главе с Мэрилендом откладывали свое участие в формировании правительства, убеждая остальных обратить еще не заселенные ими западные земли в общее богатство, которое затем новое центральное правительство могло бы распределять. Мэриленд не признавал «Статьи конфедерации» до тех пор, пока ему не пошли навстречу. Когда Виргиния (1781) и Массачусетс (1785) уступили свои западные земли, новая страна стала безусловной реальностью. Крупные землевладельческие штаты сдались лишь к 1802 году. Таких огромных «общественных владений» новейшая история Европы не знала. Слабая молодая страна, еще не уверенная в своей власти устанавливать налоги и творить законодательство, располагала землями, превышавшими территорию всех вместе взятых штатов, да и любого прочно стоявшего на ногах западноевропейского государства.
В течение десятилетий после установления независимости это создавало уникальную проблему для правительства Соединенных Штатов, прежде всего для федерального правительства,
318
а затем коснулось и других органов власти. Как заселить и использовать весь материк? Как распространить права на землю среди людей? Как сделать эти земли полезными и продуктивными, а новые общины — процветающими? В силу всех этих обстоятельств органы управления в Америке стали агентствами по созданию и защите новой собственности. С самого начала американцы рассчитывали, что местные власти помогут им извлечь максимум из этих беспрецедентных возможностей, подталкивая к новым делам и вселяя новые надежды на помощь.
Мнение, пустившее глубокие корни в американском патриотическом псевдофольклоре, что «свободная» земля создала американца как личность, рассчитывающую только на себя, мало соответствует действительности. В таких традиционных обществах, как Англия, где земельные богатства были приобретены людьми много веков назад, человек получал землю благодаря щедрости своего правителя либо помещика либо от отца, деда или брата. В Америке ситуация с землей выглядела совершенно иначе. Хотя простор для личной инициативы в обеспечении себя землей был здесь больше, чем где-либо, важную роль играла также прямая помощь правительства. Только правительство могло превратить владение в собственность. Неудивительно поэтому, что в Америке — где каждый или почти каждый надеялся стать землевладельцем и где само правительство было крупным землевладельцем — все до одного рассчитывали на милость правительства. Американцы надеялись, что власти выделят им конкретные участки земли, подтвердят права на них и защитят новые владения от французских, испанских или других европейских самозванцев, а также от индейских грабителей. К тому же они полагали, что местные власти помогут им проложить надежные пути к этим владениям, увеличивая тем самым ценность земли. Американская ситуация в целом способствовала тому, что американцы ожидали от крупных политических организаций, от штатов и федерального правительства больше, чем их современники в Старом Свете.
Возьмем, например, американскую манеру строительства железных дорог. В Англии железные дороги, как и большинство каналов, сооружались на частные средства, без помощи правительства. Напротив, в Соединенных Штатах любые органы власти — федеральные, штата, округа или муниципалитеты — все оказывали существенную помощь. Почему такое различие? В Англии крупный капитал, необходимый для постройки железной дороги, был в частных руках, а в Соединенных Штатах, где корпорации только начали создаваться, капитал был еще редко-
319
стью. Более того, в Англии, а также вообще на Европейском континенте железная дорога шла вдоль благоустроенных и процветающих торговых путей. Например, дорога между Лондоном и Манчестером могла рассчитывать на полную загрузку с самого ее открытия. Но американская железная дорога (как однажды заметила лондонская «Таймс») шла «из ниоткуда в частности в никуда вообще». Американская железная дорога, как гостиница или общинная газета только что возникшего города, часто строилась в надежде, что она сама будет способствовать притоку населения, обслуживая то, что будет преуспевать.
«Новички не могут себе позволить строительство собственных железных дорог» — таков был рефрен издаваемого Генри Уэрнамом Пуром «Америкэн рейлроуд джорнэл», который постоянно подчеркивал разницу между давно заселенными районами, где капитал сосредоточен в частных руках, и американским Западом, еще нуждающимся в помощи правительства. Уильям Сьюард из Нью-Йорка заявил в 1850 году в сенате, что «такая большая и обширная страна, как наша, нуждается в дорогах и каналах прежде, чем произойдет накопление частного капитала в нашем штате, достаточного для их строительства». Защитникам строительства американских железных дорог казалось бесспорным не только оправдание, н даже требование помощи от властей всех уровней. Предпри имчивых людей, которые получали правительственные субсидии, ссуды и займы на строительство каналов и железных дорог в опасных незаселенных местностях, следует по праву высоко оценить среди пионеров — строителей американского Запада. Как и охотники за пушниной, перевозчики на реках, организаторы устремленных к западу караванов или основатели бурно растущих городов, они использовали особые американские возможности.
Среди этих возможностей следует назвать большое число правительственных образований (федеральных, штатов и местных) и то счастливое обстоятельство, что общественные владения с невиданными богатствами и огромных размеров находились в их распоряжении. Молодость новых органов власти — отсутствие установившихся традиций и освященных временем догм — способствовала смелому обращению с богатством и властью, позволяющими предоставлять займы и делать их при появлении любой вселяющей надежду общественной цели. Не обремененные традиционной концепцией «национального интереса» или жесткой доктриной, ограничива
320
ющей предпринимательскую деятельность, они с неизменным сочувствием относились ко всем просьбам о помощи.
Во времена строительства первых железных дорог, в последние десятилетия перед Гражданской войной, американцы демонстрировали настоящую изворотливость в изобретении путей получения правительственной помощи для сооружения протяженных и дорогих новых магистралей. Разоблачительные пристрастные анализы конца XIX века рассматривают эту деятельность в ложном свете. Трудно найти какой-либо учебник американской истории, который не поместил бы карту «Федеральных земельных пожалований для строительства железных и гужевых дорог, 1823 — 1871» с обозначенными на ней обширными наделами — значительной частью западных штатов — выделенными строителям железных дорог.
Основное подозрение состояло в том, что во всем этом деле было что-то нечистое, иначе почему же строителям перепало столько земли? Но железнодорожные компании являлись далеко не единственными получателями практически повсеместной правительственной помощи.
Правительственная поддержка строительства железных дорог, а еще прежде каналов, о чем свидетельствует Картер Гудрич, превратилась в легенду об особой роли властей в Америке. Общины росли, и распространению населения способствовали сооружаемые с помощью правительства каналы и железные дороги, которые строились раньше, чем в них возникала потребность. В свою очередь железные дороги побуждали людей пользоваться ими. Могло ли такое случиться без существенной правительственной помощи, остается под вопросом, но исторические факты не вызывают сомнений. Продвигавшиеся на Запад поселенцы устремлялись к землям, которые они надеялись превратить в цветущий край. Способствующие этому железнодорожные компании обычно надеялись на помощь со стороны общественных организаций и не были обмануты в своих ожиданиях.
Помощь поступала от всех правительственных образований. В течение XIX века постоянную помощь в разных размерах оказывали штаты, округа и города. Федеральное правительство делало крупные взносы, когда широкое освоение новых территорий натыкалось на серьезное естественное препятствие там, где либо поселения были редки, либо местные власти слишком беспомощны, чтобы предоставить необходимую помощь. Прежде всего федеральное правительство приняло на себя ответственность за великий переход через Аппалачи, когда в
321
1806 году конгресс постановил провести необходимые исследования для строительства национальной дороги или магистрали (известной позднее как Камберлендская дорога), в итоге протянувшейся от Камберленда, штат Мэриленд, через горный хребет к Уиллингу на реке Огайо и дальше (примерно там, где позднее было проложено шоссе № 40). Эта дорога была сооружена непосредственно федеральным правительством.
Затем в 1808 году Алберт Галлатин, изобретательный министр финансов президента Джефферсона, представил сенату свой замечательный «Доклад о дорогах и каналах», разработанный совместно с Джефферсоном. Это был рассчитанный на федеральную поддержку проект транспортной системы, которая должна была покрыть всю территорию страны, соединив восточные реки с бассейном Миссисипи. Начинавшаяся война с Великобританией отодвинула осуществление планов Галлатина, но почти все они были реализованы в течение последующих шестидесяти лет благодаря разнообразному сочетанию частных, местных и федеральных финансовых источников. Затем оказание крупной федеральной поддержки началось, когда шло пересечение пустынных прерий, и достигло своей кульминации во время покорения Скалистых гор и Сьерра-Невады. Речь шла не о дороге вдоль безопасных и заселенных торговых путей, это был 1800-мильный бросок от далекой Миссури к Тихому океану через почти безлюдные земли. Результатом его стали самые большие федеральные субсидии железным дорогам.
Формы помощи варьировались в зависимости от того, насколько выдвигаемые просьбы соответствовали собственным нуждам покровителей строительства, а также предубеждениям и соблазнам законодателей и подрядчиков. Самым распространенным и самым важным при сооружении дорог большой протяженности было предоставление общественных земель как федеральным правительством, так и властями штатов. Например, Техас, сохранивший свои общественные земли при вступлении в Союз в 1845 году, в конце концов преподнес в дар железным дорогам более тридцати двух миллионов акров, или более шестой части территории штата. Земельные пожертвования железным дорогам, как и гужевым до этого, заключались не только в предоставлении права проложить дорогу, но включали также при обычных федеральных пожалованиях и придорожные секции (640 акров) в пределах установленного количества миль по обе стороны от дороги. В субсидиях железнодорожным компаниям минимальная ширина этой полосы
322
была десять миль, максимальная — восемьдесят миль, занимая, следовательно, от пяти до сорока секций по обеим сторонам дороги.
Существовали и другие формы помощи. Прямые денежные субсидии поступали иногда от доходов казны, иногда от общественных займов. Когда в 1873 году штат Северная Каролина исчерпал свои возможности в займах, он уполномочил округа, расположенные вдоль железной дороги, взимать специальный налог, который уплачивался либо наличными, либо местной продукцией. Другой формой помощи было сокращение федеральных налогов либо освобождение от них в штатах и на местах. Например, федеральное правительство время от времени освобождало от пошлины ввозимое для производства рельсов железо. Еще раньше, в 1787 году, штат Южная Каролина предоставил кредиты для уплаты пошлины на ввоз рабов в качестве поощрения работ по улучшению состояния рек Катобы и Уоте-ри. Изобретательность предпринимателей и их друзей-законодателей была неистощима.
К 1860 году органы управления штатами и местные власти предоставили для улучшения состояния транспорта (кроме земли, материалов и особых привилегий) прямые финансовые субсидии на общую сумму более чем в 400 миллионов долларов. По расчетам Гудрича, около 60 процентов этой суммы поступило от семи штатов, расположенных прямо перед Аппалачами. Штат Нью-Йорк израсходовал около семидесяти миллионов, штат Виргиния — более пятидесяти. Такие западные штаты, как Миссури и Теннесси, затратили равные суммы пропорционально своему населению. Хотя местные власти в целом вложили около четверти общей суммы, расходы Балтимора намного превысили субсидии штата. Каждый из городов Портланд, Луисвилл и Мобил затратил на эти улучшения больше, чем штат, к которому он относится.
После провала многочисленных проектов в годы депрессии, которые последовали за 1837 и 1839 годами, некоторые штаты приняли закон, запрещающий властям штатов направлять помощь на внутреннее благоустройство. Несмотря на многие обескураживающие случаи, некоторые из программ этой помощи достигли своего пика в 1850-е годы. Но к 1861 году статьи в конституциях штатов, запрещающие этот вид помощи, стали обычным делом. В результате этого ответственность за оказание помощи в основном легла на местные власти. В 1850-х годах федеральное правительство снова вернулось к системе предоставления существенной помощи же
323
лезным дорогам в виде земельных пожалований. Хотя конкретные источники правительственной помощи часто менялись, ожидание общественного содействия в любой форме никогда не умирало.
Большое разнообразие правительственных образований позволило установить почти непрерывный поток правительственной помощи. Когда президент Монро прекратил федеральную поддержку Камберлендской дороге из-за предполагаемого отсутствия конституционной санкции, брешь закрыли штаты. Когда в начале 1840-х годов штаты стали более осторожными в финансовых делах, то процветающие и устремленные в будущее молодые города были готовы оказать помощь. Между тем к 1850-м годам федеральное правительство снова располагало возможностью предоставить мощную поддержку. Предприимчивый покровитель американских железных дорог или земельного развития почти всегда мог найти какую-либо общественную организацию или иное учреждение, готовое вложить капитал и разделить риск в деле эксплуатации и улучшения континента. За полвека до Гражданской войны американские власти, несмотря на, а возможно, и благодаря своим запутанным, неясным и плохо распределенным обязанностям, все же оказывали необходимые услуги.
Насколько нечетко были распределены функции между различными органами управления, настолько неопределенными были границы между «общественными» и «частными» обязательствами. То, что недвижимость в молодой развивающейся стране была прежде всего ресурсами и товаром, затрудняло установление различий в интересах между людьми. Казалось, что каждый получал выгоду от роста населения и расширяющихся, процветающих общин. Другой американской особенностью, как подметил Гудрич, было то, что общественная и частная деятельность, содействующие внутреннему благоустройству, не считались конкурирующими между собой. Не считалось также, что они должны исключать друг друга. Джейред Спаркс, активный сторонник всех таких усовершенствований, отразил в «Норт Америкэн ревью» (1821) общую точку зрения, когда обратился за поддержкой «в равной мере к частным лицам, корпоративным образованиям и законодателям штатов». Подобные выступления, рассчитанные на то, чтобы добиться помощи правительства, способствовали также частным вложениям. Покровители Западной железной дороги ходили в Бостоне по домам, «убеждая жителей, что долг и личный интерес каждого — внести свою долю в продвижение этого великого начинания». Когда
324
суд Айовы запретил Маршаллтауну выделить муниципальные фонды на строительство железной дороги, отцы города объявили один день нерабочим, чтобы местная инициативная группа могла собрать необходимые средства за счет добровольных пожертвований. Процветающий общинный дух в городах-новостройках заставлял людей стремиться к завершению любого дела, используя для этого если не правую руку правительства, то левую; если не правительство, то непосредственно население.
Движущей силой был также дух конкуренции. Соперничество, которое вдохновляло борьбу за право стать административным центром или битву за тюрьму штата либо за университет, вело к столь же жестоким сражениям за прибыль от магистрали, канала или железной дороги. Еще в декабре 1806 года специальные уполномоченные, которые проектировали Национальную дорогу, отмечали определенные трудности, с которыми они сталкиваются «в связи с озабоченностью и настойчивостью населения каждой части района, которое считает свои земли достойными особого предпочтения». Канал Эри, сооруженный в 1817 — 1825 годах, соединив город Олбани на реке Гудзон с городом Буффало на озере Эри, открыл водный путь к востоку от Огайо, Индианы, Мичигана, Висконсина и Иллинойса и создал огромное преимущество в конкурентной борьбе как для Буффало, так и для Нью-Йорка. «Построен самый длинный канал в мире, — с гордостью сообщал оратор на его открытии, — за самое короткое время при минимальном опыте, за минимальные деньги и к наибольшей общественной выгоде». Губернатор Де Витт Клинтон был основным патроном, штат Нью-Йорк — организатором и финансистом, и взносы, пусть в скромных размерах, поступили почти от всех жителей штата.
Другие регионы и крупные города не остались позади. Мэриленд и Балтимор ответили на вызов двумя крупными стройками, перевалив через горы к рекам Мононгахила и Огайо. 4 июля 1828 года первая лопата земли была вынута на строительстве канала Чезапик — Огайо и железной дороги Балтимор — Огайо, которые соперничали в возможности содействовать общественному процветанию. Канал в основном поддерживался штатом Мэриленд, а железная дорога — городом Балтимор. Тем временем в Виргинии высказывалось недовольство теми, кто позволяет слишком большим богатствам штата «ускользать из рук и набивать сундуки соседей». Южная Каролина, вдохновленная своим энергичным губернатором Джорджем Макдаффи, надеялась
325
собственным проектом пересечения Аппалачей (1836) превратить Чарлстон в Нью-Йорк Юга.
Каждый успешный проект плодил другие, предполагавшие получение выгоды от предыдущего. Например, процветавший канал Эри усилил соперничество между Троем и Олбани за право быть основным перевалочным пунктом на реке Гудзон для транспортных путей с Запада. Трой затратил около трех четвертей миллиона долларов на муниципальную железную дорогу; Олбани в ответ дал субсидию в четверть миллиона долларов на ветку Мохок—Гудзон.
Западные города-новостройки отчаянно боролись за свои привилегии. В Огайо почти каждая железная дорога, построенная между 1836 и 1850 годами, получала финансовую поддержку от округов или городов. Цинциннати прикладывал огромные усилия, чтобы привлечь к себе основные пути, идущие как на восток (через Литтл-Майами), так и на запад, к Сент-Луису. Когда перепись 1860 года показала, что город уступает свое первое место к западу от Аппалачей, то городская газета «Дейли тайме» объявила «делом жизни или смерти» обеспечить строительство железной дороги на юг, чтобы соперничать с Луисвиллем. Положение конституции штата Огайо, запрещавшее городу становиться «держателем железнодорожных акций», Цинциннати обошел, построив железную дорогу целиком за свой счет. Сент-Луис, воодушевляемый всеобщей энергией, до 1861 года вложил более 6 миллионов долларов в железные дороги, чтобы сделать город и округ многонаселенными. Округ распределил железнодорожные акции среди жителей, «вселяя таким образом в каждого налогоплательщика заинтересованность в дороге пропорционально сумме его налогов» и «предоставляя право голоса на выборах директоров и при определении места строительства дороги». Подобная же практика применялась в штате Айова и в других местах.
Патроны железной дороги, призывая общины выступать друг против друга, извлекали выгоду, меняя направление дороги. Жители города Норт-Либерти, штат Айова, на всеобщем собрании приняли резолюцию (от 13 декабря 1865 года), согласно которой округ Джонсон выделяет полмиллиона долларов, «лишь бы эта железная дорога не прошла в двадцати милях восточнее или западнее нас». В 1869 году строители Железной дороги в Индиане открыто предлагали провести ее через Ковингтон в обмен на пожертвования в восемьдесят тысяч долларов; в противном случае они угрожали переместить ее в направлении Перривилла. Иногда эта конкуренция давала забавные резуль
326
таты. Железная дорога Нью-Йорк—Осуиго — Мидланд, законченная в 1873 году, прошла зигзагами по всему штату в поисках муниципальных обязательств. Когда большие города типа Сиракуз отказались подписать их, то дорога все-таки обеспечила себе шесть миллионов долларов муниципальной помощи от примерно пятидесяти в основном небольших городов. Чтобы собрать необходимую сумму, она в конце концов пересекла всю территорию штата, минуя крупные города.
Неудивительно, что трансконтинентальный путь, самый грандиозный американский железнодорожный проект, долго не осуществлялся благодаря повсеместным спорам о том, где же пройдет дорога. Только после того, как раскол удалил из конгресса сторонников южного пути, стало возможным подойти к принятию решения о федеральной помощи. Но продолжалась ожесточенная борьба между защитниками центрального и северного направлений. Маршрут предполагаемого трансконтинентального пути, заявлял представитель Нью-Мексико, не может быть утвержден, «если он не будет начинаться у порога дома каждого фермера и проходить через плантации всех его соседей». Акты о Тихоокеанской железной дороге (1862; 1864) зафиксировали восточный конечный пункт в Омахе и явились победой интересов Айовы — Чикаго (поддержанных Нью-Йорком) над интересами Канзаса — Сент-Луиса (поддержанных Цинциннати, Балтимором и Филадельфией). Давление конкурентов было слишком велико. В конце концов благодаря федеральной помощи ветка на Омаху оказалась лишь одной из пяти. То, что могло стать величайшей артерией, как заметил один критик, превратилось в небольшой пульверизатор.
31.
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ГРАНИЦ
В Соединенных Штатах границы национальных притязаний долгое время не обозначались и не определялись в силу исключительно географических обстоятельств. Неопределенность государственных границ, оказавшаяся одним из самых богатых источников национального процветания, преобразовалась в три формы: во-первых, во всеобщую неуверенность относительно национальных границ на западе, севере и юге; во-вторых, в неопределенность в отношениях между территориями нового государства и индейских «наций», которым эти территории
327
принадлежали раньше; и, в-третьих, в неуверенность относительно того, можно ли, а если можно, то какими законными мерами и в каких географических пределах, аннексировать районы, лежащие за пределами первоначальных тринадцати колоний. Первые две из этих форм я рассмотрю в этой главе, а третью — в следующей.
В колониальный период американские земли, преподнесенные в дар королями Яковом I, Карлом I, Карлом II и Георгом И, часто не сопровождались географическими подробностями. Лишь указывалось, что пожалованная земля (между обозначенными пунктами на побережье либо между определенными градусами широты) должна простираться (выражаясь языком Якова I, подарившего в 1609 году Виргинию) «от моря до моря». Дарственный акт Карла I «Массачусетс бей компани» (1629) гласил: «Все наши земли от Атлантики и Западных морей и океанов на Востоке до Южного моря на Западе». Конечно, никто даже приблизительно не знал тогда расстояния до Тихого океана.
Географическая путаница была настолько существенной, что современные карты не в силах указать границы получивших независимость Соединенных Штатов, как их понимали обе стороны в ходе заключения англо-американского договора, завершившего Революцию (1779 — 1783). Общие очертания выглядят совсем по-другому на наших более точных картах, чем на восьмилистной карте, выполненной в масштабе Г.2 ООО 000 доктором Джоном Митчеллом из Урбаны, штат Виргиния (2-е изд., Лондон, 1755), которой тогда пользовались. Даже река Миссисипи была во многом объектом догадок. Выше ее слияния с Огайо, где карта Митчелла отмечает Миссисипи удаляющейся куда-то на запад, расстояние между южной оконечностью озера Мичиган и ближайшей точкой на реке оказывалось в два с лишним раза больше, чем на самом деле. Некоторые члены континентального конгресса, путая реку Миссисипи с Миссури, критиковали участников переговоров за то, что они установили границы слишком далеко на восток — обычное для того времени недоразумение размером в одну треть миллиона квадратных миль. Однако какая именно река имелась в виду, особого значения не имело, поскольку верховья обеих рек были окутаны туманом.
Покупка Луизианы в 1803 году, первой дополнившая неясно обозначенную территорию первоначальных колоний, удвоила площадь Соединенных Штатов и продвинула страну дальше по направлению к неведомому Западу. Новая территория протяну
328
лась буквально вдоль всей западной границы, которую покрыл еще более непроницаемый туман. Мы часто слышали о том, что покупка Луизианы считается одним из самых удачных в истории приобретений недвижимости. Чтобы понять нашу историю, необходимо помнить, что это было неожиданное приобретение. Основная его ценность состояла в неопределенности как размера, так и содержания.
Договор 1803 года, по которому правительство Наполеона уступило всю Луизиану Соединенным Штатам, на деле не определял ее четких границ. Согласно его уклончивой формулировке (заимствованной из договора, по которому Франция за три года до этого получила Луизиану от Испании), предоставлялась «колония или провинция Луизиана в тех размерах, в которых она находилась в распоряжении Испании и была в момент, когда ею владела Франция; и так должно быть впоследствии при заключении договоров между Испанией и другими государствами». Такая загадочность не была неумышленной. Американский посланник Роберт Ливингстон сообщал о своем разговоре с французским министром иностранных дел 20 мая 1803 года. «Я спросил... где же окончательные границы предоставляемой нам территории; он ответил, что не знает; мы должны взять то, что получили они...» — «Значит, Вы считаете, что мы разберемся с этим сами?» — «Я не могу дать вам никаких указаний: вы совершили важную для себя сделку и, надеюсь, извлечете из нее максимум возможного». Наполеон, когда ему доложили о неопределенности границ, успокоил своего министра, сказав, что, если бы даже такой неясности не было, задачей искусной политики было бы ее создать.
Начиная с XVIII века Франция заявляла, что Западный океан является границей ее американских владений. На этом или каком-то ином основании, но сам Джефферсон, судя по его инструкциям экспедиции Льюиса и Кларка, видимо, думал, что приобретенная Луизиана, возможно, простирается до Тихого океана. Однако западной границей, в отношении которой, как он считал, нет никакого сомнения, были «нагорья западного берега Миссисипи, включая все ее воды, и, конечно, Миссури». К западу от этой линии вопрос о границах мог обсуждаться.
Подобные неточности открывали большие возможности. Что касается, например, юго-восточной границы, то посланник Роберт Ливингстон, который сам вел переговоры в неопределенных выражениях, случайно обнаружил (по словам Генри Адамса), «что Франция купила Западную Флориду, не зная этого, и продала ее Соединенным Штатам, ничего за нее не полу
329
чив». Так возникли претензии американцев на Западную Флориду.
Кроме части русла Миссисипи, все границы приобретенной территории (которые, конечно, включали западную и южную границы Соединенных Штатов) долго оставались сцррными. Эта неопределенность еще десятилетия будет господствовать в американской внешней политике, помогая переманивать поселенцев из Соединенных Штатов, создавая ореол таинственности вокруг Запада для всей страны. Например, было широко объявлено, что Техас является частью приобретенной Луизианы. Когда в 1819 году по договору Адамса — Ониса с Испанией Восточная Флорида отошла к Соединенным Штатам, а западные границы Луизианы были установлены так, что исключали Техас, многие, подобно сенатору Томасу Харту Бентону, осудили «капитуляцию». Когда этот договор определил южную границу Луизианы по сорок второй параллели, протянувшейся до Тихого океана, возникли новые недоразумения. Эти пространственные неточности отчетливо видны на любой карте, где нанесены различные границы, самым серьезным образом предлагавшиеся испанской или американской стороной до 1819 года. Но даже после уточнения южного направления северная граница Соединенных Штатов оставалась необозна-ченной и продолжала оставаться в таком состоянии еще ближайшую четверть века.
♦ ♦ *
Помимо этих обстоятельств, особенно беспокоила правовая двусмысленность, возникающая в связи с присутствием индейцев. Кому принадлежал Американский континент до того, как там появились европейцы? Каким образом и от кого европейцы получили свое исконное право на землю? Могли ли американцы в начале XIX века позволить, чтобы индейцам еще принадлежала какая-либо земля? В XVII веке многим из европейских поселенцев, прибывших на материк, казалось, что он конкретно вообще никому не принадлежит. Общение с индейцами, конечно, мало напоминало деловые отношения с европейцами. Индейцы не соблюдали принятые в Европе рыцарские законы ведения войны и не следовали европейским обычаям заключения мира и договоров.
Как можно было приобрести землю «законно»? Европейский опыт не содержал подобного прецедента. Этот вопрос преследовал американцев на протяжении всего первого века
ззо
их национального существования. Но не потому, что американцы были особенно добродетельны: в соперничестве за материк любое, самое маленькое преимущество нельзя было упускать, и даже подобие «законности» могло показаться кое-кому убедительным. Чем больше индейцы попадали в зависимость от своих завоевателей, тем более правовой характер носили их отношения. Права на землю, непонятно как приобретенные у индейцев, покрыли еще большим туманом границы новой страны.
Почему непобедимые европейские завоеватели вообще брали на себя труд «покупать» земли у индейцев? В соответствии со строгой буквой английского закона английская корона («открыв» земли) завладела Северной Америкой как протекторатом в XVII веке; следовательно, право на американские земли могло быть предоставлено только дарственным актом короны. Отцы-пилигримы могли разделить либо не разделить празднование первого Дня благодарения с индейцами, но у нас нет никаких свидетельств того, что они уплатили индейцам за право обладать их землей. По сравнению с англичанами голландцы в Северной Америке имели очень зыбкое «право на открытие»; в отличие от испанцев они не получали пожертвования от папы. Чтобы найти или создать какие-либо правовые гарантии, они стали «покупать» земли у индейцев. В 1626 году Питер Минуит, управлявший голландским поселением на острове Манхэттен, заплатил индейцам шестьдесят гульденов за этот покрытый лесом участок в двадцать тысяч акров. Сделка не была такой уж нечестной, как это иногда пытаются представить, поскольку при том, что долларовый эквивалент сделки составил около 24 долларов, их покупательная способность в то время соответствовала нескольким тысячам долларов середины XX века. Странно то, что этот эпизод, который стал легендой об обмане индейцев белыми людьми, на самом деле продемонстрировал чрезмерную по тем временам голландскую добропорядочность. Удивляет не сумма, которую они заплатили индейцам, а то, что голландцы в принципе сочли необходимым что-то заплатить, создавая опасный прецедент.
Кроме того, голландец по голландским законам мог обладать правом на американскую землю только в том случае, если У него имелось также разрешение от голландских властей, которые требовали, чтобы будущий владелец сначала получил какие-то права на нее от индейцев. Когда после 1629 года система патроната колоний была введена в больших поместьях на Гудзоне, каждый владелец должен был обеспечить себя офи
331
циальным документом от индейцев прежде, чем он получит его от голландских властей. Лишь после того, как англичане впервые столкнулись с голландцами в спорах о земле, они тоже начали «покупать» участки у индейцев, по-прежнему считая подобные «покупки» необязательными с точки зрения закона и рассматривая их просто как проявление порядочности или хорошего тона. Фанатичное убеждение Роджера Уильямса в том, что подлинными владельцами земли являются индейцы, и его настойчивость в отстаивании их права на продажу раздражали его современников из Новой Англии. Род-Айленд был тогда единственной английской колонией, где разрешение английских властей (1644) было выдано только после того, как землю купили (1636; 1638) у индейцев. Хотя англичане как в Новой Англии, так и в других американских колониях продолжали «покупать» индейские земли, они никогда не меняли своего отношения к правам индейцев, не имеющих силы по английским законам. Они исходили из того, что с юридической точки зрения все индейские земли были своего рода общественным достоянием. Только корона могла даровать право владения землей всякому, кому пожелает.
По английским законам «сделка» с индейцами являлась лишь свидетельством готовности индейцев освободить земли, на которые у них и так никогда не было законных прав. Разумеется, что только по этой причине сделка с индейцами была желательной. Для некоторых совестливых жителей Новой Англии она служила дополнительным доказательством их личного преимущества, свидетельствуя как «о справедливом и беспристрастном, так и о законном праве на землю». Но, как напоминает нам Уильям Кристи Маклеод, если бы не страстный морализм Роджера Уильямса, то удобная выдумка о «приобретении» индейских земель приказала бы долго жить вместе с голландской Западно-Индийской компанией и никогда не пустила бы корни в английских колониях.
Таким образом, завоевание американских земель началось в обстановке такой морально-правовой неразберихи, о которой Европа не ведала. Даже спустя много лет после Гражданской войны сугубо американская проблема взаимоотношений поздних пришельцев с подлинными хозяевами земли продолжала мучить совесть американцев и омрачать им жизнь. «Ненормальное отношение индейских племен к правительству,—жаловался уполномоченный по делам индейцев президенту Гранту в 1873 году, — ...требует того, чтобы с ними обращались в равной мере и как с суверенными гражданами, и как с подопечными».
332
То, что помогало сохранить национальные границы неопределенными, делало сомнительными все правовые и политические проекты национального расширения.
Как далеки от совершенства были пророческие возможности американцев в начале XIX века! Они не могли себе представить и еще меньше предугадать скорость, с которой граждане Соединенных Штатов заполнят материк. Не могли они предположить и быстрого упадка индейских племен. То, что наводившие когда-то ужас величественные «нации» за один век станут бессильными, нищими и зависимыми, окажутся заключенными на бесплодных пространствах, было за пределами самого буйного воображения как самых дальновидных, так и самых недоброжелательных государственных деятелей того времени.
Во времена имперских войн с французами в середине XVIII века англичане оценили решающую помощь независимых индейских племен. Если поначалу каждая английская колония обращалась с соседствующими индейцами, как это ей заблагорассудится, то более организованные французы успешно использовали в своих стратегических планах индейские племена в качестве военных союзников. Генерал Брэддок, известный также умением вести войну в американских непроходимых лесах, в 1755 году завел собственных агентов среди индейцев, надеясь наконец таким образом согласовывать политику индейцев со своей. С тех пор английская корона взяла на себя ответственность за все индейские дела. Англичане, всегда сведущие в юридических тонкостях, теперь делали вид, что индейцы являются суверенными «нациями», владеющими собственными землями. Корона же не претендовала ни на что, кроме как на исключительную возможность купить эти земли в том случае, если индейцы соберутся их продать.
Пока шло формирование нового государства, казалось возможным один из штатов образовать исключительно из индейцев. Предлагалось, чтобы различные племена объединились и существовали как равные члены федеративного союза, тем самым не только решая индейскую проблему, но и укрепляя союз. В договоре, который американские революционеры заключили с племенем делавэров в Форт-Питте в 1778 году (ратифицирован конгрессом в 1805 году), было ясно сказано, что с одобрения конгресса дружественные племена во главе с делавэрами могут объединиться в конфедерацию, образовав свой собственный штат. Кроме того, в 1785 году в договоре между Соединенными Штатами и племенем чироков было записано, что «индейцы мо-
ззз
тут полностью довериться правосудию Соединенных Штатов в соблюдении их интересов, они будут иметь право послать в конгресс депутата по собственному выбору, когда сочтут это необходимым».
Когда покупали Луизиану, многие американцы предполагали, что объединенный индейский штат, или штаты, в любом случае будет частью Союза. Джефферсон предусматривал план заселения этой территории теми индейцами, которых можно было бы убедить переехать с Востока. Преподобный Джедидиа Морз, автор первой «Американской географии» (1789), секретарь Общества пропаганды Евангелия среди индейцев и других народов, был уполномочен федеральным правительством в 1819 году совершить путешествие туда, где живут индейцы, и изучить условия их существования. Результатом поездки на Северо-Запад стал представленный им военному министру проект 1822 года, по которому «эта территория должна быть зарезервирована исключительно для индейцев, где и будет проведен предполагаемый эксперимент по объединению как можно большего числа рассеянных повсюду индейцев, которые хотели бы здесь поселиться, получить образование, сделаться гражданами и со временем приобщиться ко всем привилегиям, предоставляемым другим территориям и штатам Союза».
Президент Монро в своем последнем послании к конгрессу в 1825 году, когда индейские проблемы в Джорджии достигли кризисного состояния, предложил переселить восточные племена к западу от Миссисипи, объединить их там в протекторат Соединенных Штатов, распространив таким образом свое влияние до Тихого океана. И хотя о статусе штата особо не упоминалось, это явно имелось в виду как следствие. Статус штата, без сомнения, предполагался Кэлхуном, военным министром президента Монро, после того как он получил доклад Джедидиа Морза. О намерении создать такой индейский штат или предоставить индейцам свободу самим решать вопрос о его создании говорилось время от времени и после окончания Гражданской войны. Даже в 1871 году президент Грант в качестве элемента своей индейской «мирной политики» предлагал выделить к югу от Канзаса район, который «позволит собрать большинство индейцев, живущих сегодня между рекой Миссури, Тихим океаном и южными владениями англичан, в одну область или в один штат». Этот штат должен был состоять исключительно из индейцев.
Между тем вопрос о правах индейцев и правах европейцев на земли, которые ранее принадлежали индейцам, казался запу-
334
тайным еще и по другим причинам. Пуритане Новой Англии, например, обращаясь к основному библейскому принципу, по которому человек обретает право на землю, проживая на ней и улучшая ее, делали вывод, что индейцы, по словам Джона Уинтропа, «обладают лишь естественным правом на те земельные пространства, которые они населяют и могут обработать... остальные же земли страны открыты для каждого, кто мог бы и пожелал их возделывать».
Многочисленные, наспех составленные договоры с индейскими племенами были взаимоисключающими и противоречивыми. Гринвиллский договор (1795) генерала Энтони Уэйна с вождями племен делавэров, шайеннов, уэйндотов и представителями конфедераций Майами, заключенный после их поражения в битве Поваленных Деревьев, разделил всю Северо-Западную территорию на индейские земли и земли, свободные для белых поселений. Эта линия была приблизительной границей между районами фактического проживания индейцев и поселениями белых до на-чалаХ1Х века. В течение следующей половины столетия были заключены дополнительные договоры и совершены покупки земли с неясными границами у целых племен или их части. Стало непонятно, какие из индейских прав «прекратили свое существование».
Американская ситуация привела Джефферсона к мысли о том, что «наши географические особенности могут потребовать иного кодекса естественного права, регулирующего отношения с другими нациями, чем тот, который своим рождением обязан европейским условиям». Эдвард Эверетт объяснял позднее, что отсутствие в Америке четких, давно установленных юридических границ, подобных имеющимся в Европе, неизбежно придает новое значение всем естественным границам. Один особо важный практический вывод, который сделал сам Эверетт на посту государственного секретаря, состоял в утверждении, что даже «юридическое» обладание колониями в Америке не дает европейскому государству никакого права на вмешательство в Дела этого отдаленного континента.
Права на землю и то, как на самом деле шло освоение Запада, порождало конфликты с индейцами в течение почти всего XIX века. После Гражданской войны индейские резервации, пастбища и охотничьи земли были рассеяны по всему Западу. Политика создания резерваций исключительно для туземцев Достигла своего пика в 1870 году, когда вся их территория была больше, чем штаты Калифорния и Орегон вместе взятые.
335
В годы после Гражданской войны в непосредственных столкновениях с индейцами находилось больше американцев, чем за все предшествующее время начиная с колониального периода. Кульминацией политики, начавшейся с покупки Луизианы, было переселение индейцев за Миссисипи, на Запад. Такая политика была вызвана тем, что индейцы все еще обладали определенной военной мощью и развитым чувством собственного достоинства, чтобы оказывать сопротивление надвигающимся американским поселениям. Вождь племени сиу из Ункпапы Медвежье Ребро во время переговоров в 1866 году в Форт-Пьере (на территории современной Южной Дакоты) с горечью спрашивал:
Кому принадлежит эта земля? Я дума», она принадлежит мне. И если вы попросите у меня кусок земли, я его не отдам. Я не могу обойтись без него и очень его люблю. Вся эта территория по обе стороны реки принадлежит мне. Я знаю, что от Миссисипи до этой реки вся страна принадлежит нам и что мы передвигались от Йеллоустона до Платта. Вся эта страна, как я уже сказал,—это наша страна, и если ты, мой брат, попросишь ее у меня, то я ее тебе не отдам, ибо я люблю ее и надеюсь, что ты выслушаешь меня.
Американцы не слушали.
Но индейцев нельзя было полностью игнорировать, поскольку они угрожали жизни и многим землям на Западе. Даже в 1869 году уполномоченный Соединенных Штатов по сельскому хозяйству предупреждал, что «пятьдесят тысяч враждебно настроенных индейцев», населяющих территорию между рекой Миссури и Скалистыми горами, продемонстрировали «тупость характера и неспособность к восприятию влияний цивилизации... удивительные даже для этой странной человеческой расы». Он не преувеличивал ни их количество, ни их враждебность. Против индейцев правительством Соединенных Штатов только в районе верхней Миссури было основано более 110 фортов с гарнизонами около 20 тысяч солдат. Но демобилизация после Гражданской войны привела к сокращению армии, которой стало трудно поддерживать порядок и на Юге, и среди индейцев. К1870 году на всем Западе было около 200 тысяч индейцев; индейская угроза еще не стала легендой.
Новоселы на широких просторах Колорадо, Вайоминга и Монтаны писали в конгресс петиции с просьбами о помощи. Они жаловались, что слишком малочисленные войска охраняют их земли, что форты слишком слабы и чересчур далеко друг от друга. В ходе наступления федеральных войск 1876 года были
336
наконец разгромлены вожди Сидящий Бык и Бешеный Конь, но это поворотное событие произошло только после уничтожения Кастера и его 264 солдат в битве при Литтл-Бигхорне. Скотоводы и другие поселенцы продолжали протестовать против создания индейских резерваций, которые, как они считали, служат враждебным сиу защищенными правительством крепостями, в которые те могут удаляться, чтобы собрать силы для новых набегов. В 1880 году половина штата Южная Дакота еще считалась землей индейцев.
До Гражданской войны западные земли оказались разменной монетой в конфликте между Севером и Югом из-за отношения к рабству. Каждая сторона надеялась, что индейцы станут постоянным препятствием продвижению других на Запад. Сенатский комитет по делам индейцев докладывал в 1836 году, что, «располагая незаселенными районами к западу, индейцы не могут оказаться в окружении белого населения. Они — вне наших пределов и всегда будут оставаться вне их». В ходе дебатов 1837 года относительно законопроекта об индейской территории южане предложили остановить продвижение на север и предоставить индейцам всю землю к северу и к западу от Миссури вплоть до Скалистых гор. Северяне, преследуя аналогичные цели, планировали разместить индейцев на юго-западе. Попытки создания Небраски были блокированы требованиями гарантировать сохранение земли исключительно для индейцев.
До той поры, пока индейцы обладали достаточной силой, чтобы причинять беспокойство, — примерно в течение ста лет после рождения страны, — американские граждане были готовы во имя собственных интересов держать в состоянии неопределенности границы и претензии индейцев. Четкое обозначение территории, находящейся в их владении, только лишь усилило бы веру индейцев в свои исконные права на нее. Чаще всего собственность индейцев на определенное пространство открыто признавалась только после того, как они продавали его белым. Готовность индейцев продать обычно истолковывалась как лучшее и зачастую единственное доказательство их права собственности. Таким образом, индейцы являли собой перемещающееся облако, удобно скрывающее очертания национальных границ. Без этих многочисленных, непонятных и кочующих «народов» на нашей окраине пределы обитания нации могли бы быть определены более точно и более жестко. Это была последняя услуга, оказанная индейцами белому человеку.
337
32.
НЕЯСНАЯ СУДЬБА
Вряд ли когда-либо вообще существовала страна, в такой степени неуверенная в своих географических пределах, возможностях роста и способах объединения со своими соседями. Как должно было происходить расширение ее территории? Насколько далеко предназначалось раскинуться владениям Соединенных Штатов Америки? По этим, как и по другим важным вопросам члены конституционного конвента 1787 года не могли прийти к единому мнению. Возможно, они не беспокоили себя подготовкой четких ответов, поскольку не считали эти вопросы насущными. А может быть, они предпочитали давать неопределенные ответы из-за имеющихся разногласий.
Разумеется, Конституция была выработана представителями тринадцати самостоятельных штатов, протянувшихся вдоль Восточного побережья. Каждый из этих первоначально образованных штатов выходил к Атлантическому океану. Конституция, которую они создали, не была рассчитана на удаленную от моря, окруженную сушей страну, еще менее — на страну-континент. На конституционном конвенте 1787 года обсуждение статьи, касающейся вхождения новых штатов, было коротким. Под «новыми штатами» делегаты имели в виду те, которые могли выделиться из первых тринадцати штатов, из западных земель, на которые они претендуют, либо образованы на территории, переданной Соединенным Штатам англичанами по мирному договору 1783 года. Если кто-нибудь и ожидал, что новые штаты будут создаваться на обширных, вновь приобретенных территориях, то эти мысли не-были нигде зафиксированы.
Дебаты на филадельфийском конвенте, состоявшиеся 29 и 30 августа 1787 года, продемонстрировали известный конфликт между большими и малыми штатами, между теми, кто имел необъятные западные владения, и теми, кто не имел ничего. В центре дискуссии оказалась опасная идея, которую Гувернер Моррис определил как идею «раздробления больших штатов». Обсуждались два основных вопроса: намереваются ли новые штаты, созданные на старой территории, взять на себя часть существующего общественного долга в качестве условия приема их в Союз и требуется ли разрешение законодательной власти старых штатов на образование из них новых?
338
Вряд ли кто-нибудь из участников конвента мог предполагать, что проблема не сведется лишь к тому, как организовать приблизительно обозначенное в те времена пространство новой страны. Конечно, делегаты ясно выражали свою решимость не нарушать баланс национальных сил в пользу непредсказуемого Запада, поскольку на Атлантическом побережье уже давно распространялись опасения, что беспорядочное продвижение на Запад слишком разрядит население. Джордж Мейсон из Виргинии заявлял на конвенте, что «если бы было возможно законными методами предотвратить эмиграцию на Запад, то такую политику следовало одобрить». Но и он, и другие добавляли, что очень трудно помешать эмиграции, поэтому с людьми, которые устремляются на Запад, необходимо обращаться как с равноправными гражданами.
Реакция американского руководства на покупку Луизианы в 1803 году продемонстрировала, до какой степени оно было не готово к великому переселению за Миссисипи. В последующие годы государственные деятели состязались в предусмотрительности, но, чем больше мы узнаём о том, как на самом деле была куплена Луизиана, тем больше кажется, что это случилось в результате совпадения, непонимания и большого везения. Если бы связь между Вашингтоном и нашими дипломатическими представителями за рубежом была такой же быстрой, какой она стала позднее в XIX веке, то покупка вообще никогда не смогла бы состояться. Мало что свидетельствует о серьезном предвидении Джефферсона или кого-нибудь еще накануне приобретения Луизианы, что Соединенные Штаты будут простираться за Миссисипи. В начале XIX века миф о существовании Великой Американской пустыни на западных окраинах страны уже приобрел характер уверенности. В описании Луизианы, представленном президентом Джефферсоном конгрессу в ноябре 1803 года, хотя и признавалась полная неясность ее границ, однако утверждалось, что редкие поселения «отделены там друг от друга необъятными и непроходимыми пустынями». В начале XIX века очертания пустыни прояснились, волнуя воображение граждан и маня переселенцев.
Когда договор о покупке территории Луизианы был доставлен назад в Соединенные Штаты в середине лета 1803 года, то вызвал больше опасений, чем радости, — опасений нарушить Конституцию, поскольку она не содержала положений о расширении страны за счет новой территории; опасений, что беспорядочное продвижение на Запад может изрядно рас
339
сеять те шесть миллионов населения, которое и так было редким для территории, в несколько раз превышающей любую страну Западной Европы. Многие общественные деятели считали, что мощь страны определяется не ее просторами, а концентрацией населения на них и эффективным использованием земель. Кое-кто разделял точку зрения французского географа, который в 1804 году видел в огромном увеличении территории Соединенных Штатов «активный источник нынешней слабости и будущего разделения».
Эти опасения не были абсолютно беспочвенными. Установлено, что за период великого освоения земель, между 1809 и 1829 годами, реальный доход на душу населения в Соединенных Штатах упал примерно на 20 процентов. Во время покупки Луизианы некоторые предприниматели с Востока начали опасаться утечки на Запад их основных ресурсов. Спустя четверть века эти опасения были еще живы, поскольку министр финансов Ричард Раш предупреждал: «То, каким образом отдаленные земли Соединенных Штатов продаются и заселяются, пусть это даже направлено на увеличение населения страны... не увеличивает в такой же пропорции капитал... Создание капитала скорее замедляется, чем ускоряется, из-за того, что редкое население разбросано на большом пространстве земли. Все, что может служить сдерживанию этой тенденции... иначе, как благотворным, не назовешь».
К июлю 1803 года Джефферсон уже направил своему кабинету предлагаемую им поправку к Конституции, которая разрешала приобретение Луизианы и укрепляла Союз, препятствуя распространению населения в направлении к Западу. Его поправка, специально посвященная включению Луизианы в Союз, была дополнена словами о том, что «права владения землей и самоуправления подтверждаются за индейскими жителями, если они там сейчас имеются». Нужно было создать особую конституцию для новой территории, расположенной к северу от тридцать второй параллели, которая полностью должна была остаться за индейцами (это фактически все купленные земли,- кроме нынешнего штата Луизиана). «Великая задача», как считал Джефферсон, состояла в том, чтобы «предотвратить эмиграцию, предоставив для этих целей лишь определенную часть территории».
Дебаты в конгрессе относительно покупки Луизианы, начавшиеся в октябре 1803 года, были любопытными и знаменательными. Поскольку она должна была стать первым прибавлением к первоначальной территории страны, опреде
340
ленной договором 1783 года, то и дебаты были первым законодательным испытанием готовности национального мышления к расширению земель. Такой подход к проблеме выдал смущение тех создателей Конституции, кто еще оставался в живых и оказался перед столь важной проблемой. Федералисты вроде Гувернера Морриса, проявлявшие активность на конституционном конвенте, теперь пересмотрели свои до этого широкие взгляды на федеральную власть. Они настаивали на том, что конгресс не может «признать в качестве нового штата территорию, которая не принадлежала Соединенным Штатам, когда была принята Конституция». Моррис, который два десятилетия назад сформулировал это решающее положение, теперь, вспоминая, объяснял, что он сознательно сделал текст статьи IV неясным. Сам он предполагал, «что когда мы приобретем Канаду и Луизиану, то будет справедливо управлять ими как провинциями, не предоставляя им права голоса в наших советах». Но поскольку, по его словам, другие тогда возражали, то он предпочел избежать спора, не вынося вопрос на открытое обсуждение.
В 1803 году республиканцы Джефферсона, известные строгим соблюдением Конституции, сначала признали, что Конституция не дает конгрессу или президенту прямых полномочий на расширение территории страны. Затем сам Джефферсон, неожиданно изменив свое обычное мнение, потребовал от конгресса, во-первых, ратифицировать договор и уплатить деньги за купленные земли, а затем призвал нацию «принять дополнительную статью Конституции, одобряющую и подтверждающую то, что прежде нацией не было санкционировано. Конституция не содержала положения о приобретении нами чужой территории и, более того, о включении других наций в наш Союз. Исполнительная власть, воспользовавшись счастливым случаем, который в значительной мере способствовал благу страны, совершила акцию, не предусмотренную Конституцией. Законодательная власть, оставив позади метафизические тонкости и рискуя собой, как верный слуга, должна ратифицировать договор и заплатить за покупку, взвалив на себя ответственность перед своими гражданами за те несанкционированные действия, которые, как мы знаем, они совершили бы сами, окажись в такой же ситуации». Он говорил, исходя не из будущего величия, а из насущных потребностей. Граждане Соединенных Штатов, преодолев горы и уже поселившись на берегах Миссисипи, должны были иметь возможность сплавлять свою продукцию вниз по реке. Покупка земель, объяснял он, бы
341
ла единственной возможностью обеспечить жизненно важную для них связь с миром.
К октябрю, когда конгресс собрался обсудить договор, Джефферсон убедил себя и свою партию, что потребности нации настолько велики и так очевидны, что поправка не требуется. Его оппоненты-федералисты сосредоточили^ все свое красноречие на опасностях переселения и неблагоприятных последствиях безграничного расширения национальных владений. Снова и снова ораторы из федералистов предостерегали о возможном ослаблении Союза. Если Конституция разумно требовала абсолютного большинства в две трети голосов для малейшего в ней изменения, то насколько опасно, сказал сенатор Трейси из Коннектикута, позволить конгрессу простым большинством «принимать новые иностранные государства, тем самым поглощая старых партнеров... Некоторое увеличение мощи, созданное таким путем в интересах Юга и Запада, противоречит принципам нашего Союза».
Эти опасения усилились, когда в декабре 1810 года было предложено, чтобы небольшая часть приобретенных земель (территория Орлеана) была принята в Союз в качестве равноправного штата. До этого все штаты, вновь принимаемые в Союз, были образованы из земель Соединенных Штатов, определенных мирным договором 1783 года. Этот вопрос переплетался с еще более неразрешимой проблемой фактических границ Соединенных Штатов. В предполагавшийся штат Луизиана вошла бы часть Западной Флориды, которая, вероятно, принадлежала еще Испании. Но основная проблема, вставшая теперь более остро, состояла в ослаблении первоначального Союза. «Если этот законопроект будет принят, — негодовал Джосайя Куинси из Массачусетса в палате представителей 14 января 1811 года, — то, по моему глубокому убеждению, это будет означать распад Союза; он освободит Штаты от их морального обязательства; и поскольку это будет правом всех, то долгом некоторых, несомненно, станет подготовка к отделению: мирным путем — если смогут, силой — если придется». Большинство палаты отклонило замечание спикера о том, что заявление было сделано в непарламентских выражениях, но законопроект был утвержден, и Луизиана стала штатом в 1812 году.
Этот первый шаг в сторону континентального расширения вызвал серьезную тревогу за состояние Союза, в составе которого штаты, образовавшие Союз, вскоре могут оказаться в меньшинстве, и это будет уже новая страна с новой конституцией.
342
Выступая от имени сограждан из Новой Англии, упрямый федералист Фишер Эймс предупреждал, что присоединение чужих земель Луизианы открывает шлюзы для потока людей, не почитающих священные англосаксонские принципы, на которых был основан Союз. «Выдры в пустыне», — как он выразился, — они способны к их восприятию в такой же мере, в какой весь этот «галло-испано-индейский omnium gatherum1 дикарей и авантюристов». Неудивительно поэтому, что когда во время войны 1812 года английские войска подошли к Новому Орлеану, то такой верный гражданин Новой Англии, как Тимоти Пикеринг, надеялся, что город сдастся англичанам. Тогда весь Запад от Аппалачей мог бы отойти английским победителям, оставив Соединенным Штатам меньшую по размеру, но более однородную по национальному составу территорию.
Если судьба земель, образовавших Соединенные Штаты, была столь неопределенной, то что говорить об отдаленных американских территориях? Этот вопрос встал со всей драматичностью и неожиданностью не на берегах Миссисипи, а в далекой Южной Америке. Вторжение Наполеона в Испанию в 1808 году послужило поводом для восстаний в ее южноамериканских колониях против устаревшего колониального правления. В 1810 году были созданы хунты в Буэнос-Айресе, Боготе, Каракасе и Сантьяго-де-Чили. Первоначальное стремление лишь отстоять земли от французов в пользу низложенного короля Испании Фердинанда УП вскоре переросло во вполне сформировавшееся движение за независимость. В1811 году Джефферсон увидел в этом еще одно доказательство того, что «интересы Америки не должны быть подчинены интересам Европы». В 1822 году президент Монро и конгресс признали независимость восставших колоний. Как отмечал Декстер Перкинс, самым замечательным в этом факте было то, что Соединенные Штаты совершили столь важный шаг без консультаций с какой-либо европейской державой—«на исключительно американских принципах и исключительно с американских позиций». Это уже само по себе безошибочно указало на отделение американской политической сферы от европейской.
В 1823 году политическое будущее Североамериканского континента еще во многом оставалось неясным. Зато Южная Америка (когда-то поделенная в интересах испанского и португальского правления) еще до окончания первой трети XIX века в основном приобрела современные очертания границ между го
1 Пестрое общество, сброд (лот.). — Прим, перев.
343
сударствами. К северу от Панамского перешейка лишь малая часть суши (немногим больше тринадцати бывших английских колоний и поделенные между ними западные владения — восточные и южные районы от Миссисипй до Великих озер) все же получила национальную идентичность, которая сохранилась до XX века. В 1822 —1823 годах в состав Мексики входили Гватемала и другие расположенные к киу центральноамериканские государства; далее она протянулась на север до современной границы с Канадой через территорию, принадлежащую сегодня западным Соединенным Штатам. На Дальнем Западе и Северо-Западе между мексиканцами, англичанами и русскими назревал непонятный конфликт, в котором Соединенным Штатам предстояло сыграть совсем неожиданную роль. Политическое будущее двух третей континентальных Соединенных Штатов еще вызывало сомнения.
В этом отношении контраст между Северной и Южной Америкой в тот период был разительным. По всей Южной Америке уже действовали правительственные формирования, время образования которых уходит к началу XVI века. Какими бы коррумпированными, недееспособными или тираническими ни были эти колониальные правительства, высокий уровень их организации позволял довольно успешно разделять и властвовать на континенте. Как раньше испанцы и португальцы строили свое правление, используя политический строй индейцев, так теперь латиноамериканские революционеры начала XIX века приспособили к собственным нуждам хорошо отлаженный, но устаревший механизм политической, экономической и религиозной власти. А на широких просторах Северной Америки снова и снова утверждался американский принцип: община раньше правительства. Общины возникали по всему североамериканскому Западу, часто одна далеко от другой, часто «за пределами юрисдикции» Соединенных Штатов, но недвусмысленно избегая подчиненности каким-либо властям. Объединенные общими надеждами, общими заботами и общими иллюзиями, люди образовывали общины. Отсутствие устоявшихся форм правления добавляло им забот, но свобода от устаревших форм правления имела свои преимущества. Они были, вероятно, свободней многих предшественников на этом этапе цивилизации, — свободней от необходимости либо жить в строгих рамках привнесенных издалека и установленных давным-давно обычаев, либо восставать против них.
В XX веке национальное высокомерие привело нас к выводу, что Латинская Америка не способна ни на что лучшее, чем еле-
344
довать по пути Северной Америки, и особенно Соединенных Штатов. Однако в начале XIX века наделенные богатым воображением американские государственные деятели видели наиболее полное воплощение федерального республиканского идеала в создании по образцу Латинской Америки нескольких независимых и самоуправляющихся государств в Северной Америке.
Всеобщая уверенность в том, что выходцы из Соединенных Штатов заселят весь континент, вовсе не означала, что они останутся в пределах Соединенных Штатов. Например, американские государственные деятели давно считали, что жителям далекого Орегона надлежит управлять им самостоятельно. «Это свободные и независимые американцы, связанные с нами только узами крови и интересов и пользующиеся, как и мы, правом на самоуправление» — таково было отношение Джефферсона к жителям Астории, форта Джона Джейкоба Астора на северо-западном побережье Тихого океана и возникших рядом поселений. Во время войны 1812 года Джефферсон, восхищаясь «зарождением великой, свободной и независимой державы на той стороне нашего континента», еще надеялся, что даже если Астория падет перед англичанами, то по условиям мирного договора англичане признают как «независимость» государства Астория, так и право Соединенных Штатов на защиту ее граждан от иноземного вмешательства. Джефферсон выступал за создание независимой Тихоокеанской республики, и в 1820-х годах многие видные американцы — такие, как Алберт Галлатин, Джеймс Монро, Уильям Крауфорд, Генри Клей, Томас Харт Бентон и, возможно, Джеймс Мэдисон, — разделяли этот взгляд.
О том, что Соединенные Штаты выступили в роли основателя новых государств, уже давно забыли. Признав неопределенность северных и южных границ Соединенных Штатов и предоставив природе и потомкам их установление, Томас Харт Бентон из Миссурии, выступая в сенате 1 марта 1825 года, добавил:
На западе, о чем мы можем сказать прямо, гряда Скалистых гор без иронии может быть названа по-настоящему удобным, естественным и вечным пограничным укреплением. Вдоль этой гряды следует провести западную границу республики и на самой высокой ее вершине водрузить статую легендарного бога Термина, с тем чтобы оттуда ее уже никогда не перемещать. Засевая семена новой власти на берегу Тихого океана, следует ясно осознавать, что, окрепнув так, чтобы самому заботиться о себе, новое правительст
ва
во разлучится с державой-родительницей, как разлучается с родителями возмужавший ребенок.
Американцы долго расходились во мнениях по поводу того, где именно должен находиться «легендарный бог Термин». В 1804 году писатель Чарлз Брокден Браун, вдохновленный покупкой Луизианы, высмеивал тех узколобых политиков, которые считали, что Соединенные Штаты должны быть ограничены рекой Святого Лаврентия на севере и Мексиканским заливом на юге. «Можно не сомневаться, что в скором времени они протянутся с востока на запад от моря до моря и от Северного полюса до Панамского перешейка». В 1815 году во время празднования Четвертого июля в Уотервилле, штат Мэн, распространение получил тост: «За то, чтобы американский орел, раскинув крылья от Атлантики до Тихого океана, уцепился когтями в Дариенский перешеек, а клювом нацелился к Северному полюсу».
Однако до войны 1812 года такие крайние взгляды не были общепринятыми. Сам Джефферсон, который еще в 1809 году проявлял интерес к тому, чтобы Куба вошла в состав Союза (о чем он никогда не забывал), надеялся, что война 1812 года вызовет в Канаде «такое устремление к свободе, которого она доселе не ведала». В то время как Монро, ставший в 1817 году президентом, хотел ограничить страну Скалистыми горами, его государственный секретарь Джон Куинси Адамс думал иначе. Во время обсуждения в кабинете министров договора с Испанией, по которому в 1819 году Флорида отошла к Союзу, Адамс выразил уверенность, что не пройдет и нескольких столетий, как испанские владения на нашем Юге и все английские владения на нашем Севере будут присоединены к Соединенным Штатам. Приобретение нами обширных испанских владений, сказал он, «является залогом того, что остальная часть континента станет в конце концов тоже нашей. Но мы совсем недавно это осознали: только недавно мы признались в намерении расширить наши владения до Южного моря, и, пока в европейском сознании Соединенные Штаты не будут ассоциироваться с Северной Америкой как с географической реальностью, любое наше усилие разуверить мир в наших честолюбивых замыслах лишь убедит всех в том, что мы лицемерим, скрывая свои истинные цели». Поэтому Адамс был против предложенной Монро декларации о возможном отделении от Союза самых западных поселений.
346
Военный министр Джон Кэлхун поддерживал Адамса. «Страсть к расширению была основным законом человеческого общежития»,—утверждал Кэлхун, заключив с непреднамеренной иронией, что «история не ведает примера добровольного раскола страны». Непрочность таких убеждений проявилась в изменении взглядов самого Кэлхуна. Вскоре как на Юге, так и на Севере возникли новые основания для отрицательного отношения к неразборчивому расширению территории. К прежним сомнениям и опасениям — переселения людей, смешения рас, ослабления старого доброго союза — теперь добавилась боязнь политического усиления одной из сторон за счет присоединения новых штатов.
Отношение американцев к расширению земель в эпоху между Революцией и Гражданской войной — это целая история, полная смятений и колебаний, смелых надежд и робких сомнений. Едва ли найдется хоть один государственный деятель того периода, который за время своей карьеры не рассматривал бы территорию Соединенных Штатов то чрезвычайно ограниченной, то значительно превышающей окончательные размеры. Думать, что рост страны совершался за счет неизбежного освоения уже предопределенных пространств, — значит упускать из виду свойственные американцам неразбериху, надежды и расчеты на будущее страны в то формирующее ее столетие. Поэтому в исторической перспективе стремление одной из сторон Союза в результате Гражданской войны стать независимым государством не кажется такой уж безумной затеей.
Геометрическая четкость американских политических границ была еще делом будущего. Например, Орегон, на обширной территории которого позднее возникли такие штаты, как Вашингтон, Орегон, Айдахо, а также большая часть Монтаны и Вайоминга, в течение тридцати лет после 1818 года был местом американской и английской оккупации. Англо-американские переговоры представляли,собой непрерывные усилия по сохранению нефиксированных границ, пока американская эмиграция не решила эту проблему.
Независимая Республика Техас, признанная Соединенными Штатами в 1836 году, оставалась самостоятельным государством до ее включения в состав Союза в 1845 году. Сам президент Сэм Хьюстон во время трудных переговоров с Соединенными Штатами пришел к мысли о том, что присоединение Техаса было бы для него не только благом. Его сомнения привели в 1844 году к заключению союза совместно с Великобританией и Францией, чтобы еще больше упрочить независимость Техаса. В
347
самих Соединенных Штатах сопротивление аннексии было, конечно, неистовым. Тот же самый Джон Куинси Адамс, который двадцать пять лет назад настаивал на «идентичности Соединенных Штатов и Северной Америки», в 1843 году возглавил борьбу против аннексии Техаса. Объединившись с десятков других известных американцев в страстном обращении к нации, он предупреждал, что просьба о присоединении не отражает подлинной воли народа Техаса, что все это заговор колониалистов Юга; аннексия приведет к роспуску Союза.
Надежды и колебания не заканчивались на Рио-Гранде. Такие, как Адамс, оставались горячими сторонниками небольшого тесного союза с прежним хрупким равновесием сил. Другие же с равным энтузиазмом поддерживали движение «Вся Мексика». Перед войной с Мексикой, во время и сразу после нее (1846 — 1848) многие американцы, ни в коей мере не являвшиеся фанатичными сторонниками крайних взглядов, искренне заявляли, что Соединенные Штаты не выполнят своего предназначения, если не распространят зону свободы на все пространство вплоть до Панамского перешейка. Услышав в июне 1846 года о волнениях в Юкатане, Уолт Уитмен написал передовую статью под заголовком «Больше звезд на звездном флаге», бодро заметив, что Юкатан «не нуждается в долгих уговорах, чтобы присоединиться к Соединенным Штатам».
Калифорния, которая позднее стала казаться неотъемлемой частью Соединенных Штатов, в первой половине XIX века была местом тревог, неуверенности и неразберихи. Поселенцы из Соединенных Штатов начали заселять долину Сан-Хоакино не раньше 1843 года. К 1846 году на калифорнийском побережье проживало только около 500 американцев, тогда как мексиканцев испанского происхождения насчитывалось около десяти тысяч и более двадцати тысяч индейцев. В том же году была провозглашена сомнительно независимая Республика Калифорния. Однако трудности сообщения между Вашингтоном и Западным побережьем, распри между армией и флотом, непрерывное вооруженное сопротивление Мексики, вражда между отдельными частями огромного региона и волнения среди преобладающего неамериканского населения поддерживали кипение калифорнийского котла. Никто не предполагал, что в январе 1848 года в Саттере-Милле найдут золото. За два года золотая лихорадка внезапно увеличила число поселенцев из Соединенных Штатов примерно до ста тысяч человек. Но даже тогда политическое будущее Калифорнии оставалось неясным.
348
Территория Калифорнии была передана Соединенным Штатам по договору Гуадалупе-Идальго в 1848 году, но присоединение Калифорнии к Союзу в 1850 году явилось не столько проявлением понимания национальной судьбы, сколько стремлением урегулировать баланс сил прежнего Союза. Вступление Калифорнии в Союз в качестве равноправного штата стало лишь одним из пунктов разнообразного и осторожно сбалансированного Компромисса 1850 года, по словам Кэлхуна, «еще одним сомнительным противовесом для поддержания равновесия между сторонами». Будущее страны стало казаться еще более туманным в связи с заявлением Уэбстера и его сторонников, считавших — по своему географическому неведению, — что конгрессу не нужно рассматривать вопрос, распространится ли рабство на новые территории после 1850 года, поскольку рабство там, по их мнению, каким-то образом «исключалось» особенностями почв и климата.
В середине XIX века слова «предопределение судьбы» рассеивали множество сомнений. Во времена, когда идея дарованного провидением расширения земель европейских поселенцев была столь же стара, как заселение ими Северной Америки, выражение «предопределение судьбы», употребленное словоохотливым Джоном О’Салливеном в нью-йоркской «Морнинг ньюс» в декабре 1845 года, стало самым распространенным для передачи этой идеи. Как заметил Джош Биллингс после Гражданской войны, «предопределение судьбы—это наука езды в никуда либо в другое место еще до того, как ты поймешь гуда». «Существует такая вещь, как предопределение судьбы, но когда оно осуществится, то это как число колец на хвосте енота, они для украшения, и только».
Не «предопределенность», а прежде всего неопределенность национальной судьбы была главной созидающей и вдохновляющей силой в жизни нации. Если бы отцы-основатели обладали большей уверенностью, если бы их намерения относительно расширения национальных владений были более вразумительными, то Гражданскую войну можно было отсрочить либо приблизить. Проблемы, связанные с расширением территории страны на весь континент, с объединением или размежеванием ее частей, так и не были решены, пока Гражданская война не растворила их в море крови. За годы неопределенности, длившиеся до 1865 года, пришлось заплатить безумными надеждами, мрачным отчаянием и растраченной энергией. В какие прежде времена страна так разрывалась в плену противоречий: либо старый удобный Союз в границах XVIII века, либо
349
великая новая страна, безграничная, как ее будущее? Гражданская война, которая, казалось, определила континентальную судьбу страны, обеспечила своего рода спокойствие в национальной политике. Но не было ли это, по крайней мере отчасти, неподвижное спокойствие смерти? Неопределенность национальных границ и национальной судьбы не создавала более таких волнений, пожалуй, до самой середины XX века.
Та самая неопределенность, которая вдохновляла и оживляла американцев, одновременно заставляла их испытывать особую потребность в уверенности. Чем больше неопределенного в судьбе, тем настоятельней необходимость объявить о ее «предопределенности». В этом — ключ к пониманию нового национального мышления и языка. На просторах Америки не только рождались люди под стать ее горам, но и создавался новый язык, который своей неповторимостью был под стать причудам ее конгресса и ландшафта.
Часть шестая
КАК РАЗГОВАРИВАЮТ АМЕРИКАНЦЫ
Поскольку палата представителей вместе со всем американским народом преисполнена законной гордости за свой замечательный родной язык и считает этот самый выразительный и самый энергичный язык одним из самых неотъемлемых прав... то решено... обратиться с любезной просьбой к аристократии и дворянству Англии направить в Америку для получения образования своих старших сыновей, а также всех прочих, кому, быть может, суждено стать оратором на церковном или государственном поприще; а также просить президента Соединенных Штатов согласовать свои действия с президентами и главами наших колледжей и школ по скорому приему и безвозмездному обучению этих молодых людей и выдаче им по истечении определенного срока свидетельств о навыках в английской речи.
Резолюция, помещенная в «Норт Америкой ревью» (апрель 1820 года)
В то время как множество наречий ограничивают интеллектуальное общение и взаимопонимание между различными нациями в Старом Свете, постоянно расширяющаяся страна доступна пониманию американца благодаря распространению одного языка на столь значительной части континента.
Эдвард Эверетт
Новое в американском языке обнаруживалось не на страницах американского Шекспира или Мильтона, а в речи лодочников Запада, основателей городов, охотников за пушниной, первопроходцев, покорителей индейцев и пьяных бродяг. В то
351
время как величие британского английского можно было постигать в библиотеке, величие американского английского надо было слышать, чтобы оценить. В Америке не было ни мощной литературной аристократии, ни единой культурной столицы, как Лондон. И новая страна вернула язык своему (народу. Ни одно достижение американцев не было более характерным и менее предсказуемым.
Миллионы американцев селились редко и передвигались быстро. В Европе же, вообще говоря, признаком низших слоев населения была их географическая, а также социальная неподвижность. Самый низший класс, «люмпен-пролетариат», врос в землю, как пень. Среди тех, кто путешествовал, были в основном представители верхушки среднего класса, аристократии либо ученой элиты: по «большому туру» для завершения университетского образования, по торговым делам, в целях научного паломничества, чтобы прильнуть к стопам великого ученого, чтобы отдохнуть или поправить здоровье на известном курорте, с религиозной или дипломатической миссией. В Америке все было наоборот. Здесь не существовало ни единой крестьянской массы, ни объединившейся аристократии. Здесь как раз «аристократия» — например, местная знать северной части штата Нью-Йорк или морского побережья Виргинии — была менее мобильной. А американцы из средних и низших слоев — искавшие удачу в караванах, идущих на запад, на временных приисковых стоянках, в городах-новостройках, — эти американцы были в постоянном движении. Они ездили часто и повсюду. Даже лишенные права свободного передвижения негры появились здесь, проделав долгое подневольное путешествие, и добавили несколько слов из далекой Африки.
Люди, родившиеся в разных странах и говорящие на разных языках, теперь благодаря американскому английскому представляли собой единое речевое сообщество.
зз.
НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЛЕКСИКА
Границы языковой принадлежности в Америке были такими же неопределенными, как и географические; определить распространение американской речи было также трудно, как обозначить границы национальной территории. Там, где расширение американского государства шло особенно быстро, на
352
пороге неведомого активнее ширился и словарный запас. Как страна росла за счет общин, передвигавшихся «за пределы юрисдикции», так и язык обогащался не «законным» путем учета новых слов в грамматиках и словарях, а за счет недозволенных, бесчисленных, случайных новообразований живой речи.
На этом первом этапе национальной жизни, когда американская речь еще только начинала свое существование, многие американские ученые-лингвисты и литераторы стремились сохранить «чистоту» языка. Эти миссис Грэнди, самозваные блюстители лингвистической морали, никогда не работали так напряженно. «Сохранение английского языка в его чистоте на всей территории Соединенных Штатов, — заявлял Джон Пикеринг в начале своей «Лексики, или Собрания слов и фраз, которые считаются характерными для Соединенных Штатов Америки» (1816), — такая цель заслуживает внимания каждого американца, который является другом литературы и науки своей страны». Вывод Пикеринга состоял в том, что язык Соединенных Штатов «настолько отошел от образцового английского, что наши ученые, не теряя времени, должны приложить все усилия, чтобы восстановить его чистоту и предотвратить будущее разложение».
В период между Революцией и Гражданской войной охранительный пуризм красной нитью проходил через академические труды об американском языке. Доктор Бек, ректор Академии в Олбани (Нью-Йорк) в 1829 году, особенно одобряя утверждение Пикеринга о том, «что во многих случаях обвинения английских писателей являются либо несправедливыми, либо безосновательными», также выступал за языковую «чистоту». Далеко на Юге в этом же году доктор Данглисон объяснял в «Виргинском литературном музее и журнале беллетристики, искусств, науки и прочего», что американский язык «чище», чем полагал Пикеринг. Данглисон считал, что если бы Пикеринг был лучше знаком с диалектами английских провинций, то он бы понял, какое большое количество из предполагаемых им американизмов придумано вовсе не американцами. Джон Расселл Бартлетт в предисловии к «Словарю американизмов» (1848; 4-е изд., 1877) утверждал, что, несмотря на обвинения, выдвигаемые англичанами против американцев в «извращении нашего родного языка и употреблении бессмысленных слов», ни в одной части мира огромные массы народа не говорят, по убеждению автора, по-английски так чисто, как в Соединенных Штатах.
353
К1859 году усилия по защите языка возросли настолько, что врач Алфред Элвин, филадельфийский аристократ,, смог выделить 463 выражения, которые составили внушительный «Глоссарий так называемых американизмов».
Считалось обычным делом английских путешественников и писателей попрекать нас так называемыми особенностями и странностями в употреблении нами слов и фраз. Исследование языка их собственной страны убедило нас в том, что подобная ирония была результатом неведения: тот, кто иронизировал, не был знаком с языком и ранней литературой своего собственного народа и поэтому совершенно естественно полагал, что услышанное здесь было неестественным, придуманным или грубым. Элементарная же истина такова, что почти все без исключения слова или фразы, за употребление которых над нами насмехались, являются старым добрым английским языком, многие из них англосаксонского происхождения, и почти все это можно услышать в современной Англии: различные обстоятельства могли немного изменить их употребление, но не в такой мере, чтобы считать нелепой нашу манеру выражаться.
Следовательно, в определенном смысле американский английский был даже более «правильным», чем тот, на котором говорили в Англии.
С каким бы усердием ученый автор «Виргинского литературного музея» ни настаивал на том, что «количество подлинных американизмов крайне невелико», молодые побеги американской речи разрастались повсюду. Джон Расселл Бартлетт в самом претенциозном каталоге века, посвященном американским лингвистическим нарушениям (действительным или мнимым), признавался, что «наш литературный язык» хуже, чем в Англии. Но все же он утверждал, что английский язык большинства американцев даже чище, чем тот, на котором в своей массе говорят англичане. Намереваясь создать «Словарь разговорного языка Соединенных Штатов», Бартлетт включил в него «все искажения языка и неправильное употребление слов, которые допускают жители определенных районов страны, а также некоторые из тех замечательных и нелепых форм речи, которые распространены в западных штатах». Неоднократно он обращал свое внимание на «разговорный, или бытовой, язык». После Гражданской войны, еще защищая теоретическую «чистоту» американского варианта разговорного английского, Бартлетт учитывал каждый термин сленга, который только мог ему встретиться. Он отверг соображение о том, что появление вульгаризмов в словаре может «увековечить» их употребление. Не словари сохраняют слова, возражал он, а их использование. «Вульгаризмы будут
354
находиться в употреблении до тех пор, пока они нужны в разговорном языке... Таким образом, сленг — это основной источник обогащения нашего языка».
Напрасно школьные педагоги трудились над тем, чтобы их непослушные ученики хотя бы выглядели образованными, научившись правильно произносить слова, напрасно старались сохранить заборы языковой принадлежности высокими и непроницаемыми. Американская культурная недостаточность обеспечила большой и выгодный рынок для «Книги американского правописания» Ноя Уэбстера, сотворила культ «правильного» написания и вызвала широкий спрос на «Словарь» Уэбстера. Но, несмотря на все это, в Америке складывались идеальные условия для жизнестойкости, гибкости и новообразования разговорного языка. Эти суровые условия оказались благоприятными для создания сленга. «Три культурных явления, — замечал Стюарт Берг Флекснер в своем удивительном «Саловаре американского сленга» (составленном совместно с Га-ролдом Уэнтвортом), — особенно способствовали созданию обширного словаря сленга: 1) восприятие или же одобрение новых целей, ситуаций и идей; 2) наличие большого количества разнообразных подгрупп; 3) демократичное смешение этих подгрупп с господствующей культурой». Сленг — это неофициальный язык либо всего общества, либо его части, который пока не считается достаточно возвышенным или правильным, чтобы восприниматься как литературная норма. Поскольку в Америке границы речевой нормы были более неясными, чем где-либо еще, то различие между сленгом и «правильным употреблением» было также неопределенным. И это различие становилось все неопределенней по мере того, как рос американский словарный запас и большую уверенность в себе обретала американская цивилизация.
Американский язык стал торжеством сленга. Американская литературная речь гораздо быстрее насыщалась сленгом простого народа, чем литературным английским языком Британии. Уолт Уитмен в «Ноябрьских ветвях» (1888) был первым, кто, не стыдясь и даже с гордостью, описал это своеобразное американское явление.
Сленг, если провести его тщательный анализ, окажется незаконнорожденным созданием, стоящим ниже всех слов и предложений и за пределами поэзии; он удостоверяет определенную извечную иерархию и протестантство в речи. Поскольку Соединенные Штаты наследуют одно из своих самых Драгоценных владений — язык, на котором они говорят и пишут, — от Ста
355
рого Света, то, основываясь на наличии там феодальных институтов и исходя из них, я позволю себе заимствовать сравнение пусть даже из этих сфер, столь далеких от американской демократии. Относясь к языку как к всемогущему властелину, представим себе, что в величественном зале для аудиенций монарха появляется персонаж, похожий на шекспировского шута, усаживается там и принимает участие в самых торжественных церемониях. Таков сленг, предоставляющий простому народу возможность устремиться окольным путем безграничного самовыражения и избежать пустого буквализма. Таков сленг, который в высоких сферах рождал поэтов и поэзию и который, без сомнения, в доисторические времена положил начало всем древним мифам и выстроил их бесконечное переплетение. Ибо, как бу странно это ни выглядело, строго говоря, это тот же импульс, тот же источник жизни. Сленг — это извержение здорового фермента в результате вечно активных процессов в языке, благодаря которым пузыри и пена в большинстве случаев исчезают; хотя иногда они оседают и кристаллизуются... Наука о языке напоминает геологию. Ей присущи те же нескончаемые эволюции, окаменелости и бесчисленные, скрытые от глаз слои и пласты, далекие предшественники настоящего. Но, возможно, язык больше похож на огромный живой организм, вечный источник многих организмов. И сленг не только питает его, но и является началом фантазии, воображения и юмора, привносящих в него дыхание жизни.
Таким образом, беспримерная американская грамотность и восхитительный парадокс демократии привели к тому, что американский литературный язык окрасился сленгом. Исчезала еще одна старинная монополия, монополия образованных людей, и ее могущество растворялось среди всего народа.
Американцы готовы были употреблять слово в любом случае, если оно передает смысл. Подобно великим английским писателям (особенно Шекспиру: «Отдядь мне дядю»), они не обращали внимания на филологов, которые утверждали, что определенное слово не может быть ничем, кроме как, скажем, именем существительным. Даже в колониальный период английские критики американской лексики возражали против свободного обращения американцев с частями речи, с «подлинными» грамматическими функциями конкретных слов, что, по их мнению, было распущенностью. Дейвид Юм возражал против превращения Франклином существительного «colony» (колония) в глагол «colonize» (колонизировать). Сам Франклин, образцом для которого стал Аддисон, возражал против американской практики употребления в качестве глаголов таких имен существительных, как «notice» (извещение), «advocate» (защитник), «progress» (прогресс). Существительное «clapboard» (дранка) употреблялось в качестве глагола еще в 1634 году, гла
356
голы были образованы от существительных «scalp» (скальп) (1693) и «tomahawk» (томагавк) (1711).
Процесс продолжался. В начале XIX века слова «deed» (поступок) (1806), «lynch» (линч) (1835) и «portage» (перевозка) (1836) стали глаголами. Слово «interview» (интервью) в том значении, в каком его используют журналисты в наши дни, впервые появилось как существительное в 1869 году и уже в 1870-м — как глагол. Американцы свободно обращались с любой частью речи. Прилагательные становились существительными, как, например, в случае со старинным словом «personal» (личный) после того, как оно послужило заголовком газетной статьи (1864). Или глагол «dump» (сваливать) превратился в существительное, обозначающее место, куда сваливался мусор (1784). Точно так же журналистские глаголы «scoop» (сорвать; получить преимущество) и «beat» (пробить) стали соответственно существительными в 1874 и 1873 годах.
Дело было не только в этом новом беспорядочном использовании американцами слов, что безусловно обогащало язык. Некоторое представление о распространении и разнообразии «особенностей английского языка, на котором говорят в Америке», можно получить из «Классификации американизмов», составленной в 1850 году Уильямом Фаулером, профессором риторики в Амхерсте1.
I. Слова, заимствованные из других языков, с которыми английский язык взаимодействовал в Америке:
1) Слова, заимствованные у индейских племен. Сюда относятся многие географические имена собственные: «Kennebec» (Кеннебек), «Ohio» (Огайо), «Tombigbee» (Томбигби); также некоторые имена нарицательные, такие, как «sagamore» (вождь, босс), «quahaug» (съедобная раковина), «succotash» (блюдо из кукурузы со свининой).
2) Слова, унаследованные от голландцев, поселенцев Нью-Йорка, такие, как «boss» (мастер), «kruller» (бублик), «stoop» (дверной порог).
1 Здесь и далее редакция для облегчения восприятия текста читателем, не владеющим английским языком, предлагает возможные переводы слов и выражений. В тех случаях, когда значение слова установить не удалось, стоит знак вопроса. — Прим, ред.
357
3) Слова, унаследованные от немцев Пенсильвании: «spuke» (?), «sauerkraut» (кислая капуста).
4) Слова, унаследованные от французов, поселенцев Канады и Луизианы: «Ьауои» (рукав реки), «cache» (тайник), «chute» (стремнина), «crevasse» (расселина), «levee» (дамба).
5) Слова, унаследованные от испанцев, поселенцев Луизианы, Флориды и Мексики: «calaboose» (каталажка), «chaparral» (заросли кустарника), «hacienda» (имение), «rancho» (поселок), «ranchero» (фермер, пастух).
6) Слова, заимствованные у африканцев: «Ьискга» (белый человек).
Все эти слова иноязычные.
II. Слова, необходимые для выражения новых понятий в создавшейся ситуации:
1) Слова, образованные политическими институтами и связанные с ними: «selectman» (член городского правления), «presidential» (президентский), «congressional» (относящийся к конгрессу, съезду), «caucus» (предвыборное собрание), «mass-meeting» (массовый митинг), «lynch-law» (самосуд), «help» (слуга).
2) Слова, связанные с церковными институтами: «associa-tional» (член ассоциации), «consociational» (собрание религиозных обществ), «to fellowship» (быть членом братства), «to missionate» (осуществлять миссионерскую деятельность).
3) Слова, связанные с новой территорией: «lot» (участок земли), «diggings» (жилье), «betterment» (мелиорация), «squatter» (поселенец).
Хорошие американские писатели не употребляют подобные слова. В свою очередь такие слова не могут образовать нового диалекта из-за своего происхождения.
III. Все прочие особенности, единственные в своем роде, в основном распределяются по следующим разделам:
1) Старинные слова и словосочетания, которые в Англии почти вышли из употребления: «talented», «offset» вместо «set off», «back and forth» вместо «backward and forward».
2) Старинные слова и словосочетания, которые в Англии употребляются только в провинции: «hub» (ступица,
358
втулка) — только в графствах Средней Англии, «\уЬар»(сильный удар) — провинциализм Сомерсетшира, «to wilt» (вянуть) — на юге и западе Англии.
3) Существительные, образованные от глаголов, с добавлением французского суффикса «ment»: «publishment» вместо «publication» (издание), «releasment» вместо «release» (освобождение), «requirement» вместо «requisition» (требование). Поскольку все эти глаголы французские, то и образованные от них существительные, несомненно, древние.
4) Слова, образуемые на стыке двух находящихся в употреблении слов: «obligate» (обязывать), ср. «oblige» и «obligation»; «variate» (менять), ср. «vary» и «variation». Наличие двух крайних частей указывает на правомерность серединного варианта.
5) Некоторые сложные слова, имеющие в Англии другие составные элементы: «bank-bill» вместо «bank-note» (банкнота), «book-store» вместо «bookseller’s shop» (книжный магазин), «bottom-land» вместо «interval land» (пойма), «clapboard» вместо «pale» (дранка), «sea-board» вместо «sea-shore» (побережье), «side-hill» вместо «hill-side» (склон). Здесь правильность одного сочетания не означает неправильности другого.
6) Некоторые разговорные выражения, видимо, идиоматического характера и очень выразительные: «to cave in» (уступать), «to flare up» (вспыхнуть), «to flunk out» (отступить в страхе), «to fork over» (раскошелиться), «to hold on» (ждать), «to let on» (заметить), «to stave off» (отложить), «to take on» (огорчать).
7) Некоторые слова, употребляемые для выражения эмоций в качестве прилагательных или наречий, что часто зависит от моды, например: «dreadful» (ужасный), «mighty» (мощный), «plaguy» (досадный), «powerful» (сильный).
8) Некоторые глаголы, выражающие, хотя и неполно, душевное состояние: «to allot upon» вместо «to count upon» (полагаться), «to calculate» вместо «to expect» или «to believe» (рассчитывать), «to expect» вместо «to think» или «to believe» (ожидать), «to guess» вместо «to think» или «to believe» (думать), «to reckon» вместо «to think» или «imagine» (считать, полагать).
9) Некоторые прилагательные, передающие не только качество, но и субъективные чувства: «clever» (умный),
359
«grand» (великолепный), «green» (неопытный), «likely» (красивый), «smart» (умный, хитрый), «ugly» (вздорный).
10) Некоторые сокращенные выражения: «stage» вместо «stage-coach» (дилижанс), «turnpike» вместо «turnpike road» (шоссе), «spry» вместо «sprightly» (бодрый), «to conduct» вместо «to conduct one’s self» (вести себя). Подобная тенденция наблюдается во многих языках.
И) Эксцентричные или пародийные термины: либо глаголы, как «to tote» (нести), «to yank» (дернуть), либо существительные, как «humbug» (пустозвон), «loafer» (бродяга), «muss» (путаница), «plunder» вместо «baggage» (багаж), «госк» вместо «stone» (камень).
12) Некоторые грубые выражения, чаще всего политические: «slang whanger» (о скандальном ораторе или литераторе), «loco foco, hunker» (о члене демократической партии), «to get the hang of a thing» (сообразить, как это делать).
13) Выражения, нарушающие все грамматические правила и поэтому используемые крайне редко: «do don’t», «used to could» вместо «could formerly», «can’t come it» вместо «can’t do it», «there’s no two ways about it» вместо «it is just so».
Произнесенное слово уносится ветром. Поэтому наша первая задача при составлении хронологии истинно американских слов состоит в том, чтобы найти письменное свидетельство их существования в речи необразованных людей. В книге Джозефа Болдуина «Бурные времена Алабамы и Миссисипи» (1853) можно довольно легко обнаружить литературные версии разговорного языка. Они встречаются и в книге Джеймса Расселла Лоуэлла «Переписка Биглоу» (1848 и 1867). Однако эти свидетельства еще не сам разговорный язык, а лишь его обработанный вариант.
И все же мы располагаем неисчерпаемой сокровищницей подлинных свидетельств; это богатейший материал, собранный во время экспедиции, предпринятой Льюисом и Кларком, и признанный выдающимся для своего времени. Он позволяет увидеть, как английский язык, образно говоря, приспосабливался к ландшафту Нового Света. Этот материал ценен еще и потому, что, помимо богатейшей информации, собранной в нем, его систематизировали люди, не получившие специального образования. Во всем отряде, насчитывавшем сорок пять человек и стартовавшем из Сент-Луиса в 1804 году, не было ни одного ученого. Знания руководителя экспедиции капитана Мэривезера
360
Льюиса, возможно самого образованного в отряде, носили бессистемный характер. Ему так и не удалось осуществить мечту всей своей жизни и получить образование в колледже Уильяма и Мэри или в каком-либо другом колледже. Конечно, два года работы в Белом доме в качестве личного секретаря президента Джефферсона расширили его познания о мире. Однако высоко оценивая честность Льюиса, его способность к наблюдениям и знание Запада, Джефферсон был вынужден признать отсутствие у него научных знаний. Капитан Уильям Кларк учился еще меньше, чем Льюис. Многие участники экспедиции были практически неграмотными. Ни одного из них даже при самом большом желании нельзя было назвать ученым или литератором.
Поскольку Джефферсон настаивал на детальных и подробных записях, то не только руководители, но и другие члены экспедиции записывали все, что видели. Заметки делали Льюис, Кларк и их четыре сержанта; уцелели все записи, кроме одной. По традиции по крайней мере трое из двадцати трех рядовых членов экспедиции вели дневники, но обнаружен был только один. В первых печатных изданиях многие рукописи были «улучшены» литературными редакторами, но, к счастью, большая часть рукописей сохранилась и в конце концов была издана в оригинале. Самый полный дневник (последний из числа найденных и единственный, в котором сделан отчет о каждом дне путешествия) принадлежал одному из сержантов.
Что бы там ни думали сами участники отряда Льюиса и Кларка о проделанной ими работе, они невольно вобрали в себя все языковое богатство нового мира и отразили его в личных записях о географических открытиях и языковых новациях. Изучив лексикон их дневников, Илайя Крисуэлл пришел к выводу, что «они были настоящими пионерами в лингвистике, как и в других делах». Статистика не в состоянии оценить проделанное ими, но около двух тысяч собранных терминов так или иначе явились американскими нововведениями; среди них по крайней мере тысяча слов впервые появилась именно в этих дневниках.
Дневники стали подлинной сокровищницей нового использования слов американцами, особенностей правописания, чисто американских форм глагола или существительного, перехода одной части речи в другую, американского способа употребления слов, архаичных или устаревших в Англии. И все это носило самый достоверный характер, поскольку записи делались без какой-либо лингвистической цели. Более пяти сотен слов, в основном заимствованных из индейских языков, обозначали новые ботанические и зоологические явления. Многие из
361
американизмов, найденных в этих дневниках, не предназначались для широкого использования, другие уже вошли в речь простых людей или были рассчитаны на это: «Ьауои» (рукав в дельте реки), «bowery» (тенистый уголок), «butte» (крутой холм), «cache» (тайник), «calumet» (курительная трубка), «cent» (цент), «complected» (сплетенный), «Ыскогу» (орешник), «hominy» (дробленая кукуруза), «Шу» (зло, вред), «interpretress» (истолкователь), «jerky» (вяленое мясо), «killdeer» (вид американской птицы), «kinnikinic» (медвежья ягода), «maize» (маис), «moccasin» (мокасин), «moose» (лось), «opossum» (опоссум), «pawpaw» (меховая шкурка, подобранная из лапок), «peltry» (невыделанные шкурки), «ресап» (орех-пекан), «pemmican» (пищевой концентрат из мяса), «persimmon» (хурма), «planter» (земледелец), «portage» (переправа волоком), «prairie» (прерия), «raccoon» (енот), «sassafras» (пахучее дерево), «skunk» (скунс), «slew» (заболоченная местность), «squash» (род тыквы), «squaw» (индианка), «tamarack» (лиственница), «timothy» (тимофеевка), «tomahawk» (томагавк), «tote» (заплечный мешок), «wampum» (ракушечные деньги у индейцев), «whippoorwill» (козодой), «Yankee» (янки).
Страницы записей были усыпаны чисто американскими комбинациями английских слов, например: «back of» (стоящий за), «back-track» (вернуться назад), «basswood» (липа), «black bear» (черный медведь), «grizzly bear» (гризли), «bluegrass» (вид трав в Кентукки), «bottom-land» (пойма), «box alder» (ольха), «brown thrush» (бурый дрозд), «buckeye» (конский каштан), «buffalo robe» (выделанная шкура бизона), «bullfrog» (лягушка крупных размеров), «bull-snake» (разновидность ужа), «canvasback» (разновидность дикой утки), «catbird» (малиновка), «coal-pit» (копь), «copperhead» (медянка), «cut-off» (участок земли между старым и новым руслом реки), «bald eagle» (белоголовый орел), «gartersnake» (уж), «ground log» (сурок), «ground squirrel» (земляная белка), «half-breed» (метис), «headright» (дарованный кусок земли в 50 акров), «blue heron» (голубая цапля), «honey-locust» (название дерева), «homed lizard» (рогатая ящерица), «huckleberry» (черника), «hunting shirt» (охотничья рубаха), «ironwood» (разновидность бука), «blue jay» (голубая сойка), «keel-boat» (килевое судно), «kingbird» (разновидность мухолова), «kingfisher» (зимородок), «buffalo Иск» (бизоньи солончаки), «lodge-pole» (шест палатки), «may-apple» (подофил), «medicineman» (шаман), «moccasin snake» (разновидность ядовитой змеи), «mocking bird» (пересмешник), «mountain ram» (горный баран), «mountain sheep» (горная овца), «mule deer» (олень), «muskrat»
362
(ондатра), «night-hawk» (козодой), «overall» (верхняя одежда типа комбинезона), «overnight» (случившийся накануне вечером), «white pine» (белая сосна), «pitch-pine» (смоляная сосна), «sweet potato» (сладкий картофель), «prairie-dog» (вид сурка), «prairie fowl» (разновидность дрофы), «prairie lark» (разновидность жаворонка), «prairie wolf* (степной волк), «rattlesnake» (гремучая змея), «red elm» (красный вяз), «red oak» (красный дуб), «rocky mountains» (скалистые горы), «running time» (продолжительность марша), «sage-bush» (шалфей), «sandhill crane» (журавль), «sapsucker» (разновидность дятла, питающегося соком деревьев), «sea-otter» (морская выдра), «serviceberry» (сорт ягод), «snowberry» (сорт ягод), «snow-shoe» (снегоступ), «sugar maple» (сахарный клен), «whistling swan» (разновидность лебедя), «timberland» (лесистая местность), «trading-house» (торговый дом), «garden truck» (садовая тележка), «tumble-bug» (клоп), «turkey-buzzard» (орел-стервятник), «black walnut» (черный грецкий орех), «war-party» (военный отряд), «wood-duck» (лесная утка), «yellow jacket» (оса).
Удивительным свидетельством потребности американцев в новых выражениях стали многие английские слова, которым Льюис и Кларк придавали новый смысл: «baggage» (багаж), «Ьаг» (буфетная стойка), «barren» (лишенный растительности), «biscuit» (сухарь), «bluff* (плоская возвышенность), «boil» (фурункул), «brand» (клеймо), «brush» (густой кустарник), «buffalo» (бизон), «bug» (жук), «chance» (удача), «chunk» (отколовшийся кусок), «clever» (ловкий), «сот» (кукуруза), «crab-apple» (дикая яблоня), «cranberry» (клюква), «creek» (ручей), «crow» (ворона), «cuckoo» (кукушка), «dollar» (доллар), «Dutch» (немецкий), «elder» (старший), «elk» (марал), «elm» (вяз), «fix» (чинить, приводить в порядок), «fork» (развилка реки), «gang» (шайка), «gap» (ущелье), «glade» (поляна), «gnat» (гнус), «grouse» (тетерев), «hazel» (лесной орех), «hornet» (шершень), «hound» (гончая), «hump» (горка), «knob» (бугор), «lick» (кусочек чего-то), «lodge» (вигвам), «1упх» (рысь), «mad» (бешеный), «make out» (преуспевать), «mammoth» (огромный), «meal» (еда), «medicine» (лекарство), «mink» (норка), «mistletoe» (белая омела), «notion» (мелочи), «onion» (лук), «otter» (выдра), «pantaloon» (брюки), «partridge» (куропатка), «pattern» (образец, патронка), «pelican» (пеликан), «pheasant» (фазан), «plunder» (нажива), «police» (очищать), «quail» (рябчик), «гай» (плод), «rat» (крыса), «rattle» (трещотка), «raven» (ворон), «roasting ear» (жареная кукуруза), «robin» (дрозд), «госк» (камень), «run» (ручей), «rush» (торопиться), «salmon» (семга), «scalp» (снимать скальп), «settlement» (поселе
363
ние), «sick» (больной), «sign» (знак), «slash» (вырубка), «snag» (налететь на корягу), «snipe» (вальдшнеп), «some» (немного), «split» (расщепить), «stage» (стоянка), «store» (магазин), «stud» (жеребец), «suit» (масть), «turkey» (индейка), «twist» (скручивать), «village» (село), «whip» (кнут), «woodsman» (лесной житель).
Судить о насыщении языка новыми словами мы можем по той тысяче новых слов, которые впервые появились в этих дневниках (включая слова, прежде не встречавшиеся ни в одном словаре). Они свидетельствовали о скорости, с какой менялся язык: например, не многие из названий мест, придуманные членами экспедиции Льюиса и Кларка, сохранились в период постоянного заселения.
* * *
В конечном итоге более важную роль, чем изобретения исследователей или причудливые выдумки обитателей лесной глуши и лодочников, прославленные Марком Твеном и другими писателями, сыграла получившая особенное распространение общая небрежность, подвижность повседневной речи. Это было замечено еще в 1855 году Чарлзом Астором Бристедом, выпускником Йейлского университета, обучавшимся затем в Кембридже. В своем исследовании «Английский язык в Америке» он описал и обосновал особенности американского языка. Вместо того чтобы отрицать наличие американизмов или осуждать их (как это было модно среди литераторов), он увидел перспективу развития американского языка в том странном факте, что американизмы быстро приобрели самое широкое распространение. «Английские провинциализмы, — объяснил он, — остаются на своем месте; они ограничены определенными районами и не посягают на столичную модель. Американские провинциализмы почти равномерно распределены среди всех классов и местностей, и если некоторые из них не мотут подняться выше определенного уровня общества, то другие можно услышать повсюду. Ни сенат, ни будуар не защищены от их вторжения, так же как фермерский дом или таверна». Специфика американской жизни и какие-то особенности американского литературного стиля меньше повлияли на появление нового оттенка в английском языке Америки, чем особая американская мощь и преобладание народного (и относительно внеклассового) разговорного языка. В этой связи Бристед делал вывод: «Что касается разговорной речи, то самый утонченный и самый образованный американец,
364
который в состоянии написать тома, посвященные серьезной теме, без каких-либо отличительных особенностей, в полудюжине фраз использует по крайней мере полдюжины слов, которые не могут не поразить неопытного англичанина, услышавшего их впервые».
Таким образом, распространение языковых особенностей в Америке шло снизу вверх. То, что Менкен называет «потоком крепких и невиданных прежде слов и фраз», проистекающим из самой гущи американской жизни, захлестнет также литераторов. Он станет той новой силой, которая позволит смешанному разноликому народу создать свой собственный язык и сделать этот язык именно своим.
Конечно, было очень много словесных причуд: например, образование существительных типа «guyascutus» (?), «scalawag» (южанин, поддерживающий республику в период реконструкции после Гражданской войны), «shebang» (хижина), «shindig» (вечеринка), «slumgullion» (слабый), «sockdolager» (махина), «spondulix» (деньги); или глаголов, как «to absquatulate» (быстро уйти), «to exfluncticate» (преодолеть, побить, использовать), «to homswoggle» (надуть), «to skedaddle» (улепетывать), «to squiggle» (маракать); или прилагательных вроде «hunkydory» (первоклассный), «rambunctious» (буйный), «scrumptious» (стильный), «slambang» (неистовый) и «splendiferous» (отличнейший). Много слов было образовано с использованием префиксов, например префикса ker, имитирующего всплеск от упавшего в воду предмета: «ker-flop» (плюхнуться), «ker-bim» (бабенка), «ker-splash» (плеснуть), «ker-thump» (грохотать), «ker-bang» (тарарахнуть), «ker-plunk» (всплеск), «ker-squash» (чмокать), «ker-swosh» (бурлить), «ker-slap» (звук пощечины), «ker-chunk» (бухнуть), «kersouse» (громкий всплеск), «ker-slam» (хлопнуть), «ker-flummux» (смешаться).
Но если такие странности словообразования и удивляли степенного английского путешественника, их роль была менее значительной по сравнению с мощью нового словарного запаса. Мы оставляем в стороне неловкие изыски типа «to doxologize» (помпезное новообразование, означающее воздать славу Господу), «to funeralize» (провести похороны), а также политический жаргон того времени и обнаруживаем множество выразительных новшеств, которые используются в повседневной речи XX века. Из старых известных существительных были созданы новые глаголы (способом, который лингвисты называют «обратным словообразованием»): «to resurrect» (восстать), «to excurt» (ходить на экскурсию), «to resolute» (выносить решение), «to enthuse»
365
(приводить в восторг). Новыми словами, которйе шокировали или даже пугали пуритан, когда произносились впервые в то время (часто представителями Запада в стенах конгресса), являлись: «to affiliate» (присоединять), «to endorse» (одобрять), «to collide» (сталкиваться), «to jeopardize» (рисковать), «to predicate» (утверждать), «to itemize» (перечислять), «to americanize» (американизировать). Из повседневного общения возникали более привычные американскому уху глаголы: «to aggravate» (ухудшать), «to boom» (создавать сенсацию), «to boost» (подталкивать), «to bulldoze» (сгребать бульдозером), «to coast» (кататься с гор), «to corner» (монополизировать рынок), «to crawfish» (пятиться), «to engineer» (подстраивать), «to lynch» (линчевать), «to splurge» (сорить деньгами). В наследство от XIX века мы получили такие общепринятые прилагательные, как «non-committal» (уклончивый), «highfalutin» (напыщенный), «well-posted» (хорошо расположенный), «down-town» (находящийся в центре города), «played-out» (измотанный), «down-and-out» (разоренный), «under-the-weather» (подвыпивший), «оп-the-fence» (сохраняющий нейтралитет), «flat-footed» (решительный), «true-blue» (преданный). Или такие известные американизмы, как «slim» вместо «small» (слабый, малый; например, слабый шанс), «plumb» (явный; например, в возрожденном английском архаизме «plumb crazy» — явно спятил).
Употребление спиртных напитков оставило нашему разговорному языку большое наследство. Уэнтворт и Флекснер считали, что слово «drunk» (пьяный) обладает самым большим числом сленговых синонимов в американском языке. Отчасти это произошло благодаря заимствованию нашим языком слов, употреблявшихся переселенцами, а также, возможно, и из-за их особой приверженности к спиртному. Как бы то ни было, кажется, что американцы больше других получают удовольствие от разговоров о выпивке. Словарь американского застолья берет начало в те годы, которые Менкен назвал «готическим веком американского пития и американского словотворчества», — то есть между Революцией и Гражданской войной.
В этот период были заложены основы словаря американского застолья. «Bar-room» (бар) (1807) и «saloon» (салун) (1841) стали американизмами, для которых появилось неисчислимое множество эвфемизмов.
Попроси «bar-tender» (бармена; 1855) «set’em up» (обслужить; 1851)! Ты хочешь только «snifter» (глоток спиртного; 1848) или предпочитаешь, чтобы тебе отмерили порцию «jigger» (мерным стаканчиком; 1836), «ропу» (стопкой; 1849) или «finger»
366
(пальцем; 1856)? Спроси «long drink» (крепкого спиртного; 1828), если ты не хочешь «straight» (чистого) виски (1862; английское слово — «neat»). Хочешь ли ты «eggnog» (напиток из яйца, сахара и рома; 1755), «mint-julep» (виски с мятой; 1809) или «соЫег» (напиток из вина, сахара, лимона; 1840), например «sherry-cobler» (1841)? Менее известными изобретениями «готического века» являются: «horse’s neck» (горлышко бутылки), «stone-fence» (спиртное), «brandy-crusta» (винный осадок), «brandy-champarelle» (шампанское с коньяком), «blue-blazer» (коктейль с горящим виски), «locomotive» (аперитив).
Всемирно известное слово «коктейль», один из самых удачных американизмов как с языковой, так и других точек зрения, появилось у нас не в изнеженные времена недавнего прошлого, а в тот самый «готический век». Газета «Баланс (и Колумбийский репозиторий)», Гудзон, штат Нью-Йорк, 13 мая 1806 года впервые объясняла:
Коктейль — это бодрящая смесь, состоящая из алкоголя любого вида, сахара, воды и горькой добавки... Говорят, что он очень полезен кандидату от демократов, поскольку лицо, проглотившее стакан этой смеси, готово проглотить все, что угодно.
К 1822 году кто-то определил обычный завтрак в Кентукки как «три коктейля с тремя прицепами». В «Словаре американизмов» (3-е изд., 1860) Джона Расселла Бартлетта коктейль назван «бодрящим напитком, изготовленным из коньяка либо джина, смешанного с сахаром и разбавленного небольшим количеством воды». В четвертом издании 1877 года перечислены следующие компоненты: коньяк, шампанское, джин японский, джерси, сода и виски.
Самым известным и самым распространенным из всех дошедших до нас американизмов этого периода, по мнению экспертов и неспециалистов, считается «о’кей» (О.К.). Его происхождение остается любимым полем академических сражений. До последнего времени тяжесть доказательств склоняла весы в пользу той версии, которая вела его происхождение от «Old Kinderhook», прозвища Мартина Ван-Бюрена, полученного им в ходе избирательной кампании на пост президента, когда его поддерживали демократические О.К. — клубы в Нью-Йорке. Однако теперь среди специалистов преобладает другая точка зрения. Они считают, что О.К. — это акроним выражения «all correct», но что Эндрю Джексон (которому его приписывали) не имеет к нему никакого отношения. Во всяком случае, бесспорно
367
то, что выражение это возникло в первые годы XIX века и к середине века стало приобретать принятое сегодня значение. За три десятилетия О.К. заразило язык Англии.
Первую половину XIX века можно назвать великой эпохой иностранных заимствований в американском языке, рожденной первыми широкими контактами между переселенцами британского и небританского происхождения. У голландцев с начала XIX века американцы позаимствовали не много слов, например «bedspread» (легкое постельное покрывало) (1845); «dope» (после 1807), имеющее многочисленные и разнообразные значения, и «to snoop» (шпионить) (1832). Именно в это время европейские языки внесли свой самый значительный вклад в американскую речь.
В колониальный период заимствования из французского языка через Канаду были немногочисленными, например «prairie» (прерия), «batteau» (корабль), «portage» (переправа), «rapids» (речной порог). И только после покупки Луизианы в американскую речь хлынул настоящий поток французских слов. Многие из них были географическими названиями. Например, хотя слово «прерия» и использовалось американцами до Революции, оно еще в 1828 году не было включено в «Американский словарь английского языка» Уэбстера. Ко времени Гражданской войны передвижения людей по прериям увеличили потребность в этом слове. Ко второй половине XIX века распространение получили такие удачные сочетания, как «prairie-dog» (луговая собака), «prairie-hen» (степной тетерев), «prairiesquirrels» (суслики), «prairie-State» (штат в прериях), «prairiewolf» (койот) и другие. В начале XIX века из французского были заимствованы слова «butte» (крутой холм; 1805), «chute» (стремнина; 1804), «coulee» (высохшее русло; 1807), «crevasse» (расселина; 1813), «depot» (железнодорожное депо; 1832), «picayune» (мелкая монета; 1805), «to sashay» (направляться; 1836), «shanty» (лачуга; 1822).
Значение территориального фактора для американской культуры, пожалуй, лучше всего иллюстрируется тем, что из испанского американский английский язык заимствовал больше, чем из какого-либо другого языка. Иногда испанский язык служил посредником для индейских слов (например, для слова «койот»). Большое количество слов пришло из испанского языка в первой половине XIX века. Многие из этих заимствований считаются самыми выразительными в повседневной американской речи, особенно в разговорах знати, — к такому выводу приходит Гаролд Бентли, говоря об испанских словах: «Они
368
сохраняют местный колорит и все богатство оттенков, включая юмор, они живописны и изобразительны». К ним относятся: «adobe» (саман; 1759), «alfalfa» (люцерна; 1855), «bonanza» (удача; 1844), «Ьгопсо» (полудикая лошадь; 1850), «Ьискагоо» от «vaquero» (пастух; 1827,1889), «Ьигго» (ослик; 1844), «calaboose» (каталажка) — слово пришло через Французскую Луизиану (1792), «canyon» (каньон; 1834), «cinch» (подпруга; 1859), «corral» (загон для скота; 1829), «fiesta» (праздник; 1844), «frijole» (похвальба; 1759), «lariat» (аркан; 1832), «lasso» (лассо; 1831), «1осо» (сумасшедший; 1844), «mesa» (столовая гора; 1759), «mustang» (мустанг; 1808), «padre» (отец; 1792), «patio» (дворик; 1827), «реоп» (батрак, поденщик; 1826), «placer» (прииск; 1842), «plaza» (площадь; 1836), «pronto» (быстро; 1850), «ranch» (ранчо; 1808), «rodeo» (родео; 1844), «savvy» (кумекать) от слова «sabe» (1850), «sierra» (горная цепь; 1759), «sombrero» (сомбреро; 1823), «stampede» (перетянуть избирателей; 1844), «tortilla» (маисовая лепешка; 1831), «to vamoose» (уносить ноги; 1847) — вероятно, от «to mosey» (сматываться), «vigilante» (член комитета бдительности; 1865).
Количество заимствованных слов ни в коей мере не было пропорционально ни количеству иммигрантов из одалживающей их страны, ни богатству ее языка. После испанского самое большое число слов дал немецкий язык: с одной стороны, это такие академические выражения, как «kindergarten» (детский сад; 1855, 1862), и с другой стороны — такие просторечия, как «nix» (нисколько; 1855) и «ouch» (ой; 1837). Немецкому мы также обязаны словами «to loaf» (бездельничать; 1835), «loafer» (бездельник; 1840), «to bum» (жить за чужой счет, глагол; 1863), «bum» (лодырь, существительное; 1862), «bum» (никчемный, прилагательное; 1859), «bub» (малыш, шутливая форма обращения; 1839), «dumb» (тупой, глупый; 1825), «fresh» (в смысле «наглый»; 1848) и «shyster» (стряпчий по сомнительным делам; 1846). Наиболее очевидными немецкими заимствованиями являются слова, относящиеся к наименованиям пищевых продуктов: «pretzel» (кренделек; 1824), «pumpernickel» (хлеб из грубой муки; в «Гиперионе» Лонгфелло, 1839), «lager» (легкое пиво; 1854), «bock beer» (темное пиво; 1856) и «to dunk» (макать; 1867). Большая часть ныне известных немецких слов в нашем кулинарном словаре появилась в XIX веке уже позже: «delicatessen» (деликатесы), «sauerbraten» (колбаса с капустой), «stein» (пивная кружка), «zweiback» (сдобный сухарь) и другие.
Некоторые языковые новшества пришли к нам из ирландского языка. В 1855 году один ученый отметил, что единственным
369
влиянием ирландского на язык Нью-Йорка стало широкое употребление shall вместо will. Даже спустя десятилетия после Гражданской войны ирландских слов было немного: «speakeasy» (место незаконной продажи алкоголя), «shillelah» (дубинка), «smithereens» (осколки) и, возможно, также «lallapalooza» (диковина). Вероятно, влияние ирландцев осуществлялось не через новые слова или их новые значения, а, скорее, за счет употребления устаревших разговорных форм, сохранившихся в Ирландии: «ag’in» вместо «against» (против), «ЬПе» вместо «boil» (кипеть), «ketch» вместо «catch» (схватить), «chaw» вместо «chew» (жевать), «drownded» вместо «drowned» (утопленник), «heighth» вместо «height» (высота), «h’ist» вместо «hoist» (магазинный вор), «jine» вместо «join» (присоединиться); и за счет такого же использования определенного артикля, как во французском или немецком («I had the measles»). От ирландцев (по словам Менкена, ирландец просто не способен сказать только «да» или только «нет») мы получили ряд сочных выражений с усилительным и расширительным значением, например: «yes indeedy» (да; 1856), «yes sir-ее» (да, сэр; 1846) и «по sir-ее» (нет, сэр; 1845). Видимо, также из ирландского пришли «teetotal» (трезвый; 1834), «teetotaler» (трезвенник; 1834), «teetotally» (трезво; 1839), которые скоро были переделаны на западный манер в «teetotaciously» (1859). Даже китайцы, весьма скромная часть населения страны, добавили в этот век заимствований несколько своих слов, ставших общеупотребимыми, например: «chow» (еда), «to kowtow» (кланяться до полу) и «to yen» (желать).
Рождение живого американского разговорного языка произошло на памяти двух поколений. Появление его нельзя было предвидеть, но когда он начал расти, то нельзя было и контролировать. Литераторы, ярые приверженцы Старого Света, забили тревогу, поскольку развитие языка шло не по правилам и без одобрения его самозваных хранителей. Переселенец Генри Джеймс жаловался в духе почитателей Старого Света в 1905 году:
Пока мы спим, огромная масса чужестранцев, которых мы привечаем у себя и чье главное стремление, как я считаю, состоит в том, чтобы с первого момента появления здесь чувствовать себя обладателями таких же прав делать с нашей речью что захочется, какими наделенц мы сами, — великим правом американца свободно делать здесь, у себя, то, что он пожелает, со всем и всяким; пока мы спим, бесчисленные чужестранцы готовятся (они не спят!) навязать свою волю этому новому для них наследию и доказать нам, что у них не больше добрых чувств и почтительного уважения к нему, не
370
больше любви и потаенной с ним связи, трепетного, нежного любопытства к нему, чем к бесформенному куску клеенки в столько-то ярдов из лавки, который они для удобства хотели бы постелить на кухонный пол или лестницу.
34.
ВЫСПРЕННЯЯ РЕЧЬ: ПОЛУПРАВДА ИЛИ ПОЛУЛОЖЬ?
В такую экспансивную эпоху привычные грани — между действительностью и вымыслом, между существующим и желательным, между настоящим и будущим — уже не могут играть прежнюю роль. Слово «tall» в Англии давно означало либо просто «high» (высокий), либо «1ойу» (возвышенный), и в этом смысле «tall talk» считался бы противоположностью «small talk» (обыденная речь). В Америке же слово «tall» (высокий или возвышенный) имеет еще и такие значения, как «unusual» (необычный), «гетагсаЫе» (удивительный) или «extravagant» (экстравагантный). И в этом особенность американского языка. Язык не стал бы американским, если бы не обладал достаточной гибкостью, чтобы описать необычное как общепринятое, а экстравагантное — будто оно не выходит из привычных границ. Причуды американской жизни и несоответствие традиционным языковым нормам сделали «tall talk» такой же необходимой принадлежностью этого экспансивного века, как килевая лодка или крытый фургон.
«Tall talk» передавал детали хорошо знакомого. Он стирал грани между реальностью и вымыслом. Доступный и необходимый всем tfall talk» не знал запретов. Он не знал постепенного развития, а вошел в жизнь народа внезапно, вызванный потребностью в неопределенном, менее четком, более двусмысленном языке, чем тот, который уже имелся. Он отвечал новшествам и неопределенностям Нового Света. Сначала это был язык общины, а потом правительства, то есть сначала тех людей, которые приобретали опыт, и только потом тех, кто этот опыт узаконивал.
Назвать «tall talk» просто языком преувеличений было бы неточно. Этот язык стал необходим, поскольку понятие преувеличения в Старом Свете оказалось неадекватным самому себе. Позднее он приобрел исключительную популярность в литературе для передачи того, что мы называем потоком сознания, необходимым «для описания эмоциональной и интел
371
лектуальной реакции персонажей на внешние события, а не самих этих событий». Удивительно, но как язык рекламы XX века, так и «tall talk» не был ни языком правды, ни языком лжи, а языком дурной помпезности. Было бы также неправильно назвать «tall talk» юмором Запада. Он не принадлежал исключительно Западу и не был только юмором. Его особое значение состояло в его неопределенности: был ли это юмор или нет?
Врач и журналист Томас Лоу Николс, который родился и вырос в Новой Англии, жил и работал в северной части штата Нью-Йорк и в 1850-х годах в Огайо и долине Миссисипи выступал за свободную любовь и потакание всем прихотям человеческого организма, так описал «tall talk»:
Язык, как и страна, содержит в себе определенную степень свободы и величия. Человек с Запада «спит так крепко, что только землетрясение может его разбудить». Он в «довольно серьезной опасности», «кто-то на него катит бочку, как Миссури катит свои волны на песчаную косу». Он «спятил». Он «костерит всех проклятых паразитов», вечно «попадает в переделку» и утверждает, что «это все байки». История «пахнет довольно подозрительно». Он говорит: «Медведя я — одним махом». Он говорит, что жалостливый рассказ погружается в его душу, как «в Миссисипи погружается судно, получившее пробоину от коряги». Он «хохочет, как хохочет гиена над мертвым ниггером». Он «сокрушит забор на своем пути, как падающее дерево паутину». Он «все доводит до конца». Он выращивает «еще то зерно» и живет там, где «навалом препятствий»... Человек с Юго-Запада, рожденный в старом Кентукки, он вырос на Миссисипи, обожает бары и хорош в схватке с пумой. Он «перекричит гром, выпьет Миссисипи», полагает, что уж он-то «парень — то, что надо», и что те, кого он не любит, «не стоят и гроша ломаного». Он рассказывает о «том слабаке, которому надо прислониться к дереву, чтобы как следует выругаться». Он «несгибаем, как топор мясника». Он «бахвалится» и «важничает, как пароход»...
Американский юмор в основном состоит из преувеличений и странных, причудливых выражений. Многое из того, что кажется забавным английскому читателю, на самом деле исполнено самого серьезного смысла. Человек, который говорит о себе, что он «обалденно невоздержан» («squandering about permiscuos»), ни на минуту не задумывается о.том, что это выражение смешное. Когда он хвастает, что его сестра «крутит самый чертовский угол в старом Кентукки», то это значит, что она просто хорошо танцует. Чтобы молниеносно ускользнуть,
372
надо, как говорят к западу от Миссисипи, «смыться быстрее смазанной молнии».
В некоторых из наиболее колоритных и допускающих цитирование примерах преувеличения достигают колоссальных размеров. В 1840 году Рид Торнтон поместил на страницах флоридской газеты описание «tall talk», ставшее впоследствии знаменитым:
Когда мы проходили мимо здания суда, шутник с Севера шести футов ростом разразился следующей тирадой:
«Это я, и это точно! Билли Землетрясение, эсквайр, повсюду от северного рукава Грязного Потока меня зовут Маленький Билли... Может, вы не знаете, кто такой Маленький Билли? Я вам скажу. Я бедный человек, это точно, и от меня отдает мокрой псиной, но меня не одолеть. Это я своей улыбкой вывел из равновесия весь зверинец и заставил носатую обезьяну опустить голову и покраснеть. Да! Я тот парень, что протащил эту здоровую посудину вверх по Соленой реке, где такие коряги, что даже рыба не сможет там проплыть, не обдирая башки! — точно, а если кто не верит, пусть сам попробует! А может, кто не слышал, как меня лягнула лошадь и вывихнула оба копыта? Если и это не так, пусть меня разрежут на рыбью наживку. Да! Я то дитя, что отказалось от молока, еще не открыв глазки, и потребовало бутылочку старого доброго зелья! Да! Я маленький купидон! Поговорим о том, как содрать кору с дерева. Для меня это — тьфу: одного взгляда на копыто быка будет достаточно. Да, я из породы выносливых — живу вечно и потом обращаюсь в ствол белого дуба. Я то, что надо, я мотор с двумя двигателями и моту перегнать, перепрыгнуть, переплыть, прожевать больше табаку и сплюнуть меньше, выпить больше виски и быть трезвее всякого в округе, и если это не заставит их драться (роняет он напоследок с явным отвращением), то ничто не заставит. Пусть меня обожгут в печи, как кирпич, пусть меня разрежут на сапоги, если я поверю, что среди них есть парень, у которого хватит смелости свернуть шею цыпленку!»
На самом деле крикун всего лишь украсил преувеличениями обычную речь (1818).
Не только легендарные, сотрясавшие преисподнюю шутники, но и обычные люди изъяснялись со свойственной им природной живостью.
Общепринятые, заботливо создаваемые американизмы все же обладали конкретностью, если только при этом они не были слишком театральными, чтобы их цитировать, или настолько нелепыми, что вызывали лишь смех. То, что вы делаете, — это не мои похороны (это не мое дело) (1854). Abznnme встретиться с музыкой? (Хотите иметь неприятности?) (1850). По какому вопросу ты предпочитаешь сидеть
373
на заборе? (По какому вопросу ты займешь выжидательную позицию?) (1854). Берегись человека с хрустящим картофелем на плече (1840; 1950), его гнев не испарится (1854) (Берегись человека, который чувствует себя обделенным судьбой, его гнев не иссякнет). Он может соскочить с рукоятки (вспылить, рассердиться) (1825). Держи жесткой верхнюю губу (Сохраняй хладнокровие) (1815). Постарайся выяснить, не в сговоре ли он (1829) с кем-либо, кто знает, как сбить с ног и как измотать силы своего противника (1857; 1827; 1834). Если он возьмется за дело, то можешь считать себя конченым (1847), он заставит летать мех (1804) и в конце концов выколотит из тебя все пятна (1861) (Если он за тебя возьмется, то можешь считать себя покойником, из тебя полетят пух и перья и в конце концов он во всем обставит тебя). Не позволяй ему увиливать от вопроса (1846). Не бойся уступить работу самому себе (Не бойся энергично взяться за дело) (1864). Не позволяй ему запорошить шерстью глаза (Не позволяй ему себя обманывать) (1842). Этот человек может удариться в религию? (1826). Это тот человек, с которым нужно обращаться без перчаток (Это тот человек, с которым можно не церемониться) (1827). Никогда не разрешай ему капать на тебя (Никогда не позволяй ему брать над тобой верх) (1869). Если дело не выгорит (1868), ты можешь ободрать кору не с того дерева (1833) (Если твои дела пойдут неважно, ты можешь оказаться в невыгодном положении). Затем ты, возможно, захочешь поднять ставки (1841) и пойти туда, где ты скорее разбогатеешь (1852; 1869) и где ты сможешь приодеться так, что всех убьешь (Затем ты, возможно, захочешь испытать судьбу и отправиться туда, где лучше и где ты сможешь предстать во всей красе). Здесь нет двух путей (1818), человек с чувством лошади (1832) может наслаждаться жизнью, не работая в земельной конторе (1839) (Вне всякого сомнения, человек со здравым смыслом может наслаждаться жизнью, не совершая скоропалительные сделки).
Американский язык становился все конкретнее и в глазах обитателей Старого Света выглядел окончательно сформировавшимся «tall talk». Американец не мог использовать высокие слова, не будучи при этом конкретным. В американском языке не существовало четкого разграничения между специфическим и преувеличенным. Да и как могло быть иначе? Преувеличение часто казалось незначительным рядом с грандиозностью реального. Где и когда еще было так трудно отличить вымысел от
374
реальности? Где еще «tall talk» мог стать языком спокойных и честных обывателей? Где еще будничная жизнь была так тесно связана с невероятным?
Итак, «tall talk» слышался не только на речных судах, в крытых фургонах, в шахтерских поселках и среди торговцев мехами. Он звучал с амвона, с университетских кафедр, в залах конгресса. Он достиг вершин. Проповедники, учителя, конгрессмены — все смешались с простым людом. Вот что говорил кандидат от Орегона во время выборов в июне 1858 года:
Уважаемые сограждане, вы можете с таким же успехом попытаться осушить Атлантический океан через соломинку ракитника или вытащить этот пень из-под моих ног оводом в упряжке, с каким убедить меня в том, что я не буду избран на это место. У моего противника нет ни малейшего шанса, ни на понюшку табаку. Потому что у него столько же ума, сколько у селедки средней величины. Я коренной в упряжке с двумя бульдогами под фургоном и ведром дегтя, вот кто я. И если есть здесь кто-нибудь, кто может победить меня, пусть покажется, я готов. Парни, я за американского орла, за его когти, звезды, полосы, за все за это; да я, если на то пошло, разорву на себе свою любимую рубаху, если не повалю, не протащу и не выбью моргалки каждому, кто против меня!
«Tall talk» удивительно соответствовал высокопарной американской политической речи. Вот, например, «Знаменитая военная речь» Дэви Крокетта в одном из «Альманахов Крокетта», популярных в 1835 —1856 годах:
Уважаемые сограждане, люди!
Тяжелые времена обрушились на нас, как ураган, как землетрясение: они настигли нас, как пума внезапно настигает одним прыжком! Нам надо проявить твердость и выдержку, подобную удару молнии, что разрезает сосновое бревно, чтобы уничтожить, усмирить и опорочить врага, как ниггера, засунутого в бревно.
Мы должны проткнуть сердце врага, как тому парню, что плюнет тебе в лицо, завалит твою жену, сожжет твой дом и обзовет твою собаку вонючим скунсом! Набей его гнусное чрево громом и молнией, как нашпигованную колбасу, и вытащи его длинной раскаленной кочергой, чтобы от него не осталось и кусочка, которого бы хватило на завтрак вороне, да еще откуси ему при этом нос. Расколи его спокойствие землетрясением, ужасни его настоящим индейским воплем, пока он не отбросит все свои претензии на расчистку леса на этой стороне Соленого пруда и не смоется с быстротой смазанной молнии, которую преследуют все крокодилы Миссисипи.
Ребята, я с вами! И пока звезды и полосы Дяди Сэма победно развеваются на ветру, где, где, где тот трус, пошлый, взращенный курицей брат жабы, маменькин сынок, который не зажжет путеводный огонь победы, не уничто
375
жит агрессора и не устремится вперед к свободе и славе! Итак, ура, вперед — Крокетт с вами — где враг!
Хотя Дэви никогда не блистал таким красноречием во время своего пребывания в конгрессе, многие до и после него были бы счастливы считаться авторами подобных пассажей.
Американская политическая система — со всеми ее многочисленными представительскими учреждениями и неутомимыми ораторами — объединила, смешала и оживила язык. История развития нашего разговорного языка отражена в протоколах конгресса. В своем «Глоссарии так называемых американизмов», вышедшем в свет в 1859 году, доктор Алфред Элвин, аристократ из Пенсильвании, давал, извиняясь, такое объяснение этому явлению: «Отсутствие языковой нормы явилось причиной существования в языке непривычных и странных выражений. Для народа Англии эталоном является парламент, состоящий из людей, получивших лучшее образование; для жителей нашей страны законодательная власть едва ли будет образцом в области использования языка или изысканных манер». Тем самым он высказал мысль о том, что именно конгресс стал ареной для «tall talk». Распаляемые величием (подлинным или мнимым) обсуждавшихся проблем и солидностью обстановки, вдохновляемые внимающей им аудиторией и бесчисленной публикой за пределами здания, простые американцы становились цветистыми ораторами. Напыщенные выражения, которыми конгрессмены обменивались во время заседаний, они привозили домой и распространяли в своих избирательных округах.
От того, что «tall talk» получил широкое распространение в верхах, он не стал лучше. Зачастую звучал помпезно, а не образно, напыщенно, а не убедительно. Внушительные, отточенные периоды парламентского красноречия лишь иногда отдаленно напоминали о существовании американских Демосфена, Цицерона или Берка — либо ораторов, пытавшихся играть их роли. Часто повторяясь, они говорили на чистом «tall talk». Об этом свидетельствует приводимый ниже отрывок из панегирика Джону Кэлхуну, произнесенный Албертом Брауном из Миссисипи в палате представителей 17 апреля 1840 года:
И как же, как же, сэр, должен я говорить о нем — о человеке, который по справедливости считается чудом света, поражающим человечество? Он низвергается, подобно великой Ниагаре, заставляя всех расступаться перед ним, он мчится вперед, сметая на своем пути тех, у кого хватает безрассудст
376
ва помешать его неудержимому движению. Да, сэр, это воистину настоящий водопад, политическая Ниагара Америки; благороднейшее создание природы и Бога, он переживет века, не только удивляя, но и восхищая весь мир. Яркая звезда его гения, взошедшая с началом его жизни и осветившая все вокруг, оставила малые звезды, сверкавшие благодаря ей, далеко позади себя в той непроницаемой тьме, на которую их обрекло суровое повеление природы; к его мощному уму обращалась страна в поисках военной защиты; под широко распростертым крылом его гения страна искала политической защиты; его великому уму, его благородной, безукоризненной внешности могли завидовать страны, но даже миры не могли с ним соперничать. Такой человек не нуждается в моих похвалах, человеческий язык здесь бессилен... Его добродетели и слава сияют высоко на нашем политическом небосклоне, там, где их не смогут коснуться низкие сплетни, где размахом крыльев и взглядом он один сравним с орлом... Хвала ему слышится в далеком рокоте грядущих поколений; она подобна торжественному артиллерийскому салюту, раскаты которого будут слышны в веках, пока их не поглотит мощный поток вечности. Пусть ничтожные умы презирают его... пусть; комары жужжат вокруг гривы льва, но не в силах пробудить его. Проклятия лишь добавят звенья к той прочной цепи, которая связывает его с его согражданами, а звук военного горна поднимет миллионы на его защиту.
Во время дебатов по орегонской проблеме, как заметил конгрессмен от Индианы Кэткарт, американского орла «заставляли летать так часто, что его тень, можно сказать, пробороздила дорогу через бассейн Миссисипи».
«Tall story» стала еще одним примером при перечислении типичных черт новой американской речи. Она превратила часть «tall talk» в своего рода повествование. Ее преувеличения могли быть результатом либо несдержанности языка, либо полудостоверности событий, либо того и другого, что прекрасно иллюстрирует собственное восприятие Дэви Крокеттом орегонской проблемы:
Я думаю, читатель слышал о тех местах на Западе, что зовутся Орегон, и о том, как британцы хотят, чтобы была совместная оккупация. Это ясно. Все это вранье, что в одиночку мы не управимся, и, по-моему, это похоже на то, как если бы я и пантера очутились вместе на одной ветке дерева. Места вроде бы хватит для обоих, но нам не быть вместе.
Однажды объявился в моем доме один занудный янки-торговец и нагрузился до отвала медвежатиной и виски, но этого ему показалось мало, он захотел еще совместной оккупации моей жены. И вот, как только я встал рано утром, он сразу пополз на спорную территорию и начал отворачивать одеяло. Моя жена это услыхала и сделала вид, что спит, приоткрыв глаз. И вот, когда он сунул ногу в постель, она взяла полотенце, что висело рядом, привязала его за лодыжку к ножке кровати, а потом встала и выпустила на него
377
улей пчел. Он здорово орал и плясал. И я думаю, что и Джон Буль у нас попляшет, если окажется среди пчел янки в Орегоне.
Фантазируя, американцы не разменивались на мелочи; все изображалось куда значительнее, чем было на самом деле. Гномы, эльфы и другие крошечные человечки, которые заполняют сказки других стран, не прижились на американской земле. Мощный водяной поток убаюкивал младенца Дэви Крокетта в колыбели двенадцати футов длиной, сделанной из панциря шестисотфунтовой каймановой черепахи, промасленной ядом гремучей змеи и покрытой шкурами дикого кота. Согласно преданиям, он мог «ходить, как буйвол, бегать, как лиса, плавать, как угорь, вопить, как индеец, драться, как дьявол, грохотать, как землетрясение, любить, как бешеный бык». Его нож Биг Бутчер был самым длинным во всем Кентукки, его собака Тизер могла свалить бизона.
35.
ЯЗЫК ПРЕДЧУВСТВИЯ
«У американцев принята и широко распространена в описаниях такая риторическая фигура, в которой настоящее время глаголов изъявительного наклонения используется вместо будущего времени сослагательного наклонения; это называется предчувствие, — писал английский путешественник Морис Биркбек в 1817 году. — С ее помощью желаемое выглядит как реально существующее». Когда Биркбеку сказали, что Питтсбург —это «Бирмингем Америки», то он «представил себе город в клубах дыма, исходящего от тысяч печей, и в грохоте десяти тысяч молотов». Ничего подобного он не увидел, Питтсбург оказался обычным городом Запада, где вся промышленность была меньше многих частных предприятий в Британии. По его словам, он мог бы избежать разочарования, если бы знал особенности американской речи.
Среди них самая отличительная — это свобода американцев в обращении с существительными — как с нарицательными, так и с названиями учреждений, предметов, мест и с именами людей — что, видимо, приняло активный, всеобщий характер. Многое из того, что в описаниях американцев производило на иностранцев впечатление причуды, было лишь непривычной для них языковой путаницей настоящего и будущего, реальности и мечты. Это стало манерой, даже мо
378
дой американской речи. В утверждения, которые иностранцами воспринимались как ложь или бахвальство, американцы вкладывали ощущение туманного предчувствия. Американский «booster talk» часто употреблял будущее время, доказывая то, что еще нельзя было опровергнуть. Даже в колониальные времена для тех, кто писал об Америке, оказывалось довольно затруднительным ограничиться лишь описанием очевидных фактов.
Теперь же, особенно на Западе, который переживал период бурного роста, у людей появилась невинная привычка к преувеличениям. Они редко говорили меньше, чем хотели сказать. Женщин было немного, и контроль за языком, как, впрочем, и за всем остальным, установили мужчины. Это привело к преобладанию в обычной речи сленга и гиперболы. Профессор Томас Димсдейл считал ругательства основной формой общения, царившей в шахтерских городках Монтаны в середине XIX века. Шахтеры напивались вдрызг, и любое случайно брошенное грубое слово неизбежно приводило к ссоре и драке с кровопролитием. Люди говорили больше, чем имели в виду. Если назвать эту склонность американцев употреблять сильные выражения «воспеванием банальности», исчезнет нечто исключительно американское, что отличает «tall talk» от обычной речи. В то время как «tall talk» смешивал реальность и вымысел в неопределенных пропорциях, «booster talk» смешивал настоящее и будущее. Прежде всего это относится к использованию названий для обозначения желаемого: «город» заменил «местечко», «университетом» стало называться заведение, которое в Европе назвали бы «колледжем», а «колледжем» именовалось любое учебное заведение, какими бы ничтожными ни были его средства. Еще более громкие слова предназначались тому, что вообще едва ли существовало. Элегантное «отель» часто относилось и к лачугам, кишащим блохами постоялым дворам. Американцы считали, что они не преувеличивают, а только предсказывают, называя то, что формально пока еще не совсем «появилось на свет». В этом не было ошибки, просто был оптимистический прогноз. Еще в конце XIX века английский журналист Джордж Уоррингтон Стивенс заметил, что американец никогда не строит себе «house»; он строит «home». То, что в Англии назвали бы «таверной» или «трактиром», в Америке становится «салуном» (заимствовано из французского — «salon»), чтобы передать надежду на значительность учреждения. Любое помещение, Приспособленное для общественного увеселения, как бы убого
379
оно ни выглядело, становилось «опера-хаус» местного значения. «Лицей» — название сада в Афинах, где обучал Аристотель, — стало обычным американским словом для обозначения программы странствующих лекторов. Даже слово «государство» (state) приобрело новое, неожиданное значение и стало относиться к любой части Союза, в то время как в Англии «государство» означает всю совокупность политических структур, олицетворяющих высшую законодательную и исполнительную власти.
Свободные называть все так, как они пожелают, американцы часто вкладывали в эти названия все свои надежды. Например, как назвать новую страну? Ответ тогда не был столь очевидным, как это кажется сегодня. Во время Революции некоторые деятели, включая Филипа Френо, предлагали назвать ее «Колумбией» (в честь первооткрывателя Колумба). Предлагались иноязычные слова, например, образованные посредством прибавления латинского окончания к сокращенному английскому слову «freedom» (свобода), получалось — «Фридония» или «Фредония». Название страны «Соединенные Штаты Северной Америки» было упомянуто в первом договоре с Францией. Название «Тринадцать Соединенных Штатов Америки», использованное в окончательной редакции Декларации независимости, оказалось привлекательнее. Но «Соединенные Штаты Америки», как указывалось в предисловии к федеральной Конституции, было многообещающим по крайней мере в трех смыслах: оно выражало надежду, что новая страна будет объединенной, что ее составные части будут действительно «государствами» и что они каким-то образом будут отождествляться со всей Америкой. Вскоре после Революции проявились недостатки этого названия. Самым подозрительным в нем было отсутствие конкретного прилагательного. Таким образом, граждане новой страны, к неудовольствию граждан других государств Нового Света, оказались перед соблазном монополизировать название материка и считать «американцами» только граждан Соединенных Штатов.
Удивительно большое количество названий, которые выбирались для возникающих общин, ставило своей целью предсказать им процветание, богатство, культуру или славу. Если только основатели городов не хотели ставить себя в тесные рамки — как, например, в Канзасе, где вскоре исчезнувший городок назвали Богатым Городом, или в Монтане, где небольшое местечко было названо Раем (Paradise), — то они заимствовали названия знаменитых городов Старого Света, вы
380
ражая тем самым свою надежду на их богатство и процветание. Например, в большом ходу был «Оксфорд» для обозначения месторасположения Университета Майами (1809) в Огайо и Университета Миссисипи (1848); «Кембридж» уцелел и в XX веке как название городков, основанных еще до Гражданской войны в Иллинойсе, Мэриленде, Массачусетсе, Миннесоте, Небраске, Нью-Йорке и Огайо. Самонадеянное стремление к славе объясняет популярность Афин в названиях новых центров обучения Алабамы (Афинский колледж, 1842), Джорджии (Университет Джорджии, создание которого было задумано в 1785 году и завершено в 1801-м), Огайо (Университет Огайо, 1804) и Западной Виргинии (колледж Конкорд, 1872), а также городков, основанных в начале или середине XIX века в Нью-Йорке, Пенсильвании и Техасе и существующих по сей день.
Перечень городов-призраков свидетельствует о том, что великое и древнее имя не являлось, конечно же, гарантом жизнеспособности или долголетия. Примером может служить неполный список городов-призраков в Канзасе (1859 — 1912), который включает Александрию, Афины, Берлин, Калькутту, Чикаго (3), Цинциннати, Кливленд, Лондон (2), Москву, Оксфорд, Париж, Петербург (2), Рим (2), Спарту, Сент-Луис. Подобные списки можно продолжить и по другим штатам. Поскольку в архитектуре процветал классицизм, по всей стране росли города, претендовавшие на такие названия, как Карфаген, Коринф, Илион, Итака, Рим, Сиракузы или Троя.
В 1846 году переселенцам, основавшим город на месте впадения реки Огайо в Миссисипи в юго-западном Иллинойсе, показалось, что столица Египта расположена примерно так же; исполненные оптимизма, они назвали свой городок Каиром. Атмосфера величия была сохранена: появившиеся по соседству новые поселки в свою очередь получили названия Карнак, Фивы и Яффа. Весь этот район стал называться Египтом, разделившись на Малый Египет (непосредственно вокруг Каира) и Большой Египет. Но по непредвиденному стечению обстоятельств в 1893 году на первой Чикагской Всемирной выставке прозвище Малый Египет получил знаменитый исполнитель танца хуки-куки, и району волей-неволей пришлось прославлять себя как Большому Египту вплоть до середины XX века.
381
36.
ПУТАНИЦА ОТ ИЗОБИЛИЯ
Найти или придумать название для каждого населенного пункта в Новом Свете было нелегкой задачей. Расчеты, на которые можно положиться, определяют число имен собственных, использовавшихся в Соединенных Штатах в середине XX века для различных обозначений — включая географические названия гор, заливов, рек, потоков, горных речек, водопадов и озер, а также названия таких политических и социальных единиц, как округа, города, местечки и улицы, — по крайней мере равным миллиону, но цифра эта может равняться трем и более миллионам. А если посчитать, сколько названий исчезло или устарело, то и их наберется около миллиона. Большая часть названий, приблизительно половина общего числа тех, которые употребляются и поныне, была в ходу еще до окончания Гражданской войны. Дать названия всему в стране оказалось гигантским, мучительным и сложным делом. И в основном оно было завершено в первой половине XIX века. К счастью, об этом нам рассказала восхитительная книга Джорджа Стюарта «Имена на Земле» (доп. изд. 1958).
Из нее читатели узнали, что названия не доставались по наследству от предшественников и не были определены декретами властей. Дать названия всему, что есть в стране, было неотложным делом, и оно стало излюбленным занятием всего населения.
В колониальный период названия новых поселений часто носили ретроспективный характер и ориентировались на Англию. Несомненно, что такие названия городов, как Бостон, Кембридж, Хартфорд, Нью-Лондон, Нью-Йорк, Плимут, Ворчестер, или округов, как Беркшир, Эссекс, Гэмпшир, Миддлсекс, Норфолк, Саффолк, или колоний, как Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, были рождены ностальгией. На Юге английских суверенов прославляли Аннаполис, Чарлстон, Джеймстаун и Уильямсбург или Джорджия, Мэриленд и Виргиния. И лишь немногие названия, вроде Салем (от ивритского «шалом» — «мир»), Провиденс или Филадельфия, имели свой собственный смысл. Такие, как, например, Пенсильвания илй Балтимор, увековечили имена их основателей. Другие, как, скажем, мыс Код, Ньюпорт или Лонг-Айленд, носили просто описательный характер. Названия Массачусетс, Мерримак, Коннектикут и Роанок были заимствованы у индейцев.
382
Наименование городов в каждой колонии обычно находилось под наблюдением центральной власти — генерального суда или королевского губернатора. Поэтому в пределах юрисдикции одного органа власти повторы были редкими. «Но, — как объяснял Джордж Стюарт, — с началом Революции каждый человек не хуже другого мог придумать любое название. Свобода вырвалась из клетки, и под знаменем демократии рождались неудачные повторы наиболее популярных имен. В период быстрого роста ежедневно создавались города и округа, а каждый округ еще требовалось разбить на многочисленные местечки. Спрос на названия превышал предложение, результатом чего стали повторы и путаница». В первые десятилетия XIX века, когда создавалось особенно много общин, конгресс даже не пытался контролировать этот процесс. Мало кто из законодателей штатов вмешивался в него, да и почтовая служба не осуществляла эффективного контроля. Таким образом, право давать названия оказалось в руках местных властей.
Американцы напрягали все свое воображение, листали Библию, словари, энциклопедии, учебники и даже романы. Но чем свободней было творчество, тем меньше эмоционального или географического смысла содержали сочиненные для сотен новых мест названия.
Самая значительная работа по созданию названий была волей-неволей проделана экспедицией Льюиса и Кларка за довольно короткое время. Где бы они ни оказались, всюду их окружала местность, не имеющая географических названий; хотя бы просто во имя удобства и будущих ссылок им надо было все вокруг окрестить. Некоторые названия давались в соответствии с очевидными физическими особенностями данной местности (Кривые Водопады, Остров Алмазов, Молочная Река), в результате случившегося там события (Утес Советов, Ручей Убитого Жеребенка), по имени участника экспедиции (Река Флойда, Ручей Рубена), по имени одного из ее организаторов (Река Джефферсона, Река Мэдисона), в честь жены или любимой (Остров Фанни, Ручей Юдифь, Река Марты), а также по причинам куда менее понятным или менее известным. Названия, которые они давали, подбирались тщательно и со знанием дела, поэтому так редки повторы и практически отсутствуют распространенные имена. Однако позже другим исследователям пришлось проделать всю работу заново, поскольку из-за несовершенства карт они часто не знали, была ли та гора или река, перед которой они находятся, уже на-
383
несена на карту и было ли дано ей название кем-нибудь до них.
Нам трудно теперь понять причины, по которым западным общинам, особенно шахтерским поселкам, давали странные и яркие названия. Карта калифорнийских горных рудников пестрела такими названиями, как Каньон Племенного Жеребца, Каньон Мертвого Мула, Равнина Покера, Ущелье-в-Семерку1, Коньячное Ущелье, Ослиное Ущелье и Подъем-с-Трудом. Одни городки зазывали посетителей, рекламируя себя такими названиями, как Золотой Холм, Богатый Бар или Офир, другие отпугивали возможных конкурентов названиями Голодный Лагерь, Каньон Мошенников или Холм Бедняков. Зачастую они носили хвастливый или причудливый характер, например Гоморра, Город Полуденного Ада, Лагерь Жареного Петуха, Одноглазый, Шаманский Холм. А нередко были просто богохульными или неприличными.
Хотя названия по крайней мере 27 штатов были заимствованы у индейцев, тем не менее «индейские» имена, которые Уитмен и другие писатели находили весьма привлекательными, не решали всей проблемы наименования мест. Существовало много индейских языков, из которых лишь некоторые были хорошо или достаточно хорошо известны неиндейцам. Индейцы иногда вообще не давали названий самым привычным местам, которые, по их мнению, были и так достаточно известны и вполне могли обойтись без названия.
Тем не менее как Уолт Уитмен, так и другие считали, что индейские языки дополнят сладкозвучный и истинно американский поток наименований. «Что значит, пригодны ли эти названия? — спрашивал Уитмен. — Какое необъяснимое очарование у туземных имен! Они все пригодны. Миссисипи! Слово катится по стремнине, оно мчится с водяным потоком по пути длиной в три тысячи миль!» Слово «Миссисипи» имеет действительно индейское происхождение, но многие похожие на индейские названия на самом деле были придуманы писателями Скулкрафтом, Лонгфелло и другими. Индейские же названия были в беспорядке разбросаны по всему материку: из языка ирокезов попадали в Луизиану, а названия племени чи-роков — в Пенсильванию. Многие из них были плодом истинно романтического воображения. Путаница' среди индейских языков была такая, что когда одно племя заимствовало назва
1 От названия карточной игры — «seven up» (англ.). — Прим.ред.
384
ние у другого, то оно не имело никакого представления о его значении. Так гуроны взяли прекрасное слово «Саскуэханна» (что означает «мутная река») из языка делавэров; как заметил Рейвен Макдейвид, у гуронов оно потеряло первоначальный смысл и всплыло затем во французском языке уже как Анда-стон, а в английском — как Конистога — название притока реки Саскуэханны, города, повозки и даже сорта сигар! Индейцы не без чувства юмора предоставляли свой язык, выказывая тем самым нерасположение к завоевателям их земель. Разыгрывать эти шутки им не составляло никакого труда, поскольку для одного и того же места у них было множество названий или же вообще никакого. Менкен, например, пишет, что, когда чужеземец настаивал на том, чтобы ему сказали название чего-либо, индейцы либо произносили первое, что приходило в голову, либо выбирали худшее из имеющихся слов. Некоторые названия, пришедшие от индейцев, переводились как «далеко», «здесь», «доброе утро», «это река» или «катись к черту». Часто индейские названия конкретных географических мест были многочисленными, неопределенными или труднопроизносимыми, так что присвоение штату, городу или району «индейского» имени превращалось в крайне рискованное научное упражнение, с которым законодатели справлялись крайне редко.
Возьмем, например, название Колорадо. В ноябре 1806 года капитан Зебулон Пайк исследовал юго-западную часть приобретенной Луизианы и обнаружил высокую гору с покрытой снегом вершиной, которую он назвал Большим Пиком. В результате его отчетов об экспедиции гора приобрела известность, и обычно ее называли Пиком Пайка. После того как в 1859 году в этом районе нашли золото, переселенцы потребовали образования новой территории. Ее предложили назвать в честь Пайка; но тогда еще ни один американец, кроме Вашингтона, не удостаивался такой чести. Ни один штат не был назван в честь Франклина, Джефферсона или Джексона, хотя их, конечно, знали куда лучше. Как же тогда назвать территорию?
Первый билль по созданию новой территории был предложен палате представителей в 1859 году и предусматривал образование «территории Колона». Он не был одобрен. Происхождение названия осталось неясным, оно могло быть образовано от «Со/dn», испанской формы имени Колумба и отсюда, видимо, еще одна версия «Колумбии». Комитет по территориям рекомендовал назвать землю «Джефферсон», но это
385
не понравилось республиканцам. Требования жителей новой территории дать ей название «Джефферсон» также не были учтены. В новом билле, предложенном сенатором Миссури Джеймсом Грином, тогдашним председателем сенатского комитета по территориям, говорилось о новой «территории Колорадо». Это было название реки, которая протекала с другой стороны горного массива знаменитого золотоносного района Пика Пайка, и оно обрело не много сторонников. Газетные репортеры отмечали, что среди названий, рассматривавшихся сенатским комитетом, были Ямпа (что означало «медведь»), Айдахо («горный самоцвет»), Сан-Хуан, Лула («горная сказка»), Арапахо (одно из индейских племен) и что комитет палаты представителей активно обсуждал как «крайне подходящее» название Тахоза («живущие на горных вершинах»). Одна газета обрадованно сообщала, что предлагаются и некоторые «антиварварские имена», в частности Лафайет, Колумб и Франклин.
Вопрос особенно усложнился, поскольку Айдахо, «индейское» название, которое позднее лингвисты определили как подделку, имело много сторонников. Оно было рекомендовано в воззвании о присоединении данной территории, принятом ее специальным конвентом, и одобрено комитетом по территориям; билль, включавший это название, был предложен к рассмотрению в 1861 году. Тем временем по каким-то непонятным причинам начали распространяться сомнения относительно этого чудесного «индейского» слова. Было сообщено, что делегат от этой территории в конгрессе обнаружил, что Айдахо на самом деле вовсе не означает «горный самоцвет», как утверждали некоторые. Влюбленные в свою землю люди, видимо, испугались, что, подобно другим названиям, неразумно использовавшим индейские слова, их название также означает что-либо неудобоваримое. Во время представления билля в сенате был записан следующий диалог:
М-р Уилсон: Я предлагаю заменить название территории «Айдахо» на «Колорадо». Я делаю это по просьбе делегата от данной территории, который этим обстоятельством крайне взволнован и пришел ко мне сегодня с просьбой об изменении названия. Он сказал, что река Колорадо берет начало в тех краях, оправдывая такое название территории. А слово Айдахо вообще ничего не означает. В нем просто нет никакого смысла.
М-р Грин: Имя Айдахо было внесено по настоянию делегата от территории.
М-р Уилсон: Он изменил свое мнение.
386
Возникло замешательство. Некоторые сенаторы считали, что они меняют название того, что все еще называется .«Аризона», другие же возражали, поскольку хотели сохранить название Колорадо для другой территории. Тем не менее 28 февраля 1861 года этот район был назван «территория Колорадо» и в 1876 году принят в качестве штата.
Такие опереточные эпизоды возникали периодически. На этой же сессии другой район, известный как Уошу, предполагалось переименовать в территорию. Имевшееся название не удовлетворяло некоторых членов комитета по территориям, и они предложили заменить его на Невада. Это была сокращенная форма от Сьерра-Невады (что по-испански означает «покрытые снегом горы»), но население региона отмечало (это было абсолютно неизвестно сенаторам), что одноименный горный хребет почти целиком находится в Калифорнии. Более того, засушливому краю никак не соответствовало это название — хотя бы в силу климатических особенностей. Когда в 1864 году конституционный конвент вынес на рассмотрение проект конституции «штата Невада», ряд делегатов выступили с возражениями. Они внесли свои контрпредложения, в которые вошли варианты от Уошу (так называлось индейское племя и обсуждавшийся район) до Эсмеральды (по названию шахтерского поселка), Гумбольдта (по имени немецкого ученого-исследователя), Сьерра-Платы («горное серебро»), Оре-Платы («золотое серебро») и даже Слитка. Но за Неваду проголосовало большинство конгресса, и это название закрепилось за территорией.
Для нас остается загадкой, почему Айдахо, название, которое почти присвоили Колорадо, обладало такой притягательной силой. Оно завораживало своей мелодичностью, хотя никто точно не знал, что оно означает, поскольку традиционного географического применения слово не имело. Существуют различные мнения по поводу этимологии слова Айдахо. Согласно одной из версий, оно происходит от айдахи, названия, которое индейцы племени кайова-апачи дали каманчам, жившим вокруг Пика Пайка; согласно другим версиям, это слово похоже на приветствие племени шошоне, которое означает что-то вроде «доброго утра». Современные эксперты сходятся на том, что оно не могло означать «горный самоцвет» (смысл, который тогда был общепринятым), поскольку индейцы не имели ни малейшего понятия о драгоценных камнях. После того как в долине Снейк-Ривер, районе, который населяли индейцы шошоне, было найдено золото, возникло пред
387
ложение создать новый штат, и Айдахо стало одним из наиболее часто встречающихся вариантов названия. Как отмечал Джордж Стюарт, дело было вовсе не в том, что Айдахо — слово индейцев шошоне (чего вообще могло и не быть), а лишь в том, что название это чаще всего можно было обнаружить в местных газетах. Билль, касавшийся этого района и предложенный конгрессменом Джеймсом Эшли из Огайо, председателем комитета палаты представителей по территориям, предусматривал образование новой «территории Монтана». Палата приняла билль. Но в сенате возникла проблема, которая, если обобщить, сводилась к следующему:
М-р Уилсон: Я предлагаю вычеркнуть это название территории и вставить «Айдахо». «Монтана»—это вообще не название.
М-р Дулиттл: Я так не считаю и надеюсь, что никаких изменений не будет. «Монтана» звучит так же хорошо, как и «Айдахо».
М-р Уилсон: У одного названия нет смысла, а у другого есть.
М-р Дулиттл: Название «Монтана» отражает горный характер этого края.
Сенаторы, которым вновь напомнили, что Айдахо означает «горный самоцвет», а потому вполне подходит, вернули билль обратно в палату с изменением названия «Монтана» на «Айдахо». Так оно и осталось.
Не совсем ясно, почему слово Монтана ызаълось среди претендентов на название территории или штата. Согласно одной из версий, впервые оно было употреблено одним из старателей Пика Пайка, который оказался выпускником колледжа и назвал будущий город Монтана (от латинского слова «горная»). Потом городок забросили, но название, вероятно, запомнилось Джеймсу Денверу, губернатору территории Канзас, и он предложил его вместе с названием Колорадо сенатору Стивену Дугласу как подходящее для одной из новых территорий. «У меня есть название для этой земли (Колорадо), но я хочу дать его вон той территории в горах», — сообщил Денвер Дугласу, когда они разглядывали карту Запада. Когда же Денвер предложил название Монтана, Дуглас спросил свою жену, которая немного знала испанский, что значит это слово, и она подтвердила, что его значение — «горная страна». Тогда сенатор Дуглас решил, что Монтана — хорошее название для территории. Таким образом, извлеченное из ненадежного источника, название достигло комитета по территориям.
388
Председателю этого комитета, конгрессмену Эшли от Огайо, слово Монтана тоже понравилось. В 1864 году жители восточной части территории Айдахо решили образовать новую территорию и пожелали дать ей имя Джефферсона. Но такие республиканцы, как Эшли, и на этот раз не захотели об этом даже слышать. Сенатор Чарлз Самнер от Массачусетса возразил, заявив: «Название новой территории — Монтана — кажется мне очень странным. Я хотел бы спросить председателя комитета, откуда оно возникло. Мне кажется, что из какого-то романа или вроде того. Я не знаю его происхождения». Сенатор Бенджамин Уэйд от Огайо ответил, что у него нет никаких идей на этот счет и что он был бы рад заменить его «любым подходящим индейским словом, если только сенатор Самнер сможет предложить такое». Самнер уклонился, сказав, что он недостаточно хорошо знает эти места. Тогда выступил сенатор Говард и заявил, что, обратившись к старому словарю латинского языка, он нашел слово монтана и убедился в его классическом, чисто латинском происхождении. Оно означает горный район, горную страну. Его можно встретить у Ливия и у других латинских историков, что само по себе уже немало. «Меня не волнует, — заявил сенатор Уэйд, — есть ли это слово в латинском или индейских языках, я считаю, что мы в состоянии придумать свое; конечно же, у нас есть на это право, как и у всякого другого. Но и это название вполне приемлемо». Итак, новая территория получила название Монтана как напоминание о классической учености и лингвистической изобретательности конгресса. Похожие на эту истории можно было бы рассказать об Оклахоме, Вайоминге, Дакотах и других штатах.
Строители железных дорог, которым надо было придумать название каждой станции, столкнулись с изнурительной работой. Приехавшие из разных мест, они мало знали или вообще ничего не знали о местных традициях. Но зачастую знать было нечего, поскольку того, чему надлежало дать название, просто еще не существовало. У строителей не было ни помощников, ни противников, поэтому задача придумать название возлагалась на железнодорожного чиновника или еще на кого-нибудь. По свидетельству Джорджа Стюарта, вице-президент железной дороги Милуоки сам дал названия 32 станциям в штате Вашингтон; при этом он старался подобрать короткие названия, которые легко можно было бы написать, прочитать на вывеске, передать азбукой Морзе, произнести вслух, чтобы они не вызвали неудовольствия у почтовой службы и приятно
389
звучали. Глубокие размышления и полет фантазии помогли ему окрестить требуемое количество станций, подобрав для них самые разные названия, начиная от Уорден (по имени солидного акционера), до Отелло (по названию пьесы). Сюда вошли Ралстон (название диетического продукта), Горлик (название солодового молока), Уитъер (по имени поэта) и Лакония («это название получило место, расположенное на горе, поскольку я думал, что Лакония находится в Швейцарии, высоко в Альпах, но, рассматривая сегодня утром карту Швейцарии, я не обнаружил там населенного пункта с подобным названием»).
Следующая задача была еще серьезней и не менее срочной. Названий требовали улицы быстро растущих городов. На Юго-Западе и Западе, где число городов росло быстро, использовалось несколько принципов. Согласно тому, который был принят в Филадельфии, улицы в одном направлении обозначались цифрами, а в другом — имели названия. В основу другого принципа был положен компас, определяющий одни параллельные улицы идущими с севера на юг, другие — с востока на запад, существовали также различные схемы симметричных нумераций и названий. Третьи подражали Нью-Йорку, где «стриты», идущие в одном направлении, пересекаются с «авеню», идущими в другом. Остальные применяли свои собственные схемы либо просто оставляли все в состоянии хаоса и неразберихи. Многие западные градостроители отдавали предпочтение системе нумерации улиц и домов, которая развилась в Нью-Йорке во второй половине XVIII века. Она вселяла в жителей энтузиазм, ибо предполагала неограниченное расширение. Дом с номером был безусловно городским домом, и новички с ферм гордились тем, что на их доме имеется номер.
* * *
Контраст между американской системой наименований и той, что была принята в Старом Свете, лучше всех описал уроженец Новой Англии скульптор Горас Гриноу, который вернулся из Италии в 1851 году.
После девяти лет отсутствия я наконец вернулся в Вашингтон и вечером пошел прогуляться; во время прогулки я задумался и не заметил, как оказался на берегу Потомака. Я обратил внимание на то, как разительно отличается уклончивая, бесцветная нумерация всех этих авеню и стритов
390
от той дальновидной политики, которая в Европе превращает каждое название в памятник, каждую площадь — в символ уверенности, каждый мост — в частицу истории или в торжество принципа. Духовная жизнь не терпит пустоты, и я чувствовал, что названия улиц Л, Bt С были временными и напоминали бродяг, которые надеются, что еще обретут законных хозяев.
Названия в Америке меньше всего отражали американскую культуру, представляющую собой смесь воспоминаний, ностальгии, надежд, преувеличений, вымысла и причуд, скорее всего, они были результатом острой необходимости и напряженной работы. Перечень почтовых отделений Соединенных Штатов, опубликованный в 1803 году, впервые предоставил американцам возможность оценить собственные достижения на поприще крещения Нового Света. Вскоре законодатели Нью-Йорка, отметив неудобство «того, что некоторые города штата имеют одинаковые названия», произвольно изменили 33 из них. Другие штаты постепенно последовали этому примеру. В результате стремления избежать повторов увеличилось число искусственно созданных экзотических или даже бессмысленных наименований. К середине XIX века почтовый департамент провел определенную работу, что в какой-то мере уменьшило путаницу, а также настоял на необходимости добавлять прилагательные типа «северный», «новый», «центральный» в тех случаях, где повтор сохранился. До начала Гражданской войны изменение названий городов стало таким же обычным делом, как изменение личных имен или фамилий среди иммигрантов второй половины XIX века.
Люди, основавшие новые общины на необжитых местах, изменившие гражданство, не видели ничего странного в частой смене названий своих зарождающихся городов. Иногда в отчаянии их основатели надеялись, что новое имя вдохнет новую жизнь в терпящее крах предприятие. Законодатели привыкли к просьбам жителей об изменении названий их городов. Необычным не являлось и то, что на одной сессии утверждалось до полудюжины новых названий.
Кроме того, жители часто меняли их сами, не обращаясь к органам власти. Поселок в пять десятков жителей, обосновавшихся на восточном берегу реки Гудзон выше Олбани, долго именовался Паромом Вандерхейдена — по фамилии одной из семей, пока несколько тщеславных граждан не потребовали смены названия, и в 1789 году общее собрание поселка проголосовало за переименование его в Трою. Оскорбленное семей
391
ство Вандерхейдена еще долго продолжало называть местечко Вандерхейден по прозванию Троя. Один городок в Нью-Гэмпшире, названный Адамс в 1800 году, в 1829 году сменил свое название на Джексон.
Названия-призраки, как и города-призраки, стали типичными для американского пейзажа. Количество исчезнувших названий только обитаемых мест, по некоторым оценкам, вероятно, равно 50 тысячам, то есть тому количеству, что находится в употреблении. Хотя американцы насмехаются над причудливой и громоздкой системой названий в других частях света, и особенно на Британских островах, наша система является, бесспорно, ни с чем не сравнимой мешаниной. Усилия почтового департамента и управления по географическим названиям едва ли могли привести в порядок весь этот хаос, ежедневно напоминающий об ограниченных возможностях американцев организовать свою жизнь, об их специфических возможностях в создании очередного однообразия, очередной путаницы и о получении очередных разочарований.
37.
ОРАТОРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В основу литературы, созданной новой нацией, легла разговорная речь американцев. Разговорная речь, напечатанная на бумаге, явилась самой характерной, имеющей особенное влияние и самой яркой чертой новой американской прозы. Американский вариант европейской художественной литературы, если таковой вообще существовал, был невозможен до тех пор, пока окончательно не сформировался американский разговорный язык. Он прежде всего отражал особенности развития Америки, а также свидетельствовал о зарождении американского диалекта, о приверженности американцев к общине, к конкретному делу. Многое из перечисленного, лучшее и наиболее характерное в разговорной речи, превратилось в печатное слово. Эта литература должна была звучать, произноситься, и в этом смысле она осознавала свое влияние на аудиторию, на установление взаимопонимания скорее между лектором и слушателем, чем между писателем и читателем. Это была ораторская литература.
Лучше всех этот вид литературы охарактеризовал Дэниел Дрейк в своих «Рассуждениях об истории, особенностях и пер
392
спективах Запада» — лекции, произнесенной в Университете Майами в Оксфорде, штат Огайо, в 1834 году. Дрейк родился в Нью-Джерси, вырос в Кентукки. Он был среди первых переселенцев и горячим сторонником развития Цинциннати. Он знал жизнь растущих городов и разделял энтузиазм их основателей.
Проза молодого и свободного народа должна быть ораторской; тем самым она выражает наш национальный характер. Дальнейшее развитие, несомненно, ослабит ее многословие и многообразие; но наш природный ландшафт и наши либеральные политические и общественные институты еще долго будут способствовать ее причудливости. И разве это повод для наших сожалений или чьих-либо насмешек? Разве не должна быть ораторской литература свободного народа? Разве не должна она убеждать и воодушевлять? Если она холодна, буквальна и бесстрастна, то как она может быть служанкой в деле усовершенствования? При абсолютистских режимах все политические, общественные и литературные институты поддерживаются монархом — у нас они создаются и поддерживаются общественным чувством. Во времена деспотизма нечего и пытаться пробудить чувства или воображение народа — но только благодаря им общество в состоянии двигаться вперед. Если ваши речи разбудят воображение народа и его чувства, вы сможете поднять людей на добровольные действия во имя великих общественных целей. Вы должны воздействовать не только на разум, но и на устремления людей, на их волю; цель должна быть преподнесена так, чтобы они восхитились ее полезностью и привлекательностью; температура сердца должна повыситься, а холодный эгоизм—растаять, как тают под лучами апрельского солнца снега на полях; и тогда — подобно пробившемуся из-под земли ростку — пробиваются в людях великие чувства и свершаются ими патриотические деяния. Как только литература новой страны теряет метафорический и декламационный характер, исчезают и теряют значение институты, основанные на общественных чувствах; так бурные волны Миссисипи сносят назад сопротивляющуюся им лодку, как только слабеет ее ход. Тут не помогут моторы малой мощности — необходим пар высокого давления; и даже если оратор время от времени перебирает через край, это помогает ему предпринять такое плавание, которое не осуществить под воздействием умеренного давления в паровом котле.
Даже в колониальный период разговорный язык занимал особенное место в Америке. Пуритане заменили алтарь кафедрой проповедника; их выступлениями были молитвы. В то время как страна боролась за независимость, оратору — человеку, говорившему с общиной, для нее либо от ее имени, — принадлежала почти мифическая роль.
В Великобритании благодаря парламентской форме правления и развитию общего права большое значение придава
393
лось речам, произносимым в суде, как, например, речам Эдмунда Берка с призывами к примирению, а также против Уоррена Хастингса или блистательным речам Роберта Эммета; политическая жизнь викторианской эпохи была отмечена громоподобными пассажами речей Гладстона и едкими остротами Дизраэли. Своими лекциями были знамениты такие известные британские литераторы, как Мэтью Арнолд и Джон Рескин. В Великобритании произнесенное слово играло значительную роль. Хотя за долгую, наполненную событиями историю отдельные высказывания мало что решали. Американцам же казалось, что словами можно заполнить небогатую событиями, короткую историю Соединенных Штатов.
В этот первый период национального самосознания «великие речи» рассматривались всеми в качестве движущей силы американской истории, в них была сформулирована цель американского общества. Вехами национальной судьбы, которая постепенно прояснялась, становились те или иные общественные речи, звучавшие с кафедры, в суде, в законодательном собрании или же с трибуны. Ораторская проза соответствовала духу своего времени, и это подтверждается тем, что многие из самых знаменитых и запомнившихся, самых популярных выступлений в действительности вообще не были произнесены. Тексты многих известных и широко цитируемых речей, которыми мы располагаем, на самом деле выглядят весьма сомнительно. Одни из них представляют собой значительно переделанные и улучшенные варианты, другие были написаны уже после смерти авторов и являются фабрикацией от начала до конца. Стремление овладеть искусством изъясняться доверительно и пророчески заставляло общественных деятелей говорить загадочно, цветисто и высокопарно, взмывая от конкретного случая к национальным судьбам и вечным истинам. Это породило в американцах такой голод на метафоры, что они вновь переживали в памяти все свое прошлое, погружаясь в фальшивую риторику.
Начиная с революционной эпохи образные выражения получили большое распространение. Например, речь Джеймса Отиса, произнесенная перед полным составом верховного суда Массачусетса в феврале 1761 года и направленная против постановлений суда о налогообложении, стала священйым текстом первых десятилетий существования нового государства. «Отис был само пламя! — вспоминал в 1817 году Джон Адамс, свидетель того события. — ...Он уничтожал все, что стояло на его пути. Именно тогда и именно там родилась американская
394
независимость; семена, давшие нам патриотов и героев, были посеяны именно тогда и именно там». Но никто точно не знает, что же сказал Отис. Хотя жизнеописание Отиса, составленное Уильямом Тюдором (1823), и предлагало страждущей публике детальное описание этого события, знаменитая речь Отиса была воспроизведена там по заметкам Адамса, которые, хотя и являлись наиболее полной ее записью, сделанной современником, все же были отрывочными и уж никак не дословными. Самое знаменитое изречение Отиса — «налогообложение без представительства — это тирания» — вообще отсутствует в заметках Адамса. Оно появляется только к 1820 году, когда Адамс наконец подробно изложил то, что кратко записал полвека назад.
Эта классическая речь Отиса была записана не во времена Революции, а в более позднюю эпоху. Первый случай воссоздания текста уже после смерти его автора, он представлял собой, как мы увидим в следующей главе, запоздалый ответ Виргинии со стороны Новой Англии. Дело в том, что в начале XIX века жители Виргинии начали выступать с утверждением, что американская независимость родилась в выступлениях Патрика Генри перед горожанами в 1765 и 1775 годах. Самое раннее из них было направлено против Закона о гербовом сборе и будто бы заканчивалось следующей тирадой: «У Цезаря был Брут, у Карла I — Кромвель, и Георгу III следовало бы учесть их опыт». Предполагалось, что в более поздней речи, провозгласившей готовность колоний к борьбе за независимость, прозвучали известные слова Генри: «Свобода или смерть!» Но похоже, что на самом деле самые знаменитые речи Генри созданы в такой же степени усилиями его биографа XIX века Уильяма Уирта, в какой и самим Генри. Историки до сих пор спорят, какие именно высказывания, сделавшие Генри знаменитым, принадлежат ему, если таковые вообще существуют.
Одна из наиболее широко цитируемых и запоминающихся «исторических речей» этого века была вместе с тем одним из самых очевидных вымыслов. В своей речи об Адамсе и Джефферсоне, произнесенной 2 августа 1826 года, Дэниел Уэбстер благодаря своему исключительному ораторскому искусству воссоздал достоверную атмосферу заседания континентального конгресса 1776 года. Председателем был Джон Хэнкок, обсуждался вопрос о том, насколько разумно немедленное принятие Декларации независимости. Один оратор призвал к осторожности. Тогда Джон Адамс (как это представил себе
395
Уэбстер) встал и произнес речь, подготовленную для него Уэбстером же.
Утонуть или выплыть, жить или умереть, выжить или погибнуть, я отдаю мою руку и мое сердце за этот выбор. Правда, что вначале мы не стремились к независимости. Но — «есть Бог, и он наши намерения довершает».
Несправедливость Англии по отношению к нам вложила в наши руки оружие; ослепленная своими интересами, она упорствовала, пока независимость не оказалась в пределах нашей досягаемости. Мы должны лишь устремиться к ней, и она — наша. Так почему же мы должны отказаться от принятия декларации? Неужели сегодня мы так слабы, что можем рассчитывать только на примирение с Англией, которое не обеспечит ни безопасность стране и ее свободам, ни нашу собственную безопасность и честь! Разве вам, сэр, занимающему кресло председателя, или нашему уважаемому коллеге, сидящему рядом с вами (Сэмюелу Адамсу), не было уже предопределено подвергнуться наказанию и мести? Отбросьте всякую надежду на королевскую милость; кто вы такие, вы, которые могут оказаться изгоями, если останется власть Англии?.. Что касается меня, то двенадцать месяцев назад я призвал вас здесь назначить Джорджа Вашингтона командующим формирующимися силами либо теми силами, что еще будут сформированы, чтобы защитить американскую свободу; и пусть отсохнет моя правая рука и мой язык прилипнет к гортани, если я начну колебаться, если перестану поддерживать его...
Мы должны превратить этот день в день бессмертия и славы. Когда мы сойдем в могилу, наши дети будут отмечать его. Они будут праздновать его с благодарностью, с иллюминацией и фейерверками. И каждый год с его приходом они будут проливать слезы — много слез, но это будут не слезы зависимости и рабства, не агонии и печали, а восторга, благодарности и радости.
Сэр, перед лицом Бога я верю, что час настал. Я одобряю это решение, и в нем все мое сердце. Все, что у меня есть, все, что есть во мне, все мои будущие надежды я готов посвятить этому делу; я покидаю трибуну с теми же словами, с которых начал: жить или умереть, выжить или погибнуть: я за декларацию! Этим чувством я живу, и с благословения Господа с ним я и сойду в могилу: независимость сейчас и независимость навечно.
Включенная в «Хрестоматию» Макгаффи как одна из лучших работ Уэбстера под заголовком «Предполагаемая речь Джона Адамса», она читалась вслух и заучивалась наизусть многими поколениями школьников.
Американская история начинала казаться чередой событий, связанных знаменитыми речами. В 1816 году Джон Адамс сам выразил пожелание собрать все великие речи и «затем написать историю последних сорока пяти лет, делая комментарии к ним». Менее образованные американцы, чье знание американской ис
396
тории основывалось на примерах красноречия, помещенных в книге Макгаффи, были особенно склонны считать эти знаменитые речи главными и определяющими «событиями» при образовании страны.
Нам до сих пор трудно поверить, что национальная история в период между Революцией и Гражданской войной не совсем то, что содержится в знаменитых выступлениях. Среди традиций минувшей эпохи мы унаследовали представление о том, что именно красноречие вело тогда все сражения и определяло решение важнейших проблем. Это были времена Кэлхуна, Клея и Уэбстера, сенаторского «триумвирата», чьи яркие выступления, конечно же, находили отклики во всей стране. Но была ли еще хоть одна сравнимая по величине страна, где искусное красноречие ценилось бы так высоко? Одна карьера за другой свершалась благодаря медоточивости голоса. Два увесистых тома представлял собой труд сенатора Томаса Харта Бентона «Тридцать лет в сенате, или История деятельности американского правительства... с 1820 по 1850 год» (1854 — 1856). Описанные в нем исторические события представлены через хронологию политических речей, которые можно считать политической автобиографией сенатора. Казалось, произнесение речей стало главной формой политической деятельности, почти заменив собой законотворчество. «Великие речи» того периода воздействовали на народ, они обладали исторической и символической значимостью, которую нам теперь трудно понять.
Например, в спорах Уэбстера и Хейна перед американцами представал ораторский прообраз Гражданской войны. Поводом для этих знаменитых дебатов века послужила резолюция от 29 декабря 1829 года сенатора Сэмюела Фута от Коннектикута, предложившего выяснить, не целесообразно ли ограничить продажу государственных земель только теми, которые уже находятся на рынке, приостановить обследование общественных земель и распустить ведомство генерального землемера. Решительный сенатор Бентон от Миссури увидел цель этой резолюции в том, чтобы «ограничить поток переселенцев в новые штаты на Западе, остановив рост и заселение этих штатов и территорий, и передать большую их часть во владение диким зверям». Дебаты в сенате 19 — 27 января 1830 года, развернувшиеся между Дэниелем Уэбстером от Массачусетса и Робертом Хейном от Южной Каролины, не затронули резолюцию Фута и касались истории написания Конституции, характера Союза и власти федерального правительства. Уэбстер и
397
Хейн заняли прочные позиции на трибуне, но и другие старались тут не отстать и показать свое красноречие. Чаще всего цитируется особенно любимая школьниками заключительная часть первого ответного выступления Уэбстера, обращенного к Хейну 27 января 1830 года.
Когда моих глаз в последний раз коснется луч солнца, пусть не увижу я его сияющим над разбитыми и обесчещенными осколками когда-то славного Союза, над разобщенными, погрязшими в противоречиях, враждующими штатами, над землей, где царят распри и даже проливается братская кровь! Пусть вместо этого мой последний слабый и угасающий взор будет обращен к величественному, еще выше поднятому флагу республики, известному и почитаемому ныне на всей земле, пусть сияет наш герб, и пусть ни одна из полос на нашем флаге не исчезнет, не запачкается и ни одна из звезд не потухнет. И пусть не встает перед нами жалкий вопрос «А для чего все это?» и не звучат прочие слова обмана и безрассудства, провозглашающие сначала Свободу, а потом Союз. Нет! Пусть везде, повсюду разносятся лучами живого света сияющие над обширными просторами, летящие над морем и сушей и с каждым порывом ветра под небесами пробуждающие чувство, близкое каждому истинно американскому сердцу, — пусть разносятся слова «Свобода» и «Союз» отныне и навеки, единые и неделимые!
Биография Уэбстера как общественного деятеля отмечена рядом великих речей—речью, произнесенной в защиту его альма-матер в деле Дартмутского колледжа (1816 — 1819), вдохновенным выступлением, посвященным памяти Джефферсона и Адамса (1826), двумя ставшими историческими ответами Хейну (1830), речью у памятника в честь сражения при Банкер-Хилле (1825; 1843) и «Речью Седьмого марта» (1850), произнесенной в ответ на «Речь Четвертого марта» Кэлхуна, критиковавшего Соглашение Клея 1850 года. Между тем Уэбстер был лишь одним из наиболее известных политиков, кто сделал себе карьеру из океана слов.
Карьеру Авраама Линкольна можно также проследить по его ранним выступлениям в судах и во время политических кампаний. Это речь «Палата разделена» на съезде республиканцев в 1858 году, последовавшие затем дебаты между Линкольном и Дугласом во время избирательной кампании, речь в «Купер-Юнион» в 1860 году, геттисбергская речь 1863 года и вторая инаугурационная речь 1865 года. Чтобы понять библейскую силу воздействия выступлений Линкольна, надо помнить, что он говорил в век высокопарных слов и напыщенных фраз.
398
Сама американская жизнь — с ее федеральной системой, новыми общинами, многочисленными законодателями, несколькими судебными системами, с регулярными и частыми выборами — делала необходимыми и возможными публичные выступления. Эпоха великих дебатов между Уэбстером и Хейном, между Линкольном и Дугласом из-за недостатка подобного опыта и «священных политических текстов» сыграла особую роль в поисках нацией своего «я». В 1829 году в свет вышла книга Сэмюела Лоренцо Кнаппа «Лекции по американской литературе», которая, по существу, являла собой первую попытку описать уже сложившуюся американскую литературу. «В этой стране имеются все возможности овладеть красноречием и продемонстрировать его перед публикой», — писал Кнапп. При этом он отмечал, что каждый из 24 штатов имеет свой законодательный орган, в среднем насчитывающий более 150 человек, которые собираются вместе на два и более месяцев каждый год. Кнапп с гордостью утверждал, что в период с XIII по III век до нашей эры «в Афинах было не более пятидесяти четырех выдающихся ораторов и мастеров слова. У нас же меньше чем за полвека появилось их гораздо больше».
Конечно, мы можем соглашаться или не соглашаться с тем, что Отис, Генри, Уэбстер или Кэлхун в своем красноречии превзошли Перикла и Демосфена, но мы не можем отрицать, что произнесение речей стало основной чертой американской общественной жизни. Некоторые связанные с произнесением речей ритуалы, установленные вскоре после Революции, до такой степени стали неотъемлемой частью американской жизни, что нам уже невозможно себе представить, что когда-то они были изобретены. Возьмем, например, инаугурационное обращение президента. В федеральной Конституции нет упоминания о нем, как, кстати, и о других формах самого ритуала, хотя в ней предусматривалась клятва или торжественное обращение, с которыми должен выступить президент при вступлении в должность. Конституция требовала, чтобы президент «время от времени предоставлял конгрессу информацию о состоянии Союза» и рекомендовал свои меры на его рассмотрение. Однако в период после Джефферсона до Вильсона ни один президент не делал этого ежегодного сообщения лично. Хотя не существовало точного прецедента для инаугурационного обращения президента (самой близкой предшественницей могла бы быть, вероятно, тронная речь британского монарха при открытии сессии нового парламента), однако американские президенты, на
399
чиная с Джорджа Вашингтона, не упускали возможности выступить с обращением во время инаугурации.
В отличие от британской американская инаугурационная речь была обращена не к ограниченной аудитории конгресса, а к открытому общему собранию. При коронации британского монарха тщательно разработанный ритуал не предусматривал личного обращения самого монарха. В новой стране, где не было выработанного веками обряда, самобытное ораторское искусство заполнило вакуум. Инаугурационная речь, как молитва пуритан Новой Англии, приковывала всеобщее внимание. К 1832 году прилагательное «инаугурационный» уже употреблялось как существительное, обозначавшее речь президента при вступлении в должность. Подобные церемонии стали устраивать для губернаторов штатов, глав колледжей и т.д. В 1830-е годы по всей стране полным ходом шли съезды по выдвижению кандидатов на пост президента, сопровождаемые широкими кампаниями, которые давали тысячи поводов для публичных обращений: от официальных речей до импровизированных выступлений во время агитационных мероприятий кандидатов.
Широкое распространение получила в Америке практика предоставления двум самым способным ученикам выпускного класса права произнести выпускную и приветственную речи во время церемонии окончания и начала учебного года. Оба слова, «выпускной» и «приветственный», начали употребляться еще в эпоху Революции и вошли в широкий обиход в связи с резким увеличением количества колледжей, стремившихся связать себя с общинами. Позже подобные ритуалы были*введены в средних школах, а затем и в начальных.
Публичные выступления всегда были формой развлечения. В новых городках, где театр еще не был известен или вовсе запрещен, оратор-импровизатор, умеющий воздействовать на публику, стал американским бардом, трубадуром или менестрелем XIX века. Церковные обряды и ритуалы, основанные на древнем религиозном чувстве, американцам заменила трибуна оратора.
Для тех, кто слушал речь, посвященную такому историческому событию, как годовщина Бостонской бойни, одно только сочувствие словам оратора было актом проявления общности людей. Местные власти и другие общественные организации по каждому поводу назначали своих официальных «ораторов» либо же утверждали постоянную должность «оратора городка» или «оратора города». Джон Адамс подметил в 1816 году, что
400
«среди влиятельных лиц не много найдется тех, кто не начинал бы свою карьеру публичным выступлением в день Пятого марта (в день Бостонской бойни)». Биографический труд объемом в 700 страниц Джеймса Спира Лоуринга «Сто бостонских ораторов, назначенных местными властями и другими общественными организациями с 1770 по 1852 год» была своеобразным справочником «Кто есть кто» в городской общественной жизни. Когда начали отмечать первый национальный праздник Четвертого июля, то естественно, что оратор становился центральной фигурой всех его торжеств.
♦ * *
Образование также все чаще приобретало ораторский характер, поскольку среди преподавателей в новых колледжах преобладали священники. Многие из них становились «профессорами», едва покинув кафедру проповедника, не имея никакого опыта преподавания. Было принято, чтобы глава колледжа заведовал кафедрой «философии и этики», а классные комнаты превращались в место для проповедей. Устав Денмарк-ской академии, старейшего учебного заведения на территории Айовы (1843), гласил: «Назначение образования — в развитии духовных и интеллектуальных способностей человека, а не в обилии сообщаемых сведений, которыми и так переполнена его память».
Но скоро рамки колледжей оказались слишком тесными для быстро растущего населения. Нужно было что-то еще: такая форма обучения, которая не требовала бы ни аудиторий или классных комнат, ни библиотеки, ни строгого соблюдения расписания или утвержденного штата педагогов. Все это и учел «американский лицей», гибкая система образования. Лицеи впервые появились в Новой Англии и отражали реформаторский дух их основателей. Успех, с каким движение лицеев охватило всю страну, был обусловлен их приспособленностью к нуждам населения растущих городов: оно стало как бы устным приложением к газете или к пособию «Сделай сам».
Американский лицей — детище Джосайи Холбрука из Дерби, штат Коннектикут, который в 1810 году окончил Йейлский колледж и рано проявил интерес как к бизнесу, так и к реформе в области образования. В экспериментальной школе, созданной им на ферме своего отца, он стремился сочетать трудовое воспитание и работу на ферме с книжным образованием. Прослушав курс лекций Бенджамина Силлимана в
401
Йейле (1813 — 1817), он начал путешествовать и сам читать лекции по различным предметам. В 1826 году в статье «Ассоциации взрослых людей в целях взаимного обучения» он описал свой принцип и создал в Милбери, штат Массачусетс, «Первый лицей, отделение американского лицея». Целью его было расширение образовательной сети, которая предполагала дать навыки разговорной речи, научить организовывать развлечения, создавать музеи и библиотеки, стимулировать интерес к публичным школам, оказывать помощь в подготовке учителей и многое другое.
Неожиданно слово «лицей» — греческое название сада в Афинах, где обучал Аристотель, — стало американизмом. О таком успехе своего предприятия Холбрук даже и не мечтал. За 8 лет по всей стране было основано 3 тысячи лицеев, их организацией и управлением занимались местные жители. Дэниел Уэбстер, например, был организатором и президентом Бостонского лицея. «Лицей, или курс зимних лекций в городах и деревнях по всей стране, прочно вошел в американскую жизнь», — отмечал в 1858 году «Харпере мэгэзин». Будучи важным явлением в развитии народного образования, таким же мощным и распространенным, каким вскоре стала система публичных школ, именно лицей способствовал созданию и распространению обычных публичных школ в стране. Лишь к 1890 году ему на смену пришло движение Чаттокуа, которое больше внимания уделяло развлечениям, чем обучению.
Хотя в лицее преподавались самые разные предметы (их увлеченно описал историк Карл Боуд), центральное место в учебной программе занимала публичная лекция, напоминающая евангелическую просветительную проповедь, где роль заезжего священника исполнял приглашенный лектор. Вот список тем лицея в Сейлеме, рассчитанных на учебный год (1838/39):
Тема
Лектор
Характер, обычаи, одежда и т. п. у североамериканских индейцев
Цели Американской революции
Солнце
Источники национального богатства
Общее школьное образование
Способность человека к самоусовершенствованию и восприятию культуры
Джордж Кэтлин Джейред Спаркс Хаббард Уинслоу С. Г. Брюстер С. Т. Торри
Эфраим Пибоди
402
Пчелиный мед Г. К. Оливер
Народное образование Р. С. Уинтроп
Геология проф. С. Б. Адамс
Юридические права женщин Саймон Гринлиф
Инстинкт Генри Уэр-мл.
Жизнь Магомета Д. Г. Уорд
Жизнь и времена Оливера Кромвеля Г. В. Кинзмен
Воспоминания графа Рэмфорда А. К. Пирсон
Практичный человек Конверс Фрэнсис
Поэт естественной истории Д. Л. Рассел
Прогресс демократии Джон Уэйленд
Открытие Америки северянами А. Г. Эверетт
Демоническая школа в литературе и ее реформа Сэмюел Осгуд
Детское образование Горас Манн
В 1830-е и 1840-е годы страсть к посещению различных лекций охватила многих американцев. Например, в Бостоне зимой 1837/38 года существовало 26 различных лекционных курсов, которые посещало около 13 тысяч слушателей. Причем в это число входили только те курсы, которые давали не менее 8 лекций. По всей стране — меньше на Старом Юге, но все больше и больше на Юго-Западе и Западе — рос спрос на людей красноречивых, внушительного вида и солидной репутации, которые могли бы завладеть вниманием аудитории. Мы не должны забывать, что прежде, чем речи этих людей появлялись напечатанными, они много раз — снова и снова — звучали устно. Вознаграждение подобной деятельности и предоставление для ее осуществления кафедр и трибун способствовало созданию ораторской литературы. В Америке появились литераторы, известные в основном своими публичными выступлениями, впоследствии напечатанными.
Ралф Уолдо Эмерсон, который традиционно считается ведущим защитником американской литературы, был, бесспорно, одним из самых популярных лекторов этой насыщенной лекциями эпохи. Для нас литературные эссе Эмерсона иногда кажутся неясными, полными повторов и противоречий и не совсем понятными потому, что мы пытаемся прочитать то, что надо было услышать. Лекции Эмерсона были рассчитаны не на читателя, а на слушателя. На аудиторию лицея впечатление
403
производило не содержание литературного сочинения, а его звучание. Не случайно знаменитый оракул своего века был наиболее ярким представителем ораторской американской литературы.
Притягательная сила выступлений Эмерсона действовала на всех, поскольку он говорил то, что от него хотели услышать люди любого уровня грамотности и интеллектуального развития. Даже если его лекции не всегда привлекали самые большие аудитории и собирали не самые высокие гонорары, он все равно выступал по всей стране, и его снова и снова приглашали в те же края. Как известно из исследования Уильяма Чарвата, в период с 1833 по 1881 год Эмерсон прочитал около 1500 лекций в более чем 20 штатах и в Канаде, посетив около 300 различных городов. Длительные переезды в грязных поездах и по ухабистым дорогам — «это долгое плавание по бесконечной отвратительной реке путешественников, с ее холодными водоворотами гостиниц и общежитий», — подвергали серьезному испытанию даже крепкое здоровье. Лекционный сезон длился с ноября по март, когда путешествие становилось особенно затруднительным, к тому же Эмерсон не переносил холода. Приветствуя владельца гостиницы, он говаривал обычно: «Согрейте же меня!»
За годы активной деятельности (по крайней мере до 1860 года) доход Эмерсона от издания книг был мизерным, и лекции служили ему основным источником существования. Только с 1878 года издатели начали платить ему гонорар, сумма которого в год составляла как минимум 1500 долларов — конечно, тогда их покупательная способность была в несколько раз выше нынешней. Его обычный гонорар за отдельную лекцию колебался от 10 до 75 долларов, но за полный курс лекций (как, например, за 7 лекций, прочитанных в Филадельфии в январе 1854 года) он мог при удаче заработать более тысячи долларов. В 1830-е и 1840-е годы Эмерсон либо организовывал «частные» лекционные курсы и брал на себя весь финансовый риск, снимая зал, продавая билеты и распоряжаясь выручкой, либо соглашался на «публичные» лекционные курсы, за которые организация-спонсор гарантировала ему чистый гонорар. Только в 1860-х годах появились коммерческие агентства по организации лекций на комиссионных началах.
Лектору, как и проповеднику, приезжающему на новое место, не нужно было сочинять новый текст. С годами Эмерсон все чаще читал одну и ту же лекцию по многу раз. Например, в течение 1864 года свой новый курс из шести лекций под названием
404
«Американская жизнь» он повторил по пути из Бостона в Милуоки и обратно по крайней мере 7 раз. Самую популярную из них, «Задачи общества», он прочитал не меньше 70 раз за 5 лет в различных городах 15 штатов, получив за нее немногим более 4 тысяч долларов.
Выступая с одной и той же лекцией, Эмерсон шлифовал материал и готовил его тем самым к публикации. В дневнике за 1834 год молодой Эмерсон так описывает метод, который затем он использовал всю свою жизнь: «Когда в ответ на просьбу комитета сельского лицея прочитать лекцию я говорю, что прочитаю ту, которую сейчас пишу, заказчики довольны. Бедные люди, они не подозревают, насколько эта лекция будет отличаться от той, которую я прочту в Нью-Йорке или напечатаю. Я «пробую» ее на них, как парикмахер пробует свои возможности на головах сирот». Обычно Эмерсон записывал свои лекции и потом тщательно хранил рукописи. Понятно, что подробные публикации его лекций в газетах не приводили Эмерсона в восторг. Когда нью-йоркская «Трибюн», имевшая большое хождение и в сельских городках, поместила почти буквальное изложение одной из его лекций, он счел невозможным ее дальнейшее использование.
Как писатель Эмерсон впервые стал известен после издания в 1841 и 1844 годах двух сборников «Эссе», в основу которых легли четыре курса его лекций. Он выбрал параграфы из разных лекций, объединил их и затем пересмотрел заново. В последние годы его лекции, рассчитанные на слушателей, становились все ближе к их печатному варианту. Опыт подсказывал, что лекция, не один раз проверенная на лицейском уровне, может быть напечатана почти без исправлений. Например, том лекций «Представители человечества» (1850), которые он начал читать перед различными аудиториями в 1851 году, в 1860 году был издан с подзаголовком «Семь лекций. Руководство в жизни».
Частое чтение одного и того же текста перед разной публикой позволило Эмерсону создать получившую распространение в Америке разновидность устной литературы — ораторскую, просветительскую и популярную. То, что она носила устный характер, объясняет как ее недостатки — туманность, частые повторы и противоречия, — так и ее достоинства, состоящие в пророческой неопределенности, эмоциональности и доступности. Обстановка на лекциях того времени, как объяснял Боуд, «способствовала продолжению Диалога между аудиторией и автором, что вдохновляло обе стороны. Первое же чтение перед аудиторией позволяло ви-
405
«способствовала продолжению диалога между аудиторией и автором, что вдохновляло обе стороны. Первое же чтение перед аудиторией позволяло видеть, что действует на слушателей, а что нет. Народное мнение и вкусы литератора сходились и искали согласия... Так развивалась американская литература, которая была американской не только потому, что ее создавали американцы, но прежде всего потому, что она отражала американские идеи и склад американского ума. Это была истинно народная литература, в создании которой важную роль играли народные массы, заполнявшие аудитории».
Среди создателей нашей ораторской прозы Эмерсон был величайшим, но не единственным. Эпоха лицея подарила нам целую плеяду лекторов-бардов, чьи произведения, прежде чем быть напечатанными, звучали для широкой публики. Среди них ныне забытые Байярд Тейлор, Э. Уиппл, Парк Бенджамин и Д.Сакс, когда-то покорявшие публику своими театрализованными выступлениями и чтением стихов. Даже нелюдимый Торо многое из того, что написал, сначала, видимо, задумывал как лекции. Публикации почти не приносили ему дохода в отличие от лекций. Мелвиллу как лектору везло значительно меньше. Однако в его устных выступлениях звучало то, что он потом опубликовал. Многие герои и стилистические обороты в «Моби Дике», как показал Алан Хеймерт, были заимствованы непосредственно из политических речей и прочей ораторской литературы тех дней. Вопросы общественных преобразований развивали в своих выступлениях Уэнделл Филлипс, Уильям Ллойд Гаррисон, Горас Пэили, Люси Стоун и Элизабет Стэнтон.
* * *
Американские религиозные деятели того времени, как и их коллеги в области политики или просвещения, были известны скорее своими речами, чем напечатанными работами. Самые знаменитые среди них — Лиман Бичер, Уильям Эллери Чаннинг, Теодор Паркер и другие — были великолепными ораторами. Красноречие священнослужителей высоко ценилось в больших городах; первое национальное американское религиозное движение, евангелическое протестантство, поставило слово в центр религиозного обряда. Известные религиозные лидеры за полвека до начала Гражданской войны своими речами вдохновляли и вели за собой своих последователей. Чтобы это понять, не надо читать их призывы, надо слушать.
406
Некоторые евангелисты даже создали учение о доступности языка и импровизациях в речи. Для многих странствующих проповедников было важно вовремя поспеть туда, где нуждались в их увещеваниях. По словам Сэмюела Лоренцо Кнаппа, «настоящий оратор»—это тот, кому «камень или пень служат треногой, а обычный воздух полон дельфийских фимиамов». Религиозное возрождение не было изобретением американцев, но в Америке его популярность и широкое распространение во многом объяснялись ораторскими успехами проповедников.
Америка положила начало общинному религиозному обряду, который процветал благодаря словоохотливости граждан. Успехи американских проповедников от Лимана Бичера (1775 — 1863) до Билли Санди и Билли Грэхема в XX веке впечатляющи. Одним из создателей американского евангелического стиля был Питер Картрайт. Сын революционного солдата из Виргинии, который был «бедным человеком и не таким уж плохим, а просто никчемным существом», Картрайт воспитывался в Кентукки и получил право вести проповеди от методистской церкви в 1802 году, когда ему было только 17 лет. Официального образования он практически не имел. За полвека в роли бродячего проповедника он объездил провинциальные окраины Кентукки, Теннесси, Индианы и Огайо, в полной мере используя свой громкий голос, образный язык, сообразительность и мощный кулак, чтобы овладеть душами скептиков во славу Господа. Он стал первым организатором американских религиозных собраний. Его проповеди привлекали сотни людей, которые, распростершись ниц, внимали ему, пока он не поднимал их на молитвенные скамьи, чтобы петь гимны, провозглашая аллилуйю. В конце жизни Картрайта дважды избирали в законодательные органы штата Иллинойс. За всю свою карьеру он только единственный раз испытал поражение. Это было в 1846 году, когда на выборах в конгресс он соперничал с Авраамом Линкольном, которого пытался обвинить в «безбожии».
Картрайт никогда не терял веры в свои ораторские способности и всегда с подозрением относился к проповедникам, зубрившим свои тексты в расчете на то, что их ученость может восполнить отсутствие религиозного энтузиазма. Вот как он вспоминал о собрании в Уинчестере, штат Иллинойс, в 1837 году:
Было много народа. Зал переполнен, сиденья—временные; не было ни алтаря, ни кафедры, но встреча вызывала большой интерес. Служители цер
407
кви воспряли духом: многие отступники возвращены в ее лоно, сотни плачущих и молящихся грешников столпились у временного алтаря, который мы воздвигли... Свеженький, молоденький, подвижный янки из центральных районов Востока, с только что полученным дипломом, посланный Домашним миссионерским обществом к этим каннибалам Запада, поднялся, чтобы прочитать свою заученную речь... Стены здания, в котором мы молились, не были оштукатурены, и ветер дул из всех щелей; пламя наших свечей колебалось, слабо освещая помещение, и наш миссионер выглядел весьма нескладно, читая свою молитву. После покаяния община пришла в движение; проповедник же запинался, мямлил и кашлял с отвратительной частотой. Примерно через тридцать минут наступило великое облегчение: к глубокому удовлетворению всей общины, он наконец замолк. Тогда встал я и начал свою проповедь, пригласив рыдающих людей подойти к скамье, которую приготовил заранее. Они стали подходить ко мне, воцарилась истинная благодать. Один человек, весом в двести тридцать фунтов, вдруг заволновался, вскочил на ноги и стал молить о пощаде. Зубрилка пытался его угомонить, приговаривая: «Успокойтесь, успокойтесь. Молись, брат, молись». Картрайт же, истинный проповедник, обратился к нему со словами: «Успокоения не обрести в проклятиях ада». Тогда великан схватил маленького янки и с ним на руках прыгал со скамьи на скамью до тех пор, пока все не оценили силу животворящего слова.
Великое евангелистское возрождение первой половины XIX века, получившее название второго «великого пробуждения», было, помимо прочего, восстанием против кальвинистского детерминизма. Теперь каждый человек мог рассчитывать на самоспасение; к спасению направлял его голос проповедника. Об этом поведали «Лекции о возрождении религии» (1835) Чарлза Грандисона Финни, практический учебник для евангелистов, равного которому нет. Все 12 тысяч экземпляров первого американского издания были проданы в первые три месяца после публикации.
Он стал основным учебником по современному евангелизму, его переводили на многие языки и активно продавали за рубежом. В 1835 году Финни попросили создать факультет теологии в Оберлинском колледже, только что основанном в штате Огайо; будучи президентом колледжа (1851 —1866), он повлиял на весь ход обучения в нем. Другой прославленный евангелист того времени, Лиман Бичер, говорил своим слушателям в Лейн-ской семинарии: «Молодые люди, наполняйте $ебя до краев тем, что вы изучаете, и, когда уже не останется места ни для одной лишней капли, вышибайте пробку, и пусть ваша природа делает что хочет». Ораторская религия несколько десятилетий царила на американском Западе.
408
* * ♦
Полноводную Миссисипи ораторской литературы питали несколько источников. Самым мощным был широкий поток красноречия знаменитых речей (действительно произнесенных или воображаемых) Джеймса Отиса, Патрика Генри, Дэниела Уэбстера, Джона Кэлхуна и Ралфа Уолдо Эмерсона. Серьезные, почти торжественные, они распространялись по всему материку. Благодаря им существует американская ораторская проза. Но был и еще один поток — менее известный, но не менее американский; это демократическая провинциальная литература. Она привлекала читателей не высоким стилем, а нарочитой неграмотностью. Мы не встретим там цветистую метафору, красивую фразу или сложную синекдоху, зато целям ее верно служили домашний анекдот, немыслимое преувеличение, подчеркнутый диалект. Как «высокий», так и «низкий» поток новой развивающейся американской литературы вбирал в себя реально существующую или воображаемую устную речь.
Пародируя всякую напыщенность, анекдот стоял на страже здравого смысла и потому всегда сохранял свою привлекательность. Помпезность и многословие проигрывали простоте и краткости. Но живое слово придавало каждому жанру свой собственный характер и очарование. Героем сочинений Себы Смита, одного из создателей демократической прозы, стал майор Джек Даунинг, простоватый философ, искатель приключений из маленькой деревушки Даунингвилл в штате Мэн. Письма майора Даунинга впервые были опубликованы в 1830 году в «Курьере», собственной газете Смита, выходившей в Портленде. Несмотря на отсутствие образования (а возможно, именно благодаря этому), неотесанную грамматику и беспорядочную орфографию, майор Даунинг всегда добирался до сути дела. Торгуя сыром и обручами для бочек, он однажды зашел в законодательный орган штата Мэн и стал политиком. Затем как претендент на должность отправился в Вашингтон, где оказался доверенным лицом президента Эндрю Джексона. Политическая карьера Даунинга (он выставлял свою кандидатуру на выборах в сенат и на пост президента) длилась до 1850-х годов. Он выгодно отличался от других общественных деятелей своего времени. Пародируя Бентона, Даунинг назвал свое собрание писем «Мои тридцать лет вне сената» (1859). В самый разгар споров об отказе некоторых штатов признавать законы, принятые конгрессом США, когда Южная Каро
409
лина угрожала выйти из состава Союза, майор Даунинг так описал свой разговор (17 января 1833 года) с президентом Джексоном:
А теперь, мой генерал, сказал я, я скажу тебе все, что я думаю об этом деле. Когда я был мальцом, мы, ребята из Даунингвилла, каждую весну отправлялись к пруду Сибейго и нанимались на месяц, а то и два сплавлять по нему бревна. Один раз мне, братцу Эфраиму, Джоелу и Билли Джонсону да еще двоим-троим парням досталось по огромному бревну. А день был ветреный, и волны здорово кидали бревна вверх и вниз, так мы решили собрать их вместе, связать, вбить скобы в крайние бревна и гнать их все вместе. Две или три мили все шло путем. Но потом Билл Джонсон начал ныть. Он всегда был отчаянным бездельником. Всегда считал, что другому лучше, а когда был мальчонкой, вечно жаловался, что на чужом хлебе больше масла, чем на его. Так вот, Билл, который греб с подветренной стороны, разорался, что на его стороне труднее всего и что он не отстанет, пока кто-нибудь с ним не поменяется.
Что ж, ладно. Но и против ветра Билл греб совсем недолго, снова начал хныкать оттого, что на этой стороне хуже, чем на той, и заявил, что здесь до весла он больше не дотронется. Мы ему сказали, что он сам выбрал себе место и уже не должен его менять. Но он все ныл и совсем спятил. Наконец он пригрозил, что если мы через пять минут с ним не поменяемся, то он перережет веревку и поплывет на своем бревне один. Не прошло и пяти минут — мы и оглянуться еще не успели,—как он схватил топор, обрубил веревку, и поплыл наш Билл прочь на своем бревне, отплясывая, как обезьяна, чтобы удержаться на плаву. Мы же цеплялись как могли и, хотя это было нелегко — ведь ветер дул здорово, — связали бревна вместе. Билл не уплыл далеко, его бревно перевернулось, и он оказался с головой в воде. Он вынырнул, отплевываясь и фыркая, ухватился за бревно и попытался на него влезть, но, чем больше он пытался, тем чаще оно переворачивалось; тут он понял, что дело его пропащее, если он так и останется в воде, и он начал орать как резаный, чтоб мы его подобрали. Мы поинтересовались, на какой стороне он будет грести, если мы его бревно снова привяжем к плоту. «Ой, — сказал Билл, — я буду грести на любой стороне или на двух сразу, если велите, только помогите мне, а то утону...»
Так вот, мой генерал, это как раз то, что я думаю: если ты дашь Южной Каролине обрубить веревки, то бревно так закрутится, как ты еще и не видел.
Письма майора Даунинга имели небывалый успех у публики. Их переиздали в Бостоне, затем где-то в Новой Англии, и вскоре эти письма читала уже вся страна. Тут же появились подражатели, которые придумывали новые истории от имени майора Джека Даунинга, так что ему приходилось узнавать самого себя по шраму на левой руке.
410
Майор Даунинг открывал длинный ряд героев американской демократической прозы. В его сочинениях можно обнаружить многое из того, что было свойственно предшественникам: фрагментарную форму повествования (заимствованную из первых, наспех составленных публикаций в газетах и журналах), короткий рассказ о смешном эпизоде из жизни, подчеркнутую полуграмотность или неграмотность героя (Себа Смит на самом деле с отличием окончил в 1818 году Боудоинский колледж), упование на здравый смысл и, что важнее всего, активную роль всех оттенков и форм разговорной речи. Беспристрастность майора Даунинга, как и большинства других известных его последователей, позволяла ему с одинаковым успехом видеть как хорошее, так и плохое в каждой из сторон. Все эти герои были приверженцами партии здравого смысла и считали, что в хорошей шутке истины больше, чем в самом высоком принципе.
«Альманах простака Ричарда» Франклина был предшественником писем Даунинга. Но «простак Ричард» еще был связан с колониальным периодом: он не мог себе позволить шутливую неграмотность. Среди самых знаменитых последователей Даунинга — Дэви Крокетт (он жил еще до Даунинга, но его великолепные сочинения появились впервые где-то между 1834 и 1836 годами). Середина века стала эпохой высокого стиля и красноречия, но она же вызвала к жизни доморощенного философа, наделенного здравым смыслом. Из Новой Англии раздавались поучения Хоузи Биглоу, героя Джеймса Расселла Лоуэлла. Его рассказы, впервые появившиеся на страницах бостонского «Курьера» и «Атлантик мансли», стали пользоваться меньшей популярностью после того, как их отредактировали и опубликовали отдельной книгой (1848; 1867). Многие поучения Биглоу уместны и по сей день:
Прилетели вороны, закаркали с верхушек Продувных конгрессов: мол, делаем дела! Политики, политики! Подует на макушки, Останутся политики в чем мама родила!
С Юга пришел неотесанный плут Саймон Саггз, созданный на страницах алабамской газеты Джонсоном Хупером примерно в 1846 году. Мало кто был популярней знаменитого Артемуса Уорда (придуманного Чарлзом Брауном), чьи мудрые речи стали появляться в кливлендской «Плейн дилер» в 1857 году и чья склонность к компромиссам вошла в поговорку.
411
«Мои политические убеждения полностью совпадают с твоими. Я знаю это точно, поскольку на свете нет человека, с которым расходились бы мои взгляды». Джош Биллингс, вероятно, самый знаменитый из них, был придуман Генри Уиллером Шоу, который тоже начинал печататься в маленьких газетах. Книга «Джош Биллингс. Изречения» (1865) содержала особенно широко цитируемые афоризмы того времени. Росту популярности Биллингса способствовал ежегодный выпуск его «Альманаха» (1869 — 1880). В конце XIX века основным носителем этой традиции стал неукротимый мистер Дули (созданный чикагским газетчиком Финли Питером Данном; книга появилась в 1898 — 1919 годах), и уже в XX веке — Эйб Мартин и Уилл Роджерс. Традиции этого жанра получили продолжение в комиксах Аль Каппа и других.
В доморощенных философах недостатка не было. Знаменитыми их делали не их «сочинения», а отдельные «высказывания». Лишь разговорная речь могла передать склад их ума. И они создали демократическую прозу, основанную на разговорной речи.
Два самых популярных и самых известных по сей день писателя Америки появились в пору расцвета этой литературы. Гениальность Марка Твена заключалась прежде всего в его способности услышать случайно оброненное слово и придать литературную форму анекдоту, который другим писателям казался пустым набором фраз. Ему бесспорно принадлежат лавры самого известного лектора во всей американской истории. Но знаменательно, что самые крупные произведения Твена появились только после Гражданской войны («Налегке», 1872; «Приключения Тома Сойера», 1876; «Старые времена на Миссисипи», 1883; «Приключения Гекльберри Финна», 1885), когда бурные события на Западе были в основном позади*. Во всех этих романах чувствовалась ностальгия — слабое эхо хвастливых, громкоголосых, забитых сленгом речей эпохи раннего становления американской литературы. Передать выразительную живость американской речи в литературе до Марка Твена в полной мере так никому и не удавалось. Усилия Марка Твена увенчались успехом, потому что к этому времени язык перестал быть хвастливым и развивался уже по другим законам.
Величайшим свидетельством власти живого слова является фигура Авраама Линкольна. Хотя и он считается одним из гигантов американской литературы, вся его литературная слава покоится на устных высказываниях. Он соединил в себе два
412
различных и взаимодополняющих течения американской ораторской литературы. Очищая публичные выступления от высокопарности, многословия и искусственности, он в то же время пересказывал анекдоты, сложенные простым народом, избегая вульгарности, грубости и сиюминутности. Никто лучше него не смог соединить достоинства каждого литературного течения, чтобы заложить основы классической ораторской прозы, которая долго будет популярна среди народа федеральной страны.
Перед американцами открывалась огромная возможность, реализовать которую позволил язык, ставший достоянием всего народа. Эдвард Эверетт, считавшийся самым блестящим оратором своего времени, чье почти забытое двухчасовое выступление в Геттисберге предшествовало выступлению Линкольна, начал свою ораторскую карьеру и привлек широкое внимание публики речью в Гарварде 26 августа 1824 года на тему «Условия, благоприятствующие прогрессу литературы в Америке». Он говорил:
В Европе разобщенность народов начинается с различия языков и завершается различием рас, институтов и национальных предубеждений... В то же время все обширные территории, входящие в состав нашей республики, объединены не только одним языком, но и одним национальным правительством, в основном одними и теми же законами и обычаями, общими корнями. Человечеству здесь предоставлена возможность единения, о котором едва ли когда-нибудь до этого было известно на земле.
Часть седьмая В ПОИСКАХ СИМВОЛОВ
Американец фактически не имеет еще характерных черт: он не шут, но и не джентльмен.
Лью Бракенридж
И снова привычный для Старого Света ход событий был расстроен; путь был новым. Страна возникла здесь до того, как возник тот национальный дух, который в других местах создавал нации. Американская поспешность и самоуверенность Нового Света оставили свои следы повсюду.
Национальные символы и популярные герои обычно появлялись в результате долгой истории — истории войн и борьбы за государственность. «Генрих V» и другие исторические пьесы могли родиться лишь на почве уже процветавшего национального духа, став выражением его идей; Шекспир был одновременно и продуктом и творцом английской нации. В Европе, если люди хотели познать себя, свой образ мысли, особые формы ума и красоты, порока и героизма, они могли обратиться к своей литературе, классике их родного языка. Но американцы обнаружили богатства родного английского языка и большую часть своего исторического прошлого в Старом Свете. Они были накоплены задолго до того, как возникла их страна.
Как же было им выявить или создать американских героев, не теряя при этом накопленного? Как могли они найти себя в американской истории?
414
38.
ГЕРОИ ИЛИ ШУТЫ?
КОМИЧЕСКИЕ СУПЕРМЕНЫ ИЗ СУБ ЛИТЕРАТУРЫ
На Америку начала XIX века распространялись многие характерные особенности героического века Древней Греции—малознакомый полудикий мир, где людям угрожали дикие звери и враждебные племена, — поэтому неудивительно, что скоро появились американские последователи древних героев. Но размытость национальных границ, а также национальных устремлений и языка и неопределенность границы между реальностью и мечтой нашли отражение в столь же размытых представлениях о героическом и комическом. Наши первые народные герои появлялись на сцене под аккомпанемент грубого хохота. Выразителями национальных идеалов были герои народного юмора. Это необычное сочетание явилось результатом американских особенностей.
Конечно, то, каким именно образом появлялись европейские герои героического века — Ахилл, Беовульф, Зигфрид, Роланд, король Артур и другие, — покрыто туманом. Скорее всего, они возникали сначала в устных легендах, лишь постепенно прокладывая себе путь в письменную литературу. Путь от устной легенды или баллады менестрелей до литературного эпоса был длительным. Проходившие века выделяли, поднимали и «очищали» героические образы, а скромные хроникеры придавали им величие и достоинство.
В Соединенных Штатах все было по-другому. Дейвид Крокетт (1786—1836) был еще жив, когда о нем уже начали ходить устные легенды. Он еще не умер, а его свершения, подлинные или мнимые, были увековечены в печатном слове. Благодаря «автобиографическим» сочинениям (вероятно, написанным в основном другими) и прочим разрозненным свидетельствам в течение десятилетия после смерти он стал широко известен по всему континенту.
Таким образом, по меньшей мере два существенных отличия отмечали американский путь создания популярного легендарного героя. Во-первых, это фантастически короткие сроки: от неоформившейся устной легенды до печатного изложения здесь требовались не века, а годы. Легенды проскакивали в печать до того, как их можно было очистить от вульгарности и диалекта. Во-вторых, самые первые напечатанные их версии имели определенно американскую форму; они представляли
415
собой не просто литературу, а «сублитературу» — писания на популярные или простонародные темы, основанные на утробном смехе, балаганах и небылицах, приключениях для неискушенного читателя. История Крокетта не была записана в каком-либо американском аналоге, подобном «Historia Regum Britanniae*1 либо ^Morte d\Arthur*1 2; анекдоты о нем галопом промчались в течение десяти лет от тесного мирка рассказов у костра и шуточек в пивной до великого мира демократической печати. Широко распространяемые недорогие издания излагали легенды о Крокетте именно так, как они произносились рассказчиками. Они немедленно попадали в процветавшую сублитературу.
В Западной Европе также, конечно, существовала своя сублитература баллад, бульварных листков, пародий, альманахов и других популярных развлекательных и поучительных изданий, которая появилась уже в XVII веке. Но грамотность здесь долгое время была принадлежностью небольшой группы высших слоев. Пространные, величественные творения — Библия, молитвенники, проповеди, эпос, научные трактаты — были напечатаны задолго до того, как стала распространяться грамотность. Только в XIX веке началось массовое приобщение к чтению рабочего класса Англии. К тому времени, когда появилась обширная читающая аудитория, включавшая в себя отчасти и простой народ, великая литература — литература шекспировской драмы и мильтоновского эпоса—поднялась и заняла центральную позицию на национальной сцене.
Совсем не так дело обстояло в Соединенных Штатах. Здесь начиная с колониальных времен грамотность была распространена гораздо шире, чем в метрополии. Читающая массовую литературу публика существовала уже с момента создания государства. Так что в первый век формирования нации массовая литература росла и расцветала в то самое время, когда американские писатели старались дать стране свою собственную достойную и возвышенную литературу. Опять же в Америке привычный европейский календарь культурного развития был сокращен и перепутан. Сублитература, которая стала возможной в других странах, просачиваясь через грамотность и высокую литературу, в Америке получила развитие прежде, чем страна создала свою литературу.
1 «История британских королей» (лат.). — Прим, перев.
2 «Смерть Артура» (фр.). —Прим, перев.
416
Дейвид Крокетт был самым значительным и в какое-то время самым широкоизвестным кандидатом на роль национального героя. Способы распространения его славы, как и все другое, с ним связанное, блестяще иллюстрируют специфику американской ситуации. Крокетт, сын революционного солдата, который стал владельцем пивной, родился в северо-восточной части Теннесси в 1786 году. В возрасте тринадцати лет он убежал из дому, чтобы избежать порки, несколько лет бродяжничал и женился, когда ему было восемнадцать. Не сумев стать фермером, он вступил в ряды армии Эндрю Джексона (1813 — 1814) и какое-то время служил разведчиком. Позже он нанял себе замену, чтобы закончить срок службы в армии, и переехал на юг Теннесси, где начал общественную карьеру сначала как назначенный мировой судья, а затем как полковник милиции. В 1821 году Крокетта избрали в законодательный орган штата. Он снова переехал и поселился на самой крайней западной оконечности штата (где ближайший сосед жил в семи милях от него) и очень скоро вновь был избран в законодательный орган штата от нового округа. Затем он осмелился баллотироваться в конгресс и, к своему удивлению, был избран. Он пробыл там три срока. Когда Крокетт не находился в столице штата или Вашингтоне, он жил опасной жизнью обитателя лесной глуши: однажды за девять месяцев он убил 105 медведей; он едва не утонул в 1826 году, когда переплавлял груз бочарной клепки вниз по Миссисипи.
Он получил незначительное образование и не испытывал особого уважения к книгам; правила орфографии, говорил он, «противоречат природе». Как судья, не знающий смысла слов «отправление правосудия», он «полагался на врожденный здравый смысл вместо изучения права». В законодательном органе штата Теннесси Крокетт голосовал против кандидатуры Джексона в сенат и очень рано начал голосовать против политики Джексона в конгрессе. Это сделало его желанным олицетворением «дикаря» в глазах только что созданной ан-тиджексоновской партии вигов, но разгневало избирателей в Теннесси, которые в итоге отказались направить его снова в конгресс. Крокетт уехал тогда из Теннесси отчасти в порыве раздражения, отчасти под влиянием энтузиазма, вызванного войной за независимость Техаса. Появившись в Аламо в феврале 1836 года, он погиб несколько недель спустя смертью мученика во время последней обороны крепости.
417
Истинные или выдуманные деяния Дэви Крокетта были быстро растиражированы в печати: в газетах, альманахах, книгах. Они окутаны — или, скорее, окружены — ореолом такой неопределенности, что даже их авторство остается сомнительным. Крокетт сам мог приложить руку к книгам, изданным до 1836 года, а также свою долю украшательства внесли либеральные журналисты и прочие авторы. Большая часть более поздних историй публиковалась в альманахах анонимно. Но нет никаких сомнений в популярности и широком распространении напечатанных легенд о Дэви Крокетте. «Очерки и забавные истории полковника Дейвида Крокетта» (1833), «Отчет о путешествии полковника Крокетта на Север и на Восток» (1835) и «Жизнь Мартина Ван-Бюрена» (1835) Крокетта имели большую читательскую аудиторию. «Рассказ о жизни Дейвида Крокетта из штата Теннесси» (1834), который стали называть его автобиографией, был на уровне бестселлеров. Посмертная литература, включая такие книги, как «Подвиги и приключения полковника Крокетта в Техасе» (1836), росла и давала пищу для еще большего количества историй. Затем возникли так называемые «Альманахи» Крокетта. Самый ранний был опубликован в Нашвилле в 1835 году и имел название «Альманах Дэви Крокетта об охоте на Западе и жизни в глуши. Рассчитан на все штаты Союза». Первые выпуски «Альманаха» основывались на «автобиографии» Крокетта, но позднее публиковались материалы (с очевидного разрешения «наследников полковника Крокетта»), подготовленные, как считали, самим Крокеттом до его смерти. Издания в Нашвилле выходили до 1841 года, после чего «Альманахи» Крокетта начали появляться в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Олбани, Балтиморе, Луисвилле и других местах. До 1856 года их вышло по крайней мере пятьдесят. Этим альманахам, украшенным грубо сделанными гравюрами и столь же неотесанным с точки зрения как типографской печати, так и содержания, было предназначено судьбой стать дорогостоящими экземплярами в собраниях коллекционеров середины XX века.
«Альманахи» Крокетта, как и их предшественники, кроме «истинных приключений» Дэви Крокетта, содержали не только важную информацию, но и дезинформацию. .Они повествовали о приключениях Майка Финка, Дэниела Буна, Кита Карсона, а также менее известных суперменов из глуши и содержали различные рассказы о растениях и животных, а также лаконичные высказывания, медицинские советы и полезные сведения о пого
418
де, астрономии и астрологии, что всегда составляло основу календарей.
Эта размножающаяся сублитература — примитивное печатное изделие, насыщенное вульгарным юмором и народной фантазией, — была одним из первых типично американских явлений. Неудивительно, что новая страна должна была выразить себя в ней. Для бурного, подвижного, самонадеянного, жизнерадостного и грамотного народа она заменила беллетристику. В колониальный период характерным американским печатным изданием были не книга или научный трактат, а газета, памфлет, самоучитель, проповедь и письмо. Эта новая литература была рассчитана на тех, кто не читает книг. Предназначенная в основном для мужчин, она была самонадеянно нелитературной и неблагородной, воинственно бесформенной и бесстыдно грубой.
Диккенс писал в своих «Американских заметках» (1842), что американский народ «несомненно не обладает развитым чувством юмора и всегда поражает своим скучным и угрюмым нравом». Диккенс был лишь одним из европейских путешественников того времени, которые укоряли американцев за их серьезность. Миссис Троллоп в первом издании «Домашних нравов американцев» (1832) также утверждала, что у американцев нет чувства юмора; но в дополненном издании (1839) она объясняла в сноске, что появление Джека Даунинга опровергает ее утверждение. Вряд ли популярная американская беллетристика того времени могла изменить подобное мнение. За полвека до Гражданской войны «американскими» писателями, с которыми больше всего носились и которыми восхищались в Европе, были те — вроде Вашингтона Ирвинга (1783 —1859), — чьими учителями являлись самые вежливые из вежливых английских литераторов — Аддисон, Стил или Голдсмит. Многое в произведениях Ирвинга основывалось на английских и европейских сюжетах, которые он наполнил романтическим ореолом; значительную часть своей активной жизни он провел за границей, впитывая атмосферу Англии и Испании. Даже его «Легенда о Сонной Лощине» и его «Рип Ван Винкль», оставаясь американскими по месту действия, были основаны на знакомых европейских источниках. Английские и французские писатели, которые восхищались им как несравненным «американским» писателем, восхищались на деле слегка американизированной версией собственного творчества.
419
От взгляда Диккенса и других европейских путешественников ускользнуло то, что Америка уже создавала новый вид литературы, новый тип авторов и для новой публики. Еще в 1877 году, например, Джордж Мередит утверждал, что комическому актеру нужно «общество культурно развитых мужчин и женщин». Было трудно вообразить, что именно «грубость» и «вульгарность» (слова-проклятия Мередита), отсутствие изящества и церемоний, которые, казалось, объясняли, почему американцы были такими «скучными и мрачными», являлись на деле источниками специфического американского жанра, какого угодно, но только не лишенного юмора. Новая американская сублитература, которую они не смогли оценить, прошла мимо них незамеченной — по стандартам Старого Света она была ниже их внимания.
Американский юмор и американские народные герои родились вместе. Первыми народными героями новой страны были комические герои, и первым народным юмором новой страны были ужимки его героических клоунов. Комическое и героическое смешалось и соединилось между собой в новаторских американских пропорциях. Каковы были преобладающие темы этих комическо-героических произведений? Что делало их комическими и что делало их героическими?
Героические темы довольно очевидны и не многим отличаются от подобных в другие времена или других местах... Легенды Крокетта, как объяснил Ричард Дорсон, повторяют знакомый путь героических историй Старого Света: «Исключительность сильного героя, чья мифическая слава имеет скудную основу в жизни; сражения, в которых он отличился, борясь против смертельных соперников, как людей, так и зверей; клятвы и хвастовство; гордость героя за свое оружие, своего коня, своего пса, свою любимую; удивительное рождение и рано проявившаяся сила героя; трагическая смерть непобедимого, но смертного героя, предательски или неестественно его настигающая». Ахилл, Беовульф, Зигфрид, Роланд и король Артур — каждый в свое время и на своем месте — исполняли знакомую героическую роль.
Крокетт тоже побеждал людей и зверей с хвастливой беспечностью. «Я сказанул лежащей гадюке, что съем ее с потрохами, — предупреждал Крокетт побежденного янки, — или я наделаю струн для скрипки из ее кишок. Тогда она вся сжалась и устыдилась. Она ускользнула, как индеец с поляны». Крокетт побеждал животных с помощью физической силы и силы воли. Когда ему было шесть лет, он убил четырех волков; он задушил
420
в объятиях медведя; он зубами загрыз гремучую змею. «Когда я прихожу в темноте домой, — рассказывал Крокетт о прирученной пантере, — она освещает мне путь до кровати своими зрачками; она каждое утро чистит очаг своим хвостом, а по субботам делает за жену всю тяжелую работу. Она собирает овощи в огороде своими челюстями... вытирает своей шкурой наши ноги, когда мы их помоем, своими когтями помогает чистить лошадей и предоставляет жене свои зубы, чтобы трепать лен. Если это не так, то бросьте меня на съедение стае диких голодных кошек зимой». Крокетт владел силами природы. У него, например, был свой способ ускользнуть от смерча:
И тогда раздался грохот, по сравнению с которым шум старушки Ниагары казался писком котенка; деревья оторвались от своих корней и пустились в пляс, как индейцы; дома разваливались; люди были напуганы до смерти и в страхе орали во всю глотку; а кто-то уже отправился на небеса вверх тормашками... К счастью, случайная молния ударила совсем рядом, и, как только она вспыхнула, я ухватил ее за хвост и вскочил на нее. Бен — за мной и вцепился мне в волосы; я смазал ее немного из бутылки салом гремучей змеи, и мы как рванули вперед — так что смерч остался далеко позади, на удивление всей природе.
Самым знаменитым подвигом Крокетта было спасение Земли в самый холодный день. Сначала он взобрался на гору, чтобы узнать, что случилось. «Земля замерзла на своих осях, и она не могла больше крутиться; солнце зажали два куска льда из-под колес, и оно светило и грело, чтобы освободиться, пока на нем не замерз холодный пот». Крокетт спас вселенную тем, что смазал медвежьим салом оси земли и лик солнца, присвистнув: «Давай вперед, двигайся». Земля крякнула и начала двигаться. «Солнце прекрасное проснулось и дохнуло на меня таким порывом благодарности, что я расчихался».
Ни пиры Гаргантюа, ни бесстрашие, ни удаль храброго охотника не были характерны для Америки. Гораздо более американскими были комические качества. Обычно все герои — герои; мало кто из них является шутом. Но то, что делало американских народных героев героическими, делало их одновременно смешными. Постоянная неопределенность американских условий жизни, неясности, которые оставляли материк открытым для приключений, превращая землю в богатый источник неожиданностей, что делало словарный запас неуправляемым, а сам язык — гибким; эта же неопределенность питала как комическое, так и героическое. И то и другое зави
421
село от несуразностей, — несуразностей смешных и несуразностей, достойных восхищения. В мире, полном непредсказуемого, где все нормы были обозначены крайне неопределенно или слишком явно, читатели легенд Крокетта никогда не были полностью уверены, смеяться им или аплодировать, не знали наверняка, являлось ли то, что они увидели или услышали, замечательным или ужасным, нелепым. «Быть может... — писал Крокетт, — вы будете смеяться надо мной, но не над моей книгой». В мире, лучше изученном, более известном, более предсказуемом, им было бы легче понять смысл происходящего и выразить собственную реакцию. Байки Крокетта не особенно отличались от честного оптимизма первооткрывателя, от откровенного вранья торговца землей или от привычной мечтательности путника. Даже сегодня, когда мы восхищаемся стремлением американского супермена того времени видеть все в розовом свете, мы не знаем, почему это происходит. Восхищаемся ли мы прекрасным, великим, большим или уродливым?
Для этих рассказов Крокетта была характерной, как заметил Дорсон, своеобразная «гордость уродством или способность изобразить уродство». Старый Билл Уоллис, например, был таким уродом, что даже мухи не садились на его лицо. Когда ему было десять лет и он увидел свое отражение в ручье, то бросился бежать сломя голову, все время взывая о помощи. «Его лицо было похоже на недавно залеченный водяной пузырь... Рот — огненно-красный — выглядел так, будто его сотворили, быстро выдолбив дыру на лице гвоздем, по которому только что ударил плохо подкованный мул». Но были ли слова этих историй действительно словами! Gultywhumping, slantendicler, discomboberate, absquatulate, homogification, circumbustifikshun, flutterbation. Изящество? Неграмотность? Что из этого было всего лишь выдумкой?
Некоторые из внимательно изучающих комедию согласны с тем, что отчуждение, определенная способность посмотреть на себя со стороны, является весьма важной составной частью чувства юмора. По мнению Констанс Рурк, эта черта объясняет, почему американский юмор начал процветать только после того, как война 1812 года упрочила положение американского народа. Почувствовав себя в большей безопасности, американцы смогли взглянуть на себя более отрешенно. Аналогичное чувство отчуждения, взгляд на самого себя с определенного расстояния необходимы и для героического. Расстояние создает и героев, и шутов. Великие герои — это люди, которые
422
находятся далеко от нас. Конечно, их могут отдалить века. «Расстояние наделяет волшебной силой» — даже если это и штамп, то он достаточно древний и привычный. «Блестки славы, — заметил Джон Уэбстер, — как светлячки в отсутствие солнца; но если поднести их к глазам, увидишь, что они не дают ни света, ни тепла».
Но есть и другой вид расстояния. В Америке в этом, как и во многом другом, пространство играло роль времени. Если американцев в новой стране не могли отделять от национальных героев сотни лет, то в любом случае их отделяли сотни миль. Чувство расстояния было возможно здесь, чего не могло быть в меньших, более однородных странах. Огромное и разнообразное пространство создавало расстояние как для героической, так и для комической перспективы.
В 1840 году культурная дистанция между Бостоном и Нью-Йорком или Филадельфией и Теннесси или более удаленной глушью Запада была, вероятно, такой же большой, как между Англией XII и Англией VI веков. А географическое расстояние между Бостоном и западной границей Теннесси было значительней, чем между Лондоном и Алжиром. Печатные материалы, в которых особенно широко распространялись легенды о Крокетте и других героях Запада, поступали из отдаленных восточных столиц.
Широта, разнообразие и свежесть американского ландшафта, его флоры и фауны, обычаев и привычек питали американскую сублитературу и обещали американским сюжетам многое в области как комического, так и героического. Эта комико-героическая массовая литература росла на полуизвестном, непредсказуемом материке. Она собирала устные истории из далеких уголков страны и пересказывала их к удивлению, восхищению и восторту тех американцев, которые никогда не видели этих мест и не могли быть уверенными в том, насколько нелепо или замечательно прочитанное ими. Было бы поэтому полуправдой говорить об американском юморе или американской героике того времени как о «региональных явлениях». Отдельные истории были региональными только в том смысле, что происходили на фоне ясно различимых примет определенного региона. Многие из лучших работ сублитературы впервые появились в нью-орлеанских «Пикеюн», сент-луисском «Ревел», цинциннатской «Ныос» или луисвиллском «Курьере». Затем постепенно, путем компиляции и перепечаток они распространялись по всей стране. Их особая комическая и героическая привлекательность, позволяющая им занять место национальной легенды, была
423
обусловлена в конце концов тем, что существовала большая аудитория американцев, живущих вдали от этих мест, которые стремились и к развлечениям, и к героическим сагам, отражающим красоту и величие всей страны. Сами региональные различия делали возможной процветание национальной сублитературы.
Пожалуй, самое значительное издание сублитературы о Юго-Западе и Западе в том веке, сделавшее сборы и особенно широко распространенное, вышло в Нью-Йорке. Уильям Портер, родившийся в Вермонте в семье коневодов, основал в 1831 году «Дух времени». Задуманный вначале как спортивный журнал, он был назван «Хроникой скачек, земледелия, охоты, рыбной ловли, литературы и театра». Не сумев найти писателей или читателей для обычного журнала о скачках, Портер изменил его характер так, чтобы он больше соответствовал американской ситуации. «Сдерживаемые обстоятельствами и отсутствием опыта, мы медленно нащупывали путь в южные и западные районы нашей страны, где те виды спорта, которые мы поддерживали, ценились выше и лучше поощрялись». Вместо профессиональных журналистов он стал искать и нашел десятки любителей — юристов, врачей, издателей, поселенцев, торговцев и людей без всяких профессий, — которые заполнили его журналы пикантными историями и очерками. В номере за 1839 год (расширившемся до двенадцати страниц) он хвастался, что в журнале «почти семь страниц оригинального материала из-под пера не менее чем тридцати трех корреспондентов!». К 1856 году Портер утверждал, что журнал расходится тиражом в 40 000 экземпляров. «Дух времени» стал библией массовой литературы. Как и многие другие недолговечные издания, он объединял разрозненные анонимные рассказы.
Когда Портер заявил в «Большом медведе из Арканзаса» (Филадельфия, 1843), что «новый поток литературы, столь же оригинальной, как и неистощимой, насыщал эту страну в течение нескольких лет и имел самый серьезный успех», это не было простым хвастовством. Никогда до этого, объяснял он, нигде не было подобных авторов. Рассказ в этом журнале-антологии заслуженно стал классическим примером комико-героического жанра американской сублитературы. Сутью рассказанной истории является ее двойственность. Ничто в нрй не является определенным. Неясно даже, относится ли название «Большой медведь из Арканзаса» к чудовищу, убитому в момент кульминации, либо к самому рассказчику. Когда медведь-чудовище умирает, остается дразнящий вопрос: убил ли охотник медведя или
424
«медведь был не тем, за кем охотились, и умер, когда пришло время*. Двойственность подобного финала возникает из-за того, что рассказчик сам оказывается под чарами собственной истории. Дух этой истории, как и многих других произведений сублитературы, заключается в одном слове — «вероятно»! «Вероятно, друзья, — сказал я (я все больше злился), — вероятно, вы захотите назвать кого-то лжецом». «Ну нет, — сказали они, — мы только слышали, что такие вещи стали довольно обычными в последнее время, но мы не верим ни единому слову». И тогда они поскакали прочь и хохотали, как гиены над дохлым ниггером».
В национальном масштабе единственным серьезным конкурентом Крокетта был Майк Финк. Последний из шкиперов килевой шлюпки, Финк (1770 — 1823) в своей жизни сменил три вида деятельности: сначала воевал с англичанами и индейцами, до появления пароходов преодолевал реки Огайо и Миссисипи и затем стал траппером в Скалистых горах. Истории Финка были самыми популярными между 1830 и 1860 годами, когда даже «Альманахи» Крокетта прославляли разные подвиги Финка. Вероятно, чувство ностальгии заставляло новый век шумных пароходов романтизировать героев того времени, когда люди на веслах шли против течения реки. Финк, как и Крокетт, был и героем и шутом, знатоком замечательного и нелепого — «чертовски свирепый парень и превосходный стрелок».
По крайней мере в одном случае Финк превзошел самого Крокетта в знаменитом состязании в стрельбе. «У меня самая красивая жена, самая резвая лошадь и самое точное ружье во всем Кентукки, — поддразнивал Финк Крокетта, — и ежели кто засомневается, то я доберусь до его волос быстрее, чем в аду подпаляют перышко». «Я ничего не хочу сказать против твоей жены, Майк, — отвечал Дэви, — любой назовет ее чертовски приятной женщиной, как и миссис Крокетт из Теннесси, а лошадей у меня нет. Но Майк, мне не очень-то приятно сказать тебе, что ты брешешь о своем ружье, и пусть я буду проклят, если ты прав, и я это докажу. Видишь, кошка сидит на верхней перекладине ограды твоего картофельного поля, около ста пятидесяти ярдов отсюда? Если она не станет глухой, то пусть меня прикончат». «Ну и стрельба началась! Она кончилась, когда Майк совсем вошел в раж и послал пулю в свою жену, когда та с бутылкой из тыквы пошла к роднику за водой, и сбил половину гребня с ее головы, и не тронул ни волоска, и позвал ее, чтобы она подошла и я посмотрел, что осталось. Ангельское создание стояло, как чучело в кукуруз
425
ном поле, она ведь давно привыкла к штучкам Майка». «Не, не, Майк! — закричал я. — Рука Дэви Крокетта точно дрогнет, если эта железка будет направлена на женское существо даже за сотни миль, и я сдаюсь...»
Были и другие герои, масштабом поменьше. Были городские типажи вроде Сэма Пэтча, прядильщика хлопка из Род-Айленда, который перепрыгнул Ниагарский водопад (1827), но скончался в водопаде Дженесси (1829). «Сэм Пэтч не ошибается» — таков был его боевой клич. Он постоянно действовал в соответствии со своим девизом: «Некоторые штуки можно делать не хуже других».
Все эти личности становились героями постановок бродячих актерских трупп, которые добирались до самых отдаленных деревень, где выступали на самодельных сценах либо под открытым небом. Театр, как и пресса, по словам Дорсона, помог сделать легенды национальными, доведя народный юмор до городских аудиторий. Моуз, парень из Бауэри, самодовольный пожарный из Нью-Йорка, чьи приключения разворачиваются то на калифорнийских золотых приисках, то во Франции и в Аравии, называющий себя «повсеместно знаменитым и всемирно известным», прославился прежде всего благодаря популярной пьесе «Нью-Йорк, как он есть», которая была поставлена в 1848 году. Сценический янки, поначалу клоун, постепенно приобретал героические черты, но никогда не переставал быть на грани между героем и комиком, постоянно удивляя и соблазняя аудиторию этой своей двойственностью. Вот что сообщала луисвиллская театральная афиша 31 октября 1856 года, анонсируя «Нью-Йорк, как он есть»:
Моуз, повсеместно знаменитый и всемирно известный, предстанет сегодня вечером в нашем театре... Ни один персонаж не воспринимали столь превратно, как Моуза и Лизи. Этих скромных героя и героиню часто считали скандалистами и распутными изгоями, хотя на деле все наоборот. Правда, Моуз — один из тех пожарных, что полны юмора, веселы и драчливы, но в нем нет ни одной порочной склонности; а Лизи — добросердечная, достойная и добродетельная женщина, привязанная к Моузу, и единственный ее недостаток — вполне понятное стремление подражать особенностям мужчины ее сердца.
Многие восхищались Джеймсом Хаккетом в роли Нимрода-Молнии в пьесе «Лев Запада» (1830) Джеймса Кирка Полдинга, исценировке историй Крокетта, афиши которой были расклеены по всей стране в течение двадцати лет. Или восторгались Дэ
426
ном Марблом, игравшим «Сэма Пэтча, или Отважного янки». Конечно, были и другие герои — обитатели глухомани, янки, лодочники — в соответствии с модой дня.
Американские комические герои были суперменами. Но они не превосходили людей, а просто преувеличивали их воз; можности. Они были яркими, чрезмерными во всем и удивительно деловитыми, но в них не было величия. Не случайно американцы искали в сублитературе героев и не могли их там найти. Американская сублитература была естественным местом рождения и естественной сферой обитания не героев, а суперменов. Американский супермен Дэви Крокетт из сублитературы продемонстрировал, как американцы усиленно пытаются идеализировать самих себя, создавая идеал простым преувеличением обыденности. Неудивительно, что им это не удалось. Попытка была забавной; ее результат был скорее комическим, чем эпическим.
После Гражданской войны наметилась тенденция разделить комическое и героическое. Мудрость бедняков сохранилась, но не в устах крикуна, силача размером с Гаргантюа, а в непритязательной газетной мудрости Джоша Биллингса, Петролеума Нэсби и Артемуса Уорда. Профессиональные комики превратились в философов-любителей. Иногда, как в случае с Эйбом Мартином и Уиллом Роджерсом в XX веке, сельский аромат сохранялся, но и они стали людьми слова, а не дела.
39.
МИФОЛОГИЗАЦИЯ ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА
Никогда более в национальном пантеоне не уживалась столь несовместимая пара, как Дэви Крокетт и Джордж Вашингтон. Обожествленный новой страной, легендарный Вашингтон был как бы анти-Крокеттом. Громкие слова, грубость, вульгарность, чудовищная похвальба Крокетта и его сотоварищей — суперменов из сублитературы — были теми чертами характера, которые явно не были присущи Вашингтону. В то же время достоинство, уважение к Богу, трезвая оценка, чувство своего предназначения и предвидение далекого будущего, что сделало Вашингтона легендарным, были незнакомы горлопанам Запада. Но и Крокетт, и Вашингтон были народными героями, и оба приобрели легендарную славу в первой половине XIX века.
427
Легендарный Вашингтон не менее, чем легендарный Крокетт, был продуктом анахронизма и попыток упростить американскую историю. Однако Крокетт и ему подобные поначалу были порождением стихийных сил. Они начали свое существование в большей степени как побочные продукты американской жизни, чем как творение американской литературы. Легенды о забавных суперменах, корнями уходящие в устные анекдоты, сохранили звучание и особенности голоса рассказчика, даже будучи скованными жесткой литературной формой.
Конечно, в легенде о Вашингтоне были также элементы произвольной выдумки, но в основном ее отличительной чертой была сдержанность. В легендах о Крокетте и Финке отражались отзвуки походных костров и пивных баров, их записывали и распространяли в грубо отпечатанных альманахах, развлекательных журналах и анонимных анекдотах. Полубогу Вашингтону было уготовано стать громоздкой фигурой литературной изобретательности. Контраст между сублитературой о Крокетте (непрочной, мимолетной, макулатурной, которую редко можно было бы удостоить названия «книги») и литературой о Вашингтоне (толстые, прекрасно изданные тома, обильно иллюстрированные картами и гравюрами, гордое индивидуальное творение видных государственных деятелей и знаменитых писателей) был таким же разительным, каким он был между легендарными качествами этих двух героев.
Хотя оба они были специфическим порождением Америки, только Вашингтон стал частью национального протокола. То, что это произошло, еще раз доказывает, насколько легенда о Вашингтоне отличалась от, казалось бы, схожих историй Старого Света. Там такие имена, как Ромул и Рем, Эней, Карл Великий, Боадиция, король Альфред, Людовик Святой, Святая Жанна и Сид, прославили начальные этапы формирования своих стран. Одни стали более легендарными фигурами, чем другие, но, когда современные нации Италии, Франции, Англии и Испании обрели свое самосознание, у национальных историков появилась задача придать этим расплывчатым образам определенную историческую реальность, сделать более достоверными, облекая их в историческую фактуру. Эти страны, обретавшие свою национальную сущность постепенно, в ходе веков, когда сформировалась нация, уже обладали легендарными героями-основателями. Поэтому их задачей было придать национальным героям исторический характер.
428
Иначе обстояли дела в Соединенных Штатах. В данной случае молодая нация возникла до того, как у нее появилось время обзавестись собственной историей. Когда началась Гражданская война, были живы люди, которые помнили смерть Вашингтона; он был еще бесспорно реальным историческим лицом. Национальная проблема состояла не в том, чтобы сделать из Вашингтона историческое лицо; совсем напротив: как превратить его в легенду? Краткость американской истории предъявляла особые требования, но американцы того времени доказали, что они в состоянии были справиться с ними.
Показателем успеха можно считать то, как много фактов из подлинной жизни Джорджа Вашингтона, особенно из его последних лет, было всеми забыто. Мало кто из американцев помнит, что Вашингтон имел не меньше врагов, чем другие, что всю свою жизнь он оставался противоречивой фигурой и что в период его президентства его обвиняли в недоброжелательстве к тем немногим, кто был его преемником. Мы не сможем по достоинству оценить общественные силы начала XIX века, создающие политические репутации, если не вспомним язвительность, яростные нападки, злобные слухи и бессовестную ложь, которые бушевали вокруг Вашингтона в период примерно десяти последних лет его жизни. Он уже стал архиварваром для всех, кто выступал против федералистов, включая Джефферсона и его последователей, но своего апогея непопулярность Вашингтона достигла в период договора Джея. Переговоры с Англией по разрешению проблем, оставшихся после окончания Революции или появившихся после нее, вел посланник Вашингтона Джон Джей. Когда в марте 1795 года были опубликованы условия договора, страну охватило негодование. Южане протестовали против обязательств выплаты дореволюционных долгов (в большей части сделанных виргинцами), жители Новой Англии выступали против ограничений судоходства Соединенных Штатов в Вест-Индии. Нападки на Вашингтона, которого считали ответственным за договор, были собраны внуком Франклина Бенджамином Бахом, который и опубликовал многие из них в своей «Авроре» в Филадельфии. Затем они были широко перепечатаны в таких газетах республиканской партии, как нью-йоркский «Аргус», бостонская «Кроникл», «Кентукки гералд» и «Каролина га-зетт».
«Американский народ, сэр, — предупреждала «Аврора», — будет ждать смерти человека, который обрел черты узурпатора». В декабре 1796 года она добавила, что «если когда-либо ка
429
кая-либо нация была развращена человеком, то это совершил Вашингтон с американской нацией». «Если возможны периоды ликования, это время наступает сегодня», — объявил Бах 6 марта 1797 года, когда Вашингтон покинул пост и его сменил Джон Адамс. «Все сердца должны биться в восторге в унисон от ощущения свободы и счастья, поскольку имя Вашингтона перестало с этого дня потворствовать политической несправедливости и легализации коррупции». Вашингтона обвиняли в самых разных преступлениях, включая присвоение общественного богатства. Когда тираж таких изданий сократился, Джефферсон лично обратился к республиканцам с призывом поддержать их путем подписки; он назвал их последним бастионом свободного слова и организаций представителей народа. Федералисты нацеливали свои печально известные законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года (многие из ведущих писателей-антифедералистов были беженцами из Европы) именно на эти издания. Затем сам Вашингтон, страдавший от злобных нападок, одобрил преследования, которые, по сомнительному свидетельству, он назвал необходимыми, для того чтобы не допустить «разъединения штатов».
Когда 14 декабря 1799 года Вашингтон умер, он был чем угодно, но только не фигурой без противоречий. Публично оспаривались не только его суждения, но и его честность. Его упрекали в сомнительном использовании законов, которые можно трактовать двояко, с целью наказать своих врагов и заставить замолчать их печать. Но после смерти ему было суждено обрести то монументальное величие, которого ему никогда не удавалось достичь при жизни.
Самым замечательным было не то, что Вашингтон стал в конечном итоге полубогом, отцом страны, а то, что это превращение произошло так быстро. Едва ли можно найти лучшее доказательство той отчаянной нужды, которую испытывали американцы в уважаемом и обожествленном национальном герое, чем их страстная торопливость в причислении Вашингтона к лику святых. В этом Новом Свете нет лучшего примера, подтверждающего особой силы желание поверить. Обожествление, которое в европейской истории потребовало бы веков, здесь было совершено за пару десятков лет. За период между смертью Вашингтона в последнем месяце последнего года XVIII века и началом Гражданской войны поклонение ему приобрело все необходимые культовые атрибуты. Множество людей приложили к этому свои усилия, но культ не смог бы развиться так быстро
430
или так эффективно без специфических американских потребностей и пустот.
Святая жизнь. Культовому характеру легенды о Вашингтоне вполне соответствовало то, что первым ее высоким служителем и одним из главных создателей был шарлатан — приятный и энергичный, но тем не менее шарлатан. И американскому характеру культа вполне соответствовал тот факт, что его священнослужитель оказался торговцем, даже суперторговцем, который старательно совмещал религию с коммерцией. Пресловутый Мейсон Локк Уимс, более известный под именем пастора Уимса, еще до смерти Вашингтона начал собирать о нем биографические материалы. Сам Уимс родился в Мэриленде в 1759 году, младший из девятнадцати детей, он изучал медицину в Англии во время Революции. В 1784 году он стал одним из первых американцев, которого в послевоенное время кентерберийский архиепископ посвятил в духовный сан англиканского священника в Соединенных Штатах. После короткой и беспорядочной церковной карьеры он занялся книжной торговлей, к чему имел и склонность, и большой талант. Хотя примерно с 1793 года у него не было своего прихода, он продолжал с жаром осуществлять свое духовное предназначение путем печатания, создания и особенно продажи назидательных книг. В течение последних тридцати лет жизни (1795 — 1825) Уимс путешествовал по стране между Нью-Йорком и Джорджией как странствующий торговец печатными изданиями во спасение души. Кроме продажи собственных книг, он также работал на Мэтью Кэри и К.П. Уэйна из Филадельфии. Путешествуя в фургоне, наполненном товаром, он был готов в зависимости от обстоятельств прочитать проповедь, или произнести политическую речь, или сыграть на скрипке. После того, как собиралась толпа и создавалась дружелюбная обстановка, он начинал продажу книг из фургона — патентованных средств от всех болезней духа. «Что-то от Уайтфилда, что-то от Вийона» — так охарактеризовал его Алберт Беверидж, — удивительное сочетание евангелиста и бродяги, лектора и политика, писателя и музыканта».
Разъезжая по сельской местности, он превратился в изучающее рынок учреждение, насчитывающее единственного сотрудника. Никогда еще рождению культа не предшествовала такая предварительная проверка, и сам национальный герой не избирался столь скрупулезно с учетом потребностей публики. Еще в 1797 году Уимс обратил внимание Кэри на богатый нетронутый рынок. «Опыт научил меня, что маленькие, то есть
431
по четверти доллара, книги на темы, рассчитанные возбудить любопытство толпы, отпечатанные в очень большом количестве и соответственно распространенные, приносят расчетливым и энергичным предпринимателям огромный доход. Если вы сможете запечатлеть жизнь генералов Уэйна, Патнема, Грина и других людей, чьи храбрость и способности, патриотизм и подвиги завоевали любовь и восхищение американского народа, в маленьких книжках с очень завлекательными обложками, вы, без сомнения, продадите их огромное количество. Люди здесь, не задумываясь, отдадут четверть доллара за все, что тешит их воображение. Так давайте дадим им то, что стоит этих денег». Уимс сам занялся этим делом, и 24 июня 1799 года он написал Кэри из своего дома в Дамфризе, штат Виргиния, где у него была семья из десяти детей:
У меня почти готов к печати материал, который назван или может быть назван «Достоинства Вашингтона». Он художественно оформлен, сдобрен анекдотами и, по моему скромному мнению, блестяще соответствует выражению «ad captandum —gustum populi American^ Ш1 Если бы Вам это напечатать для меня и заказать на обложку изображение Героя. Что-нибудь в таком духе: Джордж Вашингтон, эсквайр. Ангел-хранитель своей страны. «Иди своим путем, старина Джордж. Ты умрешь, когда придет время, и мы не сможем тебя снова увидеть». М Кэри и
NB! Все должно поместиться на четырех листах, и мы продадим это, как льняное семя, по четверти доллара. Этим я могу заработать для Вас кучу пенсов, а также известность.
В октябре он снова написал Кэри, что у него теперь «наготове здорово сколоченный кусок, который будет продаваться к полному восторгу публики:
Подлинный патриот, или
Достоинства Вашингтона.
Содержит биографическое и пикантное, Любопытное и восхитительное».
Когда смерть Вашингтона породила огромный спрос, Уимс был уже наготове со своим товаром.
Меньше чем через месяц после смерти Вашингтона Уимс писал Кэри, искрясь от восторга:
1 Из желания угодить вкусу американского народа (лат.). —Прим, перев.
432
У меня есть кое-что шепнуть Вам на ухо. Вы знаете, Вашингтон скончался! Миллионы рвутся что-нибудь прочитать о нем. Я уже почти составил и состряпал это для них. Шесть месяцев тому назад я начал собирать истории о нем. Вы знаете, что я живу преимущественно для этой работы. Мой план! Я рассказываю его историю, достаточно подробную—я пойду за ним с самого начала, через французскую, индейскую, британскую или революционную войны к президентскому креслу, к трону в сердцах 5 000 000 человек. Потом я покажу, что его беспримерный рост и восхождение были результатом его Великих Достоинств. 1. Его почитание Господа, или религиозные принципы. 2. Его патриотизм. 3. Его великодушие. 4. Его энергия. 5. Его темперамент и рассудительность. 6. Его справедливость и т.д. и т.д. Так я добьюсь, чтобы его Великие Достоинства (как просит губернатор Маккин) стали образцом для подражания нашей молодежи. Все это я составил и сдобрил «Рассказами об интересном и развлекательном». Я прочитал это нескольким джентльменам, коих почитаю арбитрами, пресвитерианским священникам, классическим ученым и т.д. и т.д. и они это высоко оценили. Весь текст разместится на трех печатных листах. Мы могли бы быстро продать по 25 или 37 центов то, что стоить не будет и десяти. Я прочитал отрывок одной из моих прихожанок, высокопоставленной даме, и она хочет, чтобы я это напечатал, обещает взять по экземпляру для каждого из ее детей (а их у нее чертова дюжина). Я думаю, Вы отлично с этим справитесь: ведь это впервые. Я могу послать половину всего немедленно.
Кэри был слишком медлителен для Уимса, который через три недели нашел другие пути. Четыре издания этого восьмидесятистраничного буклета, выпущенные самим Уимсом, появились в 1800 году, но Уимс продолжал упрашивать Кэри «сделать это дело выгодным и прибыльным — каждый будет читать о Вашингтоне... Я знаю, вы хотите делать добро... Мы можем проповедовать, используя пример и добродетели Вашингтона. Адамс и Джефферсон оба одобряют эту маленькую вещь. Я весь в ожидании хороших новостей для Вас. Вы знаете, что я имею в виду — деньги». Этот удачный брак филантропии и алчности произвел на свет «Жизнь Вашингтона» Уимса, предназначенную стать, возможно, самой читаемой, самой влиятельной книгой, когда-либо написанной об американской истории.
Вскоре после смерти Вашингтона его племянник Башрод Вашингтон убедил Верховного судью Джона Маршалла отважиться на создание официальной биографии Вашингтона. Этому предприятию также было суждено оказать формирующее влияние на американское мышление об американской истории, но не своим успехом, а своим шумным провалом. Издатель К.П. Уэйн из Филадельфии нанял Уимса для продажи подписки на фундаментальные пять томов Маршалла по три доллара за том. Ког
433
да первая партия труда Маршалла в 1804 году наконец попала к подписчикам, книга быстро стала примером грандиозной издательской катастрофы того времени. Весь первый том, озаглавленный «Введение*, содержал педантичный отчет о колониальной истории, начиная с Колумба; в конце книги имелись два эпизодических упоминания о Вашингтоне. Скучная, тяжелая, перескакивающая с одного на другое и наполненная информацией из вторых рук, работа неуклюже перелилась во второй, в третий, четвертый и пятый тома. По словам Джона Адамса, биография Маршалла была не книгой, а, скорее, «мавзолеем с основанием в 100 квадратных футов и высотой в 200 футов».
Видя общественный голод на увлекательное повествование о национальном герое, Уимс был полон недовольства и разочарования. Он постоянно умолял Кэри отделаться от Маршалла и дать что-нибудь более пригодное для продажи. Еще до того, как провал с Маршаллом вскрылся полностью, Уимс снова серьезно взялся за дело сам. На опыте ошибок Маршалла он в 1806 году пересмотрел свой маленький буклет, чтобы дополнить его всем тем, чего не хватало работе Маршалла. Не выходя за рамки восьмидесяти страниц, издание стало более стройным, содержало больше фактов (там, где надо, выдуманных) и новые привлекательные истории. После того как в 1807 году появился последний том Маршалла и Уимс избавился от груза этого неприбыльного дела, он обратил всю свою свободную энергию на расширение собственного труда до книги в двести страниц (6-е изд., 1808). На титульном листе Уимс назвал себя «бывшим пастором Маунт-Вернонского прихода», что прибавило книге достоверности в глазах читателей, которые не знали, существовал ли такой приход вообще. С 1808 года4 в издании были сделаны только небольшие изменения и добавления.
В этом виде работа Уимса «Жизнь Джорджа Вашингтона: интересные истории, с почтением к нему и назиданием его молодым согражданам» выдержала еще двадцать изданий до смерти автора в 1825 году. В течение десяти лет с первого издания эта работа была продана, вероятно, в количестве более 50 000 экземпляров (работа Маршалла — около 5000!), став бестселлером своего времени. Но Уимсу, который совершил ошибку, продав право на издание этой книгй Кэри в 1808 году только за тысячу долларов, не удалось убедить его дополнить книгу или выпустить «изящное издание» за три или четыре доллара. «В останках старого Джорджа, — писал Уимс в пись
434
ме Кэри в январе 1809 года на тему, к которой он возвращался снова и снова, — можно найти много денег, для этого надо просто самому заняться их добыванием».
Хотя Уимс ставил своей целью создать книгу в основном для «восхищенных глаз наших детей», ее следует оценивать не как юношескую или документальную литературу, а, скорее, как пример рекламного издания. Все устремляли свой энтузиазм и оптимизм по части рекламы в будущее; он обратил свой в прошлое. В то время как остальные работали на ту или другую часть страны, он был одним из первых ее энтузиастов в национальном масштабе. Как и другие, Уимс собрал факты, почти или совсем не имевшие под собой реальной почвы, но мы не должны забывать, что в заразительной неопределенности американской жизни почти невозможно было очертить границы, которые в других местах казались четкими, — между действительным и желаемым, между историей и пророчеством. Вот как начинал Уимс главу о рождении и воспитании своего героя:
До настоящего времени многие добрые христиане с трудом заставляют себя поверить, что Вашингтон был bona fide 1 виргинцем! «Да! Хлопчатником!» — говорят они с улыбкой. «Джордж Вашингтон—хлопчатник! Ну и ну! Невозможно! Он, конечно, был европейцем: такой великий человек никогда не мог бы родиться в Америке».
Такой великий человек никогда не мог бы родиться в Америке! Наоборот, в том-то и суть, что он должен был родиться здесь! Природа, как мы знаем, полна гармонии: и paria paribus, то есть великое великому, — это ее правило, по которому она с восторгом действует. Где, скажите мне, можно увидеть кита «самого большого в природе»? Я полагаю, не в запруде, а в огромном океане; «туда идут большие корабли», и там среди бурлящей пены находим мы фонтаны китов.
По этому же правилу, где нам искать Вашингтона, величайшего среди людей, как не в Америке? Величайший материк, который возникает у подножия замерзшего полюса, он тянется к югу, распространяясь почти «на всю территорию этой безбрежной земли», и выдерживает на своих обширных берегах ревущие удары половины вод всей земли. И под стать берегам просторы этого безбрежного материка, где Всемогущий воздвигнул покрытые облаками горы, и разбросал озера, подобные морям, и разлил мощные реки, и низвергнул громовые водопады, столь высокие, в такой мере превосходящие подобные на других материках, что мы можем справедливо заключить, что великие люди и великие дела предназначены для Америки.
1 Здесь: настоящим (лат.). —Прим, перев.
435
Это суждение — следствие честных сравнений; и, соответственно, Америку мы видим почетной колыбелью Вашингтона, который родился у Поупс-Крика, округ Вестморленд, штат Виргиния, 22 февраля 1732 года.
Как начинается повествование, так оно и заканчивается. Три последние главы, посвященные характеру Вашингтона, описывают его религиозность, добросердечие, энергию и патриотизм — все как естественный отклик самого великого из всех людей на величайший из всех вызовов миру — Америку.
Отец Джорджа, сообщает нам Уимс, использовал каждый шанс, чтобы взрастить добродетель в сыне. Когда мальчику было только пять лет, отец и двоюродный брат взяли его осенью погулять в яблоневом саду. «Ну, Джордж, — сказал ему отец, — взгляни сюда, сын мой! Помнишь, когда твой брат этой весной принес тебе чудесное большое яблоко, как трудно мне было убедить тебя разделить его между твоими братьями и сестрами; хотя я пообещал тебе, что если ты это сделаешь, то Всевышний даст тебе осенью много яблок». Бедный Джордж не мог сказать ни слова; опустив голову и страшно смущенный, он босыми пальцами ноги ковырял мягкую почву... Джордж молча смотрел на уйму фруктов; он видел жужжащих деловых пчел и слышал веселые голоса птиц, затем поднял свои наполнившиеся слезами глаза на отца и тихо сказал: «Да, па, прости меня в этот раз; увидишь, я больше никогда не буду таким скаредным».
И конечно, сюда вошла знаменитая история о вишневом дереве.
«Я не могу врать, па: ты знаешь, я не могу врать. Это я его срубил моим топориком». «Приди в мои объятия, мой дорогой мальчик, —зарыдал в восторге отец, — приди в мои объятия; как я рад, Джордж, что ты сгубил дерево; ты тысячу раз заплатил мне за него. Такой акт геройства в моем сыне дороже тысячи деревьев, даже цветущих серебром и приносящих плоды из чистого золота».
А рассказ о том, как плакали школьные товарищи Джорджа, когда он уехал. Как Джордж ненавидел драки, но демонстрировал незаурядную силу. Как после поражения Брэддока «знаменитый индейский воин» поклялся, что «Вашингтон был рожден, чтобы не быть убитым пулей! Я семнадцать раз стрелял из ружья прямо в него и все-таки не смог свалить его на землю». Как во время беременности мать Джорджа увидела сон, который предсказал ей величие сына и историю Революции.
436
Значительный пробел в наших документальных сведениях о Вашингтоне, особенно о его ранних годах, Уимс заполнял заимствованным, украденным либо выдуманным материалом, описывая события, которые в силу их специфики отрицать было совершенно невозможно. Кто мог бы с уверенностью утверждать, что история с вишневым деревом на самом деле не произошла в уединенном владении старшего Вашингтона? Или что Мэри Вашингтон не видела те или иные сны? Вероятно, как предполагает Маркус Канлифф, эти сомнительные истории выжили именно потому, что они отражали, хотя грубо и неточно, некоторую долю общей правды о герое. Конечно, рассказанное Уимсом, было именно тем, во что хотели верить многие люди. И с помощью своих историй Уимс продавал книгу, а с помощью своей книги он продавал другой товар — героя. Было это обманом или нет? Кто может сказать?
Уимс был лишь одним из многих служителей культа Вашингтона. При жизни Вашингтона хотя и попадались короткие биографические заметки в журналах или в описательных работах типа книги Джедидиа Морза «Американская география» (1789), но не было большого труда о нем. Вскоре после доработанного издания брошюры Уимса 1806 года появилось несколько других более или менее пригодных для чтения биографий, но большинство из них было серьезными работами, не предназначенными для молодежной аудитории или необразованной публики. В течение нескольких лет Уимс буквально монополизировал книжный рынок. Затем в 1829 году появилась биография, .написанная Анной Рид и предназначенная для воскресных школ (новый процветавший американский институт), а в сотую годовщину со дня рождения Вашингтона, в 1832 году, Сэмюел Гудрич, чья литературная фабрика произвела более сотни детских книг под псевдонимом Питер Парли, выпустил биографию для молодежи, имевшую большой успех. Жизнь героя прославляли и во многих других литературных формах — длинных поэмах, пьесах и даже в «Жизни Джорджа Вашингтона, изложенной по-латыни» (1835) одного школьного учителя из Огайо.
Тем временем история жизни Вашингтона была пересказана в толстых томах учеными и писателями. Вероятно, не найти лучшего доказательства того почтительного трепета, который вызывало имя Вашингтона, чем то, что в сотую годовщину со дня рождения Вашингтона, в 1832 году появилось переработанное издание «Жизни» Маршалла, которое было лишь слегка сокращено. За ним последовало однотомное издание для школьников
437
(1838). Появились труды, которые были скорее фундаментальными, чем пригодными для чтения. Среди этих претенциозных работ наиболее доступной была двухтомная биография (1835), созданная писателем Джеймсом Кирком Полдингом. Затем вышло благочестивое и тяжеловесное жизнеописание Джейреда Спаркса, представленное в качестве первого тома (1837) собрания сочинений Вашингтона. Лучшей работой из всех были пять томов Вашингтона Ирвинга, но и этот труд был поражен заразой скуки. Судя по комплектам томов Ирвинга, которые дожили до XX века с неразрезанными страницами, их также больше покупали, чем читали. Но посмертная жизнь Вашингтона только начиналась.
Священные писания. Важно отметить, что культ Вашингтона процветал задолго до того, как появились какие-либо издания собрания сочинений самого героя. Ни исследователь, ни тем более простой гражданин не могли прочитать подлинные высказывания Вашингтона. Чем больше обожали Вашингтона, тем больше появлялось — и во многих отношениях они становились все менее интересными — его собственных сочинений.
В этой атмосфере культа, спустя треть века после его смерти появилось первое издание сочинений Вашингтона. Джейред Спаркс (1789 — 1866) начал думать о собрании сочинений героя еще в юном возрасте. Спаркс был уроженцем Новой Англии, из весьма скромной семьи, который, пробив себе дорогу в Гарвардский колледж, утвердился среди бостонской элиты благодаря своей общительности. Он изучал богословие и затем несколько лет занимал место священника унитариан-ской церкви в Балтиморе. Вернувшись в Бостон, он взял в свои руки «Норт Америкэн ревью» и превратил его в один из ведущих национальных критических журналов. Он обладал многими талантами, понимал вкусы и книжные интересы интеллектуальных кругов. Издание сочинений Вашингтона создало Спарксу репутацию в масштабах всей страны, что привело к назначению его в 1838 году профессором древней и современной истории в Гарварде — первым профессором истории (кроме истории религии) в университете Соединенных Штатов — и затем президентом Гарвардского университета (1849 — 1853).
Получить разрешение семьи Вашингтона на опубликование сочинений их предка было делом нелегким. Литературным душеприказчиком и наследником Маунт-Вернона был племянник Вашингтона, неподатливый и лишенный воображения Башрод Вашингтон (член Верховного суда в 1798 — 1829 годах), кото
438
рый, отказав Спарксу 13 марта 1826 года, объяснил, что он и Маршалл планируют издать три тома избранных писем периода Революции, за которыми последует подборка писем предреволюционного периода. Спустя шесть месяцев не потерявший надежды Спаркс снова попытался убедить Башрода Вашингтона разрешить ему допуск к бумагам, добавив, что он все равно продолжит это дело и будет собирать копии бумаг везде, где сможет их найти, и что, поскольку бумаги все равно дойдут до читателя, возможно, будет лучше, если Башрод проконтролирует этот процесс. Спаркс разрешил бы ему исключить из публикаций все, что тот сочтет нужным. «Если все работы Вашингтона будут представлены публике в достойном его виде, национальный интерес и национальные чувства всколыхнуться, и можно ожидать поддержки со стороны многих уважаемых людей». Спаркс добавил и более существенный аргумент: он предложил Башроду Вашингтону половину прибылей от издания. В январе 1827 года (по настоянию Джона Маршалла, которого подталкивал на это Спаркс) Башрод Вашингтон принял предложение. По окончательным условиям половина прибыли шла Спарксу, а другая половина делилась поровну между Башродом Вашингтоном и Джоном Маршаллом.
В течение нескольких следующих лет Спаркс собирал рукописи, делал копии с официальных документов, затратив много сил на сбор материалов, что было беспрецедентным в американской исторической науке. Он вскоре решил, что количество томов должно быть определено, исходя из «возможного спроса на рынке, а также самого характера работы». Двенадцатитомное издание Спаркса (1834 — 1837) включало одиннадцать томов избранных сочинений и биографию Вашингтона, написанную Спарксом (1837). Несмотря на большие издательские расходы (15 тысяч 357 долларов 37 центов), общий доход был весьма значительным. В 1837 году, когда Спаркс послал первую долю прибылей наследникам Башрода Вашингтона и Джона Маршалла, общая сумма, которую предстояло поделить, составила 15 тысяч 384 доллара 63 цента. В течение двадцати лет Спаркс посылал дополнительные доли прибыли семьям Вашингтона и Маршалла.
Биография и сочинения Джорджа Вашингтона, изданные Спарксом, были встречены шумными и единодушными аплодисментами. Члены семьи Вашингтона нашли их безукоризненными и послали Спарксу трость, вырезанную из кедра, росшего над могилой Вашингтона. Статья Эдварда Эверетта в шестьдесят
439
три страницы, опубликованная в «Норт Америкэн ревью», была полна превосходных степеней: «В этой работе невозможно найти ни единого следа неучтивости». Джордж Бэнкрофт, только начинавший свою карьеру, нашел работу «выше всяческих похвал благодаря спокойному тону, точности и настойчивому интересу к подлинности».
«Вы счастливый человек, — писал Бэнкрофт Спарксу еще в 1827 году, — которого избрало благосклонное Провидение в качестве старательного лоцмана, ведущего добротный корабль в гавань бессмертия, чтобы вписать свое имя в этом качестве в историю». Спаркс был скорее проповедником, чем историком, приверженцем добра, чем открывателем истины. Таким образом, основатель исторической науки в Соединенных Штатах был преданным служителем культа Вашингтона. Снова и снова шел Спаркс по пути напряженных исторических исследований. До издания им дипломатической переписки периода Революции (12 томов, 1829 — 1830), сочинений Вашингтона и сочинений Франклина (10 томов, 1836 — 1840) в Америке не было серьезных печатных источников об этой решающей эпохе американской истории. Но, как заметил Сэмюел Элиот Морисон, для изучения современной истории в американских университетах это был «фальшивый рассвет». Первый профессор в своей области, Спаркс не оставил учеников, и только почти полвека спустя занятия американской историей превратились в серьезную профессию. Одна из причин этого крылась в том, как Спаркс и его современники представляли себе эту науку. Недостаток Спаркса состоял не в том, что современная американская историческая наука была зачата в грехе, но в том, что она была, скорее, зачата в добродетели.
Спаркс следовал стилю своего времени. Биография Вашингтона, открывавшая его сочинения, была благочестивой, бесцветной и полной благоговения. Герой обладал внушительной фигурой, правильными чертами лица, неукротимым мужеством, честным характером и безупречными суждениями; «его моральные качества были в полной гармонии с качествами его ума». Приложение Спаркса «Религиозные воззрения и привычки» было искусной лакировкой, в которой даже отсутствие Вашингтона на причастии становилось доводом в пользу его религиозности. «Он, видимо, считал неуместным публично принимать участие в обряде, поскольку разделяемые им идеи накладывали строгие ограничения на поведение человека и священное обязательство исполнять обряд, что ему в его положении казалось невозможным. Подобные рассуждения были
440
естественными для серьезного ума... человека деликатного и набожного». Спаркс отмечал, что в сочинениях Вашингтона не было ни единого абзаца, свидетельствующего о его сомнениях в христианском учении. Для человека, который вел себя подобным образом, какое еще нужно убедительное доказательство того, что он был истинным и терпимым христианином?
Сочинения Вашингтона редактировались в подобном же духе. Отбирая материалы только для одиннадцати томов из наследия, которое составляло объем, в четыре раза больший, Спаркс имел все возможности облагородить их автора. Хотя Спаркс ничего сам не дописывал, он произвольно опускал целые отрывки, не предупреждая читателя, и исправлял стиль, когда последний казался ему недостойным героя. Он объяснил все это в предисловии: «Было бы непростительной несправедливостью по отношению к любому автору издать после его смерти его сочинения, и в частности письма, написанные без намерения их публиковать, не подвергнув их предварительно внимательному просмотру и исправлениям». Когда позднее его издательские методы были подвергнуты сомнению, Спаркс доказывал с очаровательной наивностью, что он был по-настоящему верен своему герою, поскольку сам Вашингтон в старости правил свои ранние письма. Там, где представлялась такая возможность, Спаркс предпочитал поздние, исправленные самим Вашингтоном издания (опять же не предупреждая читателя) вместо тех, что были написаны непосредственно в разгар событий. Кроме того, Спаркс сам вносил изменения. Там, например, где Вашингтон писал о «шайках мошенников» — каперов из Новой Англии, Спаркс исправлял текст, оставляя просто «шайки». Ссылка Вашингтона на «грязный наемный дух» коннектикутских воинских частей превращалась в «наемный дух», а их «скандальное поведение» смягчалось до просто «поведения». «Старина Пат» становился более дост'ойным «генералом Патнемом». Когда Вашингтон с презрением упоминал маленькую сумму денег, «равную в то время блошиному укусу», Спаркс выправлял это на сумму, «абсолютно не соответствующую нашим потребностям в то время». Снова, и снова менял Спаркс слова, чтобы сделать их достойными своего героя.
Прошло почти пятнадцать лет, прежде чем кто-то всерьез возразил против ненавязчивых приукрашиваний Вашингтона Спарксом. В 1833 году, когда Спаркс послал судье Джозефу Стори сигнальный экземпляр одного из томов, тот в частном порядке высказал свое восторженное одобрение: Спаркс сделал «абсолютно точно то, чего хотел бы Вашингтон, будь он жив».
441
Но Стори высказал опасение, что в будущем какой-нибудь «циничный критик» может придраться к этим улучшениям. Только в 1851 году впервые раздался слабый писк подобного «циничного критика», когда нью-йоркская «Пост» опубликовала две заметки неизвестного автора, сравнившего вариант Спаркса с недавно опубликованным другим вариантом некоторых писем Вашингтона Джозефу Риду, своему военному секретарю во время Революции.
Первый залп в серьезной (хотя в конечном счете неудачной) атаке на издательскую добросовестность Спаркса был произведен англичанином, который был знатным лордом и серьезным ученым. Негодование, вызванное этими нападками, и прочная поддержка американской научной общественностью способа, которым Спаркс возвеличивал американского героя, продемонстрировали культовую неприкосновенность наследия Вашингтона. Известный английский литератор, лорд Мейхон (позднее граф Стэнхоуп), активно работавший в комиссии по историческим рукописям, в декабре 1851 опубликовал шестой том своего семитомного труда «История Англии от Утрехтского до Версальского мира». «Господин Спаркс, — отмечал он в приложении, — опубликовал переписку не в том виде, в каком ее вел Вашингтон; он ее значительно изменил — и, как он думает, исправил и улучшил». Он обвинил Спаркса в «легкомысленном отношении к исторической правде». Это суждение, помещенное в таком месте, едва могло бы быть замечено, если бы оно не касалось столь священной фигуры. Немедленным ответом на него стала восьмидесятистраничная контратака в виде рецензии на работу Мейхона, предпринятая Джоном Горемом Полфри, известным унитарианским священником и историком, который сменил Спаркса на посту редактора «Норт Америкэн ревью». В этой войне памфлетов, которая длилась почти три года, Спаркс (в ту пору президент Гарвардского университета) защищал себя и своего героя; боевые действия закончились личным примирением между лордом Мейхоном и Спарксом.
Важное значение этой дискуссии состояло в том, что она обнаружила ордотоксальность американских ученых, которые соперничали друг с другом в проявлении культового благоговения. Среди сторонников Спаркса были Фрэнсис Парк-мен, Уильям Прескотт, сенатор Чарлз Самнер (который называл Спаркса «победителем»), Джеймс Макки (библиотекарь государственного департамента и официальный хранитель бумаг Вашингтона, принадлежащих теперь правительству) и особенно
442
знаменитый профессор Эндрюс Нортон, получивший известность как первопроходец в использовании нового «критического» метода в установлении истинности Нового завета. Лучшим свидетельством всеобщей удовлетворенности редакторским методом Спаркса было то, что в течение полувека после появления издания Спаркса не выходило ни одного другого издания сочинений Вашингтона.
Священные останки. Борьба за владение и соответствующее место захоронения останков героя если и не равнялась борьбе за святой Грааль, то была пропитана тем же духом культового поклонения.
После смерти Вашингтона конгресс единодушно принял совместную резолюцию, в которой указывалось, «что в Капитолии города Вашингтон Соединенными Штатами будет сооружен памятник из мрамора, и что у семьи генерала Вашингтона будет испрошено разрешение захоронить под памятником его тело, и что памятник будет сооружен таким образом, чтобы отметить его великие деяния в военной и политической жизни». Госпожа Вашингтон одобрила этот план, и через год, в декабре 1800 года, палата приняла билль, выделявший 200 тысяч долларов на строительство для захоронения останков Вашингтона мраморного мавзолея, пирамидального по форме, с основанием в сто квадратных футов. В то время здание Капитолия состояло только из одного крыла; нынешняя ротонда и склеп под ней не были еще сооружены. Существовало, видимо, мнение включить каким-то образом могилу Вашингтона в сам комплекс Капитолия. Но некоторые представители Юга выступили против этого проекта, считая, что священные останки принадлежат тому месту, где они уже находятся, то есть Маунт-Вернону. Отчасти из-за этого расхождения во взглядах ничего сделано не было. Новый комитет палаты рекомендовал в 1830 году, чтобы «останки Джорджа Вашингтона и Марты Вашингтон были погребены в одной национальной гробнице, а прямо над их могилой на первом этаже Капитолия должен быть поставлен мраморный памятник в виде саркофага хороших пропорций... Прямо над ним, в центре ротонды, должна возвышаться мраморная конная статуя Вашингтона в полный рост, изваянная лучшим скульптором нашего времени... Эти памятники, на первый взгляд скромные и недорогие, будут лучше соответствовать чувствам нашего народа, своим непритязательным видом отмечая чистый и возвышенный характер нашего Вашингтона, чем самый дорогой или роскошный монумент или мавзолей». Тем временем, когда в
443
1832 году приближалось столетие со дня рождения Вашингтона, сепаратистские устремления (особенно острые в Южной Каролине) достигли своего пика.
После того как англичане, которые в 1814 году заняли город, сожгли внутренние помещения Капитолия, Чарлз Бул-финч вновь отстроил его центральную часть (1818 — 1829) вместе со склепом, предназначенным принять останки Вашингтона. План объединенного комитета конгресса по празднованию столетия со дня рождения Вашингтона в качестве главного мероприятия намечал перенос праха Вашингтона из Маунт-Вернона в капитолийский склеп. В ходе острых дебатов в конгрессе в январе и феврале 1832 года южане, не желавшие расставаться с национальной реликвией, придумывали разные доводы против переноса праха. Представитель Мэна утверждал, что все дебаты сводились к спору между штатом Виргиния и великими Соединенными Штатами. Генри Клей из Кентукки требовал переноса тела, ибо «сам акт продемонстрирует отличие Вашингтона от любого человека, который жил на земле, начиная с Адама».
Представители Юга, предвидя Гражданскую войну и их отделение от Союза, считали это для себя оскорбительным. «Удалить останки нашего высокочтимого Вашингтона, — предупреждал Уайли Томпсон из Джорджии, — от останков его супруги и его предков из Маунт-Вернона и из его родного штата и поместить их в этом Капитолии, но если вдруг произойдет разрыв Союза, останки Вашингтона окажутся в земле, чуждой его родной почве». Некоторые выступали против на том основании, что при движении населения на запад Капитолий будет, без сомнения, также перенесен. «И что же, останки нашего Вашингтона будут оставлены в руинах этого Капитолия, окруженные опустошенным городом?» «Если нашему населению суждено достичь Западного океана, — отвечал Джоэл Сатерленд из Пенсильвании, — и резиденция правительства будет перенесена, то, взяв с собой отсюда эмблемы власти, мы возьмем с собой святые мощи Вашингтона». Другие утверждали, что само присутствие останков Вашингтона будет в какой-то мере успокаивать и освящать дискуссии в конгрессе. «Ни один правительственный акт, — заявлял Джонатан Хант из Вермонта, — не в состоянии оказывать столь глубокое и постоянное моральное воздействие на объединение народа и скрепление Союза нашей конфедерации, как похороны Вашингтона в Капитолии».
444
Дебаты внезапно оборвались 16 февраля, когда менее чем за неделю до предложенной церемонии Джон Огастин Вашингтон, проживавший тогда в Маунт-Верноне, напрочь отказался разрешить перенос тела героя. После таинственной попытки похитить останки Вашингтона из могилы в Маунт-Верноне в 1830-е годы там была сооружена новая могила; ее заперли, а ключ бросили в реку Потомак.
Ежегодные обряды и ораторское богослужение. В середине XX века единственный день рождения (кроме 25 декабря), который отмечается как государственный праздник каждым штатом Союза, — это 22 февраля, день рождения Вашингтона. В начале XIX века, когда у молодой страны еще почти не было своей истории, патриотические церемонии устраивались дважды в году: в день рождения Вашингтона и 4 июля — в день рождения самой республики. В обоих случаях главным событием и привычным ритуалом становились речи. Полные повторов, вычурные, помпезные, напыщенные и бесконечные речи следовали образцу, который стал настолько привычным, что, казалось, был утвержден церковной властью. Достаточно привести один пример подобных выступлений. Дэниел Уэбстер заявил 22 февраля 1832 года, когда праздновали столетие со дня рождения Вашингтона:
Вашингтон стоит у истоков новой эпохи, так же как и у истоков Нового Света. Сто лет, прошедшие со дня рождения Вашингтона, изменили мир. Страна Вашингтона стала сценой для свершения основных перемен, а сам Вашингтон был главным действующим лицом в этих событиях. Его время и его страна полны чудес, и он является вождем всего этого.
Ораторы говорили, что непродолжительность американской истории была более чем компенсирована величием Вашингтона. Джон Тайлер (позднее ставший президентом) заявил в Йорктауне в 1837 году, что Вашингтон был более значительным героем, чем Леонид или Моисей, поскольку один из них в отличие от Вашингтона погиб вместе со своими людьми, а другой так и не достиг Земли Обетованной. Джон Куинси Адамс нашел, что в Вашингтоне в большей степени, чем в Энее или царе Давиде, слились «дух власти и дух смирения». «Одинаково невозможно, — говорил Авраам Линкольн в Спрингфилде 22 февраля 1842 года, — добавить яркости солнцу или славы имени Вашингтона. И пусть никто не пробует Делать это. В торжественном благоговении произносим мы это имя, оставляя его сиять слепящим светом бессмертия».
445
Самой популярной и чаще всего повторяемой была речь Эдварда Эверетта, которую он произнес на собрании ассоциации Маунт-Вернона, чтобы собрать средства для покупки резиденции Вашингтона как общественной святыни. С 1856 по 1860 год Эверетт путешествовал по стране и, произнеся 129 раз одну и ту же двухчасовую речь, собрал около 90 тысяч долларов. Его речь «Личность Вашингтона» немедленно стала классикой американской литургии. Охарактеризовав молодого Вашингтона — «двадцати четырех лет от роду, образец мужской силы и красоты, безупречно демонстрирующий все лучшие качества и достоинства джентльмена и воина, но разумный и рассудительный не по годам, он вызывал в начале своей карьеры такую любовь и доверие, которые обычно приобретаются только в результате всей служебной деятельности»,—Эверетт прослеживает полностью его героический путь. В век «первых в истории нашего народа великих имен, великих событий, великих реформ и общего прогресса интеллекта» Вашингтон был самым великим. Звезда Вашингтона сияла над помпезными тираниями Петра Великого в России, Фридриха Великого в Пруссии и Наполеона Великого во Франции.
Выдающаяся и почитаемая личность наподобие Вашингтона, пользующаяся уважением всего населения, как бы ни было оно разобщено по другим вопросам, не просто уникальное историческое явление, на которое необходимо взирать с восхищением, — это особая милость Провидения. Как хорошо выразился господин Джефферсон в 1792 году, когда писал Вашингтону, чтобы убедить его не отказываться от повторного выдвижения: «Пока Север и Юг могут на Вас положиться, они будут держаться вместе». Вашингтон во плоти ушел от нас; мы никогда не сможем увидеть его, как видели наши отцы; но память о нем остается, и я скажу, что мы должны держаться его памяти. Давайте в день его рождения сотворим национальный праздник; и каждый раз с наступлением 22 февраля будем вспоминать, что, когда этой торжественной и радостной церемонией мы празднуем великую годовщину, наши сограждане на реке Гудзон, на Потомаке, от южных просторов до западных озер также вовлечены в этот процесс выражения благодарности и любви. Все мы — и те, кто в одиночку на берегах Огайо, на берегах Миссисипи, и те, кто следует за иммигрантами с Востока на Запад и, осваивая штаты по мере продвижения на Запад, уже прокладывает путь через западные прерии, хлынув через порталы Скалистых гор и по их склонам, — все мы с именем и памятью о Вашингтоне пройдем в эту благодатную ночь за серебряной королевой небес по шестидесятому градусу долготы и не расстанемся с ней, пока она не минует во всем своем сиянии золотые ворота Калифорнии и не проследует тихо далее, чтобы творить полуночный суд со своими австралийскими звездами. Там, и только там, на варварских архипелагах, еще не
446
тронутых цивилизацией, имя Вашингтона неизвестно; но и там тоже, когда произойдет объединение с просвещенными миллионами, вместе с нами будут оказаны новые почести его памяти.
По мере обострения местных антагонизмов память о Вашингтоне использовалась то одной, то другой стороной. Для Кэлхуна он стал святым покровителем независимости, для Уэбстера и Линкольна—святым покровителем Союза.
Вашингтон стал и спасителем, и отцом своей страны. «С первых лет существования мира, — заметил в конгрессе Бенджамин Говард от Мэриленда 13 февраля 1832 года, — летописи всех времен отметили только два случая, когда дни рождения отмечались после смерти человека: это 22 февраля и 25 декабря». «Мы в громадном долгу перед Мэри, матерью Вашингтона, чей памятник во Фредериксбурге позорно незавершен, — заявил преподобный Дж. Данфорт в Виргинии 4 июля 1847 года, — человечество в долгу перед ее бессмертным сыном».
Икона. Ничто так не демонстрирует культ и святость образа Вашингтона, как его традиционные изображения. Редко историческое лицо воспроизводили со столь завидным постоянством: стереотип Вашингтона был создан Гилбертом Стюартом. Многие прижизненные портреты Вашингтона были нарисованы или вылеплены между 1772 и 1799 годами лучшими художниками того времени: семьей Пил (Чарлзом Уилсоном, Джеймсом и Рембрандтом), Джоном Трамбуллом, Уильямом Данлепом, Эдвардом Сэвиджем, Дю Симитьером, Гудоном, Черакки и другими. При этом использовались все известные материалы и способы изображения, не только краски и мрамор, но и дерево, кость, воск, лепка, теневые картины и профильные рисунки с помощью механического пантографа, называемого «физионотрейсом». Вашингтон привык долго и часто позировать. То, что стало классическим портретом, было крайне идеализировано. Наиболее популярным оказался неоконченный портрет Гилберта Стюарта («Атенеум»), которому досталась незаслуженная слава.
Гилберт Стюарт, родившийся на Род-Айленде, в возрасте двадцати лет решил, что американские колонии не самое подходящее место для художника. В 1775 году он отправился в Англию, где провел пять лет в мастерской другого американского эмигранта, Бенджамина Уэста. Быстро обзаведясь богатыми и светскими клиентами, он успешно конкурировал с Рамсеем, Рейнолдсом, Ромни и Гейнсборо. Когда примерно в
447
1793 году он вернулся в Соединенные Штаты, вероятно, чтобы избежать заключения за долги, его нескрываемой целью стало вернуть свое состояние, делая портреты Вашингтона; Стюарт надеялся со временем написать «множество его портретов» и таким образом выплатить долги английским и ирландским кредиторам. Его первый портрет Вашингтона, сделанный с натуры в 1795 году, принес ему заказы от тридцати одного клиента на тридцать девять копий. Это было только началом, ибо никто не знает, сколько именно копий было сделано Стюартом и сколько его учениками или подражателями.
Особая привлекательность портретов Стюарта заключалась, видимо, в их чопорности, которая казалась особым видом идеализации. В отражении человеческой сути они значительно уступали портретам Рембрандта Пила, которые никогда не имели той популярности и привлекательности для публики, что портреты Стюарта. Причина заключалась, по мнению самого Рембрандта Пила, в земном, будничном характере изображения:
Судья Вашингтон сообщил мне... что в тот день, когда его дядя в первый раз начал позировать Стюарту, он вставил себе в рот новую челюсть, сделанную старшим Гардеттом: она была неуклюже сработана из кости моржа, чтобы имитировать одновременно зубы и десны, и поместилась во рту очень неудобно, так что он с трудом мог говорить; они придали его рту вид, словно он для полоскания набрал полный рот воды (таковы были слова судьи Вашингтона). Позднее господин Стюарт сам сказал мне, что ему никогда еще не приходилось писать человека, которого так трудно было заставить говорить, что требовалось Стюарту, чтобы получить естественное выражение лица, которое можно было уловить и запечатлеть только в ходе разговора на разные темы. Всему виной были зубы; и, к несчастью для мистера Стюарта, их каждый раз вставляли на время сеанса с надеждой, что к ним в конце концов привыкнут, — но их все-таки отвергли. Для меня было удачей то, что мои сеансы начались прежде, чем новые зубы были готовы, и мой клиент каждый раз приходил ко мне со старыми челюстями, сделанными ему в Нью-Йорке много лет назад.
Эти стоматологические трудности, сочетаемые с намерением Стюарта идеализировать своего клиента, способствовали созданию портрета, который блестяще отвечал американскому идеалу героя.
Но не краски, а мрамор казался самым подходящим материалом для изображения характера и образа Вашингтона. Один только каталог скульптурных икон составляет обширный том. Был знаменитый бюст в натуральную величину, вылепленный
448
французским скульптором Гудоном, с которого были сделаны бесчисленные копии и который стал образцом для подражания. Был бюст, сделанный с натуры итальянцем-авантюристом Че-ракки, который он затем воспроизвел в огромных размерах. Была статуя знаменитого Кановы.
Самой впечатляющей (и противоречивой) из всех была работа Гораса Гриноу, скульптора из Новой Англии, который получил в 1832 году правительственный заказ сделать статую Вашингтона для ротонды в Капитолии за плату в 5000 долларов. Проработав восемь лет в собственной мастерской в Италии, во Флоренции, Гриноу создал статую; она была десяти с половиной футов высоты и весила двадцать тонн. Стоимость ее провоза через Атлантику составила 7700 долларов, а стоимость ее доставки от морского порта до ротонды в Капитолии — еще 5000 долларов. Пришлось расширить вход в Капитолий, чтобы пропустить колосса, но, когда его водрузили на место, выяснилось, что пол не выдержит тяжести; статую передвинули в восточное крыло и оставили снаружи. Стоимость операций к тому времени достигла 21 000 долларов. Дело приобретало характер публичного скандала не только из-за стоимости, но и потому, что, по иронии судьбы, сам способ Гриноу придать герою вид божества разъярил общественность и показался богохульством.
Статуя Гриноу, смоделированная по колоссальной статуе Зевса из кости и золота, сделанной Фидием для храма на Олимпе, изображала Вашингтона сидящим на высеченном троне, обнаженным до пояса, с задрапированными остальными частями тела, обутым в сандалии. Патриотично настроенных американцев шокировало то обстоятельство, что любимый всеми Вашингтон будет обозреваем без одежды. «Вашингтон был слишком рассудительным и слишком заботился о своем здоровье, — писал ньюйоркец Филип Хоун, занимавший видное положение в обществе, — чтобы обнажиться подобным образом в нашем капризном климате, не говоря уже о непристойности такого обнажения, ибо в этом вопросе он был известен как человек исключительной строгости». Та же самая общественность, чья комиссия, составленная из священнослужителей, полностью одобрила обнаженную женскую фигуру «Греческой рабыни» скульптора Хайрама Пауэрса и наготу ранней работы Гриноу «Поющие херувимы», «восстала, — как сказал Гриноу, — в рокоте негодования перед наготой гигантской мужской груди Вашингтона». Статуя продолжала оставаться объектом противоречивых мнений, пока спустя полвека
449
не была удалена в скромную безвестность алькова в Смитсоновском институте, где стоит и до сих пор. «Видел ли кто-нибудь когда-либо Вашингтона обнаженным? — вопрошал Натаниел Готорн в 1858 году. — Этого невозможно себе представить. У него не было наготы, и я даже думаю, что он родился уже в одежде и с напудренными волосами, а при первом появлении на свет сделал величавый поклон».
Общественный шок от этого плотского изображения героя облегчил ассоциации памятника Вашингтону закончить сбор необходимых средств (к концу 1847 года—87 000 долларов). Этот памятник соответствующим образом увековечил героя не в виде человека, как бы богоподобен он ни был, а в виде совершенно абстрактного геометрического обелиска.
Священное имя. В Соединенных Штатах само имя Вашингтона чествуется уникально. В 1791 году, когда герой был еще жив, устроители будущей столицы, хотя и не обладали юридическим правом давать ей имя, окрестили ее Вашингтоном. Несмотря на существование противоречивых мнений, их выбор никто всерьез не оспаривал. Вашингтон был также единственным человеком после колониального периода, имя которого было присвоено штату. «На земле был только один Вашингтон, — заметил член конгресса в 1853 году во время дебатов об организации территории Вашингтон (позднее ставшей штатом Вашингтон), — и едва ли будет другой, и поскольку Провидение послало нам его одного на все времена, давайте назовем один штат именем этого единственного человека». К середине XX века имя Вашингтона, опережая все остальные, имелось в названиях по крайней мере 121 почтового отделения. Он был также далеко впереди по количеству округов, названных его именем; округ Вашингтон имелся в тридцати двух. штатах. Среди тех, где не было таких округов, как отметил Джордж Стюарт, шесть принадлежали к самым маленьким из тринадцати первых колоний, поскольку их округа уже получили свои названия до 1775 года; большая часть остальных находилась на Дальнем Западе; они были созданы после окончания Гражданской войны, когда культ Вашингтона несколько померк.
♦ * ♦
Культ жалует бессмертие как его объекту, так и его служителям. Дэви Крокетт разделил земной американский мир комического супермена не с героем, а с тем, кто торговал ге
450
роем. В третьей части «Автобиографии» Дэви Крокетта, в которой описывается поездка Дэви в Техас из своего дома в округе Уикли, штат Теннеси, он вспоминает, как в 1835 году (когда тело пастора Уимса уже десять лет покоилось в могиле) дух Уимса и его святое дело продолжали свое триумфальное шествие. В местечке Литтл-Рок, штат Арканзас, Крокетт встретился со странствующим кукольником, которого собиралась избить толпа, поскольку он был так пьян, что не мог показать спектакль, которого они ждали. Не было никого, кто мог бы сыграть на скрипке, и «больная жена и пять голодных детей» кукольника пострадали бы от этого. На помощь ему пришел проповедник-торговец, который появился в своем ветхом фургоне, набитом книгами и брошюрами для продажи. Прочитав брошюру «Божья кара пьяному», которую он затем начал продавать прямо с фургона, призрак Уимса сыграл на скрипке, спас представление и собрал деньги для бедного хозяина балагана и его семьи. Бессмертный пастор «поставил свой сундук с брошюрами рядом с собой и продолжил путь паломника, а детишки бежали за ним по деревне с криками благодарности».
40.
МЕСТНЫЙ ПАТРИОТИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ
Американский пантеон заполнялся постепенно. Если оглянуться в прошлое из XX века, то обнаружишь там созвездие полубогов меньшего масштаба и местного значения, которые были канонизированы в национальной мифологии лишь начиная с середины XIX века. Долгие и острые дебаты шли, например, по поводу личности Джефферсона. Только в 1858 году, когда (прежде всего в Нью-Йорке!) трехтомная биография, написанная Генри Рэнделлом, стала серьезной основой для опровержения антиджефферсоновских мифов, Джефферсон начал превращаться в истинно национального героя. Крайне любопытным был случай с Бенджамином Франклином. В свое время и он был спорной фигурой, подозрительной для многих в Пенсильвании, кто не принадлежал к его партии. Хотя он был энергичным и приятным человеком, его роль в Революции была поначалу сомнительной и никогда — особенно заметной. Значительную часть своей общественной деятельности он вел за рубежом. Ни одно из его сочинений не было опубликовано
451
на родине до 1818 года; издание Спаркса в десяти томах с характерными для него исправлениями текста появилось в 1836 — 1840 годах, а неоконченная «Автобиография» Франклина, впервые опубликованная во французском переводе, не была полностью издана в Соединенных Штатах до 1868 года. Было что-то в личности и делах Франклина — в этой смеси банальности, космополитизма и отрешенности — такое, что делало его фигуру не подходящей для роли национального героя.
Первые энергичные попытки создать национальных героев, способных стать рядом с Вашингтоном, не были направлены на такие выдающиеся личности, как Франклин и Джефферсон, которые стали фигурами мирового масштаба. Вместо этого местные патриоты начали использовать местный материал, и первые национальные герои были продуктами регионального соперничества и провинциального патриотизма: духовный цемент страны еще не был замешен достаточно круто.
Первым порождением этого процесса был Патрик Генри. Красноречивый виргинец стал чем-то вроде легенды задолго до своей смерти в 1799 году, но его последние годы, как и Вашингтона, были покрыты дымкой предвзятости. После 1795 года он примкнул к партии федералистов, был выдвинут от нее на выборах и в конце жизни превратился в заклятого врага Джефферсона, Медисона и многих своих старых виргинских друзей.
У Генри также появился свой Уимс. В то время как Вашингтон, по Уимсу, был необыкновенной личностью в универсальном смысле, Патрик Генри Уильяма Уирта был великим виргинцем. Уирт, хорошо образованный виргинский юрист и литератор, был обвинителем в деле против Аарона Бэрра и стал генеральным прокурором при президенте Монро; этот пост он занимал более десяти лет. Примерно в 1805 году он задумал написать биографию Патрика Генри; его «Заметки о жизни и личности Патрика Генри», которые вышли в конце концов в 1817 году, были посвящены «молодым людям Виргинии». «Мистер Генри стал идолом народа Виргинии... Его свет и тепло были видны и чувствовались на всем материке, и он повсеместно считался великим борцом за колониальную сврбоду. Таким образом, импульс, данный Виргинией, был подхвачен другими колониями. Бе резолюции, с изменениями в прогрессивном духе, были приняты везде». Это стало основной темой Уирта, которую он развил в духе и традициях Уимса.
452
В отличие от Уимса он предпринял серьезную попытку собрать воспоминания людей, которые действительно знали Генри. Хотя он целых десять лет собирал материалы о своем герое, это удивительно мало сказалось на результате. Будучи еще на полпути в своей работе, он решил там, где это необходимо, кое-что придумывать. Он писал своему другу судье Дэбни Карру 20 августа 1815 года:
События в жизни господина Генри удивительно однообразны. Это речи, речи, речи. Точно, он умел говорить. Бог мой! Как он мог говорить! Но в то же время никаких действий. Из суда в законодательный орган, оттуда в суд, словом, его странствия во многом напоминают передвижения одного, я забыл, кого именно, может быть, одного из героев нашего друга Тристрама — «из кухни в гостиную и из гостиной в кухню». И затем, что еще хуже, ни одна из его речей с 1763 по 1789 год, то есть периода его расцвета и наивысшей точки его жизни, не сохранилась в напечатанном, написанном виде или в памяти людей. Все, что мне говорят, — это то, что по такому-то и такому случаю он произнес изумительную речь. И теперь продолжают твердить об этом снова и снова, не имея возможности дать хотя бы какое-то представление, о чем же была эта речь; так вот, сэр, разве это не напоминает широкое, открытое, выжженное солнцем пространство, без малейшей тени или зелени? Моя душа устала от этого... Мне иногда приходит в голову последовать замыслу Ботты, который написал историю американской войны и сам сочинил речи за своих выдающихся героев, подражая в этом историкам Греции и Рима; но я вместе с Полибием считаю, что это означает позволить себе обращаться слишком вольно со священной чистотой истории. Кроме того, красноречие Генри было столь sui generis1, что его никто не может повторить; а я никогда его не видел и не слышал...
Еще раз: в характере Генри есть неприятные черты, а также почти столь же неприятные пустоты. Он был слабый военачальник, слабый губернатор, слабый политик — все те поворотные пункты, от которых зависят композиция и детали повествования. Короче, это воистину настолько безнадежный предмет, насколько только можно себе представить. Я корпел над ним и использовал всю побелку, которую имел в своем распоряжении; но фиговое дерево еще бесплодно, и каждая почка на нем несет смерть вместо жизни.
Но в конце концов Уирт, как и Уимс, не испугался столь скудного исходного материала. Он приукрасил Патрика Генри почти без посторонней помощи.
Сосредоточившись на Революции, Уирт отвел Генри — а благодаря ему и Виргинии — главную роль. Он нарисовал бессмертную сцену отважного поведения Генри 29 мая 1765 года
1 Своеобразно (лат.). —Прим, перев.
453
во время дебатов в виргинской палате граждан по резолюциям Генри против Закона о гербовом сборе. «Громовым голосом, похожий в тот момент на бога, — писал Уирт, — Генри воскликнул: "У Цезаря был Брут, у Карла I — Кромвель, и Георгу Ш — («Измена!» — закричал спикер. «Измена, измена!» — отозвалось эхом в каждом углу палаты. Это было одним из тех испытаний, которые определяют характер. Генри не запнулся ни на мгновение; но, поднявшись на недосягаемые высоты, вперив в спикера горевшие решительным огнем глаза, он окончил свою фразу самым твердым образом) следовало бы учесть их опыт. Если это измена, то извлечем из нее все возможное*'». Во времена Революции Генри был впереди всех. «Его прозрение, — объяснял Уирт, — уходило далеко в будущее; и задолго до того, как в нашей стране раздался первый шепот о независимости, он увидел весь приближающийся конфликт взором пророка и восторженным чутьем ощутил, как его страна вознесена над другими государствами на земном шаре». Не имея текста, на который он мог бы положиться, а используя лишь крайне смутные воспоминания современников, Уирт сам состряпал то, что стало наиболее знаменитым явлением времен Революции: речь Генри «Свобода или смерть!», произнесенную, как предполагают, в палате граждан 23 марта 1775 года. 1
Слегка коснувшись менее привлекательных черт Генри, Уирт подчеркнул роль своего героя как великого народного лидера, «одного из тех идеальных чудес природы, которых так мало было произведено с момента образования земли». Составленный в основном из «побелочного материала», Патрик Генри ожил в изображении Уирта и до сих пор живет в патриотических чувствах американцев. Уирт изобразил его как «первого государственного деятеля и оратора Виргинии», — легендарной Виргинии. Некоторые из более осведомленных или более пристрастных современников — Джон Тейлор из Каролины, Джон Рэндолф и Томас Джефферсон — возражали против этого напыщенного идеала, но возражения умирали вместе с людьми, лично знавшими Генри, а легенда продолжала расти.
Местный патриотизм был присущ не только виргинцам. Уирт настолько развил эту тему, что раздразнил региональные чувства других. Работа Уирта «Генри», опубликованная в ноябре 1817 года, сразу же вызвала интерес в Новой Англии. Джон Адамс приобрел экземпляр и тут же написал Уирту, напоминая, что erant heroes ante Agamemnona (были герои и до Ага
454
мемнона). «Если бы мне снова было тридцать пять лет, мистер Уирт, я бы попытался быть Вашим соперником... Я бы принял, при всей его скромности, Ваш заголовок «Заметки о жизни и сочинениях Джеймса Отиса из Бостона» и, подражая Вашему примеру, представил бы портреты длинного списка знаменитых людей, которые были действующими лицами в Революции...» Адамс затем предложил список; большинство в нем было людьми из Новой Англии, многие из его родного штата.
Я не завидую ни заслуженной славе Виргинии, ни ее мудрецам или героям. Но, сэр, я ревнив, очень ревнив в отношении славы Массачусетса.
Сопротивление британской системе порабощения колоний началось в 1760 году, и в феврале 1761 года Джеймс Отис вдохновил город Бостон, колонии Массачусетского залива и весь материк больше, чем это когда-либо удавалось Патрику Генри. Если нам необходимо кого-нибудь хвалить, склоняясь к преувеличению, я должен сказать, что коли мистер Генри был Демосфеном и мистер Ричард Генри Ли — Цицероном, то Джеймс Отис был Исайей и Иезекиилом вместе взятыми.
Вопрос о приоритете не был банальным. Он беспокоил Адамса, который стремился восстановить правду, чтобы не дать Виргинии пожать лавры, принадлежавшие другим. Неделя не прошла, как он написал Джону Джею с просьбой исправить ложное заявление Уирта, что Генри был автором Обращения к народу Великобритании от 5 июля 1775 года. Он писал Иезекие Найлсу, напоминая ему, что именно выступление Джеймса Отиса против распоряжений о наложении ареста на товары еще в феврале 1761 года «вдохнуло в нашу страну дыхание жизни». Истинное начало Революции, утверждал Адамс, следует относить « событиям 1760 года в Массачусетсе, и, знай Уирт больше фактов, он бы увидел, «что Отис, Тэчер, Сэмюел Адамс, Мейхью, Хэнкок, Кушинг и тысячи других уже несколько лет трудились у руля еще до того, как имя Генри стало известным за пределами Виргинии».
Адамс не был одинок в своей досаде. «Норт Америкэн ревью», ведущий литературный орган страны и рупор образованных кругов Новой Англии, также принял это как оскорбление. В своем длинном обзоре журнал показал, что первенство, отданное Уиртом Виргинии, принадлежало на деле Массачусетсу. Отис выступал против британской тирании, и ему кричали «Измена!» за несколько лет до Генри. Уирт утверждал, что план создания комитетов родился в резолюциях виргинской палаты
455
граждан 12 марта 1773 года. «Правда состоит в том, — возражал обозреватель, — что план зародился в Бостоне более чем за четыре месяца до того, как он был задуман в Виргинии. Он был разработан мистером Сэмюелом Адамсом и мистером Джеймсом Уорреном из Плимута, и первый комитет был назначен по предложению господина Адамса на городском собрании 2 ноября 1772 года». И так далее.
Жители Новой Англии не были удовлетворены лишь оборонительной тактикой. В течение нескольких лет они предприняли серию контрударов, которые таким своеобразным способом обогатили национальную традицию. В начале 1818 года письма Адамса, поправлявшие Уирта, были опубликованы в «Найлс уикли реджистер». В следующем году Адамс собрал и вновь издал очерки «Нованглус», написанные им в 1774—1775 годах, добавив другие материалы, которые доказывали приоритет Новой Англии в Революции. Тем временем Адамс убедил Уильяма Тюдора, сына его бывшего юриста, написать полную биографию Джеймса Отиса.
Уильям Тюдор был вполне подходящей фигурой для защиты чести Новой Англии. Родившийся в Бостоне и окончивший Гарвардский университет в 1796 году, брат Фредерика Тюдора (которому он предложил идею торговли льдом), он служил в законодательном органе Массачусетса и был основателем и первым редактором «Норт Америкэн ревью». Из-за его поглощенности Новой Англией журнал стали обзывать «Норт анамерикэн» Он был также основателем Бостонского атенеу-ма, сторонником проекта создания памятника в честь сражения при Банкер-Хилле и активным членом Массачусетского исторического общества.
Когда книга Тюдора «Жизнь Джеймса Отиса из Массачусетса» в 1823 году была издана, она показала, что у виргинцев есть умелые соперники при использовании «побелки» в патриотических целях. Жизнь Отиса, как и Генри, создавала много трудностей для добросовестного биографа. Документальные материалы были скудными отчасти потому, что в конце своей жизни Отис собрал и сжег многие из своих бумаг и брошюр. Хотя слава Отиса проистекала из его речей, современных ему текстов не существовало; только черновые записи, составленные свидетелями. Общественная карьера Отиса была краткой. Впервые о нем услышали в 1761 году, а в 1769 году Джон Робинсон,
1 «Северный неамериканец» (англ.). —Прим.перев.
456
служащий таможни, чьи обвинения в измене Отис публично отрицал, ударил его по голове в бостонской кофейне. С тех пор у Отиса бывали периоды прояснения, но полностью его рассудок так и не восстановился. Он временами буйствовал, выпивал и в 1771 году был объявлен non compos mentis1 судом по наследственным делам. Отис прожил до 1783 года и умер, как того и желал, от удара молнии.
Из таких скромных материалов Тюдор с помощью своей изобретательности создал героя Новой Англии, который был и значительнее, и в историю вошел раньше, чем его виргинский соперник. Тюдор воссоздал речь Отиса против ареста товаров, использовавшегося британским правительством для неконституционных действий по сбору налогов в колониях. Таким образом Джеймс Отис защищал дело Революции почти за четыре года до того, как Патрик Генри произнес свое первое заметное выступление. В той речи, как мы видели выше, Отис, судя по всему, выдвинул лозунг «Налогообложение без представительства — это тирания». В сентябре 1764 года Отис написал и зачитал в законодательной палате Массачусетса смелый протест против королевского губернатора. «Для народа не имеет значения, — утверждал Отис, — является ли он подданным Георга или Людовика, короля Великобритании или французского короля, если оба являются деспотами; а они будут таковыми, если станут взимать налоги без парламента». Во время чтения этого абзаца депутат от Вустера Тимоти Пейн закричал: «Измена! Измена!» По словам Тюдора, это случилось за три года до того, как произошла подобная сцена в виргинской палате граждан.
Далее Тюдор рассказал о политическом руководстве Отиса Массачусетсом в решающие годы, об отношении к Закону о гербовом сборе, о сочинении им «Циркулярного письма» (1768) массачусетского законодательного органа с призывом к колониям объединиться против британского налогообложения, о его страданиях от рук британского таможенника и, наконец, о его смерти от удара молнией.
Когда Бог во гневе узрел то место, Что отведено на земле для Отиса, То громом, словно с горы Синая, Вознес его вновь на небеса.
1 Не в здравом уме (лат.). —Прим, перев.
451
Сравнение воссозданной знаменитой речи Отиса, которую Адамс предоставил Тюдору в 1818 году, с опубликованными работами Отиса и с записями Адамса, которые он сделал, когда почти шестьдесят лет назад действительно слышал эту речь, показывает, как заметил правнук Адамса и редактор Чарлз Фрэнсис Адамс, «что господин Адамс бессознательно вложил в эту работу многое из собственной учености и широты взглядов, принадлежавших ему самому».
Видные жители Новой Англии нашли, что тюдоровский «Отис» во многом отвечает их вкусу. «Это — лучшее отображение... состояния чувств жителей Новой Англии, породивших Революцию, — отмечал Джордж Тикнор, влиятельный ученый муж из Бостона. — Ничего подобного еще не выходило в печати... такая книга не могла бы появиться через двадцать лет, ибо тогда все традиции уже исчезли бы вместе со старыми людьми, стоящими на краю могилы, которых автор успел расспросить. Проделана огромная работа, которая, я уверен, принесет много пользы, содействуя исследованию самых интересных и самых важных периодов нашей истории». Версия Адамса — Тюдора об Отисе и источниках Революции была увековечена в выступлениях бостонцев Четвертого июля, которые были собраны в книгу и распространены патриотами Бостона в каждой школе города, каждой академии штата и каждом колледже в Соединенных Штатах.
Рождение нации по-прежнему находило отражение лишь в личных воспоминаниях тех людей, чья верность Америке до позавчерашнего дня на самом деле была верностью либо их Массачусетсу, либо их Виргинии. Выражение «моя страна» долго означало в Америке «мою колонию» или «мой штат», пока не приобрело иное значение. Даже в начале XIX века для Джона Адамса оно все еще означало Массачусетс, а для Джефферсона — Виргинию. Этот местный патриотизм — как и местные предрассудки — стал источником не только американского патриотизма, но и американской истории.
41.
ВПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОШЛОГО
До революции каждая колония считала американской историей историю своей колонии. Почтенная традиция исторического сочинительства развивалась, но это была провинциальная
458
традиция, состоявшая из местных амбиций, желания выделиться и несколько преувеличенного поклонения старине. Едва ли существовала колония, не имевшая книги об истории своего образования, деяний и достопримечательностях, но не было объединявшего всеамериканского института (кроме Британской империи), в отношении которого можно было бы проявить свою преданность или сосредоточить внимание историков.
Когда началась Революция, у колоний еще не было американской истории как в буквальном, так и в литературном смысле. Одним из самых удивительных фактов в истории об Американской революции был тот, что поколение столь здравомыслящих и толковых людей создало так мало исторических работ об этом драматическом событии. Одним из объяснений может служить то, что для американца не было привычным обобщать происходящие в Америке события, и он не стремился писать о том, что творится за пределами его собственной колонии. Время оперативных и организованных репортажей о текущем моменте еще не настало. Даже полководцам было трудно следить за событиями в соседних районах. Штаб-квартира нового национального правительства постоянно перемещалась; его архивы были бедными, плохо оформленными и плохо хранились. Даже после важнейшего филадельфийского конституционного конвента 1787 года, где более, чем в каком бы то ни было другом месте, должно было присутствовать ощущение, что свершается история, остались лишь отдельные записи. Если бытам случайно не присутствовал Джеймс Мэдисон (который не был официальным секретарем), наша информация относительно хода заседаний была бы весьма скудной. Американский писатель столкнулся с новыми издательскими трудностями: общая экономическая ситуация была ненадежной, американский книжный рынок не сформировался, а британский рынок для американских книг был закрыт. Поэтому неудивительно, что в течение ряда десятилетий попытки написания и опубликования работ по национальной истории были нечастыми и неудачными.
Усилия по исследованию прошлого Америки в первые десятилетия существования нового государства были бессистемными и не связанными между собой и вдохновлялись в основном преданностью штату или региону. В XX веке общегосударственная точка зрения кажется «нормальной», в то время как региональная, штата или местная история представляется промежуточной, случайной, устаревшей. Но изучение нашей национальной истории начиналось по-иному.
459
В других странах, например в Великобритании, национальная историческая традиция, а также устойчивая и богатая национальная литература существовали задолго до того, как начали свою работу региональные исторические общества. У нас же сложилось иначе: в молодых Соединенных Штатах национальная история вначале создавалась не широкими панорамными мазками, а складывалась из мозаики местных рассказов.
В течение еще по крайней мере полувека после принятия Декларации независимости все считали, что история Соединенных Штатов будет состоять из истории каждого из штатов в отдельности. История штатов и регионов казалась приоритетной; история Соединенных Штатов виделась надуманной и производной. Пройдет много времени, прежде чем американцы смогут увидеть свою историю под другим углом зрения.
Многочисленные независимые исторические общества штатов и округов стали побочным продуктом формирования новой страны; они рождались (как объяснял Дейвид Ван Тассел) как «орудия в борьбе за преимущество в написании национальной истории». Первым появилось Массачусетское историческое общество. Преподобный Джереми Белкнап, конгрегационный священник, родившийся в Бостоне, с помощью четырех друзей (включая Джеймса Уинтропа, библиотекаря Гарвардского университета, и ученого Уильяма Тюдора, отца Тюдора, которому выпало обессмертить Отиса) организовал группу, ставившую своей целью «отметить гениев, описать нравы, проследить развитие общества в Соединенных Штатах и... сохранить подлинную историю этой страны/от уничтожения временем и от невежества и пренебрежения». «Мы намерены, — объяснял Белкнап, — быть активной, а не пассивной литературной организацией; не лежать, как устрицы, в ожидании прилива (информации), который нас накроет, а искать и находить, сохранять и приумножать литературные исследования, особенно в историческом направлении». Получившее в 1794 году от Содружества официальный статус Массачусетского исторического общества, оно расположилось в новом привлекательном районе Бостона Тонтайн-Кресент, спроектированном Чарлзом Булфинчем. Так было положено начало возникновению исторических обществ, которым было суждено распространиться по всей молодой стране. Усилия общества привели к созданию самого значительного за пределами Библиотеки конгресса собрания ранних американских рукописей, но его основное внимание с самого начала было сосредоточено на Новой Англии. Оно сделало больше, чем любая другая орга
460
низация, чтобы сохранить подлинные документы колониального периода, отредактировать их, издать и распространить и тем самым взлелеять гордость за прошлое своих мест, что всегда было отличительной чертой литераторов Новой Англии. Первые десять томов его трудов появились в 1809 году, а к середине XX века общество издало более двухсот таких томов.
Нью-Йорк первым последовал примеру Массачусетса. Созданием исторического общества город в основном обязан весьма яркой личности — меценату Джону Пинтарду (недавно обанкротившемуся из-за потери миллиона долларов на одном из биржевых проектов), который «мог сочинить рекламный листок, способный поднять людей на любое хорошее дело... мог созвать собрание с помощью слов, достойных пера поэта, а еще прежде, чем все соберутся, мог организовать дело таким образом, что его результаты неизменно приводили к полному успеху. Он знал слабости каждого и мог, удовлетворяя тщеславие людей, получить от них деньги». Увлекшись сохранением исторических рукописей, он начал с попытки создать исторический музей под эгидой Общества Таммани, в котором он был первым предводителем и позднее — Великим предводителем. Но музей превратился в коммерческое шоу и зоопарк (позднее его купил П.Т. Барнум, и оно стало сценой для некоторых из его самых успешных надувательств, включая чучело русалки южных морей). Затем Пинтард убедил законодательные власти основать в 1804 году Историческое общество Нью-Йорка и ассигновать для этого в 1812 году 12 тысяч долларов.
Вскоре за Нью-Йорком последовали другие штаты. Когда в 1824 году возникло Историческое общество Пенсильвании, налицо проявился местный шовинизм: членство ограничивалось лицами, проживавшими в Пенсильвании по крайней мере в течение десяти лет. Исторические общества, желавшие отнять у Массачусетса свою долю лавров, скоро были основаны в других штатах Новой Англии — Мэне (1820 — год образования штата), Род-Айленде (1822), Нью-Гэмпшире (1823), Коннектикуте (1825), Вермонте (1838). На новом Западе исторические общества штатов стали возникать в течение нескольких лет с момента их создания. Как гостиница или железная дорога могли способствовать притоку населения, в них нуждающегося, так и историческое общество могло помочь каким-то образом вызвать в воображении прошлое. Они появились одно за другим в Теннесси (1820), Огайо (1822), Иллинойсе (1827), Мичи
461
гане (1828), Индиане (1830), Миссури (1844) и Висконсине (1846). На Юге первенствовала Виргиния (1831); тут общество возглавлял Верховный судья Джон Маршалл, и оно, по словам одного из его членов, стремилось путем честной конкуренции с Массачусетсом и Пенсильванией «с помощью плотин удержать на плаву утопающую честь». Следующей шла Северная Каролина (1833), где Арчибалд Дебоу Мёрфи, первый социальный реформатор, который хотел способствовать развитию хозяйства штата созданием разветвленной системы каналов и требовал федеральных фондов, жаловался, что к 1820 году Северная Каролина получила от федерального правительства только «два жалких маяка». Объясняя, что это могло произойти из-за отсутствия чувства гордости за свой штат, он предложил обратиться к истории Северной Каролины, чтобы поднять престиж штата в Союзе и «сделать его уважаемым в наших собственных глазах».
Но штат не был самой маленькой активной единицей. Части штатов (например, восточный Теннесси в 1833 году и западная' Пенсильвания в 1834 году), округа (например, Эссекс в 1821 году и Вустер в 1825 году, оба в Массачусетсе) и города (например, Олбани в 1828 году и Мариэтта в 1841 году) также предприняли шаги к увековечению своего особого прошлого и поддержанию местного самосознания.
Полувековой юбилей Декларации независимости в 1826 году заново вдохновил исторические общества штатов и подогрел конкуренцию среди них в отыскании материалов из иностранных архивов. А растущий местный патриотизм и региональные антагонизмы в течение десятилетия до начала Гражданской войны привели деятельность местных исторических обществ к апогею.
Сила местничества была продемонстрирована повторявшимися неудачными попытками основать национальное историческое общество с национальной концепцией. В 1812 году ученый и процветающий издатель Исайя Томас заявил об особых преимуществах размещения центра такого общества там, где он создал самое большое в стране печатное и издательское дело,—в маленьком удаленном от моря городе Вустер, штат Массачусетс, «в целях лучшего сохранения от разрушений из-за пожаров, часто происходящих в больших городах, и опустошений, наносимых любым врагом, для которого во время войны особенно доступны морские порты». Но Американское общество антикваров не стало центром написания национальной истории; будучи лучшим собранием историй штатов и малых территорий, оно также ста
462
ло цитаделью подхода к американскому прошлому с позиции каждого штата в отдельности.
Только в 1884 году Американская историческая ассоциация сосредоточила свои усилия на предоставлении возможности историкам работать в масштабах всей страны. А профессиональное общество историков, пишущих о Соединенных Штатах, было создано лишь в 1907 году.
♦ * *
Некоторые из самых способных исследователей, занятых поисками символов общенационального прошлого, обратились к жанру биографии. Огромная популярность «Автобиографии» Дэви Крокетта, «Джорджа Вашингтона» Уимса, «Патрика Генри» Уирта, «Джеймса Отиса» Тюдора и подобных работ резко контрастировала со скудным спросом на книги о прошлом всей страны. Задолго до появления серьезной научной литературы, освещавшей национальную историю, в Америке уже существовали биографии всех видов, размеров и способов изложения материала. Биографы устремились заполнить вакуум в национальной памяти. Сама близость эпохи отцов-основателей предоставляла возможность и искушение для развития личных воспоминаний, семейного и местного благочестия.
Джереми Белкнап, написав работу «Американская биография, или Исторический отчет о тех лицах, которые отличились в Америке как первопроходцы, государственные деятели, философы, священники, военачальники, писатели и как другие замечательные деятели...» (1794; 1798), решил стать этаким американским Плутархом. Он и его подражатели надеялись привлечь читателей во «всех частях континента» простым отбором героев отовсюду. Братья Сандерсон и их сотрудники в Пенсильвании испробовали другое средство, собрав в девяти томах «Биографии политиков, подписавших Декларацию независимости» (1820 —1827). Вашингтон Ирвинг избежал местного патриотизма и вышел за его рамки в своем очень доступном трехтомном жизнеописании Христофора Колумба, которого он определил на роль первого американского героя.
Самой претенциозной и в конечном счете самой успешной попыткой замены национальной истории биографическим жанром была «Библиотека американской биографии» Джейре-да Спаркса (1834 — 1838), которая в итоге составила около двадцати пяти томов. Он задумал это издание в 1832 году в качестве «достаточно последовательной истории страны... для
463
раскрытия характеров и описания действий некоторых из самых блестящих людей нации». Используя материалы из разных концов страны, Спаркс приготовил тактично сбалансированное блюдо из патриотических лакомств Севера, Юга, Востока и Запада.
Спаркс позаботился о том, чтобы справедливо распределить почести между всеми частям страны, и сделал своими героями даже тех лиц, которые либо из-за их незначительной роли, либо из-за давности событий не были объектом особых пристрастий. В одном томе, например, рассказывалось об орнитологе Александре Уилсоне из Пенсильвании и капитане Джоне Смите из Виргинии. Только после того, как проект издания окончательно утвердился и благополучно вступил во вторую стадию, Спаркс осмелился заняться противоречивыми фигурами местных святых. Тогда в одном томе он объединил биографию французского исследователя Ла Салля с биографией Патрика Генри, а затем последовал другой том, в котором под одной обложкой соединились Джеймс Отис из Массачусетса и Джеймс Оглторп из Джорджии. Автор очерка о Патрике Генри расчетливо напустил тумана на чувствительный вопрос о революционных приоритетах:
Его притязания на честь быть автором первого импульса к революционному движению являются вопросом, с трудом поддающимся удовлетворительному решению, поскольку ни одно событие до сражения при Лексингтоне и Декларации независимости не было столь непохожим по своему характеру на множества других, случившихся примерно в то же время, чтобы заслужить в отличие от них славу считаться первым шагом в начале Революции. Однако абсолютно ясно, что в одной из двух главных колоний в период, непосредственно предшествовавший Революции, Генри был постоянно впереди самых горячих патриотов и что он предложил и осуществил благодаря личному влиянию меры, против которых возражали как против преждевременных и насильственных все другие известные сторонники дела свободы. Для Генри было большой удачей, что он при жизни получил за свои исключительные заслуги соответствующее вознаграждение, а также почти безграничное восхищение и уважение сограждан.
Личным вкладом Спаркса на раннем этапе стал том, посвященный «(Жизни и измене Бенедикта Арнолда», единодушно одобренный патриотами всей страны.
Когда Ралф Уолдо Эмерсон в своей «Истории» — лекции, с которой он выступал много раз прежде, чем она была опубликована в 1841 году в его «Эссе», — восклицал, что «не существует, собственно, никакой истории, только биографии»,
464
он не просто провозглашал трансцендентальный трюизм. Он фактически характеризовал вакуум в американской литературе, пытаясь найти ему оправдание: национальных исторических трудов, отвечающих требованиям самой темы, было еще крайне мало. Республиканская идея «представителей человечества» никогда не теряла для Эмерсона своей привлекательности, особые трудности сопутствовали стремлению превратить жизнеописания в привлекавшую читателей историческую литературу. Если в Европе творцами истории были дворяне, знать, короли и королевы, и даже их личная жизнь возбуждала интерес, то в Америке как предупреждал Уирта относительно жизнеописания Патрика Генри Сент-Джордж Таккер, «наша действительность настолько замкнута на самой себе, что она не допускает ни новшеств, ни разнообразия». Неудивительно поэтому, что Джон Маршалл подвергался искушению заменить весь путь Нового Света жизненным путем своего героя и что Уимс был склонен сочинять или приукрашивать обыденность.
Только после Гражданской войны перспективы национальной американской истории, казалось, вошли в нормальную колею. Однако еще в XVIII веке имелись признаки желания, если не возможности, обозреть национальное прошлое. В то время наиболее показательными свидетельствами зарождения национального чувства, пессимизма относительно национального будущего (что контрастировало с оптимизмом в отношении будущего отдельных штатов и регионов) или активности местного патриотизма были малочисленные и невыразительные сочинения по национальной истории. Годами американцы привыкли основательно полагаться на англичан. Отчеты о Революции свободно заимствовались из «Эньюел реджистер», издания английских вигов, в котором Эдмунд Берк год за годом излагал события революционных лет. На американские истолкования Революции (как это показал Уэсли Фрэнк Крейвен) в течение более чем полувека оказывала влияние сильная книга английского тори Джорджа Чалмерса, чья «Политическая летопись нынешних объединенных колоний» (1780) подчеркивала слабость английской имперской политики, дол-гую историю борьбы Новой Англии за независимость и важность оценки американских революционных требований с точки зрения британской конституционной практики недавнего прошлого.
465
Первая «американская» попытка написать и издать всю историю Революции была предпринята темпераментным, но ненадежным Уильямом Гордоном, английским священником, который приехал в Америку в 1770 году, чтобы присоединиться к борьбе за независимость. Много лет он собирал материал для ее истории, прежде чем обнаружил, когда работа была уже готова к изданию, что здесь она неприемлема. Вернувшись в Англию, он в конце концов опубликовал свою «Историю зарождения, развития и установления независимости Соединенных Штатов Америки» (в 4-х томах, Лондон, 1788), но лишь после того, как она была во многом переписана, а факты подтасованы и смягчены. В конце концов стало ясно, что его работа также в основном является плагиатом из «Эньюел реджи-стер». Автором первой серьезной и всеохватывающей истории Революции, написанной рукой американца (3 тома, 1805), была женщина — Мерси Отис Уоррен (сестра Джеймса Отиса и друг Абигайл Адамс). Примечательно, что не американец, а итальянец Чарлз Ботта, чья «История Войны за независимость», впервые опубликованная на итальянском в 1809 году, была переведена на английский в 1820 году, стал автором первого труда, устроившего американцев всех политических партий. Джон Адамс называл сочинение Ботты самым лучшим, а Джефферсон предсказывал, что его книга станет «массовым учебником по нашей революционной истории».
Когда преподобный Абиэл Холмс (отец автора «Самодержца обеденного стола») решил в своих «Американских летописях» (в 2-х томах, 1805; 2-е изд. 1829) изложить общую историю Америки от самого начала до даты издания, он имел право сказать, что «хотя истории отдельных частей Америки уже написаны, не было сделано даже попытки дать самые общие очертания истории всей страны». Проявив честолюбие и предприняв первую попытку охватить всю американскую историю, он обратился к наиболее удачной форме, к «анналам» — хронологическому обзору событий на всем континенте, — поскольку у него не было объединяющей темы.
Рассеянный интерес к американскому прошлому и смутное почитание не оформившихся еще национальных традиций выражались другими путями, например в сборе, сохранении и переиздании исторических документов. Первцй и один из самых рьяных таких коллекционеров, Эбенизер Хазард из Филадельфии, воспользовался своими служебными поездками в качестве главного контролера почтового ведомства (1777 —1782) во время Революции и употребил полученную от правительства
466
премию в тысячу долларов на производство копий и сбор документов. Но его «Исторические разыскания» (в 2-х томах, 1792 — 1794), в которых рассказывалось только об открытии Америки, первых поселениях и конфедерации Новой Англии, расходились так плохо, что он уже не стал продолжать. И все-таки Хазард начал формировать национальный подход к проблеме, который позднее развил Питер Форс, чьи «Трактаты» (в 4-х томах, 1836 — 1846) и «Американские архивы» (в 9-ти томах, 1837 — 1853) используются до сих пор историками, изучающими Революцию. Это пристрастие к рукописным и редким печатным источникам колониального периода, как и одержимость повествованиями в жанре биографии, поглощало энергию, которую американцы еще не умели использовать для создания связной национальной истории.
Чтобы понять, как Джорджу Бэнкфорту, появившемуся тогда на горизонте, удалось произвести столь сильное и продолжительное впечатление, необходимо вспомнить ситуацию в стране в тот период. Граждане этой грамотной, но новой и еще не устоявшейся страны отчаянно стремились найти знаки и символы своей национальности. К 1834 году, когда вышел первый том работ Бэнкрофта, американские исторические труды представляли собой не столько пустырь, сколько беспорядочно проросший подлесок. Американец, который оглядывался на прошлое Нового Света, обнаруживал пачки документов, патриотических жизнеописаний и сусальных рассказов о местных достопримечательностях. От прошлого всего континента к настоящему нации не было проложено широкой дороги.
Поэтому неудивительно, что когда человек огромной энергии, живого воображения и литературного таланта поставил перед собой задачу найти этот путь, то результат его труда стал великим национальным памятником XIX века. Но кто мог предугадать, что эта работа станет тем, чем она стала? Первая великая национальная история, которая доминировала в чтении и размышлениях американцев относительно национального прошлого, была продуктом работы не шовиниста, а космополита. Для Бэнкрофта история Америки была только фрагментом единой истории человечества.
Родившийся в 1800 году, сын преподобного Аарона Бэнкрофта (первого президента Американской унитарианской ассоциации, сократившего пятитомный труд Маршалла «Вашингтон» до одного тома), Джордж поступил в Гарвардский Университет в возрасте тринадцати лет и окончил в его в 1817
467
году, став любимым учеником профессоров Эндрюса Нортона и Эдварда Эверетта, а также самого ректора Киркленда. В течение года он изучал богословие и затем был послан за границу на средства, которые Киркленд собрал у своих гарвардских друзей (семьсот долларов в год в течение трех лет плюс тысяча долларов на поездку в течение года по Италии и Франции, к которым еще пятьсот долларов добавил отец). С этими средствами, в то время достаточными, молодой Джордж четыре года учился и путешествовал в Европе и в Англии. Два года он провел в Геттингене, изучал восточные языки и библейские сюжеты, затем проучился немного в Берлине и Гейдельберге, оттуда отправился в Париж и Лондон; он завершил свое пребывание в Европе поездкой в Швейцарию и Италию.
Когда в августе 1822 года Бэнкрофт вернулся в Америку, его обширный европейский опыт был редким явлением среди современников. Кроме владения на разговорном уровне современными европейскими языками, что было необычным среди американской интеллигенции, он лично познакомился с целой плеядой ярких личностей, таких, как Гёте, Александр фон Гумбольдт, Кювье, Лафайет, Галлатин (бывший тогда посланником Соединенных Штатов во Франции), Вашингтон Ирвинг, сестра Наполеона принцесса Полина Боргезе, графиня Гуиччиоли и лорд Байрон. Его старый учитель профессор Эндрюс Нортон был так поражен, когда подававший надежды молодой человек, которого он послал за рубеж, чтобы изучать теологию, вернулся с шелковистой бородой, в щегольском наряде и поприветствовал его поцелуем в обе щеки, что он написал Бэнкрофту, чтобы тот никогда больше не появлялся в его доме. Несмотря на весь свой последующий успех, Бэнкрофт никогда не был вновь принят в лоно бостонской элиты. Это отчуждение помогло ему окунуться в великий мир идей и выработало у него широкий кругозор, благодаря которому ему открылись особенности американского пути.
За рубежом Бэнкрофт подпал под влияние немецких историков, особенно Арнолда Хеерена; от них он научился как уважению к историческим источникам, так и стремлению к объективности. Теория Хеерена о единстве человечества, заложенном еще в древних греческих и европейских политических системах, укрепилась в Бэнкрофте благодаря его солидной уни-тарианской подготовке. Когда Бэнкрофт впервые помыслил о написании истории — это было еще в 1828 году, — он, видимо, думал о всеобщей истории, в которой рассказ о Соединенных
468
Штатах был бы лишь одной из ее составных частей. Когда в 1834 году он опубликовал первый том своей истории, то его рассказ, об Америке выглядел всего лишь как один недавний, пусть решающий, но эпизод в истории человечества.
Бэнкрофт был американским миссионером, но не шовинистом. История страны открыла для него ту роль, которую часть человеческой расы сыграла в драматическом прогрессе всего человечества. Эта великая тема весьма искусно раскрывается благодаря тому, что, хотя он и назвал свои тома «Историей Соединенных Штатов Америки», вся его самобытная работа освещает лишь тот период, когда история нового государства, строго говоря, еще не началась. Первые девять томов, публиковавшиеся с перерывами в течение более тридцати лет (1834 — 1866), изложили историю от самых ранних французских и испанских поселений в конце XV и начале XVI века до 1776 года. Десятый том, касавшийся периода 1776 — 1782 годов (1874), был снабжен подзаголовком «Американская революция». И лишь после некоторых раздумий он издал свою двухтомную «Историю создания Конституции» (1882). Таким образом, его великая первооткрывательская «национальная» история описывала страну до того, как она стала государством. Но для него это не было парадоксом: сама тема американской истории была преднациональной и интернациональной. Предназначение Америки — собрать народы, чтобы продвинуть вперед дело поиска свободы человека, — никогда не проявлялось сильнее, чем в колониальную эпоху, когда люди впервые прибыли сюда из разных стран мира и впервые попытались выразить свои сложные и разнообразные устремления. Сама вера в предназначение Америки как Града на Холме, была укреплена при помощи устойчивого воздействия работы Бэнкрофта.
Тема Бэнкрофта, как он сам подытожил в своей речи «Необходимость, реальность и будущее развитие человеческой расы» (1854), была всеохватывающей:
Взаимоотношения между Богом и человечеством составляют ЕДИНСТВО расы. В более полном признании этого единства заложено первое великое обещание, которое мы получаем от будущего. Да, у наций собственные убеждения, институты, родина. Человеческое сообщество как великое целое не может быть построено в течение жизни одного поколения. Но различные народы необходимо рассматривать как его составные части, готовые к тому, чтобы однажды быть собранными вместе, как рессоры и колеса...
469
В этом великом деле наша страна занимает благородное место... Наша страна собирает не только людей со всех стран, но и их идеи. Уничтожьте прошлое любой ведущей нации мира, и наша судьба изменилась бы. Италия и Испания в лице КОЛУМБА и ИЗАБЕЛЛЫ соединились вместе для великого события, которое открыло Америку для эмиграции и торговли; Франция способствовала ее независимости; поиски происхождения языка, на котором мы говорим, привели нас в Индию; наша религия пришла из Палестины; из тех гимнов, что мы поем в церквах, некоторые прозвучали впервые в Италии, другие — в аравийских пустынях, третьи — на берегах Евфрата; наше искусство пришло из Греции; наше правосудие — из Рима; наш морской кодекс — из России; Англия обучила нас системе представительного правительства; благородная Республика объединенных провинций завещала нам в области идей великую идею терпимости ко всем взглядам; в области действий — плодотворный принцип федерального союза. Поэтому наша страна более, чем какая-либо другая, демонстрирует воплощение единства человеческой расы... Наконец, как следствие стремления человечества к единству и всеобщности, организация общества должна все более и более соответствовать принципу Свободы.
Бэнкрофт почти не отходил от этой темы, начиная с первой фразы своего первого тома, которая гласила, что «Соединенные Штаты Америки являются важной составной частью великой политической системы, охватывающей все цивилизованные страны мира», до последней фразы двенадцатого тома, в которой отмечалось, что в 1789 году «все друзья человечества уповали на успех в деле беспримерной попытки управлять штатами и территориями имперских размеров как одной федеральной республикой». Бэнкрофт показал, как ручейки из старых наций вливаются в общий поток американской истории, чтобы смешаться и очиститься до того, как снова отделиться от потока. Хотя его внимание было сосредоточено на Америке, в поле его зрения был весь мир. Он рассказывал о событиях и достижениях европейских стран, он размышлял о последствиях для Америки событий в Испании, Франции или Англии. Трудно где-либо еще найти менее шовинистическое выражение национализма.
Работа сразу же завоевала успех. Было подсчитано, что в течение года с момента его издания в 1834 году первый том появился почти в одной трети домов Новой Англии. Гонорар за «Историю» сделал Бэнкрофта состоятельным человеком. В течение десяти лет этот первый том был переиздан десять раз, а к 1878 году — двадцать шесть. Люди в больших количествах покупали и читали последующие тома, как только они появлялись.
470
Поскольку его успех был обусловлен во многом способностью подняться над провинциальными пристрастиями, неудивительно, что его работа не полностью удовлетворяла жителей каждой отдельной колонии. Консервативным вигам из Новой Англии не нравилась его джексоновско-демократическая точка зрения. Преданные виргинцы возражали против смешения их с Массачусетсом. Бэнкрофт страдал от общеизвестного пренебрежения бостонских аристократов по отношению к тем, у кого была «только национальная» репутация. Его откровенная поддержка Джексона, Ван-Бюрена и Полка почти вывела его за рамки респектабельного общества. Однако со временем Бэнкрофт был вознагражден за свою партийную приверженность, став вначале налоговым инспектором Бостонского порта, затем морским министром в правительстве президента Полка, затем исполняющим обязанности министра обороны и позднее послом в Великобритании. Почти до самого начала Гражданской войны проводимая им политика, отделившая его от замкнутых бостонцев, отличалась более государственным взглядом на американское прошлое.
Задолго до окончания его удивительной жизни слава Бэнкрофта вышла далеко за партийные рамки; его государственные посты были в ней далеко не главным. Леопольд фон Ранке (вызвав этим некоторое раздражение Бэнкрофта) признал его историю «лучшей среди книг, когда-либо написанных с демократических позиций». Его учитель Хеерен назвал ее «истинно вдохновляющей историей». Никогда — ни до него, ни после — ни один американский историк не прославился так за рубежом. С годами его слава росла и на родине. Спустя двадцать один год после того, как он выступил в роли официального оратора конгресса по случаю смерти Эндрю Джексона в 1845 году, он произнес речь в память Линкольна на совместной сессии конгресса 12 февраля 1866 года. Когда президент Эндрю Джонсон в 1867 году назначил его послом в Берлин, это было актом личного, а не партийного признания, и президент Грант сохранил его на этом посту. Конгресс проголосовал за его право выступать в конгрессе. Когда в 1891 году он умер, президент Гаррисон приказал приспустить флаги в тот момент, когда тело Бэнкрофта было возвращено его родному Вустеру.
Во времена расцвета Бэнкрофта существовал самый легкий и, как думали некоторые, единственный путь, на котором американский историк мог привлечь к себе всеобщее внимание, — стать антиподом Бэнкрофта. Юрист и редактор из ви
471
гов Ричард Хилдрет (тоже из Массачусетса) сделал такую попытку в шести томах (1849 — 1852), где он дошел до Миссурийского соглашения 1820 года. Он пытался использовать Бэнкрофта в качестве антипода собственным строго федералистским истолкованиям, преднамеренной бесстрастности и его акценту на экономических факторах. Джордж Таккер, многосторонний литератор и профессор этики в Виргинском университете, пытался сбить влияние Бэнкрофта своей работой (в 4-х томах, 1856 — 1857), которая защищала рабство и которая с позиций Юга освещала события до 1841 года. Но никто не смог достичь высот Бэнкрофта.
Почему успех Бэнкрофта был столь быстрым, столь всеохватывающим и столь прочным? Сама слабость американского национального духа в первые десятилетия существования страны, преобладание местных интересов, неопределенность и непонимание значения и целей страны отвели Бэнкрофту эту особую роль и создали для него исключительную возможность стать высоким служителем дела американской нации. Для многих американцев он был скорее пророком, чем историком, поскольку он использовал национальное прошлое как доказательство предназначения страны. Эта миссия не проповедовалась им в терминах шовинизма или ксенофобии. Напротив, история всего человечества открыла ему особую судьбу, уготованную Америке. В самом поиске цели первыми американцами Бэнкрофт нашел символ национального смысла, не ограниченного политическими границами, а обусловленного надеждами всего человечества.
42.
ТОРЖЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
Если создание культа народных легендарных героев и мифологизация отца отечества шли довольно быстро, то выработка других патриотических символов и ритуалов новой страны продвигалась медленно и со сбоями. Например, национальный флаг и национальный гимн, которые станут важнейшими атрибутами патриотических мероприятий XX века, сложились окончательно только после Гражданской войны. Первый флаг, под которым колонисты сражались в Войне за независимость, был поднят континентальной армией Вашингтона 1 января 1776 года в Сомервилле, штат Массачусетс. Этот
472
так называемый флаг Великого Союза содержал британский крест Святого Георгия и Святого Андрея на синем поле и тринадцать чередующихся красных и белых полос; он напоминал флаг Восточно-Индийской компании, который развевался в колониальных портах с начала XVIII века. Резолюция континентального конгресса в Филадельфии летом 1777 года предусматривала, что флаг Соединенных Штатов составляют тринадцать чередующихся красных и белых полос и «что Союз олицетворяют тринадцать звезд, белых на синем поле, представляющих новое созвездие», но описание было столь неопределенным, что предоставляло возможность любым вариантам. Даже в армии не разобрались окончательно, что же на деле представлял собой национальный флаг и когда и как его надо выставлять. Американцы воевали в период Революции под местными стягами с разнообразнейшей символикой — змеями, сосновыми и пальмовыми деревьями, орлами, символическими цепями, якорями и лозунгами типа «Следуй за мной», «Призыв к небу», «Мы едины» и «Vince aut Morire1, — но не под настоящим национальным знаменем.
Штандарт Соединенных Штатов, подготовленный по указанию Вашингтона, был доставлен ему только в марте 1783 года, когда боевые действия уже закончились. Похоже, что больше всех руку к нему приложил Фрэнсис Хопкинсов, филадельфийский судья, человек разносторонних дарований, один из подписавших Декларацию независимости. Легенда о Бетси Росс исходит от ее внука, который рассказал в 1870 году это семейное предание Пенсильванскому историческому обществу, но она не имеет серьезных исторических доказательств.
После присоединения в 1794 году двух новых штатов — Вермонта и Кентукки — конгресс постановил, что флаг должен иметь пятнадцать полос и пятнадцать звезд, но отверг предложение «навсегда утвердить флаг Соединенных Штатов». Даже после того, как число штатов увеличилось, этот пятнадцатизвездный, пятнадцатиполосный флаг развевался над американскими судами во время войны 1812 года; таким его увидел Фрэнсис Скотт Ки. Затем в 1818 году, после того, как вопрос об этом разнобое обсуждался в конгрессе (в самом конгрессе висел флаг с восемнадцатью полосами, в то время как на флаге над нью-йоркским военным портом их было девять), законом было установлено, что полос должно быть три
1 Победить или умереть (мт.).—Прим.перев.
473
надцать, подразумевая, что с каждым новым штатом на флаге будет добавляться звезда. Но в общественной практике продолжался разнобой. Один наблюдатель забавлялся Четвертого июля 1857 года видом «различных комбинаций на флагах, вывешенных на кораблях, гостиницах, общественных зданиях в Нью-Йорке. На большинстве кораблей звезды были расположены в виде пяти горизонтальных рядов по шесть в каждом, то есть всего тридцать — хотя в то время подлинное число должно было составлять тридцать один... На некоторых кораблях тридцать одна звезда составляла по форме одну большую звезду, и этот вариант преобладал в местах развлечений и гостиницах Нью-Йорка и Джерси. На других звезды располагались в виде ромба, прямоугольника или круга. Над одним судном развевалась большая звезда, состоявшая из маленьких; над другим — тридцать одна звезда располагалась в форме якоря...*.
Прошло немало времени, прежде чем звездно-полосатый флаг, утвержденный законодательным актом, стал применяться официально и повсеместно. Начиная с индейской кампании генерала Энтони Уэйна в 1793 году, знамена армии Соединенных Штатов были обычно синими, изображавшими в центре белоголового орла, держащего щит Соединенных Штатов с изображением вверху различного количества звезд (по числу штатов) в различных комбинациях и полковой эмблемой внизу. Вероятно, это помогает объяснить происхождение выражения «распластанный орел», употреблявшегося в отношении красноречивого сенатора Томаса Харта Бентона и других сторонников экспансии на Запад (этот американизм впервые был употреблен в данном значении примерно в 1858 году). В армейских частях звездно-полосатый флаг вводился постепенно: в гарнизонах и артиллерийских частях — в 1834 году, в пехоте — в 1841-м, в инженерных частях — в 1866-м, в морской пехоте — в 1876-м, в кавалерии — в 1887 году. Несмотря на возвышенность слов, написанных о знамени и его значении, история флага до Гражданской войны представляется весьма беспорядочной. Наконец по распоряжению президента Тафта от 24 июня 1912 года флаг стал единым.
История национального гимна во многом схожа, поиску единой патриотической песни мешали местные страсти. Главный претендент «Славим Колумбию», написанный в 1798 году выдающимся федералистом Джозефом Хопкинсоном, больше напоминал политический, чем национальный гимн. Всем известна история о том, как Фрэнсисом Скоттом Ки были написа
474
ны слова «Звездно-полосатого стяга», когда он 14 сентября 1814 года находился на борту английского корабля, ведя переговоры об освобождении одного американца, и наблюдал бомбардировку форта Мак-Генри около Балтимора. Но личные политические чувства Ки (в его песне были сильные антибри-танские мотивы, особенно в редко исполняемой третьей строфе, в которой выражается радость, что «их кровь смыла грязные следы их ног»), несомненно, задержали принятие его песни в качестве патриотического гимна. «Звездно-полосатый стяг» начал появляться в школьных песенниках только в 1850-х годах, и лишь с 1890-х годов армейские и морские правила предписывают исполнять его по торжественным случаям. Наконец, Актом конгресса от 3 марта 1931 года сочинение Ки было юридически определено в качестве национального гимна.
В первые десятилетия существования страны было абсолютно не ясно, какие, если вообще такие существовали, события должны отмечаться как национальные праздники. В этом, как и в других попытках национального самоопределения, американцам долгое время мешали неопределенность целей, соперничество и предвзятость разных колоний. Остатки этих проблем сохранились и в XX веке, поскольку в Соединенных Штатах по-настоящему до сих пор нет национальных праздников. Существует небольшое число федеральных «узаконенных праздников», определенных президентом и конгрессом, но они распространяются только на округ Колумбия и федеральных служащих, где бы они ни находились. Каждый штат устанавливает свои праздники. Если Новый год, день рождения Вашингтона, День поминовения, День независимости, День труда, День ветеранов (примирения), День благодарения и Рождество — что исчерпывает список официальных национальных праздников — обычно соблюдаются в каждом штате, происходит это потому, что в каждом из них отдельно принят соответствующий закон. В дополнение к этим праздникам, по которым решения штатов совпадают, имеется по крайней мере 50 других дней, признанных в качестве официальных или общественных праздников в одном или более штатов. Они отличаются большим разнообразием целей и содержания, к ним относятся (среди прочих) День древонасаждения, Страстная пятница, Жирный вторник, первый день поста, день рождения Роберта Ли, день рождения Линкольна, День независимости Техаса, День битвы при Банкер-Хилле, День Колумба, день рождения Натана Бедфорда Форреста, день рождения Эндрю
475
Джексона, день рождения Томаса Джефферсона, День битвы при Беннингтоне, день рождения Хью П. Лонга, День Пуласки, День поминовения конфедератов, День Уилла Роджерса, День генерала Дугласа Макартура, День национального флага и День всех святых. За исключением чисто религиозных праздников, почти все эти празднества отмечают события, которые либо произошли после, либо не были признаны достойными празднования до Гражданской войны.
Конечно, Четвертое июля должно было стать самым важным и самым специфически американским праздником политического значения. Но происходило это постепенно, и нигде так не проявились причуды американского национального духа, как в его первых празднованиях.
Американская история коротка. Еще в начале 1830-х годов память некоторых людей хранила начало Революции. Молодой наблюдательный житель Нью-Йорка Джордж Темплтон Стронг записал в своем дневнике 8 ноября 1854 года:
Мы — народ столь молодой, что чувствуем потребность в национальном и восторгаемся всем, что утверждает наше национальное «американское» существование. У нас нет, как у Англии или Франции, веков достижений и бедствий, на которые можно оглянуться; у нас нет свидетельств «американизма», и мы ощущаем эти нехватки. Отсюда и развитие в каждом штате Союза исторических обществ, которые хватаются за каждое стоящее воспоминание о наших колониальных или революционных временах. Мы стремимся к созданию истории инстинктивно и, не имея за спиной исторических эпох, принадлежащих более старым нациям — англосаксов, Каролингов, Гогенштауфенов, Гибеллинов и так далее,—мы сосредоточиваемся на мелких деталях нашей истории и чтим каждый маленький факт, касающийся наших героев. Живой рассказ о жизни и порядках в Нью-Йорке пятидесятилетней давности был бы встречен здесь с энтузиазмом. В Лондоне же, например, интерес к подобной картине времен Питта и Фокса был бы сравнительно невелик.
В таком новом государстве национальные праздники должны были, скорее всего, быть связаны с его рождением. Так развивалась зародившаяся еще в начале XVII века характерная и настойчивая американская идея «миссии», питаемая ограниченностью исторического материала.
Когда американцы обратились к своему недавнему прошлому, хорошо известному если не им самим, то их отцам и дедам, они обратились к «основам» своего государства. Это было знакомой темой, которая откликалась эхом снова и снова в первые десятилетия существования страны. «Наши истоки лежат в пре
476
делах досконально засвидетельствованной истории, — заявлял, выступая перед Нью-Йоркским историческим обществом в 1828 году ректор Джеймс Кент, — ...нам не дано, подобно нациям древней Европы, устанавливать наше происхождение от высших существ или возвеличивать и покрывать поэтическим глянцем мудрецов и исторических деятелей, заложивших основы нашей империи. Да у нас и нет необходимости в подобных действиях. Для нас достаточно чести иметь возможность обращаться к простым и строгим правдивым свидетельствам». «Истоки американской цивилизации, — добавлял Фрэнсис Паркмен в год Аппоматокса, — в отличие от Старого Света открыты для ясных лучей Истории. С виду они крайне скудны; в действительности жр они обильны и полны сил. Опираясь на источники жизни, орудия, слабые в других обстоятельствах, становятся мощными во благо и зло, а люди, затерянные в толпе в других местах, выступают здесь как посланцы Судьбы». Особенность американской истории не могла не придать особого характера и национальным обрядам.
Праздновать своеобычность страны — ее «независимость» — было бы невозможно без одновременного оправдания ее отделения и провозглашения миру ее миссии. Провозгласив причины отделения решающим фактором в рождении государства, американцы этим положили начало постоянной заботе о национальных целях и национальной миссии. Празднование рождения нации и правомерность ее существования слились в единое целое.
Новая страна предпочитала канонизировать не событие или акт, а его провозглашение: всенародную декларацию юридических прав и общих принципов. «Славу акта затмила слава его провозглашения». Это было одним из наиболее значительных выборов, сделанных американцами в постепенных, неосознанных поисках своей государственности. Это было подходящим способом самовыражения страны, для которой уже стали характерными многочисленные речи, чьи разнородность и расплывчатость порождали беспокойство за общенациональные Цели. Американская расплывчатость заставляла американцев более, чем других, чувствовать необходимость утвердить свою национальность и свои цели с предельной ясностью.
Неудивительно, что в течение десятилетий до начала Гражданской войны американские национальные праздники демонстрировали несколько рекламный характер отношения к прошлому. Американцы составили свое национальное прошлое, свалив в одну кучу то, что действительно произошло, что могло
477
произойти и что должно было произойти. Четвертое июля стало национальным юбилеем для приверженцев подобного ретроспективного подхода.
Что и почему случилось Четвертого июля? Точнее говоря, как именно и почему получилось так, что 4 июля стало датой повсеместного празднования, является тайной, которая, возможно, никогда не будет раскрыта.
Резолюция, которая впервые провозгласила американскую независимость, была принята континентальным конгрессом 2 июля (а не 4 июля) 1776 года. Ибо 2 июля конгресс официально проголосовал за резолюцию, внесенную 7 июня Ричардом Генри Ли и поддержанную Джоном Адамсом, которая гласила, «что объединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они освобождаются от британского подданства и что всякая политическая связь между ними и Великобританией отныне и впредь объявляется несуществующей». На следующий день 3 июля Джон Адамс писал своей жене:
Второй день июля 1776 года будет самой памятной вехой в истории Америки. Я склонен верить, что последующие поколения будут отмечать его как праздник великой годовщины. Он должен быть запечатлен торжественными актами преданности Всемогущему Господу... как день избавления, с пышностью и парадом, представлениями, играми, спортивными состязаниями, пальбой, колокольным звоном, кострами и иллюминациями, от одного конца континента к другому, с этого времени и навечно... потомки будут ликовать по поводу свершений этого дня...
Казалось, все сложилось так, чтобы лишить Ли (и между прочим, Джона Адамса) всей полноты его славы. Имя Ли как человека, сформулировавшего и предложившего важную резолюцию конгрессу, не было тогда опубликовано ни в газетах, ни в протоколах конгресса. Причины этого покрыты мраком. Собственное объяснение Джона Адамса, данное много лет спустя в его автобиографии, состояло в том, что «мистер Хэнкок был председателем, мистер Гаррисон — председателем комитета обеих палат, секретарь мистер Томпсон был кузеном мистера Дикинсона, а мистер Р. Г. Ли и мистер Джон Адамс не были фаворитами ни одного из них*. Но, какими бы ни были неточными или неверными сведения, представленные общественности относительно личного вклада и соответствующей личной славы участников событий, не было никаких сомнений относительно настоящей даты провозглашения
478
независимости. Как заявляла вечером 2 июля «Пенсильвания ивнинг пост», «в этот день континентальный конгресс объявил объединенные колонии свободными и независимыми штатами».
Если Четвертое июля не было днем первой официальной декларации американской независимости, почему же называют именно эту дату? Ведь она не была также датой подписания Декларации независимости Джефферсона. Первый вопрос, конечно, состоит в том, почему после решающих событий 2 июля вообще возникла необходимость в последующей декларации. Ответ прост: с целью ограничения дебатов и сохранения времени континентальный конгресс придерживался общей практики рассмотрения вначале самих предложений. Затем согласовывались причины постановки вопроса. Для подготовки декларации незадолго до голосования по предложению о независимости был создан комитет Джефферсона (в который также вошли Бенджамин Франклин и Джон Адамс). Когда резолюция Ли была официально принята, документ Джефферсона также был готов для обсуждения комитетом в полном составе, что и произошло со 2 по 4 июля.
Этот документ был одобрен голосованием континентального конгресса в Филадельфии 4 июля 1776 года, после чего изготовили и разослали отпечатанную копию (содержавшую имена только председателя Джона Хэнкока и секретаря Чарлза Томпсона). Первое голосование документа проходило 4 июля по штатам, и Нью-Йорк воздержался. Только 9 июля местный конгресс Нью-Йорка его одобрил. Информация об этом дошла до континентального конгресса 15 июля. 19 июля континентальный конгресс окончательно проголосовал, что декларация «будет аккуратно переписана на пергаменте под названием и титулом «Единодушной Декларации Тринадцати Соединенных Штатов Америки». Но документ не был еще подписан знаменитыми пятьюдесятью пятью именами, как не было точно обосновано ни тогда, ни позднее, почему эти люди должны были его подписать.
Томас Маккии, член конгресса от Пенсильвании, присутствовавший 4 июля, объяснял, что актом подписания Декларации как бы давалась публичная присяга на верность, обещание следовать избранному курсу. Или (по его словам) это должно было «помешать предателям или шпионам пробраться к нам». Видимо, в целях безопасности было решено, что ни одно лицо не может получить место в конгрессе в течение этого года, пока оно не подпишет Декларацию независимости. Если все
479
обстояло именно так, то Декларация являлась присягой на верность в такой же мере, в какой и декларацией принципов. Таким образом, это была одна из первых в длинном списке и, бесспорно, самая известная и самая славная (как и самая неправильно понятая) попытка американцев заявить о себе публичными клятвами в верности.
Если ее целью было просто утвердить акт континентального конгресса, то вся процедура была необычайно растянута. Только 2 августа в протоколе континентального конгресса была помещена следующая запись: «Декларация независимости, будучи переписанной и сличенной на столе, подписана членами конгресса». На деле эта запись была не совсем точной, поскольку даже тогда имелись не все подписи. По крайней мере один из подписавших, Мэтью Торнтон из Нью-Гэмпшира, поставил свое имя только в ноябре (когда он впервые стал членом континентального конгресса); еще пять других «подписавших» (Раш, Клаймер, Смит, Тейлор и Росс, все из Пенсильвании) 4 июля даже не были членами конгресса; по крайней мере один (Джордж Рид из Делавэра) стал «подписавшим» с запозданием, хотя 2 июля он присутствовал и отказался проголосовать за независимость.
Утверждение, что Декларация независимости была подписана 4 июля, основывается на множестве личных лжевоспомина-ний и даже некоторых последующих исторических фабрикациях. В течение десятилетия после священного 1776 года Франклин, Джон Адамс и Джефферсон независимо друг от друга заявили в письменной форме, что Декларация была подписана 4 июля. Путаница произошла из-за того, что сам континентальный конгресс в течение 1776 года даже не объявил имена «подписавших», может быть, потому, что было благоразумно решено сначала посмотреть, как примут Декларацию в штатах. Впервые конгресс обнародовал имена «подписавших» 19 января 1777 года. Затем, когда конгресс опубликовал официальный протокол, он фактически поправил собственные отчеты (отступая при этом так далеко, что опустил некоторые противоречивые записи от 19 июля и 2 августа 1776 года), для того чтобы показать, что Декларация была подписана 4 июля. Когда в «Секретных протоколах», изданных в 1821 году по решению конгресса Соединенных Штатов, наконец открылась правда об опубликованных ранее отчетах, миф о подписании 4 июля уже настолько утвердился, что сам Джефферсон не поверил реальным фактам. К этому времени сухое юридическое наименование документа Джефферсона также было заменено на более при
480
влекательное, которое и сохранилось на всю последующую историю Америки.
Миф о подписании не был единственным среди тех, которыми обросла дата 4 июля. Были и другие, более колоритные. Один касался Колокола свободы, ставшего в американской патриотической иконографии почти таким же известным, как и история с флагом. Колокол свободы был частью легенды о том, что «подписание» декларации было отпраздновано немедленно и всенародно 4 июля 1776 года. Но в действительности мы не знаем точно, как и когда новость о голосовании за независимость распространилась повсеместно. В те дни новости доходили медленно. Газеты ждали, чтобы перепечатать новости из других газет. Известие о резолюции Ли 2 июля появилось в нью-йоркских газетах только 8 июля, а в газетах Новой Англии — только 11 июля. Континентальный конгресс в целях безопасности и по иным причинам вел свои заседания за закрытыми дверьми. 6 июля экземпляр декларации Джефферсона попал в комитет по безопасности Пенсильвании, который приказал, чтобы в полдень 8 июля ее прочитали и провозгласили в ратуше. Свидетельства о реакции общественности того времени противоречивы. «Троекратное «ура» вознеслось к небесам, — сообщал Джон Адамс. — Батальоны прошли по плацу и дали для нас ружейный салют, несмотря на нехватку пороха». Но Чарлз Биддл писал в автобиографии, что при этом «присутствовало очень мало уважаемых граждан. Генерал (имя забыто) выступил против, и многие граждане из добрых вигов были сильно настроены против; однако вскоре они примирились*. Когда информация о событиях начала июля в течение августа достигала отдаленных частей континентальной армии, там устраивались свои празднества, часто шумные и носившие характер попоек.
Самая популярная легенда о том, что о подписании Декларации независимости миру было объявлено звоном колокола на филадельфийской ратуше (который благодаря этому акту был наречен Колоколом свободы), не имеет под собой никакой реальной основы. Колокол действительно существовал, но ни современные историки, ни протокол конгресса о нем не упоминают. Впервые колокол получил свое легендарное название только в период движения против рабства в 1830-х годах. Наиболее раннее упоминание о колоколе содержалось в брошюре против рабства, распространявшейся на Массачусетской ярмарке в Бостоне в 1839 году, которая называлась «О Колоколе свободы — друзья свободы* и содержала рисунок колокола.
481
Это же название и тот же рисунок использовались и в последующие годы. «Свобода» понималась здесь, конечно, не в смысле независимости колоний от Британии, а в смысле свободы для рабов.
Скоро была сочинена легенда, которая исторически подтверждала право колокола на его новое предназначение и использование в политических целях. Ее автором стал Джордж Липпард, одаренный филадельфийский журналист, который после короткой чиновничьей и юридической карьеры свершил удивительно большое количество патриотических дел в оставшийся период его тридцатитрехлетней жизни. Подобно Уимсу, во второй половине своей жизни он нажил большое состояние как автор сенсационных и фривольных романов о монахах и охотниках за рабами. У него также были свои причуды в области религии: он настоял на свадьбе без священника и даже придумал собственную религию, вылившуюся в Братство Союза, которое он основал в 1850 году. В этой секте братство, людей соединялось с патриотизмом и грубым протомарксизмом. Как глава секты он именовал себя «Верховный Вашингтон» и разъезжал по всему Союзу; после его смерти ложи секты остались в двадцати трех штатах. Утверждали, что его газетные серии («Легенды о Революции») в 1840-е годы были причиной роста тиража филадельфийского «Сатердей курьер» с 30 000 до 70 000 экземпляров и широко перепечатывались по всей стране. Он стал популярным лектором. «Ледиз бук» Годи в 1849 году назвал его, «бесспорно, самым популярным писателем современности».
Самого Лилларда довольно быстро забыли, но он сделал Колокол свободы бессмертным. Книгой «Вашингтон и его генералы, или Легенды Американской революции» (1847) он, как и Парсон Уимс, сделал себе имя, используя чистый вымысел, самым беспардонным образом превратив собственную выдумку в один из самых незабываемых эпизодов американской «истории». Он дал новой стране единый торжественный символ. Колокол свободы будет бесконечно воспроизводиться на монетах, почтовых марках, правительственных облигациях, наконец, он станет одним из самых высокоценимых символов американской нации, американской цели, американской миссии. Во время первой мировой войны на одном из самых удачных плакатов, посвященных Займу свободы, был изображен Колокол свободы с призывом «Пусть он зазвонит снова». Без плодотворной, хотя и подслащенной выдумки Лилларда это было бы невозможно.
482
Рассказ Липпарда о происходившем в Филадельфии 4 июля 1776 года в книге «Вашингтон и его генералы» содержал описание «толпы взволнованных людей», собравшихся вокруг ратуши. На колокольне Зала независимости стоял «пожилой человек с седыми волосами и выжженным солнцем лицом... в скромной одежде», а рядом с ним «мальчик с соломенными волосами и смеющимися глазами цвета голубого летнего неба». Поскольку милый старый чудак был неграмотным, мальчик прочитал для него надпись на колоколе «Провозгласи свободу всей земле и всем живущим на ней». Желая узнать, выполнено ли уже предначертание, старик послал голубоглазого мальчика вниз в зал континентального конгресса.
Ему не надо было приказывать дважды. Мальчик с голубыми глазами и соломенными волосами вырвался из рук старого хранителя колокола и устремился вниз по темным ступеням.
Старый хранитель колокола остался один. Прошло довольно много времени. Склонившись над перилами лестницы и оборотившись в сторону Каштановой улицы, он стал тревожно высматривать светловолосого мальчика. Мгновения текли, но мальчик не появлялся. На мостовой и лужайке росла толпа, но мальчика все не было.
— Ах, — простонал старик, — он забыл обо мне! Мои старые ноги теперь должны будут проковылять вниз по ступеням ратуши, потом взобраться обратно, и все из-за этого ребенка...
Он не успел договорить, когда в его ушах зазвучал веселый, звенящий смех. Там, в толпе на мостовой, стоял голубоглазый мальчик и хлопал своими маленькими ладошками, а ветер развевал его соломенные волосы, закрывая ими лицо.
Затем, набрав воздуха в свою маленькую грудь, мальчик поднялся на цыпочки и прокричал только одно слово:
— Звони!
Видели ли вы, как зажглись глаза старика? Видели ли вы, как его рука внезапно обнажилась до плеча, видели ли вы эту морщинистую руку, ухватившуюся за железный язык колокола? Старик снова стал молодым; в его жилы влилась новая сила. Вперед и назад сильными толчками он раскачивал язык. И колокол заговорил! Толпа на улице его услышала и взорвалась в едином долгом крике! Старый Делавэр услышал его и отозвался криком «ура» тысячи матросов. Город услышал его и сорвался с канцелярских столов и рабочих скамеек, как будто началось землетрясение.
Ничего этого не было — ни толпы, ни седовласого старого чудака, ни мальчика «с соломенными волосами и смеющимися глазами цвета голубого летнего неба». Нет ни малейших доказательств существования любого из них. Джон Адамс многозначительно сообщал, что звонари филадельфийской церкви Христа
483
(пастырь которой продолжал молиться за короля) звонили после чтения Декларации 8 июля, но ни он, ни кто-либо другой не упоминал о звоне на колокольне ратуши.
Эта легенда о Колоколе свободы была подтверждена и увековечена на страницах созданной Бенджамином Лоссингом «Иллюстрированной полевой книжки о Революции» (1850 — 1852), роскошно изданном и отчасти достоверном альбоме, содержавшем зарисовки исторических сцен и предметов. Изложенная Лоссингом детальная, но несколько смягченная версия истории Липпарда (сопровождаемая изображением колокола) утвердила Колокол свободы в качестве святого Грааля Американской революции.
Но главной загадкой остается причина, по которой 4 июля было выбрано для празднования. Ранняя история праздника только усугубляет эту путаницу. Событие, которое отмечают, обычно неопределенно называют годовщиной Американской независимости, хотя через пять лет после 1776 года Адамс ссылается на него как на годовщину подписания, а еще через пять лет и Франклин, и Джефферсон письменно подтвердили ошибку.
Среди мифов, связанных с этим праздником, ни один не является столь живучим и столь ошибочным, как тот, что с самого начала существования страны Четвертое июля было праздником патриотизма и национального единства. Во время Революционной войны этот день отмечался ежегодно и в праздновании принимал участие конгресс, но далеко не всегда праздник утверждался, в нарушение правил, путем официального голосования. После окончания Революции конгресс проголосовал за празднование Четвертого июля в 1785 и 1786 годах, но не в 1787 году. Законодатели Массачусетса в 1781 году первыми проголосовали за официальное признание праздника их штатом. В Бостоне празднования начались в 1783 году, когда городское собрание проголосовало, чтобы прежний праздник — годовщину Бостонской бойни (5 марта 1770 года) — заменить праздником 4 июля. По этому поводу «должна произноситься публичная речь... в ней оратор должен изложить чувства, поступки и принципы, которые привели к этому великому национальному событию, и рассказать о важных и счастливых его результатах общего либо местного значения, если они уже получены либо будут произрастать вечно в благотворные времена». Но в 1787 году, то есть в год, когда в Филадельфии собирался конституционный конвент, конгресс проголосовал против проведения официального празднования.
484
После этого в течение более чем трех десятилетий празднования носили хаотический характер, причем разные политические партии проводили собственные мероприятия. Этот день приобрел печальную известность как день острых политических расхождений, иногда заканчивавшийся насилием.
Понятно, что были расхождения и в самой дате. Даже в 1795 году газеты заявляли (на основе цитируемого выше письма Джона Адамса), что истинной датой Американской независимости было не 4, а 2 июля. Но к тому времени Четвертое июля уже слишком прочно утвердилось. И начиная с 1788 года оно стало подходящим поводом для прояснения противоречивых взглядов на суть патриотизма в ходе острых дебатов между федералистами и антифедералистами относительно принятия вновь предложенной федеральной Конституции; В Нью-Йорке, Филадельфии, Хартфорде и других местах федералисты нажили партийный капитал, монополизируя празднования, связывая воедино священное дело Революции с противоречивыми проблемами новой Конституции и используя в целом это событие для рекламирования федералистской точки зрения. Вполне естественно, это раздражало антифедералистов. В Провиденсе, например, тысяча граждан, возглавляемых судьей верховного суда, предприняла неудачную попытку помешать сделать 4 июля днем празднования ратификации Конституции (решающий, девятый штат — Ныо-Гэмпшир — принял постановление 21 июня). Род-Айленд не послал делегацию на Филадельфийский конвент, став местом сильной народной оппозиции новой Конституции, и не ратифицировал ее до 1790 года. Граждане утверждали, что этот день «следует праздновать всем, а не только фракции».
Тем не менее федералисты годами стремились главенствовать в том, что могло бы стать подлинно национальным праздником. Общество Цинциннати, имевшее репутацию строго аристократического и федералистского, сделало Четвертое июля днем ежегодного собрания штата, и его тоже обвиняли в узурпировании праздника. В Бостоне и Филадельфии, например, федералисты настолько успешно контролировали празднества, что те буквально стали партийными собраниями. Они .славили новую Конституцию, поддерживали Британию против Франции и позорили Джефферсона и его сторонников. В оплотах федерализма (даже на обедах антифедералистов Четвертого июля) заслуги Джефферсона, связанные с Декларацией, не отмечались, пока в 1797 году он не стал вице-президентом у Адамса. К 1798 году партийные страсти настолько
485
накалились, что каждая из двух партий устраивала собственные процессии, обеды и выступления. Дух происходившего отразился в знаменитом тосте, провозглашенном в том году в Бостоне на праздновании федералистов: «За Джона Адамса — и пусть он, как Самсон, сразит тысячи французов челюстью Джефферсона».
В эти годы призывы к «единству» были на деле призывами к партийной приверженности. В Филадельфии празднования Четвертого июля 1799 года проводились раздельно федералистами, которые поднимали тосты за Вашингтона, Адамса, Пинкни, Маршалла (но опускали Джефферсона), и республиканцами, которые провозглашали здравицу Джефферсону как «государственному деятелю, который составил незабываемую Декларацию независимости, — и пусть его добродетели и патриотизм будут вечно жить в сердцах свободных людей Америки». Четвертого июля 1800 года, когда казалось вероятным, что Джефферсон будет избран следующим президентом, федералисты в Филадельфии выражали сомнение в том, следует ли вообще продолжать праздновать этот день. Они даже распространяли ложные слухи о смерти Джефферсона.
Выборы Джефферсона в 1801 году не столько превратили Четвертое июля в национальный праздник, сколько предоставили другой партии (теперь республиканцам) возможность господствовать на нем. Многие федералистские газеты в отличие от республиканских Четвертого июля не публиковали текста Декларации независимости. В Новой Англии практика чтения Декларации до начала ежегодного доклада была прекращена примерно в 1797 году. В Филадельфии 4 июля 1800 года двое школьных учителей вышли из зала во время общественного празднования, когда ученик прочел подрывной документ Джефферсона. После 1801 года республиканцам удавалось исключить федералистов из многих официальных мероприятий и превратить Декларацию в составную часть своих празднований.
Несмотря на отдельные примирения, обе партии в основном продолжали свои раздельные торжества. Федералисты теперь обвиняли республиканцев (которых они обычно не допускали к главной церемонии) в том, что те с запозданием «открыли» Четвертое июля, а республйканцы получали удовольствие, исключая упоминание о Джоне Адамсе в официальных сообщениях о праздновании Декларации. Республиканцы в Бостоне создали Общество Вашингтона (1805 — 1822), чтобы обеспечить исключительно пристрастное праз
486
днование, и тогда федералисты создали свою контрорганизацию. Торжества Четвертого июля в Бостоне в 1806 году достигли своего пика, когда лидер федералистов убил сына председательствовавшего на республиканских празднованиях. Накал страстей отразился в федералистской «Коламбиан сен-тинел» от 17 июля 1811 года, которая нападала на «советников мистера Джефферсона, ежегодно прилагавших все усилия, чтобы выставить его как автора Декларации независимости», и объясняла, что «только небольшая часть этого памятного документа в том виде, в каком он был принят, принадлежала Джефферсону, да и та была им заимствована из сочинений Локка». Страсти не улеглись и во время войны 1812 года, что особенно ощущалось в Новой Англии. Они немного стихли под умиротворяющим влиянием президента Монро, который посетил Бостон Четвертого июля 1817 года.
Местные распри также порождали исторические неточности и жестокие противоречия. Когда обнаруживалась хотя бы толика подлинных свидетельств, штат, город или графство с радостью заявляли о своем приоритете. Наиболее интересной и самой успешной из подобных усилий была так называемая Мекленбургская Декларация независимости, которая привлекла внимание после того, как хвастливое заявление о приоритете Виргинии в книге Уильяма Уирта «Патрик Генри» (1817) привело в раздражение патриотов других штатов. Контраргументы против Уирта вскоре появились не только, как мы видели, в Массачусетсе, но и в других местах, и особенно в Северной Каролине. Мекленбургская Декларация независимости, (напечатанная в 1819 году во многих газетах) была документом, который якобы был принят 20 марта 1775 года на собрании избранных представителей в городе Шарлотт Мекленбургского округа штата Северная Каролина. Эта недвусмысленная Декларация независимости Мекленбургского округа от Великобритании включала в себя много фраз, которые к 1819 году уже были известными как принадлежавшие Джефферсону. Если документ был подлинным, он уличал во лжи Уирта, ратовавшего за первенство Виргинии, ибо доказывал, что жители Северной Каролины оказались на целый год впереди континентального конгресса и поэтому были подлинными пионерами независимости. В этом случае Декларация Джефферсона также оказывалась, мягко говоря, гораздо менее оригинальной, чем это всеми предполагалось.
487
Когда в июне 1819 года Джон Адамс впервые увидел Мекленбургскую Декларацию — «одну из самых любопытных и глубоких тайн, с которыми я когда-либо встречался», — он был поражен и удивлен. Он немедленно написал Джефферсону: «Как могло произойти, что этот документ был скрыт от меня до сегодняшнего дня?.. Вы понимаете, что, если бы он был у меня, я заставил бы зал конгресса повторять и повторять его слова за пятнадцать месяцев до Вашей Декларации независимости. Насколько бедным, невежественным, злым, близоруким, ошибочным выглядит «Здравый смысл» Тома Пейна в сравнении с этим документом!.. Истинный смысл Америки в тот момент никогда — ни до, ни после — не был выражен так хорошо». Он написал преподобному Уильяму Бентли, обвиняя Джефферсона в плагиате: «Мистер Джефферсон... должен был этот документ видеть, поскольку он verbatim1 перенес его дух, смысл и выражения в свою декларацию от 4 июля 1776 года...»
Ответ Джефферсона Адамсу состоял в том, что мекленбургский документ был фальшивкой вроде того «вулкана»; который якобы был открыт в той же части Северной Каролины за несколько лет до этого. Но патриотов Северной Каролины не так легко было обескуражить. Законодательный орган Северной Каролины опубликовал в 1831 году официальный документ, воспроизводящий Мекленбургскую Декларацию вместе с бумагами, «доказывавшими» ее подлинность. Хотя декларация часто приводится в учебниках как классический пример подделки документа, вроде дара Константина, некоторые уважаемые историки до сих пор полагают, что она подлинная. Вопрос о ее подлинности является техническим и сложным. Независимо от того, считается ли она подлинной за пределами Северной Каролины, в пределах штата Мекленбургская Декларация узаконена как историческая. Дата ее написания — 20 мая 1775 года — стоит на большой печати штата, и 20 мая является официальным праздником штата, отмечающим первую Декларацию независимости.
В 1826 году полувековой юбилей Четвертого июля был освящен драматическим совпадением, ниспосланным свыше, чтобы придать годовщине новое национальное значение. Американцы выстояли во второй войне против Британии и пережили постоянные угрозы внутреннего раскола, прежде чем завершить полвека национальной жизни. Это было необычное
1 Буквально (лат.). —Прим, перев.
488
Четвертое июля, и оно заслуживало большего, чем обычное празднование. По всей стране газеты призывали к празднику, который не должен быть монополизирован «искателями постов и демагогами». Вашингтонская «Нейпшл интеллинджен-сер» вопрошала, должно ли празднование юбилея проходить «обычно, то есть мы будем жарить цыплят, жечь подпорченный порох и наливаться вином в кабаках?». В июне по всей стране были составлены планы торжеств, а сам день отмечался различными способами — военными процессиями, речами, пикниками, частными вечеринками и официальными обедами.
В Вашингтоне подобные планы были составлены комитетом тринадцати во главе с мэром, который пригласил всех оставшихся в живых из подписавших Декларацию независимости и всех бывших президентов. Ни Чарлз Кэрролл, ни Джон Адамс, ни Джефферсон, ни Мэдисон, ни Монро не смогли приехать, но их красноречивые письма с отказами были опубликованы в вашингтонских газетах. Президент Джон Куинси Адамс принял участие в праздновании, которое включало торжественное чтение Декларации, официальную речь, призыв делать пожертвования в фонд по выплате долгов Джефферсона (его плантации недавно пострадали от сильных поздних дождей) и «великолепный фейерверк». Событие не было омрачено местными разногласиями. Через два дня пришло сообщение, что Джефферсон скончался в Монтиселло Четвертого июля в полдень. Еще через два дня поступила информация, что Джон Адамс также умер Четвертого в Куинси.
Это двойное совпадение показалось сыну Адамса президенту Джону Куинси Адамсу «явным и ощутимым» знаком «божественного расположения» как к основателям, так и ко всей стране. Позднее в том же году в своей посвященной обоим усопшим речи, произнесенной в Вашингтоне, Уильям Уирт пошел еще дальше:
До этого времени, дорогие сограждане, Четвертое июля мы отмечали лишь как годовщину нашей независимости, и ее сторонники были обычными человеческими существами. Но в последний раз — на великом юбилее нации, в годовщину (об этом можно твердо сказать) свободы человека, — само Небо явно вмешалось в празднование и осветило этот день заново двойным знамением.
В глубинке, вдали от изощренных политических распрей восточных столиц, этот день, как обычно, отмечали в буйном ве
489
селье. Члены экспедиции Льюиса и Кларка далеко за рекой Миссисипи праздновали его «пышным ужином из жирного окорока оленины». Джосайя Грегг так описал рассвет Четвертого июля 1831 года, когда он и его группа расположились лагерем у Макни-Крика примерно в двухстах милях к северо-востоку от Санта-Фе:
Едва серые лучи полумрака задели сумеречную вершину, как наш патриотический лагерь явил собою ту непосредственную картину радости, что живет в сердце каждого американца в годовщину этого победного дня. Грохот нашей артиллерии и стрелковых частей эхом отозвался с каждого холма, а треск барабана и пронзительные звуки волынки придали боевой дух сцене, которая была хорошо рассчитана, чтобы взволновать души людей. Бесконечно раздавались крики «ура» и возгласы одобрения; и при каждом новом возгласе долины вокруг отзывались радостным эхом. Эту годовщину путешественник, находясь в далекой пустыне, всегда встречает с искренней радостью, ибо здесь неизвестны споры и интриги партийных дел: ничто в этих местах дикого одиночества не омрачает эту гармонию чувств и почти благочестивого ликования, которые каждый верный американец испытывает в этот великий день.
Спустя двенадцать лет экспедиция Джона Фримонта по пути к тихоокеанскому Северо-Западу остановилась в форте Сент-Врейн в далеком Колорадо, чтобы отпраздновать Четвертое июля.
Для растущих городов, нуждющихся в поиске ритуалов, которые помогли бы объединить и возвысить общество, Четвертое июля было подходящим поводом для торжественного открытия гостиницы или основания колледжа.
Торжественная речь Четвертого июля вскоре породила столь характерную риторику, что та стала называться по имени праздника. «Распространенным синонимом для напыщенного и публично провозглашаемого патриотизма стала «Речь Четвертого июля», — высокомерно замечал автор статьи о праздниках в «Норт Америкэн ревью» в апреле 1857 года, — ...пиквикская сентиментальность, пиротехника, сигнальные петарды, зеваки, изрыгающие огонь орудия, обвисшие знамена, переполненные пароходы, отвращение образованных и гам толпы составляют спутанную и утомительную картину того, что могло и обязано было бы стать священным праздником, благочестивой памятью, благословенным очищением, Священным днем отдохновения Свободы». На Востоке, Западе, Севере или Юге страны торжественная речь была характерной чертой того, что даже автор из Новой Англии был вынужден назвать «нашим единственным
490
праздником, о котором можно сказать как о национальном*. Не случайно государственные деятели и писатели часто получали первое общественное признание после особенно красноречивой речи Четвертого июля. Первой публикацией Уильяма Тюдора в широкой печати была как раз запись такой речи в 1809 году. Первым публичным выступлением Дэниела Уэбстера, продемонстрировавшим тот его стиль, который принес ему славу и богатство, была речь Четвертого июля, которую он произнес в возрасте восемнадцати лет перед гражданами Ганновера в штате Нью-Гэмпшир, а его многие последующие речи по этому же случаю помогали ему находиться в центре общественного внимания.
Первым публичным выступлением Джона Куинси Адамса была его речь Четвертого июля, порученная ему городскими властями Бостона, когда ему еще не было и двадцати шести лет. Речь Четвертого июля Джорджа Бэнкрофта в Спрингфилде в 1826 году была его первым пространным прозаическим произведением.
Одной из наиболее известных стала речь Четвертого июля Артемуса Уорда в 1859 году в Уэзерфилде, штат Коннектикут.
Сограждане! У меня нет времени описывать рост Америки с того времени, когда «Мейфлауэр» прибыл с пилигримами и куском Плимутской скалы, но каждый школьник знает, что нами пройден огромный путь. Извините, если я не буду хвалить первых поселенцев колоний. Народ, который вешал сумасшедших старых женщин как ведьм, прожигал дырки в языках квакеров и по малейшему поводу отправлял своих сограждан на виселицу и к позорному столбу, может, состоял из приятных по-своему людей, но, должен признать, я не в восторге от их поведения и обойдусь без них. То есть, может, ими и двигали благие побуждения и так далее, но, говоря поэтическим штампом из газет, «мир их праху». Однако не стоит молчать о тех смелых людях, что дрались, истекая кровью, и умирали за Американскую революцию. Не надо бояться поднять их слишком высоко. Как я покажу, они достойны самого большого восхищения. Дж. Вашингтон был выше самых достойных людей, каких когда-либо видел мир. Он был разумным, добросердечным и принципиальным человеком. Он никогда не перехлестывал! Самая большая слабость многих общественных деятелей — ОНИ ПЕРЕХЛЕСТЫВАЮТ! И напишите это заглавными буквами!—Они наполняются до краев и изливаются. Они спешат. Они много ездят и очень торопятся. Они хватаются за первого же модного конька, нимало не заботясь, идет ли эта тварь ровно, ясно и звучно или она хромает, слепа и норовиста. Конечно, рано или поздно их сбрасывают. Когда они видят, что многие ослепли, они потакают, вместо того чтобы наставить на правильный путь. Они не видят, что толпа, которая, ликуя, несет их на своих плечах, скоро обнаружит, что ошиблась, и сбросит их в пруд Забвения без малейшего колебания. Вашингтон
491
никогда не перехлестывал, это не было свойственно Джорджу. Он очень любил свою страну. Ему не надо было ничего из себя корчить. Он был воплощением ангела в треуголке и бриджах, которого мы никогда больше уже не увидим. Друзья мои, мы все не можем походить на Вашингтона, но мы все можем быть патриотами и вести себя по-человечески и по-христиански. И когда мы видим, что наш брат катится вниз к гибели, давайте не будем толкать его, а давайте схватим за фалды и вернем его назад к Морали.
* * *
Во всех этих рассуждениях о Четвертом июля звучат по крайней мере два мотива.
Патриотический дух: национальный стиль с упором на ретроспективу. Риторика Четвертого июля выражала для нации в целом то, что для растущих общин на Юго-Западе и Западе передавалось языком местных патриотов, языком некоторого «tall talk» и языком надежды. Существенными чертами этого духа оставались те же — оптимизм, энтузиазм, неопределенность грани между реальностью и мечтой, между тем, что действительно произошло, и тем, что должно было произойти. Как патриота местной общины не смущала и даже вдохновляла грубость или отсутствие целостности в общине, которую он восхвалял, так и патриот всей страны не был обескуражен зачаточным состоянием нации, которую он превозносил. Дух Четвертого июля был чем-то вроде национального духовного прибежища, построенного заблаговременно, с тем чтобы быть готовым для заселения, когда нация появится.
Чем более туманными были очертания нации, тем более необходимым был язык уверенности. Крайности риторики Четвертого июля, таким образом, проистекали не столько из отсутствия глубины, сколько из неопределенности национального патриотизма. «Эта годовщина зажигает, и радует, и объединяет все американские сердца, — утверждал Дэниел Уэбстер на праздновании в столице 4 июля 1851 года, когда страну раздирали групповые страсти. — В другие дни года мы можем быть сторонниками партий, вовлеченными в полемику, более или менее важную для общественного блага... но сегодня мы все — американцы; американцы — и ничего другого». Самая высокая оценка, которую обладавший богатым воображением Джеймс Партон мог дать Эндрю Джексону в его популярной биографии, опубликованной как раз накануне начала Гражданской войны, заключалась в том, что он назвал Джексона «самым американ
492
ским из всех американцев — олицетворением Декларации независимости —детища Четвертого июля».
Роль превосходной степени играло слово «первый». Несравненная Декларация независимости объявила о «начале» нации. Это был лишь один повод отметить «первых»; такие поводы появлялись в американской жизни и дальше, поражая иностранцев. Краткость американской истории только подчеркивала эту тенденцию. Американцы отмеряли свои приоритеты делениями микрометра, а не аршинами. Как отмечает Уэсли Фрэнк Крейвен, от «первых семей Виргинии» до первой пресвитерианской церкви все американцы будут соперничать в своих претензиях на приоритет. Сама американская история представляется целиной, распахнутой для поселенцев, где честь и богатство приходили к тому, кто оказывался там первым. Абсолютный приоритет был самой бесспорной формой превосходной степени.
Празднование как подтверждение: нация «зачата на свободе». Американцы превратили свой национальный праздник в фестиваль подтверждений. В день праздника подтверждалась национальная цель. Читать и восхвалять Декларацию независимости означало не только праздновать рождение нации, но и прославлять причины ее рождения, объявлять и вновь подтверждать убедительные доводы и цели национального существования. Таким образом американцы избавлялись от постоянной озабоченности (и тревоги) относительно целей своего национального существования. Они проникались идеей, что если здесь суждено быть новой стране, то ее появление обусловлено вескими причинами и добрыми намерениями.
Четвертое июля стало лишь одной из многих американских церемоний — вероятно, их можно было бы назвать «разгулом» — самооправдания. В Соединенных Штатах национальное существование и национальная цель стали на удивление неразделимыми. Великий праздник был лишь случаем для утверждения, по словам Джона Адамса, «принципов и чувств, которые содействовали свершению Революции».
Американцев больше, чем другие народы, продолжали волновать вопросы их национальной цели. Более древние нации исходили из того, что их существование одобрено Богом и Историей и нет необходимости в создании официальной декларации причин своего существования. Но рождение американской нации нуждалось в подтверждении. Декларация была в первую очередь заявлена для всего мира, а не только для американцев. Нация с самого начала поставила себе задачу по
493
стоянно демонстрировать, что у нее есть мировая миссия, и подтверждать эту миссию перед миром. Установив Четвертое июля, американцы избрали странный курс на превращение своего главного патриотического праздника в день очередного объяснения своей национальной цели и оправдания ее перед всем человечеством. Лучше всего это отражено в письме Джефферсона, написанном всего за несколько дней до смерти, в котором он сожалел, что не сможет присутствовать на юбилейном празднике Четвертого июля 1826 года в Вашингтоне, и объяснял смысл самого события:
Пусть это будет для всего мира, и, я уверен, будет (для одних стран раньше, для других позже, но в конце концов для всех) сигналом, призывающим людей порвать цепи, в которые они заковали себя под воздействием монашеского невежества и предрассудков, и принять блага и безопасность самоуправления. Форма правления, которую мы создали, восстанавливает свободное право на беспредельное проявление разума и свободу взглядов. Перед нами открыты или открываются права человека. Всеобщее распространение света науки уже позволило каждому убедиться в том, что если большинство людей таскают на спине седло, а горстка привилегированных, одетых в сапоги со шпорами, готова погонять их на законном основании, то это не является волей Господней. Этот день—надежда для других наро дов; нам же пусть ежегодный приход его напоминает о наших правах и о нашей им приверженности.
Часть восьмая
ОБШИРНАЯ РЕСПУБЛИКА
Конфедерации являются смешанной формой правления, и мир не может позволить себе не руководствоваться этим прецедентом.
Элбридж Джерри
Соединенные Штаты — самая большая страна, дольше всех имеющая республиканское правительство. В то же время она включает в себя сравнительно мелкие и гораздо более многочисленные, более эффективные и более конкурентоспособные независимые подразделения, чем любое из республиканских правительств Старого Света. Американская политическая «система» станет свидетелем и новшеств Нового Света, и ограниченных возможностей всех государственных деятелей предугадать, спланировать или ограничить политический рост. Политические партии важны — они являются центрами формирования власти и политических целей, — но они едва ли признаются законом.
В других частях света образование политического государства обычно осуществлялось под воздействием сильной провинции — Пруссии, Савойи, Иль-де-Франс, — навязывавшей свою волю другим районам, либо завоевателя (Вильгельма Завоевателя или Наполеона), навязывавшего свое управление неорганизованному народу. Но Соединенные Штаты каким-то образом стали государством непроизвольно и окрепли благодаря силам рассеивания. Среди многих утешительных иллюзий не было более соблазнительной, чем та, что американский образ правления может оставаться неизменным или может быть ограничен рамками осознанной цели одного поколения.
495
43.
ИМПЕРСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: ОТ СУВЕРЕНИТЕТА К ФЕДЕРАЛИЗМУ
Американская революция была войной за отделение, и не только в политическом смысле. Такой способ отделения не укладывался в европейский образ мышления, что вело к еще одному крушению абсолютов Старого Света. Этот процесс был ускорен отчасти благодаря упорно поддерживаемому в Европе мнению, что новые, не оформившиеся до конца институты должны соответствовать устаревшим, несообразным теориям.
В Западной Европе современные государства крепли с помощью консолидации сил. Например, в Англии в позднее средневековье такие сильные правители, как Генрих I и Генрих И, создали централизованную администрацию и использовали провинциальных судей для учреждения общего права, в то время как растущий парламент стягивал все вопросы для решения в центре; таким образом, нация росла путем укрепления центростремительных сил. Так и по всей Европе централизация была синонимом возникновения государств.
Когда в XVII веке Британская империя распространила свою власть за Атлантический океан, возникли новые проблемы. Общины в Америке имели более непредсказуемые и более разнообразные интересы, чем в самых отдаленных британских графствах. Естественно, было разумным, чтобы их правление было скоординировано с правлением остальной Британии, но их отдаленность и нерегулярность сообщения сделали трудным или невозможным осуществление контроля из центра. Даже самые осторожные, гибкие, дальнозоркие представители британской администрации не могли приспособить свои программы к колониальным условиям, если не знали их или если их информация опаздывала в лучшем случае на месяцы. Среди многих условий, которые привели к распылению правительственной власти и ответственности по различным колониальным центрам, ни одно не имело такого большого значения, как отсутствие сообщения. Во второй половине XVIII века связь начала улучшаться, но было поздно. Федерализм уже действовал. Из условий колониальной жизни медленно вырастала американская политическая система — надежда и беда новых Соединенных Штатов.
Неотлаженные связи между Англией и ее колониями дают ключ к пониманию того, как росла политическая власть коло
496
ний. До 1755 года не существовало регулярного почтового сообщения с Англией. Лорды комитета по торговле и плантациям (после 1696 года — министерства торговли), занимавшиеся колониальными делами, куда входили и инструктаж губернаторов колоний, и объединение колоний в империю, должны были полагаться на случайные услуги дружественных торговых судов. Хотя подобных связей было достаточно для сохранения уз родства, языка, литературы и ремесел, они были слишком слабыми и нерегулярными, чтобы служить каналом управления.
Колонии, к берегам которых причаливали небольшие прибрежные суда и—гораздо реже—океанские корабли, не имели действенных прямых связей с «домом». Например, тубернатор Северной Каролины обычно получал свою почту из Виргинии, которая в свою очередь часто получала ее из Нью-Йорка. В июне 1745 года министерство торговли в Лондоне сделало губернатору Джонсону замечание, что последние три года оно не получало от него писем. Через год он ответил из Северной Каролины, что их письмо только что дошло до него. Не имея хорошего океанского порта, Северная Каролина была более изолирована, чем другие колонии, но даже из самых хороших портов связь осуществлялась медленно и с задержками. Бостон, например, оставался без связи в течение всей зимы. Письма, которые прилежный тубернатор Массачусетса писал поздней осенью, обычно доходили до министерства торговли в Лондоне не ранее апреля или мая. Такие задержки означали, что министерство, которое должно было давать текущую информацию парламенту до окончания его сессии, на деле снабжало его фактами по крайней мере годичной давности.
Установлению нормальной связи препятствовала также угроза войны. Между 1689 годом и годом Закона о гербовом сборе почти половину времени Британия находилась в состоянии объявленной войны по крайней мере с одним европейским врагом. Даже если все шло хорошо и почта в конце концов достигала английского порта, задержки на этом не кончались. Временами пачки бумаг, адресованные министерству торговли, лежали недоставленными в таможне в течение года и больше. Чтобы избежать подобных отсрочек, письма часто передавались от человека к человеку, что приводило к тому, что секретная информация становилась публичным достоянием задолго до того, как ее доставляли по адресу. Поскольку письма министерства торговли обычно не пользовались правом бесплатной пересылки, то министерство пыталось снизить почтовые расходы, соби
497
рая свои сообщения для передачи в больших узлах по неофициальным каналам. Только в 1755 году было установлено регулярное месячное расписание постово-пассажирского судна между Фалмутом и Нью-Йорком.
К середине XVIII века Лондону уже было поздно натягивать вожжи колониального управления. Расстояние, нерегулярность сообщения, разнообразие и срочность местных проблем создали в Америке по крайней мере тринадцать центров правления. Эта распыленность власти не следовала чьему-либо плану, это не было воплощением теории на практике, это не выражало «принципов» какой-либо известной конституции. Процесс нарастал постепенно и рывками в течение полутора веков от времени самых ранних постоянных британских поселений и до начала Американской революции. Политический механизм Британской империи был каким угодно, только не действующим четко и реалистично; федерализм вырос в Америке без чьего-либо желания.
Сумятица в Англии и неспособность британского правительства отвечать требованиям имперского правления имели к этому также некоторое отношение. В ходе решающих первых десятилетий XVIII века управлять колониями должно было министерство торговли, но контролировал колонии государственный секретарь Южного департамента, он же назначал губернаторов колоний, которые иногда были врагами министерства торговли и тратили свою энергию на интриги против него. Крайности английской внутренней политики вели министров к тому, чтобы использовать колониальное губернаторство как средство для вознаграждения своих сторонников, которые либо не были компетентными, либо не проявляли интереса к административной деятельности. Назначенные губернаторы (например, в Виргинии) часто рассматривали свою должность как синекуру, отдавая всю власть в руки заместителя. Все это способствовало неясности и непостоянству британской позиции, открывая путь для роста активных центров управления с американской стороны. В XVIII веке, по мере того как королевские губернаторы становились слабее, вакуум заполняли колониальные ассамблеи.
Эти колониальные ассамблеи, используя среди других свои полномочия по обложению налогами и отсюда по замораживанию жалованья, постепенно стали играть главную роль. Присланные из Лондона губернаторы, хотя и были весьма красноречивы, становились все более бессильными. В то же время в каждой из тринадцати колоний группы людей приобретали
498
опыт и получали удовлетворение от участия в собственных законодательных органах. В Новой Англии и везде, где жители Новой Англии установили свои институты, городские собрания еще больше расширяли возможности самоуправления. Таким образом, американский федерализм вырастал из колониального опыта.
К 1760 году образовалась сложная составная империя; она была, по словам Эндрю Маклафлина, «эмпирической империей, оппортунистической империей... империей, которую англичане... не понимали». Находившаяся в зачаточном состоянии, не-сформировавшаяся, асимметричная и смутно обозреваемая, еще за десятилетия до конституционного конвента 1787 года она на практике обеспечивала разделение властей, которое превратилось в американскую федеральную систему.
Основные черты этой составной империи были довольно простыми. Центральная власть (корона) вела внешние дела, руководила армией и флотом, объявляла войну и заключала мир, управляла почтой (в тогдашнем ее состоянии), отвечала за дела индейцев и управляла некоторыми землями внутри колоний и на окраинах. Парламент в Лондоне не издавал законов по чисто внутренним делам колоний, касаясь в основном торговли и мореплавания либо таких областей, как натурализация или валюта, — вопросы, которые затрагивали всю империю. Предпринимательский подход в вопросах торговли и накопления, преобладавший в самой империи, иногда проявлял себя и во внутренней экономике колоний, хотя подобные случаи были редкими. Каждая колония по большей части руководствовалась собственным законодательством. Житель Виргинии или Массачусетса обнаруживал, что его повседневная жизнь протекает в основном, а на деле почти полностью по законам собственной колониальной ассамблеи — хотя где-то маячили крайние случаи королевского запрета или обращения к тайному совету. В основе всего лежало, конечно, английское общее право, но даже его колонисты открыто переделывали. Местные судьи, все более независимые от Лондона, постоянно приспосабливали общее право к местным потребностям и местным предубеждениям. С небольшими изменениями на этом основывалось американское федеральное устройство в XIX и XX веках.
Задолго до того, как практические установления Британской империи получили свое развитие, Западная Европа (по крайней мере с XV века) начала накапливать теоретические основы современного государства. Но имперские институты
499
возникали при крайнем пренебрежении (а во многих случаях и вопреки) современной доктриной. Например, новая теория «верховной власти» утверждала, что существенным для самой концепции государства является наличие единой высшей власти, единственно обладающей законодательным правом. Феодализм расцветал на различных теориях разделенной, распределенной и обоюдной власти, но современное государство — Англия или Франция, например, — стало возможным только потому, что народы приняли положение, что в каждом государстве имеется «верховная власть» (высшая власть), единая и неделимая. Во Франции в 1576 году Жан Боден дал классическое определение концепции верховной власти. Каждое государство, говорил он, обладает одной высшей «верховной и вечной властью», неограниченной и неограничиваемой. Затем в Англии в XVII веке Гоббс в своем «Левиафане» (1651) упорно настаивал, что суверенная власть неделима. Локк в трактате «О гражданском правлении» (1690) развивал идею неделимой «верховной власти», но наделял ею сами народы, то есть тех, кто создавал правительство. По мере развития современного государства в Европе получало все большее распространение положение, что власть правительства неделима. Начиная с XVII века, в то время как американский опыт создавал действующую федеральную систему, европейские мыслители утверждали, что подобная система немыслима или несовместима с самим фактом существования современного государства.
Неудивительно, что взаимопонимание между континентами было затруднено. Сами идеи, которые оправдывали и объясняли современное развитие европейской формы правления, казалось, отрицали американский опыт. Колониальная жизнь произвела на свет действующий федерализм, в то время как европейская мысль и жизнь породили догматический абсолют, названный «верховной властью». Само английское государство (как позже отмечал Мейтленд) было «особенно одноклеточным». «У верховной власти, — утверждал доктор Сэмюел Джонсон в работе «Налоги без тирании» (1774), — нет градаций». Если верховная власть, по своему определению, неделима, то колониальные законодатели (чтобы они ни делали в действительности) не могли иметь и частицы этой суверенной власти. С точки зрения новых преобладающих направлений европейской политической мысли Америка была не просто анахронизмом; невозможным было само ее существование. Это
500
был не первый и не последний раз, когда европейская мысль не соответствовала американским реалиям.
В то же время вошедшая в поговорку английская практичность никогда еще не приносила столь мало плодов. Многие англичане не видели для удаленного народа разумной альтернативы «абсолютной зависимости» и «абсолютной независимости». Эта теоретическая жесткость давно уже создавала им проблемы в Ирландии и теперь создала проблемы в Америке. Если парламент, говорили они, может вообще быть законодателем для колоний, его власть должна быть неограниченной.
Американский опыт далеко обогнал английскую (или европейскую) теорию. Колониальные законодатели, управляющие местными и внутренними делами, над которыми далекий Лондон не имел власти, были согласны оставить Лондону решение важных проблем имперской политики, торговли и мореплавания, требовавших мощи британского флота. Американцы выработали modus vivendi, который, приспосабливаясь от случая к случаю к меняющимся потребностям империи, мог бы функционировать еще неопределенное время. Когда в 1760 году английское правительство попыталось натянуть вожжи правления американскими колониями, Лондон не учел реальных обстоятельств.
По мере обострения конфликта его английские авторы, надеявшиеся сломить загадочный дух американского восстания, еще более настойчиво воспевали свой прекрасный абсолютизм. Британский хор звучал как проповедь. «Колонии, — писал в 1769 году один англичанин, — должны либо признать законодательную власть Великобритании в ее полном объеме, либо утвердить себя в качестве независимых государств; я говорю «полном объеме», поскольку, если в их послушании есть какие-то оговорки, на которые они могут законно претендовать, они не должны иметь собственную внутреннюю власть, стоящую над властью их метрополии; ведь ее подчинение законодательной власти неограниченно». «Невозможно, — утверждал в 1773 году губернатор Массачусетса Хатчинсон, — чтобы в одном и том же государстве было бы два независимых законодателя». Этими верноподданническими заявлениями англичане утверждали невозможность того, что давно уже вошло в жизнь.
Почти до того самого года, когда была провозглашена независимость, англичане предлагали теории, против которых американцы выставляли факты. Англичане вновь и вновь утверждали теорию «верховной власти» — чистой и неподкуп
501
ной, единой, неделимой и нерассредоточенной, — явно и убедительно поддерживаемую высшими авторитетами. Их американские противники отвечали не теориями, а фактами, не логикой, а опытом. Подпав под обаяние собственной логики, англичане забыли, что они имели дело с растущей общиной, включающей теперь большой Новый Свет. Британская конституция доказала свое соответствие растущим потребностям, но английские политики и политические теоретики отставали.
Это противоречие проявилось драматическим образом, когда Бенджамин Франклин, верноподданный Британии и грубоватый колонист, бывший в то время заместителем генерального почтмейстера Северной Америки, давал показания в палате общин в Лондоне 3 — 13 февраля 1766 года. Принятый в предыдущем году Закон о гербовом сборе вызвал бурю, и парламент обсуждал его отмену. Франклина, недавно прибывшего из Пенсильвании, подробно расспрашивали об американской точке зрения. По вопросам правовой теории и имперской доктрины его ответы были неясными, даже путаными; он был весьма неуклюж и неловок в мире чистых правовых понятий. Но он был неотразим в мире фактов. Он объяснял, как верно колонии несли на себе тяжкое бремя британских имперских войн. Одна только Пенсильвания затратила полмиллиона фунтов (из них только около десяти процентов было возмещено короной) на французскую и индейскую войны. Он говорил о нехватке денег. Он описывал невозможность заставить колонистов платить гербовую пошлину. И слабостью в теории, и силой фактов Франклин олицетворял новую страну.
Через три недели после того, как Франклин сообщил палате общин о дорогих последствиях Закона о гербовом сборе и объяснил, почему его нельзя применить, палата 4 марта проголосовала за его отмену. В тот день (18 марта), когда отмена стала законом парламент предпринял отчаянную попытку утвердиться заново путем изложения своей теории абсолютной верховной власти в новом Пояснительном акте, который провозгласил, что парламент может «в любых случаях» устанавливать законы для колонистов. Вполне понятно, что Франклин заявил, что «его тошнит» от таких фраз, как «наша верховная власть».
Из Нового Света хлынул поток теорий, ни одна из которых не была достаточно убедительной, чтобы защитить действия составной части империи. Аргументы американцев впечатляли эмоциями и оригинальностью, но не логикой. Например, Джон Дикинсон в своих «Письмах фермера из Пенсильвании» (1768), отвергая британские претензии, поскольку, как он считал, они
502
были теорией Британской конституции, настаивал на разнице между правом парламента регулировать торговлю (что он признавал) и его правом налогообложения (что он отрицал). Джон Адамс в своем «Нованглусе» (1775) был учен и красноречив. Смысл аргументов англичан, говорил он, заключался в том, что «парламент является единственной верховной, суверенной, абсолютной и бесконтрольной законодательной властью над всеми колониями». Но единственная подлинная власть парламента над ними, ответствовал Адамс, состояла в «регулировании их торговли, и это не в силу принципов общего права, а просто по согласию колоний, основанному на явной необходимости». Он обращался к закону Божьему, закону природы и государственным законам, общему праву Англии. Несмотря на весомость его личности и тонкость ума, аргументы Адамса не создали политической теории, подходящей для американской ситуации. Самые удачные его утверждения были советами осторожного.
«Право резких слов и пушечных ядер, — предупреждал Адамс британцев, — ...может вызвать в ответ только резкие слова и пушечные ядра». Он выразил дух своей аргументации, когда в заключение напомнил английским «знатным и незнатным господам... что американцы понимают законы политики, как самих себя и что в Америке проживает шестьсот тысяч мужчин в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет и поэтому будет очень трудно добиться их отделения от их же свобод путем «юридических фикций»... независимо от того, на чем они основаны».
Американцы предлагали разные виды разграничений — между законодательствами, способами юрисдикции, видами налогообложения, между областями, островами и территориями — во всех мыслимых формах: в речах, брошюрах, журналах, книгах и декларациях. Сила американской позиции, однако, заключалась не в теории. Самыми сильными американскими аргументами были исторические (как «Краткий обзор» Джефферсона в 1774 году) или узко-конституционные (вроде конкретного списка жалоб в Декларации независимости). «Здравый смысл» (январь 1776 года) Томаса Пейна, приехавшего в Америку лишь за два года до этого, был эффективной, хотя и грубой полемикой в защиту независимости, но едва ли глубокой или надежной теорией управления государством. Стремясь пропагандировать революционные цели, Пейн перевернул вверх ногами «верховные» абсолюты метафизиков из тори и провозгласил собственные абсолюты, которые не имели ничего общего с предыдущими. Джон
503
Адамс, лучше понимавший доводы американцев, предложил в своем «Размышлении о правительстве» (1776) альтернативу упрощениям и абсолютам Пейна, выступая за «смешанное» правительство и особенно за двухпалатный законодательный орган, который был бы застрахован от «приступов юмора, порывов страстей, полетов энтузиазма... поспешных результатов и абсурдных суждений».
Слишком мало англичан, занимавших высокие посты, осмеливалось открыто взглянуть на всю сложность нелицеприятных фактов. Слишком немногие разделяли точку зрения Эдмунда Берка на власть истории, на невозможность стереть опыт свободы логикой «верховной власти». «Если эта верховная власть и их свобода не смогут совместиться, — предупреждал Берк, — что они выберут? Они швырнут вашу власть вам в лицо, ибо никого нельзя убедить принять рабство». Берк был прав.
Американцы и англичане разговаривали на разных языках: англичане были доктринерами, обращались к бесплотным абстракциям, с точки зрения которых «революционеры» пользовались дурной славой; американцы же апеллировали к истории и к опыту. Отвечая на догматический труд доктора Джонсона «Налоги без тирании», один американец объяснял в 1775 году:
Настоящая дискуссия касается не только этого острова, на котором бесспорно существует единый законодательный орган, а всей Британской империи, в которой имеется большое количество законодателей либо много ассамблей, на то претендующих. В этом ошибочность Вашей позиции... В определенной степени это новый случай в законодательстве, и поэтому он должен рассматриваться с точки зрения создавшихся обстоятельств и духа нащей Конституции, а не абстрактных понятий правительства.
Как бы это ни противоречило политической теории, американцы уже давно доказали свою способность осуществлять проекты объединения в новые и разные общины. Сам конгрегационализм был планом конфедерации. Начиная с конфедерации Новой Англии (образованной в 1643 году), через план союза Олбани, предложенного Франклином (1754), первый континентальный конгресс (1774), «Статьи конфедерации» (1781) и саму федеральную Конституцию американцы продемонстрировали неутомимую искренность в поисках для присоединившихся правительств — для разделения и распыления «верховной власти» — неизведанных путей. Разбросанное по территории население, обширный и разнообразный материк,
504
отдаленность от «дома» — все это вскармливало экспериментирование с федерацией. Этот дух эксперимента, рожденный в колониях, расцветет вместе со страной.
44.
ЗЫБКОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА КАК ПОРОЖДЕНИЕ СЕПАРАТИЗМА-
С европейской точки зрения создание Соединенных Штатов произошло шиворот-навыворот. Само их существование было парадоксом. Современные государства Западной Европы, такие, как Франция или Англия, образовались тогда, когда центральной власти удалось взять верх над местными силами. Но Соединенные Штаты родились, когда тринадцать отдельных региональных правительств утвердили свою власть против центральной власти в Лондоне. Появление государства явилось побочным результатом утверждения права каждой колонии на самоуправление.
Новая страна была сравнительно свободной от шовинизма, поскольку в ней не было широко распространенного, значительного или предумышленного, национального духа. Возможно, в отдаленном прошлом национальный дух европейских народов также рождался вначале стихийно и неосознанно; но по крайней мере с конца XVIII и начала XIX века национализм в Европе в большинстве случаев был осознанным, тщательно сформулированным и страстным. Политическое же будущее Соединенных Штатов будет формироваться под влиянием того факта, что нация рождалась не в угаре националистических страстей.
Новая страна имела дополнительные преимущества — очевидное разнообразие, подвижность и анархию в культуре. Американская речь оставалась неуправляемой, дерзкой, взрывной и несдержанной, и американцы, к счастью, были свободны от королевских и национальных академий, которые стремились втиснуть культуру в респектабельные формы. Но были также и отрицательные моменты: ослабление способностей к дискуссиям и интеллектуальному разнообразию, распыление и рассредоточение источников культуры, слабость и неуверенность политической власти и продолжающаяся тенденция к отделению.
505
Итак, Соединенные Штаты не были зачаты в грехе шовинизма. Ценой этой добродетели стала неопределенность федерального устройства, оказывавшая между Революцией и Гражданской войной влияние на всю национальную политику. Но американцы не избежали шовинизма и заплатили ненавистью и кровью за создание нации. С характерным анахронизмом американцы сначала создали нацию, а потом уплатили цену. Полная цена была уплачена почти через столетие после того, как страна объявила о своей независимости.
До независимости американцы были одновременно и британскими подданными, и гражданами Массачусетса, Нью-Йорка, Виргинии или другой колонии. После завоевания независимости они перестали быть британцами, но еще не стали американцами. Не было еще американского государства, которое бы требовало их лояльности. Они пока оставались виргинцами или колонистами из другой области и были прежде всего и неизменно верны своей собственной колонии, которая стала теперь штатом.
Хотя у американцев не было феодального прошлого, которое очень досаждало создателям европейских государств во времена их усилий по объединению своих стран, здесь существовала своя американская специфика. Расстояние играло роль времени. Если история Америки была короткой, то ее география в какой-то мере ее восполняла. В великой американской пустоте различные местные правительства, ведение хозяйства и традиции были отделены друг от друга дикими лесами, реками и горами, что быстро порождало те различия, которые в других местах создавались веками. В Америке также происходило то, что напоминало вторжение варваров: в Европе это растягивалось на многие века, в Америке же индейская угроза была постоянной, но географически неоднородной. Период создания политических институтов в Америке фантастически сократился, поскольку многочисленные новые штаты, законодательные и исполнительные органы, суды и муниципалитеты создавались с беспрецедентной скоростью. В Европе существенные местные различия были в большинстве случаев неизбежными продуктами времени. В Америке они во многом оказались результатом топографии, климата и физического расстояния. В то время как европейская политика была в первую очередь побочным продуктом истории, американская политика была в первую очередь побочным продуктом географии.
Политической задачей новой страны было быстрое формирование правительства, достаточно сильного, чтобы держать
506
вместе отдельные колонии. Для создания языковых и родственных связей, легенд, историй и традиций требовались века, но географические расстояния и различия, которые вскармливали американскую независимость, уже привели к образованию многих отдельных частей, ревностно относящихся к своим правам. Сущность Америки зиждилась на убеждении, что колониальные правительства невозможно создавать, ими управлять, или их распускать издалека, что эти тринадцать отдельных правительств имеют свою власть, и это вытекает из всей американской ситуации. Без короны и империи на что еще могли они обратить свой взор?
Великим символом как силы, так и слабости Америки было отсутствие единой колониальной столицы. Те же чувства, которые заставляли один район не желать считаться с мнением другого, что препятствовало любому из ведущих городов стать бесспорной политической или литературной столицей колонии, распыляли обороноспособность американцев по каждой из тринадцати столиц и даже по домам и фермам тех, кто вообще готов был сражаться. Для американской политики было важно, как мы уже отмечали в отношении американской военной традиции, что в течение первых четырех лет Революции каждый из наиболее населенных городов (Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия и Чарлстон) сдавался британским войскам, но это не имело решающих последствий. Если американские колонии казались каждому колонисту, который хотел бы, чтобы они действовали сообща, чудовищем с тринадцатью головами, это имело также большие преимущества перед врагом:, не было одного центра или одной головы, где враг мог бы нанести смертельный удар. Когда новому федеральному правительству позже потребовалась столица, было принято решение создать для политического штаба новый город; этот город не будет столицей государства ни в каком другом смысле.
Название новой страны до Гражданской войны обычно употреблялось во множественном числе, что невольно отражало эмоциональный фактор. Для Джона Адамса в 1774 году «нашей страной» была Массачусетская бухта, а делегация Массачусетса в конгрессе была «нашим посольством». Для Джефферсона также в течение долгого времени слова «моя страна» означали Виргинию. Важная резолюция Ричарда Генри Ли (предложенная в континентальном конгрессе 7 июня 1776 года, поддержанная Джоном Адамсом; принята 2 июля 1776 года) гласила, что «эти Объединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами*.
507
Положения резолюции Ли, объявлявшей намерение штатов формировать иностранные союзы и создать свою конфедерацию, были достаточно знакомы группе независимых государств, сотрудничавших в деле ведения войны. Заголовок окончательного варианта Декларации независимости называл документ «Единодушной Декларацией Тринадцати Соединенных Штатов Америки». Преамбула заканчивалась ссылкой на «терпеливые страдания этих колоний», теперь идущих по пути изменения «прежней системы правления», основанной на несправедливости и узурпации со стороны короля Великобритании с целью установления «абсолютной тирании над этими Штатами» (курсив мой. — Авт.). Заключительный параграф провозглашал независимость этих «Свободных и Независимых Штатов» (во множественном числе) и утверждал, «что как Свободные и Независимые Штаты они обладают полнотой власти в объявлении войны, заключении мира, образовании союзов, развитии торговли и совершении всех других актов и действий, которые имеют право совершать независимые государства». Самое странное, что в этом государственном свидетельстве о рождении нигде не идет речь о государстве; везде говорится об отдельных штатах. Доверчивый историк спустя тысячу лет мог бы (при отсутствии других доказательств) предположить, что декларация привела к возникновению тринадцати новых и отдельных государств, чьи названия были помещены перед именами делегатов, подписавших документ.
От этой привычки думать и чувствовать отдельно за каждый штат отказывались не сразу. «Мое счастье, — заявлял Оливер Эллсворт из Коннектикута на федеральном конвенте 1787 года, — в той же мере зависит от существования правительства моего штата, в какой новорожденный, чтобы питаться, зависит от своей матери». «Страна-мать» была заменена на матерей-штаты. «Мы хотим, — заявлял федералист Фишер Эймс в 1792 году, — не изменения формы. У нас достаточно бумаг, замаранных теориями правительств. Следует изменить образ мыслей. Наша страна — это штат, а не все государство. На другие штаты мы смотрим равнодушно, часто с ненавистью, страхом и антипатией».
Разнообразие колоний часто отмечалось как случайными путешественниками, так и теми, кто жил в стране достаточно долго. В трудные времена лондонские политики уверяли, что колонии никогда не объединятся против метрополии. «Нет достаточных оснований опасаться восстания на плантациях в течение ближайших веков, — замечал еще в 1724 году
508
преподобный Хью Джоунз. — Если же какая-нибудь из них предпримет эту попытку, она может быть легко подавлена другими; они никогда не объединятся друг с другом; и хотя все плантации согласны в том, что все они принадлежат и полностью зависят от Великобритании, у каждой есть своя точка зрения, и они самыми различными способами усердно преследуют собственные интересы». По утверждению Франклина 1760 года, опыт уже показал, что, кроме как в «невозможных» условиях «вопиющей тирании и гнета», нельзя себе и представить эффективного союза колоний.
Если они не могли согласовать свои усилия для защиты от французов и индейцев, которые постоянно беспокоили их поселения, сжигали деревни и убивали людей, есть ли причины предполагать, что существует опасность их объединения против собственной страны, которая их защищает и вдохновляет, с которой у них так много кровных связей, взаимных интересов и привязанностей и которую, как хорошо известно, они любят гораздо больше, чем друг друга? Короче, имеется так много причин, которые предотвращают эту возможность, что я осмелюсь заявить, что союз между ними в этих целях не только маловероятен, но невозможен; и если союз в целом невозможен, то попытка создания части его должна быть безумием, поскольку те колонии, которые не присоединятся к восстанию, присоединятся к метрополии для его подавления.
Различие интересов, заложенное в различии географического положения и экономики, а также в сравнительно небогатом колониальном прошлом, породило различие принципов. Это помогло лишить Войну за независимость идеологического оттенка в отличие от исторических восстаний в Европе XVII, XVIII и XIX веков. Джон Адамс объяснял позднее, что Революция отражала «столько же разных принципов, сколько их существовало в тех тринадцати штатах, что участвовали в ней, а в определенном смысле и сколько человек было в нее вовлечено». Революционные чувства носили подчас настолько местный характер, что в Виргинии, например, Революцию иногда называли (1780 — 1781) «табачным бунтом». В каждой колонии эта война велась за местную автономию — за право использовать свои деньги на собственные нужды, право мужчин служить недалеко от дома и не допускать истощения местных богатств во имя чужой высокой политики. Почему должны были колонисты, которые ревностно защищали свою автономию от древнего парламента и лорда Лоудоуна, опрометчиво отказаться от автономии ради нового континентального конгресса и Джорджа Вашингтона?
509
Целостность американской истории впечатляет. И не следует в нее впутывать никакие мнимые «революции». Для многих думающих колонистов Война за независимость представлялась липп> логическим следствием истории Англии предыдущих полутора столетий. С точки зрения английских вигов, это была вторая гражданская война, борьба за распространение и осуществление в Америке принципов Славной революции 1689 года. Она заложила основы сепаратистской традиции, которая потрясла новое государство в XIX веке. Борьба за новое государство была закончена только к 1865 году или позднее.
«Колонии, — отмечал Джон Адамс, — выросли под конституциями столь различных правительств, имелось такое разнообразие религий, они состояли из такого количества разных народов, их обычаи, привычки и традиции были так мало похожи, их взаимосвязи были столь редкими, а их знание друг о друге было столь несовершенным, что объединить их на основе одних и тех же теоретических принципов и одной системы действий было, бесспорно, крайне трудным предприятием». Таким образом, к 1783 году было достигнуто определенное единство, и оно стало незапланированным следствием самой войны. Во время войны многие разделяли подозрение, которое в 1781 году отразил Джеймс Мэдисон в письме конгресса в Филадельфии Томасу Джефферсону в Виргинию (для палаты граждан), где он предостерегал против передачи Виргинией ее западных земель ненадежному новому правительству. «Мы должны исходить из того, — отмечал Мэдисон, — что нынешний Союз едва ли переживет теперешнюю войну... следует отдавать себе полный отчет как в необходимости Союза во время войны, так и в его вероятном роспуске после».
Независимость создала не одно государство, а тринадцать. «Статьи конфедерации» произвели на свет «Соединенные Штаты», так же как Устав 1945 года — Объединенные Нации. «Каждый штат сохраняет свой суверенитет, свободу и независимость, — гласили Статьи (статья 2), — а также Власть, Юрисдикцию и Право, которые не делегированы конфедерацией Соединенным Штатам в лице конгресса во время сессии». Каждый штат был представлен «делегатами», за которых он платил, «назначаемыми ежегодно таким образом, как это определено законодательством каждого штата, для заседания в конгрессе с первого понедельника ноября каждого года с правом, принадлежащим каждому штату, отозвать своих делегатов или любого из них в любое время в течение года и направить других на их место до конца года» (статья 5).
510
Голосование по всем вопросам происходило по штатам, каждый из которых имел один голос. Вся центральная власть осуществлялась «соединенными штатами во время работы конгресса», из которых девять должны были прийти к согласию по вопросам любой значимости (статья 9). Таким образом, любые пять штатов могли блокировать любую акцию, либо не послав делегатов в конгресс, либо отказавшись голосовать за предложенную акцию. Если на сессии было представлено только девять штатов и некоторые штаты представлены двумя делегатами, то голос одного из них мог предотвратить положительное голосование своего штата и, следовательно, воспрепятствовать всей работе конгресса. В любом случае конгресс конфедерации не имел права добывать деньги путем налогообложения или регулировать торговлю.
Это новое центральное правительство было даже слабее назначенного Лондоном в период, когда империя еще мирно функционировала. Некоторые из полномочий, когда-то осуществлявшихся короной (например, назначение губернаторов или отмена местных законов), не осуществлялись континентальным конгрессом согласно «Статьям конфедерации». Но статьи (предложенные в 1777 году и вошедшие в силу в 1781 — 1789 годах) предоставляли «соединенным штатам во время работы конгресса» некоторые специальные права, ранее осуществлявшиеся короной (например, объявление войны и мира, ведение внешних сношений и отношений с индейцами, контроль за составом сплава и стоимостью монет, а также почтовой службой между штатами). И до того, как «Статьи» вступили в силу, Мэриленд, маленький штат без западных земель, обеспечил предоставление конгрессу западных земель как плату за свое участие. Таким образом, конгресс контролировал расширение империи: «Статьи конфедерации» явились продуктом имперской истории, а новое «государство» — лишь импровизированной заменой империи. Примечательно не то, что сильное центральное правительство было организовано не сразу, но что оно вообще появилось. Ретроспективный взгляд может кое-кого привести к неправильной мысли, что было что-то упорное или тупое в этом нежелании сразу создать сильное центральное правительство. На самом деле была проявлена осторожность, редкая среди людей, борющихся против застарелого зла с помощью силы. Они опасались, как бы их кровь и богатства не растрачивались напрасно лишь для того, чтобы сменить одного тирана другим.
511
45.
СТРЕМЛЕНИЕ К ЯСНОСТИ:
КОНСТИТУЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
В Великобритании конституция представляла собой всю сумму хартий, законов, деклараций, традиций, неформальных толкований, обычаев и позиций, с помощью которых реально осуществлялось правление. Строго говоря, не могло возникнуть ситуации, при которой британский законодательный акт был бы признан недействительным из-за своей «антиконституционности»: любой акт мог изменить конституцию. Не существовало конституции, по которой суд мог бы сверять законодательство.
Поэтому не было ничего более определенного, а также более неопределенного, чем английская конституция; она просто была другим наименованием для определения того, как осуществлялись дела. Даже во время Американской революции первоначальное и самое общепринятое значение слова «конституция» относилось к общему состоянию здоровья любого организма. Сказать, что у человека хорошая конституция, означало, что он хорошо функционирует; это же относилось и к правительству. Поэтому сказать, что правительственный акт является неконституционным, означало либо противоречие терминов, либо бессмыслицу.
Сэр Уильям Блэкстоун писал в 1765 году: «Закон предполагает, что ни король, ни одна из палат парламента, взятые вместе, не способны совершить что-либо неправильное, поскольку в таких случаях закон чувствует себя не способным предоставить необходимое лечебное средство. По этой причине любой вид притеснений, исходящий от какой-либо ветви верховной власти, должен быть вне пределов досягаемости любого установленного правила либо же выражать правовое положение; но если, к несчастью, нечто подобное происходит, наше благоразумное время должно предоставить новые* средства на случай новых чрезвычайных обстоятельств».
Таково было состояние британской мысли, когда американо цы начали предпринимать самые интенсивные и плодотворные усилия по составлению конституции. Для каждой отделяющейся колонии они приняли отдельную конституцию и одну для всей страны. До Гражданской войны для каждого из двадцати одного нового штата была написана одна или больше конституций; основной закон предусматривал создание почти стольких
512
же и на будущее. Не означало ли это отход от политической неопределенности и тем самым попытку избежать еще одной войны за отделение?
Точно неизвестно, когда колонии отказались от надежды быть вновь объединенными с Британской империей. Вероятно, лишь к январю 1776 года перестали они считать себя колониями, которые сражаются лишь за обеспечение более разумной политики со стороны правительства метрополии. Ко времени резолюции Ли в июне 1776 года они уже были готовы заявить, что «эти Объединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, я что они освобождаются от верности британской короне, и что все политические связи между ними и государством Великобританией прекращаются и должны полностью быть прерваны». Тем временем с начала открытой борьбы против английского правительства в 1760-е годы до формального объявления независимости ожидалось, что эти новые политические положения смогут существовать только «в ходе продолжения нынешнего спора между Великобританией и колониями». В целом все еще ждали примирения: на начальном этапе первый континентальный конгресс должен был создать лишь свободную континентальную ассоциацию, изложить жалобы и призвать к облегчению положения.
Тем временем отдельные колонии постепенно и осторожно реформировали свои правительства. Ведь они в конце концов сражались за подтверждение полномочий, а не за свержение власти местных представителей. В первые годы конфликта с Британией американцы в каждой колонии, игнорируя королевских или собственных губернаторов, неофициально основывали провинциальные конгрессы, конвенты или комитеты для организации сопротивления английскому правительству. Эти группы вскоре доказали свою способность к перестройке тринадцати колониальных правительств.
Возглавил этот процесс Массачусетс. Провинциальный конвент этой колонии 16 мая 1775 года направил имеющее важное значение письмо континентальному конгрессу, испрашивая «самого определенного совета в отношении взятия и осуществления власти гражданским правительством, что мы считаем абсолютно необходимым для спасения нашей страны, и мы с готовностью последуем тому общему плану, который вы предоставите для колоний, либо внимательно изучим его для
513
установления у нас такой формы правления, которая будет способствовать не только нашей пользе, но союзу и интересам всей Америки». Конгресс ответил, что народ Массачусетса не обязан повиноваться парламентским актам, которые преследовали цель изменить устав Массачусетса, либо королевскому губернатору или вице-губернатору, который пытался нарушить устав. Поэтому конгресс рекомендовал провинциальному конвенту «в целях наиболее возможного соответствия духу и существу устава» призвать к выборам ассамблеи (которая в свою очередь должна избрать советников), чтобы осуществлять власть правительства, «пока губернатор, назначенный Его Величеством, не согласится управлять колонией в соответствии с ее уставом». Когда провинциальные конвенты Нью-Гэмпшира, Южной Каролины и Виргинии обратились за аналогичным советом, конгресс также посоветовал им «созвать всех свободных представителей народа, чтобы эти представители, если они считают это необходимым, создали такую форму правления, которая, по их суждению, наилучшим образом обеспечит счастье народа и наиболее эффективно будет способствовать миру и добропорядку в провинции во время продолжения нынешнего спора между Великобританией и колониями». В мае 1776 года конгресс принял аналогичные рекомендации для всех колоний.
Приблизилось решающее испытание. Снова и снова политические теоретики заявляли о том, что народ является источником власти, и американцы принимали эти известные английские аргументы. Но станут ли американцы осуществлять на практике то, чему молились? Джон Адамс сказал, что с народом «необходимо советоваться, и мы должны воплотить в жизнь теории самых мудрых голов и пригласить народ соорудить здание своими собственными руками на самом обширном фундаменте».
Потребовалось определенное время, чтобы колонисты осознали всю новизну этого американского эксперимента. Вначале они не созывали специальные конституционные конвенты для составления конституции, и первые конституции штатов были результатом работы обычных законодателей, избранных для других целей. Поэтому эти органы старались придать своему произведению больше веса, чем обычным законодательным документам. В течение нескольких месяцев после предложений, поступивших от континентального конгресса, Нью-Гэмпшир (5 января 1776 года) и Южная Каролина (26 марта) приняли временные конституции. Они явились результатом работы обычных революционных ассамблей, а не специальных конституционных конвентов. В других колониях
514
ассамблеи, которым было поручено временное правление на период Революции, также приняли в 1776 году новые конституции: Виргиния (28 июня), Нью-Джерси (2 июля), Делавэр (20 сентября), Пенсильвания (28 сентября), Мэриленд (9 ноября), Северная Каролина (18 декабря).
В начале 1777 года революционные ассамблеи приняли конституции в Джорджии (5 февраля) и Нью-Йорке (20 апреля). Род-Айленд и Коннектикут просто (с небольшими изменениями) подтвердили свои колониальные уставы, которые оставались в силе и в XIX веке. В Массачусетсе до 1780 года также действовал колониальный устав, принятый его ассамблеей за основу работы временного правительства. Ни одна из конституций в течение всего 1777 года не была принята специально созванными для этого конституционными конвентами.
Однако были уже, как заметил Р.Р. Палмер, намеки на растущую убежденность, что конституция существенно отличается от обычного законодательства и не может быть создана, принята или модифицирована обычной законодательной ассамблеей. В Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке, Делавэре, Мэриленде, Северной Каролине и Джорджии революционные законодательные органы не создавали конституций, пока не испросили на это специальных полномочий от избирателей. Специальное народное одобрение потребовалось и создателям конституций в Мэриленде и Северной Каролине. В Пенсильвании под народным давлением (в мае 1776 года в Филадельфии состоялся массовый митинг с участием 4000 человек) был избран специальный орган для выработки конституции, но сама она не была представлена на народное голосование.
До принятия конституции Массачусетса в 1780 году не было полно и четко определено различие между основами конституции и обычного законодательства. Поэтому есть смысл детальнее рассказать историю создания этой конституции также еще и потому, что она явилась одним из самых важных образцов для федеральной Конституции 1787 года.
Мотивы народного движения по созданию новой конституции в Массачусетсе были разными и сложными, но процедура, в соответствии с которой шло создание новой конституции, была достаточно проста. И сама процедура придала конституции особый авторитет. 5 мая 1777 года обе палаты законодательного органа Массачусетса «рекомендовали» городам штата предоставить тем, кого следует избрать в мае, полномочия составить конституцию, которая, будучи одобрена двумя третями взрослого населения мужского пола, станет затем ос
515
новным законом штата. Города должным образом проголосовали за эти полномочия, обе палаты совместно составили конституцию, и весной 1778 года документ был разослан по городам для одобрения. Эта конституция подавляющим большинством (147 городов «против», 31 — «за») была отвергнута. Она оказалась слишком радикальной для консерваторов и слишком консервативной для радикалов. И она не содержала билля о правах.
В 1779 — 1780 годах военное положение было неважным, особенно в Новой Англии, где большая часть Мэна была в руках англичан; инфляция и спекуляция стали обычным явлением. Недовольные фермеры округа Беркшир, находящегося на западной границе штата с Нью-Йорком, провели собственное собрание и фактически угрожали выйти из Массачусетса. Отказываясь признавать устав, сохранившийся еще с британских времен, они сочли, что находятся в «первозданном состоянии», и напомнили властям в Бостоне о «других штатах, у которых есть конституции и которые, мы не сомневаемся, с удовольствием примут нас, как бы плохи мы ни были». Верховный суд Массачусетса, испытывавший со всех сторон давление в связи с созданием новой конституции, 19 февраля 1779 года попросил представителей городов поставить перед своими избирателями два простых вопроса. «Первый: хотят ли они в данное время создания конституции или формы правления? Второй: дадут ли они своим представителям в следующем году право проголосовать за созыв конвента штата с единственной целью принятия новой конституции?» Люди убедительно проголосовали за оба предложения (6612 — «за», 2639 — «против»). Представители городов затем созвали городские собрания для выбора делегатов (путем голосования всех свободных лиц мужского пола). Конвент был уполномочен ввести в действие новую конституцию, если она будет принята двумя третями голосовавших.
Едва ли могли сложиться более благоприятные обстоятельства для выявления той особой власти, которую предполагала иметь новая «структура правительства»; это не был обычный закон. Власть более высокая, чем законодатели, — сам народ — проводила консультации по этому вопросу. Процедура консультаций не была простой формальностью; это была попытка дать возможность народу высказать свою точку зрения. Когда новый конституционный конвент Массачусетса собрался в Кембридже 1 сентября 1779 года, штатом еще управляли в соответствии с пересмотренным вариантом королевской хартии 1691 года. Отвергнув предложения 1778 года, некоторые граждане продолжа
516
ли думать, что старая схема управления, покрытая паутиной времени, может быть, все-таки лучше, чем любая новомодная замена. Проголосовав против новой структуры правления, предложенной революционной ассамблеей, народ провозгласил свое право отвергнуть, равно как и принять, конституцию, предложенную ему существующей властью. Он настаивал на том, что следует предпринять новую попытку путем избрания для этой цели специальной конституционной ассамблеи.
Новшество власти конвента проявилось и в другом замечательном факте. В соответствии со старыми структурами правительства ценз владения собственностью оставался в силе как для права голосования, так и для занятия должности, и его также предполагалось включить в новую конституцию. Но первоначальный отбор делегатов на конституционный конвент и последующее одобрение работы конвента (требовавшее двух третей голосовавших) были доверены всем свободным взрослым мужчинам.
Массачусетский конституционный конвент, состоявшийся в Кембридже 1 сентября 1779 года, таким образом, получил мандат от самого народа на составление конституции. Это бесспорно придавало больше авторита дискуссиям и превратило их результат в Высший Закон в новом и буквальном смысле. В основу авторитета новой конституции легло четко выраженное согласие более широкого круга избирателей (все взрослые граждане мужского пола), чем тот, который санкционировал обычное законодательство.
293 члена конвента представляли собой необычное собрание талантов, включавшее Джона Адамса, Сэмюела Адамса, Джеймса Боудоина, Джорджа Кэбота, Джона Лоуэлла, Роберта Трита Пейна и Теофилиуса Парсонса. 4 сентября конвент назначил комитет из тридцати человек для подготовки проекта, и этот комитет делегировал свои полномочия подкомитету в составе Джеймса Боудоина (процветавшего торговца и революционного лидера), Джона Адамса и Сэмюэла Адамса. Подкомитет в свою очередь поручил это Джону Адамсу, чей проект, с небольшими изменениями, и был в конце концов принят.
Замечательный итог работы Адамса был принят конвентом во время сессий, которые закончились 2 марта 1780 года. Посещаемость сессий падала, вызывая тревогу, отчасти из-за одной из самых суровых зим в истории, отчасти из-за апатии и других причин. На самых важных заключительных заседаниях, когда документ был подготовлен для представления народу, присутствовало и голосовало не больше восьмидесяти двух участников
517
(менее 30 процентов). Однако значение процедуры, представлявшей собой попытку определить более высокую власть, чем обычное законодательство, и использовать эту власть для замены правительства, никогда не ставилось под сомнение. Преамбула новой конституции после утверждения права народа на изменение правительства объясняла:
Политический орган формируется добровольным союзом индивидуумов; это социальное соглашение, в соответствии с которым весь народ берет на себя обязательства по отношению к каждому гражданину и каждый гражданин по отношению ко всему народу, о том, что все должны подчиняться определенным законам во имя общего блага. Поэтому обязанностью народа при составлении формы правления является обеспечение справедливого порядка принятия законов, так же как их беспристрастное истолкование и добросовестное исполнение, чтобы каждый человек мог в любое время с их помощью защитить себя.
Поэтому мы, народ Массачусетса, сердечно благодарим за доброту великого Законодателя вселенной, явленную в том, что он представил нам в ходе Его провидения возможность обдуманно и мирно, без обмана, насилия или каких-либо неожиданностей вступить в новый, точный и торжественный договор друг с другом и создать новую конституцию гражданского правления для нас и последующих поколений; и, преданно молясь о Его указаниях в столь важном проекте, приходим к согласию об определении и издании следующей декларации прав и структуры правления в качестве конституции сообщества Массачусетса.
Конвент после изучения и принятия проекта Адамса затем выработал детальную и тщательную процедуру народного одобрения, которая обеспечивала населению штата возможность не просто одобрить или отвергнуть документ в целом, но и обсудить отдельно каждую статью и изложить свои возражения.
Целый ряд фактов помогает понять причины передачи конвентом итогов своей работы на обсуждение и внимательное изучение публики. После повсеместного отклонения конституции 1778 года (пятикратным большинством) возможность позволить народу выбрать наиболее приемлемые пункты, высказать свои обиды и осознать проблемы, возникающие в процессе создания чего-либо лучшего, только приветствовалась. И что самое важное — конвент Массачусетса имел в своем распоряжении готовую сеть действующих местных ассамблей, городских собраний числом около 300. Шел бурный рост Новой Англии, что позволяло проводить народные дебаты по новой структуре правления. Конвент рекомендовал следующее: предложенная новая
518
конституция должна быть обсуждена народом на своих городских собраниях; на этих собраниях следует голосовать конституцию статью за статьей и излагать свои возражения по каждой статье; после чего народ предоставляет право конвенту (посылая, если нужно, других делегатов) все подытожить, ратифицировать и объявить о вступлении в силу каждой части, одобренной большинством в две трети, изменить другие части в соответствии с народной волей и, наконец, ратифицировать со всеми внесенными изменениями. Именно это и было сделано.
В течение четырнадцати недель весной 1780 года в Массачусетсе проходили городские собрания, обсуждения и голосования. По крайней мере в некоторых городах обсуждение шло очень серьезно, поскольку были внесены и проголосованы детальные изменения. Конвент вновь собрался 7 июня для подведения итогов и 16 июня объявил, что народ принял конституцию. Был установлен день 25 октября 1780 года в качестве даты первых выборов по новой схеме правления. Существуют свидетельства, что даже после столь тщательной процедуры выражения народной воли конвент подтасовывал результаты в пользу конституции. Тем не менее сведение голосов было произведено на глазах всего конвента, и каждая статья, видимо, получила если не большинство в две трети, как это требовалось, то по крайней мере простое большинство. Сэмюел Адамс писал 10 июля, что «никогда еще не была так нужна хорошая конституция, как в этой ситуации». В мрачные дни 1780 года, когда штат находился в состоянии войны и сползал к анархии, конвент, видимо, предпочел общественный интерес мелким формальностям.
Значение того, что сделал народ Массачусетса, в то время было понято немногими. Когда, находясь во Франции, Джон Адамс услышал, что его конституция была принята, он увидел всю новизну события с позиций Старого Света. Он сказал, что граждане Массачусетса «были первыми людьми, которые уделили так много времени, чтобы обсудить форму своего правления, и это дало возможность всему народу свободно поразмыслить о самом предмете, предложить свои возражения и изменения, что обеспечило ему право окончательно принять или отвергнуть эту форму». «Доселе не существовало примера подобных предосторожностей, какие были предприняты этими мудрыми и ревностными людьми при формировании своего правления. Ни одна форма правления не была создана с таким совершенством, основываясь на принципе прав человека и равенства. Это Локк, Сидней, Руссо и Де Мабли в действии». Не
519
впадая в состояние восторга, Джон Адамс отметил этот «феномен в политическом мире как новый и единственный». Он не преувеличивал и тогда, когда объявил его «эпохой в истории прогресса общества». Достижение Массачусетса под влиянием событий 1787 года в учебниках и преданиях ушло в тень. Но массачусетская конституция 1780 года — ее подготовка, обсуждение и принятие — была поистине первооткрывательской.
* * *
Первые попытки объединить старые колонии под единой центральной властью оказались совсем не в духе новой структуры управления или конституции. Тринадцать суверенных штатов, каждый со своим правительством, стремились не к центральному правительству, а (по словам хубернатора Кука из Род-Айленда) к «Договору о конфедерации», который не обязательно должен быть постоянным союзом, а прежде всего («исключительно», как считали некоторые) союзом для ведения войны. Есть основания полагать, что после принятия «Статей конфедерации» было даже меньше национального единства, чем до этого.
По своей новой конституции каждая бывшая колония объявляла себя «суверенным штатом». Каждый штат осуществлял на деле определенный вид власти, который мы отождествляем с независимым правительством. Например, конституция Южной Каролины четко утверждала право штата вести войну, заключать мир, заключать договоры, накладывать эмбарго, а также содержать армию и флот. Виргиния сама ратифицировала договор с Францией и проявляла такую активность в иностранных делах, что была вынуждена ввести должность секретаря по иностранной переписке; губернатор Патрик Генри послал за рубеж Уильяма Ли для переговоров о займе с французским правительством. Согласно Франклину, три отдельных штата американской конфедерации одновременно вели переговоры с Францией о военной помощи. Есть свидетельство, что штаты считали посланника, направленного за границу конгрессом, не столько национальным эмиссаром, сколько посланником, действующим одновременно от имени каждого отдельного штата. Штаты вели себя так, словно, разрешая конгрессу осуществлять определенные функции, они одновременно не отказывали себе в том, чтобы осуществлять подобные же функции и от собственного имени. Они создавали свои армии, снаряжали собственный флот и осуществляли военные действия во имя интересов шта
520
та. На Юге война велась вначале без помощи конгресса. Каждый штат регулировал свои собственные отношения с индейцами и почтовую службу. Этот суверенитет штатов объяснял, почему голосование в конгрессе конфедерации шло по штатам, а не индивидуальными делегатами. Этот конгресс, по словам Джона Адамса, был «не законодательной ассамблеей, не представительной ассамблеей, а только дипломатической ассамблеей».
Шаг от союза штатов к федеральному государству имел важное значение — не только потому, что он создал новое государство, но в еще большей степени потому, что создал новый вид государства и новый вид высшего закона. Неопределенность позиции империи удерживала новые штаты от вторжения и стремления определить свои права. Однако опыт ведения войны без сильной центральной власти, с одновременно растущей инфляцией и мелкими экономическими столкновениями между штатами подчеркивал необходимость ее существования.
Конвент в Аннаполисе в сентябре 1786 года отнюдь не был конституционным, а лишь представлял собой собрание делегатов штатов по коммерческим проблемам. На нем было представлено всего пять штатов, и присутствовавшие двенадцать делегатов мало чего достигли, но эта группа предложила провести в мае следующего года в Филадельфии встречу с целью «рассмотреть состояние Соединенных Штатов, разработать такие дальнейшие положения, которые будут представляться необходимыми, чтобы привести конституцию федерального правительства в соответствие с нуждами Союза, и доложить об этом акте Соединенным Штатам на заседании конгресса, чтобы после его одобрения в конгрессе и последующего подтверждения законодательными органами каждого штата он служил той же цели». Спустя пять месяцев конгресс конфедерации осторожно объявил «целесообразным», чтобы подобный конвент делегатов собрался «для единственной и определенной цели — пересмотра «Статей конфедерации» и доклада конгрессу и некоторым законодательным органам об этих изменениях и положениях».
Когда делегаты штатов встретились в 1787 году на конвенте в Филадельфии, у них не было безусловного мандата от народа на создание новой структуры правления, который их предшественники в Бостоне почти десять лет назад получили от народа Массачусетса. Делегаты в Филадельфии не были избраны населением прямым путем, а отобраны правительством каждого отдельного штата (кроме Род-Айленда, который не был представлен). Всего присутствовало пятьдесят пять делегатов;
521
в среднем заседания сессии посещало около тридцати человек. Их главной задачей было сформировать правительство правительств. Ни один из них всерьез не рассматривал возможность существования только общенационального правительства, которое бы упразднило отдельные правительства штатов.
Предполагающиеся суверенитет и независимость каждого из тридцати штатов сделали теперь возможным ввести в сферу действий единого национального правительства многие понятия, до этого существовавшие лишь на международном поприще. Нам часто говорят, что великое значение федерального конституционного конвента заключалось в том, что он продемонстрировал, как отдельные «суверенные» государства смогли подчинить себя такому правительству, которое ранее можно было найти только внутри государства. Говорят, что конвент был «генеральной репетицией» создания Объединенных Наций. С точки зрения XX века это сравнение может быть полезным. Но в конце XVIII века значение его было как раз обратным. Рабочее «федеральное» правительство, созданное новым государством, импортировало из международной в национальную сферу новые идеи, которые могли стать особенно полезными, если бы самоуправление вообще когда-либо смогло утвердиться на большой территории.
Отношения между суверенными государствами традиционно определялись договорами, которые, как предполагалось, поддерживались только доброй волей сторон. Нормы, определявшие эти договоры, основывались на привычной системе неписаного права, иногда называемого «естественным правом, или правом наций», и часто соблюдались более неукоснительно, чем воля отдельных правителей. Эти нормы были тщательно разработаны обширной научной литературой. В XVII и XVIII веках появились серьезные разработки этой темы в сочинениях голландца Гроция (1625), немца Пуфендорфа (1672), швейцарцев Бурламаки (1747) и Ваттеля (1758), а также других. «Поскольку невозможно всю человеческую расу объединить в одно великое общество, — объяснял в 1765 году Блэкстоун, — то оно должно неизбежно разделиться и создать отдельные государства, содружества и нации, абсолютно независимые друг от друга и тем не менее связанные взаимоотношениями. Отсюда возникает третий вид права (в дополнение к «естественному праву» и «праву открытия») для регулирования этих взаимоотношений, называемый «правом наций», согласно которому ни одно из государств не признаёт превосходство или диктат другого, но целиком зависит от
522
норм естественного права либо от взаимных договоров, союзов и соглашений между сообществами; в составлении же этих соглашений у нас нет других норм, к которым можно было бы прибегнуть, кроме естественного права; оно является единственным, по отношению к которому все сообщества являются равными субъектами...»
Поэтому, когда люди 1787 года говорили, как это часто бывало, об образовании «федерального» союза, они обычно имели в виду определенные пути сближения суверенных штатов. Само слово «федеральный» еще использовалось в значении, близком к его латинскому оригиналу (foedus — договор), для описания отношений, основывающихся на доброй воле (foedus в латыни было родственным слову fides — вера). «Федеральный» употреблялось в конституционном конвенте и в дебатах по принятию конституции в этом специальном и теперь почти устаревшем значении. Широко использовалось старое написание — foederal, — которое подчеркивало связь с латинском словом foedus. Спустя два дня после первой рабочей сессии филадельфийского конвента Эдмунд Рэндолф из Виргинии выдвинул по предложению Гувернера Морриса (как записал Мэдисон) следующие положения:
1. Союз Штатов, будучи только федеральным, не достигнет целей, изложенных в «Статьях конфедерации», а именно общей обороны, обеспечения свободы и общего благосостояния.
2. Недостаточно только договора или договоров между всеми штатами или их частью как суверенными образованиями.
3. Необходимо утвердить национальное правительство, состоящее из верховной законодательной, исполнительной и юридической власти...
Г-н губернатор Моррис объяснил различие между федеральным и национальным верховным правительством; первое является просто соглашением, основывающимся на доброй воле сторон; последнее обладает полным и обязательным действием.
Что было воистину замечательно (по словам Джоэла Барлоу, произнесенным спустя несколько дней в речи Четвертого июля 1787 года), так это «постоянная федеральная система». По новой конституции, утверждал Мэдисон в «Федералисте» (1788, № 39), сенат «будет получать свою власть от штатов как политических и равноправных сообществ; и они будут представлены по принципу равенства в сенате... Таким образом правительство является федеральным, а не национальным*. Результатом «федерального» конвента и тех, что последовали
523
за ним, было превращение этого более ясного и древнего значения слова в устаревшее.
В то время как составители сооружали что-то отличное от «федерального» договора в старом смысле и в действительности придавали слову новое значение, они были также осторожны в использовании слов «нация» или «национальный». Не случайно слова «нация» и «национальный» нигде в Конституции не появляются. Конвент ясно и единодушно проголосовал 20 июня предложение Оливера Эллсворта из Коннектикута, чтобы из названия нового правительства «было исключено слово национальное и сохранялось надлежащее название Соединенные Штаты*. Слово «национальное» было соответственно исключено из других частей документа с заменой на повторяющуюся и намеренно нечеткую ссылку на «Соединенные Штаты».
Правительство, которое в действительности образовал конвент, было (по словам Эллсворта) «отчасти национальным, отчасти федеральным». Эта двойственность, объяснял он, постоянно давала о себе знать: «Пропорциональное представительство в первом виде власти (законодательного органа, палаты представителей) соответствует национальному принципу и должно обеспечивать защиту больших штатов против малых. Равенство голосов в сенате соответствовало федеральному принципу и было необходимо для обеспечения защиты малых штатов против больших».
Некоторые обобщения, которые можно спокойно сделать относительно подобной осторожности филадельфийского конвента, мотут объяснить, почему крайне трудно делать другие. Прежде всего, это была подлинная дискуссия, в ходе которой делегаты меняли свои точки зрения и приспосабливали свои позиции к требованиям других делегатов. Во-вторых, не было достигнуто согласия по основной теории: доктрины были почти столь же многочисленны, как и сами делегаты; отдельные делегаты переходили от одной теоретической базы к другой. Наконец, не было достигнуто согласия относительно подлинного характера нового правительства, которое они создали. Не случайно в принятом документе опущены оба слова — и «федеральный», и «национальный», — которые часто и остро звучали в теоретических дискуссиях. Вместо этого Конституция просто ссылалась в каждом пункте на «Соединенные Штаты». К концу дискуссий делегаты, казалось, признали свое произведение в качестве важного нового политического гибрида.
524
В течение нескольких ^десятилетий сам «конституционализм» приобрел новое и типично американское значение. Он был (по последним словам Уолтона Гамильтона) «выражением доверия, которое люди испытывали к власти слов, изображенных на пергаменте в целях направления правительства в нужное русло». Истолкование этих слов потребовало еще одного типично американского института: права суда высказываться о конституционности законов и отказывать в проведении в жизнь тех, которые он находил антиконституционными. Это стало называться «юридическим подходом». Такая власть не была специально зафиксирована в Конституции, о ней могли и не помышлять и не иметь в виду ее создатели. Но юридический подход делал Конституцию действенной, предоставляя ей новую широту, гибкость и неопределенность — под видом самого определения.
46.
СОЮЗ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЕПАРАТИСТСКИХ ТРАДИЦИЙ
Поколение, создавшее федеральную Конституцию, мучилось подозрением, что республиканское правительство не сможет функционировать на большой территории. «Для республики естественно иметь только небольшую территорию, — писал Монтескье в своей работе «О духе законов» в 1748 году, — иначе она не сможет долго существовать». Данное положение стало принципом политической науки. И Джон Адамс (в его «Защите конституций Соединенных Штатов», 1787), и Александр Гамильтон (в речи на конституционном конвенте 18 июня 1787 года) извлекли из истории тот урок, что широкие просторы Соединенных Штатов делают вероятным такое положение, когда долговременное центральное правительство будет граничить с монархией. Выступая против ратификации новой федеральной конституции на конвенте в Виргинии (9 июня 1788 года), Патрик Генри изложил эту проблему как самоочевидную. Он настаивал, что «одно правительство не может править в такой обширной стране, как наша, без абсолютного деспотизма»: «Я прошу привести мне пример большой страны, управляемой одним правительством или конгрессом, называйте это как хотите».
525
История Американской революции, как говорят, была лишь еще одной иллюстрацией этого хорошо известного принципа. Разве англичане не доказали пологую неспособность включйть в свое представительское правительство далекую Америку?
Но некоторые менее пессимистически настроенные люди стали воображать, что в Америке может быть обнаружен пример, которого нельзя было найти во всей предыдущей истории. Джеймс Мэдисон в «Федералисте» (№ 10) с надеждой говорил, что большая территория с широким разнообразием интересов может как раз защитить права граждан. «Расширьте круг, — объяснял Мэдисон в известном труде, — и вы вберете в себя большее разнообразие партий и интересов; вы сделаете менее вероятным, чтобы воля большинства слилась в едином побуждении нарушить права других граждан; если же такое общее побуждение существует, тем, кто его испытывает, будет труднее показать свою силу и действовать в унисон друг с другом... Союз имеет над составляющими его штатами то же преимущество, какое республика имеет над демократией в контроле за действиями фракций, какое большая республика имеет над малой». Томас Джефферсон после бурных президентских выборов 1800 — 1801 годов, когда связь между ним и Аароном Бэрром в коллегии выборщиков послужила причиной передачи решения в палату представителей, был в конце концов избран после тридцать шестого тура голосования и написал Джозефу Пристли 21 марта 1801 года: «Мы уже не можем сказать, что ничего нового нет под солнцем. Потому что вся эта глава в истории человечества совершенно новая. Это новое — обширность нашей республики... Она представляет новое доказательство ложности доктрины Монтескье, что республика может сохраняться только на небольшой территории. Истина в обратном. Если бы наша территория была хотя бы одной третью того, что есть, мы бы пропали. В то время как безумие и заблуждения, подобно эпидемии, поражали отдельные ее территории, остальные оставались здоровыми и нетронутыми и держались, пока их братья не выздоравливали от временного заблуждения; и это обстоятельство приносило мне утешение».
Существовали, однако, и некоторые специфически американские основания для пессимизма: сепаратистская традиция была даже старше, чем Революция. Она была такой же старой, как и колониальные поселения. Открытие Нового Света сделало возможным отсоединение и отделение в масштабах материка, и американская жизнь включала в себя неисчислимые попытки
526
отделения. Пилигримы былипервыми открытыми американскими сепаратистами. Как сепаратисты они верили в то (что, с точки зрения Старого Света, было абсолютно ужасным), что люди, которые хотят жить по законам более чистой церкви, могут по своему собственному согласию отделиться от старой общины и сами образовать новую. Пилигримы прибыли в Плимут только после того, как их попытка отделиться в Голландии оказалась неудачной. На широких американских просторах идеи «сектантства» или «терпимости» были заменены сепаратизмом и отделением.
С начала XVII до середины XIX века отделение было характерным американским явлением. Колонии расширялись и утверждали свой особый характер путем отделения. Роджер Уильямс и Энн Хатчинсон, еретики-сепаратисты, были изгнаны из Массачусетской колонии и основали собственный Род-Айленд. Томас Хукер, другой сепаратист, уединился в своем Коннектикуте. Лорд Балтимор сделал возможным для группы католиков выйти из англиканской церкви и образовать общину, которая, по крайней мере какое-то время, была их собственной. Уильям Пенн предоставил специальное место для беженцев-квакеров. И так далее. Все это было возможным благодаря большим пространствам. Революция в тот период казалась многим триумфом тринадцати отдельных сепаратистских настроений. В конце XVIII и начале XIX века караваны фургонов шли на запад, заселяя новые территории и штаты в туманно обозначенной глубине материка; они тоже отделялись в соответствии с их разнообразными мирскими укладами от жизни на побережье.
Американский опыт уже тогда показал, что страхи Монтескье и других предшествовавших ему политических теоретиков не были лишены оснований. Если единой большой республике суждено было здесь выжить, она должна была найти способ остановить волну отделений. Довольно странно, что эта возможность должна была появиться благодаря созданию новой американской империи — по выражению Джефферсона, «империи свободы» — с политическими институтами, очень схожими с теми, за отход от которых боролись американские колонисты. Первый колониальный опыт (до Войны за независимость) сделал необходимым образование американского государства. Второй колониальный опыт (между Войной за независимость и Гражданской войной) сделал создание государства возможным.
«Общественная территория» — новая американская империя, контролируемая теперь не из Лондона, а «Соединенными Штатами, представленными в конгрессе», — стала связующим
527
звеном между штатами. Без этих ^земель и конфликтов с иностранными державами, которые им угрожали, могло ли центральное правительство выжить в период между заключением мира с Британией в 1783 году и созывом конституционного конвента в Филадельфии в 1787 году? Что бы могло произойти, если бы угроза британского нападения ослабла и тринадцать отдельных «суверенных штатов» пошли каждый своим путем?
Мечты об этой новой империи давно вдохновляли Джефферсона. В 1809 году он высказал президенту Мэдисону мысль о том, что Наполеон может позволить Соединенным Штатам заполучить Кубу. Тогда, продолжал Джефферсон, добавив Канаду, «мы будем владеть такой империей свободы, которая никогда еще не существовала в истории; ...ни одна конституция до нас не была так хорошо продумана с учетом обширной империи и самоуправления». С самого начала эта новая империя была не просто мечтой, а цементирующей основой Союза.
В течение последующих десятилетий новое центральное правительство в Америке будет осуществлять власть над землей и жизнью в новой американской империи, в которой новые колонии более пристойно назывались «общественными землями», или «национальными владениями», или «общественными владениями». Эта империя по политической структуре была удивительно похожей на ту, что привела ранние американские колонии к восстанию. Новое национальное правительство, например, с самого начала осмелилось издавать законы в этой новой империи и устанавливать налоги.
Тем временем на Востоке американские политические институты обладали той же самой властью и законодательными правами, что и на не до конца оформившемся Западе. Основные меры, проводимые новым национальным правительством, можно было бы охарактеризовать, говоря языком прежних дней, как меры имперского контроля. Они были современными двойниками Прокламации 1763 года, Квебекского акта 1774 года и других актов, которые распоряжались жизнью, состояниями, землями и правительствами народа, проживающего далеко от центральной власти в Лондоне. Эти ранние акты парламента должны были сохранить империю в целости и служить оплотом против иностранных врагов. Более поздние акты американского конгресса, такие, как Миссурийский компромисс, Компромисс 1850 года и билль Канзас — Небраска 1854 года, также навязывали решения далекого Востока народам Запада, объединяя тем самым страну. Если британское правительство однажды использовало американцев как пешек во всемирной битве за империю, то теперь но
528
вое американское правительство в Вашингтоне использовало жителей Запада в качестве довеска к плотно заселенным восточным районам.
С точки зрения штатов, уже состоявших в Союзе, долго обсуждавшиеся меры казались просто внутренними «компромиссами*, но на деле они носили имперский характер, распространяясь на поселенцев как и на колонистов. Например, Миссурийский компромисс (1820) устанавливал, что в районе, который охватывает купленную Луизиану к северу от 36’30', рабство должно быть отменено. Копромисс 1850 года и билль Канзас — Небраска (1854) также основывались на положении, что во власти конгресса устанавливать основные нормы (например, «народный суверенитет*), в пределах которых поселенцы могут принимать решения относительно своих институтов. Вся политика в отношении федеральной земли, охватывавшей широкие пространства и находившейся в общественном владении (которая в результате включала в себя буквально всю страну, кроме первоначальных тринадцати штатов и Техаса), оказалась политикой присвоения американским центральным правительством той самой власти, в которой колонисты отказали правительству в Лондоне. Федеральное правительство, а не новые западные штаты или рыночные отношения устанавливали условия, на которых поселенцы могли приобретать себе землю. И с самого начала, когда в 1803 году в Союз был принят первый штат с общественным землевладением (Огайо), федеральное правительство в общем сохранило право собственности на недарован-ные земли в границах нового штата, исключая только в каждом поселении наделы, отведенные для образовательных целей.
За сорок лет до Гражданской войны конгресс был, по словам одного историка, чем-то вроде «спасителя Союза*, или, мы могли бы сказать, «спасителя империи*, который тратил свои силы на «компромиссы*, делавшие жителей Запада пешками в борьбе на Востоке. Другие значительные результаты федерального законодательства— Закон о земле 1796 года, предусматривавший раздел на прямоугольные участки; Закон о земле 1820 года, требовавший платить за землю наличными; Закон о преимуществе 1830 года, который отдавал преимущества тем, кто уже заселился; Закон о распределении и преимуществе 1841 года, который санкционировал заселение до покупки и распределял часть выручки от продажи земли среди новых штатов, и Закон о гомстедах 1862 года — все они были мерами контроля Востока над приобретением собственности и совершенствованием права на землю на всем Западе. В отношении Вашингтона к западным
529
политическим проблемам преобладали функции контроля или попыток контроля. От правления конгресса отказаться было не так легко: проблема рабства была еще одним поводом для прямого вмешательства конгресса. Спешка в заселении Канзаса как выступавшими за, так и против рабства и возникшая из-за этого гражданская война (ноябрь 1855 года—декабрь 1856 года), в которой было около двухсот убитых, стала одним из многих инцидентов в развернувшейся на Западе борьбе за соблюдение положений, установленных конгрессом. Союз сохранялся на непрочной основе этого нового вида имперского контроля.
* * *
Отношение западных территорий (скоро включивших еще большее число штатов) к новому государству демонстрировало характерные черты американской политической системы с институтами твердой унионистской тенденции, которые продолжали существовать и в XX веке. Эти институты должны были сделать возможной обширную республику. Кто мог предсказать, что они станут побочным результатом сепаратистской традиции?
Основной закон: правовой фундамент Революции. Новый американский механизм образования штатов — основа американской колониальной системы — получил свою классическую форму в ордонансе о Северо-Западе, принятом конгрессом конфедерации в июле 1787 года. Этот акт перечислял привычный набор стадий, через которые должна пройти территория по пути от полного контроля со стороны конгресса к равенству в качестве нового штата внутри Союза.
Вначале редко населенная территория должна была управляться конгрессом посредством назначаемых им губернатора, секретаря и трех судей. Эти официальные лица вместе должны были составить правовой кодекс, заимствуя те законы первоначальных штатов, которые «лучше всего подходят к условиям района». Они обладали автократическими правами, ограниченными только вето конгресса. Следующий этап наступал, «как только количество свободного мужского населения совершеннолетнего возраста в регионе достигало пяти тысяч» и его обитатели могли, если хотели, создавать представительное управление с двухпалатным законодательным органом: палатой представителей, избираемой прямым путем, и небольшим «законодательным советом» из пяти человек, отобранных конгрессом из списка в десять человек, подготовленного этой палатой. Губернатор имел право вето на все законы. Обе палаты территори
530
ального законодательного Органа должны были общим голосованием выбирать делегата, «который будет иметь место в конгрессе с правом участия в обсуждении, но не голосования в период этого временного правления».
Правление в период этих двух первых этапов напоминало систему времен старой Британской империи, с конгрессом вместо короны и парламента, с назначаемыми губернаторами слабыми законодателями, подчиняющимися вето со стороны национального законодателя и не голосующими представителями в национальной столице.
Третий, и заключительный, этап наступал, когда свободное население насчитывало шестьдесят тысяч человек; к этому времени территорию принимали в Союз в качестве штата. В пределах одной Северо-Западной территории могло быть образовано «не менее трех и не более пяти штатов», все «в одном и том же равном отношении с первоначальными штатами абсолютно во всех аспектах и обладающие свободой создания постоянной конституции и правительства штата, при условии, что конституция и правительство, созданные таким образом, будут республиканскими в соответствии с принципами, содержащимися в ее статьях».
Эта американская колониальная система в отличие от британской обеспечивала нормальный переход от имперского контроля к самоуправлению. Более того, на последнем этапе удаленная территория должна была быть активно вовлечена в управление всем государством. Эта процедура создания штата была предписана в ордонансе о Северо-Западе в соответствии со «Статьями конфедерации»; она была вновь декретирована первым конгрессом как часть новой федеральной системы. Ее основной принцип — предсказуемый процесс от автократичного колониального правления к самоуправлению и вовлечению в государство — стал американским путем национального роста.
Таким образом, Соединенные Штаты росли политически, суммируя свой колониальный опыт. Гораздо более обширная, чем позднее, в XX веке, территория Соединенных Штатов управлялась когда-то из национальной столицы, как колония. Колониальный опыт, практиковавшийся в более ранней форме в каждом из тринадцати первоначальных штатов, был теперь возрожден и юридически оформлен почти всеми другими штатами, которые в итоге составили страну. И если прежняя система потерпела неудачу, с точки зрения британского правительства в Лондоне, то более поздний ее вариант завершился успехом, с
531
точки зрения преобразованного американского правительства в Вашингтоне.
Спустя полвека после принятия ордонанса 1787 года этот план прогрессивной деколонизации стал известной принадлежностью американских институтов. «Он настолько приближается к абсолютному совершенству, — объявил судья Тимоти Уокер из Цинциннати, автор широкоизвестного «Введения в американское право» (1837), — что не имеет аналогов в мировом законодательстве, ибо после пятидесятилетнего опыта его невозможно изменить без того, чтобы не ухудшить... Он является одним из таких непревзойденных образцов проницательного предвидения, на которое не осмелился бы нападать даже дерзкий дух нововведения». Спустя целое столетие лорд Брайс в своем труде «Американское содружество» (1889) признал, что американский план территориального правления хорошо сработал на практике и почти не дал поводов для неудовольствия даже самим обитателям территорий.
Успешное применение этого предсказуемого, постепенного, шаг за шагом, плана продвижения к самоуправлению и вовлечению в национальную жизнь составляет одно из чудес американской истории. Применение принципов ордонанса о Северо-Западе не было ни буквальным, ни единообразным, но оно было всеобщим. Например, включение Огайо в качестве штата в 1803 году и Иллинойса в 1818 году произошло в обоих случаях до того, как их население достигло установленных шестидесяти тысяч человек; в то же время Дакота в 1880 году с населением вдвое большим, чем установленная цифра, всерьез не рассматривалась для получения статуса штата, а Юта, принятая в 1886 году, уже более тридцати лет имела население, превышавшее требуемое число. Важными и зачастую решающими были политические соображения существующих штатов. Огайо, первый штат, созданный из Северо-Западной территории, был принят конгрессом, находившимся под сильным влиянием Джефферсона, как раз вовремя, чтобы помочь переизбрать Джефферсона президентом в 1804 году.
До Гражданской войны в этой, как и в других проблемах доминировал вопрос о рабстве. После борьбы вокруг принятия Миссури как рабовладельческого штата в 1821 году соотношение сил в национальном правительстве в Вашингтоне зависело от внутренней жизни территорий. Это изменило направление движения сил, существовавшее при старой Британской империи, когда правление колоний формировалось под влиянием событий внутренней политики в Лондоне. Наличие целого
532
материка, в котором создавались политические противовесы в сложном равновесии между Севером и Югом, свободными и рабовладельческими штатами, способствовало сохранению местных проблем. Штаты принимались, а территории создавались парами: свободные и рабовладельческие. Даже после Гражданской войны законопроектом по разным вопросам 1889 года были одновременно приняты четыре штата (Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон и Монтана), с тем чтобы не нарушить партийный баланс: два считались демократическими, два других — республиканскими.
Самым удивительным было не то, что создание новых штатов шло неравномерно, нерегулярно и находилось под влиянием политики «метрополии», но, скорее, то, что оно осуществлялось так эффективно. Две трети материка были приведены от колониального правления к самоуправлению в течение полутора веков. Угрозы отделения, как, например, мормонов в Юте в 1857 году, были редкими. Система успешно предотвратила то, что могло стать серией американских войн за независимость на Западе.
После первоначального периода экспериментального приспособления к местным условиям (например, к французским и испанским традициям в Луизиане) была разработана замечательная система стандартизации. И, несмотря на вовлеченность в такие взрывоопасные внутренние проблемы, как рабство, земельное преимущественное право, банковские дела и тарифы, новые территории продолжали постоянно создаваться: Арканзас (1819), Флорида (1822), Висконсин (1836), Айова (1838), Орегон (1848), Миннесота (1849), Юта и Нью-Мексико (1850), Канзас и Небраска (1854). Вследствие типично американских перестановок точка зрения этих «колоний» постепенно стала преобладать в политике «метрополии», которая теперь составляла треть восточной территории центральной Северной Америки.
Система ордонанса о Северо-Западе 1787 года действовала в основном до того, пока последний участок смежной материковой территории не был принят в 1912 году как штат Аризона. Но после 1861 года, когда вопросы рабства и местного соперничества перестали преобладать во внутренней политике, создание новых штатов замедлилось; попечительство над территориями было слишком полезным, чтобы конгресс отказался от него просто для удовлетворения местных амбиций в отношении статуса штата. За 1867 — 1889 годы был принят только один штат (Колорадо), на территориях же Дакоты, Монтаны, Юты, Нью-Мексико и Вашингтона целое поколение выросло в условиях
533
квазиколониализма. Но по меркам Старого Света темп продвижения вдоль ясно определенного пути к самоуправлению был достаточно быстрым. Направление этого продвижения (как это совсем недавно произошло на Аляске, принятой в качестве штата 3 января 1959 года, и на Гавайях, принятых 21 августа 1959 года) осталось неизменным.
Образование штатов было сведено к простой, точно определенной процедуре. На просторном материке «самоуправление» создавалось то в одном месте, то в другом с необыкновенной простотой. Как конституции штатов на Западе были временами рабским подражанием восточным образцам, так и основные законы, которые создавали западные территории, следовали шаблону. Основной закон Висконсина 1836 года, исходивший из аналогичных более ранних актов, создал формулу, которая повторялась всеми последующими законами. Воля к самоуправлению была теперь приручена — еще одно свидетельство, что (по словам Р.Р. Палмера) «Революция в Америке уже стала домашней».
Американская колониально-территориальная система, с ее простыми и легкими этапами продвижения от имперского правления к самоуправлению, была еще одним практическим применением знания дела. Как и производственная система в Новой Англии, это был план организации, в данном случае суммированный в положения Основного (подготовленного правительством) закона. И это также было свидетельством замены высокого умения. Таким массовым производством штатов население могло быть организационно трансформировано из простой территории, скопления временных общин и растущих городов в полностью оснащенное представительное правление, даже если ему не хватало собственных политических навыков. Как территориальные судьи вместе с губернатором и секретарем на первом этапе, во многом используя систему взаимозаменяемых частей, составляли свои кодексы законов из заготовок, взятых в других частях Союза, так позднее создатели конституций западных штатов заимствовали заготовки у своих предшественников.
Политика разрастания: новые политические единицы. Национальная история Англии, Франции, Германии или Италии является историей объединения; национальная история Соединенных Штатов — это история разрастания. Соединенные Штаты с самого начала росли, добавляя новые районы из внутренних территорий с необозначенными границами. В то время как национальная политика Европы состояла в регулировании старых образований, национальная политика Соединенных Штатов в
534
первые три четверти века существования состояла из создания, подгонки и установления взаимосвязей новых образований. Это отличие предопределило рождение американской политической жизни.
В1790 году страна была ограничена восточным берегом реки Миссисипи, причем большая часть населения жила к востоку от Аппалачей. Она включала в себя территорию примерно в девятьсот тысяч квадратных миль, составлявшую национальные владения (Северо-Западная территория и Юго-Западная территория), и тринадцать штатов. К 1861 году страна простерлась до Рио-Гранде и Тихого океана и протянулась через весь материк до сорок девятой параллели, всего около трех миллионов квадратных миль, и состояла теперь из полудюжины территорий и тридцати четырех штатов. Эти простые данные политической арифметики явились итогом главных особенностей американской политики. Политический график фантастически ускорился: между созданием конгрессом территории и приемом ее в качестве штата никогда не проходило больше шестидесяти двух лет (Нью-Мексико — 62 года, Гавайи — 61, Аризона — 49, Аляска — 47, Юта — 46 лет), а средний период времени для этого процесса состоял примерно из двадцати лет. Первоначальные тринадцать штатов были центром верноподданнических чувств, накопленных за многие десятилетия; новые же штаты (двадцать седьмой штат, Флорида, был принят в 1845 году) по численности быстро превзошли старые. В большинстве случаев новые штаты появлялись вследствие быстрого роста неустоявшихся и рвущихся вперед общин, которые путем законодательного декрета обретали право на политическое и конституционное существование.
Конституция, которую европеец веками привык считать плодом «не специальной работы, а естественного развития, не национальным кодексом, а, скорее, национальным наследием», теперь создавалась на одной территории за другой по их желанию. Это новое чувство контроля сформировало у американцев функциональное отношение к правительству. Было совершенно очевидно, что люди мотут создавать новые политические образования настолько быстро, насколько хотят. Но ведь то, что люди могут создать, они ради своего удобства могут и изменить?
Географические особенности новой страны сделали возможным присоединять один новый штат за другим без нанесения ущерба сильной соседней власти. В Старом Свете присоединение к государству не могло произойти без исчезновения целой страны либо отделения ее части. У Соединенных
535
Штатов не было традиционной границы, кроме Атлантического океана. Так что новый Союз был построен по плану «присоеди-ни-ка штат», в то время как попутно американцы создавали новые политические единицы.
Политика присоединения: менять — это нормально. Постепенно, но постоянно правительство Соединенных Штатов са-моизменялось, чтобы выражать потребности, мнения и стремления вновь присоединенных образований. По мере прибавления каждого нового штата слегка менялась вся политическая структура. Это одна из причин, почему в Соединенных Штатах никогда не было успешных насильственных политических революций. Присоединение делало революцию излишней. Большим исключением был, конечно, Юг, который отказался принять изменения, связанные с расширением, и пытался сделать жестким то политическое устройство, которое выжило только благодаря своей гибкости.
Хотя неясно, до какой степени создатели конституции 1787 года предвидели такое развитие, но есть основания предполагать, что расширение было задумано ими как отличительная черта американской империи. Перепись населения, например, выявила ожидание того, что по мере добавления к Союзу новых территорий и штатов центр политической власти будет смещаться. Она также обнаружила надежды американцев, что структура представительства в конгрессе будет оставаться гибкой, чтобы включать новые районы в свою деятельность и вовлекать их в национальные дела. Европейскими правительствами перепись населения предпринималась для разных целей. В первой конституции штата Нью-Йорк существовал черновой проект, предусматривавший «перепись избирателей и жителей» каждые семь лет. Положение федеральной конституции о переписи через каждые десять лет (статья И, часть 2) было во многих смыслах своеобразным. Необходимость переписи была обусловлена соглашением между большими и малыми штатами, в котором также предусматривалось существование двух законодательных органов, в одном из которых было представлено население. Поскольку в соответствии со «Статьями конфедерации» каждый штат имел только один голос в однопалатном законодательном органе, то не было необходимости в периодическом подсчете населения в представительских целях. Но теперь и прямые налоги, и выдвижение в палату представителей должны, были быть пропорциональны количеству населения, «определяемого путем прибавления ко всему числу свободных людей тех, кто обязан отслужить срок в течение ряда лет, и три
536
пятых всех остальных лиц, за исключением не облагаемых налогом индейцев». Цифры для этих целей должны были обновляться каждые десять лет. Таким образом, по своей сути это положение было полностью финансовым и политическим — чтобы обеспечить гибкую основу для налогообложения и формирования палаты представителей. Только в 1850 году перепись стала серьезным источником для национальной статистики и в других целях.
Перепись в Соединенных Штатах впервые показывала, что изменяющееся количество населения (и отсюда изменяющиеся нормы регионального роста) должно стать естественным элементом в периодическом перераспределении власти между разными составляющими политической системы. В Англии и вообще в Европе партии в XIX веке боролись, чтобы добиться отдельных изменений в самой основе представительства, но в Америке непрерывный процесс изменений был заложен в первоначальной схеме. Цифры переписи при нормальном ходе событий становились гласными; это также было большим изменением, поскольку по крайней мере до конца XIX века во многих странах (а в некоторых странах и в XX веке) статистические данные составляли государственную тайну. Там преобладали страхи откупщиков и соперничающих стран, здесь же, при наличии требований различных частей страны на представительство, данные должны были быть опубликованы для народа.
Эффект от перераспределения каждые десять лет особенно драматично сказывался в первое столетие существования государства. На первом конгрессе избирательный округ члена палаты составлял в среднем 33 000 человек, в 1840 году он насчитывал 71 000, к 1890 году он подходил к 176 000 человек. Вместо того чтобы произвести перераспределение членства, существовавшего с 1789 года, палата позволила себе расти вместе с населением. Это было, конечно, лишь еще одним примером склонности американцев к разрастанию политических единиц (в данном случае избирательных округов). Вследствие этого пришлось не только изменить пропорции распределения власти внутри палаты, но и существенно изменить сам характер палаты и механизм ведения дел. В то время как в 1789 году палата представителей насчитывала 65 человек, а в 1790 году — 106, то к 1820 году число удвоилось до 213, а к 1860 году увеличилось до 243 человек. Окончательная цифра 435 утвердилась в 1910 году и оставалась неизменной до временного добавления еще двоих человек в 1960 году после принятия Аляски и Гавайев.
537
Механизм работы комитетов палаты разрабатывался постепенно: к 1800 году было создано только четыре постоянных комитета, но в 1850 году их число достигло тридцати четырех. По мере роста палаты и ее комитетов юрисдикция комитетов расширялась. Вначале внесение законопроектов и передача их на рассмотрение строго контролировались самой палатой, а коми-, тетам оставалось лишь разрабатывать детали и составлять проекты. Комитеты, которые вначале были просто «детьми» палаты, к 1825 году стали прибирать к рукам ее власть, пока постепенно не забрали себе ее функции. К 1885 году правление конгресса превратилось (по словам Вудро Вильсона) в «правление постоянных комитетов конгресса».
Политика объединения: партии компромисса и местные корни, «Чем меньше общество, — писал Мэдисон в известных записках «Федералиста» (№ 10), — тем соответственно меньше количество различных партий и представляемых ими интересов; чем меньше различных партий и интересов, тем легче складывается большинство в самой партии, и чем меньше пространство, которое они занимают, тем легче им договариваться и осуществлять свои планы подавления». И, продолжая, как мы отмечали, он доказывал, что большая страна, вбирая в себя «большое разнообразие партий и интересов», будет охранять права граждан. Не удивительно, что ни Мэдисон, ни его друзья — создатели федеральной Конституции, не могли представить себе, какого рода политические партии возникнут в новом государстве. Партийное правление в Соединенных Штатах, замечал лорд Брайс в конце XIX века, «настолько не похоже на то, что мог бы ожидать или предугадать человек, изучающий федеральное правление, что является одной из тех тем, которую должен попытаться раскрыть каждый пишущий об Америке». Возникло нечто противоположное тому, что представляли себе основатели; отождествляя «партии» с «интересами», они еще рассуждали с позиций маленьких стран Старого Света, которые не были федерациями. Но в дальнейшем реализовать мечту Мэдисона и Джефферсона об обширной республике позволила как раз особая и весьма практичная роль американских политических партий. Географический избирательный округ, а не идеологическая группа или группа интересов стал основной единицей американской партийной политики. И партии тоже должны были быть «отчасти национальными, отчасти федеральными».
Тенденции американской политической жизни оказались центробежными и проявились в Американской революции и сепаратистской традиции, которая надолго пережила Революцию.
538
Как мы уже видели, американское государство не было продуктом великих национальных страстей, и Конституция Соединенных Штатов была рискованным и новым мероприятием — ни полностью федеральным, ни полностью национальным. Эффективное политическое объединение страны оставили политическим партиям. Они соединили в себе практическую энергию и энтузиазм, объединили усилия штатов и национальные усилия для строительства сильной державы. Они отличались от известных ранее политических партий, а также от тех, что появлялись где-либо в дальнейшем. Они были побочным продуктом огромных просторов, на которых была разбросана Америка, большого количества независимых политических образований, а также абсолютной простоты, новизны и нечеткости федеральной Конституции. Они обеспечивали бесчисленные живые связи, которые создают политическое государство; они объединяли отдельные политические образования самыми разными путями, которые не могли быть определены ни в одном из писаных законов или конституций. И они осуществили свою уникальную задачу по объединению благодаря типично американским особенностям.
Первыми и самыми важными из них были местные корни. Многочисленные правительства городов, округов и штатов предусматривали большее число политических должностей и возможностей, приходящихся на одного человека, чем в централизованных западноевропейских странах. Местная политическая партия купалась в бесчисленном количестве лужиц политического покровительства. Как мы уже слышали, западный поселенец объяснял: «Условия для организации округа становились идеальными в том случае, если для каждого человека находился официальный пост». Американская партийная система не смогла бы расти без энтузиазма тысяч партийных работников, часто вдохновляемых надеждой на местную официальную должность.
Примерно до 1800 года каждое местное официальное лицо само выдвигало себя на должность. Затем стали объединять кандидатов на официальный пост разных уровней и предлагать их избирателям одним «списком» (американизм, появившийся примерно в это время). Практику открытого устного голосования в присутствии сограждан, которая была традиционной на выборах в колониальной Виргинии в палату граждан, было трудно применять при выборах многочисленных официальных лиц; и это не было удобным для «партийного списка». Не подходили и другие прежние избирательные законы, как, например, в Пен
539
сильвании, где даже в 1796 году правительство не предоставляло напечатанные бюллетени, поскольку имена кандидатов необходимо было вписать собственноручно. Один предприимчивый кандидат республиканской партии заполонил штат отпечатанными списками, с которых избирателям удобно было списывать имена. Он также попросил своих друзей-республиканцев и их семьи сделать рукописные копии с партийного списка, которые избиратели затем могли бы принести в места голосования и вручить как свои избирательные бюллетени.
Само количество официальных лиц, которых надо было избрать (например, на выборах 1796 года в Пенсильвании единственным способом проголосовать за президента Соединенных Штатов было написать на вашем бюллетене имена пятнадцати выборщиков), предполагало помощь и организацию политических партий. На выборах 1796 года в штате Нью-Йорк избиратели могли уже выбирать между «республиканским списком» и «федеральным республиканским списком», каждый из которых был составлен на специальных партийных собраниях. Часть республиканских партийных делегатов собралась в Довере, штат Делавэр, «с целью подготовки списка, который будет рекомендоваться республиканцам округа Кент на следующих общих выборах», и назвала кандидатов как в конгресс, так и в органы штата. Поскольку кандидаты на общественные посты на разных уровнях осознали стратегическую важность числиться в одном списке, они также объединялись для выражения своих политических принципов и программ. Так неформально и с помощью организованной деятельности сильных политиков типа Томаса Джефферсона «партийный список» стал обычным делом. Давление на политиков с целью объединения сил в день выборов шло как сверху (например, в Виргинии), так и снизу (например, в Нью-Джерси). Кандидаты на должность в округе либо в законодательном органе штата были рады объединению с более широко известными кандидатами в конгресс либо с выборщиками президента, поддерживающими знаменитого человека; кандидаты на федеральный пост были рады объединению с местными соискателями, которых хорошо знали в округе.
Новаторский институт партийных списков вначале вызвал оппозицию со стороны партийных идеалистов типа редактора филадельфийской «Дженерал эдвертайзер»,’который сказал в начале 1790-х годов: «Мы не хотим «торговцев списками»: пусть каждый гражданин осуществляет свое решение, и мы будем иметь хороших представителей — интрига, фаворитизм, сговор и партия могут тогда спокойно почить». Даже в 1800 году высо
540
коморальные федералисты штата Коннектикут, считая непристойным, что каждый кандидат на общественную должность вынужден ездить по штату «с целью побуждения людей голосовать за него», обрушились на столь «мерзостную практику предвыборной кампании». Но организация выборов, собрания по выдвижению кандидатов и другие атрибуты «партийных списков» были слишком эффективными для соискателей постов и слишком развлекательными для избирателей, чтобы от них отказаться.
Создание списков кандидатов на выборах стало для публики интригующим времяпрепровождением, а собрания по выдвижению кандидатов, которые были частью всего процесса, стимулировали политический интерес и подогревали партийную верность. Собрания по выдвижению кандидатов впервые приобрели значение с расширением права голоса в конце 1820-х годов. Обычная процедура состояла в том, что центральный комитет партии штата издавал обращение о созыве собрания штата; городские собрания избирали делегатов на собрания округов, которые в свою очередь выбирали своих делегатов на собрания в масштабах штата; если нужно было избирать сенаторов штата или конгрессменов, на окружное собрание избирались дополнительные делегаты. Такие многочисленные собрания каждому давали возможность выступить; дискуссии освещались в местной печати и затем часто воспроизводились в виде брошюр для партийной пропаганды. Когда группа национальных республиканцев Кентукки в 1830 году призвала собрание штата выдвинуть своего кумира Генри Клея в кандидаты на пост президента, то предполагаемые достоинства собраний описывались в словах, ставших с тех пор хорошо известными:
Выбранные прямо из народа, они будут нести в себе и провозглашать его подлинные чувства. Народные по своей сути и составу, они будут внушать уважение и обеспечивать уверенность благодаря своим простым, прямодушным действиям, без интриг, без коррумпированного посредничества верхушки управления, без чего-либо еще, исходящего не от интуитивного импульса самого народа.
Собрания не только концентрировали усилия партии на определенных кандидатах и тем самым увеличивали шансы на победу; они вызывали энтузиазм и подвигали граждан на добровольную работу во благо своей партии. «Это — славное собрание, — писал сторонник антимасонской партии о партийном собрании штата в 1831 году в Нью-Йорке.—Холлы, галереи
541
и все другие места переполнены. Я горжусь антимасонством. Какие достойные, выше всех похвал принципы привели сюда простых честных фермеров из самых отдаленных районов штата посреди зимы». Идея собраний, доказавшая свою эффективность в округах и штатах, была принята национальными партиями. На выборах 1832 года всеми основными партиями были впервые проведены национальные съезды по выдвижению кандидатов в президенты.
Эти национальные съезды по выдвижению кандидатур на выборные должности собирали вместе делегатов и кандидатов со всей страны, которые считали для себя возможным прийти к согласию по программе и политике и договориться о единственном знаменосце. Отдельные избиратели из отдаленных штатов на собраниях и в каждодневной деятельности партийной организации находили больше шансов для достижения договоренностей, чем в официальной обстановке съезда. Таким образом, политические партии стали одним из самых эффективных объединяющих страну факторов в американской жизни. А разбросанность американской политической жизни вела к крушению догм и к стиранию различий, которые в эти же годы обостряли политику в более централизованных странах континентальной Европы.
Даже коллегия выборщиков, придуманная основателями федеральной Конституции для избрания президента Соединенных Штатов, служила той же цели. Хотя наперекор ожиданиям основателей коллегия выборщиков практически не обсуждала избрание президента, она сделала победу отдельных групп выборных голосов штатов единственным путем к президенству. Так, в Соединенных Штатах даже избрание народного трибуна, единого представителя всей нации как таковой, достигалось «взвешиванием» народной воли в отдельных частях штатов. Самым высоким выборным лицом, избранным всем народом, был не президент, а губернатор штата. Этот факт придавал дополнительный вес партийной организации, которая уже в начале XIX века была «соединительной тканью» страны.
Лорд Брайс отмечал в конце XIX века: «В Америке великими движущими силами являются партии. С правительством считаются меньше, чем в Европе, а партии ценятся выше; и чем меньше у них остается принципов, чем слабее проявляется их интерес к этим принципам, тем более совершенной становится их организация». Эти тенденции отчетливо проявились уже через полвека после принятия федеральной Конституции. Как и во многих других областях американской жизни — в религии,
542
образовании, в формировании новых сообществ, — идеология была заменена организацией. Острые различия между идеей и целью затмевались необходимостью собраться вместе для почти само собой разумеющихся общих задач. До тех пор пока проблемы американской политической жизни решаются с помощью компромиссов, политические партии остаются для них прекрасными аренами. Когда это перестанет быть истиной, страна окажется на грани роспуска, и тогда политические партии, как и саму страну, придется возрождать.
ДЭНИЕЛ БУРСТИН И АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
В свое время Гегель писал, что Америка — страна без прошлого и ей принадлежит только будущее. В связи с этим он предлагал «исключить ее из тех стран, которые до сих пор были ареной всемирной истории». Этот взгляд великого немецкого мыслителя оказался пророческим, хотя он и игнорировал глубокие корни нового общества, которые существовали как в Европе, так и на Американском континенте.
В современных Соединенных Штатах историческая наука, в особенности ориентированная на изучение отечественной истории, хорошо развита. Среди видных американских историков, которые внесли существенный вклад в изучение американской цивилизации, можно назвать плеяду замечательных исследователей: Генри и Брукса Адамсов, Фредерика Тёрнера, Генри Коммэджера, Роберта Хофштадтера, Джорджа Бэнкрофта, Аллена Нэвиса и других. Этим ученым принадлежат многочисленные обзоры истории США, ими выдвинут ряд методологических принципов ее изучения, например «гипотеза фронтира», согласно которой внутренним стимулом развития американской цивилизации являлось движение на Запад, освоение земель за счет расширения западных границ, идея «божественного предопределения», концепция «американского Адама» и т.д.
К сожалению, многие из работ по истории США остаются недоступными отечественному читателю. На русский язык переведена только фундаментальная (но незавершенная) работа
544
Вернона Луиса Паррингтона «Основные течения американской мысли» («Прогресс», 1962).
Тем больший интерес представляет публикация на русском языке книги известного американского историка Дэниела Бур-стина «Американцы», дающая широкую панораму американской истории.
Бурстин родился в 1914 году на Юге США, в городе Атланта, штат Джорджия. Позднее его семья переехала в Оклахому. Высшее образование Бурстин получил в престижном Гарвардском университете, а затем продолжил образование в одном из старейших колледжей Оксфорда — Бэллиол-кол-ледже. Здесь он специализируется в области права и получает сразу две первые премии за свои исследования. Вернувшись из Великобритании в США, Бурстин становится профессором американской истории в Чикагском университете. Помимо преподавательской деятельности, он занимается редактированием 30-томной «Чикагской истории американской цивилизации», а также читает лекции в Риме, Женеве, Кембридже, Сорбонне, Киото, Пуэрто-Рико. В 1969 году Бурстин становится директором Национального музея истории и технологии в Смитсоновском институте в Вашингтоне, а в 1974 году избирается на очень важный в политическом и научном отношениях пост директора Библиотеки конгресса, на котором он проработал двенадцать лет. В 1986 году Бурстин уходит в отставку с этого поста, чтобы завершить работу над своими новыми книгами.
Дэниел Бурстин — автор многих исторических исследований, которые изданы не только в США, но и во многих странах мира, за исключением разве что СССР (настоящее издание — первая его публикация на русском языке). Среди работ Бур-стина — «Потерянный мир Томаса Джефферсона» (1948), «Дух американской политики» (1953), «Имидж. Путеводитель к псевдособытиям в Америке» (1969), «Демократия и ее неудобства» (1971), «Республика технологии» (1978), «Первооткрыватели» (1983), «Скрытая история» (1987).
Большинство этих работ посвящено главным образом американской истории, ее демократическому опыту, достижениям научно-технической революции в США, выдающимся деятелям американского прошлого. Книга «Первооткрыватели» — о мировых открытиях прошлого и настоящего — переведена на двадцать языков.
Но самая популярная книга, принадлежащая перу Бурсти-на, — это, пожалуй, трехтомник «Американцы», удостоенный
545
трех престижных премий — Бэнкрофта, Паркмана и Пулитцера. Хотя все три тома были написаны в разное время и имеют свои подзаголовки, они составляют одно целое и дополняют друг друга. В 1958 году вышла книга «Американцы: Колониальный опыт», в 1965 году появилось ее продолжение — «Американцы: Национальный опыт» — и, наконец, в 1973 году — завершающий том «Американцы: Демократический опыт».
В целом все три тома представляют грандиозную эпопею истории США, от первых поселений колонистов, прибывших сюда в поисках счастья в первой половине XVII века, до середины XX века.
Следует предупредить читателя, что «Американцы» — это не изложение гражданской истории США. Читатель не найдет здесь хронологического описания событий американского прошлого. Скорее, это история культуры США, американской цивилизации во всей ее сложности и разнообразии. Уже такой подход, довольно необычный для исторического исследования, делает книгу Бурстина в известной степени уникальной.
Первый том, имеющий подзаголовок «Колониальный опыт», посвящен истории американской культуры XVII — XVIII веков, периоду колонизации Америки и становления американской нации. Здесь автор восстает против широко распространенных в американской исторической литературе представлений, согласно которым американская культура — это реализация заветов и пророчеств «отцов-основателей». Бурстин пишет: «Америка зачиналась как отрезвляющий опыт. Колонии были почвой, опровергавшей осуществимость утопий. В последующих главах мы постараемся показать, как реальность Америки растворяла в себе или преображала радужные мечты, возникшие под небом Европы... Новая цивилизация рождалась не столько из планов и проектов, сколько из того отрицания, какое Новый Свет привносил в обыкновения Старого».
С этой точки зрения Бурстин рассматривает трансформацию идей пуритан Новой Англии, социальную философию квакеров в Пенсильвании, утопические идеи поселенцев Джорджии, религиозно-мессианские — колонистов Виргинии. Наряду с этим исследуется становление новой культуры: развитие научных знаний, системы образования, книгопечатания и прессы, развитие американского языка, который уже в колониальный период приобрел существенные отличия от английского литературного языка, и т.д. В целом Бурстин приходит к выводу, что в колониальный период американская культура носила разобщенный характер. Это была культура отдельных изолированных
546
сообществ, она еще не приобрела общенациональных черт и находилась под сильным влиянием английских традиций.
Второй том, носящий подзаголовок «Национальный опыт», освещает историю американской культуры в период между Американской революцией и Гражданской войной. В это время, как показывает Бурстин, отдельные колонии и поселения превращались в единое государство, а пуританин трансформировался в янки. Именно в этот период американцы стали единой нацией, обладающей самобытным языком, национальным характером, своим пантеоном героев.
В XIX веке многие европейцы критически относились к американской культуре, выражали сомнение в самой возможности ее существования, называя США «культурной пустыней» или «культурной провинцией» Европы. В своем исследовании Бурстин убедительно опровергает подобного рода стереотипы. Он показывает, как формирование американской нации и государственности приводит к созданию своеобразного типа культуры, что проявлялось в развитии образования, демократической печати, права, в окончательном оформлении американского языка, который широко заимствовал слова из других языков — индейского, испанского, голландского, немецкого и французского, в появлении чувства патриотизма, в развитии литературы, эпоса,—в появлении оригинального американского юмораи т.д.
Наконец, третий том этого исследования — «Демократический опыт» —характеризует историю американской цивилизации от Гражданской войны до середины XX века. В этом томе автор рассматривает и культуру аграрной Америки, и культуру больших городов, явившуюся результатом урбанизации и индустриализации, показывает те изменения, которые внесли в жизнь и быт американцев автомобили, автодороги, супермаркеты, особенности жилищного строительства и питания, чисто «американский» стиль в одежде, средства массовой коммуникации, реклама и развлечения.
Достоинство книги Д.Бурстина заключается в живом, занимательном и вместе с тем оригинальном подходе к анализу американской истории, в серьезных попытках представить материальную и духовную культуру США в историческом развитии. Бурстин обладает острым критическим умом, объектом его исследований становятся некоторые стороны американской цивилизации, связанные с потребительством, «массовой культурой», созданием политических и рекламных имиджей, что составляет предмет специального исследования вышеупомянутой книги «Имидж». Одним словом, Бурстин стремится реалистиче
547
ски понять прошлое своей страны и трезво оценить культурный потенциал этого прошлого.
В одной из своих последних книг — «Скрытая история» — Бурстин опровергает представление о том, что историк — это пророк наоборот. «Когда мы становимся историками, мы соблазняемся пророческими искушениями: хотим быть умнее, чем на самом деле, отрицаем возможность непредсказуемого. Но наше прошлое лишь чуть более отчетливо, чем наше будущее, и, подобно будущему, постоянно меняется, то скрываясь, то появляясь вновь. Быть может, было бы более правильным назвать пророчество историей наоборот»1.
Бурстин никогда не занимался пророчествами, не объявлял, как это порой делают некоторые американские историки, американскую модель культуры глобальным примером для всего остального мира. Его книги—занимательный, порой критический и всегда обстоятельный, основанный на фактах рассказ о прошлом Америки, открытие неизвестных или малоизученных фактов ее истории. В книге «Первооткрыватели» Бурстин говорит, что человечество узнало о мире и о самом себе благодаря таким первооткрывателям, как Ньютон, Коперник, Колумб, Дарвин, Марко Поло, Парацельс, Маркс, Фрейд, Эйнштейн и другие.
Сам Бурстин тоже «первооткрыватель». Он открывает нам мир американской культуры, показывает, как в процессе взаимодействия многих культур, существовавших на Американском континенте и завезенных из Европы, развился сложный, многообразный, совершенно не похожий на европейский, мир материальной и духовной культуры США.
Книга Бурстина «Американцы» помогает ответить на вопрос, поставленный еще в XVIII веке Гектором Кревкёром в его книге «Американский фермер»: «Что такое американец?» Чем он отличается от европейца, каковы особенности американского национального характера, каковы традиции и особенности американской культуры? Правда, Бурстин сравнительно мало уделяет внимания таким сферам культуры, как философия или литература, концентрируя внимание на том, чем он занимался как директор Национального музея истории и технологии: развитии техники, образования, печати, почты, транспорта, рекламы, средств массовой информации. Но не обходит он и американскую духовную культуру—показывает развитие нрав-
taaniel Boorstin. Hidden History. Exploring our Secret Past. New York, «Vintage Book, 1989, p. XL
548
ственных традиций, религии, языка. Интенсивному развитию всего этого способствовали демократический опыт общественной жизни, открытость влияниям со стороны других национальных культур, участие национальной культуры в борьбе страны за свою независимость и суверенность.
Мы рекомендуем читать три тома книги «Американцы» последовательно, книга за книгой. Тогда перед читателем откроется монументальная картина развития американской цивилизации, которая, несмотря на свою сравнительную с Европой молодость, достигла значительного прогресса и сегодня оказывает все возрастающее влияние на культуру других стран мира.
Вячеслав Шестаков
КОММЕНТАРИЙ
При всей фактографичное™ и популярности изложения книгу Д. Бурстина нельзя воспринимать всего лишь как очерк американской истории. Это не только исследование характера нации; в сущноста, перед нами опыт философии истории, и, добавим, сугубо национальный, ибо в отличие от подобных трудов немецких или русских авторов, будь то Гегель или Бердяев, философское начало здесь не подчиняет себе историческое; они взаимодополняют друг друга, общие идеи и понятия у американца, как правило, прорастают на почве конкретаых фактов. Отсюда — необычайное количество имен, событий, деталей и цифр, вроде бы неуместных в рамках европейского понимания философии истории. Еще один очень важный момент—отбор фактов, характеризующих американское понимание культуры и истории. В книге присутствуют не только государственные и политические деятели, ученые и писатели, но также торговцы и предприниматели, инженеры и путешественники, журналисты и юмористы, в ней затрагиваются не только проблемы внешней и внутренней политики, но в одинаковой степени техники и быта, например способы добычи и хранения льда, устройство конных фургонов или железных дорог, организация пушной торговли или отелей. Прекрасный образец такого подхода к истории: автор рассказывает нам не о самой битве при Банкер-Хилле, а о технических мероприятиях сооружения монумента в честь этой битвы.
Второй том исследования Бурстина посвящен ключевому периоду становления американской нации и государства. Начинается он Войной за независимость, в результате которой английские колонии в Северной Америке стали Соединенными Штатами, или Союзом свободных государств, ведь то, что у нас традиционно называется «штатом», по-английски — state (государство). А завершает его война Севера и Юга, которая преследовала две цели со стороны северян: сохранение Союза и отмену рабства на Юге. Можно отметить три главные тенденции этого периода в США. Во-первых, просто-таки бурный географиче
550
ский рост молодого государства: массовое переселение на Запад и освоение новых земель, вытеснение с них индейцев или прежних колонизаторов, военные захваты и покупки территорий, принадлежавших Испании, Франции, России, в результате чего за первую половину XIX века площадь США увеличилась в три с половиной раза. Все это породило особый феномен движущейся границы страны — фронтира. Во-вторых, почти такое же бурное формирование молодой нации из постоянно прибывающих в Новый Свет иммигрантов, ее стремление конкурировать с ведущими европейскими народами чуть ли не во всем — в политике и экономике, в технике и быту, в искусстве и литературе... Именно в этот период родилось само понятие «американцы». И наконец, третий момент: становление нового типа союза государств, который все чаще, однако, натыкался на серьезные внутренние противоречия, прежде всего между более развитым промышленным Севером и рабовладельческим Югом, что и привело к Гражданской войне.
К постраничному комментарию, который предлагается читателю, хотелось бы добавить, что там, где автор сам сообщает о своих героях или событиях гораздо подробнее, чем это можно было бы сделать в комментарии, мы и не стремились его превзойти.
С. 9
Тайлер, Джон (1790 — 1862) — 10-й президент США (1841 — 1844), юрист из Виргинии, был членом палаты представителей США (1817 — 1821), губернатором штата (1825 —1827), сенатором (1827 —1836), в 1840 г. был избран вице-президентом, а через месяц после вступления в должность, когда умер президент УТТаррисон, стал президентом страны. Сторонник прав отдельных штатов, он выступал против Миссурийского компромисса 1820 г., утверждая, что конгресс не имел права ограничивать распространение рабства на новых территориях страны; в 50-е годы пытался уладить противоречия между Севером и Югом, председательствовал на мирной конференции в 1861 г. в Вашингтоне, а когда та закончилась неудачей, поддержал отделение Юга и был избран в конгресс Конфедерации.
С. 10
Мартино, Хэрриет (1802 — 1876) — английская общественная деятельница, публицист и историк, выступала против рабства в Америке.
С. И
Чэннинг, Уильям Эллери (1780—1842)—американский теолог и поэт, один из руководителей унитарианского церковного движения в Новой Англии.
551
С. 12
Мзйфлаузрский договор — заключен английскими переселенцами-пуританами на борту корабля «Мэйфлауэр» осенью 1620 г. у берегов Америки. Предусматривал создание «гражданского политического организма», «справедливых и одинаковых для всех законов» ради достижения «общего блага».
Уинтроп, Джон (1588 — 1649) — руководитель одной из первых английских колоний в Северной Америке, по прибытии в Новый Свет в 1630 г. стал губернатором Массачусетса; на этот пост его переизбирали всю жизнь. Оказал сильнейшее воздействие на становление политических учреждений в Новой Англии. Оставил знаменитый «Дневник колонии Массачусетс. 1630 — 1644» (издан в 1825 — 1826). Именно ему принадлежит образ Града на Холме как символа нового союза богом избранных людей в Новом Свете.
С. 13
Хиггинсон, Фрэнсис (1586 —1630) — английский священник. В Массачусетс прибыл с одной из самых первых партий переселенцев в 1629 г. Опубликовал книгу «Общие рассуждения о поселениях Новой Англии» (1630).
С. 14
Фанъел-холл — построен в г.Бостоне в 1740 г., использовался как рынок, а зал второго этажа был местом проведения городских публичных собраний.
С. 15
Адамс, Джон (1735 — 1826) — 2-й президент США (1797 — 1801) от партии федералистов, до этого участник Войны за независимость, посол республики во Франции, Голландии, Англии (1785 — 1788), вице-президент (1790 —1796).
С.19
Бэкон, Фрэнсис, барон Веруламский, виконт Сент-Олбэни (1561 — 1626) — великий английский философ и государственный деятель, автор книги «Новый Органон» (1620), в которой обосновано новое научное мышление.
С. 20
Олджер, Хорейшио (1834 —1899) — священник и цисатель, автор многих книг для детей на сюжет «о том, как плохой мальчик стал хорошим».
Олстон, Вашингтон (1779 — 1843) — художник, много лет провел в Европе (1801 — 1820). Вернувшись в США, поселился в Бостоне. Автор многих статей и романов.
552
С. 24
Кьюнард, сэр Сэмюел (1787 —1865) — купец и судовладелец. Создал первую пароходную линию между Англией и Америкой в 1839 г. и компанию, названную его именем. Пароход «Британия» совершил первое путешествие в 1840 г., одолев Атлантику за 14 дней и 8 часов.
С. 25
Эверетт, Эдвард (1794 —1865) — государственный деятель и ученый, редактор журнала «Норт Америкэн ревью» (1820), в 1824 г. избран в конгресс США, в 1835 —1838 гг. — губернатор штата Массачусетс, в 1841 — 1845 гг. был послом при английском королевском дворе. Президент Гарвардского университета (1846 —1849). В 1852 г. стал государственным секретарем, а в 1853 г. — сенатором США.
Торо, Генри Дейвид (1817 —1862) — прозаик, публицист, поэт и философ, последователь Р.У.Эмерсона, член Трансцендентального клуба, отвергал официальную веру ради «естественной религии», не платил налога правительству, поддерживавшему рабовладение, за что угодил в тюрьму (1845), укрывал беглых рабов, стал на защиту Дж.Брауна. Самым известным стал его «эксперимент естественной жизни» (1845 — 1847), когда он поселился на берету Уолденского озера в построенной собственными руками хижине и прожил в лесу два года, о чем рассказал в своей книге «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), которая считается классикой национальной литературы.
С. 27
Битва при Банкер-Хилле — первое большое сражение американской революционной Войны за независимость, произошло неподалеку от Бостона 17 июня 1775 г. В нем участвовало от 2,5 до 4 тысяч американцев, из них 450 было убито, ранено и попало в плен. Британские жертвы оказались куда больше —1034 из 2200 участвовавших в сражении. В ознаменование победы был воздвигнут памятник высотой в 221 фут (67,4 м).
С. 28
Уэбстер, Дэниел (1782 —1852) — государственный деятель, прославленный в Америке оратор. С1813 г. стал конгрессменом, с 1823 г. — сенатором, в 1840 —1843 гг. был государственным секретарем.
С. 31
Адамс, Чарлз Фрэнсис, младший (1835 —1915) — общественный деятель, историк, организатор железных дорог.
С. 32 —33
Маунт-Вернон, Монтиселло, Монпелье, Ашлаун — названия усадеб известных политических деятелей с Юга: Маунт-Вернон—семейная усадьба Вашингтонов, где жил и умер первый президент США; Монтиселло — поместье Джефферсона; Монпелье — Дж. Мэди
553
сона; Ашлаун — дом Дж. Монро, построенный им неподалеку от Монтиселло.
С. 33
Джефферсон, Томас (1743—1826) — просветитель, идеолог демократического направления в период Войны за независимость, автор проекта Декларации независимости США, 3-й президент страны (1801 —1809); до этого был адвокатом, делегатом континентальных конгрессов, губернатором штата Виргиния (1779 — 1781) и вице-президентом страны (1797 —1801).
С. 37
Уэлд, Чарлз (1813 — 1869) — английский путешественник и историк, секретарь и библиотекарь королевского географического общества, автор путевых заметок.
Континентальный конгресс — собрания представителей отдельных американских колоний в 1770 — 1780-х гг. для обсуждения и выработки совместных действий в период революционной Войны за независимость. Еще в октябре 1765 г. по инициативе законодательного собрания Массачусетса был созван конгресс представителей 13 американских колоний, однако название «континентальный* было дано конгрессу в 1774 г., когда после репрессивных мер британских властей были запрещены и распущены законодательные ассамблеи некоторых колоний, и депутаты виргинской ассамблеи предложили создать орган для совместной борьбы против метрополии в расчете на участие других колоний, прежде всего канадских. Первый континентальный конгресс прошел в Филадельфии с 5 сентября по 26 октября 1774 г., второй был созван в 1776 г. Конгресс сыграл огромную роль в объединении американских колоний, послужив прообразом федеральной законодательной власти.
С. 40
Гамильтон, Александр (Y155 или 1757 — 1804) — публицист и государственный деятель, активный участник Войны за независимость: сначала командовал артиллерийским отрядом, затем стал в 1777 г. адъютантом и секретарем генерала Дж. Вашингтона, после ссоры с ним в феврале 1781 г. возглавил пехотный полк. Делегат континентального конгресса и конвента по выработке конституции, первый министр финансов США (1789 —1795), один из создателей финансово-экономической системы страны. Все первое десятилетие новой республики прошло под знаком его соперничества с Т. Джефферсоном. В последние годы жизни—губернатор Нью-Йорка. Умер от ран, полученных на дуэли с А. Бэрром.
С. 44
Бентем, Джереми (Y14Z —-1823) — английский публицист, один из создателей этики утилитаризма. Его брат Сэмюел — морской инженер, в 1785 г. посетил Россию, был на русской службе.
554
Бранел, МаркИзамбар (1769 — 1849) — инженер, француз по происхождению, в США с 1793 г.; исследователь Гудзона, архитектор и главный инженер Нью-Йорка; в 1799 г. уехал в Европу, обосновался в Лондоне, где занимался оснащением порта и пароходным транспортом, а также строительством туннеля под Темзой.
С. 46
Закон о натурализации и Закон об иностранцах и подстрекательстве к мятежу — весной и летом 1798 г. под предлогом искоренения «измены» американское правительство приняло ряд чрезвычайных мер во внутренней политике: срок получения американского гражданства увеличился с 5 до 14 лет и дополнялся постановлением, дающим президенту право выслать из страны или арестовать любого подозрительного иностранца. Сопротивление федеральным законам каралось 5-летним тюремным заключением или штрафом в 5 тысяч долларов; за «клевету» и «распространение злонамеренных слухов» о президенте и конгрессе полагалось 2 года тюрьмы или штраф до 2 тысяч долларов.
С. 51
Бэнкрофт, Джордж (1800 — 1891) — историк и дипломат, автор знаменитой «Истории Соединенных Штатов Америки» в 10 томах; посол США в Великобритании и Германии. Его часто называют «отцом американской истории» (см. о нем на с. 467 — 472).
С. 52
Бэрр, Аарон (1756 — 1836) — юрист и политик, министр юстиции (1789 — 1791), сенатор (1791 — 1797), вице-президент США (1800 — 1804). На дуэли 11 июля 1804 г. смертельно ранил А. Гамильтона. Был обвинен в измене в 1807 г., уехал в Европу, вернулся в 1812 г.
Кэлхун, Джон Колдуэлл (1782 — 1850) — государственный деятель, политический публицист. Выпускник известной юридической школы в Литчфилде (Коннектикут), с юных лет занялся политикой; конгрессмен в 1810 —1817 гг., сторонник активной внешней политики, военный министр правительства Монро (1817 — 1825), при нем произошла реорганизация американской армии; вице-президент правительства Дж.Адамса и Э.Джексона (1825 — 1832 — подал в отставку в знак протеста); сенатор от штата Южная Каролина (1832 — 1843, 1845 — 1850), активный защитник прав личности и штатов, особенно южных. Некоторое время был государственным секретарем (1844 — 1845). Уйдя в отставку, написал несколько работ о философии государства. Считается одним из выдающихся ораторов страны наряду с Г. Клеем и Д. Уэбстером.
Манн, Горас (1796 —1859) — юрист, законодатель и деятель образования, председатель сената штата Массачусетс.
Мейсон, Джордж — скорее всего, здесь ошибка, ибо юридическую школу в Литчфилде закончил в 1819 г. Мейсон, Джон Янг (1799 —
555
1859), из Виргинии, занимавший различные посты в правительствах Дж. Тайлера и Дж. Полка (1844 —1849), а в 1853 — 1859 гг. — посол США во Франции.
Вудбери, Леви (yi№ — 1851) — юрист и государственный деятель, губернатор штата Нью-Гэмпшир, конгрессмен и сенатор США (1825 — 1831, 1841 — 1845), секретарь по военно-морским делам (1831 — 1834), министр финансов (с 1834), член Верховного суда США (1846 —1851).
С. 53
Куинси, Джосайя (1772 —1864)—юрист и политик, конгрессмен (1805— 1813), мэр Бостона (1823 — 1829), президент Гарвардского университета (1829 — 1845), автор «Истории Гарвардского университета» (1840).
С. 59
Холмс, Оливер Уэнделл, младший (1841 — 1931) — юрист и деятель образования, сын известного писателя, выпускник Гарварда; участник войны 1861 — 1865 гг.; редактор юридического журнала, профессор Гарварда (с 1882), автор многих трудов по юриспруденции и философии, член Верховного суда США (1902 —1931).
Райт, Чонси (1830 — 1875) — философ и математик, выпускник Гарварда (1852).
Пирс, Чарлз Сандерс (1839 — 1914) — философ, логик и математик, один из основателей прагматизма и семиотики, выпускник и профессор Гарварда.
Джеймс, Уильям (1842 —1910) — психолог и философ, один из ведущих американских мыслителей; всю жизнь провел в Гарварде, окончил медицинский факультет, основал первую психологическую лабораторию в стране (1875). Автор таких работ, как «Принципы психологии» (1890), «Прагматизм» (1907), «Множественная Вселенная» (1909) и др.
С. 60
Келли, Холл Джексон (1790 — 1874) — путешественник и преподаватель, один из исследователей Орегона.
Хейл, Эдвард Эверетт (1822 —1909) — священник-унитарий и писатель, выпускник Гарвар да.
Тейер, Илай (1819 — 1899) — политик и преподаватель, организатор фонда помощи переселенцам в Канзас (1855).
С. 61
Барнард, Генри (1811 — 1900) — деятель американского образования, организатор общественных школ в штатах Коннектикут (1838 — 1842) и Род-Айленд (1843 — 1849), создатель и редактор энциклопедического «Американского образовательного журнала» (1855 —• 1882).
556
С. 68
Хупер, Джонсон Джоунс (1815 — 1862) — юморист и журналист из Алабамы, создатель комического персонажа Саймона Саггса.
Стерлинг, Джеймс (1701 —1763) — английский священник, чиновник колониальной администрации в Северной Америке с 1737 г., автор нескольких книг, в том числе и стихотворных.
С. 69
Смит, Джон (1579/80 — 1631) — английский путешественник, приехавший с первыми колонистами в Виргинию в 1606 г., первый летописец страны и составитель первой ее карты, автор книг об Америке: «Всеобщая история Виргинии, Новой Англии...» (1624) и «Истинные путешествия, приключения и исследования капитана Джона Смита» (1630).
«Мэйфлауэр* (1620) и «Арбелла» (1630)—корабли, на которых прибыли в Новую Англию первые поселенцы-пуритане.
С.70
Бун, Дэниел (1734 —1820) — охотник и первооткрыватель, исследователь Кентукки; стал героем многих легенд, даже удостоился попасть на страницы поэмы Дж. Байрона «Дон Жуан» как первый белый на американском Западе.
Льюис, Мэривезер (1774 — 1809) — военный и первопроходец, личный секретарь президента Т. Джефферсона (1801 — 1804), один из руководителей знаменитой экспедиции по исследованию пути к Тихому океану (весна 1804 — сентябрь 1806). Документы экспедиции изданы в 1814 г. В 1806 — 1809 гг. Льюис был губернатором Луизианы.
Кларк, Уильям (1770 —1838) — военный и первопроходец, один из руководителей вышеупомянутой экспедиции. После нее стал генералом милиции Луизианы и управляющим по делам индейцев, затем—губернатором территории Миссури.
Пайк, Зебулон Монтгомери (1779 — 1813) — военный и первопроходец. Возглавлял экспедицию в Арканзас, Колорадо и район р. Рио-Гранде (1806). Дослужился до генерала. Убит при атаке на Йорк (ныне Торонто) в Канаде.
Фримонт, Джон Чарлз (1813 — 1890) — военный-топограф, первопроходец и политик, участник и руководитель нескольких экспедиций на Запад континента: в район Миссисипи и Миссури (1837 —1838), в Канзас (1842), в северный район Колорадо, Неваду и Калифорнию (1843 — 1844, 1845 — 1846, 1848 — 1849 и 1853 — 1854). Участник войны с Мексикой (1847 — 1848), сенатор от Калифорнии (1850 — 1851), кандидат в президенты США (1856), участник Гражданской войны на стороне армии северян.
Стэнли, Генри Мортон (1841 — 1904) (настоящее имя — Джон Роуленде) — военный и журналист, путешественник, исследователь Африки. Как корреспондент газеты «Нью-Йорк гералд» в октябре
557
1869 г. получил приказ «найти Ливингстона», в ноябре 1871 г. нашел его в районе оз. Танганьика и принял участие в его экспедиции. Затем дважды пересек Африку, проследил течение р. Конго. Написал несколько книг и романов о путешествиях.
Ливингстон, Дейвид (1813 — 1873) — английский путешественник и миссионер, исследователь Африки. Совершил ряд длительных путешествий по Южной и Центральной Африке. Исследовал бассейн р. Замбези, оз. Ньяса, открыл водопад Виктория, многие озера и реки Африки. Похоронен в Вестминстерском аббатстве.
Ла Салль, Рене Робер (1643 —1687) — французский предприниматель и первооткрыватель. Исследовал реки Северной Америки, объявил бассейн р. Миссури французским владением Луизианой, открыл реки Огайо и Иллинойс, исследовал течение р. Миссисипи до Кариб-скогоморя.
Де Сото, Фернандо (1496 —1542) — испанский путешественник, первооткрыватель, участник экспедиции Писарро по завоеванию Перу, в 1539 г. был назначен губернатором Кубы, в 1541 г. — Флориды.
С. 71
Джист, Кристофер (1706 —1759) — путешественник и военный, первый белый американец, который исследовал земли вокруг р. Огайо и северо-восточнее Кентукки (1750 —1751) на 18 лет раньше Д. Буна. Служил вместе с Дж. Вашингтоном.
Патнем, Руфус (1738 —1824) — военный и первооткрыватель, один из первых исследователей бассейна р. Огайо, организатор кампании по изучению Огайо (1788). Достиг звания генерала в войнах с французами и индейцами, участник Революции. Начальник таможенной службы США (1796 —1803).
С. 73
Грегг, Джосайя (1806 — 1850) — торговец и путешественник в Санта-Фе (1831 — 1841). Упоминаемая здесь книга имела большой успех, став классическим описанием жизни на фронтире. Погиб в одном из исследовательских походов.
Макнайт, Роберт (1789 — 1846) — торговец, участник торговой экспедиции в Санта-Фе (1812), был схвачен мексиканцами и посажен в тюрьму, где провел 9 лет. Осел позднее в Мехико.
Бекнелл, Уильям (1796 —1865) —купец и первооткрыватель, участник экспедиции в Санта-Фе через Арканзас (1821), основал новый путь, с 1834 г. осел в Техасе.
С. 76
Уэйн, Энтони (1745 — 1796) — военный и исследователь, активный участник многих сражений Войны за независимость, дослужился до генерала. Успешно воевал с индейскими племенами в 1782 —1783 и 1794—1795 гг.
558
С. 77
Кирни, Стивен Уоттс (1794 — 1848) — военный, служил на западной границе, генерал, участник войны с Мексикой в 1846 —1848 гг.
С.80
Читтенден, Хайрам Мартин (1858 —1917) — военный инженер и историк, многое сделал для организации Йеллоустонского национального парка. Автор книги «Американская пушная торговля на Дальнем Западе» (1902).
С. 82
Бриджер, Джеймс (1804 — 1881) — охотник, участник пушного предприятия У.Г.Эшли и Э.Генри. Был проводником многих экспедиций и военных походов в 1850-х и 1860-х гг.
Саблетт, Уильям Льюис (1799? — 1845) — торговец пушниной, компаньон Эшли, позже основал свое дело.
Астор, Джон Джейкоб (1763 —1848) — торговец пушниной, владелец одного из самых больших состояний своего времени.
С. 83
Кроккетт, Дейвид (Дэви) (1786 —1836) — охотник и военный, судья и конгрессмен, ставший героем американского фольклора. Первоначальную известность приобрел как разведчик в отряде Э.Джек-сона в 1813 — 1814 гг., в 1816 — 1820 гг. был окружным судьей; в 1821 г. в шутку решил баллотироваться в конгресс, большую популярность завоевал предвыборными речами, выдержанными в духе юмористической похвальбы жителя американского фронтира. Был членом конгресса США в 1827 —1831 и 1833 —1835 гг. Принял участие в военных действиях в Техасе, погиб при обороне Аламо. После смерти стал героем собранных в альманахи историй, якобы рассказанных им, а то и просто выдуманных журналистами, воплощением американского патриотизма.
С. 86
Бьюкенен, Джеймс (1791 — 1868) — 15-й президент США (1856 — 1860). До этого посол в России (1831 —1832), сенатор от штата Пенсильвания (с 1837), государственный секретарь (1845 —1849).
С. 91
Марси, Рэндолф Барнс (1812 —1887) — военный, участник войны с Мексикой, открыл новый путь от форта Смита к Санта-Фе (1849), совершил зимний поход через Скалистые горы (1857—1858), сделавший его знаменитым, участник военных действий против мормонов в штате Юта, автор упомянутого в тексте доклада и двух томов воспоминаний.
С. 98
Бентон, Томас Харт (1782 —1858) — государственный деятель, сенатор США в 1820 —1851 гг. от штата Миссури; одним из главных ин
559
тересов его было освоение новых земель на Западе страны, навигация Миссури. Автор одной из самых известных политических автобиографий США «30 лет в сенате» (1854 —1856).
С. 106
Джордж, Генри (1839 — 1897) — журналист, экономист и предприниматель, один из основателей издательского дела в Сан-Франциско (1857—1858), газеты «Сан-Франциско тайме» (с 1866).
С. 107
Уэбб, Уолтер Прескотт (1888 —1963) — историк, преподаватель Техасского университета, автор многих книг по истории Техаса и страны в целом.
С. 115
«Случай у броде» (1940) — первый роман Уолтера Ван Тилбурга Кларка (1909 — 1971), принесший ему славу одного из видных мастеров литературы американского Запада. Родом из штата Мэн, он с детства жил в Неваде, которая и стала местом действия его произведений. Роман рассказывает о линчевании невинных людей на горных разработках в Бриджер-Уэллсе в 1885 г.; экранизирован в 1943 г. с Генри Фондой в главной роли; переведен на русский язык в 1983 г.
С. 119
Сандерс, Уилбур Фиск (1834 —1905) — юрист из Монтаны, один из организаторов комитетов бдительности (виджилантов), сенатор (1890 — 1893).
С. 123
Голдсмит, Оливер (1728 —1774) — английский писатель-сентименталист, поэма которого «Покинутая деревня» (\Tlty пользовалась необычайной популярностью и породила целую традицию.
С. 124
Бейкон, Натаниел (1647 —1676) — английский переселенец в Виргинию, один из организаторов похода против индейцев. Заставил губернатора созвать ассамблею штата, на которой хотел ввести ряд новых законов; был арестован; после освобождения поднял бунт в Джеймстауне.
С. 130
Фитч, Джон (1743 —1798) — изобретатель и предприниматель, занимался добычей цветных металлов в Нью-Джерси, запатентовал проект парового судна еще в 1788 г., задолго до Р.Фултона. Построенный им пароход ходил по р. Делавэр в 1787 —1790 гг.
560
Фултон, Роберт (1165 —1815) — американский инженер ирландского происхождения, учился в Европе, в 1806 г. приехал в Нью-Йорк, а в 1807 г. пустил пароход «Катарина Клермонт»,
Стивенсон, Дейвид (1815 — 1886) — шотландский инженер, в 1837 г. прибыл в Канаду, а затем в США, автор книги «Очерки инженерного дела в Северной Америке» (1838).
Герстнер, Франц Антон (У195/6 — 1840) — австрийский инженер и предприниматель, в 1820-х гг. участвовал в строительстве первой в Центральной Европе конно-железной дороги Ческе-Будеёвице — Линц, с 1834 г. работал в России, организовал железнодорожное общество, в 1837 г. построил дорогу Санкт-Петербург—Царское Село длиной 27 км. Не получив привилегии на строительство других линий, уехал в США. Автор нескольких книг по истории транспорта, в том числе работы «Внутренние коммуникации США» (1842 — 1843, на нем. языке) и «Железные дороги Бельгии в сравнении с США» (Цинциннати, 1839).
С. 132
Тревитик, Ричард (1771 — 1833) — английский инженер-изобретатель, изобрел паровую коляску (1796 —1801), скорость которой достигала 9 миль в час. Жил и работал в Перу и Коста-Рике в 1816 — 1827 гг.
С. 138
Банн, Алфред (ок. 1796 —1860)—английский поэт и театральный деятель, автор многих либретто, хозяин и руководитель известных лондонских театров «Ковент-Гарден» и «Друри-Лейн».
С. 139
Джервис, Джон Блумфилд (Y195 —1885) — инженер, создатель многих каналов, акведуков и железных дорог, в числе которых канал Эри — Делавэр — Гудзон. Изобретатель, он руководил производством первых локомотивов в Америке.
С. 140
Гаррисон, Джозеф (1810 —1874) — инженер, создатель первого восьмиколесного локомотива, который в 1841 г. провез 101 вагон, нагруженный углем. В1844 —1852 гг. работал в России.
С. 142
Брек, Сэмюел (1771 — 1862) — в 1792 г. поселился в Филадельфии, стал одним из столпов города. Оставил книгу воспоминаний (1877).
С. 145
Марриэт, Фредерик Q191 — 1848) — английский морской офицер и писатель-маринист, в 1837 г. путешествовал по США, в 1839 г. издал свой «Американский дневник».
561
С. 146
Пульман, Джордж Мортимер (1831 — 1897) — промышленник, изобретатель спального вагона, который долго называли его именем.
С. 149
Фемистокл (Д2А — 459 до н.э.) — афинский государственный и военный деятель. Его ответ передан Плутархом так: «Когда... люди, считавшие себя воспитанными, насмехались над ним, ему приходилось защищаться довольно грубо и говорить, что лиру настроить и играть на псалтири он не умеет, но если дать ему в распоряжение город безвестный... то он сможет сделать его славным и великим».
С. 150
Фуггеры — немецкий купеческий род, самая богатая семья в Германии в XV—XVI вв.; стали банкирами дома Габсбургов; в XV в. получили дворянство и графский титул.
С. 151
Хьюм, Дейвид (1711 — 1776) — шотландский философ и историк, создатель эмпирической философии. Его труды предвосхищали идеи А^ Смита.
С. 152
Ван-Бюрен, Мартин (1782 — 1862) — 8-й президент США (1837 — 1841) от демократической партии, юрист, губернатор Нью-Йорка (1828), государственный секретарь (1829), вице-президент (1832 — 1836).
С. 154
Маккормик — семья американских изобретателей и предпринимателей: Роберт (1780 —1846), его сыновья—Лиэндер Джеймс (1819 — 1900) и самый известный из них Сайрус Холл (1809 —1884), создатель жатки (1831), косилок и других уборочных машин. С 1850 г. продукция семейной фирмы Маккормиков, а также новые приемы ведения дел — гарантии, полевые испытания предлагаемых машин и другие — приобретают известность во всех штатах.
С. 159
Брэкенридж, Генри Мэри (1786 — 1871) — публицист и историк, сын известного писателя (см. о нем с. 164). Скорее всего, здесь приведена цитата из его «Воспоминаний о людях и местностях Запада» (1834).
С. 161
Франклин, Бенджамин (1706 — 1790) — ученый, писатель и публицист, философ-просветитель, государственный деятель, один из
562
авторов Декларации независимости и Конституции США. С 1729 г. издавал «Пенсильванскую газету». Основал в Филадельфии первую в североамериканских колониях публичную библиотеку (1731), Пенсильванский университет (1740), Американское философское общество (1743). Деист, ратовал за отмену рабства негров. Известны его опыты с электричеством и молнией. За пятьдесят лет до А.Смита создал теорию трудовой стоимости. Автор многих памфлетов, притчей и знаменитой «Автобиографии».
С. 163
Томас, Исайя (Y149 — 1831) — издатель и редактор, автор книги «История печатного дела в Америке» (1810), основатель Американского общества антикваров.
С. 164
Брэкенридж, Хью Генри (1748 —1816) — один из первых журналис-тов и романистов страны, автор политического плутовского романа «Современное рыцарство» (1792 —1815) и других произведений.
Скалл, Джон (1765—1828) и Холл, Джозеф—журналисты, выпустившие первую газету к западу от Аллеганских гор, в Питтсбурге (1786).
С.175
Уэбстер, Ной (1758 — 1843) — лексикограф, журналист и издатель. Еще в 1782 г. составил свой первый словарь, в 1806 г. издал «Сокращенный словарь английского языка», а в 1828 г. — самый известный «Американский словарь английского языка».
С.179
Эдисон, Томас Алва (1847 — 1931) — изобретатель и предприниматель, занимался экспериментами в области химии и электричества. На его счету 1000 изобретений, в том числе электрограф (1869) и фонограф (1877). Усовершенствовал телеграф и телефон, лампу накаливания, построил первую в мире электростанцию общественного пользования (1882) и многое другое.
С.181
Блоджет, Сэмюел (1757 — 1814) — купец, экономист и архитектор, создатель проекта первого банка США в Филадельфии.
Хобан, Джеймс (1762 — 1831) — ирландец, переехал в США в двадцатилетием возрасте, стал архитектором, создатель Белого дома — перестроил его заново после разрушения англичанами в 1814 г.
С.183
Гаррисон, Уильям Генри (ITJ3 —1841) — 9-й президент США; до этого — хубернатор Индейской территории (1800), участник войны с
563
Англией 1812 —1814 гг., с 1816 г. избран в конгресс, с 1824 г. — в сенат, в 1840 г. подавляющим большинством избран президентом страны, но умер через месяц после вступления в должность.
Клей, Генри (1777 — 1852) — юрист, оратор и государственный деятель, избран в конгресс в 1811 г., активный участник войны с Англией 1812 — 1814 гг., инициатор Миссурийского компромисса 1820 г. и Компромисса 1850 г., за что получил в конгрессе звание ♦великого миротворца». Не раз пытался стать президентом — в 1824,1832 и 1844 гг.
Джексон, Эндрю (Y1G1 — 1845) — 7-й президент США (1829 — 1837); юрист, был избран в конгресс в 1796 г., в сенат в 1797 г. от штата Теннеси, верховный судья штата в 1798 — 1804 гг., один из руководителей армии в войне с Англией 1812 —1814 гг., воевал против индейцев в 1823 г., в 1823 г. вновь избран в сенат, в 1824 г. был кандидатом в президенты. Став президентом США, положил начало системе заполнения чуть ли не всех официальных должностей своими сторонниками.
С.184
Троллоп, Энтони (1815 —1882) — английский писатель, автор многих романов и путевых заметок.
С.185
Биддл, Николас — 1844) — ученый, финансист и государственный деятель, работал над документами экспедиции Льюиса и Кларка (1810 — 1812), был президентом национального банка (1823 — 1839).
С.188
Гамильтон, Томас (1789 — 1842) — шотландский писатель, большой популярностью пользовалась его книга ♦Люди и нравы Америки» (1833), отмеченная наблюдательностью и юмором.
Бедекер — название широко распространенных путеводителей по разным странам, названных по имени немецкого книготорговца и издателя КБедекера (1801 — 1859), составившего первые свои путеводители на основе собственных путешествий и основавшего в 1827 г. в Кобленце специальное издательство таких путеводителей, которое продолжили его сыновья и их наследники вплоть до нынешних времен. Особенность этих путеводителей — изрядное количество не только исторической, но и практической, бытовой информации, позволяющей обойтись без гидов. Первый бедекеров-ский справочник на английском языке появился в 1861 г.
С.191
Холл, Бейзил (1788 — 1844) — шотландский писатель, автор путевых заметок о многих странах, в том числе и о США (1829), весьма неприязненно встреченных в Америке.
564
Уиллис, Натаниел Паркер (1806 — 1867) — писатель и издатель многих журналов, в том числе «Америкэн мансли*.
С.198
Генрих VIII (1491 — 1547) — английский король (с 1509 ) из династии Тюдоров, провел реформацию церкви в Англии, став ее верховным главой и покровителем, известен своим распутством и многими женитьбами.
Граф Дерби — Стэнли, Эдвард Джеффри (1799 —1869) — английский государственный деятель, путешествовал по США в 1824 —1825 гг.
С.201
Лайел, Чарлз (1797 —1875) — английский геолог, чьи «Принципы геологии* (1830 — 1833) стоят рядом с «Происхождением видов* Ч.Дарвина по своему влиянию на научное мышление XIX века. Он написал книгу «Путешествие по Северной Америке* (1845) и «Вторая поездка в Соединенные Штаты* (1849).
С.202
Рудолф, Фредерик (р. 1920) — ученый-историк, преподаватель Уиль-ямстонского колледжа в Массачусетсе (1946 — 1964), профессор колледжа Марка Хопкинса (1964 — 1982), автор исследований по истории образования в США, в том числе книги «Американский колледж и университет. История* (1962).
Барнард, Фредерик Огастес Портер (1809 — 1889) — преподаватель и организатор образования в штатах Алабама и Миссисипи (1837 — 1861), затем президент Колумбийского университета (1864 —1889). Сторонник приема в университеты женщин наравне с мужчинами. Его именем назван открывшийся через полгода после его смерти известный колледж для девушек.
С.203
Джанкин, Джордж (1790 — 1868) — пресвитерианский священник, первый президент колледжа Лафайета (1832 —1841,1844 —1848), президент Университета Майами, штат Огайо (1841 —1844), и колледжа Вашингтона (1848 —1861).
С.206
Гриннелл, ДжосайяБушнел (1821 —1891) — священник-конгрегацио-налист, противник рабства, обосновался в Айове в 1844 г., основал город и колледж, получившие его имя.
С.207
Раш, Бенджамин (1745 —1813) — физик, общественный деятель, участник революционного движения, делегат континентального конгресса 1776 г.; его подпись стоит под Декларацией независимости.
565
Известен как сторонник социальных и образовательных реформ, противник рабства и смертной казни.
С.208
Тайлер, Уильям Сеймур (1810 — 1897) — священник-конгрегациона-лист и преподаватель, профессор классических языков в Амхерсте (1836 — 1893).
С.209
Маршалл, Джон (1755 — 1835) — известный юрист, Верховный судья США на протяжении более тридцати лет (1801 —1835), один из основателей американской системы конституционного права. Участник Войны за независимость, был избран в конгресс в 1799 г., занимал пост государственного секретаря в правительстве Дж.Адамса (1800 —1801). Автор биографии ДжВашингтона.
Монро, Джеймс (£15* — 1831) — 5-й президент США (1817 — 1825), сторонник и протеже Т.Джефферсона. Был делегатом континентальных конгрессов в 1783 —1786 гг., сенатором от штата Виргиния (1790 — 1794), губернатором Виргинии (1799 — 1802), послом во Франции (1794 и 1803 — 1810), где договорился о покупке Луизианы, затем в Англии (1811). Государственный секретарь в правительстве Дж. Мэдисона (1811 — 1816), а также военный министр (1814 — 1815). Один из инициаторов доктрины, получившей его имя, и Миссурийского компромисса 1820 г.
С.210
Ричардсон, Алберт Дин (1833 — 1869) — журналист, корреспондент газеты «Нью-Йорк трибюн», автор популярных в свое время книг «Секретная служба» (1865), «По ту сторону Миссисипи» (1868).
С.218
Меррей, Уильям Генри (1869 — 1956) — журналист и юрист, сделавший политическую карьеру на Индейской территории, затем — в штате Оклахома, конгрессмен (1913 — 1917), губернатор штата (1931 —1935); в промежутке между этими постами пытался организовать колонии на юго-востоке Боливии.
С. 219
Уэйд, Ричард Клемент (р. 1922) — ученый-историк, преподавал в университетах Сент-Луиса, Чикаго, Нью-Йорка, занимался исследованием развития городов на фронтире.
С.220
Спиричуэл—негритянская песня религиозного содержания
Линия Мейсона — Диксона — граница между Мэрилендом и Пенсильванией, разделяющая свободные и рабовладельческие штаты
566
перед перед Гражданской войной на востоке от р. Огайо. Получила свое название от имен двух английских астрономов Чарлза Мейсона и Джеремии Диксона, проложивших ее в 1763 — 1767 гг. в районе 39°43'.
С.223
Стронг, Джосайя (1847 —1916) — священники социальный реформатор, был известен своими книгами «Наша страна» (1885) и «Новая эра» (1893), призывавшими к созданию идеального общества в Америке и во всем мире.
Форт-Хилл—летняя усадьба Дж. Кэлхуна.
С.226
Рамсей, Дейвид (1749 — 1815) — физик и историк, участник Революции, автор книг, во многом основанных на личных впечатлениях: «История Революции в Южной Каролине» (1785), «История Американской революции» (1789), «История Южной Каролины» (1809).
С.228
Кеннеди, Джон Пендлтон (Y195 — 1870) — писатель и государственный деятель, автор четырех романов, среди которых выделяются «Суоллоу Барн» (1832) и «Робинсон-подкова» (1835) — оба вышли под псевдонимом, а также книг эссе, речей, путевых заметок и исторических очерков. Был конгрессменом от Мэриленда (1838,1841 — 1845), министром по военно-морским делам США (1852 — 1853), организовал четыре географические экспедиции.
Таккер, Натаниел Беверли (1784 — 1851) — юрист и публицист, сторонник отделения южных штатов и аристократической формы правления, автор романов «Джордж Балком» и «Партизанский вожак» (1836).
С.229
Грегг, Уильям (1800 — 1867) — основатель хлопчатобумажной мануфактуры на американском Юге. Отойдя от дел в 1838 г., поселился в г. Чарлстоне, Южная Каролина, ратовал в прессе и своей книге «Очерки домашней промышленности» (1845) за индустриальное развитие Юга. Попытался осуществить свои идеи на практике: основал город Гранитвилл в 1846 г. и организовал там хлопчатобумажную фабрику.
С.230
Дебоу, Джеймс Данвуди Браунсон (1820 — 1867) — издатель, юрист, журналист и статистик, преподавал политэкономию в Университете Луизианы.
С.234
Хансен, Маркус Ли (1892 — 1938) — ученый-историк, преподаватель Иллинойского университета (1928 —1938); обе упоминаемые в тек
567
сте его книги опубликованы посмертно, первая из них была удостоена Пулитцеровской премии.
С.234
Хэндлины, Оскар (р. 1915) ъМэри (1913 —1976) — американские историки, супруги (с 1937), преподаватели Гарвардского университета: Оскар в 1939 — 1972 гг., а Мэри в 1952 — 1973 гг. Авторы книги «Вступая в жизнь: юность и семья в американской истории» (1971).
С.238
Гаррисон, Уильям Ллойд (1805—1879) —журналист, ведущая фигура движения против рабства в США. В 1833 г. основал Американское антирабовладельческое общество. После победы северян в Гражданской войне занялся борьбой за права индейцев и женщин.
С.239
Роберт, Джозеф Кларк (р. 1906) — ученый-историк, преподавал в университетах Огайо (1934 —1938), Дьюка (1938 —1961) и Ричмонда (1961 —1968).
С.241
Флойд, Джон — 1837) — врач-хирург и политический деятель, конгрессмен (1817 — 1829) и губернатор Виргинии (1830 — 1834), сторонник освобождения рабов и суверенитета штатов.
Гамильтон, Джеймс (1786 — 1857) — юрист и политик, конгрессмен (1822 —1829), был лидером оппозиции правительству ДжХАдам-са, затем губернатором Южной Каролины (1830 —1832).
Ритчи, Томас (1Т1Ъ — 1854) — журналист, поселился в Ричмонде с 1803 г., в 1804 — 1845 гг. был редактором газеты «Ричмонд икземи-нер» (позднее переименована в «Инквайрер»), в 1845 —1851 гг. издавал официозный «Юнион».
Плезанте, Джон Хэмпден (Y1V1 — 1846) — журналист и политик, основатель и редактор ричмондской газеты «Виг» (1842 — 1846), был убит на дуэли Т.Ритчи.
С.243
Хейн, Роберт Янг (1791 — 1839) — юрист и государственный деятель, сенатор (1823 — 1832), тубернатор Северной Каролины (1832 — 1834).
С.244
Купер, Томас (1759 —1839) — американский ученый, родом из Англии, в США с 1795 г., был судьей (1804 — 1811), профессором химии в колледже Дикинсона (1811 —1814) и Пенсильванском университете (1816 —1821), президент колледжа Северной Каролины (1820 — 1834).
568
С2А5
Адамс, Джон Куинси (1767 — 1848) — 6-й президент США (1825 — 1829), сын Джона Адамса. В1809 —1814 гг. первый посланник США в России, в 1817 — 1824 гг. — государственный секретарь, один из авторов доктрины Монро (1823).
С.247
Фрейзер, Эдвард Франклин (1894 —1962) — историк и социолог, специалист по национальным и расовым вопросам в американской истории, преподавал в Ховардском университете (Вашингтон), профессор и декан Колумбийского университета—с 1934 г.
С.249
г.Фасга — горная вершина в Иордании на северо-востоке от Мертвого моря, не раз упоминается в Ветхом завете: с нее Господь показал Моисею перед его кончиной всю Землю Обетованную на западе (Второзак., Ш, 27).
С.250
«Великое пробуждение» или Религиозное возрождение, — попытка вернуть прежние пуританские настроения и воссоздать сердечное и ничем не отягощенное чувство любви к боту, присущее истинному христианству, движение, распространившееся в Америке в XVIII веке (1720 — 1750) под влиянием путешествующих проповедников. Так называли и в XIX столетии волны религиозного энтузиазма.
Святой Франциск Ассизский (в миру Джиованни, Франческо Бернард оне, 1182 — 1226) — итальянский священник, основатель монашеского братства миноритов (1207 — 1209), преобразованного в орден францисканцев, чему сам Франциск противился. Прославился своим отказом от богатства, проповедью евангельской бедности, а также проникновенной религиозной поэзией. Канонизирован в 1228 г.
Святой Людовик IX (1214 — 1270) — французский король (с 1226), призывал к крестовым походам, самолично возглавил 6-й крестовый поход (1248 —1254), умер от чумы во время 8-го крестового похода. Канонизирован в 1297 г.
С.251
Фурман, Ричард (Y155 —1825) — священник, участник съезда по выработке конституции Северной Каролины. В 1821 г. создал Генеральную ассоциацию баптистов Северной Каролины, член Баптистского союза США.
Джоунз, Чарлз Колкок, старший (1804 — 1863) — пресвитерианский священник, затем профессор священной истории в Колумбийском университете.
569
С.253
Епископальная, методистская, баптистская и пресвитерианская церкви — основные протестантские конфессии в США. Епископальная церковь — американский вариант англиканства, возглавляет ее пожизненно избираемый глава из епископов. Методизм, основанный в Англии в 1729 г., через несколько десятилетий распространился и в США. Близок англиканству, однако культ здесь предельно упрощен, из обрядов сохранены лишь крещение и причастие. Организация церкви строго централизована. Баптисты веруют, что спасение человека возможно лишь через личную веру в Христа, без посредничества церкви, они отвергают иконы и таинства, многие религиозные праздники. Крещение, от которого и пошло их наименование, баптисты не рассматривают как таинство, но как обряд, демонстрирующий сознательный выбор веры, поэтому крещение совершается не в младенчестве, а во взрослом возрасте. Первая община возникла в начале ХУЛ века в Голландии, а уже в 1639 г. баптисты были среди английских переселенцев в Новый Свет. Пресвитериане принадлежат к умеренному крылу протестантизма; движение возникло в Шотландии в середине XVI в. и основано Дж. Ноксом, одним из учеников Ж.Кальвина. Среди требований: упрощение и удешевление культа, его единообразие, руководство церковью осуществляют выборные старейшины (пресвитеры), церковь независима от гражданской власти.
Ретт (наст, фамилия — Смит), Роберт Барнуэлл (1800 — 1876) — юрист и государственный деятель, конгрессмен от Южной Каролины (1837 —1849), последователь Дж. Кэлхуна, был его преемником как в конгрессе, так и в сенате (1850 —1852). Издавал газету «Чарлстон Меркюри», где ратовал за отделение Юга; в знак протеста против федерального правительства отказался от кресла сенатора. Приветствовал начало Гражданской войны.
С.255
Олмстед, Фредерик До (1822—1903)—инженер и архитектор парков, автор популярных в свое время путевых книг, например двухтомника «Царство хлопка» (1861)—о путешествии по Югу.
Бремер, Фредерика (1801 —1865) — шведская писательница, родилась в Финляндии, автор романов и рассказов, борец за равные права женщин. Осенью 1М9 г. приехала в США, где провела два года.
С.260
Мэнсфилд, Уильям Мэррей (1705 — 1793) — английский правовед и государственный деятель, занимал многие посты, в том числе и лорда —верховного судьи (1756 —1788).
С.263
Страуд, Джордж Макдауэлл (1795 — 1875) — юрист, автор очерка, посвященного законодательству штата Пенсильвания и описанию законов, касающихся рабовладения.
570
Гуделл, Уильям (1792 — 1878) — журналист, аболиционист, издатель множества публикаций против рабства, основатель Лиги свободы (1877), боровшейся против рабства, монополий, пьянства и военных тайных обществ.
С.264
Кобб, Томас Рид Руте (1823 —1862) — юрист, ярый сторонник отделения южных штатов, солдат армии конфедератов в Гражданской войне.
С.267
Рошамбо, Жан Батист Донасьен де Вимьер, граф де (1725 — 1807) — французский военный, командовал французским экспедиционным отрядом в Америке (1780 —1783), который помогал американским революционным войскам Вашингтона и Лафайета, в частности при осаде Йорктауна (октябрь 1781). Впоследствии командовал многими армейскими соединениями во Франции, маршал Франции с 1791 г.
де Грасс, Франсуа Жозеф Поль, маркиз де Грасс-Тийи, граф (YT22 — 1788) — французский морской офицер, командовал французским флотом в бухте Чезапик во время американской Войны за независимость.
Лафайет, Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дюМотье, маркиз де (Y1S1 —1834) — французский военный и государственный деятель, мушкетер (с 1771); из романтических побуждений — отомстить за поражение своей страны в Семилетней войне и добиться славы — решил помочь американцам в их Войне за независимость с англичанами. Уволился из французской армии в 1776 г. и с июля 1777 г. служил в американских войсках, в штабе Вашингтона; после победы в декабре 1781 г. уехал на родину. Впоследствии приезжал в США в 1784 и 1824 гг.
Карлайл, Фредерик Говард, граф (1748 — 1825) — английский политический деятель, прибыл в Америку в 1778 г. главой комиссии «для изучения, обсуждения и выработки мер по умиротворению беспорядков в Американских колониях». Вступил в размолвку с Лафайетом по поводу обвинений в адрес французов, тот вызвал Карлайла на дуэль, но Карлайл отклонил вызов.
С.268
Гуиннетт, Баттон {Y135 —1777) — английский купец, переселился в Джорджию в 1765 г., делегат континентальных конгрессов (1776 — 1777). В марте 1777 г. избран губернатором штата, в апреле того же года убит на дуэли.
Рэндолф, Джон (из Роанока) (1773 — 1833) — государственный деятель, известный оратор, многие годы заседал в конгрессе (1799 — 1825, с перерывами), был спикером палаты представителей, сенатором (1825 —1827); сторонник прав отдельных штатов, один из ини
571
циаторов Миссурийского компромисса 1820 г., посол в России (1830).
Дейвис, Джефферсон (1808 — 1889) — государственный деятель, служил в армии (1828 — 1835), участник войны с Мексикой, конгрессмен (1845 — 1846) и сенатор от штата Миссисипи (1847 — 1851, 1857 — 1861), военный министр страны (1853 — 1857). Был избран президентом Конфедерации южных штатов (1861 — 1865), после поражения осужден за измену и заключен в тюрьму (1865 —1867).
Стивенс, Александр Гамильтон (1812 — 1883) — государственный деятель и юрист, конгрессмен (1843 — 1859,1873 — 1882), противник отделения Юга, сохранивший и после него верность своему штату Джорджии; был избран вице-президентом Конфедерации (1861 —1865), некоторое время провел в заключении (1865), был избран сенатором (1866), но отказался от поста, а перед смертью — губернатором штата (1883).
Янси, Уильям Лоундз (1814 — 1863) — юрист и политик, член палаты представителей (1844 — 1846), один из лидеров движения за отделение Юга. Был послом Конфедерации во Франции (1861 —1862), членом сената Конфедерации (1862 —1863).
Хьюстон, Сэмюел (1793 — 1863) — военный и политик, член палаты представителей (1823 —1827), губернатор Теннесси (1827 —1829), в 1829 г. переехал на Индейскую территорию, а с 1833 г. — в Техас, где командовал вооруженными силами в войне с Мексикой, стал первым президентом республики Техас (1836 —1838,1841 —1844); после присоединения Техаса к США был избран сенатором (1846 — 1859), затем губернатором Техаса (1859 —1861)—на этом посту отказался принять присягу на верность Конфедерации.
Маршалл,Хэмфри (Yltiti—1841)—юрист и землевладелец, двоюродный брат председателя Верховного суда США, сенатор от Кентукки (1795—1801).
Бэррон, Джеймс (1768 —1851) — морской офицер, в 1807 г. в чине коммодора был разжалован и приговорен к позорной отставке без пенсии. Вызвал на дуэль одного из своих обвинителей Стивена Декатура (1779 —1820) и убил его.
Кларк, Дэниел (1766 —1813) — купец, с 1786 г. поселился в Новом Орлеане, где был консулом, а затем делегатом в конгресс от территории Орлеана (1806).
Флэгг, Эдмунд (1815 — 1890) — юрист, журналист, редактор различных газет и журналов, дипломат—служил в Берлине, Вене и Венеции (1849—1851).
Гамильтон, Джеймс —1857) — государственный деятель, член палаты представителей (1822 —1829), где был лидером оппозиции правительству Э.Джексона, губернатор Южной Каролины (1830 — 1832), участвовал в войне Техаса против Мексики.
С.269
Макдаффи, Джордж (1790 — 1851) — юрист и законодатель из Южной Каролины, конгрессмен, но не от Джорджии, как сказано у Бур-
572
стина, а от Южной Каролины (1821 — 1834), губернатор штата (1834—1836), сенатор (1842—1846).
Спейт, Ричард Доббс (V153 —1802) — общественный и государственный деятель, офицер революционной армии во время Войны за независимость, делегат континентальных конгрессов (1782 —1785) и конституционного конвента (1787), губернатор Северной Каролины (1792 — 1795), член палаты представителей (1798 — 1801), умер от ран, полученных на дуэли с Джоном Стэнли 6 сентября 1802 г.
С.271
Лонгстрит, Огастес Болдуин (1790 — 1870) — юрист и священник, автор анонимно опубликованной в газетах Милледжвилла и Огасты серии очерков «Сценки из Джорджии», спевших классическим образцом американского юмора и жестокого реализма. Отдельной книгой изданы в 1835 и 1840 гг. Был президентом колледжа Эмори (1839 — 1848), университетов штатов Миссисипи (1849 — 1856) и Южная Каролина (1857 —1865).
С.272
Ли, Роберт Эдвард (1807 — 1870) — военный, участник войны с Мексикой, служил в Техасе (1856 —1857,1860 —1861), с началом Гражданской войны уволился из армии США и принял командование отрядами Виргинии, а в 1865 г. стал главнокомандующим армии конфедератов.
С.274
«Новая гармония» (1825 — 1828), Брук-Фарм (1841 — 1846)... и многие другие — речь идет о получивших распространение в США обществах социалистического типа, прежде всего фурьеристских: в 1840-х гг. их было около 40 и насчитывали они примерно 8 — 9 тысяч членов; самой известной коммуной стала Брук-Фарм в штате Массачусетс, потому что в нее входили такие известные деятели американской культуры, как писатель Натаниел Готорн, журналист и публицист Чарлз Дана, критик Джордж Рипли, музыковед Джон Дуайт и др.
С. 275
Уэлд, Теодор Дуайт (1803 —1895) — общественный деятель, оратор и публицист, известный борец против рабства.
Филлипс, Уэнделл (1811 —1884) — юрист и аболиционист.
Итон, Клемент (1898 — 1980) — историк, автор работ и составитель антологий по истории Юга, 15 лет преподавал в колледже Лафайета, более 20 лет—в университете штата Кентукки.
Холден, Уильям Буде (1818 — 1892) — журналист и издатель, известный переменчивостью своих взглядов, губернатор Северной Каролины (1868 —1870).
573
Гримке, Ангелина Эмили (1805 —1879) —публицистка, борец за права негров и женское равноправие, женаТ.Д.Уэлда.
Эмерсон, Ралф Уолдо (1803 — 1882) — священник, эссеист, поэт и мыслитель, один из тех, кто сформировал американское мышление. Основатель американского трансцендентализма, идеи которого изложены им в трактате «Природа* (1836) и развиты в его многочисленных речах и лекциях.
Холт, Джозеф (1807 — 1894) — генеральный почтмейстер (1859 — 1861), военный министр (1861 — 1862), на этом посту вначале симпатизировал Югу, но все же остался сторонником Союза; начальник военно-юридического управления (1862 —1875).
С.276
Фитцхью, Джордж (1806 —1881) — юрист, социолог и журналист, защищал рабство, однако видел пути его преодоления в развитии свободной торговли на Юге.
Холбрук, Джосайя (1788 — ок. 1854) — реформатор американской системы образования, основатель движения американского лицея.
С.277
Шурц, Карл (1829 — 1906) — немецкий революционер, после поражения революции 1848 г. эмигрировал сначала в Англию, затем в США (1852), где стал известным оратором, редактором многих газет в Нью-Йорке, Детройте, Сент-Луисе, принял участие в Гражданской войне на стороне северян, а впоследствии был сенатором от штата Миссури (1869 — 1875), министром внутренних дел (1877 — 1881).
Либер, Фрэнсис (1800 — 1872) — немецкий политолог, еще в юности принял участие в битве при Ватерлоо (1813), а также в греческой войне за независимость (1822); в Пруссии подвергся преследованиям за свою деятельность, переехал в Америку в 1827 г., где стал редактором Американской энциклопедии (1829 — 1833), профессором истории и политэкономии в колледже Южной Каролины.
Мэдисон, Джеймс (1751 —1836) — 4-й президент США (1809 —1817). Рано занялся политикой, один из создателей конституции штата Виргиния, делегат континентальных конгрессов, конгрессмен (1789 — 1797); выступал против политики Гамильтона в его стремлении укрепить централизованную федеральную систему. Был государственным секретарем в правительстве Т.Джефферсона (1801 —1808). Будучи президентом страны, пытался избежать войны с Францией и Англией.
С.278
Сиднор, Чарлз Саккетт (1898 — 1954) — историк рабовладения на Юге, профессор Миссисипского университета (1925 —1936) и университета Дьюка (1936 —1953).
574
С.279
Лабранш, Олси Луис (1806 —1861) — конгрессмен из Нового Орлеана (1843 —1845), занимал также различные посты в Техасе.
С.280
Хандли, Дэниел Робинсон (1832 —1899) — общественный деятель, автор книги «Социальные отношения в южных штатах» (1860), цитата из которой приводится в книге.
С.283
Джош Биллингс — псевдоним Генри Уилера Шоу (1818 —1885), юмориста, автора некогда чрезвычайно популярных афоризмов.
С.285
Коронадо, Франсиско Васкес, де (1510 — 1554) — испанский конкистадор и первооткрыватель, в Мексику отправился в 1535 г., был губернатором Новой Галисии (1538 — 1544), вместе с Ницей совершил поход в 1540 — 1541 гг. по нынешним Канзасу, Техасу и Оклахоме, через Большой каньон, реки Колорадо и Рио-Гранде в Калифорнию.
Ница, Маркос де (ум. 1558) — португальский миссионер и первооткрыватель, в Перу открыл францисканскую обитель, был проводником экспедиции Коронадо, о которой написал отчет.
С.286
Уит, Карл Ирвинг (1892 — 1966) — юрист и историк, председатель Американского института исторической картографии, автор многих книг по истории освоения континента, в том числе 4-томной «Картографии Америки к западу от Миссисипи (1540 — 1804)» (1957 — 1960).
Домингес, Франсиско и Эскаланте, Сильвестре Велес, де — испанские монахи-францисканцы, путешественники второй половины ХУШ века в Америке.
С.287
Маккензи, Александр (ок. 1755 — 1820) — канадский путешественник и торговец пушниной, шотландского происхождения, в 1789 г. открыл реку, названную его именем, в 1792 —1793 гг. пересек Скалистые горы на пути к Тихому океану.
Веррацано, Джиованни, да (ум. ок. 1528) — итальянский мореплаватель, один из исследователей Атлантического побережья Америки (1523) и Бразилии (1528).
С.288
Клайн, Глория Гриффен (р. 1929) — историк, профессор колледжа Сакраменто (Калифорния) с 1960 г.
575
Гумбольдт, Фридрих Генрих Александр, барон фон (1769 — 1859) — немецкий ученый и путешественник, в 1799 —1804 гг. побывал в неизведанных местах Южной Америки.
Смит, Джедедия Стронг (1798 —1831) — первопроходец, в основном занимался пушным промыслом и торговлей, в 1826 —1830 гг. предпринял несколько путешествий в области Орегона, Юты и Калифорнии, в долины рек Сакраменто и Кингс. Убит индейцами.
Уокер, Джозеф Редфорд (1798 —1876) — охотники путешественник, в 1830-е гг. предпринял несколько путешествий на Запад страны, в район Соленого озера и р. Гумбольдт, одним из первых среди белых достиг залива Монтерей в Тихом океане. Многие географические места носят его имя.
Огден, Питер Скин (1794 — 1854) — американо-канадский первопроходец и купец, основал в 1815 г. Северо-Западную компанию, исходил пешком чуть не каждую долину в южном Айдахо, восточном Орегоне и Монтане, одним из первых белых побывал у озера Юта, долиной р. Гумбольдт прошел в северную Неваду. Написал книгу об индейцах.
Галлатин, Абрахам Алфонс Алберт (1761 — 1849) — государственный деятель и дипломат, швейцарец по происхождению; под воздействием идей Руссо приехал в Америку в 1780 г., где торговал, преподавал французский в Гарварде; с 1788 г. занялся политикой, в 1793 г. был избран в сенат, но по инициативе федералистов исключен за неимением американского гражданства, все же стал членом палаты представителей от Пенсильвании (1795 — 1801), затем министром финансов (1801 —1814). В мае 1813 г. прибыл с посольской миссией в Россию и следующие десять лет провел на дипломатической службе: в Великобритании подписал Гентский договор (1814), посол во Франции (1816 — 1823), а после краткой отставки — в Лондоне (1826 — 1830). Вернувшись в США, стал президентом нового национального банка в Нью-Йорке (1831 —1839).
Боннвилль, Бенджамин Луи Юлали де (1796 —1878) — военный и путешественник, француз по происхождению, служил в армии США (1815 —1866), известен своей изыскательской экспедицией 1832 — 1835 гг., в которой участвовал писатель Вашингтон Ирвинг.
Бидуэлл, Джон (1819 — 1900) — первопроходец и политик, участник экспедиции Бартлсона, в 1841 г. прошел от Миссури до Калифорнии, где поднял восстание против мексиканских властей и был одним из тех, кто провозгласил независимость Калифорнии, воевал под началом Дж. Фримонта, занимал различные должностные посты, в том числе мэра Лос-Анджелеса. Впоследствии стал известен своими сельскохозяйственными исследованиями.
С.290
Стюарт, Роберт (Y1&5 —1848) — торговец пушниной, шотландец по происхождению, приехал в Канаду в 1807 г., через три года стал партнером Дж. Дж.Астора, служил его торговым агентом, плавал по реке Колумбия, совершил несколько путешествий по неизведанным
576
местам в 1812 —1813 гг. Его путевой дневник опубликован в 1935 г., о нем написал в своей книге «Астория» (1836) Вашингтон Ирвинг.
С.291
Карсон, Кристофер (1809 —1868) — охотник и проводник, участвовал в экспедиции в Санта-Фе (1826), пересек пустыню Мохаве на пути в Калифорнию (1829), совершил множество путешествий на территории нынешних штатов Юта, Монтана, Айдахо и Вайоминг, был проводником ДжЧ.Фримонта в его экспедициях 1840-х гг. Обосновался в штате Юта в 1853 — 1861 гг., где продиктовал свое жизнеописание (опубликовано в 1858). Участник Гражданской войны 1861 — 1865 гг., впоследствии один из организаторов армии на новомексиканских территориях.
Уокер, Роберт — скорее всего, здесь ошибка — имеется в виду Джозеф РедфордУокер (см. комм, к с. 288).
Гетцман, Уильям Генри (р. 1930) — ученый-историк, преподавал в Иейлском (1955 —1964) и Техасском (с 1964) университетах.
С.292
Стэнсбери, Говард (1806 — 1863) — военный топограф и путешественник, среди многих его изысканий — экспедиция в район Большого Соленого озера. Отчет об экспедиции опубликован в документах конгресса 1852 г. и впоследствии, как образцовый, неоднократно переиздавался.
Рейнолдс, Уильям Франклин (1820 —1894) — военный топограф, участник войны с Мексикой (1847 —1849), известен своими исследованиями рек Йеллоустон и Миссури (1859 — 1861), участвовал в Гражданской войне в качестве главного инженера-топографа Виргинии.
Де Вото, Бернард Огастин (1897 —1955)—историк и литературовед, писатель, автор нескольких романов и трудов по истории освоения континента, исследователь творчества Марка Твена.
С. 293
Лонг, Стивен Гарриман (1784 —1864) — первооткрыватель, военный топограф, совершил экспедицию в Скалистые горы, один из пиков которых назван его именем. Впоследствии работал инженером-консультантом на строительстве многих железных дорог.
С.294
Пруча, Фрэнсис Пол (р. 1921)—историк, преподаватель Маркуетского университета (с 1960), в основном занимался изучением роли индейцев в американской истории.
С.295
Смит, Генри Нэш (1906 —1986) — литературовед и издатель, известны его труды по истории освоения Американского континента и о
577
творчестве Марка Твена. Преподавал в университетах штатов Техас, Миннесота и Калифорния — в последнем он проработал более двадцати лет до своей отставки в 1974 г.
С.296
Оги, Сэмюел (1831 —1912) — геолог и ботаник, автор многих описаний земельных ресурсов и сельскохозяйственных культур Запада США (штатов Небраска, Вайоминг).
С.300
Кинг, Кларенс (1842 — 1901) — горный инженер и геолог, работал в Неваде и Калифорнии в 1863 — 1866 гг., в Кордильерах в 1867 — 1877 гг., возглавлял все западные географические и геологические исследования в 1878 — 1881 гг., известен многими новациями в топографии.
С.304
Смит, Джон Роусон (1810 —1864) —художник-пейзажист, в турне по США и Европе демонстрировал свои панорамы Бостона и долины реки Миссисипи, известна также его панорама «Большой пожар Москвы».
С.305
Флекснер, Джеймс Томас (р. 1908) — журналист, критик, искусствовед, исследователь ранней американской живописи.
Стюарт, Гилберт (1755 — 1828) —художник-портретист, автор первых изображений Дж Вашингтона (см. о нем на с. 447— 448).
Уэст, Бенджамин (1738 —1820)—художник, учился в Италии, долгое время жил в Англии, где дружил со многими знаменитыми людьми своего времени и стал придворным живописцем, а также учителем многих американских художников.
Трамбулл, Джон (Y156 —1843) — художник, участник Революции; какое-то время был адъютантом Дж. Вашингтона; в 1786 — 1799 гг. жил в Лондоне, был учеником Б.Уэста. Прославился своей картиной «Подписание Декларации независимости».
Брайент, Уильям Каллен (1794 — 1878) — поэт, прозаик, критик и журналист, на протяжении долгого времени его считали основоположником национальной поэзии, хотя стихотворное наследие его невелико.
С.306
Пил, Чарлз Уилсон (1741 — 1827) — художник-портретист, ученик Б.Уэста, участник Революции; его кисти принадлежит около 60 портретов Дж Вашингтона, семь из них сделаны с натуры.
С.307
Бодмер, Карл (1809 —1893) — швейцарский художник, совершил длительное путешествие по США в свите принца Максимилиана
578
(1832 —1834), сделал множество зарисовок американских пейзажей и портретов.
Миллер, Алфред Джейкоб (1810 —1874)—художник, участник экспедиции капитана Уильяма Стюарта в Скалистые горы, где он сделал зарисовки индейского быта и пейзажи.
Дис, Чарлз (1818 —1867) — художник, посетивший западные территории, где он сделал множество зарисовок жизни и быта на фронтире Висконсина, а также индейской одежды и утвари.
Бириипадт, Алберт (1830 — 1902) — художник-пейзажист, немец по происхождению, учился в Европе (1853 —1857), особенно известны его жанровые сценки, пейзажи Скалистых гор, а также Швейцарии.
Моран, Томас (1837 — 1926) — английский художник-график- иллюстратор, пейзажист, участник геологических экспедиций в Йеллоустон (1871 и 1873). Серия его рисунков Большого каньона в Йеллоустоне и Колорадо была представлена конгрессу и доныне экспонируется в Капитолии.
С.311
Хатчинс, Томас (1730 — 1789) — английский военный инженер, офицер британских колониальных войск в Пенсильвании, создатель множества важнейших карт и топографических описаний Виргинии, Пенсильвании, Мэриленда, Северной Каролины, Луизианы и Западной Флориды, за что заслужил звание «географа Соединенных Штатов» (1781). Во время Революции ушел в отставку из британской армии и попал в тюрьму.
С.313
Уильямсон, Хью —1819) — врач, ученый и государственный деятель Северной Каролины, проводил опыты с электричеством вместе с Б. Франклином.
С.313
Монтгомери, сэр Роберт, 11-й баронет Скелморли (1680 — 1731) — английский путешественник, исследователь Американского континента, автор «Рассуждения об установлении новой колонии в Северной Каролине» (1717).
С. 314
Букет, Генри (1719 — 1765) — швейцарский военный, служил в британских колониальных войсках в Америке с 1756 г., впоследствии натурализовался как американец.
Дрейк, Дэниел (Yl%5 —1852) — врач, основатель и президент медицинского колледжа штата Огайо.
С.320
Сьюард, Уильям Генри (1801 —1872) — государственный деятель, губернатор Нью-Йорка (1839 — 1843), сенатор (1849 — 1861) и госу
579
дарственный секретарь США (1861 — 1869), известный своими выступлениями против рабства.
С.321
Гудрич, Картер — скорее всего, имеется в виду Гудрич, Чарлз Огастес (1790 — 1862), священник и автор популярных детских книг по истории, чья «История Соединенных Штатов» (1822) выдержала 150 изданий.
С.324
Спаркс, Джейред (1789 — 1866) — историк, священник и журналист, владелец и редактор журнала «Норт Америкэн ревью» (1823 — 1829), издатель и редактор «Дипломатической переписки Американской революции» (1829 — 1830), собраний трудов Дж. Вашингтона (1834 — 1837) и Б.Франклина (1836 — 1840), «Библиотеки американских биографий» (1-я серия — 1834 — 1838). Его методы впоследствии подвергались критике, так как он нередко исправлял исторические документы и отбирал из них то, что ему представлялось важным. Профессор истории, президент Гарвардского университета (1849 —1853).
С.325
Клинтон Де Витт (Y169 — 1828) — государственный деятель, сенатор США (1802 — 1803), мэр г. Нью-Йорка (1803 — 1807, 1810 — 1811, 1813 — 1815), губернатор штата Нью-Йорк (1817 — 1821, 1825 —1828), кандидат в президенты страны на выборах 1812 г.
С.328
Яков I (1566 —1625) — король Великобритании с 1603 по 1625 г.
Карл I (1600 — 1649) — король Великобритании с 1625 г., сын Якова I, был осужден судом присяжных из 67 человек, назван тираном, врагом народа и обезглавлен.
Карл II (1630 —1685) — английский король из той же династии Стюартов, сын Карла I, его правление (1660 — 1685) получило название эпохи Реставрации.
Георг II (1683 —1760) — король Великобритании с 1727 г. из Ганноверской династии, праправнук Якова I.
Митчелл, Джон (ум. 1768) — английский врач, ботаник и картограф, в Виргинии жил в 1735 —1746 гг., после чего уехал в Лондон. Самый важный вклад его в американскую историю—«Карта британских и французских владений в Северной Америке» (создана в 1750).
С.329
Ливингстон, Роберт Р. (1746 — 1813) — общественный деятель и дипломат, делегат континентальных конгрессов, секретарь недавно созданного департамента иностранных дел (1781 —1783), в 1801 —
580
1804 гг. посол во Франции, где он стал одним из главных организаторов покупки Луизианы.
С.330
Договор Адамса — Ониса с Испанией 1819 г. — т.н. Трансконтинентальный, по нему была установлена граница между владениями Испании и США по рекам Сабин, Ред-Ривер, Арканзас, а к западу от Скалистых гор — по 42-й параллели; он узаконил захват американцами Флориды, но признавал Техас частью Новой Испании. Называется нередко именами тогдашних государственного секретаря США и министра иностранных дел Испании.
С.332
Уильямс, Роджер (1603 — 1682/83) — английский священник, один из основателей Америки, прибыл в Новую Англию в 1631 г., где вступил в конфликт с властями Массачусетса; после изгнания поселился сначала в индейской деревне, а затем основал колонию Род-Айленд, где им была установлена веротерпимость, церковь отделена от государства, ограничена земельная собственность и запрещено рабство (с 1652). Считается одним из выдающихся политических мыслителей Америки раннего этапа развития.
Маклеод, Уильям Кристи — этнограф, исследователь американских индейцев.
С.333
Брэддок, Эдвард (1695 —1755) — британский генерал, главнокомандующий всеми английскими войсками в Северной Америке; во время войны с французами в Огайо был тяжело ранен (июль 1755) и вскоре скончался.
С.337
Кастер, Джордж Армстронг (1839 — 1876) — командовал отрядом добровольцев во время Гражданской войны, в 1867 —1870 и 1873 — 1876 гг. воевал против дружественно настроенных к белым индейских племен.
Битва при Литл-Бигхорн — сражение в Монтане 25—26 июня 1876 г. между 7-м кавалерийским полком армии США под командованием подполковника Джорджа Кастера и объединенным отрядом индейских племен сиу и шайеннов во главе с вождями Сидящим Быком, Бешеным Конем и другими. Белые войска вторглись на земли Блэк-Хиллс в долине р. Йеллоустон, отведенные индейцам, полк Кастера опередил другие части и наткнулся на отряд индейцев из 4 — 5 тысяч воинов. В бою погибли 225 солдат американской армии во главе с Кастером.
С.338
Моррис, Гувернер {1152 — 1816) — государственный деятель, юрист и дипломат, один из создателей структуры американского управле
581
ния, делегат континентальных конгрессов (1778 — 1779) и конституционного конвента (1787), сторонник независимости и сильного федерального правительства С 1789 г. жил в Париже, налаживал франко-американские финансовые и деловые взаимосвязи, посол во Франции (1792 — 17S4), сенатор США (1800 —1804).
С.339
Мейсон, Джордж (YT25 —1792) — плантатор из Виргинии, государственный деятель и политический мыслитель, активный участник Революции, делегат конституционного конвента, но Конституцию не подписал; был избран первым сенатором от штата Виргиния, но отказался от этого поста
С.340
Раш, Ричард (1780 — 1859) — государственный деятель, юрист и дипломат, министр финансов (1811, 1825 — 1828) и юстиции (1814 — 1817), государственный секретарь США (1817), посол в Великобритании (1817 —1825), один из создателей доктрины Монро, посол во Франции (1847 —1849).
С.341
Федералисты — представители политической партии в США, выражавшей интересы торговцев и крупных плантаторов, находились у власти в 1789 — 1800 гг., ориентировались на усиление власти федерального правительства, на пример монархической Великобритании, во время войны 1812 —1814 гг. стремились к отделению Новой Англии.
Республиканцы (в отличие от членов современной республиканской партии их обычно называют «джефферсоновскими республиканцами») — представители партии, созданной Т. Джефферсоном и Дж. Мэдисоном на волне возмущения англо-американским договором 1794 г., выступали под лозунгами ограничения власти федерального правительства, значительного сокращения постоянной армии и дорогостоящего флота, отмены всех прямых налогов, сокращения жалованья конгрессменов. Завоевав власть в 1800 г., республиканцы вынуждены были во многом использовать идеи и принципы своих противников — федералистов, в частности укреплять армию в связи с ухудшением отношений с Англией, а также использовать государственные средства для развития судоходства, строительства дорог и поощрения мануфактур, хотя изначально республиканцы выступали сторонниками аграрного развития США. Эта партия стояла у власти до 1828 г., когда на смену им пришли демократы, однако еще республиканец ДжМонро, победив вторично на выборах 1820 г., провозгласил «эру доброго согласия», а себя — президентом всего народа, а не одной партии.
С.342
Трейси, Юрайя (Y155 — 1807) — конгрессмен (1793 — 1796), сенатор (1796 —1807), с 1800 г. председательствующий в сенате.
582
С. 343
Эймс, Фишер (1758 — 1808) — педагог, оратор, политик и публицист из Массачусетса, федералист, конгрессмен (1789 — 1797), в своих выступлениях отстаивал идеалы римской республики и призывал утвердить в США верховенство аристократического духа, что так возмущало республиканцев.
Пикеринг, Тймоти (1745 —1829) — юрист, торговец, публицист и политик из Массачусетса, был генерал-квартирмейстером американской революционной армии в 1780 — 1783 гг., стал сторонником АТамильтона и возглавляемых им федералистов, занимал должности генерального почтмейстера (1791 — 1794), военного министра (1795) и государственного секретаря США (1795 —1800), исполнял дипломатические обязанности, избирался сенатором (1803 — 1811) и конгрессменом (1813 —1817).
Фердинанд VII — испанский король (1808,1814 — 1833); был приглашен Наполеоном и взят под стражу в 1808 —1813 гг., после антина-полеоновского восстания в Испании ему был возвращен королевский сан.
Перкинс, Декстер (1889 — 1984) — историк, автор многах книг о международных отношениях США, почти сорок лет преподавал в Роче-стерском университете.
С.345
Крауфорд, Уильям Харрис (1772 —1834) — государственный деятель, сенатор (1807 — 1813), посол во Франции (1813 — 1814), военный министр (1815) и министр финансов (1816 —1825).
Термин — в римской мифологии божество границ и пределов.
С.346
Браун, Чарлз Брокден (1771 — 1810) — первый профессиональный американский писатель, автор многих романов и памфлетов, редактор многих изданий, сторонник Революции.-
Дариенский перешеек — находится между Центральной и Южной Америкой, между Панамой и Колумбией.
С.349
Компромисс 1850 года связан со вступлением в Союз Калифорнии, по конституции которой было запрещено рабство. Таким образом свободных штатов становилось 16, а рабовладельческих — 15. По предложению Г .Клея и Д.Уэбстера был принят ряд законов, на время примиривших сторонников Севера и Юга.
О’Салливен, Джон Луис (1813—1895)—юрист, журналист и дипломат.
С.353
Миссис Грэнди — нарицательный образ, воплощение общественного мнения и тирании соседских глаз, впервые появляется в пьесе Томаса Мортона «Паши быстрее» (1798).
583
Пикеринг, Джон (1777 — 1846) — филолог, сын известного политика Тимоти Пикеринга, автор первого собрания американской лексики (1816).
Данглисон, Робли (1798 —1869) — английский медик, с 1825 г. переселился в США, где преподавал в университетах, оставил много трудов по физиологии.
Бартлетт, Джон Расселл (1805 — 1886) — библиограф и издатель, автор нескольких книг по истории страны, в 1850 —1853 гг. исполнял обязанности посланника США по выработке пограничной линии между Техасом и Мексикой.
С. 356
Аддисон, Джозеф (1672 — 1719) — английский эссеист, поэт и государственный деятель, чьи очерки в журналах «Болтун* (1709 — 1711) и «Зритель* (1711 — 1712,1714) стали классикой английской просветительской прозы.
С.360
Болдуин, Джозеф Гловер (1815 — 1864) — писатель, автор известной юмористической книги «Бурные времена Алабамы и Миссисипи» (1853), а также цикла эссе об американских политиках «Партийные лидеры* (1855).
Лоуэлл, Джеймс Расселл (1819 — 1891) — поэт, журналист, критик и дипломат, профессор Гарвардского университета, автор многих книг, среди которых выделяется «Переписка Биглоу*, состоящая из двух разных произведений: 10 стихотворных сатир в форме писем, прежде всего от лица вымышленного новоанглийского фермера Хоси Биглоу, направленных против мексиканской войны (1846, отд. изд. 1848), и 11 сатирических писем в поддержку аболиционизма и политики северян, против демагогических выступлений южан в преддверии Гражданской войны (полностью опубликованы в 1867 г.).
С.361
Крисуэлл, Илайя Харри — историк, автор книги о лингвистических разысканиях экспедиции Льюиса и Кларка (1940).
С.364
Бристед, Чарлз Астор (1820 — 1874) — автор научных филологических работ и сатирических очерков об американском обществе, праправнук Джона Джейкоба Астора.
С.365
Менкен, Генри Луис (1880 —1956) — критик и публицист, один из влиятельнейших редакторов 1910 — 1920-х гг., последователь Ч.Дар-вина и Ф.Ницше, ярый борец против пуританства американской
584
культуры. Может быть, наибольшую известность получил его труд ♦Американский язык» (впервые вышел в 1918).
С.370
Джеймс, Генри (1843 —1916) — писатель, автор многих романов и рассказов, ключевыми темами которых было сопоставление и столкновение европейской и американской культур, а также нравственное противостояние Добра и Зла, в 1875 г. навсегда покинул США, жил в Париже и Лондоне, в 1915 г. принял британское подданство, но просил похоронить его на родине.
С.373
Торнтон, Ричард (1845 — 1925) — английский юрист, в тридцатилетием возрасте переехал в США, где стал первым деканом юридического факультета Орегонского университета (1884 — 1903), затем жил в Филадельфии, издал ♦Американский глоссарий» в 2 томах (1912,3-й том издан в 1931 —1939).
С.376
Браун, Алберт Галлатин (1813 —1880) — юрист и политик, конгрессмен (1839 — 1841, 1848 — 1861), губернатор штата Миссисипи (1844 —1848), сенатор Конфедерации Юга (1862—1865).
С.377
Орегонская проблема — спор вокруг обширной территории от побережья Тихого океана до Скалистых гор и от Аляски до Калифорнии, на которую предъявляли права США, Англия, Россия, а в начале XIX века и Испания. Вопрос о спорных территориях ставился еще на англо-американских переговорах до 1818 г., в результате чего было принято компромиссное решение открыть доступ подданным обеих держав на территорию Орегона. Этот спор обострился в 1840-х гг., особенно после послания президента Дж. Полка 2 декабря 1845 г., где он прямо заявил: ♦Мы будем отстаивать свои права на всю территорию Орегона». В американском конгрессе разгорелись дебаты по орегонской проблеме, в результате которых 23 апреля 1846 г. была принята резолюция, предоставлявшая право президенту денонсировать соглашение 1827 г. с Англией по этому вопросу.
С.379
Биркбек, Морис (1764 — 1825) — английский переселенец в Америку, автор путевых заметок об Америке (1817) и ♦Писем из Иллинойса» (1818).
С.380
Френо, Филип Морин (1752 — 1832) — поэт, журналист, которого называют то «отцом американской поэзии», то ♦поэтом Американской революции», во время которой он был добровольцем в армии
585
Дж.Вашингтона и создателем многих песен, сатир и стихов, прославляющих подвиги американцев и высмеивающих английских военачальников. В 1791 — 1793 гг. при поддержке Т.Джефферсона Френо издавал в Филадельфии откровенно республиканскую по духу «Национальную газету*.
С.382
Стюарт, Джордж Риппи (1895 — 1980) — писатель, автор романов, а также биографических и документальных книг, профессор Калифорнийского университета (1923 —1962).
С.384
Офир — название земли в Ветхом завете, богатой золотом; по мнению историков, находилась в Африке к югу от Суэца.
Скулкрафт, Генри Роу (1793 — 1864) — этнограф и геолог, известен своими исследованиями истоков Миссисипи в 1817 —1818 гг., а также изучением быта, уклада жизни и образа мышления индейцев. Его основополагающий труд об индейцах в 6 томах был опубликован в 1851 —1857 гг.
Лонгфелло, Генри Вордсворт (1807 —1882) — поэт, переводчик, профессор Гарвардского университета (1836 —1854), при жизни пользовался огромной популярностью в Англии и Америке, автор многих баллад и стихов, всемирную славу ему принесла поэма «Песнь о Гайавате* (1855), основанная на сказаниях индейцев.
С. 385
Макдейвид, Рейвен (р. 1911)—языковед и историк культуры, преподаватель Иллинойского (1949 —1950) и Корнеллского (1950 —1954) университетов.
С.386
Уилсон, Генри (1812 — 1875) — политик из Массачусетса, сенатор США (1855—1873).
Грин, Джеймс Стивенс (1817 —1870) — юрист и политик, конгрессмен (1847 —1851) и сенатор (1857 —1861).
С.388
Эшли, Джеймс Митчелл (1824 — 1896) —журналист, проповедник и политик, сначала демократ, потом республиканец, конгрессмен (1859 —1869), губернатор территории Монтана (1869 —1870).
Денвер, Джеймс Уильям (1817 —1892) — юрист и педагог, генерал армии северян в Гражданской войне, конгрессмен (1855 — 1857); его именем назван город в штате Колорадо, откуда началась «золотая лихорадка*.
Дуглас, Стивен Арнолд (1813 —1861) — юрист и оратор из Иллинойса, демократ и противник рабства, но сторонник компромиссов со стороны южных штатов, конгрессмен (1843 — 1847), сенатор
586
(1847 — 1861), кандидат в президенты на выборах 1860 г., проиграл А.Линкольну.
С. 389
Самнер, Чарлз (1811 —1874) — юрист и аболиционист, преподаватель Гарварда, известный оратор, сенатор (1851 —1874).
Уэйд, Бенджамин Франклин (1800 — 1878) — юрист и преподаватель, один из лидеров антирабовладельческого движения.
Говард, Джейкоб Мерритт (1805 — 1871) — юрист и оратор из штата Мичиган, конгрессмен (1841 — 1843) и сенатор (1862 — 1871), один из создателей республиканской партии (1854).
С.390
Уитьер, Джон Гринлиф (1807 — 1892) — поэт, публицист, редактор, один из лидеров аболиционизма, за свои крестьянские стихи нередко называемый «американским Бернсом», которому он и подражал.
Гриноу, Горас (1805 —1852) — скульптор, учился у Торвальдсена в Риме, сделал несколько скульптурных портретов Дж.Вашингтона.
С.394
Хастингс, Уоррен (Y132 — 1818) — генерал-губернатор Индии (с 1773), подвергнут суду за взятки и жестокость и осужден в 1795 г.; на этом знаменитом процессе обвинение поддерживали известный оратор и философ Эдмунд Берк и драматург Ричард Бринсли Шеридан.
Эммет, Роберт (1778 — 1803) — ирландский патриот, пытался найти поддержку у Наполеона и Талейрана, поднял восстание в 1803 г., был схвачен, осужден и повешен.
Гладстон, Уильям Юарт (1809 — 1898) — английский государственный деятель, член парламента (1832 — 1895), занимал различные должности в правительствах 1840-х гг., премьер-министр Великобритании (1868 —1874,1880 —1885,1886,1892 —1894).
Дизраэли, Бенджамин, граф Биконсфилд (1804 — 1881) — английский писатель и государственный деятель, член парламента (1837 — 1880), где не раз выступал против У.ЮТладстона, премьер-министр Великобритании (1868,1874—1880).
Арнолд, Мэтью (1822 — 1888) — английский поэт и литературный критик, профессор Оксфордского университета (1857 — 1867), известный лектор, читал свои лекции и в США (1883 —1884,1886).
Рескин, Джон (1819 — 1890) — английский публицист, историк и теоретик искусства, литературный критик, оказал огромное влияние на английскую литературу и общественную мысль второй половины XIX века, огромной популярностью пользовались его лекции об искусстве и социально-критическая публицистика.
Отис, Джеймс (1725 —1783) — политик и публицист, один из лидеров колонии Массачусетс.
587
G. 395
Тюдор, Уильям Q.T19 — 1830) — купец, законодатель и дипломат из Массачусетса, основатель и первый редактор журнала «Норт Америкой ревью» (1815 — 1817), автор нескольких книг.
Генри, Патрик — 1799)— купец и юрист, известный оратор, ак-
тивный деятель Американской революции, лидер патриотического движения, делегат первых трех континентальных конгрессов, губернатор штата Виргиния (1776 — 1779, 1784 — 1786). Известен не только своими речами, но и отказами занять высокие посты сенатора, государственного секретаря, председателя Верховного суда США и посла во Франции, поскольку был противником федеральной конституции и защитником прав личности и суверенитета штатов.
Уирт, Уильям (1772 —1834) — юрист и литератор, автор книг «Письма британского шпиона» (1803), «Заметки о жизни и личности Патрика Генри» (1817). См. о нем с. 452—455.
Хэнкок, Джон Q.T31 — Y193) — купец и политик, деятель Американской революции, делегат континентальных конгрессов, первым подписал Декларацию независимости, был избран первым губернатором штата Массачусетс.
С.396
Макгаффи, Уильям Холмс (1800 —1873) — преподаватель и составитель популярных в свое время школьных хрестоматий (было продано всего около 120 млн. экземпляров), преподавал в Майами (1826 — 1836), был президентом колледжа Цинциннати (1836 — 1839) и Университета Огайо (1839 —1843), профессором этики Виргинского университета (1845 —1873).
С.400
Бостонская бойня, 5 марта 1770 г. — расстрел безоружной толпы жителей Бостона британскими солдатами у здания таможни: трое были убиты, двое — смертельно ранены, несколько человек получили более легкие ранения. Тогда по городу разнесся призыв: «К оружию!» Именно после Бостонской бойни освободительная борьба американских колонистов приняла активный и массовый характер.
С.401
Силлиман, Бенджамин (1779 —1864) — один из самых известных и выдающихся ученых Америки начала XIX века, профессор химии и естественной истории Йейлского университета (1802 —1853).
С.402
Боуд, Карл Франц (р. 1912) — немецкий историк, преподавал в Бонне (1931 —1933), Вене (1933 —1934), Женеве и Берне, с 1935 г. пе
588
реселился в США, преподавал в Кембридже (1935 — 1936) и Стэнфорде.
С.403
Граф Рэмфорд, наст, имя — Бенджамин Томпсон (1753 — 1814) — купец-филантроп, изобретатель и ученый, служил в британских колониальных войсках (1781 — 1783), получил дворянские титулы Великобритании и Священной Римской империи германского народа.
С.404
Чарват, Уильям (р. 1905) — критик и историк литературы, преподаватель Нью-Йоркского университета (с 1931).
С.406
Тэйлор, Байярд (1825 — 1878) — путешественник и дипломат, в частности был секретарем дипломатической миссии в Санкт-Петербурге (1862 — 1863), известен своими путевыми заметками и лекциями.
Уиппл, Эдвин Перси (1819 —1886) — критик и лектор.
Бенджамин, Парк (1809 —1864) —журналист и издатель, сотрудничал со многими журналами Нью-Йорка и Новой Англии.
Сакс, Джон Годфри (1816 — 1887) — автор популярных в свое время юмористических и сатирических стихотворений и путевых заметок.
Мелвилл, Герман (1819 — 1891) — прозаик и поэт, классик американской литературы, автор многих повестей и рассказов, где очень важное место занимала тема близости человека природе. Главная его книга—роман «Моби Дик, или Белый кит» (1851). Произведение не имело успеха у современников, писатель при жизни был забыт и открыт заново только в XX веке.
Хеймерт, Алан (р. 1928) — историк американской литературы колониального периода и XIX века, автор книги «"Моби Дик” и американская политическая символика» (1963), преподавал в Гарварде (1959—1968).
Грили, Горас (1811 —1872) — издатель и политик, редактор многих изданий; сторонник фурьеризма и свободного владения землей, равенства негров и белых.
Стоун, Люси (1818 —1893) — женщина-реформатор, одна из первых в США выступила за равноправие женщин, ярая противница рабства, редактировала журнал «Вумен’з джорнел» (с 1872).
Стэнтон, Элизабет Кэди (1815 — 1902) — одна из предводительниц американского женского движения за равноправие, президент Американской суфражистской ассоциации (1864 —1890).
Бичер, Лиман (УП5 — 1863) — священник-пресвитерианец, отец писательницы Г.Бичер-Стоу и проповедника Г.У. Бичера.
589
С.407
Санди, Уильям Эшли (1863 —1935) — проповедник-евангелист, путешествовавший из города в город и использовавший новые технические средства XX века; считалось, что он проповедовал перед восемью миллионами человек одновременно, до него никому в истории христианства не удавалось собрать такую аудиторию, хотя с появлением телевидения эта цифра была перекрыта.
Грэхем, Уильям Франклин (р. 1918) — евангелист-проповедник, его проповеди по телевидению могли видеть и слышать не только в США, но и в Европе, Азии, Африке и Австралии. Многие отмечали в нем сходство с Билли Санди.
С.409
Смит, Себа (1792 —1868) — журналист, юморист и сатирик, его очерки от имени персонажа-маски майора Джека Даунинга были опубликованы отдельной книгой в 1833 г.; новая серия «писем майора Даунинга» составила вторую кншу, вышедшую в разгар мексиканской войны (1847).
С.411
Хупер, Джонсон Джоунз (1815 — 1862) — журналист и юморист из Алабамы, создавший многих комических героев южного фронтира, выступал в маске капитана Саймона Саггса («Некоторые приключения Саймона Саггса», 1846).
Браун, Чарлз Фаррар (1834 —1867) — юморист, выступавший под маской-псевдонимом Артемуса Уорда, стал известен с 1858 г., его комические «лекции на нравственные темы», как и книга (1862), пользовались необычайной популярностью не только в США, но и в Англии, где автор гастролировал в 1866 —1867 гг. О славе его говорит тот факт, что именно Ч.Ф.Браун заметил и помог напечататься в восточных изданиях своему сверстнику С.Л.Клеменсу — тогда никому не известному Марку Твену.
С. 412
Эйб Мартин — псевдоним-маска американского юмориста Хаббарда, Фрэнка Маккинни (1868 —1930).
Роджерс, Уилл (1879 — 1935) — юморист и актер из Техаса, с 1918 г. снимался в кино, с 1922 г. вел ежедневную колонку в газете «Нью-Йорк тайме».
С. 414
«Генрих V» (ок. 1595 —1599) — историческая хроника Шекспира о царствовании английского короля (1413 —1422), во время которого англичане воевали с французами.
С.419
Троллоп, Фрэнсис (1780 —1863) — английская писательница, мать известного писателя Э.Троллопа (см. с. 184).
590
Стил, сэр Ричард (1672 — 1729) — английский эссеист и драматург, соавтор и соредактор Джозефа Аддисона.
С. 420
Мередит, Джордж (1828 —1909) — английский романист и поэт, Бурстин цитирует его «Эссе о комедии и использовании духа комического» (1877).
Дорсон, Ричард Мерсер (1916 —1981) — ученый, специалист по истории и фольклору, преподавал в университетах штата Мичиган (1944 — 1957) и Индиана (с 1957), автор книг «Америка начинается. Ранняя американская словесность» (1950, 1972), «Американский фольклор» (1959).
С.422
Рурк, Констанс М. (1885 — 1941) — американская писательница, исследовавшая национальный фольклор. Автор книг «Американский юмор. Очерк национального характера» (1931), «Дэви Кроккетг» (1934) и др.
С. 423
Уэбстер, Джон (1580? —1625?) — английский поэт и драматург.
С.426
Хаккет, Джеймс Генри (1800 —1871) — комический актер, прославившийся исполнением характерных ролей, среди которых Фальстаф, Рип Ван Винкл и упоминаемый здесь Нимрод Молния.
Нимрод — библейский персонаж. В англоязычных странах — нарицательное имя охотника.
Полдинг, Джеймс Кирк (1778 —1860) — поэт, эссеист, романист и драматург, занимавший видное место в литературной жизни Нью-Йорка, член кружка братьев Ирвинг, вместе с которыми сочинил серию сатирических очерков «Салмагунди» (1807 — 1808). Долгие годы служил в военно-морском ведомстве США (1815 —1841), исполняя в правительстве М.Ван-Бюрена должность секретаря по военно-морским делам (1838—1841).
С. 427
Марбл, Данфорт (1810 —1849) — актер, прославившийся исполнением ролей, требующих диалекта янки, особенный успех имел в роли Сэма Пэтча в пьесе, специально для него написанной (1836).
Петролеум Везувиус Нэсби — комическая маска-псевдоним Локка, Дейвида Росса (1833 — 1888), американского журналиста, издававшего в Огайо несколько газет. Высмеивал позицию южан во время Гражданской войны.
591
С.428
Боадиция (ум. ок. 62)—королева древних бриттов.
С.429
Джей, Джон (1745 —1829)—государственный деятель, делегат континентальных конгрессов, посланник в Испании (1779), секретарь по иностранным делам США, один из уполномоченных при подписании мира с Англией (1782), Верховный судья страны (1789 — 1794); вел переговоры и заключил договор с Англией 19 ноября 1794 г., который носил компромиссный характер, но в США был встречен с негодованием, как неравноправный и даже «предательский», в результате чего имя Джея оказалось скомпрометировано и он был вынужден уйти в отставку, хотя тут же был избран губернатором штата Нью-Йорк (1795 —1801).
С.431
Кэри, Мэтью (1760 —1839) — ирландский издатель.
Уайтфилд, Джордж (1714 — 1770) — английский проповедник, основатель церкви кальвинистских методистов.
Вийон, Франсуа (1431/32 — после 1463) — французский поэт, известный не только замечательными балладами и стихами, но и разгульной жизнью в разбойничьей шайке.
Беверидж, Алберт Джеремия (1862 —1927) — политик и историк, сенатор США (1899 —1911), сторонник президента Т.Рузвельта и его политики.
С.432
Патнем — эту фамилию носили Руфус Патнем и Исраэл Патнем (1718 — 1790), прославившийся в англо-французских сражениях 1750 — 1760-х гг., хотя здесь имеется в виду, скорее всего, Руфус Патнем (см. о нем комм, к с. 71).
Грин, Натаниел (1742 —1786) — военный, прославился во время революционной Войны за независимость, командуя дивизией, а затем и армией.
С.433
Маккин, Томас (YTM — 1817) — государственный деятель революционной эпохи, делегат континентальных конгрессов, один из подписавших Декларацию независимости, верховный судья штата Пенсильвания (1777 —1799) и губернатор штата (1799 —1808).
С.437
Канлифф, Маркус Фолкнер (р.1922) — английский ученый, занимается историей США, преподавал в Манчестерском (1949 — 1964) и Сассекском (с 1965) университетах. Автор книг «Литература США»
592
(1954), «Нация обретает облик. 1789—1837» (1959), «Век экспансии. 1848 —1917» (1974) и других.
Гудрич, Сэмюел Грисуолд (1793 — 1860) — писатель (псевдоним — Питер Парли), автор «Рассказов об Америке» для детей (1827), впоследствии консул в Париже (1851 —1853).
С.440
Морисон, Сэмюел Элиот (1887 — 1976) — историк, преподаватель Гарвардского (с 1915), а также Оксфордского (1922 —1925) университетов, автор нескольких книг об американской истории.
С.441
Стори, Джозеф (1779 — 1845) — юрист и политик, конгрессмен (1808 —1809), член Верховного суда США (1811 —1845).
С.445
Леонид — царь Спарты в 488 — 480 гг. до н.э., командовал союзным греческим войском в битве при Фермопилах, где его отряд из 300 спартанцев и 700 феспийцев до конца защищал проход, сражаясь с огромным войском царя персов Ксеркса.
С.447
Данлеп, Уильям (1766 — 1839) — художник, драматург, автор многих биографических и исторических книг, в числе которых «История возникновения и развития изобразительного искусства в США» (1834).
Сэвидж, Эдвард (1761 —1817)—художник-график, известен его портрет Дж.Вашингтона (1789 —1790).
Дю Симитъер, Пьер Эжен (Y136 — 1784) — женевский художник, перебрался в США.
Гудон, Жан Антуан (1741 — 1828) — французский скульптор, автор скульптурных портретов Ж.Ж. Руссо, Вольтера, Б. Франклина и Дж. Вашингтона.
Черакки, Джузеппе (1751 или 1760 —1801) — корсиканский скульптор и революционер.
Рамсей, Аллан (1713 —1784) — шотландский художник, с 1756 г. жил в Лондоне, где прослыл лучшим мастером женского портрета.
Рейнолдс, Джошуа (1723 — 1792) — английский художник, которого на родине считают величайшим национальным портретистом, президент королевской Академии искусств с ее основания в 1769 г.
Ромни, Джордж (1734 —1802) — английский живописец, соревновался в искусстве портрета с Дж.Рейнолдсом.
Гейнсборо, Томас (1727 —1788)—английский художник, выдающийся портретист.
593
С.449
Пауэрс, Хайрам (1805 — 1873) — американский скульптор, с 1834 г. жил в Вашингтоне, изваял более полутора сотен бюстов политических и общественных деятелей того времени. Его «Греческая рабыня» (1843), вероятно, самая знаменитая скульптура тех лет.
С.453
Тристрам — герой романа английского писателя — основателя сентиментализма Лоренса Стерна (1713 —1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена*.
Ботта, Карло Джузеппе Гуильельмо (1766 — 1837) — итальянский историк, участник наполеоновских походов, жил во Франции, занимал пост ректора Руанского университета, автор «Истории Войны за независимость в США» (англ. пер. 1820, где и дано ему имя Чарлз).
Полибий (ок. 200 — 120 до н.э.) — древнегреческий историк, автор «Всемирной истории» в 40 книгах (полностью сохранилось только пять первых), где он, описывая путь римлян к мировому господству, большое внимание уделял великим личностям, а также природным условиям и судьбе как движущим историю силам.
С.455
Исайя и Иезекиил—ветхозаветные пророки.
Найлс, Иезекия (1177 — 1839) — издатель и редактор еженедельника «Уикли реджистер» (1811 — 1836), выступал за единство штатов и промышленное развитие страны.
Тэчер, Джеймс (1754 — 1844) — врач; участник, а позднее и историк Американской революции.
Адамс, Сэмюел (1722 —1803) — один из организаторов освободительной борьбы английских колонистов в Северной Америке, руководитель организации «Сыны свободы», основатель корреспондентских комитетов в Бостоне—прародителей местной революционной власти, вице-губернатор штата Массачусетс (1789 — 1794), с 1797 г. — губернатор.
Мэйхью, Джонатан (1720 — 1766) — священник и публицист в колониальном Бостоне, его обычно называют «предвестником Американской революции».
Кушинг, Уильям (1732 — 1810) — юрист, главный судья Массачусетса революционной поры (1777 — 1789), первый член Верховного суда США.
С. 456
Уоррен, Джеймс (1726 —1808)—торговец; организатор корреспондентских комитетов, друг и советчик Джона и Сэмюела Адамсов, президент конгресса штата Массачусетс.
594
С.458
Адамс, Чарлз Фрэнсис (1835 — 1915) — внук Дж.К.Адамса, железнодорожный инженер и историк, автор книг по истории Новой Англии и биографий своих предков.
Тикнор, Джордж (1791 — 1871) — профессор Гарвардского университета (1819 —1835).
С.460
Ван Тассел, Дейвид Дирк (р. 1928) — историк, профессор Техасского университета (1954 —1980), автор исследований о развитии науки и интеллектуальной мысли в Америке.
С. 461
Пинтард, Джон (Y159 — 1844) — торговец и филантроп, президент нью-йоркского сберегательного банка (1828 —1841).
С.462
Мёрфи, Арчибалд Дебоу (1777? — 1832) — юрист и законодатель из Северной Каролины, предложил один из первых планов общественного образования в США (1817).
С.463
Сандерсон, Джон (1783 — 1844) — преподаватель из Филадельфии, вместе со своим братом создал первые два тома «Биографий политиков, подписавших Декларацию независимости» (1820—книга закончена Робертом Уолпом в 1823 —1827 гг.).
С. 464
Оглторп, Джеймс Эдвард (1696 —1785) — английский военный и филантроп, основатель колонии Джорджия в Северной Америке (с 1733), член британского парламента (1722 —1754).
Сражение при Лексингтоне — одно из самых первых сражений Войны за независимость, произошло 19 апреля 1775 г. в колонии Массачусетс, когда добровольческие отряды в Лексингтоне и Конкорде, предупрежденные гонцами, с оружием в руках встретили британское войско, направленное туда из Бостона по приказу английского генерала Гейджа. В стычке при Лексингтоне погибли 8 и были ранены 9 человек. В Конкорде добровольцы сумели даже обратить в бегство британских солдат. Под воздействием этих событий в колониях была срочно проведена мобилизация новых отрядов милиции и многочисленные отряды волонтеров начали партизанскую борьбу против английской армии.
Арнолд, Бенедикт (1741 — 1801) — один из организаторов народной милиции во время Американской революции, генерал революционной армии, перешел на сторону англичан в 1777 г.
595
С.465
Таккер, Сент-Джордж (1752 —1827) — судья, участник Войны за независимость из Виргинии, профессор колледжа Уильяма и Мэри, автор нескольких книг по юриспруденции.
Крейвен, Уэсли Фрэнк (1905 — 1981) — историк, преподавал в Нью-Йоркском (1928 —1950) и Принстонском (1950 —1964) университетах, занимался ранней американской историей—жизнью колоний в ХУЛ — начале ХУШ в.
С.466
Холмс, Абиэл (1763 —1837) — священник из Кембриджа, отец известного американского писателя Оливера Уэнделла Холмса (1809 — 1894) и автор «Американских летописей» (1805) — одной из первых серьезных попыток изучения истории Америки по документам.
С.468
Кювье, Жорж (1769 —1832) — французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и системологии животных, занимал ряд государственных должностей при Наполеоне I, а также во время Реставрации и Июльской монархии, с 1820 г. — барон, с 1831 г. — пэр Франции.
Гуиччиоли, Тереза, урожденная графиня Гамба-Гизелли, графиня и маркиза ди Буасси (1800 —1873) — возлюбленная английского поэта Байрона.
Хеерен, Арнолд Герман Людвиг (1760 — 1842) — немецкий историк, один из пионеров экономической интерпретации истории, профессор Геттингенского университета (1787 — 1842), автор книг о государственной системе европейских стран.
С.471
Полк, Джеймс Нокс (1795 — 1849) — 11-й президент США (1844 — 1849); член палаты представителей (1825 — 1839), где считался лидером сторонников администрации Э.Джексона и был спикером *(1835 —1839), губернатор штата Теннесси (1839 —1844). После того как президент М.Ван-Бюрен в апреле 1844 г. выступил против аннексии Техаса и утратил шансы на победу в выборах, «темная лошадка» Полк неожиданно стал президентом, выдвинув планы освоения Калифорнии, урегулирования Орегонской проблемы, а также уменьшения тарифов и государственных расходов.
Ранке, Леопольд фон (Y195 — 1886) — немецкий историк, профессор Берлинского университета, автор «Мировой истории» в 16 томах (1884 —1888), писал о США.
Джонсон, Эндрю (1808 — 1875) — 17-й президент США (1865 —1868); самоучка, стал известным оратором и политиком в штате Теннесси (1843 —1853), губернатором (1853 —1857), а затем сенатором США (1857 — 1862), сторонник северян, был назначен А.Линкольном военным губернатором Теннесси в 1862 г., проводил на Юге политику
596
Реконструкции и освобождения рабов, в 1864 г. стал вице-президентом, а в апреле 1865 г. после убийства Линкольна — президентом страны. Несмотря на попытку импичмента (1868), отбыл президентский срок до конца. Впоследствии трижды пытался стать сенатором, но был избран лишь перед самой смертью в 1875 г.
Гаррисон, Бенджамин (1833 — 1901) — 23-й президент США (1889 — 1893), внук президента У.Г. Гаррисона, сын конгрессмена, юрист и военный, участник Гражданской войны, дослужился до чина бригадного генерала армии северян (1865), позднее — судья и деятель республиканской партии, сенатор (1881 —1887).
С. 472
Хилдрет, Ричард (1807 —1865) — историк и писатель, редактор ♦Бостон дейли атлас» (1832 — 1838), автор нескольких исследований о банковской и денежной системе, романа ♦Раб» (1836), а также ♦Истории США после 1844 года» в 6 томах.
Таккер, Джордж (1775 — 1861) — политический экономист и юрист, конгрессмен (1819 —1825), автор многих работ по теории цен и денежного обращения, биографии Т.Джефферсона (1837) и 4-томной ♦Истории США».
С.473
Хопкинсон, Фрэнсис (1737 —1791) — государственный деятель, музыкант, композитор и поэт, эссеист, делегат континентального конгресса (1776), председатель военно-морского департамента (1776 — 1778), казначей (1778 —1781) молодой республики, а также создатель официальной ее печати и флага (1777), позднее—судья адмиралтейства (1779—1789).
Бетси Росс (1752 — 1838) — швея; по широко распространенной в США легенде, именно она сшила первый флаг нового государства.
С.474
Тафт, Уильям Говард (1857 — 1930) — 27-й президент США (1909 — 1913), до этого — заместитель министра юстиции (1890 — 1892), первый гражданский губернатор Филиппин (1901 —1904), военный министр в правительстве Т.Рузвельта (1904 — 1908). После отставки стал профессором права в Йейлском университете, а потом Верховным судьей США (1921 —1930).
Хопкинсон, Джозеф (1770 —1842) — юрист, сын Фрэнсиса Хопкинсо-на (см. с. 473).
С.475
День рождения Вашингтона — 22 февраля (1732).
День поминовения — 30 мая, празднуется с 1868 г. в память о павших солдатах.
597
День труда—первый понедельник сентября, установлен в 1884 г., стал официальным выходным днем в стране с 1894 г.
День ветеранов, или День примирения — впервые этот день в США отметили 5 ноября 1921 года в годовщину окончания первой мировой войны, когда тело неизвестного солдата было привезено из Франции и похоронено на Арлингтонском национальном военном кладбище. С1969 г. отмечается 11 ноября.
День благодарения — отмечается в четвертый четверг ноября. Впервые был отпразднован в декабре 1621 г. колонистами Новой Англии в знак благодарности Богу за дары на новой земле; в 1789 г. президент Вашингтон предложил праздновать его в последний четверг ноября, однако национальным праздником он стал только с 1863 г. по инициативе президента А.Линкольна. Почти в каждой семье в этот день устраивается торжественный обед: неизменная индейка, брусничное варенье и сладкий тыквенный пирог.
День древонасаждения — обычно отмечается 22 апреля, хотя вначале его устроили 10 апреля в 1872 г. в штате Небраска (где он стал выходным днем с 1909 г.) по инициативе члена сельскохозяйственного управления Дж.Стерлинга Мортона, который предложил давать премии организациям и людям, посадившим наибольшее количество деревьев. Ему воздвигли памятник, а праздник приурочили ко дню его рождения. Другие штаты этот праздник отмечают в разное время, в Калифорнии, например, День древонасаждения установлен в честь знаменитого селекционера Лютера Бербанка (1849 — 1926).
День рождения Роберта Эдварда Ли, главнокомандующего армией южан в Гражданской войне, —19 января, с 1889 г. официальный выходной в южных штатах.
День рождения Авраама Линкольна (1809 — 1865) — 12 февраля, впервые отмечен еще в 1866 г., с тех пор его празднуют почти все штаты страны.
День независимости Техаса — 2 марта (1836) — официальный праздник штата.
День битвы при Банкер-Хилле —17 июня (см. комм, к с. 27).
День Колумба — второй понедельник октября, впервые отмечен 12 октября 1792 г. жителями Нью-Йорка в честь высадки Колумба в Новом Свете.
День рождения Натана Бедфорда Форреста (1821 —1877), генерала армии конфедератов, —13 июля.
С. 476
День рождения Эндрю Джексона —15 марта.
День рождения Томаса Джефферсона —13 апреля.
День битвы при Беннингтоне —16 августа; в этот день в 1777 г. американцы одержали победу над британскими войсками в юго-западном Вермонте.
598
День рождения Хью Пирса Лонга (1893 — 1935), политика и губернатора Луизианы, — 30 августа.
День Пуласки, Казимиржа (1747 — 1779), польского графа, сражавшегося против царских войск в России, затем солдата революционной американской армии, героически погибшего при осаде Саванны, — 11 октября.
День поминовения конфедератов — 26 апреля, официальный праздник штата Миссисипи (с 1865), а также Алабамы, Джорджии и Флориды.
День Уилла Роджерса, выдающегося комика и популярнейшего актера Америки своего времени, ведущего радиопередач и журналиста, погибшего в авиакатастрофе 15 августа 1935 г., — 4 ноября.
День генерала Дугласа Макартура (1880 — 1964), главнокомандующего вооруженными силами США на Дальнем Востоке во второй мировой войне и после нее,—26 января.
День флага — 14 июня. В этот день в 1777 г. конгресс США утвердил национальный флаг: 13 полос красного и белого цвета и 13 звезд на голубом фоне. В первый раз праздновался в 1877 г.
День всех святых — 1 ноября, начало года по древнему кельтскому календарю.
Стронг, Джордж Темплтон (1820 — 1875) — автор весьма любопытного дневника, описывающего жизнь в Нью-Йорке с 1835 по 1875 г. (издан в 1952).
Питт, Уильям, младший (1759 — 1806) — английский государственный деятель, которого многие историки считают самым выдающимся премьер-министром в истории страны (1783 — 1801 и 1804 — 1806), инициатор активной политики в Европе и мире, развязывания русско-турецкой (1787 — 1791) и русско-шведской (1788 — 1790) войн, один из главных организаторов коалиций против революционной и наполеоновской Франции.
Фокс, Чарлз Джеймс (1749 — 1806) — английский политический и государственный деятель, в 1782 — 1783 и 1806 гг. входил в правительство; один из главных оппонентов У.Питга; выступал против войны с колонистами Северной Америки, сочувственно встретил начало Великой французской революции и противился войне с Францией.
С.477
Кент, Джеймс (1763 — 1847) — юрист и правовед, профессор Колумбийского университета.
Паркмен, Фрэнсис (1823 — 1893) — историк освоения Нового Света, особенно Дальнего Запада—Калифорнии и Орегона.
Аппоматокс — местечко, у которого состоялась капитуляция южан 9 апреля 1865 г., положившая конец Гражданской войне.
С.478
Ли, Ричард Генри (1732 — 1794) — юрист и государственный деятель периода Американской революции, делегат первого континенталь
599
ного конгресса и организатор правительства Виргинии, сторонник независимости, сенатор США (1789 —1792).
Гаррисон, Бенджамин (1726 —1791) — государственный деятель Американской революции, делегат континентальных конгрессов (1774 —1777), губернатор Виргинии (1781 —1784).
Томпсон, Чарлз (1729 — 1824) — педагог и торговец, секретарь континентальных конгрессов в 1774 —1789 гг.
Дикинсон, Джон (1732 — 1808) — государственный деятель и публицист Американской революции, был избран в органы управления Делавэра еще в 1760 г., выпускал памфлеты против английских властей, организовывал корреспондентские комитеты в 1774 г., был делегатом континентальных конгрессов (1774 — 1775), голосовал против Декларации независимости.
С.480
Торнтон, Мэтью (1714 — 1803) — врач и революционный деятель, был председателем конгресса Нью-Гэмпшира и делегатом континентальных конгрессов (1776 —1777).
Клаймер, Джордж (1739 — 1813) — купец из Пенсильвании, делегат континентальных конгрессов (1776 — 1777,1780 — 1782), впоследствии конгрессмен (1789 —1791).
Тейлор, Джордж (1716 — 1781) — ирландец, перебрался в Пенсильванию в 1736 г., где стал судьей, делегатом провинциальной ассамблеи, участником Революции.
Рид, Джордж (YT& —1798) — юрист, делегат провинциальной ассамблеи Делавэра (1765 — 1777), делегат конституционного конвента (1787), сенатор США (1789 — 1793), верховный судья штата Делавэр (1793 —1798).
С. 481
Колокол свободы — отлит в Англии, при первом же испытании треснул, а совсем испортился, когда 8 июля 1835 г. в него звонили, возвещая о смерти Верховного судьи Джона Маршалла.
С.484
Лоссинг, Бенсон (а не Бенджамин) Джон (1813 —1891) — график, автор и издатель популярных книг об американской истории.
С.486
Самсон — иудейский герой, о его жизни и подвигах рассказывается в Ветхом завете (кн. Судей, ХШ—XVI); среди его подвигов был и такой: когда филистимляне связали его, он, объятый Духом Божьим, разорвал свои узы и перебил тысячу воинов попавшейся ему под руку ослиной челюстью.
Пинкни, Уильям (VKA — 1822) — юрист и дипломат, посол в Великобритании (1806 — 1811), министр юстиции (1811 — 1814), конгресс
600
мен (1815 — 1816), посол в России (1816 — 1818), сенатор США (1819 — 1922).
С.488
Пейн, Томас (1737 — 1809) — публицист, философ-просветитель, активный участник революционного движения в Америке, Англии и Франции. Сын английского ремесленника, сменив несколько профессий, он в возрасте 37 лет с рекомендациями Б. Франклина прибыл в Филадельфию, где в январе 1775 г. стал редактором журнала «Пенсильвания мэгэзин». В январе 1776 г. анонимно выпустил свой знаменитый памфлет «Здравый смысл», провозгласивший необходимость отделения и независимости американских колоний от британской метрополии. Находясь в рядах революционной армии Дж. Вашингтона, Пейн создал целый ряд памфлетов под общим названием «Американский кризис» (1776 — 1783). Эти произведения обеспечили Пейну необычайную популярность; он был назначен секретарем комитета конгресса по иностранным делам (1777 — 1779), однако радикализм его выступлений против социального и расового неравенства, за введение всеобщего избирательного права и установление демократической системы народного образования привел к отстранению его от участия в работе конституционного конвента 1787 г. Тогда Пейн отправился в Европу с моделью спроектированного им железного моста. В 1789 г. он участвовал в составлении французской «Декларации прав человека и гражданина», в своем трактате «Права человека» (1791 — 1792) защищал Французскую революцию, споря с Э.Берком. Был избран делегатом Национального конвента Франции. Крайностей якобинского террора не принял и был арестован в декабре 1793 г., лишь случайно избежав гильотины. В заключении написал антирелигиозный памфлет «Век разума» (1794 — 1795), который снискал ему небезопасную в Америке славу безбожника. Кроме того, Пейн обратился к президенту Вашингтону с открытым письмом, где резко критиковал его политику. В США Пейна всегда числили среди отцов-основателей государства, многие его идеи получили распространение, а выражения стали крылатыми, однако отношение к нему оставалось двойственным.
Бентли, Уильям (V159 — 1819) — священник в г.Сейлеме, один из основателей унитарианства в Новой Англии, в политике—сторонник джефферсоновских республиканцев, оставил после себя дневник 1784 — 1819 гг. (опубликован в 1905 — 1914), где запечатлена уникальная картина новоанглийского порта в первые годы нового государства.
Константинов дар — подложная грамота, созданная в папской канцелярии в середине УШ в., по которой римский император Константин (ок. 285 — 337, правил с 306) якобы передал папе Сильвестру I верховную власть над западной частью Римской империи, в том числе и над Италией. Итальянский гуманист Лоренцо Валла в XV в. доказал подлог.
601
С.489
Кэрролл, Чарлз (1736 — 1832) — один из лидеров Революции, подписал Декларацию независимости. Изучал право в Лондоне, в Мэриленд приехал в 1765 г., с 1773 г. занялся политикой, организовывал корреспондентские комитеты и комитеты безопасности, ездил в Канаду искать союза с тамошними колонистами, был делегатом континентальных конгрессов (1776 — 1778), сенатором от Мэриленда (1789 — 1792), а затем директором железных дорог Балтимора и Огайо.
С.492
Партон, Джеймс (1822 — 1891) — журналист и редактор, автор тщательно документированных и основательных биографий Гораса Грили (1855), Аарона Бэрра (1857), Эндрю Джексона (1859 —1860) и других деятелей американской истории.
С.495
Джерри, Элбридж (1744 — 1814) — торговец и государственный деятель Американской революции, участник корреспондентских комитетов и комитетов безопасности в Массачусетсе, делегат второго континентального конгресса, очень рано стал сторонником независимости от Великобритании, один из подписавших Декларацию независимости. Организатор американской армии, занимался ее снабжением; был американским уполномоченным на переговорах во Франции (1797 — 1798), впоследствии был избран губернатором Массачусетса (1810—1812) и вице-президентом США (1812), но по здоровью не смог исполнять обязанности.
С.499
Маклафлин, Эндрю Каннингхэм (1861 —1947)—историк, преподавал в Мичиганском (1886 —1906) и в Чикагском университетах (1906 — 1929), автор многих исследований по истории США, в частности «Истории американского народа» (1899, 2-е изд. — 1913), которая служила университетским учебником.
С.500
Мейтленд, Джеймс, граф Ландердейл (Y15& — 1839) — английский политик и ученый, автор «Исследования о природе и источниках общественного богатства» (1804).
Джонсон, Сэмюел (1709 — 1784) — английский писатель, лексикограф, влиятельный критик, автор «Словаря английского языка» (1755), «Жизнеописаний наиболее выдающихся английских поэтов» (1779 —1781) и др. произведений.
0501
Хатчинсон, Томас (1711 — 1780) — торговец и колониальный чиновник в Массачусетсе; вице-губернатор (1758 —1760), главный судья
602
(1760 — 1768) и губернатор колонии (1769 —1774); с началом революционных брожений просил британское правительство принять более строгие меры к колонистам; поспешил уехать в Англию в 1774 г. Автор «Истории колонии Массачусетского залива» (1764).
С.508
Эллсворт, Оливер (Y145 —1807) — государственный деятель революционного и послереволюционного периода, сенатор США (1789 — 1796), составил первый свод сенатских правил, Верховный судья страны (1796 —1801, отказался от поста), возглавлял посольство во Францию (1799—1801).
С. 509
Джоунз, Хью — Ylfty — англиканский священник, математик и историк, приехал в Виргинию в 1716 г., преподавал в колледже Уильяма и Мэри, написал книгу «Современное состояние Виргинии» (1724).
Лоудоун, Кэмпбелл, Джон, граф Л. (1705 —1782) — английский военный, главнокомандующий британскими войсками в Америке в 1756 —1758 гг.
С.510
Славная революция 1688 —1689 гг. — принятое в Англии название государственного переворота, в результате которого был смещен Яков П Стюарт и провозглашен британским королем Вильгельм Ш Оранский, а также были ограничены права монарха и укрепилась власть парламента.
С.515
Палмер, Роберт Росуэлл (р. 1909) — историк, преподавал в Принстонском (1936 — 1963, 1966 — 1977) и Вашингтонском университетах (1963 — 1966), соавтор «Истории современного мира» (1956), удостоенной премии Бэнкрофта, автор двухтомной книги «Век демократических революций» (1959,1964).
С.517
Боудоин, Джеймс (1726 — 1790) — купец и государственный деятель из Бостона, где был судьей; тубернатор штата Массачусетс (1785 —1787), первый президент Американской академии искусств и наук.
Кэбот, Джордж (Y152 —1823) — купец и политик, занимался морской торговлей, был одним из советников А. Гамильтона, сенатором США (1791 —1796).
Лоуэлл, Джон (1743 —1802) — судья из Массачусетса.
603
Пейн, Роберт Трит (1731 — 1814) — юрист из Массачусетса, делегат континентальных конгрессов (1774 — 1776), подписал Декларацию независимости, впоследствии занимал различные посты в администрации штата, федералист.
Парсонс, Теофилиус (1750 —1813) — юрист из Массачусетса, один из руководителей партии федералистов в штате, главный судья штата (1806—1813).
0519
Сидней, (Элджернон (1622 —1683) — английский государственный деятель и дипломат, автор «Рассуждения касательно правительства» (опубликовано в 1698).
Мобли, Габриэль Бонно де (1709 —1785) — французский священник и дипломат, политический мыслитель и историк, в своих трудах развивал теории общественного договора и естественного права, с точки зрения которых верховным носителем власти является народ, за ним право изменять форму и существо правления посредством революции или гражданской войны.
С.522
Гроций, Гуго (1583 — 1645) — голландский юрист, которого называют отцом современного международного права, автор трактата «О законах войны и мира» (1625), где доктрина естественного права была применена к отношениям между странами, на них распространялись универсальные, разумные и неизменные обязанности и запреты из отношений индивидов.
Пуфендорф, Сэмюел (1632 — 1694) — немецкий ученый-просветитель, преподавал в университетах Западной Европы, где распространял идеи Г. Гроция и Т. Гоббса; хотя и считал правомерным существование крепостного права и абсолютизма, развивал в своих трудах теорию естественного права, например «О законах природы и народов» (1672).
Бурламаки, Жан Жак (1694 — 1748) — швейцарский публицист, профессор этики и естественного права Женевского университета, член городского совета, его книга «Принципы естественного права» (1747) выдержала множество переизданий.
Ваттель, Эмерих де (1714 —1767) — швейцарский юрист, специалист по международному праву. Известностью пользовалась его книга «Законы народов. Принципы естественного права, использованные в сношениях и делах народов и держав» (1758), почти сразу же переведенная на английский язык. Его концепция союза — содружества народов, которые соблюдают естественные права, принятые и в отношениях между личностями, его принципы свободы и равенства людей и народов, защита нейтралитета — все это сформировало политику Швейцарии и повлияло на идеи Американской революции.
604
С.523
Рэндолф, Эдмунд (1753 — 1813) — юрист и государственный деятель из Виргинии, в 1775 г. недолго был адъютантом ДжВашингтона, занимал судейские посты в своем штате, был делегатом континентальных конгрессов (1779 —1782), губернатором Виргинии (1786 — 1788), автор «Письма о федеральной конституции» и делегат конституционного конвента (1787), первый министр юстиции страны (1789 —1793), государственный секретарь (1794 — 1795), держался вне партийных разногласий, однако выступил против договора Джея (см. с.429).
Барлоу, Джоэл (Y154 — 1812) — дипломат и поэт, в своих поэмах пытавшийся создать национальный эпос, прославляющий не столько прошлое, сколько грядущий расцвет свободной Америки в науке, в искусстве и в литературе: «Видение мира» (1778), «Видение Колумба» (1787) и обширная «Колумбиада» (1807). Семнадцать лет (1788 — 1805) провел в Англии и Франции, где познакомился и сблизился с революционно настроенными мыслителями У.Годви-ном и Т.Пейном, написал ряд политических сатир и памфлетов, за что был удостоен почетного звания гражданина Франции (1793). В 1812 г. он прибыл в войско Наполеона в России с личной миссией президента США, заболел и умер в деревушке неподалеку от Кракова.
С. 525
Гамильтон, Уолтон Хейл (1881 — 1958) — правовед и специалист в области экономики, преподавал в различных университетах и колледжах страны, в том числе в Амхерсте (1915 — 1923) и Йейле (1928 —1948); в 1938 —1945 гг. — специальный помощник министра юстиции, автор многих работ по вопросам цен и ценообразования.
С.526
Пристли, Джозеф (1733 — 1804) — английский физик и священник-унитарий, после того как в отместку за его симпатии к Французской революции сожгли его дом, библиотеку и лабораторию, перебрался в США (1794), где вскоре познакомился с Т.Джефферсоном (1797), который советовался с ним, и прежде всего по поводу проекта Виргинского университета.
С.527
Хукер, Томас (1586 — 1647) — английский священник, один из первых поселенцев в Бостоне (1633), откуда его и других последователей Энн Хатчинсон выслали как еретиков в Хартфорд.
Балтимор, Калверт, Джордж, лорд (1580 — 1632) — английский аристократ и государственный деятель, министр (1619 — 1625), автор проекта колонии Мэриленд в Америке; король Карл I подарил ему обширные территории там, где сейчас находится Виргиния. Его сын — Сесил Калверт, второй лорд Балтимор, был пожалован в
605
1632 г. королевской хартией на владение незаселенной еще северной частью Виргинии. Новую колонию в честь жены короля назвали Мэриленд, она именовалась «провинцией», и лорд Балтимор был ее собственником-феодалом. С весны 1634 г., когда на берег высадились переселенцы под руководством брата лорда Леонарда Калверта, началось освоение земли, где в основном сажали табак. Впоследствии губернатором (1661 — 1675) и владельцем (1675 — 1715) Мэриленда стал третий лорд Балтимор, Чарлз Калверт (1637—1715).
Пенн, Уильям (1644 —1718) — сын английского адмирала, завоевавшего для британской короны Ямайку, королевского фаворита и кредитора; стал приверженцем секты квакеров, которые не признавали ни канонических форм церковной организации и богослужения, ни большинства государственных институтов, в том числе и службу в армии; подвергся преследованиям вместе со своей сектой. Возмещая долг семье адмирала, король пожаловал У.Пенну землю, где тот в 1682 г. организовал колонию, получившую название Пенсильвания.
С.532
Уокер, Тймоти (1802—1856) — юрист из Огайо, в Цинциннати с 1831 г.
Брайс, Джеймс, виконт (1838 — 1922) — английский юрист, государственный деятель, историк, преподавал право в университетах Глазго (1868 — 1874) и Оксфорда (1870 — 1893), путешествовал по России и Кавказу (1876), о чем написал путевые заметки, трижды побывал в США (1870,1881,1883) и опубликовал книгу «Американское содружество» (1888), где обрисовал «всю политическую систему страны, как в теории, так и на практике»; ее высоко оценили в США Впоследствии Д.Брайс стал послом в США (1906 —1913).
С.538
Вильсон, Томас Вудро (1856 — 1924) — 28-й президент США (1913 — 1921) от демократической партии, один из политических деятелей, оказавших значительное воздействие на умы американцев и определивших ход мировой истории в XX веке. До своего избрания около 25 лет преподавал в ведущих университетах страны, был профессором истории и права и президентом Принстонского университета, губернатором штата Нью-Джерси (1910 —1912). Провел ряд либеральных законов, обеспечивающих свободу личности и конкуренции при ограничениях на крупные монополии, был сторонником государственного регулирования социальных отношений, охраны природных ресурсов. Был инициатором вступления США в первую мировую войну, противником большевизма, глубокие социальные корни которого он видел в «систематическом лишении громадного большинства русских людей тех прав и свобод, которых жаждут все нормальные люди». В январе 1918 г. выдвинул программу мира, известную под названием «Четырнадцать пунк
606
тов», включающих отмену всех тайных соглашений между государствами, свободу мореплавания и торговли, сокращение вооружений, справедливое национально-государственное устройство Бельгии, Эльзас-Лотарингии, Польши, бывшей Австро-Венгрии, а также Италии и Турции и, наконец, организацию Союза наций, который стал бы гарантом независимости и целостности всех государств и прочного мира.
Павел Балдицын
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Адамс Абигайл 466
Адамс Генри 300,329,330
Адамс Джон 15, 46, 394, 395, 396, 398, 400,430,433,434,454,455,456,458, 466,478,479,480,481,483,484,485, 486,487,488,489,493,503,504,507, 509, 510, 514, 517, 519, 520, 521, 525
Адамс Джон Куинси 245,346,348,445, 489,491
Адамс Сэмюел 455,456,517,519
Адамсы 13
Аддисон Джозеф 356,419
Аллен Ричард 254
Альфонсо Мудрый 260
Антонины 50
Аристотель 402
Аркрайт Ричард 39,40,150
Арнолд Бенедикт 464
Арнолд Мэтью 394
Арнолд Филип 299,300
Астор Джон Джейкоб 82,290,345
Байнум Тернер 279
Байрон Джордж 468
Балтимор Чарлз Калверт 527
Банвард Джон 302,303,304
Банн Алфред 138
Барлоу Джоэл 523
Барнард Генри 61
Барнард Фредерик 202
Барнум Дейвид 177
Бартлетт Джон Расселл 353, 354, 367
Бартлсон Джон 78,90,94
Батлер Чарлз 152
Бах Бенджамин 429
Беверидж Алберт 431
Бейкон Натаниел 121
Бекнелл Уильям 73
Белкнап Джереми 460,463
Бенджамин Джудас 268,269
Бенджамин Парк 406
Бентем Джереми 44,51
Бентем Сэмюел 44
Бентли Гаролд 368
Бентли Уильям 488
Бентон Томас Харт 98, 268, 289, 297, 330,345,397,409,474
Берк Эдмунд 376,394,465,504
Биглоу Джейкоб 30
Биддл Николас 185
Биддл Чарлз 481
Бидуэлл Джон 288
Биллингс Джош 283,349,412,427
Биркбек Морис 378
Бирштадт Алберт 307
Бичер Лиман 406,407,408
Блоджет Сэмюел 181
Блэкстоун Уильям 51, 52, 224, 512, 522
Боден Жан 500
Бодмер Карл 307
Болдуин Джозеф 360
Боргезе Полина 468
Ботта Карл 453
Боуд Карл 402,405
Боу дойн Джеймс 517
Брайент Гридли 27,28
Брайент Уильям Каллен 305
Брайере Уильям 170
Брайс Джеймс 532,538,542
Бранел Изамбар 44
Браун Алберт 376
Браун Джордж: 169
Браун Мозес 40,41
Браун Чарлз Брокден 346,411
Брауны 33
Брек Сэмюел 142
608
Бремер Фредерика 255
Бриджер Джим 82,290,291
Бриджмен Лора 63
Бристед Чарлз Астор 364
Брут 395
Брэддок Эдвард 333,436
Брэдфорд Джон 165,166
Брэдфорд Уильям 249
Брэкенри дж Генри 159,161
Брэкенридж Хью Генри 164,414
Букет Генри 314
Булфинч Чарлз 27,28,444,460
Бун Дэниел 70,82,418
Бурламаки Жан Жак 522
Бьюкенен Джеймс 86,275
Бэкон Френсис 19
Бэнкрофт Аарон 467
Бэнкрофт Джордж 51, 440, 467, 468, 469,470,472,491
Бэрр Аарон 52,268,526
Бэррон Джеймс 268
Ван-Бюрен Мартин 152,183,367,471
Ван Тассел Дейвид 460
Ван Хорн Роберт Томпсон 171,172,173
Ватгель Эмерих де 522
Вашингтон Башрод 433,438,439
Вашингтон Джон Огастас 445
Вашингтон Джордж 19, 210, 229, 272, 277,311,385,400,427,428,429,430 — 450,452,463,486,491,509
Вашингтон Марта 443
Вашингтон Мэри 437,447
Веррацано Джиованни 287
Веси Денмарк 238,251
Вийон Франсуа 431
Вильгельм Завоеватель 495
Вильсон Томас Вудро 399,538
Витт Клинтон де 325
Вото Бернард де 292
Вудбери Леви 52
Вудрафф Уилфорд 87
Вэнс Джозеф 269
Галлатин Алберт 288,322,345,468
Гама Васко да 70
Гамильтон Александр 40,41,268,525
Гамильтон Джеймс 268,271
Гамильтон Томас 188
Гамильтон Уолтон 525
Гаррисон Бенджамин 471,478
Гаррисон Джозеф 140
Гаррисон Уильям Ллойд 238, 275, 406
Гейнсборо Томас 447
Генри Патрик 395, 399, 409, 452, 453, 454,455,456,457,463,464,465,520, 525
Генри Эндрю 81
Генрих1496
ГенрихП496
Генрих УШ 198
Георг II328
Георг Ш 395,454
Герстнер Франц Антон 130
Гёте Иоганн Вольфганг 468
Гетцман Уильям 291
Гизо Франсуа 154
Гилпин Уильям 297,298,299
Гладстон Уильям Юарт 394
Гласс Хью 82
Гоббс Томас 500
Говард Джейкоб 389
Голдсмит Оливер 123,419
Голло дет Томас 63
Гордон Уильям 466
Готорн Натаниел 450
Грант Улисс Симпсон 332,334,471
Грасс Франсуа де 267
Грегг Джосайя 73, 74, 78, 120, 295, 490
Грегг Уильям 229,230,231,232
Грей Томас 239
Григгс С. 212
Грили Горас 406
Гримке Агнелина 275
Грин Дафф 245
Грин Джеймс 386,432
Гриннелл Джосайя Бушнел 206
Гриноу Горас 390,449
Гроций Гуго 522
Грэхем Уильям 407
ГУделл Уильям 262
ГУдон Жан Антуан 447,449
609
Гудрич Картер 321,323,324
Гудрич Сэмюел 437
Гудхью Джеймс 168
Гуиннетт Баттон 268
Гуиччиоли Тереза 468
Гумбольдт Александр 288,297,468
Дайер Мэри 278
Данглисон Робли 353
Данлеп Уильям 447
Данн Филип Питер 412
Данфорт Дж. 447
Дебоу Джеймс 230,231,244
Дейн Натан 52,53
Декатур Стивен 268
Демосфен 376,399,455
Денвер Джеймс 388
Дерби, граф 198
Джанин Генри 300,301
Джанкин Джордж 203
Джей Джон 429,455
Джеймс Генри 370
Джеймс Уильям 59
Джексон Патрик Трейси 37,38
Джексон Эндрю 268,269,270,272,367, 385,409,410,417,476,492
Джексоны 13,18
Джервис Джон Блумфилд 139,140
Джерри Элбридж 495
Джефферсон Томас 12, 13, 19, 33, 44, 46, 47, 207, 229, 236,266, 277, 280, 287,289,311,312,313,315,329,334, 335,339,340,341,342,343,345,346, 361,385,398,399,429,433,446,451, 452, 454, 458, 466, 476, 479 — 489, 494,503,507,510,526,527,528,532, 538,540
Джист Кристофер 71
Джонсон Алберт Сидни 86
Джонсон Сэмюел 500
Джонсон Эндрю 471
Джордж Генри 106
Джоунз Авессалом 254
Джоунз Чарлз Колкок 251, 252, 253, 275
Джоунз Хью 509
Дизраэли Бенджамин 394
Диккенс Чарлз 42,63,137,419,420
Дикинсон Джон 478,502
Дикинсон Чарлз 269,270,272
Дикс Доротея 62
Димсдейл Томас 116,118,379
Дис Чарлз 307
Домингес Франсиско 286
Доннелли Игнатиус 166,186
Дорсон Ричард 420,426
Дрейк Дэниел 155, 156, 158, 159, 161, 233,314,392,393
Дуайт Тимоти 268
Дуглас Стивен 388,398,399
Дью Томас 244,245,246
Дьюранд Ашер 306
Елизавета 1259
Ирвинг Вашинтон 419,438,463,468
Итон Клемент 275
Камминг Уильям 269
Канлифф Маркус 437
Канова Антонио 449
Карл 1328,395,454
КарлП328
Карлайл Фредерик 267
Карр Дэбни 453
Карсон Кит 291,418
Картрайт Питер 407
Кастер Джордж 337
Касуэл Оливер 63
Катлер Манасса 71
Кейперс Уильям 252
Келли Джексон 60
Кеннеди Джон Пендлтон 228
Кент Джеймс 52,477
Ки Фрэнсис Скотт 473,474,475
Кибурн Байрон 167
Кинг Генри 163
Кинг Кларенс 300,301,302,309,329
Кирби Эфраим 52
Киркленд 468
Кирни Стивен 77,78
Клаймер Джордж 480
Клайн Глория 288
610
Кларк Дэниел 268
Кларк Уильям 70, 287, 288, 306, 329, 360,361,363,364,383,490
Клей Генри 183,187,268,269,345,397,
444,541
Клейборн Уильям 268
Кнапп Сэмюел Лоренцо 399,407
Кобб Томас 264,265
Кок Джон 276
Колдуэлл Джеймс 268
Колумб Христофор 70, 380, 385, 434, 463,475
Коронадо Франсиско Васкес де 285
Коул Томас 306
КоуксТенч39
Коутс Сандерс 185
Крауфорд Уильям 345
Крейвен Уэсли Фрэнк 465,493
Крисуэлл Илайя 361
Крокетт Дейвид (Дэви) 83, 375, 377, 411,415,416,417,418,420,421,422, 427,428,450,451,463
Кромвель Оливер 395,454
Куинси Джосайя 53,62,342
Купер Томас 244
Кушинг Уильям 455
Кьюнард Сэмюел 24
Кэбот Джордж 15,16,517
Кэботы 13,18,33
Кэлхун Джон 52,220,231,253,262,276, 281,294,334,347,349,376,397,398, 399,409
Кэри Метко 431,432,433,434,435
Кэрролл Чарлз 489
Кэтлин Джордж 306,307
Кювье Жорж 468
Лабранш Элси 279
Лайел Чарлз 201
Ланди Бенджамин 238
Лаример Уильям 156,157,158,159,160, 186,197,233
Лафайет Мари Жозеф де 267,468
Леви Леонард 56
Леонид 445
Ли 13,18,33
Ли Ричард Генри 455,478,479,481,507, 508,513
Ли Роберт 272
Ли Уильям 520
Либер Фрэнсис 277
Ливингстон Дейвид 70
Линдсли Филип 200
Линкольн Авраам 196, 398, 399, 407. 412,413,445,447,471
Линкольн Эйб 125
Липпар д Джордж 482,483,484
Лонг Стивен 293,306
Лонг Хью Пирс 476
Лонгстрит Огастес 271
Лонгфелло Генри Вордсворт 369,384
Локк Джон 487,500,519
Лоссинг Бенджамин 484
Лоудоин Кэмпбелл 509
Лоуринг Джеймс Спир 401
Лоуэлл Джеймс Расселл 360,411
Лоуэлл Джон 517
Лоуэлл Джон Эмори 42
Лоуэлл Фрэнсис Кэбот 36,38,41,42
Лоуэллы 33
Лукас Чарлз 268
Льюис Генри 304
Льюис Мэривезер 70,287,288,306,329, 360,361,363,364,383,490
Мабли Габриэль де 519
Магеллан Фернан 70
Макартур Дуглас 476
Макгаффи Уильям 396,397
Макдаффи Джордж 269,271,325
Макдейвид Рейвен 385
Маккей Александр 175
Маккензи Александр 287
Макки Джеймс 442
Маккин Томас 479
Маккормик 154
Маклафлин Эндрю 499
Маклеод Уильям Кристи 332
Макнайт Роберт 73
Максвелл Уильям 166
Манн Горас 52,61,62,403
Марбл Данфорт 427
Марриэт Фредерик 145,198
Марси Рэндолф 91,121
611
Мартин Эйб 412,427
Мартино Хэрриет 10,30,37,42,236
Маршалл Джон 209,241,433,434,437, 439,462,465,467,486
Маршалл Томас 241
Маршалл Хэмфри 268,269
Медичи 150
Мейсон Джордж 52,339
Мейтленд Джеймс 500
Мейхон, лорд 442
Мелвилл Герман 406
Менкен Генри 365,366,370,385
Мередит Джордж 420
Меррей Уильям 218
Меткалф Томас 269,271
Мёрфи Арчибалд Дебоу 462
Миллер Алфред Джейкоб 307
Мильтон Джон 351
Минуит Питер 331
Митчелл Джон 328
Монро Джеймс 19, 199, 277, 294, 311, 324,334,343,345,346,487,489
Монтгомери Роберт 313
Монтескье Шарль Луи 525,526,527
Моран Томас 307
Морз Джеди диа 334,437
Морилл 87,212
Моррисон Сэмюел Элиот 440
Моррис Гувернер 338,341,523
МуудиПолЗб
Мэдисон Джеймс 51,199,236,240,277, 345,452,459,489,510,523,526,528, 538
Мэйхью Джонатан 455
Мэнсфилд Уильям Мэррей 260
Найлс Иезекия 455
Наполеон Бонапарт 50, 208, 210, 267, 329,446,495,528
Николс Томас Лоу 372
Ница Маркос де 285
Норт Силах 47
Норт Симеон 47
Нортон Эндрюс 443,468
Огден Питер Скин 288,291
Огден Уильям 151, 152, 153, 154, 155, 158,160,233
Оги Сэмюел 296
Оглторп Джеймс 464
Одюбон Джон Джеймс 302
Олми Уильям 40
Олмстед Фредерик Ло 255,272,274
Олстон Вашингтон 20
О’Нил Джон Белтон 264
О’Салливен Джон 349
Отис Джеймс 394, 395, 399, 409, 455,456, 457,458,460,463, 464, 466
Пайк Зебулон 70,288,292,385
Палмер Роберт 515,534
Паркер Айзек 55
Паркер Теодор 406
Паркмен Фрэнсис 442,477
Парсонс Теофилиус 55,517 Патнем Руфус 71,124,432,441
Пауэлл Джон Уэсли 309,316
Пауэрс Хайрам 449
Пейн Роберт 517
Пейн Тимоти 457
Пейн Томас 488,503,504
Пенн Уильям 527
Перикл 151,399
Перкинс Декстер 343
Перкинс Чарлз Эллиот 186
Перкинсы 13,18
Перри Бенджамин 278,279
Петр Великий 446
Пил Джеймс 447
Пил Рембрандт 447,448
Пил Чарлз Уилсон 306,447
Пикеринг Джон 353
Пикеринг Тимоти 343
Пинкни Уильям 486
Пинтард Джон 461
Пирс Чарлз Сандерс 59
Плезанте Джон Хэмпден 241
Плутарх 463
Полдинг Джеймс Кирк426,438
Полибий 453
Полк Джеймс 471
Полфри Джон 442
Портер Джеймс Мэдисон 203
612
Портер Уильям 424 Прескотт Уильям 442 Пристли Джозеф 526 Притчард Джеймс 92,93,94 Прово Этьен 290 Пруча Фрэнсис Пол 294 Пуласки Казимирж 476 Пульман Джордж 146 Пур Генри Уэрнам 320 Пуфендорф Сэмюел 522 Пэррис Александр 27 Саблетт Уильям 82,83,94,290 Сакс Джон 406 Самнер Чарлз 389,442 Санди Уильям 407 Сандерсон Джон 463 Сатерленд Джоэл 444 Сеймур Сэмюел 306 Сен-Сир Джон 194 Сидней Олджерон 519 Сиднор Ч.С 278 Силлимян Бенджямии 401 Симитьер Пьер Эжен дю 447 Симпсон Джордж 79
РайтЧонси59 Рамсей Аллан 447 Рамсей Дейвид 226 Ранке Леопольд фон 471 Рантул Роберт-младший 66,67 Раш Бенджамин 207 Раш Ричард 340 Рейнолдс Джошуа 447 Рейнолдс Уильям 292 Рескин Джон 394 Рид Анна 437 Рид Джозеф 442 Рид Джордж 480 Ритчи Томас 241 Ричардс Дэниел 167 Ричардсон Алберт 210 Ричардсон ГХ 27 Роберт Джозеф 239 Робинсон Джон 456 Робинсон Солон 196,197 Роджерс Исайя 177,178 Роджерс Уилл 476 Ройс Джосайя 110 Росс Бетси 473 Ромни Джордж 447 Рошамбо Жан Батист 267 Рудолф Фредерик 202 Рурк Констанс 422 Руссо Жан Жак 519 Рэнделл Генри 451 Рэндолф Джон 268,454 Рэндолф Томас Джефферсон 241 Рэндолф Эдмунд 523 Рэтт Роберт Барнэлл 253,276 Скалл Джон 164,165 Скулкрафт Генри Роу 384 Слейтер Сэмюел 40,41 Слэк Джон 299,300 Смит Адам 315,318 Смит Генри Нэш 295 Смит Джедедиа 288,290,291,292 Смит Джозеф 83,84,85,86 Смит Джон 69,464 Смит Джон Роусон 304,305 Смит Себа 409,411 Спаркс Джейред 324,438,439,440,441, 442,452,463,464 Спейт Ричард 269 Стерджис Уильям 101 Стерлинг Джеймс 68,135,164 Стертевант Джулиан 201,202 Стивенс Александр 268,279,281 Стивенс Джордж Уоррингтон 379 Стивенсон Дейвид 130 Стил Ричард 419 Сгори Джозеф 53,54,55,441,442 Стоун Люси 406 Сгратт Джедедиа 40 Страуд Джордж 263 Стронг Джордж 476 Стронг Джосайя 223,284 Стюарт Гилберт 305,447,448 Стюарт Джордж 382, 383, 388, 389, 450 Стюарт Роберт 290 Стэнли Генри Мортон 70 Стэнли Джон 269 Стэнсбери Говард 292
613
Стэнтон Элизабет 406
Сьюард Уильям 320
Сэвидж Эдвард 447
Тайлер Джон 9,28,445
Тайлер Уильям 208
Таккер Генри Сент-Джордж 272, 465
Таккер Джордж 472
Таккер Натаниел Беверли 228
Тафт Уильям 474
Твен Марк 130,364,412
ТейерИлайбО
Тейлор Августин Деодат 194
Тейлор Байард 77,406
Тейлор Джон 281,454
Тейлор Джон Макдоналд 270
Тейлор Джордж 480
Тернер Бенджамин 239
Тернер Нэт 237,238,239,251
Тикнор Джордж 458
Тонги Лоренцо 181
Томас Исайя 163,462
Томас Сайрус 296
Томпсон Уайли 444
Томпсон Чарлз 478,479
Торнтон Мэтью 480
Торнтон Ричард 373
Торо Генри 25,406
Трамбулл Джон 305,447
Тревитик Ричард 132,134
Трейси 33
Трейси Юрайя 342
Троллоп Фрэнсис 419
Троллоп Энтони 184,189,191
Тюдор Джон 20
Тюдор Уильям 20,27,395,456,458,460, 463,491
Тюдор Фредерик 20,21,22,23,24,25, 27,456
Тэчер Джеймс 455
Уайз Генри 276,279
Уайз Дженнингс 279 Уайет Натаниел 22,23,24
Уайтфилд Джордж 431
Уатт Джеймс 131
Уилер Джейкоб 263
Уилл Роджерс 412,427
Уиллард Соломон 27,28,29,30,177
Уиллард Сэмюел 27
Уиллер Джордж Монтегю 309
Уилок Джон 210
Уилсон Александр 464
Уилсон Генри 386,388
Уилсон Джон 270,271
Уильямс Роджер 332,527
Уильямсон Хью 313
Уимс Мейсон Локк 431, 432, 433, 434, 435,436,437,451,452,453,463,465, 482
Уинтроп Джеймс 460
Уинтроп Джон 12,69
Уиппл Эдвин 406
Уирт Уильям 395, 452, 453, 454, 455, 463,465,487,489
Уит Карл 286
Уитмен Уолт 348,355,384
Уитни Илай 43,44,45,46,47,48,193
Уокер Дейвид 238
Уокер Роберт 288,291
Уокер Тимоти 532
Уоррен Джеймс 456
Уоррен Мёрси Отис 466
Уоткин Эдвард 141
Уэбб Уолтер Прескотт 107,293
Уэбстер Джон 423
Уэбстер Дэниел 14, 28, 182, 210, 307, 349,395,396,397,398,399,402,409, 445,447,491,492
Уэбстер Ной 175,355,368
Уэйд Бенджамин 389
Уэйд Ричард 219
Уэйд ленд Фрэнсис 200
Уэйн Энтони 76,335,432,474
Уэлд Теодор Дуайт 275
Уэлд Чарлз Ричард 38,137,138
Уэнтворт Гаролд 355,366
Уэст Бенджамин 305,447
Фаньел Питер 14
Фаулер Уильям 357
Фемистокл 149
614
Фердинанд VII343
Фидий 449
Филлипс Уэнделл 275,406
Финк Майкл 303,418,425,428
Финни Чарлз Грандисон 408
Фитч Джон 130
Фицхью Джордж 276,280
Флекснер Джеймс Томас 305
Ф лекснер Стюарт Берг 355,366
Флойд Джон 241,251
Флоурной Джозеф 276
Флэгг Эдмунд 268
Форрест Натан Бедфорд 268,475
Форрест Эдвин 268
Форс Питер 467
Франклин Бенджамин 161, 209, 356, 385,411,429,451,452,479,480,484, 502,504,509,520
Фрейзер Франклин 247,248
Френо Филип 380
Фридрих Великий 446
Фримонт Джон 70,82,289,291,297,490
Фуггеры150
Фултон Роберт 130
Фурман Ричард 251
Фут Сэмюел 397
Хазард Эбенизер 466,467
Хаккет Джеймс 426
Хандли Дэниел 280
Хансен Маркус Ли 234
Хант Джонатан 444
Харви Фред 146
Хастингс Лэнсфорд 9,108,109
Хастингс Уоррен 394
Хатчинс Томас 311
Хатчинсон Томас 501
Хатчинсон Энн 527
Хеерен Арнолд 468
Хейден Фердинанд 296,309
Хейл Эдвард Эверетт 60
Хеймерт Алан 406
Хейн Роберт 243,397,398,399
Херд Джон Кодмэн 263
Хиггинсон Фрэнсис 13
Хиггинсы 18,33
Хобат Джозеф 181
Хилдрет Ричард 472
Холбрук Джосайя 276,401,402
Холден Уильям Вудс 275
Холл Бейзис 191
Холл Джозеф 164
Холмс Абиэл 466
Холмс Уэнделл-младший 59
Холт Джозеф 275
Хопкинсов Джозеф 474
Хопкинсов Фрэнсис 473
Хорн Иеремия 66
Хоу Сэмюел Гридли 63
Хоун Филип 449
Хукер Томас 527
Хупер Джонсон 68,411
Хыогер Дэниел 253
Хьюм Дейвид 151
Хьюстон Сэм 268,347
Хэндлины Оскар и Мэри 234,235,248
Хэнкок Джон 395,455
Хэнсон Роджер 269
Цезарь 395,454
Цицерон 376,455
Чалмерс Джордж 465
Чаннинг Уильям Эллери 406
Чарват Уильям 404
Чарлз II79
Черакки Джузеппе 447,449
Читтен ден Хайрам 80
ЧэннингУ.Э. И
Шевалье Мишель 37,40,138,141,142
Шекспир 351,356,414
Шинн Чарлз Говард 110,126
Шоу Генри Уиллер 412
Шоу Лэмюел 56,57,58,59,60,66,67,229
Шоу Сэмюел 15,16
Шурц Кар л 277
Эбби Джеймс 121
Эванс Оливер 131,132
615
Эверетт Эдвард 25, 182, 303, 335, 351, 413,439,446,468
Эдисон Томас 179 Эймс Фишер 343,508 Элвин Алфред 354,376 Элиот Уильям Говард 177
Эллсворт Оливер 508,524
Эмерсон Ралф Уолдо 275,403,404,405, 406,409,464,465
Эммет Роберт 394
Энгельс Фридрих 41
Эплтон Натан 33,35,37,38,41
Эскаланте Сильвестре 286
Эшли Джеймс 388,389
Эшли Уильям Генри 81,82,83,288,290
Юм Дейвид 356
Янг Брайем 85,86,87
Янг Эмми Бернхэм 27
Яков 1328
Янси У. 268
СОДЕРЖАНИЕ
Начиная сызнова
КНИГА ПЕРВАЯ.ОБЩИНА.......................................... 10
Часть пер в ая.«И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ...»: ЛЮДИ НОВОЙ АНГЛИИ 11
1. Морские дороги проходят повсюду.......................... 12
2. В поисках ресурсов: лед для Индии........................ 18
3. В поисках ресурсов: гранит для нового каменного века..... 26
4. Создание американской фабрики............................ 31
5. От мастерства к технологии: «социальный круговорот» ..... 38
6. Общее право как принцип американского мышления .......... 49
7. Реформаторский дух ...................................... 60
Часть в торая. «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»: ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ 68
8. На просторах континента-океана: люди не путешествуют в одиночку 69
9. Организаторы............................................. 77
10. Приоритет общины ........................................ 87
11. Естественное право переселенческих общин: заявочные клубы и закон приоритета............................................... 96
12. Естественное право переселенческих общин: виджилантизм и правление большинства........................................... 108
13. Что оставалось позади................................... 120
14. Пришедшие первыми....................................... 129
15. Демократия спешки....................................... 141
617
Часть треть я. ВЫСКОЧКИ: ТОЛКАЧИ.......................... 149
16. Бизнесмен как американское явление ................... 150
17. Пресса толкачей....................................... 162
18. «Общественные дворцы» ................................ 175
19. «Надувной каркас»..................................... 192
20. Культура со множеством столиц: колледж толкачей....... 198
21. Общины-конкуренты..................................... 210
Часть четвертая. КОРЕННЫЕ И ПРИШЛЫЕ: ЮЖАНЕ, БЕ-ЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ............................................ 220
22. Как плантатор утратил универсальность................. 222
23. Неизгладимая печать иммиграции ....................... 232
24. Незримые общины: негритянские церкви.................. 246
25. Неписаный закон: его становление в условиях рабства... 257
26. Как джентльмен-южанин стал невольником чести.......... 266
27. Метафизическая политика............................... 273
КНИГА ВТ О РАЯ. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИИ......................... 283
Часть пятая. НЕИЗВЕДАННАЯ СТРАНА.......................... 284
28. Малознакомая территория: заселение до открытия........ 285
29. «Упаковка» континента................................. 308
30. Правительство как институт обслуживания............... 317
31. Неопределенность границ............................... 327
32. Неясная судьба........................................ 338
Часть шестая. КАК РАЗГОВАРИВАЮТ АМЕРИКАНЦЫ................ 351
33. Неуправляемая лексика ................................ 352
34. Выспренняя речь: полуправда или полуложь?............. 371
35. Язык предчувствия..................................... 378
36. Путаница от изобилия.................................. 382
37. Ораторская литература................................. 392
Часть седьмая.В ПОИСКАХ СИМВОЛОВ.......................... 414
38. Герои или шуты? Комические супермены из сублитературы. 415
39. Мифологизация Джорджа Вашингтона.................... 427
40. Местный патриотизм и национальные герои............... 451
41. В поисках национального прошлого...................... 458
42. Торжество национальной цели........................... 472
618
Часть восьмая. ОБШИРНАЯ РЕСПУБЛИКА.............................
43. Имперская неопределенность: от суверенитета к федерализму.
44. Зыбкость федерального устройства как порождение сепаратизма...
45. Стремление к ясности: конституции Соединенных Штатов......
46. Союз и пути преодоления сепаратистских традиций...........
Дэниел Бурстин и американская история. ВШестаков...............
Комментарий. П.Балдицын........................................
Указатель имен.......................,.........................
495
5g8 g 8 iU
Д.БУРСТИН
Американцы: Национальный опыт
Редактор О. М. ДЕГТЯРЕВА
Художник В. А. К О Р О Л ЬК О В Художественный редактор В.А.ПУЗАНКОВ Технический редактор ЕВ. ЛЕВИНА
ИБ18349
Издание подготовлено на микроЭВМ с помощью программы «Вентура паблишер».
Фотоофсет. Подписано в печать 27.04.93. Формат 84X108 V32.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Условн.печ.л. 30,42. Услжр.отт. 60,84 Уч.-изд.л.37,15. Тираж 25000 экз. (1-ый завод 10000 экз.).
Заказ №383. С102. Изд. № 47002.
A/О Издательская группа «Прогресс» 119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.
Отпечатано с оригинал-макета на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации 143200. Можайск, ул. Мира,93.