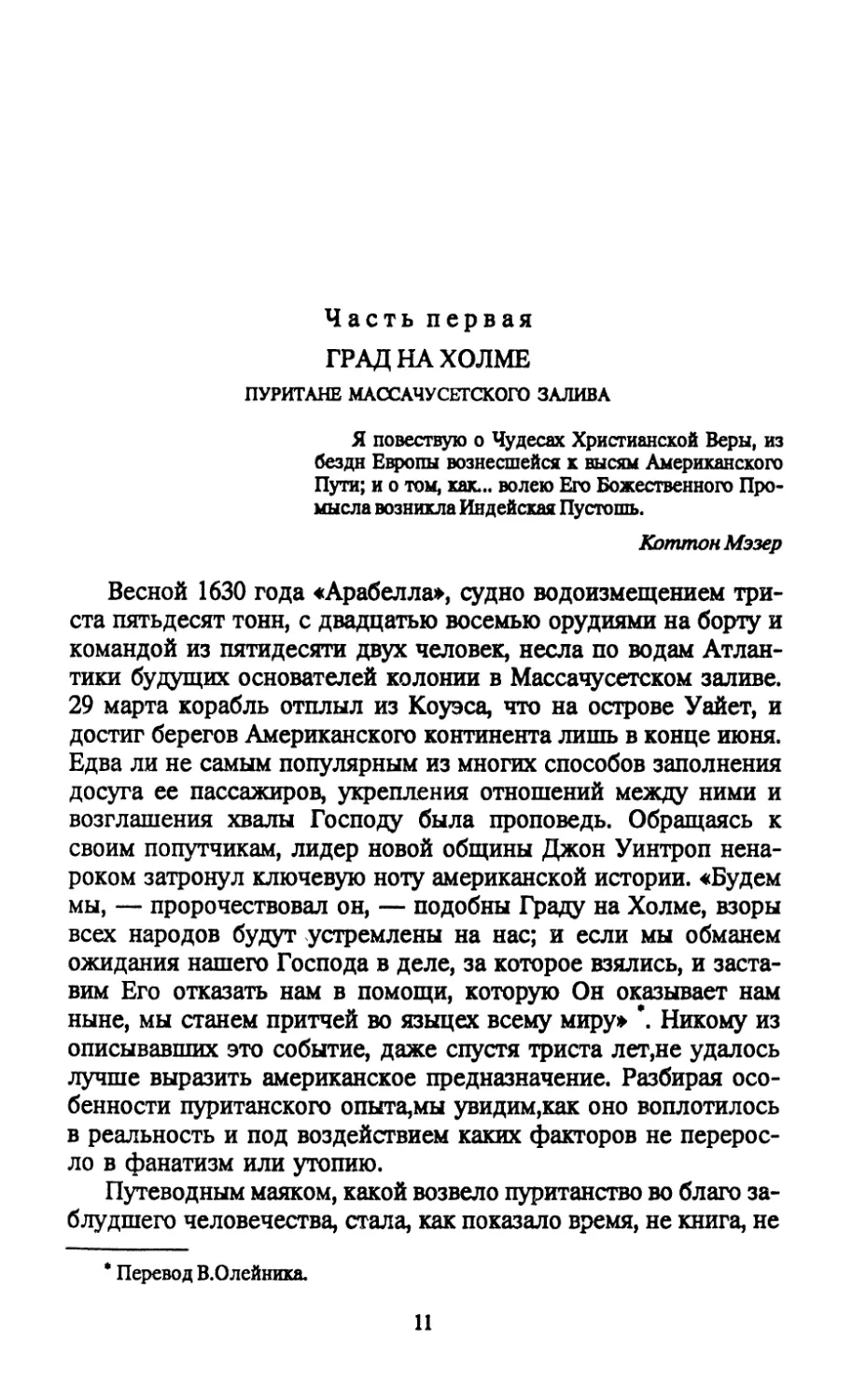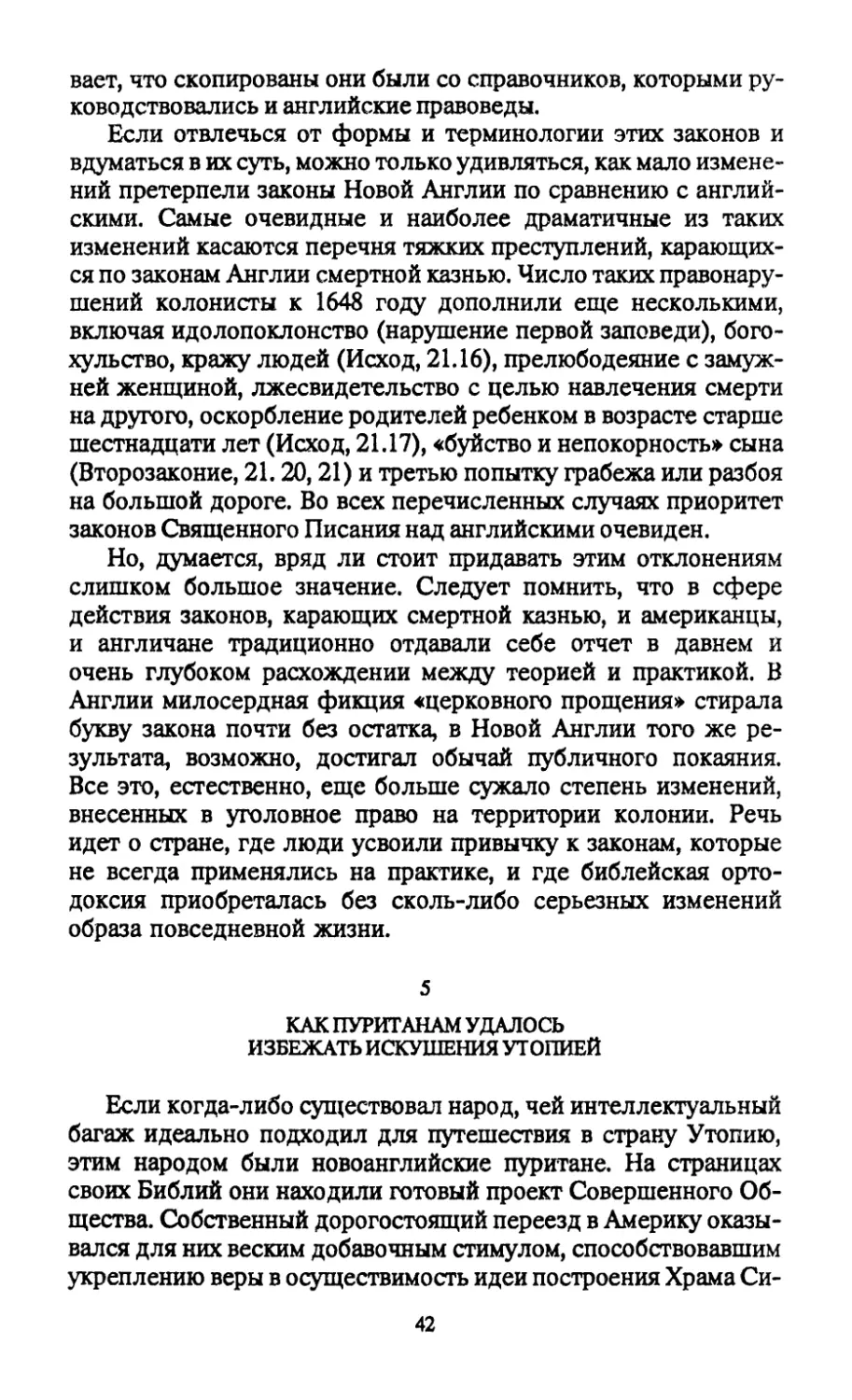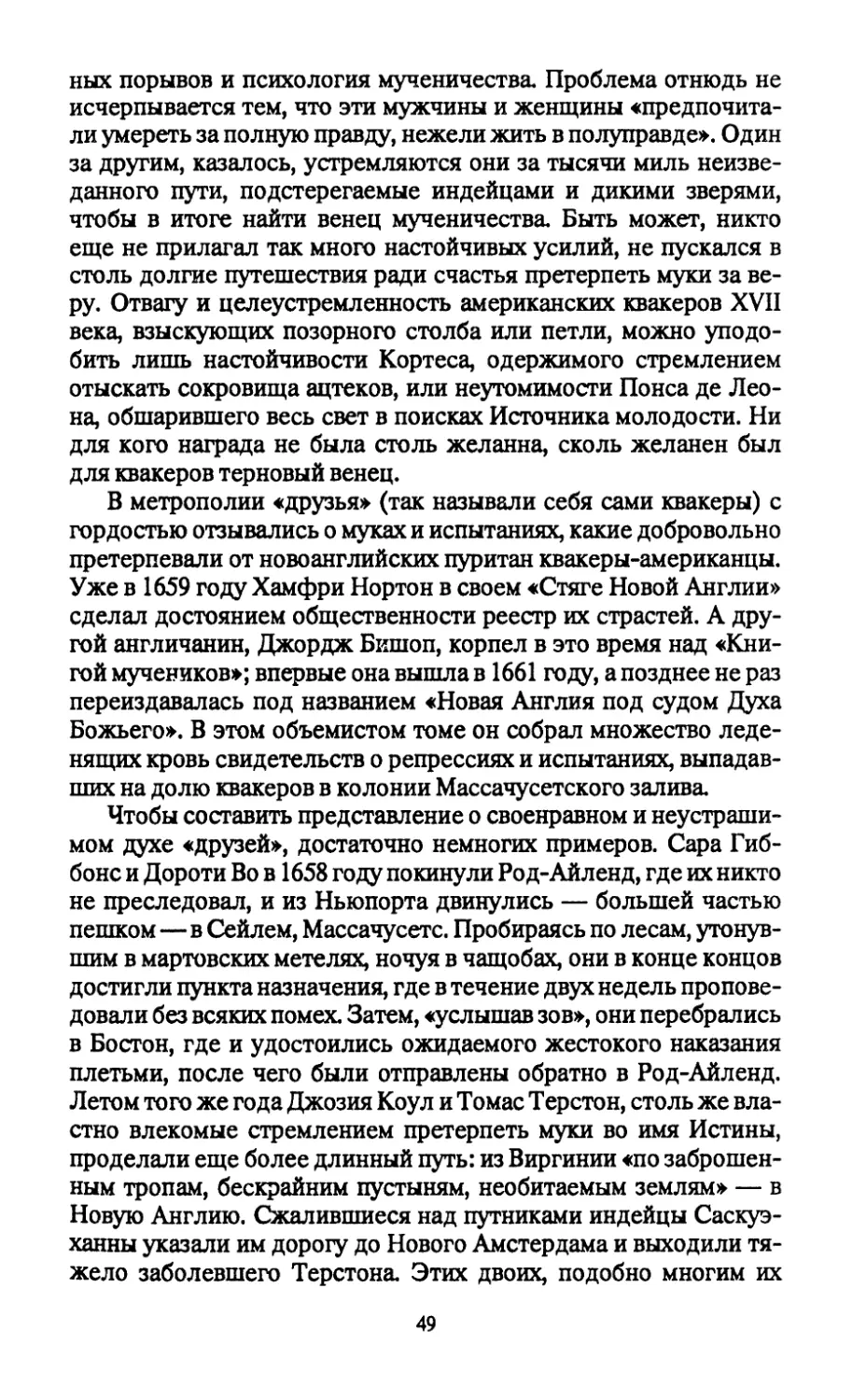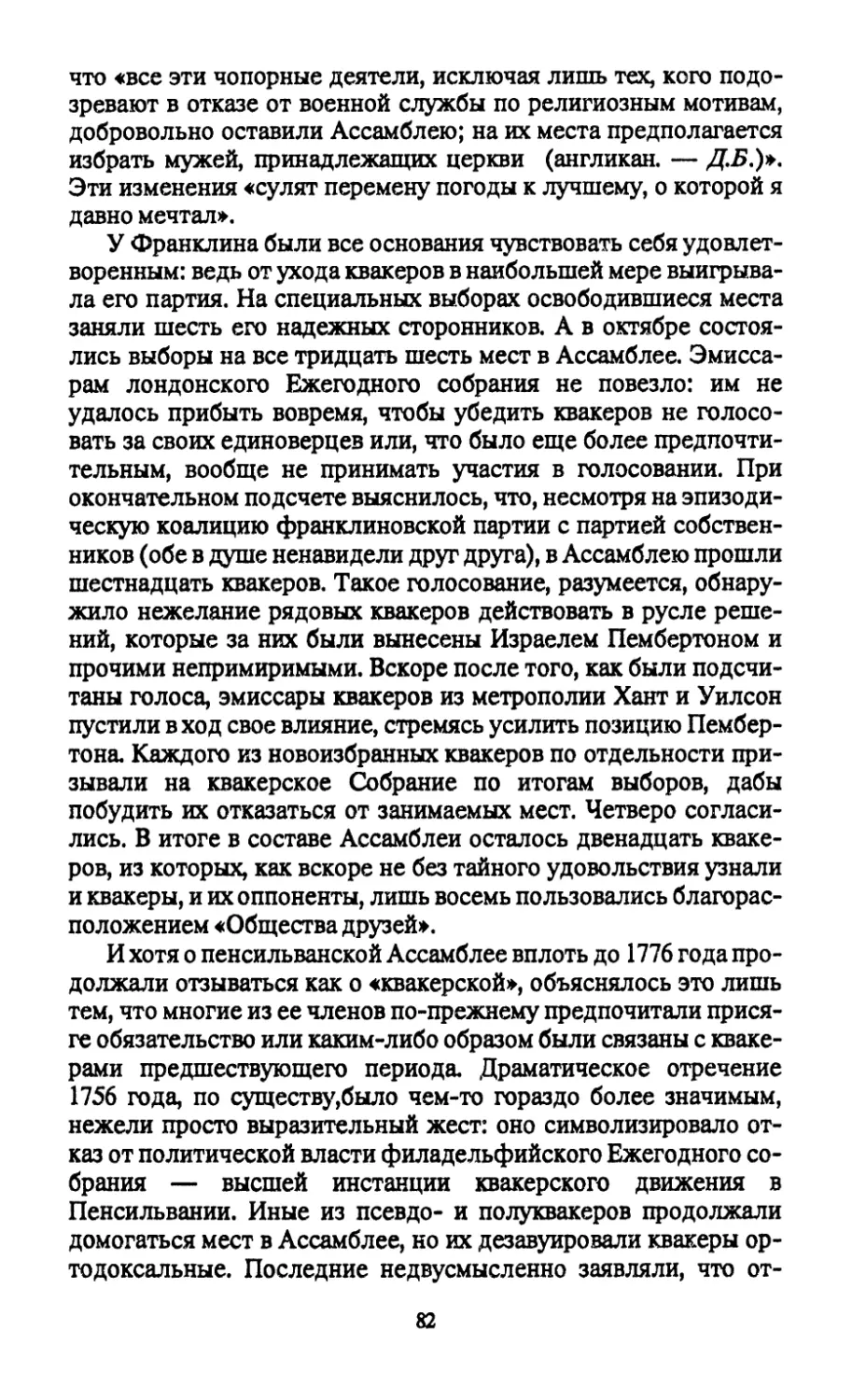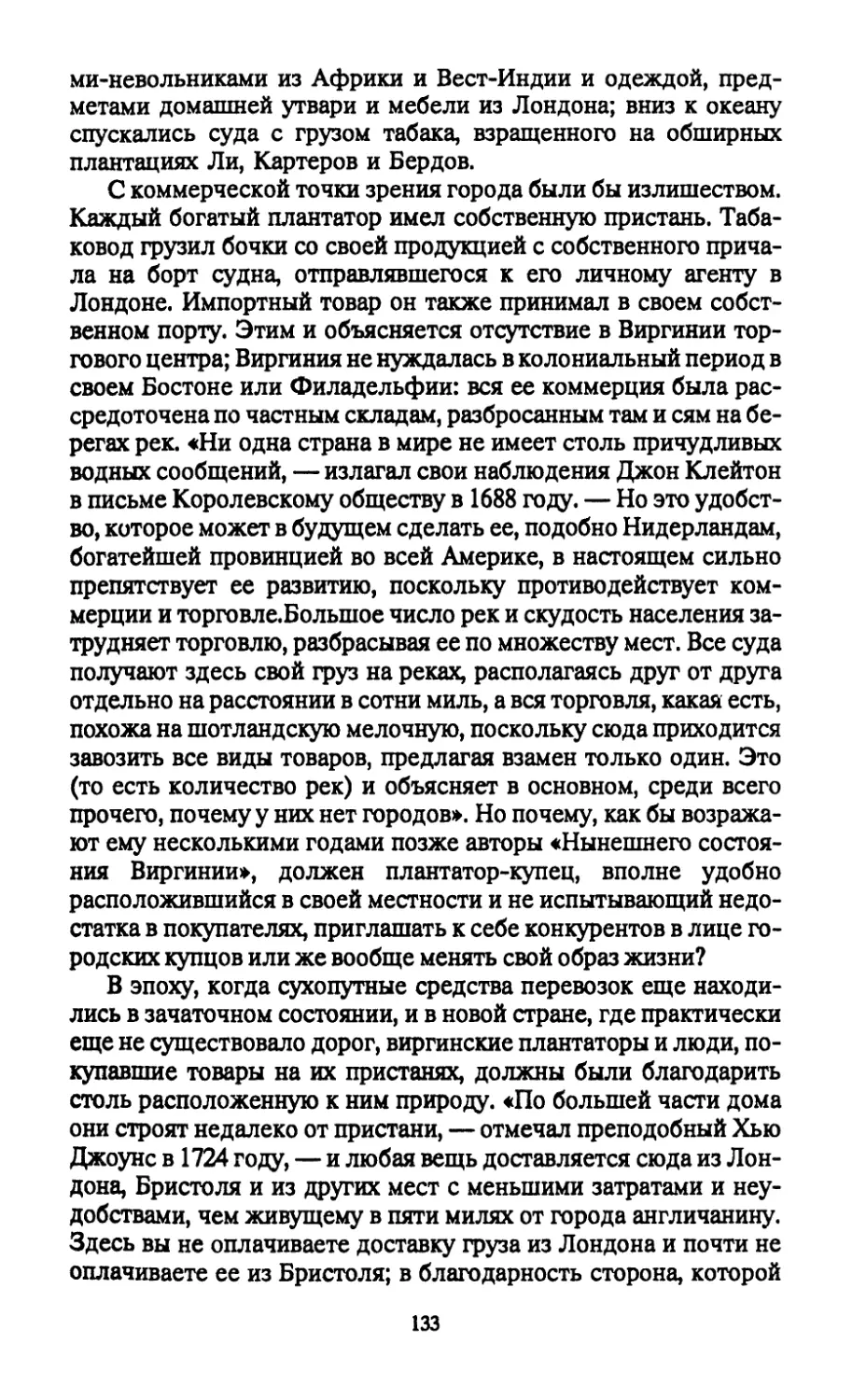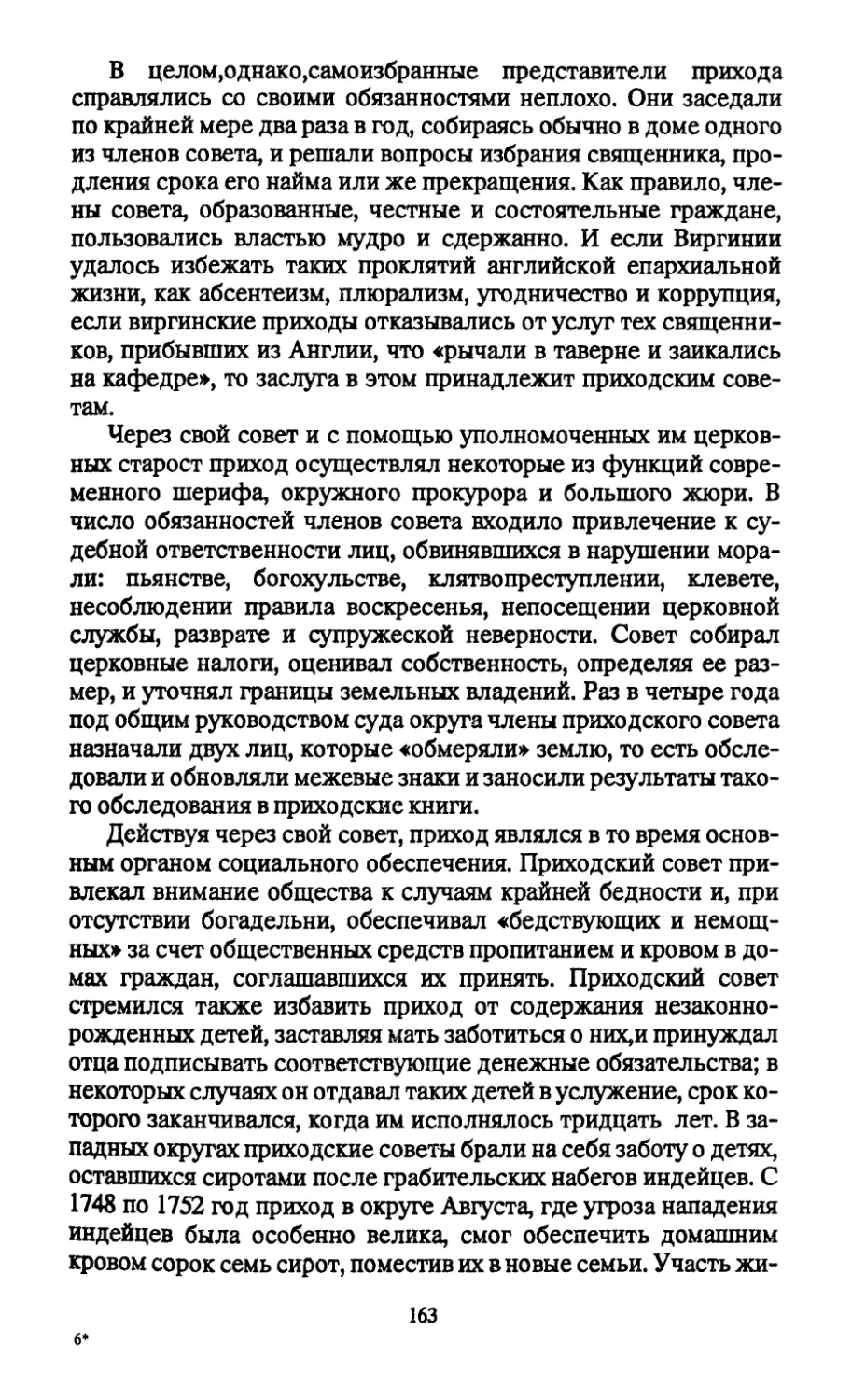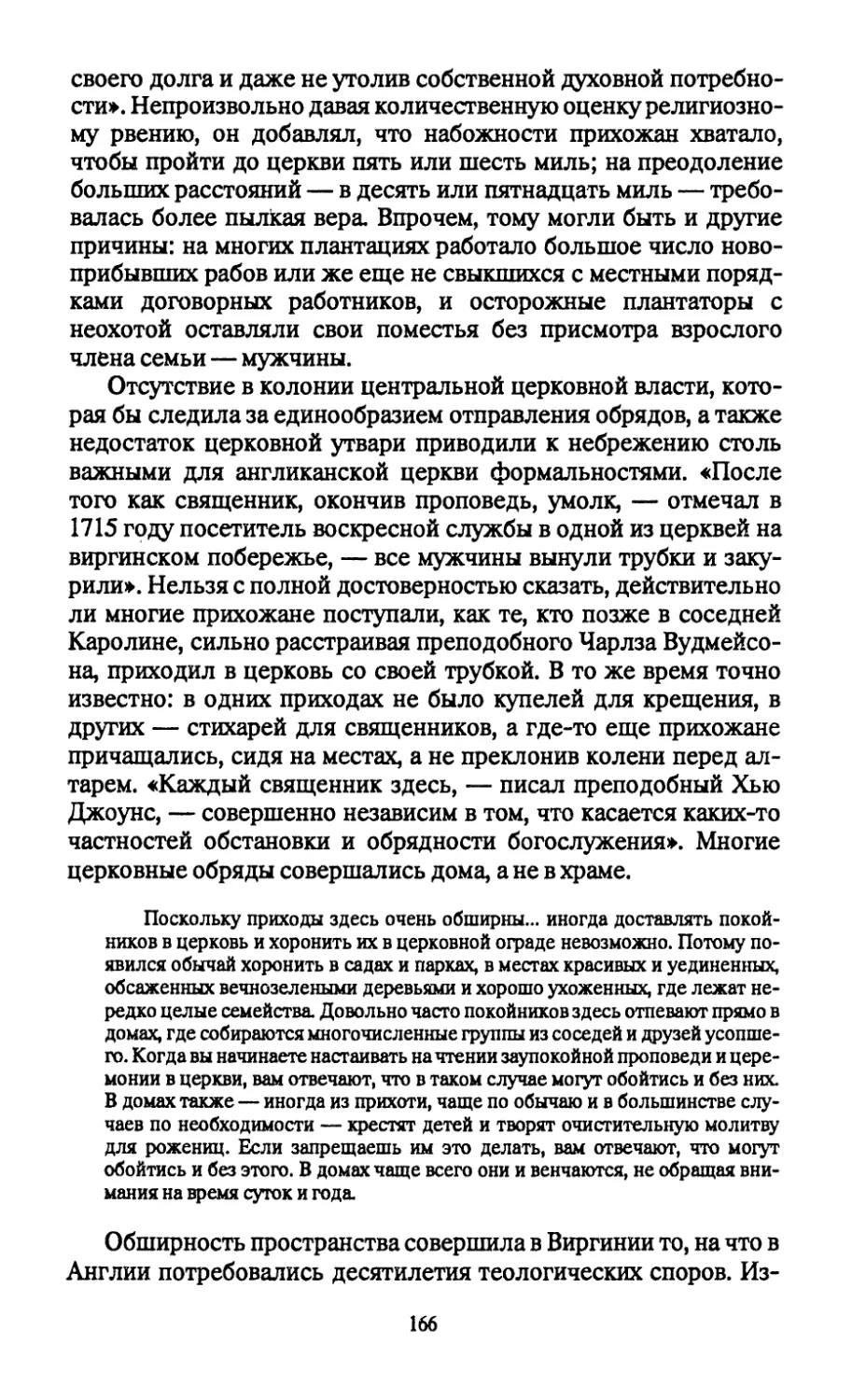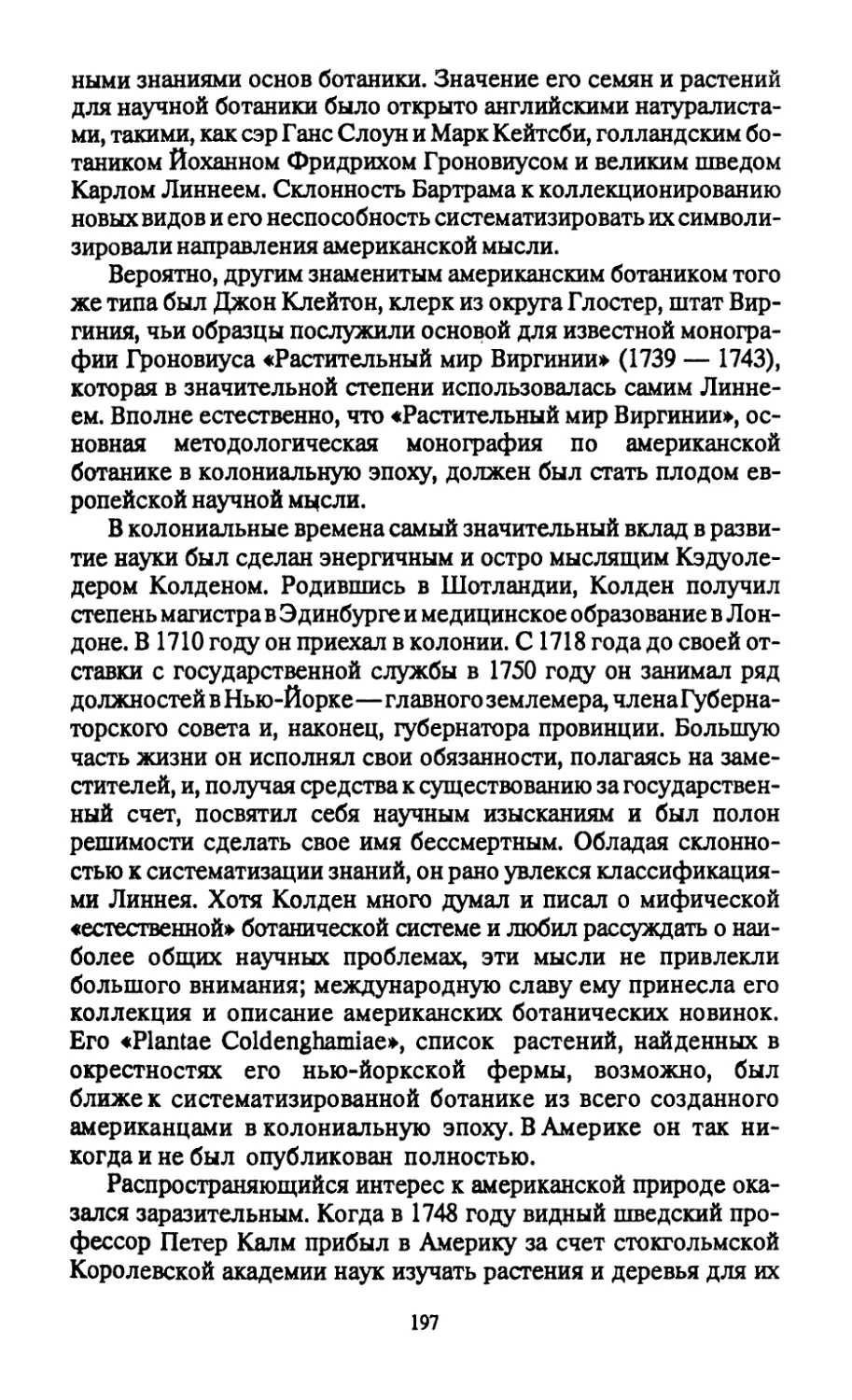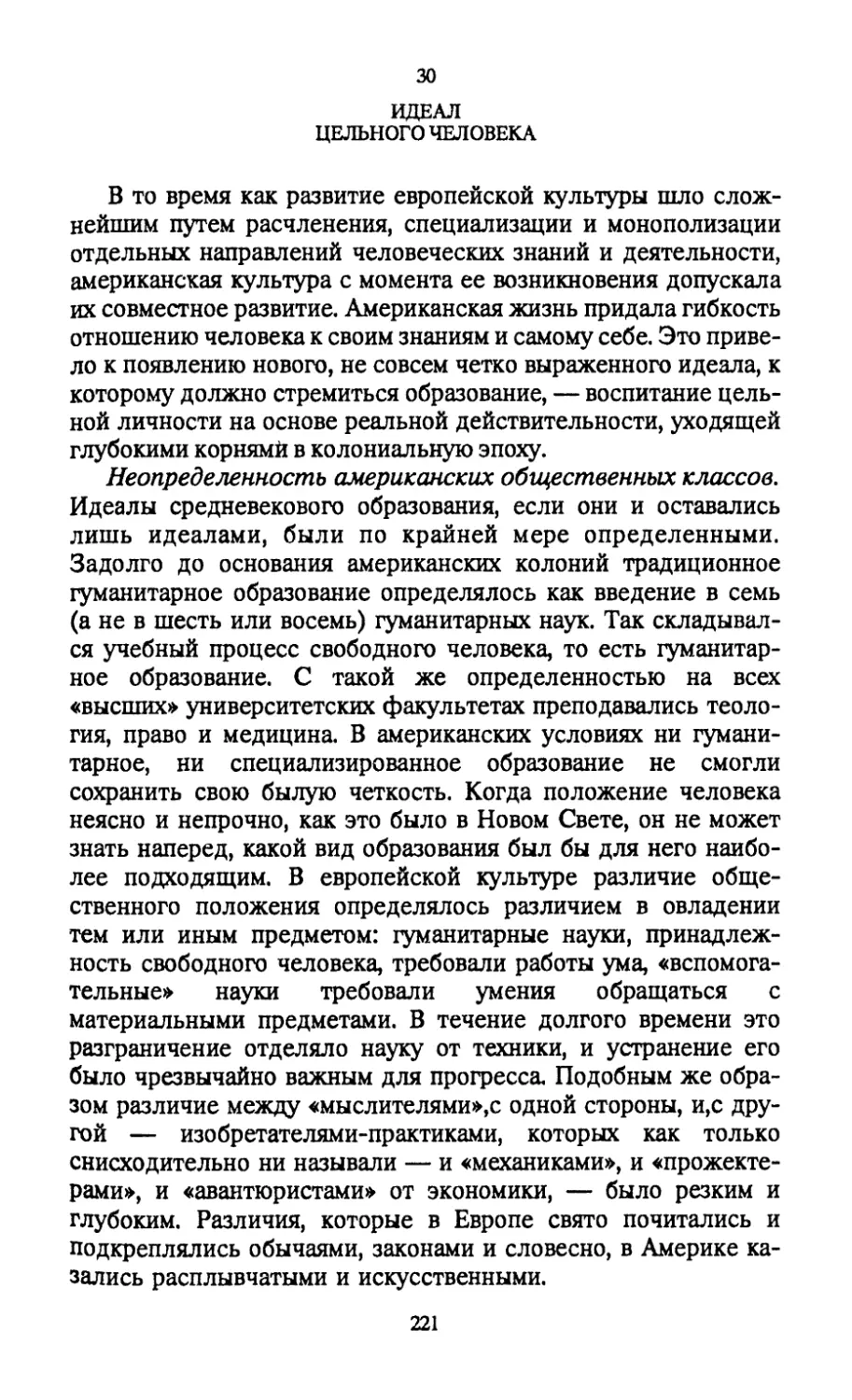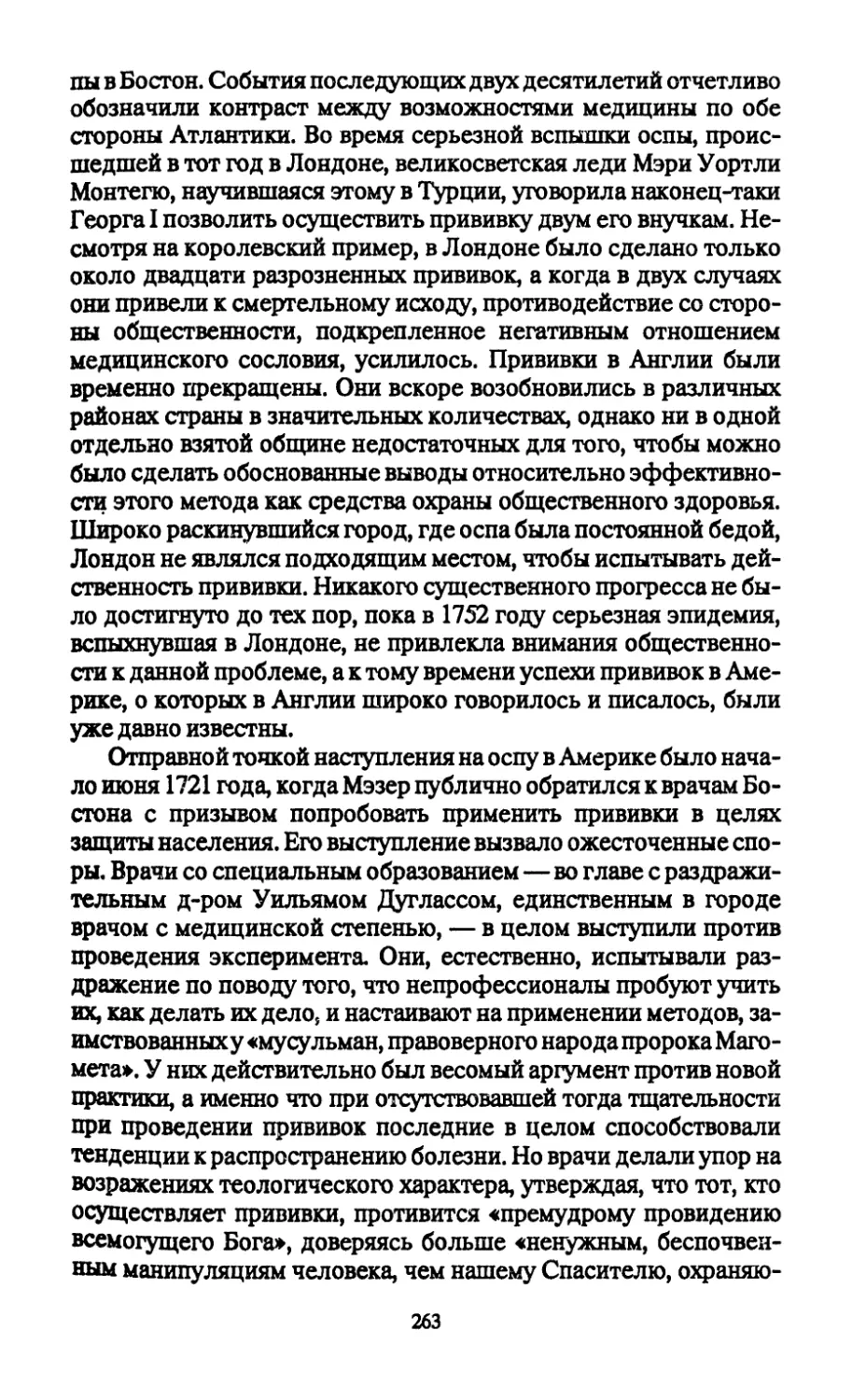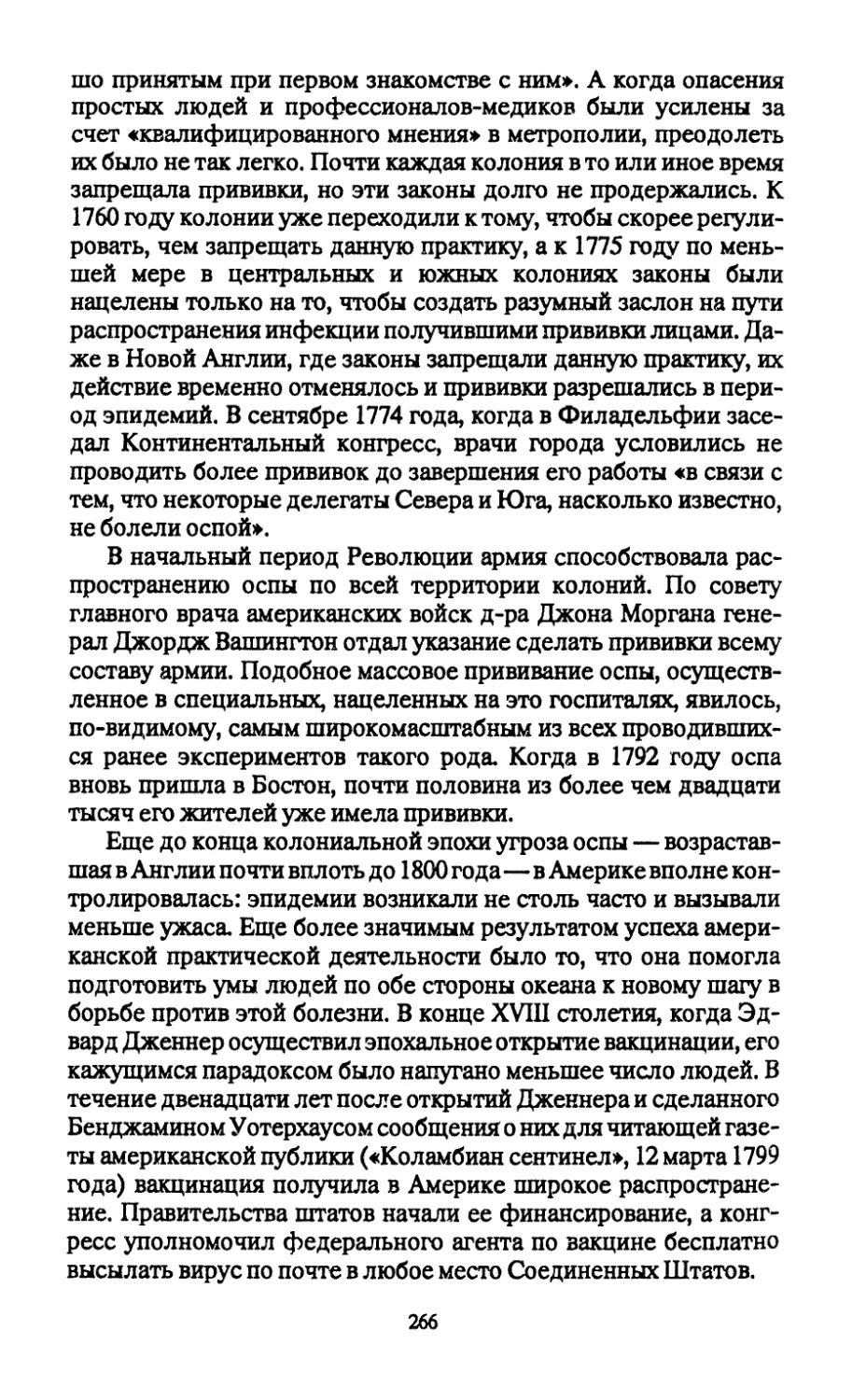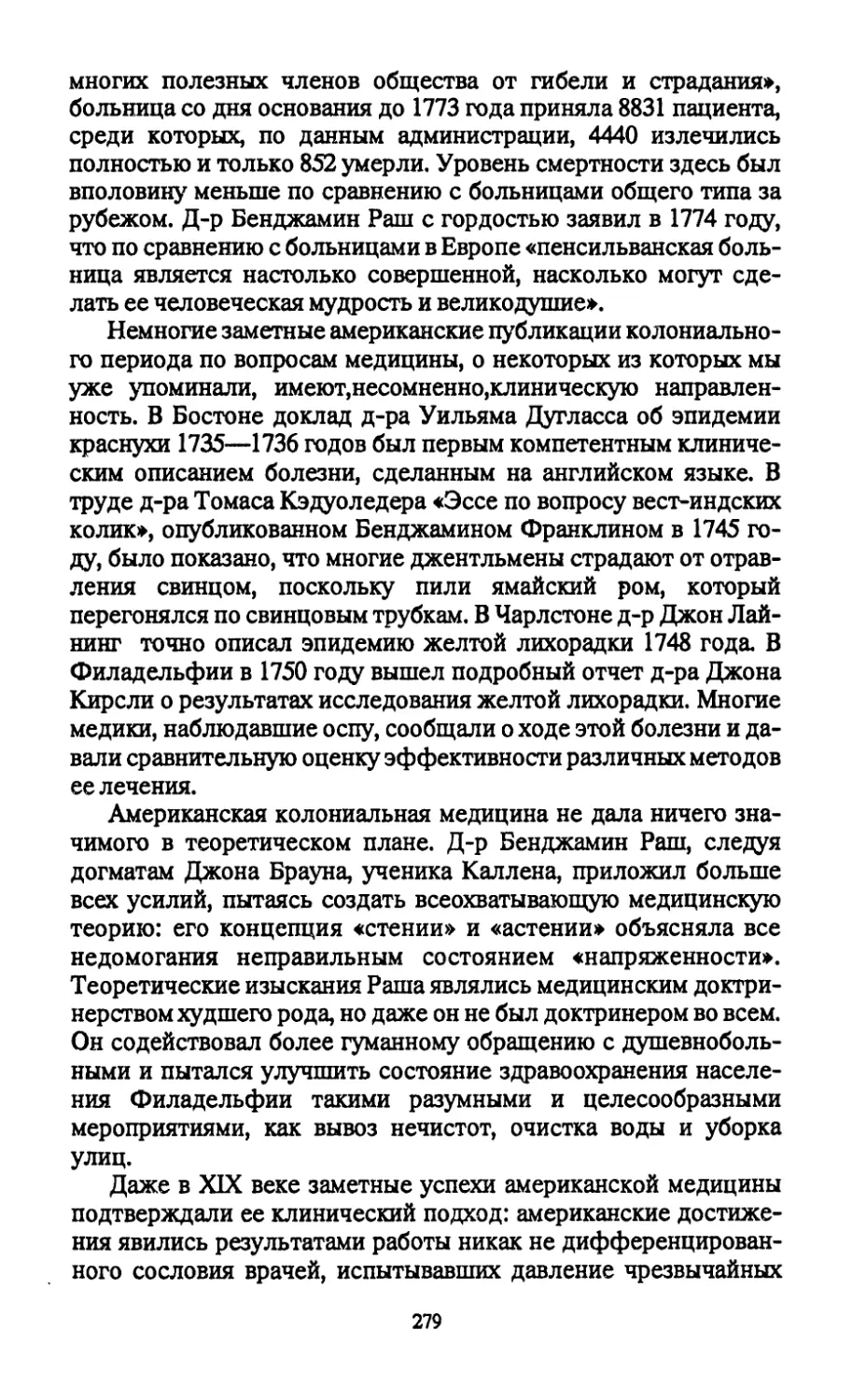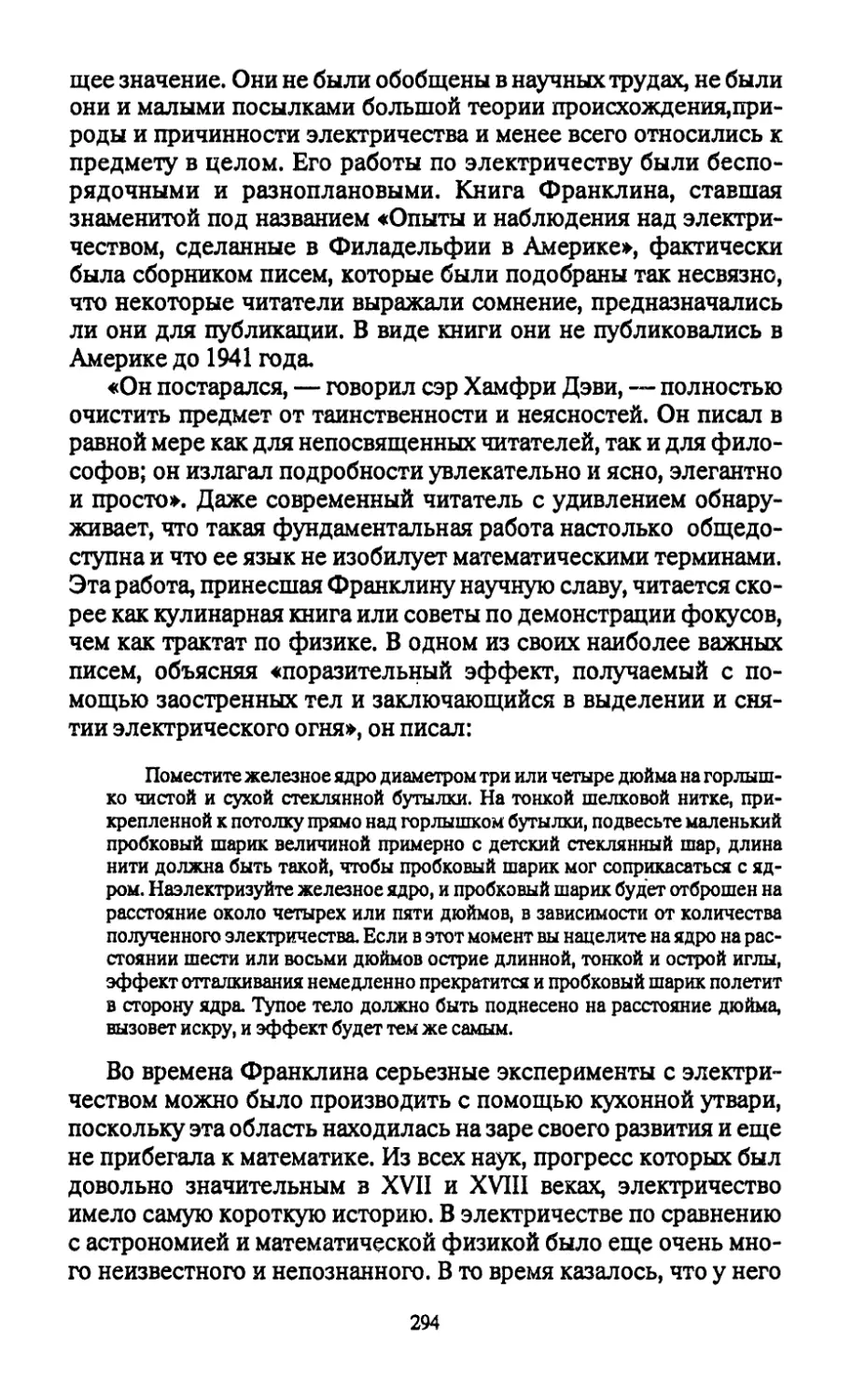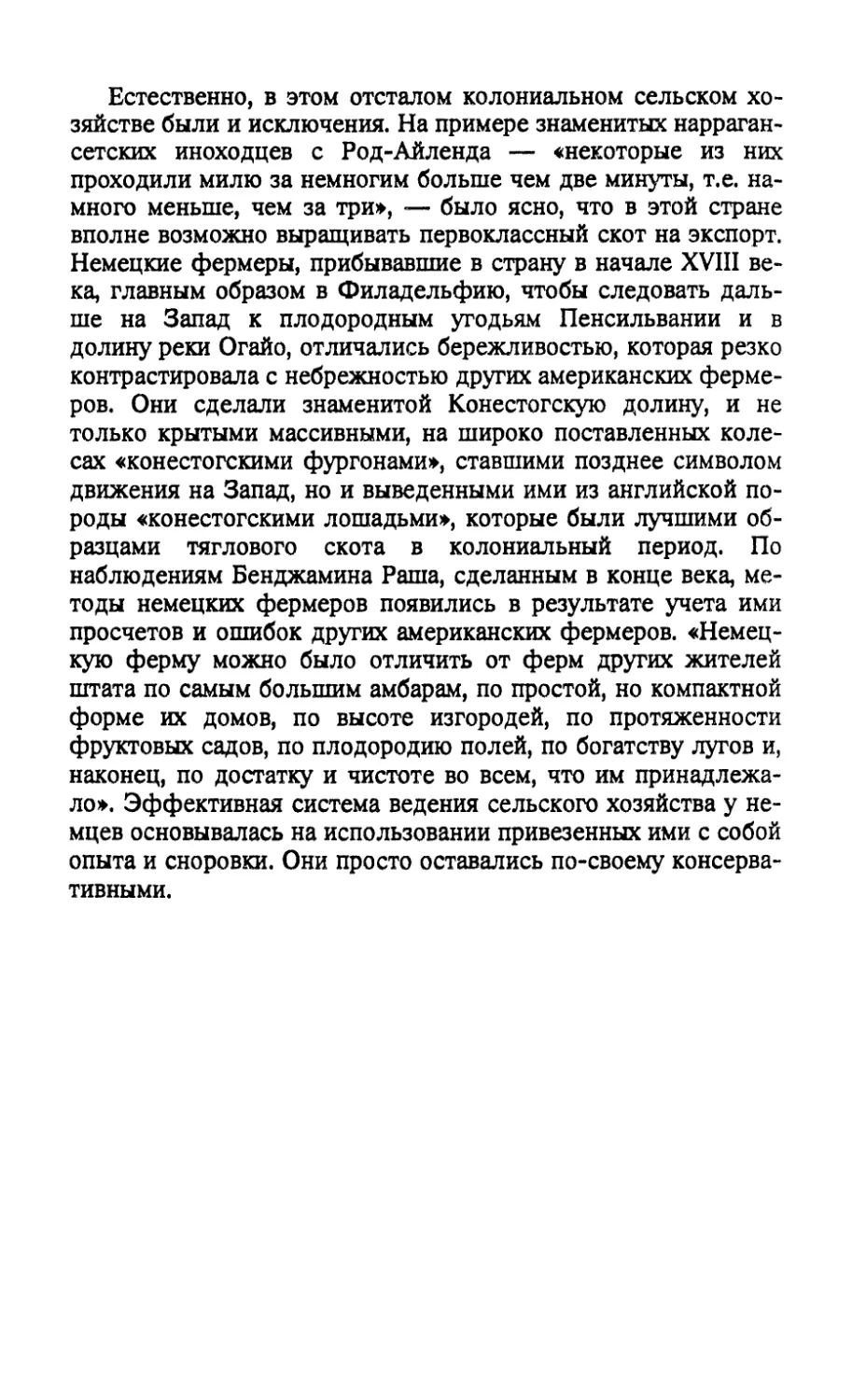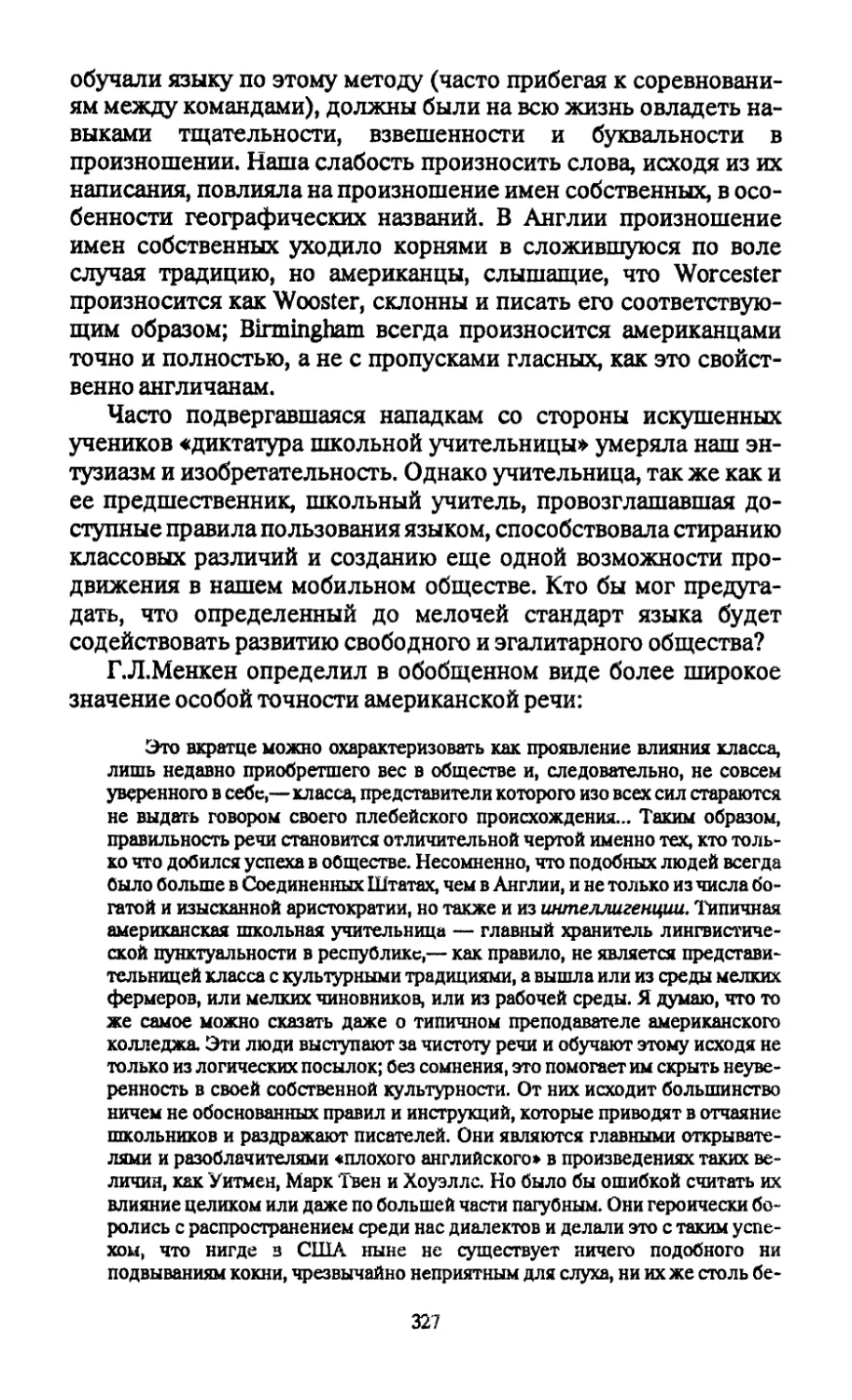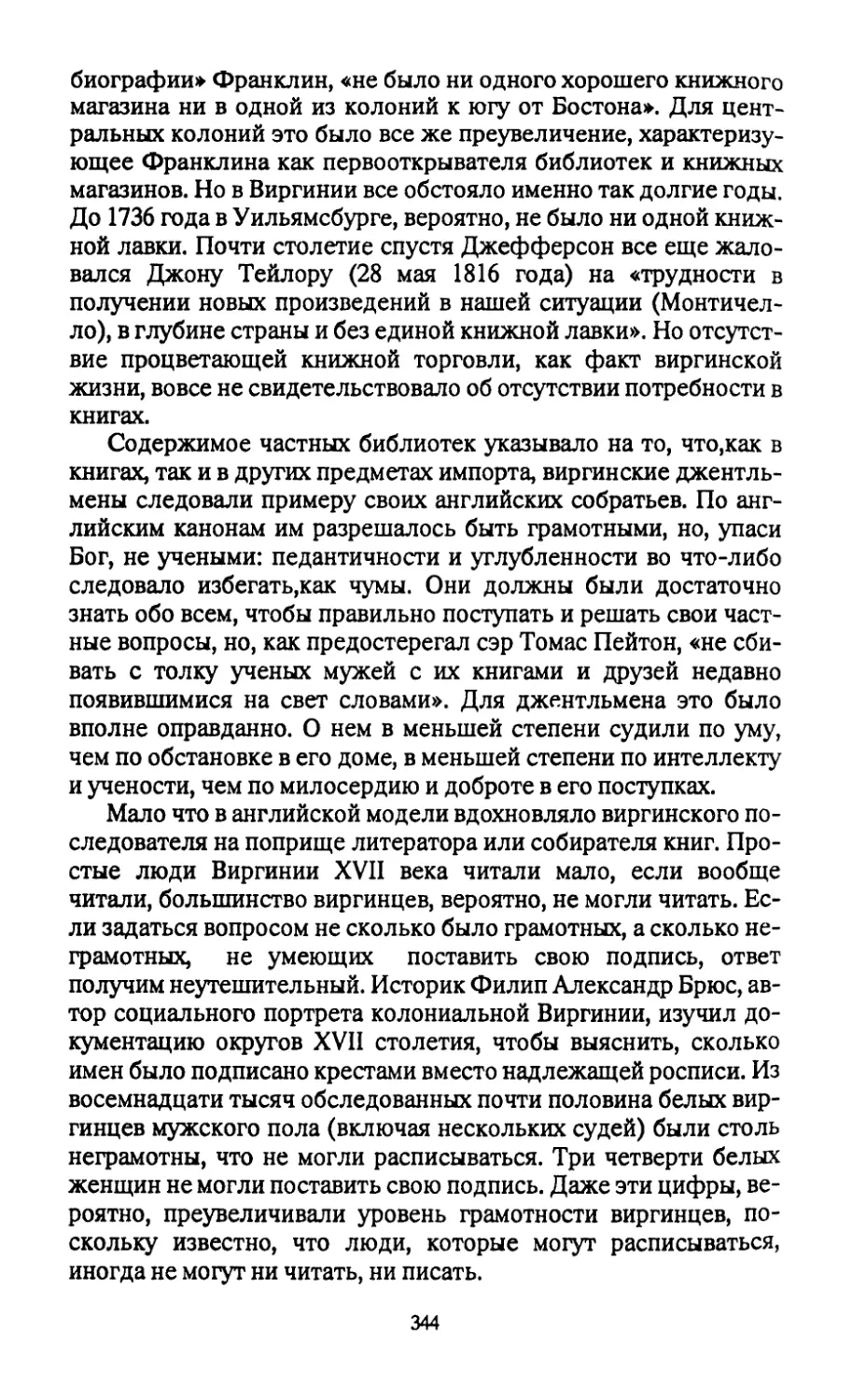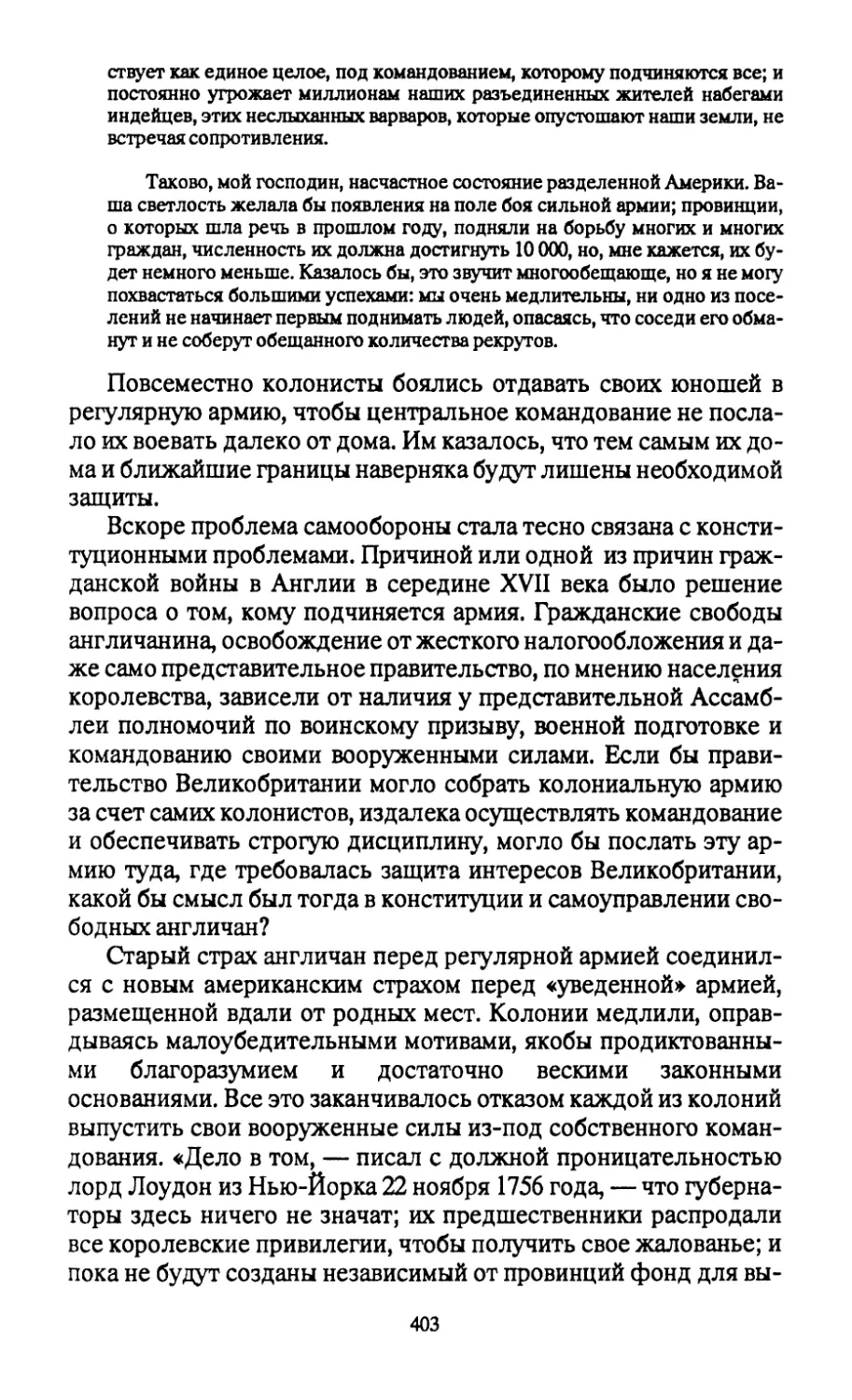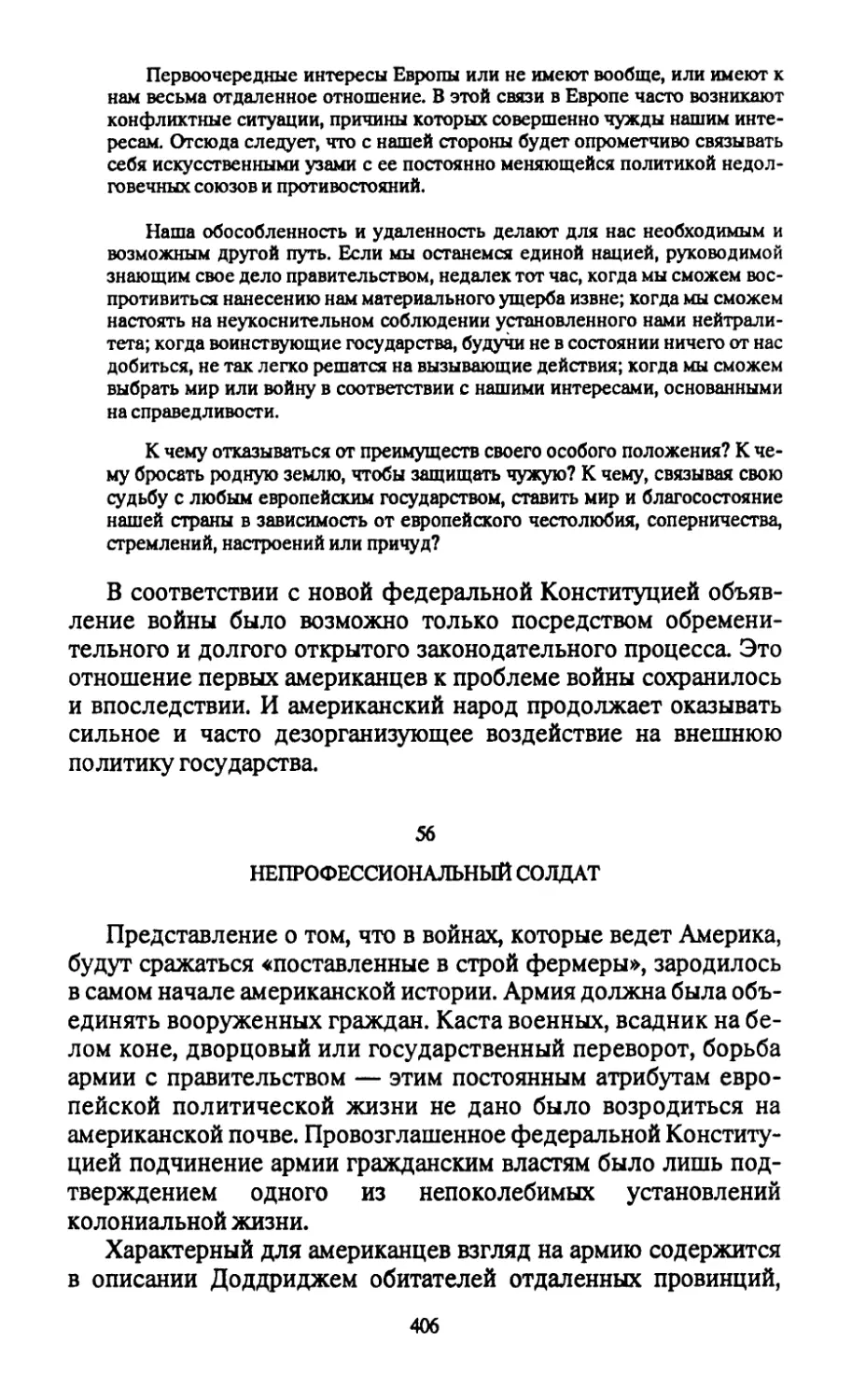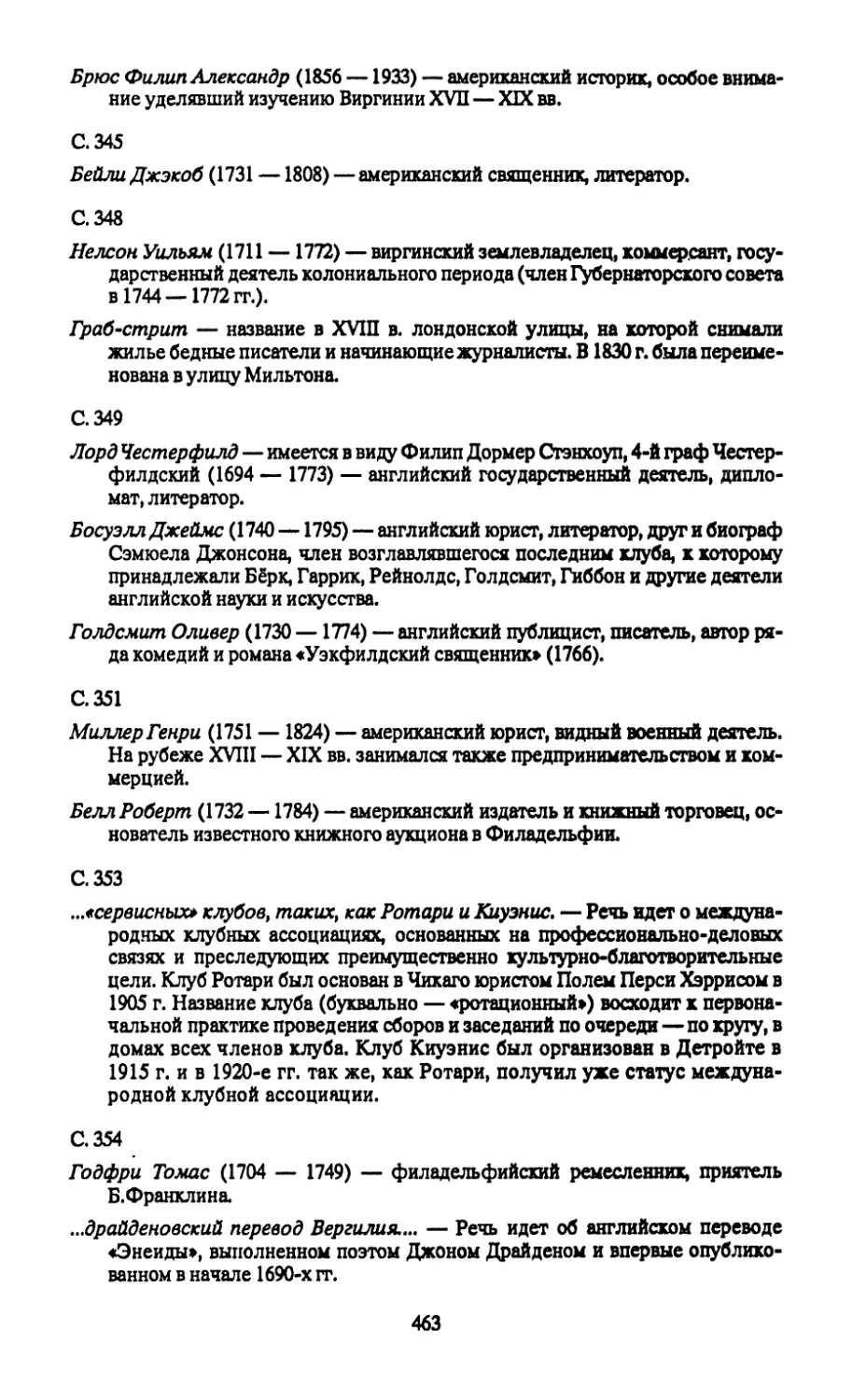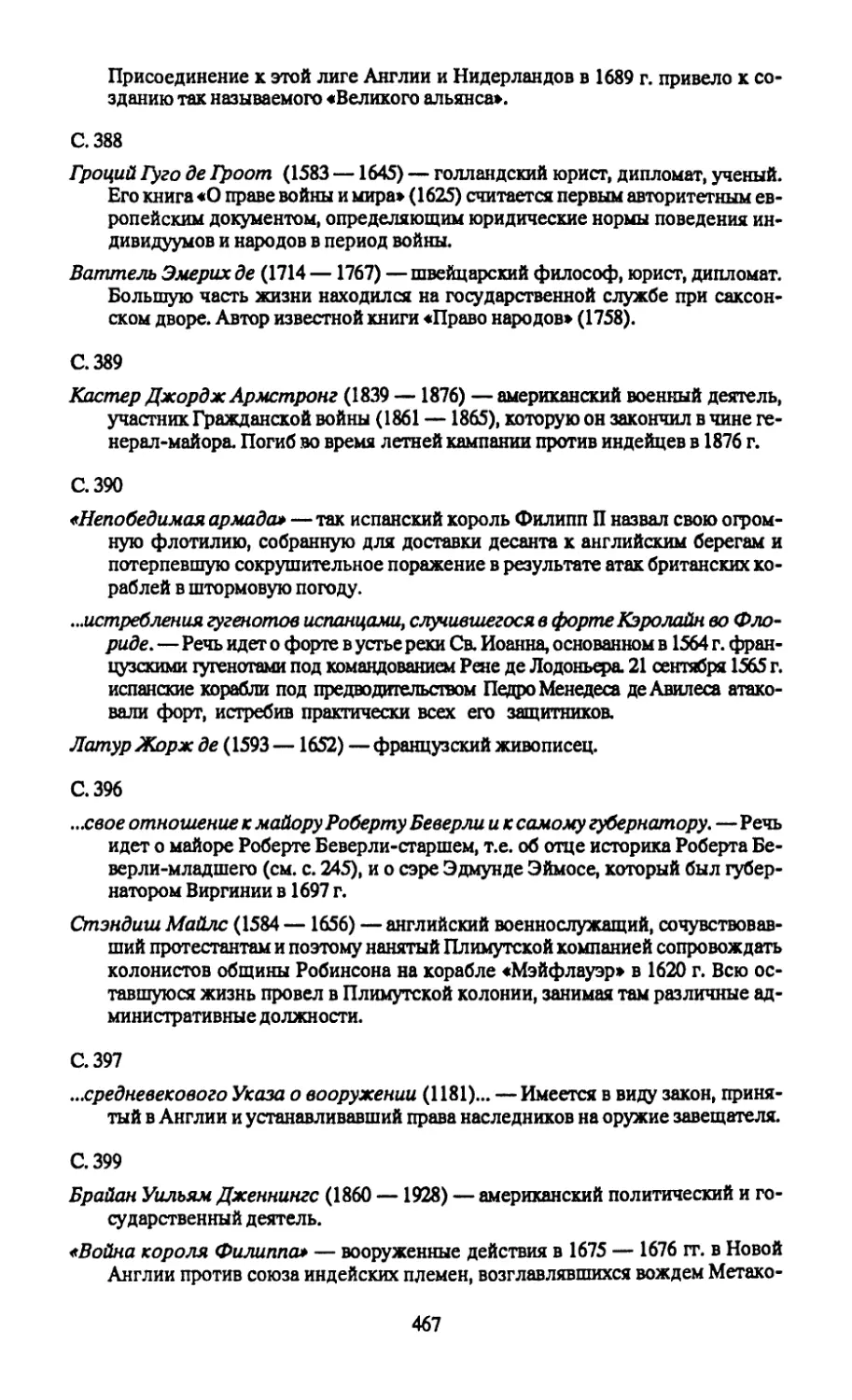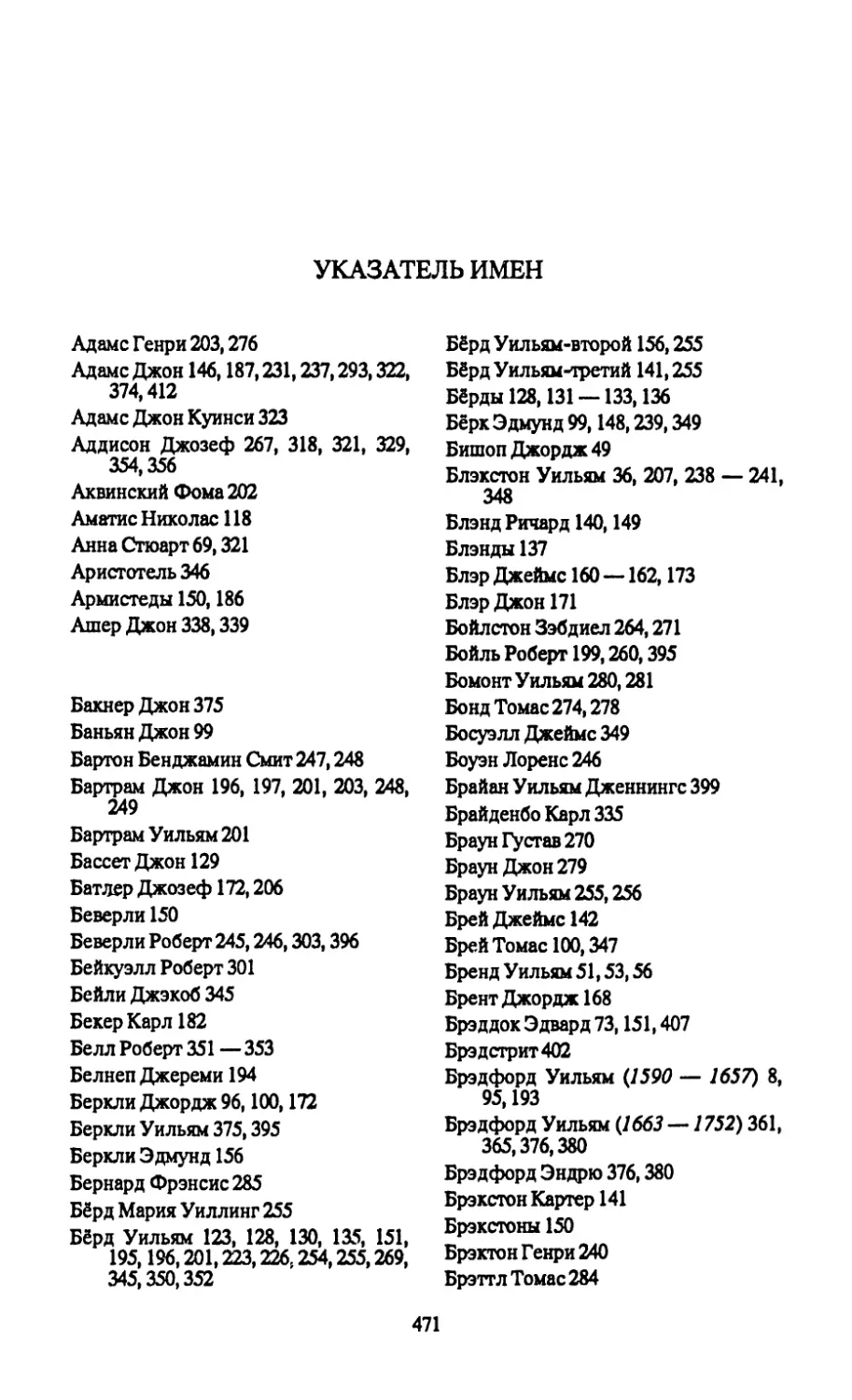Автор: Бурстин Д.
Теги: история культура история америки язык нация москва прогресс американская цивилизация
ISBN: 5-01-002601-5
Год: 1993
Текст
ДЭНИЕ4 БУРСТИН
<~h
КО/ОНИМЬНЫЙ опыт
'V1
лмерикднцы:
КО/1ОНИ44ЬНЫЙ ОПЫТ
THE /MERIQINS
THE COLONUL EXPERIENCE
BY DANIEL J.BOORSTIN
дэниы БУРСТИН лмериюнцы: КО/ЮНИМЬНЫЙ опыт
Перевод с английского
Под общей редакцией и с комментариями кандидата филологических наук В. Т. ОЛЕЙНИКА
МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС» «ЛИТЕРА»
1993
ББК 63.3 (7 США) Б 92
Послесловие В.77. ШЕСТАКОВА Художник В. А. КОРОЛЬКОВ Редакторы К Я. СОЛДАТКИНА и Л. В. САВЧЕНКО
БурстинД.
Б92 Американцы: Колониальный опыт: Пер. с англ. /Под общ. ред. и с коммент. В. Т. Олейника; послеслов. В. П. Шестакова. — М.: Изд. группа «Прогресс»—«Литера», 1993. —480 с.
Трехтомный труд американского историка и публициста Дэниела Бурстина «Американцы» (с соответствующими подзаголовками — «Колониальный опыт», «Национальный опыт» и «Демократический опыт») представляет собой классическое исследование истории становления американской цивилизации — от времени высадки первых европейских переселенцев и до середины XX века. Говоря словами автора, это картина того, что «американская цивилизация сделала с американцами и для американцев». Наряду с рассказом о формировании американской нации, национального характера, языка, культуры и государственности труд Д.Бурстина содержит массу малоизвестной информации о создании американского национального богатства, возникновении массового производства общедоступных товаров, средств транспорта и т.д.
в ~bS(0ij-^3101 КБ-35-97-92 ББК 63.3 (7 США)
Издание осуществлено при содействии Информационного агентства США (USIA)
ISBN 5-01-002601-5
ISBN 5-01-002604-Х
© Copyright, 1958, by Daniel J.Boorstin © Перевод на русский язык, послесловие, комментарии, художественное оформление издательская группа «Прогресс», 1993
ПРЕДИСЛОВИЕ
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
В XX веке история распорядилась так, что судьбы американцев и русских — людей различного жизненного опыта, живущих на противоположных сторонах земного шара,— переплелись довольно тесно. Нас объединяет революционная традиция. Полтора столетия назад классик в области критики американской культуры иностранец Алексис Токвиль увидел русских и американцев, «неожиданно занимающих свои места среди лидирующих наций», идущих «легко и стремительно вперед по пути, которому не видно конца». Он с уверенностью предрекал, что каждый из наших двух народов «по какому-то тайному замыслу Провидения» будет «однажды держать в своих руках судьбу половины мира».
Теперь-то мы знаем, что такая ноша никому не по силам. Но остается непостижимая связь между русским и американским жизненным опытом. Вероятно, во многом будущее мира будет зависеть от нашей способности понимать друг друга. А понять народ без знания его истории невозможно.
До недавнего времени русским читателям была доступна лишь официальная советская версия американской истории. Американцы, напротив, имели преимущество знакомиться как с официальными взглядами советской науки на историю России, так и со взглядами бесчисленных наблюдателей со сторо-ны.Теперь перед читателями вашей страны откроется наконец возможность по-новому взглянуть на историю Америки.
5
Я счастлив, что в России будут читать мою историю американского опыта. Эти тома, результат двадцатипятилетних исследований и размышлений, во многом излагают мою собственную точку зрения. Я отбирал темы, на мой взгляд, наиболее ярко характеризующие американский опыт, а также те, какие сам считал интересными. Советский Союз и Соединенные Штаты объединили свои усилия в исследовании космического пространства. Теперь русские читатели имеют возможность вместе с американцами исследовать прошлое и заново открывать друг друга.
Дэниел Бурстин
Посвящается
РУФИ
Уместно заметить, что в определенном смысле они сотворили Мир заново.
Джерид Элиот
НЕВЕДОМЫЙ БЕРЕГ
Очевидец — губернатор Уильям Брэдфорд — так описывал высадку пассажиров «Мэйфлауэра» на американское побережье в середине ноября 1620 года:
«Все преклонили колени, славя Бога, приведшего нас туда через необозримый бурный океан и хранившего нас от всех опасностей и бедствий, пока снова не очутились мы на твердой земле, в родной своей стихии... Одолев океан, а до этого — море бедствий... не имели они здесь ни друзей, чтобы их встретить; ни постоялых дворов, где подкрепили бы изнуренные тела; ни домов, а тем более городов, где могли бы укрыться и искать помощи. В Писании повествуется, как апостол и спутники его, потерпевши кораблекрушение, гостеприимно были встречены варварами; но те дикари, что встретились нашим путешественникам... более склонны были пронзить их стрелами. А время было зимнее, и тем, кому известны тамошние зимы, ведомо, сколь они суровы и какие бывают свирепые бури, так что путь там опасен даже и по знакомой местности, а тем более вдоль неведомых берегов. Что увидели мы, кроме наводящей ужас мрачной пустыни, полной диких зверей и диких людей? И сколь много их там было, мы не знали. Не могли мы и взойти на вершину Фасги, дабы искать оттуда взором страну, более отвечающую упованиям нашим, ибо, куда ни обращали мы взор (разве лишь к небесам), ни на одном из видимых предметов не мог он отдохнуть.
8
Лето уже миновало, и все предстало нам оголенное непогодой; вся местность, заросшая лесом, являла вид дикий и неприветный. Позади простирался грозный океан, который пересекли мы и который теперь неодолимой преградою отделял нас от цивилизованных стран» *.
* * *
Никогда еще Земля Обетованная не представала в столь неприглядном обличье. Однако на протяжении ближайших полутора столетий — до того даже, как свершится Американская революция, — суровому этому краю суждено было стать одной из наиболее «цивилизованных» стран на земном шаре. Здесь были прочерчены контуры новой цивилизации. Как это происходило?
Перевод 3. Александровой.
Книга первая
ОЗАРЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
Для некоторых своих подданных, неуютно чувствовавших себя на родной почве, Англия приобрела огромную территорию в отдаленной стране.
Адам Смит
Америка зачиналась как отрезвляющий опыт. Колонии были почвой, опровергавшей осуществимость утопий. В последующих главах мы постараемся показать, как реальность Америки растворяла в себе или преображала радужные мечты, возникшие под небом Европы, были ли те грезы плодом пылкого воображения творцов нового Сиона или перфекционистов, филантропов или переселенцев. Новая цивилизация рождалась не столько из планов и проектов, сколько из того отрицания, какое Новый Свет привносил в обыкновения Старого.
Часть первая ГРАД НА ХОЛМЕ ПУРИТАНЕ МАССАЧУСЕТСКОГО ЗАЛИВА
Я повествую о Чудесах Христианской Веры, из бездн Европы вознесшейся к высям Американского Пути; и о том, как... волею Его Божественного Промысла возникла Индейская Пустошь.
Коттон Мэзер
Весной 1630 года «Арабелла», судно водоизмещением триста пятьдесят тонн, с двадцатью восемью орудиями на борту и командой из пятидесяти двух человек, несла по водам Атлантики будущих основателей колонии в Массачусетском заливе. 29 марта корабль отплыл из Коуэса, что на острове Уайет, и достиг берегов Американского континента лишь в конце июня. Едва ли не самым популярным из многих способов заполнения досуга ее пассажиров, укрепления отношений между ними и возглашения хвалы Господу была проповедь. Обращаясь к своим попутчикам, лидер новой общины Джон Уинтроп ненароком затронул ключевую ноту американской истории. «Будем мы, — пророчествовал он, — подобны Граду на Холме, взоры всех народов будут устремлены на нас; и если мы обманем ожидания нашего Господа в деле, за которое взялись, и заставим Его отказать нам в помощи, которую Он оказывает нам ныне, мы станем притчей во языцех всему миру» *. Никому из описывавших это событие, даже спустя триста лет,не удалось лучше выразить американское предназначение. Разбирая особенности пуританского опыта,мы увидим,как оно воплотилось в реальность и под воздействием каких факторов не переросло в фанатизм или утопию.
Путеводным маяком, какой возвело пуританство во благо заблудшего человечества, стала, как показало время, не книга, не
* Перевод В.Олейника.
И
учение. Таким маяком явилась община сама по себе. Америке было чему научить всех, кто попадал на ее землю, — не путем наставления, но путем примера, не тем, что она провозглашала, но тем, как она жила. Таким образом, с самых ранних лет существования страны вопрос о ее будущем органично связывался с верой в особое предназначение Америки.
1
КАК ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ СДЕЛАЛА ПУРИТАН ПРАКТИЧНЫМИ
Никогда еще не был народ так уверен, что находится на праведном пути. «Величайшим утешением и защитой, превыше всего прочего, служит нам то, — писал на заре существования колонии Фрэнсис Хиггинсон в «Новоанглийском поселении», — что у нас проповедуют истинную Веру и святые Заветы Господа Всемогущего... Таким образом, не может быть сомнения в том, что с нами Бог; а коль скоро Бог с нами, кто в силах противостоять нам?»
Однако ортодоксальность пуритан-основателей таила в себе одно специфическое свойство. Богословский склад их мышления предстает совершенно отчетливым при сравнении с американцами XVIII или XIX столетий. Категории изгнания из рая, первородного греха, спасения, предопределения, избранности и обращения были их повседневной духовной пищей. И все-таки реальное их своеобразие заключалось в другом: в том, что богословие волновало их не столько само по себе, сколько в приложении к течению повседневной жизни, особенно общественной. Их интерес к богословию, если оценивать его по меркам XVII века, был чисто практическим. Потребность как можно совершеннее воплотить Истину в слове занимала их меньше, нежели необходимость воплотить в устройстве жизни их общины в Америке ту Истину, которая уже была им доступна. Пуританская Новая Англия вошла в историю как благородный эксперимент в области прикладного богословия.
Условия пустыни, дикой, оторванной от центров науки Старого Света, удаленной от богатейших университетских библиотек, отнюдь не благоприятствовали тому, чтобы пуритане, каждодневно подвергавшиеся тысячам тягот и опасностей во враждебной, нецивилизованной Америке, с жаром предались богословским спорам по теоретическим вопросам. Для этого у
12
Жана Кальвина в Швейцарии или Уильяма Эймса в Голландии было несравненно больше преимуществ. Однако совсем иное дело — испытание богословских ценностей на прочность. Попробовать убедиться, можно ли заново отстроить Храм Сионский, коль скоро люди откажутся от фальши, накопленной за века, минувшие со времен Христа, — для опытной проверки подобной идеи Новая Англия открывала редкие возможности.
Таким образом, если пуритане Нового Света и сделали кальвинизм точкой отсчета в своих исканиях, то этим и ограничились. Они немедленно перевели это учение в плоскость практической жизни. Вплоть до середины XVIII века в Новой Англии не было создано ни одного сколько-нибудь значительного произведения из области теоретического богословия.
И вовсе не оттого, что в Новом Свете невозможно было писать книги. Скорее потому, что богословская теория не входила в круг интересов новоявленных американцев. Место богословских трудов заняли здесь в изобилии рождавшиеся под перьями новоанглийских авторов и сходившие с прессов новоанглийских же типографов (и в свой черед достигавшие берегов метрополии) проповеди, комментарии к библейским текстам, собрания «знамений», законоположения, незаурядные исторические работы. За исключением, пожалуй, Роджера Уильямса (а он, как известно, был фигурой весьма нетипичной на фоне новоанглийской ортодоксии), колония Массачусетского залива не выдвинула ни одного видного теолога — вплоть до Джонатана Эдвардса в середине XVIII столетия. А к этому времени идеология пуританства уже сошла со сцены.
Период пуританского расцвета Новой Англии не отмечен ни одним важным диспутом, который можно было бы определить как богословский по сути. Разгорались, разумеется, жаркие споры о том, кому надлежит управлять Новой Англией, быть ли губернатором колонии Джону Уинтропу, Томасу Дадли или Хэрри Вэйну, есть ли надобность в изменении полномочий или принципа представительства различных классов в руководстве общиной, следует ли принимать петицию Чайлда, обозначать ли в статьях закона наказание за те или иные преступления, принадлежит ли ассистентам право вето, стоит ли усиливать представительство окраинных поселков в Генеральной ассамблее. Даже диспуты с Энн Хатчинсон и Роджером Уильямсом затрагивали в первую очередь компетентность, полномочия и авторитет правителей. Таким образом, сколь бы богословским ни был образ мышления пуритан, предметом их споров были общественные институты.
13
То же впечатление производит знакомство с рожденными этой эпохой образцами политического мышления, философского проникновения в характер общества и функцию правительства. В природе пуританства как такового не заложено ничего, что препятствовало бы подобной направленности мысли. Напомним, что в Англии описываемого периода пуритане подвергли углубленному разбору основополагающие постулаты своего учения. Какова подлинная природа свободы? При каких условиях оправданно неповиновение истинного пуританина коррумпированному гражданскому правительству? В каких случаях надо проявлять терпимость? Чтобы убедиться в распространенности дискуссий по данному кругу вопросов, не обязательно оглядываться на великих — таких, как Джон Мильтон. Диспуты в среде офицеров кромвелевской пуританской армии в 1647—1649 годах показывают, сколь отлична была тамошняя интеллектуальная атмосфера от новоанглийской. Солдаты, люди действия, они не были мыслителями по призванию; однако даже они прерывали привычные свои занятия, чтобы поспорить о вопросах революционной теории и философии суверенности.
Разумеется, то, что называлось «пуританизмом», в Англии представляло собой явление гораздо более сложное, нежели в колонии Массачусетского залива. Оно объединило носителей широкого спектра верований—от пресвитериан, индепендентов и сепаратистов до левеллеров и милленаристов. Спорно было уже то, какое из этих течений стояло в центре английского пуританского движения. И вовсе не удивительно, что в рядах английских пуритан были активные разногласия. Они отнюдь не сводились к острой критике, которую приходилось выслушивать со стороны собратьев-пуритан Кромвелю и его сподвижникам. И эти последние отлично сознавали, что в любой общественной форме, какую они создадут в стране, должно найтись место десяткам религиозных сект, от квакеров до папистов, облюбовавших Англию в качестве своего местопребывания. Английская пуританская литература XVII века так и искрилась огнем по л еми-ческих вспышек.
В Америке того же столетия мы не найдем и отблеска интеллектуального фейерверка, столь характерного для английского пуританства. Ибо духом колонии Массачусетского залива была приверженность ортодоксии. По крайней мере на протяжении первого поколения поселенцев (то есть в ее классическую эпоху) Новая Англия зарекомендовала себя как община, состоявшая из людей, добровольно решивших стать
14
конформистами. В 1637 году Генеральная ассамблея издала указ, запрещающий поселяться в колонии кому бы то ни было, чьи убеждения не будут предварительно одобрены магистратами. Быть может, никогда в будущем — вплоть до закона Маккарена — от иммигрантов в нашу страну не потребуют столь категоричной лояльности. Излагая аргументы в пользу этого указа, Джон Уинтроп был четок и категоричен. Итак, налицо община, сложившаяся по добровольному согласию ее членов. С какой стати терпеть им у себя опасных людей или людей с опасными идеями? Какое право имеют разделяющие подрывные взгляды м-ра Уилрайта претендовать на то, чтобы обосноваться в колонии? «Если мы заподозрим и на печальном опыте убедимся, что его воззрения таковы, что, будучи высказываемы, станут несовместимы с общим миром, разве не вправе мы, блюдя этот мир, отдалить от себя тех, кто дерзнет встать на его сторону и заронит в души нестойких яд подобных вредоносных соблазнов?»
В глазах пуритан в этом заключалось особое преимущество Новой Англии. Почему бы раз в жизни не убедиться, чего может достичь подлинная ортодоксальность? Почему бы в од-ном-единственном не затронутом ересью уголке света не объявить мораторий на ересь, на нескончаемые пререкания богословов? Ведь в этом уголке люди наконец обрели возможность всецело посвятить себя практическому приложению христианства — не уточняя символов веры, но возводя стены Храма Сионского. Сама пуританская Новая Англия вещала устами Натаниела Уорда, когда на страницах «Простого башмачника из Аггавама» (1647) он заявлял: «Ныне, отваживаясь выступить герольдом Новой Англии, именем нашей колонии я объявляю миру, что все фамилисты, антиномиане, анабаптисты и прочие энтузиасты располагают полной свободой не обременять себя нашим обществом, а те, какие еще появятся, — покинуть ее пределы, и чем скорее, тем лучше».
На протяжении ряда лет новоанглийским пуританам сопутствовало редкостное везение: им удалось законсервировать ортодоксальный дух в своей общине. Добившись этого, они добились и другого: вытравили в ней движение теоретической мысли. Главными теологическими работами для них оставались сочинения Уильяма Эймса (который и в глаза не видел Новой Англии), а также «Ортодоксальный евангелист» — элементарное переложение трудов английских богословов, принадлежащее перу Джона Нортона. В Англии, отмеченной кипением пуританской мысли, пресвитериане, индепенденты и
15
левеллеры скрещивали шпаги, развивая и совершенствуя собственные доктрины; в Америке всего этого почти не было.
Раскол, который на английской почве породил бы в рамках пуританизма новые секты, в Новой Англии приводил всего-навсего к появлению новых поселений. Неограниченность территории, подступавшая со всех сторон пустыня — эти факторы избавляли новоанглийское духовенство от необходимости в пределах собственной теологии обеспечивать тот внутренний простор, то пространство для маневра, которые стали характеристикой пуританской идеологии в Англии. Когда Энн Хатчинсон и ее последователи внесли смуту своими неортодоксальными взглядами и несанкционированными вечерними собраниями, ее судили и «отлучили». Результатом, как описывает Джон Уинтроп, явилось то, что в марте 1638 года «она... двинулась по суше в Провиденс, а оттуда — на остров в Нарагансетт-ском заливе, каковой ее муж и прочие из секты выкупили у индейцев и быстро подготовили для переезда». Отступничество Роджера Уильямса — единственное реально обогатившее теорию движение в колонии Массачусетского залива в XVII столетии — привело к его изгнанию в октябре 1635 года. Лишь вернувшись в Англию и постепенно подружившись с Джоном Мильтоном, написал он свои полемические книги.
В Новой Англии несогласных, усомнившихся и инакомыслящих исключали из общины; в Англии пуританам волей-неволей приходилось изыскивать пути жить с ними бок о бок. Поэтому именно в Англии получила изначальное развитие современная теория терпимости. Мильтон и его не столь знаменитые и не столь вдумчивые современники всерьез склонялись к тому, чтобы поставить под вопрос, «обладает ли или должна ли обладать светская власть какими-либо принудительными или ограничительными полномочиями в сфере религии». Таково было течение европейской либеральной мысли, в котором обрел себя Роджер Уильямс. Однако его вынудили покинуть колонию Массачусетского залива, а самое его имя стало синонимом ереси и бунта. Он умер в нищете, изгоем из общины. И даже когда с ходом времени население его крохотного Провиденса будет множиться и преуспевать, городку так и не удастся вырасти из своей первоначальной роли — роли сателлита могущественной ортодоксальной колонии, от которой он отпочковался.
Чертой, определившей действительное своеобразие этой колонии в период расцвета новоанглийского пуританизма, стал ее отказ, по причинам внутреннего свойства, внести свой вклад
16
в теорию терпимости. В Англии середины XVII столетия мы ощущаем все большую тревогу, что попытки пресечь ошибочность убеждений с неизбежностью трансформируются в подавление истины, нарастающую озабоченность тем, что полномочия магистратов в сфере религии могут вылиться в тиранию над совестью. «Я знаю, что существует только одна истина, — пишет автор одного из многих в Англии памфлетов о свободе совести в 1645 году. — Но истину эту не так легко вынести на поверхность при отсутствии этой свободы; и те сковывающие узы, что призваны воспрепятствовать распространению заблуждений, могут, в силу несовершенства людей, сковать и саму истину. И лучше претерпеть это множество заблуждений, нежели исказить или уничтожить одну полезную истину». Каким контрастом этому звучит непогрешимое кредо новоанглийского пуританства в словах Джона Коттона:
Апостол вразумляет (Послание к Титу, 3.10), что в догматах главных и фундаментальных Учения или Служения Господу Слово Божие изречено столь ясно, что после одного или двух предостережений, высказанных мудро и благочестиво, нельзя по совести не убедиться в опасности заблуждения своего. Потому, если и тогда кто-то упорствует, то, как замечает Апостол (стих 11), делает это не по совести, но против совести своей. Он развратился и грешит, будучи самоосужден, то есть погрешая против совести. И потому, если такой человек после такого предостережения продолжает упорствовать в заблуждении своем, он должен быть наказуем: не зато, что действует по совести, но зато, что погрешил против совести своей.
Духовные вожди колонии Массачусетского залива купались в роскоши простой и недвусмысленной ортодоксальности—роскоши, которой Англия XVII столетия не могла себе позволить.
И все же неспособность новоанглийского пуританства дать толчок развитию теории терпимости (или даже непредубежденно поставить вопрос о ней) не во всех отношениях оказалась слабостью. Литература колонии не стала, разумеется, от этого богаче — многое в ней отмечено жесткостью и ригоризмом; однако, по крайней мере на время, такая неспособность явилась источником силы. Замыслы основателей колонии были отнюдь не философского свойства; превыше и прежде всего они оставались строителями общества. С пылом, с каким их английские современники устремлялись выяснять различия между оттенками понятий «принудительная» и «ограничительная» применительно к вопросам веры, между «вещами основополагающими» и «вещами безотносительными», обращались к неисчислимому множеству других проблем, не перестававших волновать вдумчивых исследователей политической теории, с этим пылом аме
17
риканские пуритане всецело посвятили себя определению границ своих новых городов, внедрению в практику уголовного законодательства и отражению индейской угрозы. Сама их ортодоксальность способствовала сосредоточенности на практических задачах.
Богословие и метафизика не более отвлекали американских пуритан от их повседневных дел, нежели отвлекают нас сегодня. Именно в силу того, что они не испытывали сомнений и не допускали инакомыслия, им удалось избежать озабоченности проблемами теологического порядка. Посвяти они столько же энергии спорам друг с другом, как их английские современники, им не удалось бы выработать в себе решительности и целеустремленности, необходимых, чтобы выжить в условиях смутного, чреватого неведомыми опасностями бытия на пороге пустыни. Возможно, они и снискали бы себе славу предшественников современного либерализма, но не смогли бы основать нацию.
2
ПРОПОВЕДЬ КАК ИНСТИТУТ АМЕРИКАНСКОЙ ЖИЗНИ
Было бы упрощением считать, что практическая ориентация новоанглийского менталитета, которой способствовали, с одной стороны, традиционная для колонии строгая ортодоксальность, а с другой — незаурядная широта возможностей, открываемых Новым Светом, находила лишь негативное выражение — в отсутствии масштабных исследований по проблемам теоретического богословия и иных образцов абстрактного мышления. Пожалуй, наиболее живо воплотился новоанглийский дух в жанре проповеди. Именно в этом жанре интеллект Новой Англии обрел наиболее адекватную для себя среду духовного обитания и добился в ходе первых десятилетий заселения колонии впечатляющих успехов.Подобные успехи вряд ли были бы возможны, не будь колонисты ограждены от посторонних влияний прочно воцарившейся здесь атмосферой ортодоксии и не будь они столь сосредоточены на решении сугубо практических задач. Таким образом, опыт пуритан колонии Массачусетского залива предвосхитил то пронизывающее всю американскую историю специфическое стечение обстоятельств, при котором в наметившемся противостоянии печатного и устного слова решительно возобладал социальный статус последнего.
Скудость фундаментальных печатных трудов по общим вопросам и неиссякающий поток устного словоизвержения —
18
эти два взаимодополняющих фактора характеризуют американскую культуру с момента ее зарождения. Любая разновидность публичной речи — будь то религиозная проповедь, обращение к аудитории в связи с какой-либо знаменательной датой или агитационное выступление проводящего свою предвыборную кампанию политика — наглядно подтверждает, что между оратором и слушателями существуют определенное взаимопонимание и объединяющая обе стороны система ценностей. Устное слово всегда более злободневно, нежели печатное: его цель — установить цепочку взаимозависимостей между общественными ценностями, разделяемыми всеми, и уделом человеческим в том или ином времени и месте. Это слово прямо обращено к конкретной аудитории и ее текущим проблемам.
В рамках общей доктрины протестантства не однажды делался акцент на особой роли проповедования, и это неудивительно. От внимания ее основоположников, решительно отвергавших функцию духовника как посредника между Господом Богом и душой каждого верующего, не ускользала другая сторона вопроса: каждому должен быть открыт свет евангельских истин. А что может послужить этому лучше, нежели устное выступление, в ходе которого человек ученый и красноречивый высветит сквозь призму Слова Божьего суть жизненного удела любого из смертных, заполняющих храм? Стоит напомнить, что XVII век вообще был веком ярчайшего расцвета проповеди на английском языке, причем проповеди не только пуританской. Это была эпоха Джона Донна и Джереми Тейлора — сторонников государственной английской церкви, чьи выступления с кафедр стали классикой этого жанра. Да и сами английские пуритане к середине века достигли в чтении своих проповедей столь отточенного стилевого совершенства, что внимательный прихожанин, вслушиваясь в слова проповедника, мог определить, к какому направлению в пуританском движении он принадлежит.
В полемике с витиеватым «метафизическим» стилем проповедей Ланселота Эндрюса или Джона Донна пуритане выработали манеру проповедовать, которая, по их же определению, впоследствии стала известна как «простая». Законы и правила этого стиля были изложены в специальных руководствах вроде «Искусства проповедовать» Уильяма Перкинса — английской книги, которая в начальный период Новой Англии имелась в составе почти каждого книжного собрания. Главной приметой «простого» стиля была, само собой разумеется, простота. Но,
19
кроме того, проповедующему предписывалось быть как можно доходчивее, уделяя преимущественное внимание путям и способам практического усвоения библейских заповедей, не ограничиваясь теоретическим их изложением. Как отметил Перри Миллер, пуританская проповедь «больше напоминала речь юриста в суде, нежели произведение искусства». Канонически она включала в себя следующие составляющие: «речение», «рассуждение» и «поучение». Первое содержало истолкование проповедником того или иного места из Библии (с него начиналась всякая проповедь); второе представляло собой развернутый свод аргументов в пользу истинности «речения»; наконец, в третьем намечались пути воплощения изложенного в житейский опыт прихожан — иными словами, конкретизировался вытекавший из проповеди «урок», наставление.
«Простой» стиль пуританских проповедей был во всех отношениях противоположен напыщенному. «Пастырями толстогубыми нарек Христос тех проповедников, — напоминал современникам Джон Коттон в 1642 году, — кто, исполнясь гордыни, выпускает из уст пузыри бренной мудрости человеческой». Сын Божий поступал иначе: не довольствуясь тем, что «дарил людей откровением, ниспосланным свыше», он чаще «говорил с ними на их языке, как мы на английском... Он не пускал на ветер слов незначащих». Пуританскому проповеднику возбранялось приводить цитаты на иностранных языках: «Ибо сколь есть латыни, столь и мирского в проповеди».
Если у проповедников «метафизической» ориентации эффект воздействия на слушателей определялся мастерством, с каким они использовали изощренные фигуры речи, то проповедники-пуритане широко прибегали к примерам и аналогиям, заимствованным из области быта. «Алтарь Божий не нуждается в украшениях наших», — провозглашали авторы введения к «Книге псалмов», отпечатанной в типографии колонии Массачусетского залива (1640), — первой из книг, выпущенных на территории американских колоний. Сохраняя верность этой традиции, Томас Хукер уподобил тело воскресшего Христа «разросшейся луковице». Воскресшее тело, раскрывал он свою метафору, дает ростки, как повешенная на стену луковица — «не оттого, что нечто добавляется в нее извне, но оттого, что сама она разрастается все больше; и в конце концов не новое тело возникает, но та же сущность, только возросшая в размерах».
Эти свойства «простого» стиля отвечали, как мы знаем, общей направленности развития пуританского письма и пуританской мысли по обе стороны Атлантики. Американцы с успехом
20
осваивали опыт таких английских методик, как книга Перкинса, однако в Новом Свете были и свои внутренние побудительные мотивы для обращения к такой стилистике. Как пояснял Хукер в начале своего «Обзора церковного устава» (1648):
Если читателя удивляет, что пастырь произносит свою проповедь в будничном облачении, а паства стекается в храм в том же платье, в каком предавалась трудам дневным, да будет ему ведомо, что повествую я о пустынных местах, где тщеславие не в почете. Поселенцы, если есть у них одежда, чтобы укрыться от холода, оставляют кружева и манжеты на потребу тем, кто пребывает в праздной роскоши... к ясности и простоте,как по части предмета, так и по части его изложения, я прибегал сознательно в ходе всего рассуждения, ибо всегда считал, что тем писаниям, каковые достигают дальних краев,надлежит не ослеплять малых сих цветами красноречия,но наставлять в помыслах и самых отсталых из них,и полагал,что главнейшее свойство разумной учености—путем объяснения делать трудное простым и ясным.
Простота жизни на пороге пустыни, немногочисленность и однородность населения и торжество ортодоксии на ранних этапах существования колонии—все это сообщало «простому» стилю в Америке еще большую прямоту и мужественность.
В Новой Англии проповедь далеко вышла за рамки литературного жанра. Она стала здесь общественным институтом, притом, возможно, самым характерным институтом, воплотившим сущность пуританской идеологии, средством ритуального приложения теологии к задачам построения общества, преодоления трудностей и решения задач, выдвигаемых повседневной действительностью. Если в метрополии в проповеди неизбежно слышался диссонирующий глас той или иной части населения, то в Новой Англии она выступает в функции идейного рупора как самоутверждения, так и самокритики общины в целом, неким подобием вновь и вновь провозглашаемой декларации независимости, инструментом постоянного обновления идеалов.
В молельных домах Новой Англии почетное место занял не алтарь, но амвон. Аналогичным образом и в проповеди, этом особом преломлении Слова Божьего, сосредоточилась созидательная энергия лучших умов колонии. Напомним, что обстоятельством, более всего воодушевлявшим Хиггинсона в надежде, что его колония станет образцом подлинной религиозности, была скорее не незыблемость пуританского учения, а то, что «у нас проповедуют истинную Веру и святые Заветы Господа Всемогущего. Благодарение Богу, в трудах наших нам сопутствуют неустанная проповедь и усердное наставление в делах духовных».
21
После того как в 1660 году в Англии потерпел крах пуританский политический курс, каждый из носителей этого вероучения оказался предоставлен самому себе. Помыслы рядовых пуритан волей-неволей устремлялись внутрь; любому из них не оставалось ничего другого, как отыскивать, подобно герою «Благости безграничной», собственный путь духовного совершенствования без оглядки на окружающих. В Америке, пребывавшей вне сферы английской внутренней политики, за пуританами сохранилась свобода продолжения их социальной деятельности. Таким образом, история новоанглийского амвона — не что иное, как непрерываемая череда попыток духовных вождей Нового Света максимально приблизить жизнеустройство в своей общине к идеалам христианства.
Важнейшей функцией молельного дома в Новой Англии (как и синагоги, по образцу которой он был сознательно сконструирован) явилась функция наставления прихожан. Здесь паству приобщали к ее обязанностям. Здесь человек обретал свой индивидуальный путь к совершенству, здесь он укреплялся духом, дабы во всеоружии принять участие в строительстве Храма Сионского в пустыне, в создании Града на Холме — нерушимой твердыни, на которую могли бы с надеждой взирать другие. В территориальном и социальном отношении молельный дом был средоточием жизни новоанглийского города; главным же ее событием закономерно становилась проповедь.
Она была обрядом, ничуть не менее важным, нежели те таинства, входе которых жрецы предвещали жителям древней Месопотамии грядущие испытания и катаклизмы, каким готовились подвергнуть их боги. Проповедники Новой Англии, если прибегнуть к их собственному определению, «открывали» прихожанам библейские тексты, в соответствии с которыми им предстояло жить и строить свои отношения. Отмеченные солидной богословской эрудицией, эти проповеди в то же время были весьма содержательны в практическом плане, что неудивительно: наличие общей, всеми разделяемой теологической концепции делало само собой разумеющимся, что главная обязанность проповедника — как можно доходчивее и нагляднее сформулировать «поучения», усвоив которые люди могли с просветленной душой закладывать кирпичи в фундамент Храма Сионского.
Перечень поводов для произнесения проповеди (большинство их с достойной сожаления легкостью оказалось предано забвению) свидетельствует о несомненной весомости этого института на раннем этапе существования Новой Англии. Две
22
проповеди читались по воскресеньям, и одна — обычно с зачтением библейских текстов — по четвергам. Посещение церкви вменялось в обязанность законом; уклонение от него каралось денежным штрафом (акт 1646 года предусматривал штраф в пять шиллингов за каждый такой проступок). Воскресная служба определялась в законе как «публичное возглашение Слова Божия». С трудом можно припомнить в жизни общины сколько-нибудь значимое событие, которое не сопровождалось бы проповедью, в большинстве случаев выливавшейся в кульминацию всего происходящего. Наиболее примечательны, пожалуй, были проповеди, приуроченные к очередным выборам; посредством таких проповедей духовное сословие ощутимо влияло на ход политических событий (добавим, что к этой особенности своего общественного строя Новая Англия сохранила приверженность и в пору Американской революции). В свете канонических богословских истин там трактовались варианты выбора, какой предстояло сделать избирателям, характеризовались качества образцового правителя и акцентировались взаимные обязанности народа и власть имущих. К 1659 году восходят так называемые «артиллерийские» проповеди: их читали в дни всеобщего сбора новоанглийской милиции, избиравшей своих офицеров. Нельзя обойти молчанием и весьма многочисленные в колонии Массачусетского залива (в 1639 году их насчитывалось девятнадцать; в 1675—1676 годах — пятьдесят) дни поста и Благодарения; их апофеозом также становились проповеди, где людям объяснялось, за что Бог наказывает или вознаграждает.
Даже когда повод для проповеди был из английской религиозной традиции, в Новой Англии он обретал новое значение, становясь общественным обрядом. Так, благодаря малочисленности общины и ее ортодоксальности в вопросах веры принципиально новое, неформальное воплощение получил здесь давний английский обычай обращаться с проповедью к осужденному перед повешением. В Новой Англии в этом действе принимал активное участие даже сам приговоренный.
Сохранился рассказ очевидца о том, что предшествовало казни убийцы Джеймса Моргана в Бостоне в 1686 году. «Во спасение души преступника Моргана, чья казнь была назначена на И марта, в присутствии осужденного сказаны были три великолепные проповеди: две в День Господень и одна прямо перед казнью». Коттон Мэзер и Джошуа Муди прочли воскресные проповеди продолжительностью в час каждая; Инкриз Мэзер произнес последнюю — у подножия виселицы. В новую церковь в
23
Бостоне послушать Джошуа Муди набралось столько народу, что балки на галерее треснули и прихожанам пришлось перейти в другое место. Все трое обратились к преступнику со страстными призывами покаяться, пока еще не поздно, а к конгрегации — иными словами, ко всей общине — с просьбой вынести для себя уроки из печального его примера. Проповеднику, сопровождавшему его до порога виселицы, Морган сказал: «Я искренне скорблю обо всех моих прегрешениях, но более всего — по поводу того, что пренебрегал милостью Господа. По воскресеньям, когда надлежало мне быть в церкви, я праздно валялся в постели дома или предавался праздному времяпрепровождению в других местах. За это я и поплатился!»
За миг до петли, глядя на гроб, приготовленный принять его останки, Морган отыграл до конца свою роль в обряде. Используя последнюю возможность, он обратился к собравшимся с проповедью — такой, какая могла принадлежать ему одному. В записи, сделанной кем-то из очевидцев, она выглядит так:
Я молю Бога, чтобы стать мне предостережением вам всем, и о том, чтобы был я последним, кто так уходит из жизни... Умирая, готовясь через несколько минут предстать пред Господом, молю Его, чтобы вы вняли словам моим. Остерегайтесь пьянства, дурной компании и превыше всего цените все добрые наставления. Не отвращайте ушей от слова Господня, как я это делал. Когда я еще ходил к обедне, то, чуть выйдя из храма, уже начинал грешить и услаждать похотливые желания моей плоти... О, если бы я мог ступить на путь добра в этот краткий миг, пока я не покинул сей мир и не ушел в небытие! О, внемлите моим словам ныне, когда ухожу я! Да умудрит вас участь моя, и молите Господа, дабы охранил он вас от греха, что привел меня к погибели!
Такого рода речь из уст приговоренного — вовсе не исключение. В «Великих деяниях Христа в Америке» Коттона Мэзера двадцать страниц убористого текста составляет «История преступников, приговоренных в Новой Англии к смертной казни за свои тяжкие преступления; с приложением некоторых из их предсмертных речей».
Разумеется, дополнительную притягательную силу сообщало проповеди в глазах новоанглийских пуритан отсутствие других видов развлечений и зрелищ. Сходить к обедне для поселенцев значило повидаться с дальними соседями, посудачить о разных разностях, обменяться новостями. Если бы не проповеди, в жизни колонистов Новой Англии осталось бы совсем немного возможностей участвовать в публичных представлениях. В их распоряжении не было ни газет, ни театра, ни кино, радио или телевидения. Отсутствие этих институтов ставило
24
проповедника в очень выгодное положение перед аудиторией. Но было и множество тягот. Долгие годы в молельных домах Новой Англии не было ни внутреннего освещения, ни отопления. Осенью и зимой под крышами завывал ветер, прихожан насквозь пронизывал проникавший через щели сквозняк. Иногда во время обедни руки ревностных прихожан так замерзали,что они не в состоянии были делать записи.Лишь спустя десятилетия вошли в обиход удобные,но небезопасные печки для ног,а открытые камины появились только в начале XIX столетия. Скамьи были жесткими. А когда много позже за счет прихожан-владельцев установили отгороженные сиденья, у тех, кто помоложе, появился соблазн скрывать за их высокими спинками недостаток внимания или перешептываться с соседями сквозь резные перегородки; нерадивых изобличали струившиеся изо рта облачка пара. В эти-то негостеприимные молельные дома поселенцам Новой Англии в первые десятилетия ее существования приходилось брести, подчас по нескольку миль, по бездорожью, зимой — утопая в снегу, весной и осенью — по колено в грязи, рискуя, ко всему прочему, стать очередной жертвой нападения индейцев. Сказанное лишь подчеркивает, сколь большую важность в существовании новоанглийского пуританина обрели проповедь и молельный дом.
Из того, что посещение службы вменялось в обязанность, отнюдь не следует, что тем самым предполагалось поверхностноформальное отношение к проповеди. Нехватка книг и значимость обсуждаемых с амвона вопросов заставляли многих прихожан появляться в молельных домах с записными книжками. Да и проповедник, как правило на всю жизнь оседавший в том или ином приходе, не искал более многочисленной или более зажиточной паствы. Уместно добавить, что и конгрегация, по меркам той эпохи, была на редкость начитанна и строга; нельзя было и помыслить о том, чтобы привлечь ее внимание чем-то случайным и безотносительным к предмету, вроде текущей хроники новостей, выступлений заезжей труппы или очередной речи записного оратора. Все это обязывало проповедника к профессиональной компетентности, побуждая держаться на высоте, адекватной исключительной важности места, какое проповедь занимала в жизни колонии.
Итак, новоанглийская проповедь сыграла роль массовой церемонии, в которой осуществилось органическое слияние строгого религиозного духа с неисчерпаемым разнообразием жизненного опыта: гибелью мальчика, катавшегося на коньках по льду озера Чарлз и провалившегося под лед, землетрясени
25
ем, нашествием саранчи, прибытием корабля, выборами магистрата, смотром ополчения. Теология явилась тем инструментом, с помощью которого на почве Нового Света возводился Храм Сионский.
з
поиск НОВОАНГЛИЙСКОГО ПУТИ
В глазах пуритан и тех, кто пришел им на смену, предназначение Америки было неотделимо от задачи построения общества. История цивилизации Нового Света не знает момента, когда совершенствование духовной доктрины отодвинуло бы на второй план заботу о совершенствовании возникших в лоне этой цивилизации общественных институтов. Ибо пуритан, как и американцев многих последующих поколений, больше волновали успешно функционирующие институты, нежели блеск всеобщих истин.
Понятие «новоанглийский путь» — не что иное, как ранний прообраз (не слишком разнящийся по духу, хотя и бесконечно отличный по наполнению) современного понятия «американский образ жизни». То, что пуритане стремились «очистить» в английской церкви, относилось не к ее вероучению, а к ее светской политике, не к ее догматике, а к ее практикеЛо части доктринальных проблем поселенцы Новой Англии были подчеркнутыми конформистами. «Даже здесь, оказавшись на дальнем краю Земли, — говорил Джон Нортон, — переменили мы только климат, но не умы наши». Вновь и вновь в ходе собраний и съездов духовные вожди американского пуританства подтверждали свою ортодоксальность.
Верность общепринятой теологический концепции явствовала из самого облика их деклараций. Основополагающими документами новоанглийского пуританского движения становились не «символы веры», но «платформы». Почти за два столетия до того, как первая политическая партия Америки разработает собственную «платформу», в которой с очевидностью продемонстрирует примат внимания к конкретной программе действий над общими вопросами теории, американские пуритане уже сделали шаг в этом направлении. Наиболее отчетливое изъявление их религиозных целей стало итогом встречи церковных старейшин в Кембридже в 1648 году. Опубликованный под заглавием «Платформа церковного устава», этот доку
26
мент в дальнейшем приобретет известность как «Кембриджская платформа». В ней авторы заявляли:
Милостью Господа нашего Иисуса Христа представляя церкви наши, мы исповедуем и присягаем тому же евангельскому учению, каковое принято всеми реформированными христианскими церквами в Европе; никоим образом не дерзаем мы отклониться от того истинного и правдивого учения, какое несут в мир церкви родины нашей... мы, по природе оставаясь англичанами, уповаем и впредь нести свет той же веры, особенно в важнейших положениях ее, каковую, в согласии с истиной Евангелия, проповедуют церкви Англии.
Что же не устраивало в практике этой церкви обитателей Новой Англии? По словам Джона Коттона (он написал введение к «Платформе»), их тревожили «недружественные, небратские, нехристианские раздоры между братьями нашими по вере и соотечественниками в вопросах церковного управления». Исправить такое положение вещей поставило себе задачей духовное сословие Новой Англии. Текст «Платформы» — этого манифеста новоанглийского конгрегационализма и программы его действий на более чем полувековой период — преследовал исключительно эти практические цели.
Вновь и вновь звучал на первых соборах Новой Англии тезис о единой теологической концепции, лежащей в основе деятельности ее церквей. «В том, что касается доктрины, — было заявлено в Бостоне в 1680 году, — мы солидарны с другими реформированными церквами; но те установления, какие регламентируют порядок совершения обрядов и устав, побудили отцов наших войта в эту пустыню, когда она была полем несеяным, дабы могли они беспрепятственно служить Господу в согласии с убеждениями и долгом своим». Спустя полвека, в 1726 году, Коттон Мэзер подтвердит, что учение англиканской церкви соблюдалось и проповедовалось в Новой Англии более последовательно и неукоснительно, нежели в любой другой стране; единственные «пункты расхождения», наличествующие между колонией и метрополией, лежат в области церковного устава.
Типичная для пуритан сосредоточенность на вопросах образа жизни была столь сильна, что в их глазах казалось нереальным и даже вредным обобщенное понятие «церковь». Они приучились избегать употребления этого слова применительно к приверженцам того или иного течения и даже к помещению, в котором собирались прихожане. Место, где отправляли обедни, колонисты Новой Англии предпочитали именовать «молельным домом». Называть молельный дом «церковью», заметил однаж
27
ды Ричард Мэзер, не что иное, как весьма опасный оборот речи. «Никоим образом из Писания не следует, что может быть наречено церковью место, где встречаются верующие». И потому, заявляя о том, чтб они со своей стороны готовы принести в мир, поселенцы Новой Англии на протяжении долгих лет говорили не о «символе веры», не о своей «церкви», а именно о «новоанглийском пути».
В числе важнейших факторов, побуждавших их двигаться в этом направлении, были специфика их теологии (включавшая, в частности, мысль о «федерации»), а также их юридический статус — статус колонии. «Федеральную» теологию, составлявшую внутреннее содержание существования пуритан Новой Англии, уместнее всего определить как своего рода доктринальный айсберг,скрывавший под поверхностью воды плотную теологическую субстанцию большего объема и веса, нежели то, что выступало на поверхность. Для того чтобы полностью показать это скрытое основание айсберга, пришлось бы ни больше ни меньше как проанализировать весь протестан-тизм.Частью же, зримо и ощутимо выступившей на поверхность новоанглийской жизни, стал федеральный путь развития церкви, вошедший в научный обиход под названием «конгрегационализм».
В основе конгрегационализма лежал акцент на реальных взаимоотношениях между людьми. Каждая церковь была не деталью застывшего иерархического здания, не частью совершенного и завершенного целого, но неким подобием клуба, объединившего отдельных христиан в стремлении к праведному образу жизни. Соответственно конгрегационалистская церковь не была чем-то монолитным; она отражала текущие групповые интересы и заботы. Пуритане — в тех случаях, когда они вообще употребляли это слово, — предпочитали говорить о «церквах», а не о «церкви» Новой Англии. Их объединяла не единая административная структура, но общность духовного поиска и образа жизни.
У истоков идеи конгрегационализма лежала мысль о том, что подлинная христианская церковь — это церковь, приспособленная к конкретным обстоятельствам своего местоположения и базирующаяся на взаимном, устойчивом соглашении между той или иной группой верующих. В первой главе «Кембриджской платформы» ставился вопрос: как должны совершаться обряды? Ответ был весьма прост: обряды «надлежит совершать так, чтобы, с учетом всех сопутствующих обстоятельств, они были в возможно большей мере поучительными;
28
что до порядка совершения их, то, коль скоро люди не ошибаются относительно их установления, порядок их совершения должно признать как бы ниспосланным свыше». Практическими соображениями предстояло руководствоваться и при определении количества прихожан. «Состав церкви в том, что касается количества, не должен превышать числа верующих, каковое может быть без особых утеснений собрано в одном месте, но и не надлежит ему без надобности быть меньшим, нежели потребно для надлежащего совершения обрядов». Учитывалось и то, что любая конгрегация имеет свою специфику — -«собственные достоинства, за кои не должно воздавать хвалы другим, и собственные недостатки, за кои не должно порицать других».
Таким образом, в основе формирования церкви была не административная санкция, не стихийное собрание верующих, а ♦ковенант», или договор, в группе «святых», то есть тех, кто на личном опыте «сподобился благости». Чтобы получить сан проповедника, не требовалось кончать семинарию или пройти посвящение специальным обрядом рукоположения священнослужителя более высокого ранга. Скорее проповедничество было обязанностью одного благочестивого христианина по отношению к группе своих единоверцев. Дабы удостоиться права проповедовать с кафедры, надлежало прежде всего быть «призванным» группой собратьев по вере; с расторжением же подобного «договора» проповедник переставал быть таковым. В рамках конгрегационалистской церкви непосредственные отношения между верующими перевешивали значимость наследуемого или обретенного с помощью ритуала рукоположения сана: реальная практика одерживала верх над формальными предписаниями.
Не в последнюю очередь такой взгляд на вещи стимулировался пуританским отношением к Библии. Если где-то и были запечатлены пуританские верования, то, разумеется, в Слове Божьем. Пуритане жаждали быть ведомыми «одним повелением, даже Словом единым Вседержителя». Библия сделалась для них путеводной звездой, пожалуй, в большей степени, нежели для всех других христиан этой эпохи. С помощью Библии, утверждалось в «Кембриджской платформе», каждый мог обрести свое жизненное предначертание и светоч Истины:
Пуги властей предержащих предписаны в слове, ибо Господь наш Иисус Христос, царь и законодатель церкви своей, не менее сведущ в делах дома Божия, нежели Моисей, коему Господь вручил законы и форму правления сынами Израилевыми в Ветхом завете; и слова Священного Писания столь
29
совершенны, что способны привести к совершенству каждого истинного верующего, сделать его всецело готовым к любому благому деянию; а следовательно, и к тому, чтобы подобающим образом блюсти порядок в доме Божием.
Однако пытаться жить, руководствуясь Библией, было вызовом и испытанием совсем иного рода, нежели пытаться жить по законам мидян или персов, по заветам всехристианского кредо первых веков нашей эры или даже Вестминстерского уложения. Ибо сама по себе Библия не была ни сводом предписаний, ни символом веры: она была повествованием. Этим элементарным фактом обусловлено многое из того, чем определялось отношение пуритан к обыденному опыту. Разумеется, в тех или иных частях Библии — таких, скажем, как Левит или Второзаконие, — содержался четко выраженный свод законов; в глазах пуритан притягательность этих книг определялась всего-навсего тем, что изложенные в них предписания столь отчетливы. Конечно, десять заповедей составляли первостепенный компонент мышления пуритан; и все-таки законом их существования была Библия в целом. В поисках ответов на вставшие перед ними проблемы они так же охотно обращались к Исходу, Книгам Царств или Посланиям к Римлянам, как и к менее сюжетным разделам Библии. Необычность выпавшего на их долю удела и склонность к драматическому мировосприятию побуждали их усматривать в этих повествовательных книгах особый смысл. Обстоятельства их реальной жизни приводили к самоотождествлению с сынами Израилевыми. Они были искренне убеждены в том, что, добровольно уходя в пустыню, не просто следовали изреченному велению, но заново переживали библейскую драму исхода. Для них Библия была не столько сводом законов, сколько системой заслуживающих внимания прецедентов.
В итоге отличительной чертой пуританского склада мышления стала своеобразная одержимость поисками парных ситуационных аналогий — стремлением уподобить ту ситуацию,в которой оказались они сами, какой-то одной из некогда запечатленных в Библии. Правда, заповедь «Не убий» априорно принималась за веру. Но их нешуточно волновали — и вызывали ожесточенные споры — вопросы о том, в какой мере, как и в чем тот или иной из нашедших отражение в Библии эпизодов походил на тот или иной в их непосредственном опыте. К примеру, «страшное и безжалостное землетрясение», происшедшее 1 июня 1638 года, и еще одно (оно имело место 14 января 1639 года), «случившееся как раз тогда, когда князья церкви
30
готовились направить свои вердикты в Шотландию», — эти землетрясения напомнили капитану Эдварду Джонсону о том, что «сам Господь... разразился громом с Холма Сионского, как в незабвенные дни пророка Амоса». Свидетельством тому—едва ли не любая страница ранней новоанглийской литературы. «Закон, предписывающий выбор высших руководителей, — пишет Джон Коттон, — есть закон, в равной мере необходимый и важный для любого правления; он гласит, что один из братьев, а не иноземец должен быть поставлен над ними (Второзаконие, 17.15); и Господом вдохновлен был Иофор, сказавший Моисею, что судьи и чиновники, возвышенные над народом, должны быть людьми, боящимися Бога (Исход, 18.21); и Соломон изрек, что счастлив тот народ, где у власти люди праведные, и в стон его повергает, когда правят лицемеры (Книга притчей Соломоновых, 29.2; Иов, 34.30)».
Таким образом, пуританской ортодоксии Америка обязана появлением практического гражданского законодательства. Отличавшая пуритан повседневная опора на Библию, их стремление к разработке платформ, программ действий, идей федеративного устройства — все это в значительно большей мере, нежели присущий им религиозный догматизм, определило своеобразие их общественного уклада, предвосхитив особенности политической жизни Америки в течение последующих веков.
4 ПУРИТАНСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ
Из обстоятельств, обусловивших практичность подхода американских пуритан к их религиозной доктрине, важнейшим оказалось то, что они были жителями колонии. Сколь бы определенны и догматичны ни были императивы их религиозного учения, колонисты не могли себе позволить лишь на его основе строить свои политические институты. Несколькими десятилетиями раньше их женевские единоверцы-кальвинисты в этом отношении руководствовались лишь индивидуальными устремлениями и требованиями догмы. Однако уже на начальном этапе существования Новой Англии просматриваются признаки ее колониального статуса, который в решающей степени предопределит все развитие американской политической мысли в эпоху Революции и будет способствовать становлению наших
31
общественных институтов под знаками умеренности, компромисса и традиционализма.
Из этого колониального положения вытекало, во-первых, общепринятое убеждение, что существуют определенные пределы, которых не вольны преступать законодатели (иными словами, это был конституционализм), и, во-вторых, мысль о том, что наиболее естественный и правильный способ формирования гражданских институтов — опора на обычай и традицию, а отнюдь не на законодательные или административные указы. Гражданские институты в гораздо большей степени — следствия обстоятельств, в которых находились пуритане Новой Англии, нежели плоды умозрительных политических доктрин, которым они отдавали предпочтение.
В первой хартии колонии Массачусетского залива (1629) король Карл уполномочивал Генеральную ассамблею издавать «все виды полезных и разумных указов, законов, статутов, а также ордонансов, постановлений и предписаний» при условии, что они «не войдут в противоречие с законами нашего Королевства Английского». Колонисты, отнюдь не будучи законоведами, обладали тем не менее юридическим складом ума: это ограничение они восприняли с полной серьезностью. На него охотно ссылались все: и представители правящей клики, и ее критики, и бунтари.
История борьбы за законность в ранней Новой Англии рассказана еще далеко не полностью. Но даже из того, что нам известно, явствует, что правителей этого библейски окрашенного мироустройства неотступно преследовали призраки староанглийских институтов. По любому поводу и правители, и те, кто против них восставал, считали своим долгом заявить, что истинно библейское по духу общество не должно отходить от древних институтов метрополии. Еще в 1635 году, пишет Уинтроп, депутатов беспокоило, как бы магистраты «по причине отсутствия настоящих законов не начали руководствоваться, решая многие вопросы, исключительно собственным усмотрением». Искомый противовес такому положению дел, к которому в итоге прибегла Генеральная ассамблея, был типично английского свойства: «Назначить людей, каковые сформулировали бы корпус основных законов по образцу Великой хартии вольностей...с тем чтобы эти законы были приняты как основные».
История законодательства на протяжении начального периода развития Новой Англии — не что иное, как история сменявших одна другую попыток снабдить обитателей колонии
32
Массачусетского залива сначала собственной Великой хартией вольностей, а затем — компактным сводом местных законов. Небольшая правящая группа в ранней Новой Англии не проявляла особого рвения по части исчерпывающей кодификации институтов колонии. Лидеры, подобные Джону Уинтропу, сомневались в том, сколь мудро и плодотворно пытаться вместить все многообразие этих институтов в словесные рамки; не были они уверены и в своем праве это делать. «Заповедный» дух новоанглийских законов (иными словами — соответствие Библии) едва ли заботил их больше, нежели сходство их с английскими во всех основных чертах; одновременно они стремились к тому, чтобы любое изменение английских законов было вполне обусловлено местными потребностями.
Эта сторона жизни ранней Новой Англии почему-то никогда не бросалась нам в глаза. Ослепленные светом, какой открылся пуританам в Священном Писании, мы не потрудились различить тот ровный путеводный огонь, которым явился для колонистов пример старой Англии. Так, стоило историкам набрести на небольшую работу Джона Коттона под названием «Судебные предписания Моисея», как они тут же поспешно заключили, что, будучи библейской по фразеологии и догматической по характеру, она непременно должна была стать сводом законов колонии Массачусетского залива. Есть, однако, свидетельства, показывающие, что упомянутый кодекс Джона Коттона никогда не действовал в качестве закона, да, возможно, и не мыслился как таковой.
На деле же, за очень немногими исключениями — и, естественно, в той мере, в какой позволяли их знания, — законодатели колонии следовали английским образцам. Колониальное положение Новой Англии побуждало их всемерно избегать создания институтов и учреждений по собственному разумению, и с тем большей охотой они приспосабливали институты и учреждения уже известные к новым условиям. Они оказались в числе первых, кто занял сознательно прагматическую позицию по отношению к обычному праву; и вынудило их к этому положение колонистов. Дух тогдашнего новоанглийского законодательства хорошо отразил Джон Уинтроп в описании событий ноября 1639 года:
Уже длительное время жаждали люди иметь свод законов, полагая свое положение весьма небезопасным, коль скоро столь большая власть сосредоточивалась в руках магистратов. Не однажды в бывших судах (законодательных собраниях) предпринимались такого рода попытки, и вопрос этот вверялся мудрости иных из магистратов и старейшин, однако без результата; ибо, отданный на усмотрение многим, он оставался ничьим; решения, принятые одними, не удовлетворяли других, а третьи их игнорировали. Наконец дело было поручено м-ру Коттону, м-ру Натаниелу Уорду и др.; и каждый из
33
2-382
них создал образец, каковой был представлен данной Генеральной ассамблее, а затем передан ею на рассмотрение губернатору, вице-губернатору и еще некоторым другим, дабы быть подготовленным к слушанию через два месяца. Большинство магистратов и часть старейшин не торопили дело по двум веским причинам. Во-первых, по причине недостаточности точных сведений о склонностях и настроениях наро дадоковая вкупе с условиями страны и другими обстоятельствами побуждала полагать, что наилучшими для нас были бы те законы, какие возникали бы pro re nata*, ситуативно и т.п., ибо таковы законы Англии и других государств; в Англии к ним относят обычаи, входящие в понятия обычного права. Во-вторых, это означало бы заведомо преступить пределы, установленные нашей хартией, каковая предписывает не принимать законов, противных законам Англии, к чему, по нашему убеждению, нас обязывала необходимость. Однако придавать силу закона практикуемым обычаям не означало превысить полномочия, данные хартией; пример тому следует из практики нашего церковного устава и касается обряда заключения брака: закон, каковой устанавливал бы, что священнослужители не обладают правом освящения брака, был бы несовместим с законами Англии; однако узаконить вошедший в обыкновение обряд заключения брака, обратившись к посредничеству магистрата, не означает вступить в противоречие с английским законом, и т.п.
Трудно отыскать пример, который ярче демонстрировал бы всесторонние преимущества права, устанавливаемого обычаем, над кодексом, создаваемым законодателями.
Прошло всего несколько лет, и на свет родилось еще более явное воплощение философии права американских пуритан. В 1646 году доктор Роберт Чайлд и еще шесть лиц подали в Генеральную ассамблею колонии Массачусетского залива петицию с протестом против многих принятых здесь законов. Авторы петиции утверждали, что, коль скоро в колониальном законодательстве налицо ряд радикальных отклонений от законодательства английского (примером тому могли служить критерии принадлежности к той или иной церкви, а следовательно, и критерии гражданства), в колонии Массачусетского залива отсутствует «установленная форма правления, соответствующая законам Англии». В то же время, заключали авторы петиции, только чисто английская форма правления «наилучшим образом соответствует нашим английским нравам».
В ответе руководства Новой Англии отразилась их настойчивая приверженность английским институтам. Этот ответ представлял собой развернутую аргументацию «английскости» установленной ими формы правления. В самом деле, если бы какому-нибудь отчаянному историку вздумалось изготовить фальшивый документ, который доказывал бы, что эталоном государственного устройства колонии послужили английские ин-
• Естественно (лат.).
34
статуты власти, ему вряд ли удалось бы справиться со своей задачей лучше, нежели сочинив в точности такую же декларацию, какую приняла Генеральная ассамблея в качестве ответа на петицию Чайлда. «Что касается нашего правительства, — утверждали магистраты, — то оно учреждено в согласии с нашей хартией, основными законами и обычным правом Англии и действует в соответствии с ними же (принимая слова вечной истины и справедливости, каковые в них содержатся, за правила, по которым все государственные и правовые органы должны нести ответственность за любое свое действие и повеление во время Страшного суда) с тем лишь малейшим отличием, каковое допускает здравый смысл при сравнении древнего, густонаселенного и богатого королевства с такой бедной, малочисленной, младенчески юной колонией, каковой являемся мы. И поскольку всего яснее это будет видно из сравнения частностей, мы приводим их параллельно».
Далее магистраты в двух столбиках привели наименования английских государственных институтов и их новоанглийские аналоги. Начали они с Великой хартии вольностей: с левой стороны были изложены главнейшие ее положения, с правой — «Основные законы Массачусетса», т.е. соответствующие статьи колониального законодательства. Далее были перечислены основополагающие принципы обычного права Англии с запечатленными напротив их соответствиями из «Основных законов». Наглядность сравнения впечатляла сильнее, нежели любой ар-1умент.
Законодатели признавали свои недостатки. Они объясняли, что являются лишь «неофитами» в юриспруденции и «потому те ошибки, какие могут появиться либо в наших сводах законов, либо в соответствии этих законов принятым образцам, должно отнести к недостатку нашего умения. Были бы среди нас способные юристы, мы бы могли быть точнее». И если им не удалось создать точнейшую американскую копию английских законов, то отнюдь не от недостатка воли к тому. Просто-напросто у новоанглийских законодателей не было в запасе времени, да и квалифицированных юристов-профессионалов. «Рим строился не в один день, — напоминали магистраты Чайлду и его соавторам. — Хотелось бы посмотреть на ту колонию или на то общество, где за шестнадцать лет удалось бы сделать больше».
Важнейшим из ранних сводов законов Массачусетса явилась «Книга общих законов и прав» 1648 года. Основа всего последующего законодательства, она ощутимо повлияла на законодательство других колоний, включая Коннектикут и Нью-Хейвен.
35
2*
В преамбуле Генеральная ассамблея приносила извинения за несовершенство «Книги» — как в плане воспроизведения в своде английских институтов, так и в плане приспособления последних к условиям колонии:
Мы публикуем эту книгу не как совершенный свод законов, пригодный для использования правительством в будущие времена,да и было бы чрезмерным полагать, что мы отважились на нечто подобное. Но, коль скоро мудрости Верховного суда английского парламента не умаляет то обстоятельство, что уже на протяжении четырех веков в нем продолжается работа над составлением законов и правил делопроизводства в судах, не прекращаясь, но возобновляясь в том же самом виде почти на каждой сессии парламента, столь же несправедливо было бы порицать бедную колонию (обделенную юристами и государственными мужами) за то, что в течение всего лишь восемнадцати лет не удалось ей произвести большего — более совершенных законов доброго и прочного правления, нежели те, каковые предлагаются в этой книге; и посему у вас (наших братьев и соседей) нет каких-либо причин для жалоб, если вы обратите свои взоры на другие государства и страны Европы...
Пуритане Массачусетского залива заявляли, что в своих законах они исходили больше из «законов Божьих», нежели из английских. Тем не менее в их глазах те и другие, по-видимому, счастливо совпадали:
Различие, каковое проводится между законами Господа Бога и законами людскими, становится ловушкой для многих, ибо оно ложно прилагается к порядку их повиновения гражданской власти; ибо когда власть от Бога облечена в приказ (Послание к Римлянам, 13.1) и повиновение ей идет в русле доводов и правил,воплощенных в Слове Божьем и в ясном природном здравомыслии цивилизованных народов, тогда нет и не может быть людского закона, каковой (в согласии с теми же принципами) тяготел бы к общему бла1у, но есть, в опосредованном виде, закон Божий, принявший облик приказа, каковому всем необходимо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести (Послание к Римлянам, 13.5).
И можно догадываться, что они испытывали не меньшее удовлетворение, чем сто лет спустя сэр Уильям Блэкстон, а затем и все консервативные английские юристы, обнаруживая, что и законы Священного Йисания и естественные законы человеческой природы уже нашли воплощение в английском законодательстве.
Не думаю, что здесь уместно продолжать диспут, начатый историками, о том, что было первично в законотворчестве новоанглийских пуритан: библейские заповеди или корпус английских правовых актов. В глазах обитателей Новой Англии на ранних этапах ее существования подобного различия не существовало. В юридической литературе колонии этого периода почти нет попыток создать новые общественные институты на
36
библейских основах. По большей части новоанглийские юристы занимались тем, что демонстрировали совпадения между предписываемым человеку заповедями Священного Писания и уже заложенным в недрах английского закона.
На этот счет в нашем распоряжении есть по крайней мере один ценный источник. Томас Лечфорд получил некоторую юридическую подготовку в Англии, и, хотя прожил он в колонии Массачусетского залива сравнительно недолго — всего лишь с 1638 по 1641 год, — эти годы оказались ключевыми, ибо именно тогда составлялся «Свод прав» 1641 года. Возможно, в силу энергичности собственной натуры, а возможно, и потому, что колония была бедна юридическими дарованиями, судьба Томаса Лечфорда оказалась тесно связанной с историей становления колониального законодательства. Однако ни его богословские воззрения, ни его методы убеждения не отличались должной ортодоксальностью, и магистраты отстранили его от юридической деятельности, а заодно и осудили за вмешательство в дела церкви. Случившееся, вкупе с прочими жизненными неурядицами, заставило его вернуться на постоянное жительство в Англию, где в 1642 году он выпустил небольшую кншу «Честная игра, или Новости из Новой Англии». Цель ее, как она излагалась на титульном листе, заключалась в том, чтобы вооружить читателя «кратким очерком нынешнего правительства Новой Англии, церковного и гражданского, в сравнении с издревле учрежденным правительством Англии». Лечфорд — недоброжелательный, если не откровенно злонамеренный наблюдатель — выделялся на фоне своих современников некоторыми познаниями в области права и личным опытом знакомства с государственными институтами Новой Англии. Его сочинение представляет собой богатое фактами, хотя отнюдь и не бесстрастное, описание отклонений новоанглийских законов от английских — отклонений, которые он старательно выискивал, где только мог.
Главной мишенью Лечфорда явились, конечно же, церкви колонии Массачусетского залива. С одной стороны, требования, предъявлявшиеся к лицам, желавшим стать членами прихода, были чрезмерно строги: они включали в себя много больше, нежели просто безупречное поведение и признание основных положений вероучения. Кандидатам в прихожане надлежало убедить старейшин, а вслед за ними и всю конгрегацию «в ниспосланной на их души благодати или в том, что Господь Бог обратил их на путь истинный... в том, что они подлинно верующие, что они были уязвлены в сердцах своих первородным грехом и собственными прегрешениями и обновились надеждой обрести
37
свободную благодать в Писании, основе их веры, что сердца их взыскуют веры в Иисуса Христа во имя оправдания и спасения... и что им доподлинно ясна суть христианского вероучения». Такая процедура приема, отмечал Лечфорд, порочна и даже бесчеловечна: ведь подчас в члены конгрегации принимался хозяин, но не его слуга, подчас один слуга, подчас муж без жены, подчас ребенок, но не его родители. Эти ограничения влекли за собой далеко идущие последствия, поскольку, не будучи принят в лоно церкви, колонист не мог получить статус «свободного гражданина». А только «свободные граждане» имели право голоса и допускались к официальным должностям.
С другой стороны, Лечфорд находил систему управления новоанглийской церковью излишне демократичной: ведь там не было епископов, а как можно поддерживать порядок в церкви, где каждый прихожанин сам себе епископ? Однако именно такой была организация конгрегационалистской общины. «Если народ сам вправе уполномочивать проповедников, а проповедники могут возводить в сан других без участия апостолического епископа, во что это может вылиться, кроме всеобщей неразберихи? Если вся церковь, или же каждая конгрегация, как полагают наши добрые люди, имеет доступ к рычагам власти, сколько же тогда у нас будет епископов?»
Хотя конгрегационалистские церкви Новой Англии так никогда и не получили епископов, еще до конца XVII века царивший в них дух практицизма и компромисса побудил покончить с чрезмерно строгими требованиями, предъявляемыми к приему в прихожане, — теми самыми требованиями, против которых возражали Лечфорд и другие английские критики новоанглийских церковных установлений. Используя хитроумную доктрину «одностороннего договора», впервые официально выдвинутую на встрече священнослужителей в 1662 году, лидеры конгрегационализма создали новый класс членов прихода для тех, кто не прошел непосредственного «опыта обращения», но был потомком людей, испытавших обращение. Таким образом, скамейки в церквах продолжали быть заполненными, а идеал очищенной церкви, полноправными прихожанами которой могли быть только «видимые святые», сохранен в неприкосновенности.
При внимательном разборе критического очерка Лечфорда складывается зримое представление о том, в сколь малой мере отклонились законы Новой Англии от соответствовавших им норм английской жизни. Но даже эти минимальные отклонения, легко объяснимые условиями жизни на неосвоенной местности, были устранены, как только жители Новой Англии смогли это
38
себе позволить. Первое возражение Лечфорда было направлено против «отсутствия должного письменного делопроизводства» — судебные разбирательства проводились устно, а не посредством обмена документами. По мнению Лечфорда, это открывало возможность произвола должностных лиц, затрудняя для сторон и судей ясное понимание существа дела и формулирование прецедентов. Второе его возражение, сродни первому, касалось имевшего место запрещения нанимать за плату доверенных лиц и адвокатов. Лечфорд заявлял, что платные юристы «необходимы для оказания помощи бедным и малограмотным в судебных делах и что практика их найма находится в полном согласии с буквой и духом Священного Писания и здравого смысла. Я знаю по личному опыту и многое слышал о тяжбах, проигранных только потому, что у истцов в Новой Англии отсутствовали платные адвокаты... Но прислушайтесь к моему совету, братья, не презирайте ни учености, ни достойных юристов, какую бы мантию они ни носили, дабы не укорять себя потом, когда будет слишком поздно».
И то и другое отклонения от установившейся в Англии судебной практики возникли вследствие недостатка в колонии подготовленных юристов. Сам Лечфорд был одним из очень немногих в Бостоне людей, получивших юридическое образование; зачастую такового не было даже у судей. В отсутствие профессиональных законоведов невозможно было ни оформить сложную юридическую документацию, ни оказать компетентную правовую помощь; но как раз таких-то вооруженных профессиональными навыками специалистов в Новой Англии не было.
Следует заметить, что новоанглийское руководство в скором времени устранило те отступления от английских судебных процедур, на которые жаловался Лечфорд. «Свод прав» 1641 года (право 2) в случае подачи истцом письменного заявления предусматривал «право и время на подачу письменного ответа» со стороны ответчика, «что должно продолжаться и далее в течение всего производства дела между сторонами». Закон 1647 года, описывающий недостатки, на которые указывал Лечфорд, в этом отношении шел еще дальше, возводя в норму регистрацию подобных письменных заявлений по всем гражданским искам еще до начала судебных заседаний, с тем чтобы ответчик располагал временем для подготовки письменного ответа. Но подобные процедуры нельзя было внедрить в законодательство, пока общество не располагало специалистами, способными претворить их в практику. Поэтому в более поздних сводах законов данное требование было опущено, и понадобилось несколько
39
десятилетий, чтобы «прошения» — письменные заявления истца и ответчика (процессуальные документы, которыми обмениваются юристы во время судебного разбирательства) — стали неотъемлемой частью юридической практики. В описываемый же период отсутствие письменных прошений нередко давало жителям Новой Англии то преимущество, что способствовало разбору их дел по существу, в то время как английские адвокаты и судьи погружались в бесплодные препирательства относительно формы поданных документов. Развитие торговли и появление все большего числа людей, получивших юридическое образование, со временем позволило законодателям колонии Массачусетского залива устранить и второй изъян, на который указывал Лечфорд: к 1648 году наем платных доверенных лиц стал общепринятой практикой.
Судопроизводство ранних лет существования колонии создает впечатление, что занимались им люди, не обладавшие достаточной юридической подготовкой и не располагавшие необходимым числом судебных справочников; как могли, они пытались в основных чертах воспроизвести в колонии то, чему бывали свидетелями «у себя на родине». К числу их заслуг не отнесешь ни создание самобытной и принципиально новой системы народного права, ни попытку выстроить совокупность гражданских институтов, исходя исключительно из библейских заповедей; плодом их добросовестных усилий явилось разве что непрофессиональное подобие английских правовых учреждений. Полузабытый и полупонятный процессуальный язык английского права с большим или меньшим успехом прилагался к специфически американским проблемам. Нам мало что известно о законах той эпохи; и уже сами по себе описанные здесь особенности (как, например, отсутствие письменной судебной документации) сильно затрудняют работу историка. Судебные отчеты не публиковались; судьи не давали мотивировок выносимых решений. Даже в 1670-е годы судебные отчеты не содержат в себе ссылок на судебные прецеденты (будь то английские или колониальные) либо на английские статуты.
Тем не менее колонисты все же прибегали к особым процессуальным приемам английского права, подчас для удобства используя их в совершенно новых целях. В архивах решений судов графства Суффолк за 1671—1680 годы приблизительно восемьдесят процентов ходатайств были оформлены как «иски по делу». Такова была одна из классических английских «процессуальных форм», имевшая весьма специфическое назначение и потому лишь ограниченное применение. В полном согласии со своей
40
наукой английские юристы считали «процессуальную форму» сугубо специальным видом юридической артиллерии, пригодным для стрельбы лишь по определенного вида дичи; в противоположность им американские законоведы, не унаследовавшие ни преимуществ, ни предубеждений добротной профессиональной школы, пользовались этим оружием, охотясь на любую лесную тварь. В этом — равно как и в своем «легкомысленном» отношении к письменной документации — они, на взгляд современного юриста, далеко опередили свою эпоху. Как бы то ни было, для историка, изучающего американские институты, это обстоятельство менее важно, нежели два других: 1) жители Новой Англии пользовались полупонятной для них терминологией английского права, вкладывая в нее чисто английский смысл: права, которые они защищали, были в основе своей английскими юридическими правами — тем, что в метрополии защищалось бы такими нормами, как «договор», или «долг», или изъятие, или «нарушение владения»; 2) используя этот язык на свой манер, жители Новой Англии продолжали считать себя англичанами. Они обращали большее внимание на то, что говорят по-английски, нежели на то, что у них американский акцент.
Лучшей самозащитой и защитой своих законов от всевозможных посягательств правители Новой Англии считали ссылку на то, сколь тесно примыкают установленные ими нормы к нормам Англии. Генеральная ассамблея колонии Массачусетского залива при всяком удобном случае подчеркивала замечательное совпадение новоанглийских и английских законов. Будучи приперты к стене, они продолжали утверждать, что даже очевидные отступления от норм английского права в свою очередь берут начало в законах Англии, согласно которым «в городе Лондоне и других корпорациях действуют различные правовые нормы и подзаконные акты, отличающиеся от общих и уставных законов страны».
Правители колонии были всерьез обеспокоены нехваткой английских судебных справочников. 11 ноября 1647 года Генеральная ассамблея постановила «с целью лучшего просвещения в области законодательства и судебных процедур» закупить по два экземпляра каждого из шести английских процессуальных справочников: «Коук о Литтлтоне», «Книга юридических описаний», «Коук о Великой хартии вольностей», «Новые судебные термины», «Мировой судья»Далтона и «Отчеты» Коука. Внешний вид юридических документов, имевших хождение в ранние годы существования Массачусетса (актов, доверенностей, лицензий, обязательств, соглашений о партнерстве и т.п.), показы
41
вает, что скопированы они были со справочников, которыми руководствовались и английские правоведы.
Если отвлечься от формы и терминологии этих законов и вдуматься в их суть, можно только удивляться, как мало изменений претерпели законы Новой Англии по сравнению с английскими. Самые очевидные и наиболее драматичные из таких изменений касаются перечня тяжких преступлений, карающихся по законам Англии смертной казнью. Число таких правонарушений колонисты к 1648 году дополнили еще несколькими, включая идолопоклонство (нарушение первой заповеди), богохульство, кражу людей (Исход, 21.16), прелюбодеяние с замужней женщиной, лжесвидетельство с целью извлечения смерти на другого, оскорбление родителей ребенком в возрасте старше шестнадцати лет (Исход, 21.17), «буйство и непокорность» сына (Второзаконие, 21.20,21) и третью попытку грабежа или разбоя на большой дороге. Во всех перечисленных случаях приоритет законов Священного Писания над английскими очевиден.
Но, думается, вряд ли стоит придавать этим отклонениям слишком большое значение. Следует помнить, что в сфере действия законов, карающих смертной казнью, и американцы, и англичане традиционно отдавали себе отчет в давнем и очень глубоком расхождении между теорией и практикой. В Англии милосердная фикция «церковного прощения» стирала букву закона почти без остатка, в Новой Англии того же результата, возможно, достигал обычай публичного покаяния. Все это, естественно, еще больше сужало степень изменений, внесенных в уголовное право на территории колонии. Речь идет о стране, где люди усвоили привычку к законам, которые не всегда применялись на практике, и где библейская ортодоксия приобреталась без сколь-либо серьезных изменений образа повседневной жизни.
5
КАК ПУРИТАНАМ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ИСКУШЕНИЯ УТОПИЕЙ
Если когда-либо существовал народ, чей интеллектуальный багаж идеально подходил для путешествия в страну Утопию, этим народом были новоанглийские пуритане. На страницах своих Библий они находили готовый проект Совершенного Общества. Собственный дорогостоящий переезд в Америку оказывался для них веским добавочным стимулом, способствовавшим укреплению веры в осуществимость идеи построения Храма Си
42
онского на этой земле. Когда раздумываешь надо всем этим, поистине поражаешься тому, сколь мало утопического таили в себе их воззрения на общественное устройство. Объясняется это несколькими причинами. Сыграло свою роль мощное и отрезвляющее воздействие английских законов: колонисты были кровно заинтересованы в выполнении условий хартии и в сохранении за собой земельных прав; ощущали они и некую сентиментальную приверженность к английской основе своей юридической системы. Отнюдь не способствовал грезам наяву и пессимизм — живое ощущение зла, составлявшее столь значимый элемент кальвинистского вероучения. Наконец, решающую роль сыграли здесь ошеломляющая новизна и ощущение постоянной опасности, сопутствовавшие жизни в неизведанном краю, побуждавшие еще теснее приникать сердцем и умом к знакомому и привычному (что и воплотилось в выявлении знаменательных аналогий между законами Божьими и законами английскими — а значит, и новоанглийскими).
Особый склад их основанной на Библии ортодоксальности обусловил формирование у колонистов практического и анти-утопического направления ума. Их политической мысли не было надобности блуждать в поисках эталона Совершенного Общества, поскольку Библия уже содержала в себе детальное описание Сиона. Более того, Библия не аргументировала — она повествовала; и потому утопичность умонастроений колонистов с легкостью вписывалась в контуры обычного права; в фундаменте ее лежали не аналогии догм, принципов или абстракций, а аналогии ситуаций — библейских и реальных.
Возможно, именно в силу того, что основные теоретические проблемы представлялись им разрешенными, пуритане смогли всецело сосредоточиться на вопросах человеческого поведения и чисто практических предметах. И, как ни странно, вопросы эти явились предощущением тех, какие на протяжении веков не перестанут будоражить политическое сознание Америки. Эти вопросы затрагивали не столько конечные цели общества, сколько его структуру, не столько нравственное его состояние, сколько эффективность его функционирования, обеспечение решительного, но сдержанного руководства и возможные гарантии того, чтобы правительство не стало угнетающей общество силой.
Пуритан Новой Англии тревожили три круга проблем. Первый сводился к тому, как им следует с первых же лет существования колонии выбирать своих лидеров и представителей. Изначально пуритан отличала — и, с точки зрения Лечфорда и других, делала уязвимыми — чрезмерная строгость требований,
43
предъявляемых к будущим прихожанам, опасение, что, не сподобившиеся благодати, они могут захватить в церквах власть. Пуританская концепция церкви включала в себя, пусть в очень урезанном виде, некое подобие идеи церковного самоуправления: в церкви не должно было быть епископов, ибо прихожане ее вполне могли управлять сами собой. Не случайно ядром многих важнейших диспутов, развернувшихся на раннем этапе становления Новой Англии, оказывался вопрос о том, кого можно считать достойными правителями и как надлежало их выбирать. Весь ранний период истории колонии Массачусетского залива в политическом плане можно представить как непрерывную цепь попыток отыскать ответы на эти вопросы. Какими должны быть отношения между исполнителями и законодателями? Каким должно быть число представителей от каждого города? Во многих проповедях и даже «теоретических» работах ставились именно эти вопросы.
Второй круг проблем, занимавших пуритан, — это допустимые пределы осуществления власти. Лучше всего это сформулировал Джон Коттон: «Потому разумнее всего для магистратов, священнослужителей и государственных служащих обладать лишь той мерой свободы и власти, каковая может быть обращена на пользу им и народу; ибо всякая чрезмерная власть равно губит и тех, кто является ее источником, и тех, кому она достается. Страсть в сердце человеческом рано или поздно может стать, если Бог того не предотвратит, слишком сильной, но лучше все же не испытывать таким способом волю Божью. Потому необходимо, чтобы всякая власть на этой земле была ограничена...» О внимании, какое уделялось данному вопросу, свидетельствует форма ранних сводов законов Новой Англии. Первый свод законов Массачусетса (1641) приобрел известность — что уже достаточно красноречиво — под названием «Свод прав»; юридическая система общества представала с его страниц преломленной в призме прав, которыми обладали различные его представители. Книгу открывал парафраз Великой хартии вольностей, за которым следовало изложение ограничений, накладываемых на форму судебного разбирательства, — перечисление прав свободных граждан, женщин, детей, чужестранцев, не исключая и «этих дикарей». Симптоматично, что и законы, предусматривавшие смертную казнь за тяжкие преступления, в терминологическом смысле формулировались как «права», а система церковной иерархии описывалась как «права, данные церкви Господом нашим Иисусом Христом». Преамбула к «Своду прав» не могла бы не привлечь к себе на
44
пряженного внимания, даже если бы эта книга не была создана в американской глуши:
Свободное наслаждение такими правами, неприкосновенностью и привилегиями, к каким взывают человечность, цивилизованность и христианская вера, применительно к каждому человеку в подобающем ему месте и в должной для него мере без ограничений и постороннего вмешательства всегда было и навсегда пребудет фундаментом спокойствия и незыблемости Церкви и Общества. Лишение же или отказ в них повлекут за собой смуту, если и не гибель того и другого.
Третий круг вопросов, тревоживших пуритан, можно сформулировать так: как должна быть организована действенная федеративная система? Каким образом следует рассредоточить власть между местными и центральными органами управления? Попыткой решить этот вопрос посредством создания особых институтов может считаться и сам по себе конгрегационализм; ведь он был инструментом, пользуясь которым церкви могли протянуть «свободную руку дружбы» одна другой, не связывая те или иные из них, равно как и отдельных прихожан, узами конкретных догм или решений какого-то центрального органа. В этот же круг вмещались и практические вопросы, выходившие за пределы двух поставленных выше. Какими полномочиями располагала Генеральная ассамблея колонии (коль скоро она вообще располагала ими) по отношению к городу Хингэму при выборе командира городского ополчения? Это как раз тот случай, когда один из горожан «заявил, что предпочтет погибнуть от меча, чем лишиться возможности самому выбирать своих офицеров». Или другое: на каком основании центральное правительство может созвать церковный синод? Представители городов — в споре относительно природы их союза, споре, предвосхитившем проблемы, которые будут решаться в ходе Революции и Гражданской войны, — благожелательно встретили приглашение послать своих избранников, но отказались бы подчиниться приказу.
Все аспекты жизни Новой Англии — традиционализм, богословие, специфика обитания в новом мире,—представая в комплексе, порождали вопросы, требовавшие практического решения. Так что нетрудно согласиться с язвительным комплиментом, ненароком слетевшим с уст Лечфорда: «Люди более мудрые, нежели эти, отправившись на неосвоенные земли с целью учредить там еще одно странное правительство, могли бы наделать гораздо больше — и худших — ошибок, чем те ошибки, которые допустили они».
Часть вторая
ПЛАНТАЦИИ ДУХА
КВАКЕРЫ ПЕНСИЛЬВАНИИ
Друзья мои... выходя сеять на поля, закладывая плантации на просторах Америки, лелейте дух и силу Господню на плантациях сердец ваших, дабы не коснулась порча лоз и лилий трудов ваших.
Джордж Фокс
В1681 году, когда Уильям Пенн получил из рук Карла II грамоту на владение Пенсильванией, квакерство благодаря многим отличительным чертам этого движения казалось едва ли не идеальным институтом для осуществления миссии в Новом Свете. Квакерам был присущ целый ряд мироотношений, которые позже, в ходе развития американской демократии, окажутся поистине хрестоматийными.
Вера в равенство. Ни одна из христианских сект не была столь последовательна в своей убежденности в равенстве людей. Не случайно Джон Вулмен в проповеди, произнесенной в Мэриленде в 1757 году, сетовал на то, что этой верой «слишком часто злоупотребляли власти предержащие; ибо, хотя мы и обратили негров в рабов, а турки обратили в рабов христиан, я убежден, что свобода есть естественное право, ниспосланное всем людям поровну».
Естественность. Квакеры исповедовали простоту в манере одеваться и говорить; их отличало подчеркнутое неприятие какого бы то ни было этикета. Их религиозные учения не получили никакого теоретического оформления.
Терпимость. Квакеров, исходивших из принципа, что, в сущности, все люди добры, в меньшей мере, нежели других верующих, волновали доктринальные различия вероучений. Основы законодательства, провозглашенные Уильямом Пенном в 1682 году, гарантировали свободу вероисповедания всем, «кто верует и приемлет единого Господа Бога вечного и всемогущего... и кто, в согласии с совестью, берет на себя обязательство жить
46
мирно и праведно в цивилизованном обществе». Если пуритане считали индейцев приспешниками дьявола и были на редкость нетерпимы ко всем тем, чьи символы веры хоть в чем-то отличались от их собственных, то квакеров, напротив, впечатляло то обстоятельство, что религия индейцев во многом была сходна с их вероучением. Они радушно приветствовали представителей всех сект.
Квакеров не обвинишь ни в недостатке мужества, ни в недостатке энергии. В судьбе их вероучения роковую роль сыграло не столько его содержание, сколько бескомпромиссное упорство, с которым квакеры цеплялись за его догматы, и их самооценка. Два обстоятельства определили фатальное влияние этих необыкновенных людей на американскую культуру: во-первых, присущее им тяготение к мученическому уделу и озабоченность чистотою собственных душ и, во-вторых, бескомпромиссность всех их убеждений. Первое сместило центр их мировосприятия с повседневной жизни общины на глубины индивидуального духа; второе сделало их менее готовыми приспосабливаться к конкретным условиям земного бытия. Ни мученичеству, ни доктринерству не суждено было расцвести на американской почве.
б
В ПОИСКАХ ТЕРНОВОГО ВЕНЦА
Отцам-пилигримам, пуританам и квакерам, Америка виделась чем-то вроде опытного поля, где можно построить общество, которое идеально соответствовало бы проекту. Утвердить свой общественный порядок им, возможно, было важнее, нежели избежать преследований за убеждения. Америка же не только открывала путь к свободе из темницы: она символизировала трон, воздвигнутый в пустыне. Стремительные повороты судьбы всегда подвергают человеческие натуры жесткой проверке на прочность; и поистине никогда еще не случалось перемен более ошеломляющих, чем те, какие происходили на американской земле в первые колониальные годы.
Созидая общественные институты Новой Англии, колонисты-пуритане явили вполне земное чувство человеческой гордости, исподволь ослабившее их провиденциальное ощущение и их веру во всемогущество Господа Бога. Успех деятельности пуритан на социальном поприще в значительной, если не решающей мере обусловил упадок американского пуританизма как бескомпромиссного вероучения. Прямо противоположного (и
47
весьма драматичного) свойства — успех квакеров: получив наконец в руки рычаги общественного управления, они предпочли сохранить в чистоте свой сектантский дух, нежели создавать целое общество на основе смягченного квакерского вероучения.
В Англии квакерство зародилось как движение протеста. Носители его были убеждены в том, что, по ставшему классическим выражению Джорджа Фокса, «в душе каждого сияет божественный свет Христа» и что, однако, теология, как и большинство других человеческих знаний, просто замутняла разум людей. Основоположник английского квакерства Джордж Фокс писал на страницах своего «Дневника»:
Врачи, священнослужители и юристы—три этих сословия лишили мир мудрости, веры, справедливости и закона Божьего: заявляя одни о том, что врачуют тело, другие — душу, третьи — о том, что защищают от посягательств собственность народа. Но я видел, что все они отрешены от мудрости, от веры, от справедливости и от незыблемого закона Божьего.
В Англии гневный, протестующий голос квакеров оставался гласом меньшинства. Аналогичное звучание обретали голоса первых квакеров и в Америке. Если представители других течений находили здесь возможность свободно и без ограничений исповедовать кредо своей веры, то квакеры оказались воистину неутомимы в присущей им тяге к мученическому венцу. Наиболее красноречиво выразил эту тенденцию квакерского движения Уильям Дьюсбери, один из ведущих идеологов секты в Англии, немало сделавший для переселения братьев по вере в Америку; он говорил о себе, что в двери тюрем «входил с не меньшею радостью, нежели в двери дворцов, в узилищах неустанно пел хвалу Господу и благословлял замки и засовы, как ниспосланные небом алмазы». Принимая во внимание такое ми-роотношение, приходится констатировать, что, взыскуя многого, немало мучительных испытаний иммигранты-квакеры сами навлекли на собственные головы. Например, они никак не желали осесть в колониальном Род-Айленде, власти которого не проявляли склонности в той или иной форме подавлять их активность. «Мы убеждаемся, что наименьшую охоту обнаруживают вышеупомянутые люди пребывать в тех местах данной колонии, где с наибольшей терпимостью относятся к проповедуемым ими воззрениям либо означенным воззрениям противопоставляют лишь словесные аргументы», — отмечалось в постановлении суда Род-Айленда.
История деятельности первых квакеров в Америке может озадачить любого, кому неведомы природа мистических духов
48
ных порывов и психология мученичества. Проблема отнюдь не исчерпывается тем, что эти мужчины и женщины «предпочитали умереть за полную правду, нежели жить в полуправде». Один за другим, казалось, устремляются они за тысячи миль неизведанного пути, подстерегаемые индейцами и дикими зверями, чтобы в итоге найти венец мученичества. Быть может, никто еще не прилагал так много настойчивых усилий, не пускался в столь долгие путешествия ради счастья претерпеть муки за веру. Отвагу и целеустремленность американских квакеров XVII века, взыскующих позорного столба или петли, можно уподобить лишь настойчивости Кортеса, одержимого стремлением отыскать сокровища ацтеков, или неутомимости Понса де Леона, обшарившего весь свет в поисках Источника молодости. Ни для кого награда не была столь желанна, сколь желанен был для квакеров терновый венец.
В метрополии «друзья» (так называли себя сами квакеры) с гордостью отзывались о муках и испытаниях, какие добровольно претерпевали от новоанглийских пуритан квакеры-американцы. Уже в 1659 году Хамфри Нортон в своем «Стяге Новой Англии» сделал достоянием общественности реестр их страстей. А другой англичанин, Джордж Бишоп, корпел в это время над «Книгой мучеников»; впервые она вышла в 1661 году, а позднее не раз переиздавалась под названием «Новая Англия под судом Духа Божьего». В этом объемистом томе он собрал множество леденящих кровь свидетельств о репрессиях и испытаниях, выпадавших на долю квакеров в колонии Массачусетского залива.
Чтобы составить представление о своенравном и неустрашимом духе «друзей», достаточно немногих примеров. Сара Гиббонс и Дороти Во в 1658 году покинули Род-Айленд, где их никто не преследовал, и из Ньюпорта двинулись — большей частью пешком—в Сейлем, Массачусетс. Пробираясь по лесам, утонувшим в мартовских метелях, ночуя в чащобах, они в конце концов достигли пункта назначения, где в течение двух недель проповедовали без всяких помех. Затем, «услышав зов», они перебрались в Бостон, где и удостоились ожидаемого жестокого наказания плетьми, после чего были отправлены обратно в Род-Айленд. Летом того же года Джозия Коул и Томас Терстон, столь же властно влекомые стремлением претерпеть муки во имя Истины, проделали еще более длинный путь: из Виргинии «по заброшенным тропам, бескрайним пустыням, необитаемым землям» — в Новую Англию. Сжалившиеся над путниками индейцы Саскуэханны указали им дорогу до Нового Амстердама и выходили тяжело заболевшего Терстона. Этих двоих, подобно многим их
49
братьям по секте, вдохновило на подвиг то, что квакеры называли «огнем и молотом» в душах. Оказавшись наконец на территории Новой Англии, они принялись проповедовать — сначала перед индейцами, потом перед белыми колонистами,—пока их не препроводили в тюрьму, а оттуда за пределы колонии.
Одним из самых упорных страстотерпцев явился Кристофер Холдер, этот «доблестный апостол квакерства в Новой Англии», прибывший из-за океана в 1656 году, дабы принести в Новый Свет слово своего вероучения. Воскресным утром в сентябре 1657 года в Сейлеме он дерзнул дополнить несколькими словами речь проповедника перед прихожанами. Однако мало что успел высказать прежде, чем был схвачен за волосы и «рот его яростно заткнули перчаткой и платком, что проделал кто-то из прихожан и служителей». Невзирая на то, что некогда его уже изгоняли из округи, Холдер и его единомышленник продолжали проповедовать. Под охраной их отправили в Бостон, где потерявшие терпение губернатор и вице-губернатор приговорили их к беспрецедентно суровому наказанию, жестокость которого выходила за рамки всех существовавших там законов. Можно прийти в ужас, читая простой перечень выпавших на долю обоих испытаний; однако перечень этот наглядно свидетельствует о том, сколь высокую цену готовы были заплатить квакеры за свою Истину. Вначале каждый из двоих квакеров получил по тридцать ударов треххвостой плетью с узлами; при этом один из очевидцев экзекуции потерял сознание. Затем их заперли на три дня и три ночи без еды и питья в пустом узилище, на полу которого не было даже соломы. После чего узников на протяжении девяти недель в морозную новоанглийскую зиму держали в камере, где не было никакого обогрева. По специальному распоряжению дважды в неделю их подвергали наказанию плетьми, начинавшемуся с пятнадцати ударов, к которым впоследствии добавлялось еще по три. Непостижимым образом пережив этот ад, Холдер сел на корабль, плывший на Барбадос, где и провел остаток зимы, прежде чем вернуться в Род-Айленд, чтобы беспрепятственно продолжать проповедовать. Последнее, впрочем, его не удовлетворяло. И в августе 1658 года Холдера вновь арестовали в Дедхэме, на территории того же Массачусетса, и опять препроводили в Бостон, где на сей раз ему отрезали ухо.
Не стоит делать из этого вывод, будто новоанглийские пуритане были садистами. Но по-своему они были не менее целеустремленны, чем их оппоненты: поставив крест на своем настоящем, они проделали три тысячи миль пути, и все это для того, чтобы их надежды на лучшее будущее в Новом Свете воп
50
лотились в реальность. Пуритане Массачусетского залива хотели без помех следовать букве своего вероучения и строить Храм Сионский в соответствии с собственным замыслом. И какое право вмешиваться в осуществление этого замысла имели квакеры или кто бы то ни было? Ведь отнюдь не пуритане приманивали к себе квакеров с тем, чтобы подвергать их жестоким карам: взыскующие страдания квакеры появлялись в колонии по собственной инициативе! Отчего бы этим фанатикам не оставаться в Род-Айленде, где к ним относились терпимо, и не предоставить пуритан самим себе? Или, как заметил в оправдание ста семнадцати ударов просмоленной веревкой, какие едва не довели до смерти квакера Уильяма Бренда, некий пуританский проповедник, пришелец «тщился во что бы то ни стало покончить с евангельскими заповедями» — и, следовательно, поделом упрямому иноверцу, что на тот свет едва не отправили его самого.
Пытаясь отвадить квакеров от вторжений в свою колонию, тубернаторы Массачусетского залива зашли в тупик. То, что в этих целях они все больше ужесточали судебные санкции в отношении непрошеных гостей, показывает, сколь поверхностно представляли себе в Новой Англии суть проблемы. Если бы там лучше понимали мотивы поведения квакеров, местные власти могли бы предвидеть, что страшные кары делают колонию в глазах «друзей» еще более притягательной. Отнюдь не вызвала энтузиазма у жителей Массачусетского залива идея применить к квакерам смертную казнь, однако один раз она все же была воплощена в реальность — в 1658 году, пройдя в Законодательном собрании большинством в один голос.
Незадолго до этого еще одна группа квакеров, движимая тем, что один из историографов секты именует «пламенем неутолимым», покинув безопасные пределы Род-Айленда, объявилась в Бостоне. По убеждению самих страстотерпцев, они были «призваны» Господом «взглянуть в лицо вашим кровожадным законам». Не убоявшись смертельной угрозы, они пришли сюда, готовые ко всему. Элис Кауленд даже прихватила с собой большие куски холста — дабы обернуть ими тела тех, кому выпадет удел мучеников за веру. Один из этих незваных пришельцев, Уильям Робинсон, записывал в бостонской тюрьме в конце 1659 года:
Где-то по пути между Ньюпортом в Род-Айленде и домом Дэниела Голда мне и дорогому брату моему Кристоферу Холдеру снизошло Слово Господне, каковое тотчас исполнило меня жизни, силы и любви небесной. Словом сим повелел Он мне идти в город Бостон, дабы, склонясь перед волей Его, положить во исполнение долга перед Ним жизнь мою, каковой долг
51
будет исполнен в день назначенный. Сему Гласу Небесному повиновался я без промедления, не вопрошая Господа, как осуществит Он сие предназначение... и с того времени по день сегодняшний во всех делах и поступках моих послушен я воле Господней, что бы ни постигло бренное тело мое... Дитя Божье, не дерзаю я вопрошать Его ни о чем; но готов скорее положить жизнь мою, нежели навлечь на Создателя бесчестье.
Обе стороны медали—и нежелание пуритан удостаивать квакеров тернового венца, и страстное желание последних во что бы то ни стало снискать его — как нельзя более ярко проявились в биографии Мэри Дайер, оставившей в Ньюпорте мужа, чтобы во славу Божию бросить вызов злу в Бостоне. Ее историю, одну из самых впечатляющих в мартирологе квакеров, стоит напомнить. Вскоре после того, как она с группой единомышленников, в числе которых была одиннадцатилетняя девочка Пейшенс Скотт, ранней осенью 1659 года прибыла в Бостон, ей и ее спутникам было предписано под страхом смерти покинуть пределы колонии. Однако, проведя непродолжительное время в Ньюпорте, Мэри Дайер вернулась в Бостон. «Ваши намерения тщетны, коль скоро мните вы, что тех, кого зовете «окаянными квакерами», отвратит от мысли прийти к вам страх перед чем бы то ни было, что вы с ними сделаете,—заявила она. — Да, истинно говорю вам, живо и среди вас семя Его, ради кого мы все это выстрадали и еще выстрадаем». 19 октября 1659 года Мэри Дайер предали суду вместе с двумя другими миссионерами — Уильямом Робинсоном и Мармадьюком Стивенсоном. На другой день вслед за проповедью, предававшей их анафеме, губернатор Эндикотт огласил смертный приговор всем троим. «Да сбудется воля Господня, — ответствовала Мэри Дайер. И добавила, когда ее уводил судебный исполнитель: — Смерть приму я с радостью».
Казнь троих квакеров состоялась спустя неделю. Мэри Дайер шествовала к виселице между двумя молодыми людьми, своими братьями по вере, а оглушающий барабанный бой, раздававшийся вокруг, по замыслу властей должен был помешать собравшимся расслышать слова той проповеди, с которой могли обратиться к ним осужденные. Когда судебный исполнитель спросил Мэри Дайер, не стыдно ли ей идти вот так, в окружении двух юнцов, на виду у многих добрых людей, она ответила: «Ныне час величайшей радости, дарованной мне на этом свете. Ничьему глазу не увидеть, ничьему уху не услышать, ничьему языку не изречь,ничьему сердцу не постичь благодати Господней, к каковой я ныне приобщаюсь».Пури-танские власти, правда, задались целью лишить свою пленни
52
цу запредельного наслаждения мученическим уделом. Обоих молодых людей казнили,а Мэри Дайер со связанными руками и ногами водрузили под петлей и в завершение зловещего ритуала набросили на голову платок.3атем,будто по только что принятому решению,ей было объявлено об отсрочке вынесенного приговора.
Эта варварская процедура, как нам теперь известно, была спланирована заранее. В ходе процесса Мэри Дайер Генеральная ассамблея негласно постановила, что ее надлежит выслать за пределы колонии; однако тем же постановлением было предусмотрено, что она будет присутствовать при казни своих спут? ников и никоим образом не должна быть извещена об уготованной ей самой участи. Да и отсрочка, не приходится сомневаться, была обусловлена — по крайней мере отчасти — определенным чувством неловкости граждан Массачусетса, в памяти которых были еще свежи собственные страдания в Англии.
Реакция на акт помилования была вполне в духе Мэри Дайер. Она отказалась принять предоставленную отсрочку в случае, если не будет пересмотрен сам бесчеловечный .закон. Это, однако, не поколебало судей, и ее верхом на лошади отправили в сторону Род-Айленда. Как бы то ни было, власти колонии Массачусетского залива явно заблуждались, полагая, что могут так легко отделаться от Мэри Дайер. «Она заявила,—свидетельствует один из ее собратьев-миссионеров квакер Джон Тейлор, — что теперь ее долг — отправиться туда и настаивать на отмене этого жестокого закона против народа Божьего и во имя этого отдать жизнь». 21 мая 1660 года, менее чем через год после изгнания из колонии, неустрашимая Мэри Дайер вновь возвратилась в Бостон и еще раз выслушала свой смертный приговор. Но на этот раз по настоянию губернатора Эндикотта он должен был быть приведен в исполнение. И снова посыпались ходатайства о помиловании. И снова, уже у подножия виселицы, услышала Мэри Дайер,что ей сохранят жизнь при условии, если она никогда больше не появится в колонии Массачусетского залива.Но теперь она была непреклонна. «Нет, — заявила бесстрашная женщина, — я не могу... Повинуясь воле Господа, вошла я в эти пределы и Его воле остаюсь верна в смерти моей». И была повешена.
Как бы трудно ни было нам проникнуть в мотивы, раз за разом побуждавшие квакеров на американской почве устремляться к мученическому венцу, нельзя не воздать должное мужеству этих людей. Как писал Уильям Бренд:
53
Далее, в страхе Господнем и призывая в свидетели Господа моего, пером трепетным утверждаю, что свист плети по плечам моим, любые заточения и изгнания под страхом смерти... устрашили меня, ощутившего в себе мощь и силу Господню, не больше, нежели бы мне угрожали связать палец мой паутиной.
Стоит добавить, что даже сочувствующий квакерам историк Руфус Джонс охарактеризовал как «квакерскую откровенность на грани одержимости» то умонастроение, в котором Джозия Саутвик, подвергшись многократным избиениям, заявил своим истязателям, что их удары «не чувствительнее, чем вес того перышка, каковое перед тем подбросили в воздух со словами: “Смотри не сделай ему больно”».
7
ИСПЫТАНИЯ ВЛАСТЬЮ: ПРИСЯГА
И все же не позорный столб, не виселица явились последним испытанием на прочность для квакеров в Америке. К первому и второму их уже приучила Европа, и они претерпели муки, выпавшие на их долю в Новом Свете, с честью и отвагой. Стойко перенося их, квакеры еще больше укреплялись в своей вере и благодаря им же вызывали неподдельное восхищение окружающих. В западном полушарии к середине XVIII столетия насчитывалось больше квакеров, нежели во всей Британии. И—что еще важнее — в Америке у них была собственная община (точнее сказать, в одной из колоний они держали в руках бразды правления). Жизнь в Европе не вооружила квакеров умением занимать руководящие позиции в общественной иерархии: такое непривычное испытание уготовила им Америка — и с ним-то во многом они не справились.
Причины постигшей их в Новом Свете неудачи поучительны. Они во многом высвечивают и ограниченность, заложенную в квакерском вероучении, и специфическую природу тех задач, какие выдвигала перед той или иной группой жизнь американского общества. В допенсильванский период жизнь квакерства как движения поддерживало их «трагическое столкновение» с новоанглийскими пуританами. На раннем, творческом его этапе лидеры квакеров были движимы духом избранничества, страстной убежденностью в том, что они несут с собой добрые вести всему человечеству: открыв, что храм Божий — весь мир, они стремились доказать, что Господь живет в душе каждого.
54
Но по мере того, как в умах квакеров стала утверждаться мысль о том, что они сами и есть «призванный Богом народ», над столь импонирующим им устремлением разнести свою истину по всему свету стала преобладать — и все решительнее — другая тенденция: утвердить, доведя до совершенства выражения, эту истину для самих себя. Обычаи и приемы, с помощью которых прежние квакеры демонстрировали свое презрение к рангам и сословному этикету, со временем сами обращались в ритуалы, притом не менее строгие и косные, нежели те, каким они должны были прийти на смену. Принципиальный отказ квакера снимать шляпу в знак почтения с годами стал такой же высокомерной и бессмысленной позой, как и обычай снимать шляпу, приветствуя собеседника в неквакерских кругах. Неброская, темная одежда квакеров, поначалу призванная продемонстрировать их безразличие ко всему суетному и показному, трансформировалась в некое подобие униформы, которой многие квакеры стали придавать едва ли не большее значение, нежели окружающие их — своим не лишенным светского лоска костюмам. В самой их молчаливости появилось нечто ритуальное; в то же время и непосредственность, импровизационность квакерских проповедей стала чуть ли не обязательной. Тот же парадокс с легкостью просматривается практически в любой характерной особенности образа жизни квакеров, начиная с традиционного обращения на «ты» и кончая принятыми в их общине свадебными и похоронными обрядами.
В то время как квакерские догмы делались все жестче и бес-компромисснее, догмы пуританства все очевиднее обнаруживали тенденцию и склонность к компромиссу. Пуританство, косность и догматизм которого стали притчей во языцех, расширяло сферу своего распространения, приспособляясь к требованиям действительности; квакерство же — возведшее в традицию пренебрежение ко всему формальному, простоту, непосредственность и человечность — отгораживалось от окружающего стеной. Такова история утраты одной из самых блестящих возможностей для развития всего американского общества.
К исходу XVII столетия у квакерства было немало свойств, в силу которых оно могло бы стать преобладающей религией Америки. В Старом Свете за ним закрепилась дурная слава из-за его неприятия общественных формальностей и социальной иерархии, гибкости, равнодушия к догмам. Однако незаурядным возможностям, заложенным в сердцевине этого вероуче
55
ния, не суждено было реализоваться. Сама его внешняя неоформленность, характерный для него мистицизм, типичное для квакеров пристрастие к индивидуальной чистоте и строгости — все эти факторы выступали как неблагоприятные, коль скоро речь шла о вероучении, на основе которого мог бы сложиться жизнеспособный общественный порядок. А поскольку над квакерами продолжал витать несгибаемый дух Уильяма Бренда, Мэри Дайер и других стоических страстотерпцев, «Общество друзей» обречено было войти в историю как не самый значительный, пусть и безупречный, источник американской цивилизации.
Некоторые из историков квакерства полагают, что несостоятельность данного движения как динамической силы общественного развития в стране обусловлена крахом, какой потерпело квакерство как вероучение. Они напоминают о том, что «Общество друзей» позволило букве возобладать над духом в делах веры; что, изменив собственным заветам, квакеры предали свое дело и оказались неспособны осуществить свою миссию в миру. Нет сомнения в том, что, как показывает Фредерик Толле, центр квакерской духовной жизни в Америке неуклонно смещался «от дома собраний к бухгалтерским конторам» и что многие «друзья» выходили из «Общества», дабы пополнить ряды более уважаемых и менее требовательных пресвитериан и англикан. Но это лишь одна сторона дела. Поучительнее проследить, как квакеры ослабляли себя и свое движение, не только не греша против собственных заповедей, но, напротив, сохраняя им безоговорочную верность. Ибо те заветы, которые заставляли учащенно биться сердце Джорджа Фокса, Джона Вулмена и других великих пророков квакерства, ныне обратились в безжизненные абстракции. В первые десятилетия XVIII века американские квакеры предстают уже не неутомимыми искателями Истины, но ее самоупоенными глашатаями, не апостолами, несущими в мир слово Евангелия, но скорее его рядовыми исполнителями.
В 1682 году, когда было положено начало новой колонии, и на протяжении еще нескольких лет у осведомленного наблюдателя были все основания думать, что квакерство и впредь пребудет мощной и обновляющей силой в Америке. Отмеченный неоспоримой храбростью и твердостью моральных принципов Уильям Пенн отнюдь не был человеком не от мира сего; как нельзя более далек от доктринерства был он и в государственных делах. Если верить выдающемуся пенсильванскому юристу XVIII столетия Эндрю Гамильтону, процве
56
танием, наступившим к 1739 году, колония была обязана не столько факторам материального свойства, сколько «конституции м-ра Пенна*.
В своем введении к «Форме правления для Пенсильвании», датированном 25 апреля 1682 года, Пенн едва ли не просил снисхождения за то, что конкретизировал определенные формы государственных институтов. Людям, писал он, присуще впадать в грех преувеличения собственных познаний, особенно когда речь заходит о той или иной политической форме, призванной стать панацеей от всех социальных неустройств. С точки зрения Пенна, подобные усилия несостоятельны по трем причинам:
Во-первых, потому, что век нынешний слишком робок и слишком неблагоприятен для преобразований подобного плана; пожалуй, ныне ничто другое не владеет в такой мере умами людей и в такой мере не разобщает их. Верно, что в конце концов они соглашаются в том, что общество стремится к счастью; однако, касаясь способов достижения этой благой цели — как в смысле обретения божественной благодати, так и в плане земного благосостояния, — они расходятся; и причина подобных расхождений одна и та же: не столь недостаток озарения и познаний, сколь неумение их верно применить...
Во-вторых, во всем мире я не нахожу образца, каковой под воздействием места, времени и некоторых экстраординарных происшествий с неизбежностью не претерпел бы изменений; нелегко определить и форму государственного правления, каковая была бы пригодной повсеместно.
В-третьих, мне ведомы аргументы нескольких приверженцев монархии, аристократии и демократии... излагаемые в дебатах о государственном устройстве. Однако я предпочитаю разрешить эту дилемму с небольшой оговоркой, уместной при всех этих трех видах общественного устройства: любое правительство (каков бы ни был его принцип) независимо по отношению к управляемому народу, коль скоро в государстве правят законы и к созданию этих законов причастен данный народ; все же, что сверх того, — тирания, олигархия или смута.
И наконец, когда все уже сказано, во всем мире едва ли найдется хоть одна форма государственного устройства, задуманная основателями данного государства столь дурно, что не сможет достойно действовать в хороших руках; а история Иудеи и Рима свидетельствует о том, что в плохих руках даже лучшие формы правления не могут дать ничего великого или достойного. Правительства, подобно часам, приходят в движение, когда их заводят люди; а коль скоро правительства состоят из людей и приводятся в движение людьми, то люди же их и губят. Отсюда вытекает, что скорее правительства зависят от людей, нежели люди от правительств. Если люди будут хорошими, правительство не сможет быть плохим; а коль скоро оно таковым окажется, люди исправят эту несообразность. Но если плохи будут люди, то, сколь бы совершенно ни было стоящее над ними правительство, они приложат все усилия, чтобы свести на нет его достоинства и извратить на свой лад.
Первые полстолетия истории Пенсивальнии — пора удивительно безоблачного процветания колонии. «Из дикой пусты
57
ни, — замечает Ричард Таунсенд в 1727 году, — Господь Бог благим своим промыслом превратил ее в цветущую землю». Но даже в эти годы Пенсильвания оказывается ареной столь ожесточенной партийной борьбы, что сам Уильям Пенн, потеряв терпение, вынужден воззвать к колонистам «из любви к Господу, ко мне и к несчастной стране» отбросить неумеренный интерес «к делам управления». Между тем, ряды обеих партий — склонной к экстремизму демократической «сельской партии», в которой лидирует Дэвид Ллойд, и консервативной, объединяющей купцов-горожан, возглавляемых Джеймсом Логаном, — состоят из квакеров. Несмотря на то, что не видно конца спору о том, какая квакерская группировка должна находиться у власти, бразды правления прочно держит в руках «Общество друзей».
Почти сразу же квакеры осознали то обстоятельство, что догмы их вероучения, если следовать им неукоснительно, неминуемо окажутся камнем преткновения при управлении колонией. Одно дело — жить в согласии с квакерскими принципами и совсем другое — управлять. Неудивительно, что даже на начальном этапе существования Пенсильвании им приходится идти на бесконечные компромиссы, принося в жертву один принцип квакерства за другим. Увертки и обходные маневры — их тактика не только для защиты колонии от внешних врагов, но и во внутренней политике, то и дело ставящей правящую группировку перед необходимостью уступок неквакерским моральным нормам.
Ярчайшим примером того, как малейшая заминка при догматическом отношении к делу может быть источником необратимого паралича, который спустя непродолжительное время затронет деятельность всех государственных институтов, является проблема присяги. С первых же лет существования секты, еще в Англии, квакеры заявили о себе категорическим неприятием этого инструмента судебной и политической практики. В 1656 году Джордж Фокс был привлечен английским судом к ответственности в связи с публикацией «бунтарского» сочинения, содержавшего классическую квакерскую позицию по данному вопросу. «Особо остерегайтесь,— предупреждал современников Фокс, — понуждать людей приносить присягу, ибо сказано Господом нашим и Вседержителем Иисусом Христом: „...не клянись вовсе... Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого” (Матфей, 5, 34; 5, 37)». Лишь «свет, сияющий в душе каждого», способен открыть человеку истину и побуждает его свидетельствовать от
58
ее имени; любого же рода клятвы и присяги — не что иное, как «суетные словеса», за которые людям придется держать ответ в Судный день. Единственное библейское обоснование правомерности принесения клятвы содержится в Ветхом завете, и соответствующие заповеди адресованы исключительно евреям. Но сколь значимо слово пророка Иеремии, когда на противоположной чаше весов — слово Христа и слово Иакова, без обиняков воспретивших любого рода клятвы и присяги? Однажды заявив такую точку зрения, квакеры в дальнейшем продолжали отстаивать ее с упорством педантов, почти непостижимым в наш век иносказательных толкований.
К доводам библейского и теологического свойства они присовокупляли другие, поставившие их непоколебимую ортодоксальность на грань обыденного упрямства. В числе приводимых ими аргументов был и один здравый; он заключался в том, что никакая присяга не сделает лжеца правдивым человеком. «Тот, кто считает, что закон, воспрещающий ложь, не про него писан, — задавался вопросом Пенн, — усовестится ли солгать под присягой?» От убежденности, что все виды клятв суетны и бессмысленны, квакеры пришли к тому, что любая клятва или при-сягащо существу,порочна. Оспаривая правомерность самого судебного обычая приводить свидетелей к присяге, они шли дальше, заявляя, что такое обыкновение оскорбительно: ведь требовать под присягой от человека правдивых показаний означало, по их мнению, не что иное, как презумпцию того, что в любое другое время данный человек лжет.
Принятый в 1682 году квакерами Пенсильвании «Великий закон» предусматривал следующую формулу, предварявшую дачу свидетельских показаний: «Торжественно обязуюсь говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды». Вместо ранее существовавших мер наказания за клятвопреступление были введены суровые меры, каравшие за дачу ложных показаний. В 1685 году совет провинции отказался дать королевскому сборщику налогов право требовать присягу, несмотря на то что метрополия наделила его этими полномочиями. Закон, принятый в Англии в 1689 году, допускал дачу квакерами свидетельских показаний в суде после произнесения простого обязательства, заключенного в словах: «Перед лицом Господа Всемогущего», тогда как все прочие, как и раньше, приводились к присяге; но одновременно тот же закон запрещал квакерам выступать свидетелями по уголовным делам, заседать в суде присяжных или занимать любые выборные должности. Между тем в Пенсильвании им никто не препятствовал продолжать заниматься законо
59
творчеством в рамках Ассамблеи. Так, не прибегая к процедуре присяги, они и вели дела колонии вплоть до 1693 года, когда Пенна лишили права владения, и лишь после этого вполне осознали то обстоятельство, что по-прежнему зависят от канонов английского права.
По мере того как население колонии росло и в нее в большом количестве вливались немцы и ирландцы, недовольство метрополии усугублялось неудовлетворенностью новоприбывших тем, как обстояло здесь дело с процедурой присяги. Можно ли было доверяться правителям, отказавшимся присягнуть на верность британской короне? Могли ли внушить к себе доверие свидетели или присяжные,под благовидными предлогами уклонявшиеся от произнесения самых безобидных общепринятых клятв?Упорное нежелание квакеров приводить людей к присяге со временем приобрело столь же одиозный характер, как и их собственный отказ приносить ее. На протяжении нескольких лет квакерскому большинству в пенсильванской Ассамблее удавалось успешно отражать попытки на этом основании отстранить их от власти; однако все усилия квакеров узаконить «обязательство», заменив им процедуру присяги, отвергались метрополией.
В 1703 году нескольких квакеров, заседавших в губернаторском совете, порядком встревожил указ, изданный Советом торговли и колоний палаты лордов Английского королевства. Этим указом вводился допуск квакеров к государственным должностям на условии, что вместо принятия присяги они произнесут утвержденную формулу «обязательства»; в то же время все другие лица, обязанные принести присягу в соответствии с английскими законами либо выражающие желание принести таковую, с необходимостью должны были быть приведены к присяге (в противном случае, говорилось в указе, «все судебные и законодательные решения объявляются незаконными и недействительными»). Пенсильванцев введение этой нормы поставило перед лицом двух — в равной мере нежелательных — вариантов развития событий: гражданского хаоса или устранения квакеров от управления колонией. В ряде округов — таких, например, как Честерский и Бакский, — просто-напросто не набиралось нужного числа людей, правомочных выполнять судейские функции и в то же время изъявлявших готовность прибегать, по мере надобности, к процедуре приведения свидетелей к присяге. «Для членов «Общества друзей» процедура приведения к присяге не более приемлема, нежели принесение присяги, — констатировал
60
один из членов совета, — ив ходе всех судебных разбирательств, где какая-либо из сторон полагает свои права ущемленными, она вправе ввести, если располагает таковым, в круг рассмотрения то или иное показание, с необходимостью предполагающее процедуру присяги; в этом случае дело либо должно быть прекращено, либо требуется наличие в составе суда достаточного числа лиц, правомочных провести процедуру приведения свидетелей к присяге — хотя бы для того, чтобы суд мог принять во внимание такого рода показание». Одна процессуальная тонкость нагромождалась на другую. Неквакерская группировка (отдававшая себе отчет в том, что из членов совета провинции лишь двое не имели предубеждений против процедуры присяги) настояла, чтобы решения правительства, дабы они были правомочны, принимались как минимум кворумом из пяти голосов его членов, принесших присягу. Один из членов оппозиционной квакерам группы,Ричард Хол-ливелл, «бахвалился, будто им наконец-то удалось опрокинуть правительство на спину,и теперь оно не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой».
Последовавшее смятение усугубилось тем, что по вопросу о присяге разделились мнения и среди самих квакеров. В 1704 году Дэвид Ллойд, лидер партии, выступавшей против владения Уильямом Пенном всей колонией на правах личной собственности, публично обвинил его в том, что ему не удалось добиться освобождения квакеров от процедуры приведения к присяге и что в итоге квакерам придется распрощаться с занимаемыми ими должностями.
Некоторые из квакеров, занимавшие официальные посты, пошли на компромисс, лично приводя свидетелей к присяге либо предоставляя право другим лицам исполнять эту функцию. Иные подали в отставку. Тем временем с противоположной стороны Атлантики доносились голоса наиболее влиятельных «друзей», призывавших блюсти нерушимость и чистоту квакерских принципов. Что касается Пенна, то, обращаясь к состоявшим на государственной службе единомышленникам, он увещевал их не делать ни того, ни другого — иными словами, не уходить с административных должностей и не делать уступок в вопросе о присяге. «Я хочу, — писал он им из Англии, — чтобы вы, призвав на помощь всю свою отвагу как англичане и христиане, не мирились с тем жалким положением, в какое вас стремятся поставить. Что бы ни творили эти раскольники... я смогу вызволить вас из беды». На протяжении многих лет проблема присяги оставалась камнем
61
преткновения в политической жизни Пенсильвании. Пенн напоминал, что свобода квакерской общины от принесения присяги гарантирована хартией; метрополия устами генерального прокурора заявляла на это, что, поскольку британское право предусматривает приведение к присяге присяжных, когда речь идет о делопроизводстве по тяжким преступлениям, наказуемым смертной казнью, ни одна из хартий, регулирующих правовой статус колоний, не может нести в себе столь значимого отклонения от нормы. С противоположной стороны приводились ссылки на многочисленные прецеденты, свидетельствовавшие о том, что в конкретной судебной практике «обязательство» не раз успешно замещало процедуру присяги. Так и тянулось: квакерская Ассамблея принимала по данному поводу постановления, действие которых подчас тут же сводилось к нулю губернаторским «вето» и которые, даже когда их одобрял губернатор, неизменно опротестовывались короной. Между тем вопрос был отнюдь не академический. При существовавшем положении вещей квакеры не могли выступать свидетелями в суде; так что только с принятием соответствующего юридического акта, где так или иначе учитывалась бы традиционная позиция квакеров в отношении процедуры присяги, в обществе, населенном преимущественно квакерами, могли появиться реальные гарантии безопасности граждан—хотя бы применительно к такому правонарушению,как убийство.
Лишь в 1718 году появился,очевидно,отвечавший потребностям квакеров закон, который впервые не был опротестован властями метрополии. Он позволял замещать процедуру принесения присяги «обязательством» как в суде, так и при занятии административных должностей, одновременно устанавливая за нарушение «обязательства» те же меры наказания, что и за клятвопреступление. Однако ревнителей чистоты квакерских принципов это не удовлетворило — в формулу «обязательства» как-никак входили слова: «Во имя Господа Всемогущего». Более примирительно были настроены Джеймс Логан и кое-кто еще: «Сколь бы неподобающим ни сочли такое «обязательство» «друзья» в Англии, здесь, где нашло себе прибежище такое множество распутного и бесчувственного сброда, носящего это же имя, не отпала покуда необходимость в большей защищенности». Четыре слова, в которых упоминалось всуе Верховное Божество, раскололи квакерскую общину на две фракции; недаром в 1710 году Ежегодное собрание квакеров так и не вынесло никакой резолюции по данному вопросу, воззвав к «друзьям» проявить взаимную терпимость. Конец
62
этому расколу, многим казавшемуся не более чем словесной игрой, положил закон 1725 года, вообще устранивший из «обязательства» ссылку на Господа Бога и получивший поддержку короля.
Постановление от 1725 года в общих чертах и по сей день остается основой пенсильванского законодательства по данному вопросу. Любой, кого требовалось привести к присяге, мог по собственному выбору предпочесть ей формулу «обязательства»; в то же время ни одно должностное лицо не было вправе отказаться привести к присяге того, кто сам бы того пожелал. Следствием проведения этого закона в жизнь явилось вытеснение наиболее истово следовавших букве квакерской морали «друзей» с судебного и некоторых других поприщ. Ежегодные собрания квакеров провозгласили верность некогда выдвинутому постулату, а самые рьяные из его приверженцев даже рекомендовали собратьям по духу воздерживаться голосовать за квакеров, выдвигаемых на те должности, где у последних могло бы появиться искушение усомниться в недопустимости клятв. Некоторые изловчившиеся пренебречь вновь вынесенным постановлением сохранили за собой занимаемые должности, однако в целом у квакеров вошло в обыкновение уклоняться от принадлежности к исполнительной и правоохранительной власти. Поэтому даже в местах, почти сплошь заселенных квакерами, во главе ряда учреждений волею обстоятельств оказывались носители других вероисповеданий. Тем дело и ограничилось. Таким образом, лучшим вариантом компромисса, на какой отважились пойти квакеры — правители Пенсильвании, явился тот, в результате которого должность судьи оказалась доступной кому бы то ни было, только не благочестивому квакеру. И даже здесь «Общество друзей» попыталось усмотреть некую победу принципов.
Впрочем, на этом история отношения квакеров к процедуре присяги отнюдь не завершается. Окончательную оценку квакерскому опыту можно вынести лишь с учетом той цены, какую они заплатили за свое неприятие данной процедуры. Нельзя, думается, отыскать лучший пример тщетности попыток управлять, основываясь на абстрактных постулатах, и одновременно — более наглядный пример цены, которую в ослеплении своем заплатили те, кто пытался действовать таким образом. Со времен зарождения секты квакеров на английской земле их отличало стойкое нежелание в военное ли, мирное ли время по какой бы то ни было причине ставить под сомнение неприкосновенность человеческой жизни. Это, есте-
63
ственно, настроило их против смертной казни; и как раз в подходе к этой категории уголовного права «Великий закон» 1682 года, принятый в Пенсильвании под прямым влиянием Уильяма Пенна, явным образом отличался от соответствующего английского законодательства. Если в Англии того времени смертная казнь венчала многие тяжкие преступления, то в Пенсильвании к ней приговаривали только за государственную измену или за убийство. В таком виде закон действовал более тридцати лет. Противники квакерского движения в Англии со своей стороны воспользовались этим обстоятельством — как, впрочем, и всем, что только выделяло квакеров из окружения, — в качестве мишени для нападок, стремясь наклеить на своих оппонентов ярлык «опасных анархистов». События приняли неожиданно драматический поворот, когда в 1715 году в Честерском округе был убит весьма уважаемый гражданин по имени Джонатан Хейс. Случилось это в момент, когда достигли апогея споры о процедуре присяги и вице-губернатор Чарлз Гукин официально заявил, что Пенсильвания входит в юрисдикцию английского права. Учитывая, что преобладающим населением данной части провинции были квакеры, можно было бы без особого труда предположить, что в случае, если судебный процесс над убийцами Джонатана Хейса вообще состоится, председательствующим, присяжными и даже свидетелями на нем станут квакеры; поскольку же квакеры наотрез отказывались от присяги, довести этот процесс до логического завершения не представлялось возможным: арестованные и подозреваемые в преступлении лица были отпущены под залог в течение трех лет. Тем временем в кресле вице-губернатора оказался Уильям Кит, и слушание дела было возобновлено — на фоне участившихся обвинений в том, что уклонение квакеров от присяги поощряет преступность. В результате убийц Хейса предали казни еще до того, как в Лондоне было заслушано их прошение о помиловании. Когда же в метрополии стало известно, что в Пенсильвании казнят британских подданных, да еще на основании вердикта жюри, членов которого не приводили к присяге, в Лондоне раздались голоса гневного недовольства. Для нападок противостоящего квакерам лагеря добавилось обвинительного материала.
Более того, именно в это время в очередной раз прозвучала неоднократно повторяемая угроза, что тот же надоевший повод — отношение к процедуре присяги — будет использован с целью окончательно отстранить квакеров от власти в колонии. Такая перспектива отнюдь не воодушевляла квакерскую Ассам
64
блею. И потому, вероятно, ее члены с особым вниманием и особой благожелательностью восприняли намек губернатора на то, что, пойдя на уступки Лондону в вопросе о смертной казни, они с тем большей вероятностью смогли бы рассчитывать на компромисс в проблеме присяги. От членов Ассамблеи требовалось ♦всего-навсего» распространить на Пенсильванию действие уголовных законов Англии; в итоге перечень преступлений, наказуемых смертной казнью, должен был автоматически возрасти в несколько раз. И пенсильванские квакеры дали себя убедить. Так что Акт 1718 года, открывший возможность занимать официальные посты без принесения присяги, одновременно подвел уголовное законодательство квакерской Пенсильвании под знаменатель английского. Правда, в нашем распоряжении лишь косвенные улики, свидетельствующие о том, что подобная сделка действительно имела место; в то же время обилие таких улик ошеломляет. Как подчас не без амбиции отмечают историки квакерского движения, юрист-квакер подготовил Акт 1718 года, его утвердила квакерская Ассамблея и этот Акт не опротестовало ни одно из собраний квакеров.
Таким образом, стремясь сохранить «незапятнанность» в вопросе о правомочности процедуры присяги, квакеры принесли искупительную жертву в виде жизней тех мужчин и женщин, которых отныне могли приговорить к смертной казни за любое из десятка различных преступлений. Этот эпизод интересен не только в том смысле, что раскрывает всю пагубность выхолощенных абсолютов как критериев политического поведения. Красноречив он и в другом: наглядно демонстрируя, как истовые ревнители веры, превыше всего на свете блюдя чистоту собственной совести, могут поступиться благополучием и даже самой жизнью многих своих соотечественников.
8
ИСПЫТАНИЯ ВЛАСТЬЮ: ПАЦИФИЗМ
Те, кто придает чрезмерное значение догме и не склонен руководствоваться в повседневной деятельности взаимообога-щающим обменом идей и практического опыта, чаще всего терпят поражение либо в первом, либо во втором. С начала квакерского движения в его идейном активе был по крайней мере еще один четко оформленный постулат—пацифизм. В 1650 году в Англии Джордж Фокс предпочел отбыть срок тю
65
3-382
ремного заключения необходимости взять в руки оружие, защищая общество против Карла Стюарта. В своем «Дневнике» за 1664 год он запечатлел классическую позицию квакеров по данному вопросу — позицию, в которую предстояло воплотиться самому важному и самому стойкому убеждению представителей этого течения:
Мы миролюбивы и ищем мира, добра и благоденствия для всех, как то подтверждает наш образ жизни и поведения... Мы — наследники мирного завета, в каковом заключена сила Господня... Ибо сказал Христос: «Не от мира сего Его царствие, за которое должно слугам Его сражаться». Потому и сказал Он Петру: «Возврати меч твой в его место, ибо все, кто поднимут меч, от меча и погибнут». Отсюда вера и долготерпение святых, исполненных решимости претерпеть все муки, ибо ведомо им, что отмщение в руках Божьих и что воздаст Господь по делам их тем, кто угнетает народ Его и чинит зло неповинным; потому и нам должно не отмщать, но претерпевать все муки во имя Его... «Возлюбите друг друга», — учил Христос; и те, кто следует сему завету, никому зла не творят; и, веруя в Него, едины мы во Христе, каковой и есть жизнь наша.
Однако одно дело — провозгласить эту доктрину в Англии, где за приверженность ей можно было поплатиться свободой,и совсем другое — неуклонно блюдя ее, жить в Америке, где такая жизненная позиция была чревата гибелью других—тех, кто к принципам квакерства не имел ни малейшего отношения. Ведь в руках квакеров, управлявших Пенсильванией вплоть до середины XVIII столетия, были жизнь и смерть всех жителей колонии — в особенности обитавших на ее окраинах и испытывавших вечную угрозу со стороны недругов-французов и жадных до скальпов индейцев. Само центральное географическое положение квакерской колонии, необходимость сосуществования с местными индейскими племенами (так называемой Конфедерацией шести племен и делавэрами) и жизненно важная для американцев потребность в контроле над реками на западной границе—все это возводило выносимые квакерским руководством решения о войне и мире на уровень внешней политики Британской империи.
Квакеры осознали, что в качестве правителей колонии они еще менее свободны—скажем, в исповедании дорогого их сердцу пацифистского кредо, — нежели в прежнем своем положении преследуемого меньшинства. «Хотелось бы мне, чтобы ты проявил больше красноречия, защищая нас, поверженных и беззащитных, — взывал из Филадельфии Джеймс Логан к Уильяму Пенну, находившемуся в Англии (письмо от 2 сентября 1703 года). — Я всегда пускал в ход самый сильный из своих аргумен
66
тов, говоря, что мы люди миролюбивые, что мы решительно отвергаем войну и самый дух ее и что мы готовы вверить себя одному — промыслу Божьему... Говоря все это, я выражал истинные мои убеждения; но ни убеждения эти, ни методы нашего управления не находят сочувствия в английском правительстве. Нам отвечают, что, если бы мы рисковали лишь собственными жизнями, это мало что значило бы для Королевства, полагающего это «делом нашей веры»; но рядом с нами обитают и другие, и,коль скоро враг одержит победу в данной провинции, такая победа явится слишком ощутимым ударом для Англии в прочих ее колониях».
Стоит сказать, что от этого болезненного вопроса квакерам удавалось уходить на протяжении многих лет; на пост вице-губернатора (лица, наделенного полномочиями осуществлять в Америке исполнительную власть в интересах владельцев Пенсильвании) они предусмотрительно выдвигали людей, не входивших в «Общество друзей» и, следовательно, не обремененных принципами, грозившими пойти вразрез с повседневными обязанностями управления. Лишь один квакер — Томас Ллойд — был в числе более десяти вице-губернаторов, поочередно правивших Пенсильванией с момента основания колонии до ухода «друзей» с политической сцены в 1756 году. Таким образом, на протяжении длительного времени пенсильванские квакеры могли обеспечивать правление, не входя при этом в конфликт со своими убеждениями.
Однако раньше ли, позже ли им предстояло пойти на одну из определенных—ив равной мере не улыбавшихся им — альтернатив. В теории, правда — но лишь в теории,— существовал и третий вариант: окажись они в силах окончательно отмежеваться от Англии, а также остановить возрастающий приток в колонию неквакерского населения, «эксперимент праведной жизни», очевидно, мог бы быть продолжен в лабораторном виде. Но об этом можно было лишь мечтать. К середине XVIII века история выдвинула перед пенсильванскими квакерами две возможности: либо сохранить власть, пожертвовав своей догмой, либо выйти из правительства.
Во всей истории Америки трудно найти более сложное сплетение обстоятельств, нежели то, разрешением которого явился сделанный квакерами в 1756 году выбор. В проблему оказались вовлечены десятки конфликтующих групп и противоречивых устремлений. Вопрос о пацифизме предстал в нерасторжимой связи с вопросом о налогообложении, а, как известно, ничто так не стимулирует моральный пыл, как изобретение поводов укло-
67
3»
литься от уплаты налогов. В политических антагонизмах в Пенсильвании сыграли свою роль противодействие владельцам колонии, неприятие колонистов английского происхождения выходцами из Ирландии и Германии, денежная реформа, а также соперничество с квакерами со стороны пресвитериан и анг-ликан.
И все-таки, если посмотреть на эту конфронтацию с точки зрения квакеров, суть ее была как нельзя более проста. Она сводилась к одному — пацифизму. Пожалуй, даже если бы квакеры задумали создать особую экспериментальную среду, целью которой было бы опробовать их непреоборимую тя1у к пацифизму, им и тогда вряд ли удалось бы спроектировать нечто более подходящее, нежели условия провинциальной Пенсильвании. Европа XVII — начала XVIII столетия (периода, когда всеобщая воинская повинность еще не стала реальностью) не могла послужить настоящим опытным полем для испытания квакерского неприятия войн. В любой из стран Западной Европы они составляли незначительное меньшинство населения, так что речь могла идти лишь о единичных causes ceUbres* вроде подвижничества Джорджа Фокса во времена Республики. Мировоззренческие проблемы квакеров стали серьезным общественным фактором лишь после того, как последние встали у руля власти. Тогда-то и возник перед ними во всей своей решительности и неотступности вопрос войны и мира: и в плане борьбы Британии за имперское господство — борьбы, где им отведена была роль и боевого отряда, и ценного владения, и в плане самозащиты от набегов кровожадных аборигенов.
Итак, от каких бы зол, связанных с существованием в Европе, ни удалось избавиться эмигрировавшим в Пенсильванию квакерам, война к ним определенно не относилась. Даже простое перечисление имперских конфликтов на американской территории, то и дело выталкивавших колонистов на линию огня, способно привести в уныние людей с куда меньшей неприязнью к войне, нежели та, какую испытывали «друзья». Ибо на долю последних то и дело выпадала роль безгласных исполнителей труднопостижимых замыслов пребывавшего за три тысячи миль британского правительства. Колонии не исполнилось еще и десятка лет, когда в апреле 1689 года в Пенсильванию пришла весть о том, что англичане объявили войну французам; так началась «война короля Вильгельма». На тре
* Здесь—случаи,ставшие достоянием истории (франц.).
68
бование метрополии организовать вооруженную оборону и учредить милицию один из членов Губернаторского совета отвечал, что единственная видимая колонистам угроза исходит «от волков и медведей». И квакеры, верные своим представлениям о морально-религиозном долге, наотрез отказались тогда предпринять что бы то ни было. Однако уже в ходе следующего десятилетия Англия вновь оказалась вовлечена в конфликт с Францией, теперь вместе с Испанией; на повестке дня была война за Испанское наследство (в Америке более известная как «война королевы Анны»). И хотя данная война надлежащим образом была «объявлена» и на территории Пенсильвании, квакерская Ассамблея, отвечая на неоднократные требования метрополии, раз за разом отказывалась ввести законы военного времени в действие, мотивируя это уже известным рядом соображений: «Коль скоро речь идет о деньгах, предназначенных для найма людей, каковым надлежит сражаться или убивать друг друга, этот вопрос, становясь делом нашей совести, входит в противоречие с принципами нашей веры; ибо не подобает нам в той мере, в каковой это от наших скромных возможностей зависит, споспешествовать подобным начинаниям». В 1713 году «война королевы Анны» завершилась, и на протяжении счастливых двадцати пяти лет внешняя политика Британской империи не ввергала колонию в горнила вооруженных конфликтов. Однако этот мирный период оказался всего-навсего передышкой. Пора самых суровых испытаний была еще впереди; и в ходе этих испытаний имперские войны подступят вплотную к границам колонии.
Генеральная репетиция решающей проверки принципов квакерства на прочность началась в 1739 году вспышкой войны с Испанией (так называемой «войной из-за уха Дженкинса», позже переросшей в войну за Австрийское наследство, снискавшую в колониях прозвание «войны короля Георга»). Если «участие» колонии в прежних вооруженных конфликтах метрополии могло показаться чисто номинальным, то теперь принадлежность к Британской империи обернулась для пенсильванцев гораздо более непосредственными и острыми коллизиями. В войну с Англией — а следовательно, и с Пенсильванией, независимо от того, входило это в планы квакеров или нет, — вступили Франция и Испания, каждая из которых связывала далеко идущие намерения с территориями в Америке. Колониальные войны стали составной частью политики европейских держав. Понадобилось не слишком много времени Для того, чтобы на реке Делавэр появились испанские каперы.
69
Как могли отреагировать на это квакеры, составлявшие большинство в пенсильванской Ассамблее?
Последовала уже знакомая борьба между губернатором-не-квакером, пытавшимся увязать интересы колонии с интересами Британской империи, и квакерами-догматиками, радевшими превыше всего о том, чтобы не поступиться своим пацифистским кредо. На протяжении некоторого времени в 1741 году в этом плане квакеры преуспевают, парализуя действия правительства, не выплачивая жалованье губернатору и баллотируя любые законодательные акции. В проведении данного курса им оказали поддержку многие поселенцы немецкого происхождения, ввергнутые в панику слухами, которые посеяли те же квакеры. Губернаторский план учреждения милиции, внушали им «друзья»,обречет поселенцев на столь же откр^епно рабское положение у королевских тубернаторов, в ковром «они были некогда у своих германских князей... военные расходы приведут их к обнищанию, и тогда... достаточно будет представителям любой иной труппы занять квакерские места в Ассамблее, чтобы несчастных колонистов, насильно отторгнув от собственных ферм, заставили строить форты в знак благодарности за то, что им позволено было поселиться в провинции». Эта кампания нашептывания породила в колонии страх перед грабежами и насилием.
Лишь к 1745 году смог тубернатор Томас обеспечить ассигнования на военные нужды: гарнизону в Луисбурге, к тому времени перешедшем в руки англичан, было выделено четыре тысячи фунтов стерлингов на приобретение «хлеба, говядины, свинины, муки, ячменя или другого зерна». Под «другим зерном» подразумевался, очевидно, порох. По сути дела, квакеры и раньше содействовали обороноспособности колонии, но только под благовидными предлогами либо не конкретизируя назначения выделяемых сумм. Так, в 1693 году средства ассигновались на то, чтобы предположительно «накормить голодных и одеть нагих» индейцев; в 1701 году финансировалось — но лишь «в тех пределах, в каких это допускают их религиозные убеждения», — сооружение форта; в 1709 году квакеры субсидировали военную экспедицию в Новую Шотландию, ибо «хоть и не в их принципах было брать в руки оружие, долгом их оставалось финансово поддерживать правительство Ее Величества»; в 1740 году была собрана сумма «для использования Его Величеством королем по его усмотрению» и так далее. В трудностях, которые возникли позже, иные винили недипломатичного губернатора; однако, думается, достовернее другое —
70
в появлении их сыграло свою роль то обстоятельство, что в глазах квакеров «мерилом достоинств служила мера страданий, перенесенных за веру».
Возможно, наиболее значимым итогом конфронтации 1745 года явилось возникновение сильной партии компромисса, во главе которой стал Бенджамин Франклин. Этой партии, имевшей широкую опору в низах, в равной мере противостоявшей и своекорыстию владельцев колонии, и фанатичной ортодоксальности квакерских экстремистов, со временем суждено было заместить у руля власти догматичное квакерское меньшинство. В 1747 году, в самый разгар ожесточенных дебатов об обороне, Франклин выпустил один из самых острых своих политических памфлетов «Чистая правда». В этом памфлете, не содержавшем ни оправдания, ни обличения квакеров, была нарисована полная, объективная, в чем-то даже пророческая картина существования колонии и всесторонне обоснована необходимость ее обороны. Спокойствие обитателей, писал Франклин, объясняется удачным «центральным» географическим положением Пенсильвании: «И хотя наша страна вовлечена в кровопролитную войну с двумя великими и мотущественными королевствами, народ наш, защищенный, с одной стороны, северными провинциями от французов, а с другой — южными от испанцев, благодаря немалым усилиям вышеназванных северных и южных провинций до недавнего времени мог спать спокойно в своих обиталищах». Пенсильвания — единственная из британских колоний, не озаботившаяся своей обороной, — полагалась на мелководье своей гавани и труднодоступность речного устья, служивших естественной защитой от любого противника.
Будь даже подобное ощущение собственной безопасности оправданно в прошлом, развивал свою мысль Франклин, в 1747 году оно несостоятельно, ибо колония накопила достаточное богатство, чтобы возместить затраты на вторжение возможного интервента. На долю пенсильванцев выпало два мирных десятилетия, но это «поистине долгий мир, равно как и длинная тропа, окончание которой скрыто от глаз», так что теперь колонистам следует ожидать, что французы проявят удвоенное коварство и, провоцируя индейцев на набеги, добьются успеха. «Как скоро может обрушиться беда на наши приграничные селения? И каких можем мы ожидать последствий, как не опустошения плантаций, разрухи, кровопролития и смуты?» Обитателям побережья приходится ожидать худших напастей, нежели те, какие пришлось им вкусить летом минувшего года, когда капе
71
ры вторглись в бухту реки Делавэр и опустошили плантации близ Ньюкасла. Единственным ответом могла быть готовность к грядущим испытаниям:
Bpaiy, без сомнения, ведомо, что жители Пенсильвании — квакеры и по соображениям веры отрицают всякую оборону; эту правду в отношении части, и притом небольшой лишь части,населения обычно утверждают, говоря о населении в целом; и убедительность такому утверждению в глазах иностранцев придает то, что фактически ни одна из частей населения не делает ничего, дабы обеспечить свою защиту. Но отказываться защищать себя самих или свою страну есть обыкновение, столь не свойственное человечеству, что, возможно, они этому не поверят, пока на опыте не убедятся, что могут беспрепятственно восходить выше и выше по течению нашей реки, захватывать наши суда, грабить и опустошать наши плантации и селения и безнаказанно уносить с собой награбленное. Развк я*- у дет означать, что утверждаемое их лазутчиками — правда, и не поощрит их нанести один дерзкий удар по нашему городу и подвергнуть разграблению все побережье реки?
В защите населения — прямой долг правительства; и никакие личные препоны религиозного свойства не освобождают законодателя от этой обязанности. Далее Франклин напоминал законодателям-квакерам, что «коль скоро они в силу своих религиозных принципов не могут действовать в нашу защиту, то перед ними открыта возможность уйти в отставку: расстаться на время с кормилом власти, доверив его в годину нынешней бури рукам более свободным». Квакеры сочли возможным расходовать общественные средства, сложившиеся из взносов всего населения, на нужды собственной религии, на то, чтобы нейтрализовать деятельность антиквакерских групп, и на то, чтобы обеспечить себе благосклонное отношение английского двора. Чем же в таком случае могут они обосновать свой отказ употребить эти средства на благо и защиту всех?
Выход из положения, заключал Франклин, прост: квакерам следует уйти с политической сцены, предоставив другим управлять колонией и обеспечить ее обороноспособность. Если, принося в жертву собственным религиозным принципам благосостояние всей общины, квакеры превышают свои права, то и со стороны неквакеров просто неразумно пренебрегать обороноспособностью колонии на том лишь основании, что, спасая себя, они одновременно спасают и квакеров. Франклин выдвинул идею создания ассоциации для сбора добровольных пожертвований на оборону колонии, и в скором времени в Пенсильвании появилась милиция численностью до десяти тысяч человек.
Но «война короля Георга» была всего лишь репетицией. Подлинному испытанию на прочность пацифистский дух ква
72
керов подвергнется позже: когда учиненная индейцами резня охватит всю западную приграничную зону колонии. Это случится во второй половине 1755 года — после того как французы, воодушевленные поражением британского генерала Брэддока, начнут использовать форт Дюкейн как боевой лагерь всякого рода интервентов. Хуже того, французы примутся подстрекать делавэров, чтобы те своими внезапными и кровавыми набегами свели к нулю факт приобретения владельцами колонии у Конфедерации шести племен земель на западе Пенсильвании. Тогда первой реакцией квакеров, населяющих восточную часть провинции, станет недоумение: в самом деле, ведь не старые же их союзники делавэры творят эти кровавые бесчинства? Приверженные характерному для них нежеланию дурно мыслить о ближних, квакеры будут по-прежнему настаивать на том, что в неудовлетворенности индейцев текущим положением дел повинны сами англичане, в недавнем прошлом несправедливо обходившиеся с ними.
9
КАК КВАКЕРЫ ПРОСЧИТАЛИСЬ В ОЦЕНКЕ ИНДЕЙЦЕВ
Политическое преуспеяние да и само выживание той или иной американской колонии нередко зависели от того, сколь реалистично оценивалось в ней соседство индейцев. Характеризуя квакерское видение данной проблемы, можно сказать, что его отличали те же свойства, что и квакерское видение войн: отсутствие реализма, догматичность, основанность на ложных предпосылках относительно человеческой природы. Суть взаимоотношений жителей этой колонии с индейцами с оптимальной полнотой выразил вождь делавэров Тадескунг на встрече с правителями Пенсильвании в июле 1756 года. В руке он держал пояс-вампум, недавно полученный им от ирокезов: большим квадратом на нем обозначались земли индейцев. По одну сторону квадрата была изображена фигура англичанина, по другую — француза; оба готовились узурпировать достояние индейского населения. Обратясь к пенсильванским лидерам, вождь Тадескунг призвал их в знак дружбы дать гарантии, что впредь не будет иметь места захват принадлежащих индейцам земель. Разумеется, продемонстрированный вождем рисунок несколько упрощал реальное положение дел, однако существо вопроса передал верно. Все возраставшее население провинции, устремляясь на запад, с неудержимостью океанского при
73
лива прокатывалось по индейским территориям. И проблемы исконных обитателей континента уже нельзя было свести к корректности соблюдения дипломатических норм, неписаным правилам честной игры или к готовым формам признания собственной вины. Налицо был один из тех гигантских конфликтов истории, когда мощная динамическая сила встретилась с массой, долгое время пребывавшей в неподвижности. Результатом такого столкновения могло быть одно из двух: либо утрата динамики, либо сдвиг массы.
Этого, увы, предпочитали не замечать квакеры. Все их действия в данный, кризисный для Пенсильвании момент обнаруживают наглядную (если не сказать — поразительную) неспособность уяснить реальное положение вещей. В отношении давних проблем и интересов индейского населения они проявили столь же тотальное отсутствие понимания, сколь и в отношении духовного склада незнакомого народа, с которым им выпал жребий иметь дело. В1748 году, например, квакерская Ассамблея отказала в ассигнованиях на оборону Филадельфии, зато выделила индейцам сумму в пятьсот фунтов стерлингов, сопроводив ее благим пожеланием, чтобы они были потрачены «на обеспечение индейцам необходимых средств к существованию и углубление дружеских связей между нами и индейцами, дабы не поощрять их к вступлению в войну». Как, спрашивается, умудренные опытом жизни в миру квакеры ухитрились не догадаться, что свой свинец и порох индейцы пустят в ход, не только охотясь на медведей и оленей? За это отсутствие здравого смысла предстояло дорого расплатиться колонистам ирландского и немецкого происхождения, селившимся на западных рубежах Пенсильвании. А спустя несколько лет, осенью 1756 года, прослышав о кровавой бойне, устроенной на западе провинции, члены квакерской Ассамблеи в Филадельфии незамедлительно принялись расследовать возможные истоки недовольства индейцев. Вместо того, чтобы предпринять все необходимое для вооруженной обороны колонии, Ассамблея приняла законопроект о совершенствовании торговых отношений с индейцами, учредив специальные должности уполномоченных, в чьи обязанности входило следить за равноправностью торгового обмена, и введя такие законодательные гарантии, как максимальные цены на товары, предназначенные для покупки у индейского населения. Эти превосходные меры были слабым утешением для жителей окраинных местностей, обреченных видеть, как над их домами взвиваются языки пламени, как вытаптывают засеянные ими поля, как похищают или скальпируют их жен и детей.
74
Политический конфликт между вице-губернатором Робертом Хантером Моррисом (неквакером) и квакерской Ассамблеей принял зримые формы. Отстаивая интересы владельцев колонии, вице-губернатор заявил, что обиды, якобы нанесенные собственниками индейскому населению, не имеют ничего общего с учиненной в западных областях провинции резней; подлинная причина происшедших бедствий, заключал он, коренится в пацифизме квакеров, логическим следствием которого стала беззащитность колонии перед внешним агрессором. Квакеры же со своей стороны винили во всем произвол и своекорыстие владельцев колонии. Срединную позицию в этой конфронтации занял Франклин, у которого появилось немало сторонников в рядах менее догматичных квакеров; не отрицая необходимости более справедливой политики в отношении индейского населения, он потребовал принятия немедленных мер по организации вооруженной обороны Пенсильвании. И все-таки меньшинство квакеров-догматиков, контролировавших Ассамблею, сохраняло свою традиционную приверженность пацифизму, хотя вспышки ожесточенной резни грозили охватить всю границу.
Избиения продолжались; в Западной Пенсильвании воцарилась паника. Кровопролитие приняло угрожающие размеры; в запустение приходили целые приграничные городки, обитатели которых, спасаясь, покидали свои дома. Вопросом вопросов было, как писал из Йорка 5 ноября 1755 года Джордж Стивенсон, «оставаться на местах или бежать? Большинство за то, чтобы защищать свои жилища, но у нас нет ни оружия, ни боеприпасов». Правительство никак не реагировало на эти отчаянные призывы. «С каждым часом жители Камберленда заполняют улицы этого города, совершенно незащищенного; в него толпами стекаются обитатели окрестных предместий». На головы поселенцев пограничья сыпались смертоносные удары томагавков, а жители внутренних районов не знали, как прокормить и обустроить растущее число беженцев.
Неудивительно, что терпение пенсильванцев истощилось. В самом конце ноября 1755 года около трехсот доведенных до отчаяния колонистов немецкого происхождения прибыли в Филадельфию, чтобы потребовать от Ассамблеи решительных действий. Они добились успеха: перепуганные законодатели изобразили видимость согласия и обратились через уполномоченного по делам провинции в Британский тайный совет с просьбой снизойти к бедственной участи беззащитных поселенцев. Эти месяцы стали свидетелями беспрецедентного и все углублявшегося раскола внутри самой квакерской общины. Еще в сен
75
тябре того же года филадельфийское Ежегодное собрание, следуя прежней линии, уклонилось от вынесения резолюции о необходимости выделения значительных средств на нужды вооруженной борьбы провинции. И многие склонны были разделить мнение Израеля Пембертона, заявившего, что события осени и зимы 1755 года «нанесли как положению наших дел в целом, так и ситуации внутри «Общества друзей» более страшный и непоправимый ущерб, нежели семьдесят предшествовавших лет».
В июле 1756 года французский комендант форта Дюкейн с видимым удовлетворением сообщал по инстанции, что ему «удалось разорить три близлежащие провинции — Пенсильванию, Мэриленд и Виргинию, согнав с мест их обитателей и полностью ликвидировав поселения на полосе шириной в тридцать лиг, считая от линии форта Камберленд... Индейские деревни переполнены пленными разного возраста и пола. Потери противника за истекший после его поражения период намного превысили его боевые потери».
Однако всего этого было недостаточно, чтобы квакеры смогли осознать пороки идеализируемых ими индейцев. Казалось, для них вовсе не имело значения, что вожди индейских племен, с которыми они вели переговоры, порой едва держались на ногах от поглощенных спиртных напитков. К примеру, не иначе как в состоянии подпития высказывал свои немыслимые, подчас противоречившие одна другой претензии их старый союзник Тадескунг, представлять которого на переговорах в конце июля 1756 года взялись квакеры. Однако последние, то ли окрыленные надеждой, то ли движимые жалостью, то ли пораженные откровенной слепотой, просто-напросто игнорировали это обстоятельство.
В глазах индейцев поведение пенсильванских правителей ассоциировалось с британской экспансией, политическим курсом Виргинии и Мэриленда и безоглядным захватом земель компанией Огайо и ей подобными, сколь бы мало ни импонировало это самим жителям Пенсильвании. Да и сама по себе политика той или иной колонии по отношению к индейцам была делом отнюдь не простым: нередко проявление дружества к одному племени воспринималось соперничавшими племенами как объявление им войны. Например, заключая в 1742 году союз с ирокезами, Пенсильвания волей-неволей вовлекла себя в орбиту взаимной вражды, издавна существовавшей между ирокезами и делавэрами, и так посеяла семена смуты, которую предстояло пожать тринадцать лет спустя. Когда в 1756 году квакеры присутствовали при переговорах с вождем племени делавэров Та-
76
дескунгом, они настаивали на том, чтобы губернатор провинции, неквакер, увенчал их мирным договором. Однако губернатору Моррису хватило здравого смысла осознать, что сепаратный мир может крайне неблагоприятно сказаться на поведении могущественных ирокезов. Такого рода политика являла собой дело тонкое и щекотливое, и проводить ее, исходя из моральных догм и абстрактных принципов, было самоубийственно.
Квакеры понимали, что, не прояви они в это отмеченное нарастающим страхом перед индейцами и постоянной опасностью насилия время какой-либо инициативы, им была бы гарантирована полная утрата поддержки со стороны населения провинции. Предпринимая такую инициативу, они предпочли, однако, действовать не через правительственные каналы, но параллельно или даже вступив в своего рода конкуренцию с правительством. Итогом явилась образованная в июле 1756 года «Дружеская ассоциация по восстановлению и сохранению мира с индейцами мирными средствами». Вступив через посредство этой неправительственной организации в контакт с индейцами, квакеры рассчитывали умиротворить их, не поступаясь собственными религиозными убеждениями. Однако, сколь бы благородны ни были их устремления, деятельность квакеров в индейской среде в этот требовавший ответственных решений момент вряд ли можно определить иначе, как назойливое вмешательство. Правители Пенсильвании, при всей резкости или неэффективности предпринимавшихся ими мер, по крайней мере точно представляли себе существо индейской проблемы. А «Дружеская ассоциация» со своей стороны преуспела лишь в одном: в том, что клубок существовавших противоречий запутался еще больше, побуждая индейцев с недоверием взирать на тех правителей Пенсильвании, с которыми им предстояло в дальнейшем вести переговоры, и тем самым отдаляя возможность заключения каких бы то ни было выгодных для новых поселенцев провинции соглашений.
В ходе зиждившихся на этом непрочном фундаменте переговоров 1756 года квакерам удалось убедить индейцев племени делавэров назначить своим полномочным представителем квакерского лидера Израеля Пембертона; с ним губернатору Пенсильвании и предстояло вести дело по всем вопросам, касающимся индейцев. Это сомнительное доверие льстило самолюбию квакеров, но не поправило дела в главном: они крайне смутно отдавали себе отчет в том, кого и что представляют. По существу, в данном качестве от них не было ни малейшего прока ни индейскому населению, ни жителям Пенсильвании. Все это
77
лишь еще больше осложнило позицию губернатора, в конце концов вынужденного пригрозить, что, если они не прекратят свое вмешательство в ход переговоров, он будет рассматривать это как происки врагов Английского королевства.
Озабоченность чистотой своих принципов приводила квакеров к тому, что они ухитрялись не видеть самого очевидного. Так, в апреле 1751 года квакерская Ассамблея с обычным для нее самодовольством отказала владельцам колонии в желании помочь соорудить форт. «Ибо, неизменно полагая, что честное, прямодушное обращение с индейцами, дружественная к ним позиция по любым поводам и, в частности, насущное желание облегчить ихудел, своевременно делая им соответствующие подарки, были лучшим способом снискать их расположение, мы можем лишь высказать пожелание, чтобы наши собственники сочли целесообразным разделить с нами бремя расходов на эти подарки, действие каковых во все времена столь же благотворно сказывалось на их интересах, сколь и на безопасности наших приграничных поселений». И даже после того, как на границе разразилась буря и жителям Западной Пенсильвании не осталось ничего другого, как пожинать горькие плоды четвертьвекового квакерского великодушия и непротивления индейцам, практические выводы, каких нельзя было не сделать из создавшегося положения, остались для многих из «друзей» тайной за семью печатями. Одним из самых невероятных примеров подобной слепоты является дневник Дэниела Стэнтона — обычного странствующего подвижника квакерского вероучения, распространявшего по разным уголкам Америки послания филадельфийского Ежегодного собрания. С его точки зрения, сравнительно небольшое число квакеров, павших в ходе приграничных нападений индейцев в 1755—1756 го-дах,было не чем иным, как свидетельством Господнего одобрения проводимой квакерами политики. Он не отрицал, что индейцы оказались «тяжким орудием искупления, ниспосланным на эту землю;и все же достойно изумления, что с помощью Всевышнего, каковая была так же спасительна, как тень огромной скалы, павшая на иссушенную зноем землю, лишь немногие из нашего «Общества» претерпели разор, поношение и гибель в ходе всего этого ужаса». Более достоверное (хотя и менее импонировавшее обычному для квакеров ощущению собственной непогрешимости) объяснение выпавшей на их долю «удачи» заключалось в том, что почти все они обитали в восточной части провинции, отделенной «от жестокого и бесчеловечного врага» двумя сотнями миль пересеченной горами и испещренной реками местности.
78
Впрочем, то обстоятельство, что квакеры восточного побережья милостью ли Божьей, волею ли благоприятного случая или по какой-то другой причине избегли яростной индейской агрессии, мало подействовало на Франклина. В августе 1756 года его больше волновало то, что «на жителей наших приграничных селений непрерывно и безнаказанно нападают», и он сокрушался о том, что ответные меры заставляют себя ждать. «Короче говоря, — заключал Франклин со свойственной ему прямотой,—я не верю, что у нас установится прочный мир с индейцами, пока мы их хорошенько не проучим».
10
УХОД ОТ ВЛАСТИ
К весне 1756 года даже наименее склонные к компромиссам квакеры Пенсильвании начали задумываться о том, в какой мере факт пребывания у власти соответствует принципам их веры. Функции управления «плохо уживаются с квакерским кредо», писал Джеймс Логан Уильяму Пенну еще в 1702 году; а события первой половины XVIII столетия лишь нагляднее выявили справедливость утверждения, какое с оттенком обвинения не уставали повторять противники «друзей»: «Отправление власти абсолютно несовместимо с мировоззренческими основами квакерства».
В кризисный этот момент конфликт развивался по нарастающей не только между правящей квакерской верхушкой в Пенсильвании и неуступчивым имперским правительством в Лондоне. В провинции шло соревнование трех партий. Народная партия Бенджамина Франклина (в нее в числе других входило и немало квакеров, более широко смотревших на вещи, нежели их единоверцы) выступала как против религиозного догматизма, так и против олигархического управления колонией. От имени этой партии был выдвинут законопроект об учреждении милиции, согласно которому все жители Пенсильвании мужского пола были военнообязанными (уклонение от военной службы наказывалось штрафом), а офицеров демократическим путем избирали солдаты. Квакеров не понуждали брать в руки оружие, однако обязывали вносить деньги на нужды обороны. Партии Франклина противостояла наиболее непримиримая часть квакеров, отказывавшихся платить какие бы то ни было налоги, коль скоро они могли быть употреблены на военные цели; возглавляли эту группировку бескомпромиссные пацифисты вроде Израе-
79
ля Пембертона, Наконец, в оппозиции к тем и другим стояли собственники Пенсильвании и их губернатор, которых не устраивало то, что на плечи владельцев ложилась причитавшаяся квакерам доля общественных затрат.Они боялись демократического пути избрания офицеров милиции, но и не питали ни малейшей симпатии к пацифизму.
Невзирая на возрастающее недовольство своим курсом в разных кругах общества, рост неквакерского населения провинции и все усиливающееся раздражение сменявших один другого губернаторов Пенсильвании, квакеры в начале 1756 года еще удерживали в руках рычаги власти. В это время они, возможно составляя менее четверти населения, владели двадцатью восемью из тридцати шести мест в пенсильванской Ассамблее. И самыми активными и влиятельными в этом составе были непримиримые.
К моменту, когда весть о приграничной резне достигла Лондона, недовольство квакерским правлением усилилось; английское правительство вновь заявило о том, что прибегнет к той или иной решительной мере — скажем, перманентному отстранению квакеров от государственных должностей в Пенсильвании. Голоса в поддержку такой позиции раздались по обе стороны Атлантики. Влиятельный член лондонского Ежегодного собрания доктор Джон Фозергилл так подытожил претензии собственников колонии к квакерам:
Все согласились в том, что вы проявили неспособность управлять провинцией. Принимая на себя бремя нашего общественного доверия, вы в то же время заявляете, что не можете ему соответствовать. Вы обязаны обеспечить населению защиту, и, однако, вы же препятствуете его законному стремлению себя защитить. Не на вас ли падет вина за всю кровь, что пролита у ваших дверей? И можно ли, спрашивают жители, без волнения смотреть на то, как наша провинция подвергается опасности захвата безжалостным врагом, ничего не предпринимая для ее спасения?
В действие вступили соображения практического свойства: опасение, что будет принят закон, который навсегда закроет квакерам путь к административным постам; надежда на то, что на плечи неквакерского правительства (коль скоро оно придет к власти) удастся переложить часть ответственности за происшедшие кровопролития; а также стремление оставить лазейку для возвращения в кресла пенсильванской Ассамблеи когда-нибудь в будущем. Со всеми этими противоречивыми побуждениями соединялось в квакерских душах желание сохранить в неприкосновенности драгоценный принцип пацифизма.
80
Лондонские квакеры побуждали своих единоверцев в Пенсильвании отойти от государственного руля как можно скорее — чтобы, выиграв время, те успели сложить с себя часть вины за кровопролитие. Они развили оживленную деятельность в лондонских коридорах власти, в конце концов придя к соглашению с председателем Тайного совета лордом Грэнвиллом: в случае если он отведет от пенсильванских квакеров дамоклов меч перманентного отстранения от участия в выборных органах власти, они со своей стороны возьмут на себя труд обеспечить выход пенсильванских «друзей» из Ассамблеи провинции. Доктор Джон Фозергилл обратился из Лондона к Израелю Пембертону с посланием, мотивируя неотложность такой меры; в ответ филадельфийское Ежегодное собрание выступило с заверением, что сделает все необходимое, дабы убедить квакеров покинуть Ассамблею на весь период военных действий. Однако заверение это не до конца удовлетворило лондонских «друзей», направивших двух членов своего «Общества», Джона Ханта и Кристофера Уилсона, лично проследить за тем, что обещание будет выполнено, и заодно попытаться навести порядок в квакерской общине Пенсильвании.
Первые признаки того, что дело сдвинулось с мертвой точки, появились поздней весной 1756 года, когда губернатор и Губернаторский совет объявили войну индейским племенам делавэ-ров и шауни. 4 июня 1756 года заявили о своей отставке шесть квакеров — лидеров Ассамблеи. Не без оттенка самодовольства отвергли они подозрение в «каком бы то ни было умысле ввести палату в излишние затруднения»; однако, продолжали достопочтенные законодатели, «коль скоро многие из наших избирателей придерживаются мнения, что текущее положение в общественных делах требует от нас принятия мер в плане военном, с чем мы, по зрелом размышлении, в силу наших моральных принципов согласиться не можем, мы пришли к заключению, что в наиболыпей.мере спокойствию наших душ и поддержанию репутации нашего вероисповедания будет способствовать подача наших просьб об отставке, каковые просьбы мы и прилагаем, прося занести в протокол палаты соображения, коими мы руководствовались». Так — не поражением, но отречением — завершилось длившееся бурные три четверти века квакерское правление Пенсильванией.
Лондонские квакеры вздохнули с облегчением. А в самой колонии воспряли духом люди всех убеждений, сознавая, что над ними уже не тяготеет груз сковывающих жизнедеятельность доктрин. Франклин с видимым удовольствием констатировал,
81
что «все эти чопорные деятели, исключая лишь тех, кого подозревают в отказе от военной службы по религиозным мотивам, добровольно оставили Ассамблею; на их места предполагается избрать мужей, принадлежащих церкви (англикан. — Д.Б.)*. Эти изменения «сулят перемену погоды к лучшему, о которой я давно мечтал».
У Франклина были все основания чувствовать себя удовлетворенным: ведь от ухода квакеров в наибольшей мере выигрывала его партия. На специальных выборах освободившиеся места заняли шесть его надежных сторонников. А в октябре состоялись выборы на все тридцать шесть мест в Ассамблее. Эмиссарам лондонского Ежегодного собрания не повезло: им не удалось прибыть вовремя, чтобы убедить квакеров не голосовать за своих единоверцев или, что было еще более предпочтительным, вообще не принимать участия в голосовании. При окончательном подсчете выяснилось, что, несмотря на эпизодическую коалицию франклиновской партии с партией собственников (обе в душе ненавидели друг друга), в Ассамблею прошли шестнадцать квакеров. Такое голосование, разумеется, обнаружило нежелание рядовых квакеров действовать в русле решений, которые за них были вынесены Израелем Пембертоном и прочими непримиримыми. Вскоре после того, как были подсчитаны голоса, эмиссары квакеров из метрополии Хант и Уилсон пустили в ход свое влияние, стремясь усилить позицию Пембертона. Каждого из новоизбранных квакеров по отдельности призывали на квакерское Собрание по итогам выборов, дабы побудить их отказаться от занимаемых мест. Четверо согласились. В итоге в составе Ассамблеи осталось двенадцать квакеров, из которых, как вскоре не без тайного удовольствия узнали и квакеры, и их оппоненты, лишь восемь пользовались благорасположением «Общества друзей».
И хотя о пенсильванской Ассамблее вплоть до 1776 года продолжали отзываться как о «квакерской», объяснялось это лишь тем, что многие из ее членов по-прежнему предпочитали присяге обязательство или каким-либо образом были связаны с квакерами предшествующего периода. Драматическое отречение 1756 года, по существу,было чем-то гораздо более значимым, нежели просто выразительный жест: оно символизировало отказ от политической власти филадельфийского Ежегодного собрания — высшей инстанции квакерского движения в Пенсильвании. Иные из псевдо- и полуквакеров продолжали домогаться мест в Ассамблее, но их дезавуировали квакеры ортодоксальные. Последние недвусмысленно заявляли, что от
82
нюдь не поведением этих отступников определяется суть квакерского движения и, следовательно, оно не несет никакой ответственности за их поступки. Непримиримые продолжали агитацию среди благонамеренных «друзей», увещевая их устраниться от деятельности в Ассамблее или воздержаться от голосования за любого из квакеров, который этого не сделал. Появились отчетливые признаки того, что некоторые из квакерских лидеров уже предощущают день, когда окончание военных действий позволит им вновь взять в руки бразды правления в колонии.
Такому дню не суждено было наступить, ибо руль государственной власти не из тех предметов, какие можно брать в руки и откладывать по собственному желанию. Уход квакеров из Ассамблеи, со всей очевидностью продемонстрировавший несовместимость принципов их веры с бременем ответственности, неотделимым от повседневных тягот управления страной, явился, быть может, наиболее весомым свидетельством здравого смысла, какой им когда-либо довелось проявить. Однако продолжавшая теплиться в их душах тайная надежда вернуться к браздам правления с наступлением мира в 1760-е годы показала, сколь неадекватна была мера понимания ими общества и его проблем.
Даже тот минимальный шанс политического реванша, который, возможно, и оставалсяу квакеров, был бесследно сметен началом Американской революции: принципиальное неприятие войны, характеризовавшее квакерское сознание, изначально предопределило и принципиальное неприятие ими Революции. «Интронизация и свержение королевских династий и правительств, — гласила резолюция их Ежегодного собрания, принятая почти столетием раньше, — является исключительной прерогативой Господа Бога, чьи пути неисповедимы». Подобно тому как в XVII веке квакеры пытались сохранить нейтралитет в бурлящем водовороте заговоров и контрзаговоров, то и дело возникавших в Англии, непреоборимым тяготением к нейтралитету отмечено и все их поведение в дни Американской революции. И, как и прежде, сложнейшие проблемы государственной политики беспокоили их меньше, нежели вопрос о том, ущемляет ли тот или иной закон их чувствительную квакерскую совесть. По мере того, как неудержимо надвигалась революционная буря, Ежегодное собрание озабоченно вопрошало участников каждого Ежемесячного собрания: «Радеют ли «друзья» о выплате причитающегося Его Величеству королю?» Иные из более дальновидных «друзей» в Англии, сознавая, что дело свободы в Британии
83
неразрывно связано с успешным самоопределением Америки, рекомендовали своим единоверцам в Новом Свете не становиться поперек этому процессу. Но для последних всего существеннее была оглядка на щепетильную квакерскую совесть; они раболепно выполняли все не касавшиеся военных действий требования английского правительства и обнаружили в целом равное нежелание сотрудничать как с британской, так и с американской армией. Отказавшись платить налоги и штрафы, налагаемые американским правительством, они удостоились — и вполне заслуженно—презрительного наименования «тори». К обвинению в фанатизме, тяготевшему над ними с 1756 года, добавилось еще одно, и более тяжкое—обвинение в предательстве.
Отказавшись от власти в 1756 году, большую часть своей энергии квакеры отдали духовному очищению в рамках собственной секты. Уже в 1777 году Ежегодное собрание сочло необходимым вынести резолюцию о «реформации». Утратив возможность управлять провинцией, квакеры никак не могли позволить себе перестать быть «избранными». Некоторые из их Ежеквартальных собраний (в частности, честерское) призывали «к возрождению былой простоты в одежде, в домашнем быту, в воспитании молодого поколения, в истовом и неукоснительном посещении наших религиозных собраний». Раздавались, например, призывы к искоренению каменных надгробий на могилах как очередного проявления суеты и тщеславия, отягощающих облик этого бренного мира. В деле образования квакеры старались повысить роль религиозного начала. С не меньшим пылом устремились они к «реформированию в области производства и потребления спиртных напитков в среде «друзей» и нечестивой практики содержания таверн, пивных и т. п.»; у них начало входить в обыкновение публиковать «число «друзей», крайне умеренно употреблявших спиртные напитки во время нашей последней жатвы, и тех, кто в отчетный период с огромным удовлетворением вовсе воздержался от их употребления». Они сплотили усилия для того, чтобы добиться освобождения всех рабов, принадлежавших квакерам, — одним словом, сделали все возможное, чтобы плотной стеной оградить «Общество друзей» от всех посторонних влияний, препятствуя даже посещению своих религиозных служб членами других сект. Отречение от политического господства, бесспорно, побудило их глубже заглянуть в собственный духовный мир и с еще большей истовостью блюсти ритуалы и обычаи своей секты.
Однако, ко благу «Общества друзей» и провинции Пенсильвания, квакеры не до конца самоустранились от общественных
84
забот. Некоторые из них стали преуспевающими торговцами и образованными предпринимателями. По мере того как в существовании пенсильванского квакерства ослабевала политическая струя, все отчетливее заявляло в нем о себе гуманитарное начало. На протяжении XVIII столетия квакеры проявляют незаурядную активность, протестуя против рабства и работорговли, строя больницы, способствуя гуманизации тюрем и домов для умалишенных. Многие из существующих и по сей день заведений, вроде Филадельфийского родильного дома, зримо напоминают об эффективности квакеров в ряде областей практического жизнеустройства. Однако именно успешность выступлений их на подобных поприщах, демонстрируя обилие сил, которые уже не было необходимости вкладывать в политическую сферу, как бы от противного убедительно свидетельствовала о том, сколь' неадекватны оказались их жесткие мировоззренческие догмы в плане решения задач более масштабных — задач построения нового общества на земле Нового Света.
11
ПРОКЛЯТИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА
С точки зрения европейской истории уход с политической сцены квакеров—всего лишь пример неудачной попытки одной из религиозных сект встать у руля государственной власти. С точки зрения истории американской это нечто несравнимо более значимое: показатель тех особых испытаний на прочность, каким подвергала Америка постулаты тех или иных вероучений; при этом уязвимость данного постулата обусловлена специфическими противоречиями, запечатленными в самих заповедях квакерского вероучения. Описывая опыт квакерства в Пенсильвании, можно выделить три тенденции, которые помогут нам уяснить, что, с одной стороны, предопределило неспособность квакеров удержаться у власти, а с другой — вопреки разного рода искусам и соблазнам позволило им остаться истинными носителями своей веры.
Духовная чистота и перфекционизм. Хотя Пенн и задался изначальной целью провести эксперимент праведной жизни, возведя на мировоззренческих основах «Общества друзей» здание гармоничного общественного устройства, наиболее выдающиеся представители пенсильванского квакерства обнаружили непрестанную, порой граничившую с одержимо
85
стью озабоченность чистотой собственных душ. Занимая места законодателей, квакеры, как мы могли убедиться, не раз давали понять, что больше пекутся о принципах своей веры, нежели о благополучии (или даже о самом факте существования) провинции как таковой. Прежде чем выражать безоговорочное восхищение такой твердостью линии, нелишне было бы проанализировать, чем она оборачивалась применительно к бескомпромиссному квакерству и к каждодневному бытию тех многих людей, которые, согласно мироучению самих квакеров, обладали полным правом жить и процветать в Америке. Будучи поставлены в ситуацию выбора, квакеры так или иначе предпочитали тот выход из положения, при котором сами они оставались незапятнанными, даже если эта незапятнанность дорого обходилась другим. Стремясь избежать присяги, квакеры пожертвовали гуманностью своего уголовного законодательства. В то время как непримиримые квакеры мужественно сопротивлялись попыткам вовлечь их в тенета милитаризма и восторжествовали, сохранив верность своему неприятию войны, сотни ни в чем не повинных женщин и детей становились жертвами кровожадных индейцев в Западной Пенсильвании. Так продолжалось и в дальнейшем. Многочисленные проповедники-квакеры, наезжавшие из Англии укрепить духом пенсильванских «друзей», заклинали их любой ценой сохранить «белизну одежд». Даже в дебрях Нового Света надлежало им сиять «лилиями среди терний».
Им неустанно внушали, что их задача — «заниматься собственными делами, как то делают «друзья» везде и всюду». С точки зрения квакера, заниматься собственными делами значило блюсти чистоту своих принципов. Эта устремленность внутрь обернулась слепотой по отношению к тому, что было вокруг: к духовному складу индейцев, к угрозе, нависшей над западными приграничными землями, к своекорыстию других людей. Покорность воле Всевышнего обусловила безразличие квакера к многообразию жизни, простиравшейся вокруг него.
«Будем же исполнять свой долг, а прочее предоставим Господу», — учил единомышленников Пенн еще в 1701 году. Не люди, скрещивающие оружие в битвах, но Господь Бог решает их исход; возводить на престол и свергать правителей — Его суверенный промысел. Людей типа Франклина («тех, кто не верует, что Господь охранит того, кто пренебрег разумными средствами обеспечить свою безопасность») неизбежно обуревали неотступные моральные проблемы. Квакеры же полагали, что все проблемы такого рода можно разрешить заранее. Джон
86
Вулмен и его сподвижники, святые квакерского канона, взыскуя «совершенного смирения... веры в то, что все, что бы ни ниспослал на мою долю Господь, будет во благо», побуждали людей думать о безгрешности собственных душ, а обществу предоставлялось двигаться своим путем. И все же ни из сознания собственной чистоты, ни из смирения перед всемо1ущей волей Господней не представлялось возможным выстроить частокол, который надежно обезопасил бы от набегов вооруженного противника. Не суждено было построить из этих субстанций и общество в дебрях дикой Америки.
Космополитичность. Одной из отличительных черт пенсильванского эксперимента являлось то, что американские квакеры были подвержены постоянному убеждению извне, наблюдению издали. Могущественные лидеры лондонского Ежегодного собрания были далеки от тягот, возможностей и испытаний, какие таила в себе Америка; в то же время их сдерживающее влияние ставило предел тому, что в других условиях могло бы перерасти в естественное приспособление доктрин квакерского вероучения к особенностям жизни в Америке.
«Общество друзей» стало неким подобием международного заговора, ставившего целью Мир и Совершенство в первоначально христианском их понимании. Спустя несколько лет после Революции Томас Джефферсон назвал квакеров «религиозной сектой... отмеченной единомыслием и направляемой из Англии давшей ей жизнь общиной. Рассеянные по всему миру, как евреи, они, подобно последним, составляют тем не менее единую нацию, чуждую той земле, на которой обитают. Они суть протестантские иезуиты, всецело преданные воле руководителя; проводя политику своего ордена, они способны предать забвению все собственные обязанности перед своей страной». Эмиссары лондонского Ежегодного собрания стремились к тому, чтобы внутренняя политика Пенсильвании во всем отвечала интересам международного квакерского сообщества. Лишь изредка и эпизодически — как, например, в случае, когда им удалось уговорить пенсильванских квакеров расширить сферу применения смертной казни в порядке компенсации за упразднение процедуры присяги,—эти интересы срабатывали в пользу компромисса. Гораздо чаще лондонское руководство предписывало американским «друзьям» идти по пути строгой ортодоксии. В тревожные дни 1756 года доктор Джон Фозер-гилл и двое эмиссаров из Лондона, Джон Хант и Кристофер Уилсон, присовокупили свои голоса к голосам американских сторонников жесткой линии; они настаивали на том, чтобы ква
87
керы вышли из Ассамблеи, сохранив в неприкосновенности свою приверженность пацифизму. Во всем этом явственно просматривался приоритет интересов английского «Общества друзей».
Исходившее из Англии давление было отнюдь не случайным. Неиссякаемый поток странствующих проповедников доносил «освежающее» слово мирового сообщества квакеров в самые глухие местечки и селения провинции. Меньше чем за век с момента основания Пенсильвании до начала Американской революции из дальних краев (прежде всего британских) сюда наведались сто с лишним миссионеров-квакеров обоего пола. Один из ведущих историографов колониального квакерства Фредерик Толле описывает, как на протяжении этого периода оформилась «Атлантическая община» «Общества друзей». После 1670 года взоры английских квакеров обратились на Запад. Странствующие проповедники образовали эту соединившую узами религиозного подвижничества огромные пространства, разделенные океаном, общину, и они же, оказывая, по словам Джорджа Кита, «квакерам огромную моральную поддержку», не дали ей распасться. То обстоятельство, что зачастую они, проповедуя, апеллировали к людям, уже обращенным, не должно вводить в заблуждение: с их уст не срывалось утративших силу убедительности банальностей. Совсем напротив: проповеди этих неутомимых миссионеров производили сильное эмоциональное впечатление. В их крови жил непокорный дух первых мучеников квакерского движения. И оптимистичность их натур была не менее примечательным качеством, нежели их отвага. Один из таких подвижников, брат доктора Джона Фозергилла Сэмюел Фозергилл, сообщал жене в 1755 году:
К настоящему времени я проделал 2550 миль по Американскому континенту; 1750 из ник — на одном и том же коне; этот конь великолепен, им провидение наградило меня с помощью одного из друзей в окрестностях Филадельфии. Я заплатил за него около пяти фунтов стерлингов; движется он уверенно и без вывертов, порой, как и его хозяин, с трудом добывая пропитание, а подчас обходясь и вовсе без оного; но, как бы то ни было, мы оба, вполне довольные жизнью, трясемся дальше.
Однако, довольные жизнью или нет, проповедники эти задались поистине трудной задачей—вещая в пустыне, подобно пророку Иеремии, наставлять квакеров как «избранную» часть человечества на путь истинный.
Лейтмотивом их проповедей было предостережение от соблазнов материального преуспеяния и прославление исконных
88
добродетелей «Общества друзей». Иные из таких миссионеров, подобно англичанину Томасу Чокли, впервые ступившему на американскую землю в 1698 году, так там и остались; член филадельфийского Ежемесячного собрания, он и спустя сорок с лишним лет не растерял мессианского и пророческого пыла. В 1724 году он записывает в своем дневнике:
В ходе того Собрания в Филадельфии я считал своим долгом сделать все, дабы люди прониклись сознанием того, что Господь, благословивший народ, обитающий в этом городе и во всей провинции, благами духовными и мирскими, заставивший землю плодоносить к вящему преуспеянию многих ее обитателей, ныне и от них ждет плодов благочестия и добродетели и что, коль скоро не пойдут они по пути более праведному, славя в душах своих Господа во Иисусе Христе, божественная десница Его, ниспосылавшая им дары небесные и дары земные, обрушится на них с бичом карающим, несколько легких ударов какового им дано уже было на себе изведать.
Такого рода «иеремиады» были, разумеется, достаточно хорошо знакомы любому пуританину из Новой Англии. И они вряд ли произвели бы в Пенсильвании сколько-нибудь заметное впечатление, не будь в них утрированного провозглашения некоторых догм совсем иного свойства. Среди последних важное место занимал, конечно, пацифизм. Еще в 1739 году, в канун «войны короля Георга», Чокли вдоль и поперек обошел провинцию, побуждая «друзей» проявить благоразумие, оставшись от войны в стороне. Заезжие проповедники-англичане вроде Уильяма Реккита, впервые ступившего на американскую землю в 1756 году, открыто порицали жителей Пенсильвании, осмелившихся выразить беспокойство по поводу обороноспособности колонии, презрительно отзываясь об этой жизненно важной проблеме как о деле, «в которое многие вмешиваются, блюдя свои интересы». Так Непогрешимая Истина возвещалась из-за рубежа, избавляя местное население от скверны индивидуальной предусмотрительности.
Тяготение к универсальному составляло сильную сторону квакерства и в то же время ослабляло его влияние на американское общество. Для пенсильванских «друзей» узы тесной связи с Англией были узами ортодоксии, якорем, удерживавшим их корабль против разнонаправленных ветров и течений Нового Света. С чувством ощутимого внутреннего превосходства филадельфийский квакер Айзек Норрис подверг критике провинциальность новоанглийской версии христианства. «Ваши новоанглийские проповедники, если позволено так их назвать, — писал он в 1700 году, — обнаруживают немало религиозного рвения, но у них особый талант в практическом приложении ре
89
лигии; не будучи способны заглянуть дальше, нежели позволяет им их собственная ограниченность, они не принимают во внимание, сколь всеобъемлюща любовь Господа ко всему, что Им создано». И все же без этого «особого таланта в практическом приложении» ни одному религиозному движению не было по силам претворить заповеди веры в практические руководства для своей паствы.
Самоизоляция. Как поведали лондонскому Ежегодному собранию филадельфийские квакеры, они обособились от своих соседей, понимать которых были обязаны, коль скоро им надлежало управлять обширной провинцией Пенсильвания. В глазах квакеров упорное стремление стоять на своем, несомненно, выглядело как чистота принципов, а догматическая жесткость представала как последовательность в вере. Но некоторые из более проницательных современников усматривали в этих добродетелях семена потенциальных пороков. Вот что с заметной долей раздражения писал из Англии в 1705 году не кто иной, как сам Уильям Пенн:
Избыток тщеславия — вот тот недуг, каковой может поразить людей, пребывающих у кормила власти в Америке, ибо, выбравшись из толпы, в которой они терялись здесь, дабы занять там, в колониях, должность, сколь угодно малозначительную, они склонны возомнить о себе, что выше них нет ничего, хроме разве что деревьев, и нет никакой высшей инстанции, каковой они должны быть подотчетны; так что иной раз мне приходила мысль, что если бы существовал закон, обязывающий людей, занимающих высокие посты в своих колониях, по очереди приезжать в Англию, где они вновь могли бы на время теряться в толпе, оказываясь среди людей гораздо более важных в таможне, на бирже и в Вестминстер-холле, то по возвращении они значительно изменили бы свое поведение, став более скромными, сдержанными и более пригодными для государственного поприща. Пока же остается лишь молиться о том, чтобы не дошло до того, что они погубят сами себя.
В годину тех тяжких кризисов, какими принципы проверяются на прочность, ортодоксальные квакеры Пенсильвании свысока поглядывали на соседей, которые утратили свою репутацию «избранных» и уподобились «соли без вкуса*. Политические меры, вызывавшие противодействие Франклина, ибо они ставили квакеров в особое положение в обществе, по той же самой причине встречали одобрение людей вроде гостя-миссионера Сэмюела Фозергилла. Последний надеялся, что введение налога на содержание милиции отделит агнцев от козлищ, истинно верующих от лицемеров, и, таким образом, станет своего рода «просеиванием» поселенцев. С точки зрения Фозергилла и ему подобных, самоустранение квакеров из Ассамблеи было не по
90
пыткой уйти от ответственности, а показателем их стремления «жить в мире и спокойствии, занимаясь собственными делами, как то делают «друзья» везде и всюду».
Самоизоляция пенсильванских квакеров имела несколько форм. Наиболее очевидная из них—географическая. В силу ряда причин квакеров не подхватила с собой волна поселенцев, в числе которых были иммигранты ирландского, немецкого, а также смешанного шотландско-ирландского происхождения; эта волна,преодолев Аллеганские горы, разбросала их по пограничным точкам Западной Пенсильвании. Что касается квакеров, то они с первых лет существования провинции селились — и по большей части преуспевали — либо в самой Филадельфии и ее окрестностях, либо в одном из трех «квакерских» округов (Филадельфийском, Честерском и Бакском), тесно расположившихся на восточном побережье Атлантики. В западных районах Пенсильвании они начали расселяться не ранее 1770 года — факт, придававший видимость правдоподобия нередко звучавшему в адрес «друзей» обвинению в том, что квакеры-де обрастали жирком в тепле столицы, пока другие колонисты с риском для жизни осваивали неизведанные места. А если подойти к данному вопросу всерьез, приходится признать, что это обстоятельство сыграло не последнюю роль в процессе духовного развития квакеров, обособив их от наиболее типичных и характерных проявлений социального опыта Пенсильвании XVIII столетия. Ведь если бы пенсильванские «друзья», подобно колонистам ирландского и немецкого происхождения, совершили паломничество и осели на западе провинции, они наверняка смогли бы лучше уразуметь истинный характер отношений между поселенцами и индейцами; не исключено, что тогда у них появились бы причины проявлять меньше рвения, отстаивая ортодоксальное пацифистское кредо.
Даже их вера в религиозную терпимость, нашедшая воплощение в «Форме правления для Пенсильвании» Пенна и позднее возведенная в принцип, в известном смысле способствовала тому, что квакеры оказались в положении меньшинства, а следовательно, и в изоляции. Ведь большинство квакеров осело на востоке, в местах своего первоначального расселения; и неудивительно, что со временем вокруг них сложилось целое созвездие самых разнообразных верований: лютеран, пресвитериан, методистов, даже католиков. Так что спустя менее полувека с момента основания провинции у них появились все причины определять себя (по пророческому выражению Пенна) как «инакомыслящих в нашей собственной стране».
91
Квакерские правила требовали, чтобы «друзья» держались особняком. К бракам с носителями других вероисповеданий здесь относились с неодобрением либо просто-напросто запрещали их; скажем, молодого «друга», оказывавшего знаки внимания представительнице другой религии, официально предостерегали от «соблазна». При решении спорных вопросов квакерские собрания обязывали своих членов — якобы в силу сохранения миролюбивых и дружественных отношений в рамках квакерской общины — не обращаться в обычные суды, но апеллировать к авторитету самого собрания. Для ведения переговоров с индейцами создана была даже особая «Дружеская ассоциация», действовавшая в обход правительства. Всем этим квакеры ставили себя как бы по другую сторону действовавших в провинции законов; так создавалось подобие гетто, стены которого складывались из принципов их вероучения, а цементом, скреплявшим эти стены,служила вошедшая в поговорку чистота квакерской совести.
Не исключено, что квакерам удалось бы разбить эти стены и в большей мере проникнуться мирским духом, если бы они проявили сколько-нибудь отчетливое стремление обратить в свою веру окружающих. Однако забота о совершенствовании собственного духовного мира подавляла их желание расширить пределы своей общины. Совершая походы в колонию Массачусетского залива, квакеры были озабочены не столько тем, чтобы претерпеть телесные муки во имя воплощенной в их религии Истины. Вместо того чтобы одарить светом этой Истины своих непросвещенных соседей, неутомимые квакеры-миссионеры, посетив одно квакерское Собрание, спешили на другое, ведомые надеждой очистить «Общество друзей» от пустяковых прегрешений.
Присущие им ощущение собственной непогрешимости и догматичность нашли символическое выражение в анекдотическом происшествии, о котором рассказывает Джон Черчмен. В 1750-е годы, во время проповеднических скитаний по провинции,он познакомился с трудолюбивым и любознательным цирюльником, чьему заведению нередко оказывал честь. Однажды этот цирюльник не без гордости продемонстрировал своему гостю сложное алгебраическое уравнение, над решением которого сосредоточенно трудился. «Я ответил, что кому-нибудь оно могло бы быть полезным, — назидательно повествует Черчмен, — но я, например, вполне сумел бы вскапывать землю или идти за плугом, и понятия не имея об алгебре; равным образом и он мог бы стричь, брить и так далее, не владея этой материей.
92
Кроме того, я считал более полезным и приятным занятием познавать закон Всевышнего, запечатленный в собственном моем сердце, дабы я мог предстать перед Творцом в подобающем обличье». В такой ситуации пуританин мог бы восхититься трудолюбием цирюльника, заинтересоваться предметом его размышлений и в конце концов, вполне вероятно, прийти к заключению, что величайшим из всех алгебраистов является сам Господь Бог. Весь интеллектуальный и догматический характер пуританского вероучения открывал в каждом, сколь угодно малозначительном, факте очам жаждущего истины пуританина дорогу к Богу. Но квакер и здесь оказывается в тенетах присущих его религии духовных ритуалов. С мистическим упорством отказывается он признать реальность существования в руках противника дубинки, пусть даже этой дубинкой проломлена его собственная голова или голова другого. Тесная связь с английским квакерством и самоизоляция квакерства американского — два этих фактора предохранили догму данного вероучения от самой радикальной опытной проверки — испытания повседневным существованием.
В конечном счете и само отсутствие догм квакеры возвели на уровень догмы. Ведь основополагающей особенностью их символа веры было то, что у истинного христианина не должно быть символа веры. Это выбило из-под ног квакеров ту теологическую почву, благодаря которой пуританам удалось в конце концов приспособить ценности кальвинизма к реальностям американского бытия. Квакера непрестанно преследовал страх, что любой компромисс равнозначен поражению, что изменить что бы то ни было означает лишиться всего. Поскольку его учение представало погруженным в дымку мистического энтузиазма, квакер не мог с определенностью заключить, чтб было фундаментом и контрфорсами его собора, а что — лишь замысловатыми орнаментальными фигурами.
Часть третья
ЖЕРТВЫ ФИЛАНТРОПИИ
ПОСЕЛЕНЦЫ ДЖОРДЖИИ
Печально видеть, как иссякает жажда творить добро, когда угасает прелесть новизны и когда такому служению не сопутствует приличествующая награда.
Граф Эгмонт
Нечто в прославленной пышности и тропической избыточности природы Джорджии сообщило планам людей, вознамерившихся освоить ее, какую-то особую строгость и экстравагантность. Предполагаемое плодородие ее земель словно наталкивало на соблазнительную мысль, что основать здесь колонию можно, перекроив эти земли по собственным меркам. В грезах первых ее основателей весьма смутное представление о том, каковы реальные условия жизни в Джорджии, парадоксально соединялось с точностью их проектов по части того, какой эта жизнь должна быть. Патернализм и филантропия сыграли в истории Джорджии такую же роль,какую космополитизм и идеалы самосовершенствования — в истории Пенсильвании. О том, как и почему Джорджия стала жертвой своих благодетелей, и о том, что в истории этой колонии вошло в специфику американской жизни, — следующие главы нашего повествования.
12
АЛЬТРУИЗМ НЕГЕРОИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
Добродетели любой эпохи, как и пороки, имеют свои особые черты. В безрассудной грандиозности начинаний сэра Уолтера Роли и сэра Фрэнсиса Дрейка воплотился дух поиска и дерзаний елизаветинской Англии. В ясности, простоте и постоянстве пла
94
нов Уильяма Брэдфорда и Джона Уинтропа отразилось сочетание величия цели с заурядностью средств, характерное для Англии Оливера Кромвеля. Подобным же образом и альтруизм людей, основавших в 1732 году колонию Джорджия, может считаться пробным камнем, свидетельствующим об ограниченности устремлений Англии того времени.
Действительно, английская жизнь в десятилетия, падающие на середину XVIII столетия, отнюдь не отличалась героикой. Это была эпоха, более заботившаяся об экономии духовных и интеллектуальных ресурсов, чем о поиске в далях неизведанного. Эстетическим идеалам эпохи соответствовали трезвость и здравый смысл: никогда еще люди не отказывались столь охотно от желания объять необъятное. Они так же безоговорочно мирились с тесными рамками своей жизни, как Александр Поп — с замкнутостью героического двустишия. В эту эпоху об Истине судили по Дэвиду Юму, о Красоте — по доктору Сэмюелу Джонсону, а образцами эпики считали «Памелу» и «Тома Джонса». Никогда еще ни одна эпоха не имела возможностей столь малых и воображения столь стесненного. И никогда еще ни одна эпоха не использовала то немногое, что имела, так здраво.
Английская внутренняя политика второй четверти века была пронизана коррупцией и сутяжничеством. Успех деятельности сэра Роберта Уолпола на посту «первого премьер-министра» Англии объясняется не только многосторонностью его политического таланта, но и его всегдашней готовностью прибегать к таким методам убеждения, как раздача пенсий, титулов и церковных синекур. Общество захлестнул цинизм — это хорошо подтверждается распространившимся после смерти королевы в 1737 году злым анекдотом: говорили, что в королевской усыпальнице приготовлено особое третье место, «предназначенное Его Величеством для сэра Роберта Уолпола,с тем чтобы, когда оба они умрут, вся троица — Король, Королева и их Шут — лежала бы вместе». Машина парламентской политики приводилась в движение коррупцией, покровительством и протекцией влиятельных лиц.
Филантропическая деятельность этого времени была направлена на искоренение бедности,и особенно тех ее проявлений и того порока, которые оскорбляли взор прогуливавшегося по лондонским улицам джентльмена и усугубляли дороговизну, опасность и смрад жизни в этом великом городе. Одним из наиболее крупных филантропических начинаний была Благотворительная корпорация, основанная в 1707 году с начальным
95
капиталом в 30 000 фунтов, увеличившимся впоследствии в результате раздачи небольших ссуд беднякам и мелким торговцам до 600 000. В 1731 году обнаружилось, что главными иждивенцами корпорации сделали себя ее казначей и интендант, сбежавшие вместе с 570 000 фунтов капитала. Последовавшие по этому вопросу дебаты в палате общин нельзя назвать излишне ожесточенными: как оказалось, оба преступника были связаны родственными узами с некоторыми из ее членов.
В такой атмосфере своекорыстия и цинизма некоторые из поэтов и обличителей социальных порядков с надеждой обращали свой взор на Запад. Современная Европа казалась им почти идеальным фоном для любых широких жестов истинно филантропической деятельности. Епископ Беркли (бывший патрон колонии на Бермудах) писал в 1726 году:
И воспоют поэты век златой, Грядущий век Империи и Музы, Век рыцарей с бесстрашною душой, Век благородных и мудрейших мужей.
Таких в Европе дряхлой больше нет, Но было много в дни ее зенита, Когда сиял знаменьем лучших лет Небесный пламень на ее ланитах.
На Запад путь Империи лежит: Четыре акта зал уже пленили, Но только пятый драму завершит Финальным и решающим усильем.
Теперь нетрудно понять, почему обнародованный в 1730 году план основания колонии под названием Джорджия, которую предполагалось расположить к югу от обеих Каролин,в междуречье Альтамахи и Саванны, вызвал такой благожелательный отклик в умах англичан; ведь в отличие от всех других колоний на Американском материке эта организовывалась людьми, обещавшими не извлекать из своего предприятия никакой прибыли. Редчайший пример столь грандиозного начинания, затеваемого исключительно из альтруистических побуждений, тут же стал предметом многих поэтических панегириков и самовосхвалений.
Генерал Джеймс Оглторп и в самом деле был достаточно симпатичной для своего времени фигурой, а энтузиасты охотно наделяли его героизмом, по которому так изголодалась эпоха. Тонкий наблюдатель,несомненно,не мог не заметить, сколь разительно отличалось бескорыстное рвение попечите
96
лей Джорджии от цинизма, распространенного в высших кругах английского общества. «Благодетельствуя человечеству, — читаем мы в учредительном проспекте, написанном, как считают многие, самим Оглторпом, — эти люди отказались от жизни беззаботной и праздной, уготованной им их богатством и обычаем страны, к сожалению слишком в ней укоренившимся». На протяжении всего XVIII века, во всей богатой истории основания колоний и строительства империи, трудно найти предприятие, инициаторы которого действовали бы по побуждениям более бескорыстным и свободным от низких помыслов. Тем не менее альтруизм целей отцов-основателей не мешал им обеими ногами стоять на земле. Как и почти все в эту эпоху, он был отмечен родимыми пятнами времени — практичностью, ограниченностью и отсутствием столь характерных для более ранней колонизации Америки теологических фантазий или высокопарности. Об успехе предприятия должно было судить только по его результатам — будущему преуспеянию и процветанию.
Почти с самого начала планы освоения территории к югу от Каролины сопровождались пышными надеждами на создание «самой процветающей земли во Вселенной». В 1717 году, опередив даже Оглторпа, сэр Роберт Монтгомери выпустил проспект с описанием подобной колонии. Будущий вкладчик капитала заверял в нем, что «природа еще не благословляла свет землей более превосходной и что все девственные красоты рая могут в лучшем случае лишь скромно приближаться к ее природным достоинствам». В литературе, рекламирующей Джорджию пятнадцатью годами спустя, местная экзотика описывается так, чтобы внушить к ней большее доверие. Автор «Нового и точного описания провинций Южной Каролины и Джорджии» (1733) обещает климат несравненно умеренный и землю, на которой, «безусловно,будет в обилии произрастать все... что только можно отыскать в самых благоприятных для земледелия местах, расположенных на той же широте». Земля там легко расчищается от лесов под пашню, а апельсины, лимоны, яблоки, груши, сливы и абрикосы «столь нежны, что всякий, испробовавший их, с презрением отвергнет пресный и водянистый вкус плодов, доступных у нас, в Англии», к тому же произрастают они там в таком большом количестве, что их скармливают свиньям. Дичь, птица и рыба легко обеспечивают в Джорджии щедрый стол, а «тамошние воздух и почва могут быть описаны только пером поэта, ведь никакой вымысел не приукрасит в этом случае естественное положение вещей».
97
4-382
В предыдущих главах было показано, как догматически ясно видели пуритане Новой Англии свой будущий Град на Холме и каким мистическим величием наделяли пенсильванские квакеры свои надежды на создание идеального сообщества мира и братства людей. Читателя поэтому не может не заинтересовать и не озадачить странное соединение сентиментальной неясности и детальной конкретности в устремлениях тех, кто хотел основать Джорджию. Основатели других колоний преследовали в грандиозных проектах цели Истины; учредители Джорджии начали с подробной, почти мелочной инвентаризации.
Побуждения, которыми руководствовались основатели колонии, с замечательной непосредственностью описаны в дневнике лорда Персиваля, первого графа Эгмонта, который наряду с Оглторпом входил в число тех, кто был душой проекта. На страницах личного дневника лорда, как на лоскутном одеяле, мирно соседствуют самые пестрые мотивы, приводившие в движение английскую жизнь в век Уолпола; по сути, это странное смешение продажности, низкопоклонства, добродетели, расчетливости, чести и филантропического милосердия. На одной странице дневника мы встречаемся с описанием энергичнейших попыток Персиваля добиться для себя титула ирландского графа, которые он предпринимал для того, чтобы дети его смогли сделать хорошую партию и породниться с состоятельными семействами, на другой — с его сетованиями по поводу бездуховности тогдашней религии. В одном месте он рассказывает о том, как пытался купить для своего кузена должность в Ост-Индской компании, в другом — обличает беспринципность поведения премьер-министра. Лорд с явной издевкой сплетничает о любовных похождениях принца Уэльского и в то же время стремится снискать себе расположение того же принца. Пожалуй, ни одна эпоха не демонстрировала еще столь притягательного двоедушия.
Устами Эгмонта вещал истинный дух устремлений его века — одновременно смутных, мирских, здравых и практичных. «О, мадам, — говорит он королеве, — творить добро уготовано лишь людям, занимающим высокое положение, тем, кто располагает средствами». Такого рода цели не нуждаются в теологическом обосновании. Неуправляемый фанатизм в век Кромвеля перевернул Англию вверх дном, и вконец измотанные им рассудительные англичане предпочитали теперь иметь дело с реформаторами, огороженными со всех сторон заборами умеренности и здравомыслия. В лексиконе времен Уолпола творить добро означало делать какое-то вполне конкретное дело.
98
И какие бы претензии ни предъявляли мы к проекту основания Джорджии, ему нельзя отказать в конкретности, подробности и доступности пониманию любого разумного человека.
Генерал Оглторп был честным, властным и волевым человеком военной выправки. Природа наделила его деятельным характером и крепким телосложением, хорошо послужившим ему до 90-летнего возраста. Вместе с тем он обладал, по выражению Босуэлла, «редкой живостью ума и разнообразными знаниями», обеспечившими ему место за обеденным столом доктора Джонсонов кругу его друзей рядом с Эдмундом Берком и сэром Джошуа Рейнолдсом. Джонсон относился к Оглторпу с восхищением; по его словам, он не знал более интересной человеческой судьбы — и даже вызвался написать биографию генерала. Восхищение вызывали и деятельный характер Оглторпа,и то его качество, которое Александр Поп называл «крепкой благостью души» — благостью, в которой не было ни строгости Кромвеля, ни страстности Баньяна, ни утонченности Мильтона. Именно такого рода добродетель импонировала этой негероической эпохе.
И выгоды, которые сулил проект, и его очевидные недостатки символически вполне соответствовали двум его инициаторам: состоятельный английский аристократ лорд Персиваль стремился облагодетельствовать соотечественников и способствовать могуществу нации настолько, насколько это было возможно сделать в его удобном кресле в городском особняке, в зале парламента, в гостиной кофейни или же предаваясь отдохновению от государственных забот в одном из его ирландских поместий; генерал Оглторп со своей стороны вкладывал в предприятие всю энергию своей деятельной натуры, свою ясную и конкретную целеустремленность, властность, нетерпеливость и жестко доктринерскую непреклонность абсолютно «практического» человека. Вместе взятые, Персиваль и Оглторп представляли собой то странное соединение смутности цели и конкретности ее осуществления, которое одновременно было и недостатком, и достоинством всей филантропии XVIII века. Предприятие их было обречено на неудачу из-за самой неясности того, что они подразумевали под добрым делом; не менее страдало оно и от чрезмерной детализации всех тех отдельных добрых дел, которые они твердо решили совершить. По сравнению с пуританами или квакерами это были люди, твердо стоявшие на земле, их разум не был одурманен теологической догмой или сбит с толку мистическим энтузиазмом. Они ошибались главным образом в том, что строили свои чересчур конкретные планы слишком заблаговре
99
4*
менно и в месте,слишком далеко расположенном от реальной сцены, где шел эксперимент; они канонизировали планы так, словно то были не планы, а принципы.
Все попечители—двадцать один человек,— упомянутые в Хартии Джорджии в 1732 году,занимались ранее чисто благотворительной деятельностью. Десять из них были членами комиссии палаты общин по надзору за состоянием тюрем (1729); некоторые принимали участие в работе парламентской комиссии по облегчению участи заключенных-должников; все попечители были сподвижниками доктора Томаса Брея, обращавшего в христианство негров в британских колониях; многие активно поддерживали протестантские миссионерские общества того времени. Однако по мере того, как проект новой колонии обретал реальные очертания, на передний план все более выдвигались соображения чисто деловые.
Попечители считали,что крепкая колония из английских семей на реке Саванна (а именно по ней проходила южная граница Каролины) могла бы хорошо защищать пограничные земли от набегов индейцев, испанцев и французов; улучшение этих земель также способствовало бы обогащению Великобритании. О том, как этого достичь, Оглторп и другие уважаемые компаньоны лорда Персиваля, конечно же, договорились между собой заранее:
Предусматривается, что поселившиеся там семьи будут выращивать коноплю и лен для поставки в непереработанном виде в Англию, благодаря чему Королевство со временем могло бы экономить много наличных денег, тратящихся ныне на закупку этого товара и уходящих, таким образом,в другие страны; эти же семьи могли бы также поставлять нам в большом количестве хороший лес. Не исключено, что они смогут выращивать там белую шелковицу и снабжать нас добрым шелком-сырцом. В худшем случае они могли бы там просто жить и защищать наши владения от посягательств соседей. Лондон же таким образом освободился бы от содержания семей, которые, будучи выпущены сейчас из тюрем, не имели бы очевидных средств к существованию.
При всяком удобном случае Оглторп неустанно подчеркивал практическую полезность своего предприятия. В ныне классической декларации намерений (она изложена им в письме епископу Беркли в мае 1731 года), превознося цели «благотворения и человечности», которые ставит перед собой проект, он в то же время заявляет, что англичане «будут обязаны ему сохранением части своего народа, увеличением спроса на английские товары и укреплением их владений на Американском континенте. Человечество же будет благодарно ему за распро
100
странение цивилизации, освоение диких земель и основание колоний, население которых может в будущих поколениях составить мощные и просвещенные народы». В официальной декларации, помещенной в преамбуле к Королевской хартии (от 9 июня 1732 года), констатировалось горячее желание Его Величества облегчить участь его нуждающихся, «доведенных по причине несчастий или недостатка работы до крайности» подданных, с каковой целью им и предоставлялась возможность достаточно зарабатывать себе на жизнь на новой земле. В то же время заселение территорий к югу от Каролины «способствовало бы развитию торговли и навигации и увеличивало бы богатство этих наших владений». Такие доводы с монотонной регулярностью повторялись в палате общин всякий раз, когда попечители Джорджии выступали в ней с требованиями новых денежных субсидий.
Рекламная литература, издававшаяся Советом попечителей, подчас поражает своей грубой расчетливостью. В «Новом и точном описании провинций Южной Каролины и Джорджии», принадлежащем, возможно, перу Оглторпа, «преимущества, которые может извлечь Великобритания из заселения этого плодородного континента», сводятся к простой арифметике: «Человек, равный по своим способностям только одной четвертой полноценного работника (а таких много), зарабатывает, как мы полагаем, в Лондоне четыре пенса в день, или пять фунтов в год; его жена и ребенок в возрасте старше семи лет — еще четыре пенса в день; можно справедливо допустить (ибо таково общее положение), что у этого человека есть еще один ребенок в возрасте слишком нежном, чтобы он мог зарабатывать хоть что-либо. Эти люди влачат жалкое существование, тратя в год не менее двадцати фунтов, из которых своими заработками покрывают лишь десять: таким образом, семья эта отнимает у состоятельной и трудолюбивой части населения сумму, равную десяти фунтам». В Джорджии та же семья могла бы выращивать рис, пшеницу и скот, извлекая из обильного плодородия тамошней почвы не менее шестидесяти фунтов в год. Мораль очевидна. Непредусмотрительно откладывать на благотворительность подобной семье по десять фунтов в год, когда всего лишь вдвое большая сумма, потраченная на перевоз этих людей в Джорджию, дала бы им возможность зарабатывать себе на жизнь постоянно и, таким образом, сделала бы их, помимо всего прочего, прибыльными для британского хозяйства! «Англия только разбогатеет, послав своих бедняков за границу».
101
Не были чужды отцам колонии и имперские амбиции. Их вдохновлял пример Древнего Рима: «В колонии, расположенные на границах империи, Рим высылал не только свои недовольные и неуправляемые толпы несчастных, но даже заслуженных своих граждан — солдат, хорошо зарекомендовавших себя на службе и на войне. Проводя такую политику, они оттесняли все окружающие их народы». Британцы также могли бы распространять свое влияние, опираясь на Джорджию как на форпост. Несмотря на частые заверения в противном, их древним идеалом был вовсе не Иисус, а Цезарь.
Отбор в поселенцы производился попечителями и Советом Джорджии с завидной тщательностью. Одной из официально признанных целей проекта считалось предоставление убежища живущим за рубежами Англии протестантам. Тем не менее организаторы колонии с недоверием относились ко «всякого рода энтузиастам, считающим первое, что приходит им в голову, едва ли не внезапным божественным озарением». Гонимых архиепископом Зальцбургским протестантов они согласились отправить только после того, как убедились в их трудолюбии и трезвенности. Насколько позволяла возможность, попечители лично беседовали с просителями. Они не поощряли эмиграцию тех, кто достаточно зарабатывал себе на жизнь (и мог, таким образом, быть полезен в Великобритании), а из нуждающихся выбирали лишь тех, кто мог способствовать укреплению пограничных поселений. Одного за другим попечители выбраковывали людей, виноватых лишь в том, что могли «зарабатывать себе на хлеб дома». Попечители не забывали, что парламент поддерживал их проект (субсидией, в конечном счете составившей более 130 000 фунтов) в надежде, что они «очистят, как выразился один парламентарий, лондонские улицы от смрада, которым наполняют их бесчисленные нищие дети и прочие бедные».
Не желая увеличивать богатство одних, попечители остерегались субсидировать порочность других. Они хотели помочь, по словам Оглторпа, только «самым бедствующим, добродетельным и прилежным» и потому изучали также моральные качества просителей и обстоятельства, доведшие их до нужды. Они даже печатали имена предполагаемых эмигрантов в лондонских газетах за две недели до отправления, чтобы заимодавцы и брошенные жены получили заблаговременное предупреждение. Очень немного—пожалуй, не более дюжины— обитателей долговых тюрем были доставлены в Джорджию. Но и эти люди были отобраны только потому, что из них могли получиться стойкие колонисты.
102
13
ЛОНДОНСКИЙ ПРОЕКТ УТОПИИ В ДЖОРДЖИИ
Когда в 1717 году сэр Роберт Монтгомери предложил публике свой план основания маркграфства Азилийского, он особо подчеркивал, что все прежние неудачи колонизации этой «отменной естественными красотами и прелестями» земли происходили исключительно из «недостатка должной осмотрительности при ее заселении». «Собрав людей вместе, — пишет он, — их легко расположить правильным образом,с надлежащим вниманием к порядку, красоте и удобству общества, и столь же легко оставить их на произвол их собственной прихоти, разрешив устраиваться как попало, потакая их вкусам им же во вред». Территорию, которой суждено было стать Джорджией, Монтгомери предложил заселить согласно точной геометрической схеме, обрисованной на чертеже, который прилагался к брошюре.
Вряд ли можно было сочинить план более прилежный, более подробный и более фантастический. Каждый округ маркграфства представлял собой участок земли в форме правильного квадрата, в каждой четверти которого в центре располагался еще один квадрат — выгон для скота. Вся остальная площадь округа была разбита на множество квадратиков поменьше. «116 квадратов с домом в центре каждого имеют стороны протяженностью в одну милю, или же 640 акров в каждом квадрате,за вычетом площади проезжих дорог, их разделяющих; таковыми должны быть все имения, принадлежащие джентри округа, которое, будучи поставлено в условия земельного равенства, побуждалось бы к выгодному соревнованию в улучшении земли, единственному способу превзойти своих соседей богатством». Согласно схеме, главный управляющий должен располагаться точно в центре расходящихся дороги вырубок: «Таким образом, работники (расположенные в порядке, позволяющем заблаговременно заметить приближение неприятеля) трудились бы на виду у тех, кто поставлен над ними надзирать, а все они вместе находились бы под наблюдением своего патрона». Монтгомери мечтал о том времени, когда вся колония была бы покрыта такого рода шахматными клетками поселений. Никогда еще грезамечтателя не порождала схемы топографически столь совершенной.
Планы Оглторпа и попечителей Джорджии были выдержаны вполне в духе проекта Монтгомери и отличались от него лишь своей конкретикой. Убежденность, что начинание их при
103
несет с собой великие блага и для поселенцев, и для соседних колоний, и для всей Великобритании, только закаляла непробиваемое упрямство инициаторов, не желавших знать, что представляет собой Джорджия на самом деле.
Свою главную ошибку, из которой последовало потом много бед, попечители совершили, установив жесткий порядок использования, продажи и наследования земли — основного ресурса Джорджии. Запретив свободное владение ею, свободное приобретение, обмен и использование, попечители сделали существование колонии бессмысленным.
Что с наибольшей выгодой можно было выращивать в этой отдаленной части Нового Света? Сколько акров земли нужно человеку, чтобы он мог обеспечить себя и семью? Попечители не знали ответа на эти вопросы, как не были они знакомы и с самыми элементарными проблемами землепользования и землеустройства в их колонии. Однако винить их все же надо даже не в невежестве (хотя можно было получше ознакомиться с местными условиями), а в том, что действовали они так, словно обладали необходимым знанием, и законами навязывали свое невежество поселенцам. Если бы они проявили больше желания учиться тому, что преподавал им Новый Свет, как знать, быт,ь может, их предприятие закончилось бы иначе.
С таким же успехом план попечителей мог сработать где-нибудь на границах Тимбукту. Население любой пограничной территории, рассуждали они, должно быть готово к обороне. Поэтому каждым участком земли должен владеть глава семьи — физически крепкий человек. Чтобы исключить бреши в обороне, через которые в страну мог бы проникнуть враг, каждый такой человек должен владеть лишь небольшим наделом, малый размер которого в то же время не позволял бы ему жить в праздности за счет труда других, работающих на его земле, и воспитывал бы в нем, таким образом, усердие. С целью предотвращения спекуляций и эмиграции продажа земли должна быть запрещена.
Исходя из такой логики, попечители разработали систему временного землевладения, которую и узаконили в колонии. Они ограничили размер индивидуального владения 500 акрами. Каждая перевозимая «за счет благотворительности» семья наделялась 50 акрами земли, которую нельзя было ни продавать, ни делить. Землю, получаемую во временное владение, адвокаты тогда называли «мужской», ее нельзя было завещать, она могла наследоваться только родственниками мужского пола. Если у умершего арендатора были только дочери или же сын, не же-
104
давший возделывать землю лично, участок возвращался попечителям.
Негр-раб рассматривался заседавшими в далеком Лондоне хозяевами как угроза всему их проекту. «По нашему суждению, белый человек, у которого есть раб, будет менее расположен трудиться сам; все его время будет уходить на надзор за трудом раба или же на досмотр возможной опасности, исходящей для него и его семьи от раба; в случае же смерти или даже временного отсутствия хозяина его жена и дети также мотут оказаться во власти негра». Лондонцы считали, что использование рабского труда способствовало бы распространению заочного владения землей; они также опасались, что в случае войны рабы стали бы естественными союзниками захватчиков, угрожающих безопасности поселений. Более того, по вычислениям попечителей, «количество продукта, которое предполагается производить в колонии, не потребует труда, делающего необходимым использование негров». Поэтому предотвращение рабства и запрещение ввоза рабов было важной частью всего замысла.
Патерналистское отношение лондонских попечителей к своему предприятию уводило их от вопросов земли и труда к проблемам морали. Они считали, что привычку к роскоши и безделью можно предотвратить, не допустив в колонии употребления крепких спиртных напитков. Защищать границу мог только трезвый поселенец-воин. Проблема пьянства, далеко еще не решенная в Лондоне, казалась легкоустранимой в новой колонии. Попечители намеревались отменить ее своим Актом от 1735 года, объявлявшим, что в Джорджию не должны ввозиться «ни ром, ни бренди, ни другие крепкие напитки», что бочонки со спиртным, обнаруженные в колонии, подлежат публичному уничтожению, а продаж?, его должна наказываться как преступление.
Фантастическая гладкость замыслов, лелеемых попечителями в отношении здоровья и морали колонистов, может сравниться разве что с их соображениями относительно будущей роли Джорджии в британской экономике. В соответствии с теорией меркантилизма, излагаемой пропагандистами заселения Джорджии: «Во всех решительно случаях мы будем стремиться к выращиванию культур, производимых в других странах, и в особенности тех, что мы закупаем у иностранцев на наличные деньги или же иным образом к нашей невыгоде... Потому что тем самым мы не только получим дополнительные средства на наших бедных и, увеличив занятость, увеличим наше народонаселение — получая такое сырье самостоятельно, мы удешевили бы
105
наши собственные товары, в результате чего могли бы конкурировать с другими странами на внешнем рынке, в то же время снижая потребление таких товаров у себя дома как предметов роскоши, слишком для нас предосудительной».Счастливо для логики подобных планов (хотя отнюдь не для самой колонии) один такой товар — шелк — идеально подходил на роль основного производимого Джорджией продукта. В памфлетах типа «Доводов в пользу основания Джорджии для развития британской торговли» (Лондон, 1773) друзья колонии приводили и чисто экономические расчеты. Ежегодная стоимость импортируемого Великобританией итальянского, французского, голландского, индийского и китайского шелка достигала, указывали они, суммы в 500 000 фунтов. Всю эту огромную массу валюты или же ее золотого содержания можно было сберечь, всего-навсего производя шелк в достаточном количестве у себя, в Джорджии. Более того, шелковая промышленность могла бы за четыре месяца шелкового сезона обеспечить занятость по крайней мере 20 000 человек в самой колонии и еще не менее 20 000 человек в Англии в течение всего года. Итальянских конкурентов, рассуждали авторы проспекта, легко победить, потому что земля в Джорджии не стоит ничего, а шелковица растет в колонии сама собой. Впоследствии шелк из Великобритании можно будет даже экспортировать, а потом удастся и захватить европейский рынок.
Что питало эти надежды? Какие факты подтверждали их? Традиционно считалось (и это было похоже на легенду), что в Джорджии в изобилии произрастает дикая шелковица. Основатели Джорджии пока еще не открыли, что произрастала там не белая, а черная шелковица, с листьями слишком жесткими для шелковичных червей. Еще в 1609 году путешественники, посетившие Виргинию, перечисляя «самые замечательные плодовые деревья, которые можно было бы посадить там», доложили о возможности выращивания на этой земле «шелкопряда и о множестве тутовых деревьев, используя которые леди и маленькие дети (если их этому научить) могли бы приятно проводить время за изготовлением шелка, сравнимого достоинствами с персидским, турецким и любым другим». Много шума было поднято и вокруг того, что в 1660 году коронационная мантия Карла II была соткана из виргинского шелка. «Здешний воздух (на широте приблизительно тридцать второй параллели), благоприятный для людей,—рассуждали патроны Джорджии, — не менее благотворен и для шелковичных червей». Сэр Томас Ломб, прославившийся тем, что сумел в 1718 году проникнуть на итальянскую шелковую мануфактуру и вывезти ее секреты в Англию,
106
был в то время самым авторитетным в Великобритании знатоком шелкового дела. Привлеченный попечителями в эксперты, он написал для них убедительное — столь же пылкое, сколь и скудное в практическом смысле—заключение о большом будущем, которое ожидало в новой колонии шелковую культуру.
Из подобных легенд, упований и полуправд и были сотканы иллюзии попечителей. Сорок тысяч человек, в ином случае оставшихся бы без работы, предполагалось занять на производстве шелка. «Они могут не принадлежать к самой сильной физически или даже к самой трудолюбивой части человечества; воистину только совсем слабый неспособен зарабатывать себе на хлеб при наличии такого множества белой шелковицы и шелкопряда. Большинство бедных, живущих в Великобритании на благотворительные пособия и неспособных к более тяжелому труду, могли бы легко выполнять эту работу».
Конечно же, тяжкий груз попечительских иллюзий свалился в первую очередь на плечи поселенцев. Культура шелка поощрялась не только за счет установления гарантированных вздутых цен на шелк-сырец и выплаты за его поставки в Англию дополнительных премий и наград. Попечители записывали в земельные лицензии условия, обязывающие каждого землевладельца сажать (подтверждая свои права на надел) по меньшей мере 50 тутовых деревьев (белой шелковицы) на каждых 50 акрах; кроме того, каждый владелец 500 акров в течение двадцати лет своего хозяйствования на них был обязан посадить в общей сложности 2 000 тутовых деревьев. Когда законы, запрещавшие держать рабов, были пересмотрены, каждый колонист должен был иметь на каждых четырех негров-мужчин по одной хорошо выученной шелководству негритянке. Предоставив в конце концов своей колонии право на создание представительной ассамблеи, попечители потребовали вместе с тем, чтобы каждый входящий в нее депутат посадил по меньшей мере 100 тутовых деревьев на каждых 50 акрах принадлежащей ему земли.
Если бы попечителям удалось создать Джорджию в том виде, в каком замыслили они ее в своем проекте, она представляла бы собой аккуратное, безупречное, в высшей степени производительное и абсолютно унылое сообщество людей. Народ Джорджии был бы расселен вдоль границы на равных участках земли, каждый из которых оборонялся бы физически крепким поселенцем-мужчиной, пригодным к службе в местной мили-ции.Трезвое, благодушное, трудолюбивое население работало бы на земле с одинаковым рвением и, конечно же, не помышляло бы о том, чтобы заполучить себе участок побольше, пере
107
ехать на лучшие земли или подняться в своем общественном положении. Этот жизнерадостный и усердный народ не знал бы усталости, скуки или отчаяния и потому не нуждался бы в употреблении крепких напитков. Торговцы из соседних колоний не продавали бы поселенцам негров, ром или лучшую землю. В умеренном климате умеренного нрава люди побуждали бы своих женщин, детей и стариков ухаживать за шелкопрядом и выкармливать его, памятуя о том, что шелк, в конце концов, так важен для хозяйства империи! Колонисты Джорджии не знали бы выгод или же относились безразлично к тем выгодам, которые могли бы доставить им иные занятия.
Единственный изъян проекта состоял в том, что осуществить его могли только живые люди на этой, а не на выдуманной земле. Впрочем, не было и не могло быть людей или мест, вполне отвечавших его целям. И уж меньше всего отвечали им поселенные на песчаных, поросших сосняком пустошах Джорджии несчастные беженцы из Лондона XVIII века.
14
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ
Лондонские филантропы пытались осуществить в Джорджии Европейскую Мечту. Невозможное в Европе интересовало их гораздо больше, чем то, что было осуществимо в Амерйке. В Джорджии, какой они хотели бы ее создать, отражались представления англичанина об идеальной колонии — защитнице владений Англии,прибежище лондонских обездоленных и без-работных,поставщике ценившихся субтропических товаров. Конечно, в некотором смысле мечты пуритан Новой Англии и пенсильванских квакеров также были порождены европейским опытом, хотя они и отличались большей — теологической — широтой.
Никакие черты английской действительности XVIII века не ценились в ту пору так высоко, как безопасность жизни и иерархическая зависимость людей друг от друга. Чувство безопасности сопутствовало всей жизни англичанина, уверенного в незыблемости отношений, связывавших его с другими людьми. Сквайры Олверти и Вестерн из филдинговского «Тома Джонса» — характеры, вполне отражающие условия безопасности, в которых проживал средний класс англичан, по возможности делившийся этими условиями с зависимыми от него классами. Фигура дородного сквайра — мирового судьи, стол
108
па респектабельности, благодетеля округи, покровителя слабых и защитника интересов страны — не только писательская выдумка. Обратной стороной безопасности, которую такой сквайр воплощал, была зависимость. Честный крестьянин зависел от сквайра, сквайр — от высокородного лорда,приход-ский священник — от епископа, писатель — от своего покровителя, даже благородный граф Эгмонт зависел от сэра Роберта Уолпола и от короны как источника доходов и почестей. Все это и тысячи других зависимостей сообщали жизни англичан безопасность и удобство, которыми пользовались многие. Конечно, такого рода система требовала от каждой из сторон согласия на роль, отводившуюся ей другими. Ничто, пожалуй, не было столь характерно для английской действительности и в большей мере не отличало ее от жизни Нового Света, как этот набор хорошо отлаженных взаимоотноше-ний.Кроме согнанных с земли огораживаниями и отдельных бродяг, все люди знали, что от них требуется; выполняя эти требования, они могли рассчитывать на респектабельную жизнь, уготованную им судьбой.
Тех же, кто запутался в этой древней паутине, Америка влекла к себе возможностью освобождения.Беседуя с будущими эмигрантами, Франклин не обольщал их патерналистскими подачками со стороны будущих нанимателей — он обещал им переменчивость и текучесть американской жизни со всеми теми возможностями, которые она перед ними открывала. Как раз такого рода открытость вдохновляла Кревкера позже в этом же столетии: в Америке подневольный европеец становился хозяином своей судьбы — естественно, не без некоторой для себя опасности,—но именно это и делало из него американца. Особенностями его жизни в Америке становились риск, случай, независимость, инициатива, настойчивость, мобильность и необходимость не упускать предоставляемых возможно-стей.Американцу не мог быть навязан даже чисто американский идеал равенства.
Однако в Джорджии поселенцы попали в полную зависимость от своих благодетелей и сильно тяготились ею. Общеизвестно, что вкладчик капитала всегда стремится к получению прибыли, в то время как благодетель преследует абстрактные цели. Вкладчиков не особенно заботит, каким образом ведутся дела на предприятиях, лишь бы они приносили хороший доход. И напротив, свои дивиденды благодетель получает из самого способа, пользуясь которым он лично творит добро. Попечители Джорджии не были исключением из этого правила.
109
Уже сама хартия колонии предусматривала исключительно филантропические цели ее основания. Ни один попечитель не мог занимать там официальную должность или владеть землей. Попечители вообще были лишены права извлекать из колонии какую-либо выгоду. Всю свою деятельность они направляли только на пользу поселенцам и державе. Несмотря на бурю обвинений в их адрес, нет никаких оснований полагать, что кто-либо из них своими действиями нарушил хотя бы дух этих правил.
Попечители вложили в свое предприятие немалую сумму личных средств. Оглторп однажды при случае заявил, что не только «отдал делу основания колонии всю жизнь, здоровье» и доброе имя, но в течение первых пяти лет вложил в нее 3000 фунтов из своих собственных денег; к 1744 году он потратил, главным образом на военные нужды колонии, более 90 000 фунтов, которые впоследствии были ему возвращены единогласным решением парламента. Народ Англии также делал многочисленные мелкие вклады, не надеясь получить их обратно. ЛЬрд Эгмонт отмечал в своем дневнике, как однажды вечером в июне 1733 года неизвестное лицо вручило ему через посыльного 30 фунтов на помощь беднякам Джорджии. Во всех английских церквах произносились проповеди с призывом помочь колонии. С различными предложениями к попечителям обращались многие. Пример тому — поступок сэра Эдварда Дебувери. Его отец отказал в своем завещании на благотворительные цели сумму в 500 фунтов. Дебувери не только отдал ее попечителям, но и вручил им приблизительно такую же сумму от себя лично. Собранные по подписке в первые восемь лет существования колонии 18 000 фунтов свидетельствуют о благожелательном и заинтересованном отношении к ней со стороны сотен прихожан, не забывавших положить на церковную тарелку и свою скромную лету в несколько шиллингов.
Но нужно было неизмеримо больше. Проект столь широкого размаха не мог финансироваться лишь за счет частной благотворительности. Филантропические цели, а также важное для империи военное значение колонии побуждали членов парламента прибегать к неоднократному прямому субсидированию — общая сумма средств, выделенная Совету попечителей за все время его существования,составила более 130 000 фунтов. Никогда ранее — за исключением ассигнований на чисто военные расходы —британское правительство не поддерживало за счет общественных средств ни одну из своих колоний.
Однако субсидии имели одно очень важное последствие. Поскольку общественные расходы Джорджии покрывались
по
деньгами, которые давали частные благотворители, и государственными ассигнованиями из Англии,вводить в колонии налоги не было никакой необходимости, так же как не было необходимости и создавать в ней представительную ассамблею, которая бы взимала эти налоги. Таким образом, на много лет в Джорджии отпала основа для самоуправления. Ее поселенцы могли сидеть по тюрьмам Лондона или бродить по его улицам без работы, здесь же они были иждивенцами общества. И, как лица, находящиеся под опекой, не имели права жаловаться.
Исходя из собственных представлений о нуждах колонистов, сидящие в Лондоне филантропы всячески старались удовлетворить их. О мере таких стараний можно судить по «Правилам на 1735 год* в записи Фрэнсиса Мура, интенданта Совета:
Попечители намерены в этом году основать новое графство и построить в Джорджии новый город.
Всем посылаемым в Джорджию за счет благотворительности лицам будут выданы каждому мужчине— шинель, мушкет и штык, топор, молоток, ручная пила, совковая или штыковая лопата, широкая мотыга, узкая мотыга, бурав, струг, железный горшок и два ухвата к нему, сковорода и для каждого населенного пункта или деревни — общественное точило. Каждый работник в колонии получит на содержание в течение одного года (в определяемом попечителями количестве и в то время, когда они сочтут это нужным) 312 фунтов говядины или свинины, 104 фунта риса, 104 фунта кукурузы или гороха, 104 фунта муки, 1 пинту крепкого пива в день, когда работник трудится, и ни в каком ином случае, 52 кварты черной патоки для варки пива, 16 фунтов сыра, 12 фунтов масла, 8 унций специй, 12 фунтов сахара, 4 галлона уксуса, 24 фунта соли, 12 кварт лампового масла, 1 фунт бумажной пряжи и 12 фунтов мыла.
Для матерей, жен, сестер или детей работников в течение одного года, то есть каждому лицу в возрасте двенадцати лет и старше,назначается следующее содержание (выдаваемое в указанном порядке): 260 фунтов говядины или свинины, 104 фунта риса, 104 фунта кукурузы или гороха, 104 фунта муки, 52 кварты черной патоки для варки пива, 16 фунтов сыра, 12 фунтов масла, 8 унций специй, 4 галлона уксуса, 24 фунта соли, 6 кварт лампового масла, полфунта бумажной пряжи и 12 фунтов мыла.
Каждое лицо в возрасте старше семи лет и моложе двенадцати считается половиной души и получает половину указанного содержания.
Лицо в возрасте старше двух лет, но моложе семи считается одной третьей души и получает треть указанного содержания.
Попечители оплачивают им дорогу из Англии в Джорджию; в пути будут даваться каждую неделю: четыре дня — говядина, два дня — свинина, один день—рыба...
Условия иммиграции в Джорджию больше напоминают отбывание срока в образцово-показательной тюрьме или же службу в армии наемников,чем жизнь в колонии свободных людей, отправившихся в новый мир на поиски своего счастья.
111
От деловых бумаг попечителей и Совета (правления Джорджии, собиравшегося в Лондоне) исходит густой и зловонный чад патернализма. Томас Костон, официальный интендант колонии, по дошедшим сведениям, публично заявил, что у колонистов «нет ни земли, ни прав, ни собственности. Что попечители дали, то они могут и забрать». Когда офицер колонии совершал какой-нибудь храбрый поступок, не предусмотренный должностными обязанностями, Оглторп призывал вознаграждать его лишь по той причине, что «общество не устоит, не вознаграждая тех, кто исправен, и не наказывая виноватых». Колонисты Саванны не могли нанять даже учителя или повитуху, ибо для этого нужно было вносить соответствующую компенсацию в годовой бюджет, что и делалось — попечителями. Даже приобретение обыкновенной кастрюли или покупку материала на корсеты для двадцати шести женщин, переселившихся в Джорджию из Зальцбурга, те проделывали с помпой. Одним словом,попечители взяли на себя управление каждодневной жизнью людей, едва им известных и живущих в стране, которую они даже не видели.
«Все решения правления будут справедливы, — единодушно заявил Совет на своем заседании в июле 1735 года, — и люди должны верить нам». Подобное высокомерие, или же в лучшем случае снисходительность,со стороны управляющих порождало чувства зависимости или раздражения в управляемых. Поселенцы Джорджии жаловались на пищу, кров и инвентарь, они дожидались или требовали исправления недостатков от добрых дядей, живущих в далеком Лондоне. Через год гарантированного полного обеспечения поселенцы, на своей шкуре испытав, что жизнь на новом месте, как оказывается, совсем не легка, потребовали от попечителей продления срока страховки еще на двенадцать месяцев. Тем не оставалось ничего иного, как согласиться. И чем больше старались они ублаготворить и обеспечить всем необходимым колонистов, тем на более дальний срок отодвигалась пора полной самостоятельности Джорджии.
В1739 году лорд Персиваль уже осознавал грядущие финансовые затруднения, неминуемые в том случае, если политика патернализма не будет прекращена. Спонсоры колонии все глубже и глубже увязали в делах своего предприятия, в то время как колонисты не обнаруживали никаких признаков начинающегося преуспеяния и не подавали в этом отношении никаких надежд. Очутившись в Джорджии, бедные английские горожане страдали не только по причине своей слабохарактерности, но и от отсутствия навыков,необходимых человеку, живущему сре
112
ди дикой природы. В конце концов, попечители вынуждены были признать: бедняки, «бесполезные в Англии, по-видимому, одинаково бесполезны и в Джорджии».
15
КОНЧИНА КОЛОНИИ ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ
Но даже если бы попечителям удалось подобрать поселенцев, слепо уверовавших, что «все решения попечителей справедливы»,предприятие их все равно кончилось бы неудачей — ведь и в этом случае они построили бы княжество верноподданных, а не колонию предприимчивых американцев.
Проклятие бюрократического правления с его извечными спутниками — мелочностью, произволом и коррупцией—не обошло стороной и колонистов Джорджии.Обещанные «из благотворительности» пайки хранились на складах, а ими распоряжались люди, которые не могли устоять перед искушением и не воспользоваться кое-какими припасами в собственных целях. Известность, например, приобрело дело Томаса Костона,по-ставленного Оглторпом бейлифом и интендантом колонии в 1734 году. Наделенный правом выдавать или не выдавать запасы, он вскоре стал самым ненавидимым во всей Джорджии чело-веком.Никто в незавидном положении Костона не смог бы в одно и то же время угодить и своим лондонским хозяевам и их подопечным в Джорджии, потому не прошло много времени, как он стал объектом самых отборных обвинений: жаловались и на недоброкачественную говядину, и на малые пайки, на его воровство и на его мздоимство. По большей части обвинения ему, видимо, предъявлялись небеспочвенные, но Костон, будучи доверенным лицом лондонских попечителей, обладал в колонии распорядительной властью, что с легкостью позволяло ему уходить от наказания.
Самыми ошибочными, непродуманными и катастрофическими оказались планы попечителей в отношении землепользования. Пятьдесят акров сосновой пустоши не могли прокормить семью. Труд по расчистке участка от леса и возделыванию этой земли был более чем тяжелым даже для физически крепкого человека, помочь которому могла только его семья. Вопрос же о том, смогли бы люди более неприхотливые, трудолюбивые или даже героические справиться с этой нелегкой задачей, не имеет смысла: ведь попечители сами избрали тот тип человека, на которого ее возложили.
из
Жесткие условия заселения пограничной территории в значительной степени лишали жителей колонии стимулов к повышению производительности труда. Поселенец, у которого не было наследников по мужской линии или у которого был только один сын, не желавший возделывать оставляемую ему землю, после многих лет труда вдруг обнаруживал, что он не вправе продать свою собственность. Так к чему же ему было улучшать ее ради выгоды попечителей? Поскольку поселенцы одновременно являлись солдатами «пограничных гарнизонов», каждый обмен земли приобретал значение высокой административной политики и мог удовлетворительно разрешиться только в Лондоне, после представления доказательств, что он служит общественной пользе. Протоколы лондонских заседаний правления полны всякого рода формальных ухищрений, позволявших производить обмен пятидесятиакровых клочков земли.
На собственном опыте попечители убедились: они взваЛили на себя ответственность, которой не могли ни снять, ни нести. Каждое нарушение установленной ими же системы делало все последующие исключения из нее только более несправедливыми. В 1738 году, например, население небольшого городка Хемпстед, жалуясь на непригодность предоставленной ему сосновой пустоши, обратилось к попечителям с петицией о выделении лучшей земли. Вопрос рассматривался попечителями в лондонском особняке Оглторпа:
Он сказал на это, что отлично знает земли в Хемпстеде и что большая их часть действительно сосновые пустоши, которые надлежащими усилиями можно обратить в плодородные земли точно так же, как и многие другие участки, выпавшие другим людям; он сказал далее, что если пойти навстречу их желаниям, в колонии скоро не останется ни одного человека, который не захотел бы переехать на лучшие земли, хотя в настоящее время никто и не помышляет об этом. Беспорядок, вызванный нашим разрешением, был бы неописуем. Мы должны понять, что, если позволим этим людям переехать, им понадобится назначить новое содержание еще на год, чего в настоящем положении мы позволить себе не можем и чего, несомненно, потребуют от нас и другие.
Таким образом, недовольные колонисты открыли, что они прикованы к своим клочкам тощей земли. И поскольку закон не разрешал ни прикупать к ним другие участки, ни продавать или обменивать их, оставалось единственное—бежать.
Хотя поселенцы признавали необходимость ограничения индивидуальных наделов земли, «поскольку это предотвращает неразумную и даже неуместную монополию, сильно затрудняющую обустройство и улучшение земли в других местах», такое
114
признание далеко еще не означало согласия с насильственно навязываемым равенством. Поселенцы резонно спрашивали: откуда могут взяться стимулы к работе, как не из возможности улучшить свое положение? «Поскольку среди них немало лентяев, — докладывал капитан Пьюри попечителям по своем возвращении из Джорджии в 1733 году, — а также людей неспособных, исправно работающие считают неразумным, чтобы другие пользовались плодами их труда и имели после полной расчистки земли равные доли и равные шансы при жеребьевке, определяющей надел каждого».
Когда протесты из Джорджии усилились, Оглторп убеждал других попечителей, что жалобы исходят лишь от особо беспокойных и своекорыстных, «нелояльных», побуждаемых к возмущению земельными спекулянтами из Южной Каролины. Только начиная с 1738 года попечители стали вносить в свою земельную политику ряд модификаций, считая каждый свой шаг в этом направлении едва ли не изменой принципам. В 1738 году они разрешили женщинам наследовать землю, в следующем году временным владельцам, не имевшим наследников среди родственников, было позволено передавать землю по завещанию, в 1740 году была разрешена сдача в аренду и снижены требования к мелиорации, а в 1741-м максимально допустимые размеры владения были увеличены с 500 до 2000 акров. Признав разницу в качестве земли, попечители со временем стали разрешать более свободный обмен сосновых пустошей на плодородную землю и отводили дополнительные 50 акров тем, кто уже огородил и окультурил свой первоначально пожалованный надел. Налоги на земли были сначала снижены, а затем и вовсе отменены. И только в 1750 году, когда попечители уже подумывали о том, чтобы расстаться со своей хартией, временное владение землей было расширено до права абсолютного наследования. Наконец-то жители Джорджии могли свободно покупать, продавать, сдавать в аренду, обменивать и завещать свою землю, как это делалось во всех других американских колониях. Однако Оглторп оставался всем недоволен и всячески противился изменениям, утверждая, что только жесткая регламентация землевладения спасла колонию от вторжения извне.
Оглторп был прав, считая, что, отказавшись от осуществления одной части системы, попечителям следует отказаться от всего плана в целом. Клубок иллюзий разматывался только всеми его нитями сразу. Так, например, с увеличением размеров индивидуального владения сразу же отпали все аргументы против использования рабов и появились сильные доводы в пользу раз
115
решения их ввоза. Ведь обширные владения требовали более многочисленной и дешевой рабочей силы. Год за годом колонисты Северной Джорджии посылали в Лондон энергичные заявления, в которых доказывалось, что отсутствие в колонии рабов вызывает стагнацию хозяйств и недовольство в народе. В марте 1748 года попечители в Лондоне твердо решили «никогда в будущем не допускать негров в колонию Джорджия в связи с той очевидной опасностью, какую может создать их присутствие в пограничных городах. Что же до людей, продолжающих требовать ввоза негров и заявляющих, что преуспеяние колонии без них невозможно, то они со всей очевидностью и не хотят добиваться такового трудом рук своих и потому скорее препятствуют, чем способствуют успеху». И они посоветовали всем, кто не мог преуспеть на своей земле, не используя рабского труда, оставить колонию. Только через два года, в 1750 году, попечители отступили окончательно: объяснив, что условия в Джорджии изменились, они широко распахнули двери перед рабовладельческим хозяйством.
Не большим успехом увенчались планы попечителей в отношении морального облика колонистов. Одно дело — принять прекрасно сформулированный акт, «запрещающий гнусный и отвратительный порок пьянства», и совсем другое — заставить повиноваться закону редкое, разбросанное по холмам и болотам население. Автор одного из писем попечителям напоминает им, что бедность, лишения и обманутые надежды всегда толкали к чарке вина, «поддерживающей мужество». Даже в Англии у многих не оставалось иного выбора, как «впасть в безнадежное отчаяние или же в безумие пристрастия к спиртному. Наставить их (поселенцев Джорджии) на путь истины можно только одним способом — вселить в них обоснованную и глубокую уверенность, позволяющую надеяться на лучшие времена, а также постепенно, шаг за шагом, прививать им понятия, из которых они могли бы извлечь для себя наибольшую пользу».
Запрещение винной торговли встречало и другие трезвые возражения. Поскольку наиболее вероятную статью экспорта колонии составлял лес, а самым естественным рынком его сбыта были сахарные острова Британской Вест-Индии, которые не могли поставлять взамен ничего, 1фоме рома, запрет его означал бы полное прекращение торговли с островами. Это лишило бы империю нужных ей лесоматериалов, а самих жителей Джорджии — выгодных коммерческих сделок. Приводился также и «медицинский» довод: «Опыт всех жителей Америки доказывает необходимость разбавления питьевой воды спиртом (и нет
116
никакого сомнения,что по качеству воды таковое необходимо в Джорджии и в Каролине, как ни в одной другой из провинций); полезность этого эксперимента очевидно доказана теми жителями Джорджии, кто мог испробовать его на себе и прибегая к нему с умеренностью*. Наконец, выдвигался и еще один универсальный по характеру аргумент, приводящийся всегда, когда речь заходит о неисполнимом на практике законе: доходы, получаемые бутлегерами, могли бы положить в свой карман уважаемые граждане, а «так как в природе человечества, и особенно наиболее распространенной его части, лежит жажда и стремление к неумеренному потреблению вещей, доступ к которым наиболее затруднен, то именно так и обстоят дела с потреблением рома в Джорджии». Предприимчивость самогонщиков Каролины была доказательством намного более убедительным,чем все остальные.
В конце концов, презрев громкие протесты Оглторпа, попечители позорно затрубили отбой. В 1742 году, не отменяя запрещающего ром акта на бумаге, они приказали своему доверенному лицу не применять закон. Позднее в том же году они сняли свой антиалкогольный запрет, разрешив, правда, продажу лишь того рома, который ввозился из других британских колоний в обмен на товары, производимые в Джорджии.
Из всех начинаний, которые включал в себя проект основания Джорджии, последним испустил дух проект добычи в ней шелка-сырца. «Пока шелк не станет общеупотребительным товаром, —докладывал служащий колонии в 1740 году,—Джорджия сможет торговать только лесом и свежим мясом, поставляемыми на острова». Попечители время от времени подумывали завести у себя виноделие, но шелк — возможно, просто потому, что они меньше знали о нем, — полностью завладел их воображением. Однако,с каким бы неверием ни относились лондонские бедняки ко всем идеям попечителей, шелковичные черви далеко превзошли их в этом отношении. Декрет лондонских филантропов не произвел на них ровно никакого впечатления. Хроника шелковой промышленности Джорджии — это история пустопорожних споров и обманутых надежд.
То, что производство новой и трудоемкой продукции встретило на необжитых просторах Америки немало сложностей, неудивительно. Выкармливание шелкопряда и шелкопрядение — искусство тонкое и высокопрофессиональное, хотя оно, возможно, и менее утонченно, чем искусство обращаться с пылкими пьемонтцами, на которых попечители возложили задачу обучения поселенцев навыкам нового промысла. Первый скан
117
дал разразился вокруг фигуры Николаса Аматиса,прибывшего с еще несколькими пьемонтцами в колонию вскоре после ее основания. Добиться каких-либо достоверных сведений даже о простейших фактах всей этой истории в Лондоне было невозможно. Некоторые информаторы доносили, что помощники Аматиса сломали ткацкие станки, испортили семена, уничтожили тутовые деревья и сбежали в Каролину; другие — что Аматис сам незадолго до своей смерти сжег всех червей и станки, разозлившись из-за того, что магистраты не прислали ему католического священника, когда он был при смерти. После смерти Аматиса обучение шелкоделию перешло в руки Жака Камюза и его жены; они, как предполагалось, должны были научить джорджий-цев ремеслу шелкопрядения. Миссис Камюз, однако, из опасения, что она сама может оказаться без работы, не особенно надоедала уроками тамошним леди.
Тем временем попечители в Лондоне всячески преувеличивали значение своих скромных достижений. С самого начала инициаторы основания колонии потратили слишком много усилий на благоприятствующую шелкоделию рекламу и потому впоследствии стали жертвами собственной пропаганды. Они подняли много шума вокруг подаренного королеве Каролине платья, сшитого из «чистого джорджийского шелка», самого тонкого, как заявила она, из всех, какие когда-либо видела. Тем не менее шелк из Джорджии поступал весьма нерегулярно и в небольшом количестве. Лишь в 1740 году попечители узнали, что миссис Камюз передала своим ученицам так мало знаний и навыков, что в случае ее смерти искусство шелковой культуры было бы в Джорджии утрачено навсегда. Сколь-либо существенных успехов — да и то с величайшими трудностями — добились только поселенцы, приехавшие в колонию из Зальцбурга, необычайно трудолюбивые, настойчивые и независимые люди, проявившие в отличие от других колонистов некоторый интерес к шелковой культуре. За исключением 300 из 6301 фунта, все шелковые коконы, полученные в Джорджии в 1751 году, были из сиротского дома в Уайтфилде или от зальцбуржцев, живших в Эбенезере. А в 1741 году противники колонии распространили в Англии слух, что подаренное королеве Каролине платье сшито из шелка, почти не содержавшего — а может быть, и вовсе не содержавшего—нити, выделанной в Джорджии.
В мае 1742 года почти половина тутового шелкопряда в Саванне погибла, доказав тем самым, что климат Джорджии не подходит для его выкармливания. Если какая-либо местность в колонии и была пригодна для шелководства, то она лежала в
118
глубине ее территории, слишком далеко от мест первоначального заселения, где климат отличался большей умеренностью. К тому же, производству шелка в Джорджии противодействовали мощные экономические факторы.
Как показывает опыт шелководства в других частях света, экономически целесообразное его развитие требует чрезвычайно высокой квалификации и избытка дешевой рабочей силы—и то и другое в Джорджии отсутствовало. Найти работников, которые соглашались заняться шелком, было нелегко: ведь получавшие за обычный труд по два шиллинга в день на шелковом производстве не могли рассчитывать больше чем на шиллинг.В основных поставляющих шелк регионах мира крестьяне получали не больше трех пенсов в день.
Но, несмотря ни на что, оптимизм попечителей оставался таким же слепым и несгибаемым: они все еще надеялись создать в Джорджии шелковую аристократию. В постановлении от 19 марта 1750 года они объявили, что начиная с 4 июня 1751 года никто не может стать членом Ассамблеи Джорджии,не посадив и надлежащим образом не обработав по крайней мере сотню тутовых деревьев на каждых пятидесяти акрах своей земли; начиная же с 4 июня 1753 года никто не мог стать депутатом, не имея в своей семье по крайней мере одной женщины, занимающейся обучением других искусству мотальщицы, и не производя по меньшей мере пятнадцати фунтов шелка-сырца на каждые пятьдесят акров своего надела. Когда, наконец, в 1751 году попечители заявили о своем намерении отказаться от управления Джорджией и вернуть колонию короне, в качестве одной из причин, побудивших их к этому решению, они привели отнюдь не отсутствие в Джорджии условий, необходимых для шелководства, а недостаток денежных средств, нужных им для «поощрения производства шелка-сырца». Один из парламентских оппонентов проекта в этой связи заявил: развеять все эти иллюзии можно, лишь потребовав от колонистов, чтобы они пили только собственное вино и одевались только в собственные шелка. Однако иллюзии развеиваются с трудом, и чем они ярче, тем долговечнее. Производство шелка мало-помалу продолжалось в Джорджии еще в дни Революции, когда решением Ассамблеи Джорджии старая мануфактура в ней была переоборудована под танцевальный зал и молельный дом и использовалась в этих качествах до тех пор, пока не сгорела при пожаре, случившемся пятьюдесятью годами позже.
Управление колонией было также поставлено из рук вон плохо: попечители взяли на себя полномочия, осуществлять ко
119
торые хоть с какой-либо степенью разумности из Лондона не представлялось возможным. Их правление было замешано на причудливом сочетании анархии и тирании. Худшие примеры неразберихи и злостного самоуправства наблюдались в работе судов. Законы попечители принимали в Лондоне, но применялись они в случае каждого конкретного разбирательства в судах Джорджии. Считая, что они лишь переносят английское судопроизводство на новую почву, попечители в действительности путали и произвольно объединяли юрисдикцию различных английских судов, а надзор за правопорядком поручали некомпетентным судьям-самоучкам, выносившим предвзятые и лицеприятные решения. Судейская беспристрастность не была одним из многочисленных достоинств Оглторпа, а его доверенные лица старались подражать своему патрону, действуя в том же, что и он, духе. Так куда же делись, вопрошали колонисты, наши хваленые вольности подданных Великобритании?
Недовольство среди них росло: разного рода памфлеты, петиции и жалобы сыпались беспрестанно, вызывая всеобщее раздражение. Даже доверенное лицо попечителей не могло не признать, что протесты против основных уложений жизни в колонии, а также против самого духа управления ею отражали настроения значительной части населения.
По мере того как проблемы множились, а общественная поддержка предприятию со стороны англичан слабела, заинтересованность в нем самих попечителей — а они, в конце концов, были просто энтузиастами — также шла на убыль. Преданность самого Оглторпа предприятию вряд ли увеличилась от того, что в 1744 году он был вынужден предстать перед военным судом (хотя и был им полностью оправдан) в связи с предъявленным обвинением в злоупотреблениях, якобы допущенных им на посту главнокомандующего армией Джорджии. Отношения Оглторпа с другими попечителями осложнились, и с начала 1749 года он перестал посещать заседания Совета. В 1742 году из-за ухудшения здоровья, а отчасти и по причине слабеющей общественной поддержки из него вышел Эгмонт. «Печально видеть, — проницательно заметил он за несколько лет до этого, — как иссякает жажда творить добро, когда угасает прелесть новизны и когда такому служению не сопутствует приличествующая награда. Если бы правительство назначило нам жалованье хотя бы в 200 фунтов в год, немногие члены Совета оставили бы его».
Попечители вернули хартию короне и отказались от своих интересов в Джорджии 25 июня 1752 года, еще до истечения положенного срока в 21 год. Начинание, получившее столь щед
120
рую поддержку со стороны частных лиц и общественной благотворительности, закончилось плачевно.
Сейчас невозможно определить, какая точно часть населения Джорджии покинула ее ради более широких возможностей, открывавшихся в середине века перед поселенцами в Каролине и других американских колониях. Утверждение недовольных, заявивших за десять лет до этого, что только одна шестая часть джорджийцев осталась на месте, может считаться преувеличением. Но уехали многие. Джорджия постепенно становилась брошенной колонией—в этом было больше истины, чем романтического вымысла или недоброжелательности.
«Бедные обитатели Джорджии, — сетовали несчастные поселенцы, — разбросаны ныне по всей земле. Ее плантации превратились в пустыню, ее города — в пустыри, ее достижения — в шутку, ее свободы — в издевательство; она стала предметом жалости со стороны друзей и оскорблений, презрения и осмеяния со стороны врагов». Во времена Революции Джорджия, любимое детище филантропии и испорченное дитя лондонской благотворительности, была наименее преуспевающей и самой малонаселенной из всех колоний.
16
ОПАСНОСТИ АЛЬТРУИЗМА
Основатели Джорджии не ставили перед собой величественных целей, как это делали охваченные воодушевлением массачусетские пуритане. Им была чужда мистика, пронизывавшая помыслы и устремления пенсильванских квакеров. Зато они во всех деталях и весьма прозаично представляли себе общество, которое намеревались построить, основав свою колонию. Трудности, которые встретились им на пути, происходили не от недостаточного планирования, но, наоборот, от избытка его. Проблемы и реальные возможности новой колонии не были обусловлены ни четкостью принципов, которых придерживались ее создатели, ни снедающей яростностью их убеждений, ни даже смутностью их представлений относительно того, что, собственно, они хотели создать. Главный порок общего плана колонии заключался в самом складе их ума, подавлявшем ту спонтанность человеческого действия и тот дух эксперимента, которые и составляли настоящее, а не мнимое духовное богатство Америки. Какие бы благородные порывы ни воодушевляли Персиваля, Оглторпа и еще нескольких их сподвижников, все
121
рвение их выливалось в мелочные, продиктованные рассудочностью жесты. Будь планы инициаторов проекта масштабнее, абстрактнее — пусть даже своекорыстнее, — как знать, может быть, на земле Нового Света они и нашли бы для себя необходимый простор.
Однако филантропы, так же как мученики, миссионеры и апостолы добра,никогда не бывали отмечены властной потребностью экспериментировать: истинный филантроп всегда знает, что есть добро и что именно нужно делать, дабы сотворить его. По самой своей природе филантропы склонны к излишне четкой и излишне точной оценке любого положения. Именно такими филантропами были попечители Джорджии. Неуемные поселенцы справедливо считали, что необходимее всего для американской колонии готовность экспериментировать: «Сначала все здесь было испытанием, теперь все — эксперимент; и со всей определенностью можно сказать: ни человек, ни общество не должны стыдиться признания,что из-за каких-то непредвиденных обстоятельств предположения их оказались неверны; и точно так же ни один здравомыслящий человек никого не осудит за недостаток успеха в случае, где он был только вероятен; но весь свет должен ополчиться против человека или общества, из неверных понятий о чести или из твердости упорствующих вопреки всякому здравому смыслу в продолжении эксперимента, угрожающего гибелью переселенцев».
История Джорджии на этом этапе ее становления, однако, не сводится к осознанию грустного урока понесенного поражения. Неудача предприятия попечителей во многом объясняет успех других форм общественного устройства в других колониях Америки. Проект Джорджии был заброшен не потому, что ее поселенцы сочли Америку малообещающей, но, напротив, из-за того, что они хотели встать на путь, сулящий возможности, пусть даже сопряженный для них с риском,— им же был предложен план. Но возможности Нового Света не умещались в план — даже самый бескорыстный и благородный, какой мог породить своим воображением только Старый Свет. Осуществимая в этой стране мечта превосходила своей экзотикой все, что мог представить себе Лондон XVIII века. Возможное в Америке — не то же самое, что невозможное в Европе: у американских возможностей — свой особый характер. И все мечты европейца о будущей жизни на этой земле оказались бы иллюзорными, если бы Европейская Мечта не соединилась в них с Американским Опытом.
Часть четвертая ОСНОВАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ ВИРГИНЦЫ
Таким образом, вначале весь мир был Америкой, к в гораздо большей степени, нежели ныне...
Джон Локк
Вначале вся Америка была Виргинией.
Уильям Берд
Совсем иначе все обстояло в Виргинии. Здесь не строили грандиозных проектов, не пытались подогнать живое течение действительности под идеальную схему; жители Виргинии были обуреваемы вполне земным стремлением перенести на новую почву существующие общественные институты. Если обитатели других колоний стремились избавиться от английских пороков, то виргинцы мечтали взрастить на своей земле ростки английских добродетелей. Поэтому эта колония не подражала другим, на чью долю выпало изумить мир чудом Града на Холме, вдохновить его воплощенным братством, любовью к ближнему, воодушевить невиданным размахом своего гуманитарного эксперимента. Сложившаяся в умах виргинцев модель жизнеустройства несла в себе реальные черты существующего общества — Англии (прежде всего сельской) XVII и XVIII столетий. И если Виргинии суждено было стать землей в каких-то отношениях лучшей, нежели Англия, то отнюдь не потому, что ее обитателями двигали идеалы, не присущие англичанам; скорее потому, что здесь для воплощения традиционных английских идеалов открывались новые возможности. Перед переселившимся в Виргинию англичанином из среднего класса открывалась перспектива стать землевладельцем английского типа, хотя и в совершенно новом, американском стиле. На почве Виргинии нравы английского поместья претерпевали непостижимую и непредсказуемую трансформацию, превращаясь в обычаи
123
республики Нового Света. Пересекая Атлантику, сквайры Вестерны и Горасы Уолполы словно под воздействием таинственных подводных течений становились Эдмундами Пендлтонами, Томасами Джефферсонами и Джорджами Вашингтонами. Американцами сделало их не то, к чему они стремились, но то, чего они достигали.
17
АНГЛИЙСКИЕ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ
В Англии конца XVII века любой преуспевающий торговец стремился стать помещиком. Приобретение просторного барского дома, окруженного со всех сторон широкими полями, достойно завершало труды за прилавком или за канцелярской конторкой и было венцом устремлений поднимавшегося среднего класса. В том столетии оно соответствовало мечте бизнесмена XX века о дорогой загородной вилле, членстве в окружном клубе и зимних сезонах во Флориде. И в то же время значило много больше: став помещиком, человек присоединялся к сильным мира сего; заполучив в собственность имение, он одновременно становился мировым судьей, властью над церковной кафедрой прихода, заступником и исповедником местного крестьянства, попечителем бедняков и, возможно (раньше или позже),членом парламента, дворянином, баронетом и — как знать, может быть, даже членом палаты лордов.
Для честолюбивого англичанина барский дом, таким образом, был дорожной станцией, где он менял лошадей, на пути к вершинам власти и преуспеяния. Владелец его жил безбедно, хотя и не купался в роскоши и не предавался праздности.Анг-лийский фольклор, которому нельзя отказать в здравомыслии, всегда возлагал бремя власти и общественных забот на людей, удобно обосновавшихся в родовых поместьях. «В большом богатстве, — пишет Ричард Брэтуэйт в «Английском джентльмене» (1630), справочнике, к которому охотно обращались солидные виргинцы, — меньше всего свободы». «И тот согрешил дважды, чей пример у всех на виду, откуда и следует, что являющие в своем лице пример и образец бдительности, предусмотрительности и прилежания не должны спать безмятежным сном под сенью своего благополучия. Ибо сказано, что люди высокого положения трижды слуги: слуги Монархащли государства, слуги Славы и слуги Дела. Потому у них как бы и
124
нет свободы — не свободны они ни сами лично, ни их поступки, ни их время». Таким образом, идеал английского джентльмена, хотя и далекий от аскетизма, определенно носил нравственный и общественный характер. И честолюбивый английский торговец, метивший в джентльмены, домогался не только благополучия, но и поля деятельности,более обширного и связанного с более высокой ответственностью.
В период раннего заселения Виргинии простой человек нередко еще имел возможность пополнить собой класс колониального джентри. Почти до самого конца XVII века белые иммигранты жили здесь, по всей видимости, гораздо лучше, чем прежде в Англии. Нехватка рабочей силы обеспечивала хороший заработок. В 1623 году, например, Джордж Сэндис жаловался на то, что, помимо пропитания, виргинский работник требовал также выдачи ему одного фунта табака в день. При стоимости его в один шиллинг он, таким образом, зарабатывал в день столько же, сколько подобный ему работник в Англии за неделю. И, кроме того, в Виргинии у него было будущее. Перебравшиеся сюда молодые подмастерья, проработав в услужении всего несколько лет, могли, о чем свидетельствует автор «Лучшего описания Виргинии» (1649), претендовать на «землю и скот, выдаваемые на обзаведение». Записи о передачах земли, проанализированные Томасом Джефферсоном Уэртенбейке-ром, показывают, что в Виргинии к концу XVII века существовала многочисленная прослойка местного «йоменства» — людей, владевших наделами земли площадью от 20 до 500 акров. Если же обратиться к верхней половине социальной шкалы, то и тут человек, перебравшийся в колонию с относительно скромным капиталом, имел в Виргинии все шансы приумножить его; более того, здесь деньги могли обеспечить ему более высокое положение в обществе, чем на родине. Система «подушного» жалования земли, согласно которой любой мог получить по 50 акров на каждого перевезенного им в колонию человека, была чрезвычайно удобной — в случае необходимости всегда можно было окружить себя «иждивенцами», просто-напросто подкупив их.
Для того чтобы приобрести в такой молодой, как Виргиния, стране силу и влияние, еще не было необходимости расталкивать локтями других. Если не удавалось возглавить уже сформировавшуюся общину, всегда можно было основать свою, новую. Многие влиятельные виргинские семейства ведут свое начало от простых торговцев или ремесленников—людей чрезвычайно талантливых, преуспевающих и удачливых; завладев обширными землями, они скоро смогли обеспечить себе стиль
125
жизни, вполне подобающий сельскому джентльмену. И хотя новоявленные помещики сознательно стремились подражать английским обычаям, их представления о благородстве в силу необходимости все еще оставались достаточно расплывчатыми и не такими жесткими. Эта текучесть общественных классов проявлялась по-разному. Какое-то время каждый белый колонист голосовал на выборах в палату граждан — имущественного ценза не существовало. Язвительный автор «Виргинского излечения» (Лондон, 1662) заявлял в этой связи, что палата граждан Виргинии редко принимает мудрые законы, поскольку большинство в ней составляют те, «кто переехал туда из бывших слуг, хотя и добившихся со временем своим прилежанием изрядных состояний, но все же неспособных по причине своей малой и посредственной образованности судить о благосостоянии церковных или общественных дел или же об изыскании средств к достижению благополучия оных». Пока основным источником пополнения рабочей силы оставались белые работники, отрабатывавшие ссуды своим трудом (приблизительно до 1700 года), путь наверх для удачливого или прилежного труженика еще оставался свободным, его не перегораживали никакие расовые барьеры. Таковы были безмятежные дни изначальной виргинской «демократии».
Но они скоро кончились. То сказочное положение, при котором любой человек мог стать джентльменом, развеялось как дым под давлением целого сонма обозначившихся в конце XVII века обстоятельств. «Ничто не привлекает к нам людей сколько-нибудь достойных, — отмечал губернатор Фрэнсис Николсон в своем докладе Совету торговли и поселений 2 декабря 1701 года. — Раньше достойные люди приезжали сюда, чтобы занять удобные земли; их привлекали к нам и наши довольно состоятельные вдовушки. Теперь вся или почти вся хорошая земля занята, а состоятельные вдовы или девушки с приданым достаются местным мужчинам, поскольку женский пол здесь начал проявлять что-то вроде отвращения ко всем другим, называя их чужаками».
Виргинское общество застывало. К1670 году по примеру Англии был принят закон, вводящий имущественный ценз: в число избирателей теперь входили лишь те, кто, «имея движимую или недвижимую собственность, в достаточной степени связан имущественными интересами с достижением всеобщего блага». Время шло, и право голоса ограничивалось все больше: теперь его лишались арендаторы и владельцы земли, обладающие своими наделами пожизненно; после 1699 года голосовать могли
126
лишь «свободные держатели земли» (фригольдеры), то есть те, кто владел землей без всяких ограничений. Чтобы голосовать за депутатов палаты граждан, отныне требовалось владеть одной сотней акров неосвоенной земли или же обрабатываемой плантацией площадью в 25 акров, на которой был выстроен дом. Избирательное право в Виргинии стало, следовательно, в своих основных чертах таким же, что и в Англии.
Произошло это не только потому, что все самые плодородные земли и богатые вдовы оказались занятыми и, таким образом, недоступными для случайно прибывшего в колонию иммигранта. Изменялся качественный состав работников. С1680 года в колонию во все возрастающем количестве стали ввозить негров-рабов; в 1701—1709 годах их доставили сюда шесть тысяч,что превысило число всех завезенных в колонию рабов за предыдущее столетие. На заре XVIII века рабовладение в Виргинии росло ускоренными темпами; негры-рабы вытесняли белых договорных работников и становились основным источником пополнения рабочей силы по причине довольно простой — на больших плантациях рабский труд считался более выгодным. Небольшие хозяйства стали испытывать все большие трудности, это сбивало приток в колонию белых работников, а уменьшение их числа в свою очередь приводило ко все возрастающей зависимости Виргинии от ввоза рабов.
Ближе к концу XVII века с каждым десятилетием незавид-ность положения мелких плантаторов становилась все очевиднее. Последовавшее после 1660 года ужесточение контроля за соблюдением Навигационных актов, призванных укрепить меркантилистскую структуру британской экономики, значительно сузило возможности колонии получать большую прибыль и существенно ухудшило положение всех классов колонистов. Хозяева небольших наделов не вылезали из долгов. Мятеж, который возглавил Натаниел Бэкон в 1676 году, отчасти возник из-за отчаянного положения мелких фермеров. Сам Бэкон заявлял, что они опутаны долгами, выплатить которые «нет никаких человеческих сил и возможностей». Примерно до 1660 года, отработав в услужении положенный срок, договорный работник освобождался, но не покидал колонию, а получал свой кусок земли, после чего мог с надеждой поглядывать на первую ступеньку социальной лестницы, ведущей вверх. Когда земли, выдаваемой таким работникам, стало не хватать, Генеральная ассамблея пошла даже на то, что время от времени (как, например, в 1627 году) выносила специальные постановления о выделении им участков. Однако в последние десятилетия XVII века
127
сбросившие кабалу люди чаще поглядывали на более плодородные земли, предлагавшиеся в некоторых других колониях.
Потому в начале XVIII века для большинства неимущих белых иммигрантов Виргиния стала лишь перевалочным пунктом, отсюда они продвигались далее: на юго-восток — к неосвоенным пограничным землям в Северной Каролине, на запад — за горные перевалы и на север — в Делавэр, Мэриленд и Западную Пенсильванию. Массовый исход из колонии беднейшей части белых поселенцев — предполагаемого славного йоменства Виргинии — тревожил многих виргинцев, хотя они никак не могли сойтись во мнениях относительно причин, его вызывающих. Незадолго до конца XVII века английская Торговая палата поручила губернатору Николсону выяснить, каким образом этот исход можно было бы остановить. Еще несколько десятилетий палата и губернатор обсуждали между собой, каким образом будущее йоменство Виргинии можно было бы в ней закрепить. Губернатор Николсон жаловался на колонии, предоставлявшие, подобно Пенсильвании, поселенцам особые льготы на своих шерстяных мануфактурах и в других отраслях, требующих квалифицированного труда. «Члены Совета и другие лица... в правительстве, — объяснял Эдвард Рэндолф в 1696 году, — время от времени предоставляли очень большие земельные пожалования: таким образом, в течение многих лет в колонии не оставалось свободной земли, которую могли бы взять люди, привозящие с собой слуг, или же сами слуги, честно отслужившие свой срок у хозяев; вся земля была распределена или закуплена оптом заранее». В 1728 году губернатор Гуч опроверг это объяснение, указав, что округ Спотсильвания, например, где земля распределялась большими участками, заселен плотнее, чем Браксвик, где мелкие наделы были многочисленнее.
Споры о причинах могли продолжаться сколько угодно, следствие в доказательствах не нуждалось: виргинцы к тому времени стали аристократами. Согласно Уэртенбейкеру, с начала XVIII века собственниками земли становились не более пяти процентов новоприбывших поселенцев. Большинство же семейств, которым предстояло править Виргинией позже в этом же столетии — Фитцью, Берды, Картеры, Уормли, Ли, Рэндолфы, Гаррисоны, Диггсы, Нелсоны и др., — заложили основу своих состояний уже давно: полученными до 1700 года обширными земельными наделами. Между членами «лучших» семейств постоянно совершались многочисленные браки, в результате чего к середине столетия вся власть и богатство ко
128
лонии сосредоточились в руках, вероятно, не более ста семейств.
Порядки виргинского общества этого времени стали странно напоминать образ жизни в английской провинции, хотя сходство это касалось больше формы, чем содержания. Казалось, что высадившиеся в Виргинии и захватившие ее землю семейства привезли с собой из Англии текст драмы, которая долго игралась там и которую теперь собирались ставить на американской сцене. Странная и в некоторых отношениях неподходящая труппа актеров исполняла старые английские роли: английского провинциального джентльмена (типа лорда Эффингема Бланка или сквайра Брауна из «Древних акров») играл теперь американский плантатор, английского крестьянина играл негр-раб, мажордома — белый надсмотрщик. Роли распознавались по броским, знакомым глазу чертам. Как и английский, виргинский провинциальный джентльмен ездил в карете, ел с серебра, снабженного вензелями, утвержденными английской Геральдической коллегией, разбирал в качестве мирового судьи дела, служил в приходском совете англиканской церкви, читал книги, подобающие джентльмену, и даже сдабривал свою речь или письмо греческой или латинской ссылкой. Неотесанного же негра-раба, которого отделяли от африканских джунглей всего одно или два поколения, учили играть роль крестьянина.
При схожести многих обстоятельств разница с Британской Вест-Индией была драматической и весьма существенной.В Вест-Индии хозяева редко проживали постоянно; на островах владелец земли обустраивал ее по испанскому образцу: плантации его представляли собой колонии рабов, которых держали в казармах и ежедневно выгоняли на поля, подобно тому как делалось это с индейцами на испанских encomiendas. И напротив, виргинец, подражавший английскому джентльмену,мог убедительно играть свою роль, лишь наделив соответствующей ролью и своего раба. «Ему полагалось жить в своем имении,—напоминает нам Джон Бассет, — он собирал вокруг себя рабов, знал их в лицо, лечил их, заключал между ними по своему усмотрению браки и добродушно наставлял и ругал каждого в отдельности». Своим образом жизни преуспевающий виргинский плантатор разительно отличался от праздного вест-индского землевладельца: он работал допоздна и управлял имением, входя во все мелочи хозяйства. Жена плантатора также несла особые и отнюдь не только декоративные обязанности хозяйки дома.
Новые виргинские порядки удивительно походили на староанглийские, что особенно касалось отношений между классами.
129
5-382
Прежде всего условия жизни в Америке, по-видимому, позволяли по-новому оценить на этой земле традиционные привилегии и развлечения английского джентльмена. Так, например, содержание оленьих заповедников было извечным атрибутом английской знати: охота на оленя и наказание браконьеров считались привилегиями высшего класса. Но на виргинских просторах XVII века олень не знал заборов, которыми огораживались благородные охотничьи угодья джентльмена. Рекламные проспекты типа «Нового описания Виргинии» (1649) или «Достоверного рассказа о Виргинии и Мэриленде» (1669) зазывали в колонию поселенцев сообщениями о первозданном изобилии там диких оленей и лосей. «Иногда можно видеть их целыми сотнями, — хвастался Уильям Берд еще в 1737 году. — Хотя они не такие крупные, как в Европе, их мясо гораздо вкуснее, и они упитанны и жирны круглый год». В символическом плане мало что было более значимо, нежели то обстоятельство, что в Америке показалось анахроничным само представление о браконьерстве.
Естественно, виргинское джентри не могло похвалиться такими древними регалиями, как оленьи заповедники. Но оно не замедлило придумать себе новые, по характеру более американские. Скачки, например, если и не были спортом королей, то предназначались исключительно для джентльменов. В 1674 году суд округа Йорк постановил:
На Джона Буллока, портного, который поставил в заезде с принадлежа-щей м-ру Мэтью Слейдеру лошадью на свою кобылу две тысячи фунтов табака с бочонком, в силу того что поступок его противен закону, запрещающему простому работнику участвовать в играх, предназначенных только для джентльменов, наложить штраф в одну сотню фунтов табака с бочонком.
Когда в 1691 году губернатор сэр Фрэнсис Николсон объявил о дне традиционных ежегодных скачек и о назначавшихся призах, он не забыл упомянуть при этом, что к участию в скачках допускаются только «виргинцы из лучших семейств».
Отмечались и другие факты, свидетельствующие о возникновении более жесткого классового расслоения. Даже негры, которые в конце XVII века считались «слугами» (и при этом не обязательно на всю жизнь), были постепенно низведены до положения пожизненных рабов. Всеобщее для всех мужчин в середине XVII века избирательное право ограничивалось шаг за шагом, пока требования к лицам, участвующим в голосовании, не стали к 1700 году, по существу, такими же, что и в метрополии.
130
18
ОТ ДЕРЕВЕНСКОГО СКВАЙРА ДО ПЛАНТАТОРА-КАПИТАЛИСТА
В Англии фигура джентльмена долго была окружена мифом. Однажды кормилица Якова I попросила короля сделать ее сына джентльменом. «Я моту сделать его лордом,—ответил король, — но не в моей власти сделать из него джентльмена». В Виргинии, как мы это видели, образ джентльмена также был окружен ореолом, хотя в отличие от Англии здесь за деньги создавались целые аристократические семейства. Колонисты Виргинии предвосхитили в этом грубое здравомыслие американцев по отношению к родовой знати. Когда фамильный герб покупается за наличные, скептического отношения ко всякого рода дворянским грамотам не избежать. В Америке общественное положение с совершенной очевидностью создавали деньги, и это развенчивало миф о европейской наследственной аристократии. В самом деле, если бедняк своими глазами видит, как покупают «лучшие люди» свои высокие титулы, то легко ли его заставить поверить в священную сущность дворянской грамоты, скрепленной печатью самого Господа Бога?
Предприимчивый дух дельца жил в Америке даже среди потомков закосневшей аристократии. К тому же самые влиятельные виргинские семейства — упомянув лишь немногие, можно назвать Ладвеллов, Спенсеров, Стеггсов, Бердов, Кэри и Чью — в недавнем прошлом происходили от торговцев. Более того, в силу сразу нескольких причин преуспевающий плантатор во многом и должен был оставаться торговцем, все время ищущим сферу приложения своего капитала. Во-первых, культура табака в колонии имела очень специфические особенности. Виргинцы не восполняли недостаток в почве азота и калия, высасывавшихся из земли побегами растущего табака; табак хорошо рос только на новой, девственной земле; как правило, второй урожай был самый лучший. Через четыре сезона землю, истощенную табаком, отдавали под кукурузу или под пшеницу, а в конечном итоге она и вовсе зарастала сосной, щавелем и осокой. При такой системе землепользования расчетливый плантатор осмеливался отдавать под табак только небольшую — скажем, десятую — часть всей обрабатываемой площади единовременно. Предусмотрительность диктовала свое: чтобы успешно вести хозяйство, требовалось постоянно прикупать к земле новые участки, поскольку каждый год плантатор, как говорили виргинцы, «приканчивал» землю. Скоро выражение «табачная зем
131
5*
ля» стало означать то же самое, что «новая земля». «Кислая» же земля, или «старые поля», предположительно отдавшие все, что можно было из них выжать, отводилась под строительство в приморских районах Виргинии школ или церквей. Таким образом, расчетливый плантатор не мог не быть одновременно и земельным спекулянтом, всегда готовым использовать любую открывающуюся возможность приобрести все новые и новые участки земли. Благодаря этому владения богатых плантаторов, постоянно увеличиваясь в размерах, очень часто меняли свое месторасположение и общую конфигурацию. Самые старые плантаторские усадьбы — Картеров, Рэндолфов, Бердов и др. — сохранялись, они становились родовыми гнездами, хранилищами семейной традиции, прочие же земли, из которых семейства черпали свое богатство, считались просто объектами капиталовложений, их забрасывали или обменивали после того, как они уже не сулили должной выгоды. Крупные плантаторы очень скоро обнаружили преимущества рабовладения: рабов можно было свободно перемещать с одного участка земли на другой, обещавший большую прибыльность. И — нет худа без добра — эта расточительная в целом система оказалась даже полезной, по крайней мере если рассматривать ее с точки зрения развития в колонии гражданских институтов: она подвергала состоятельных плантаторов — а они же были и политическими лидерами колонии — беспощадному испытанию на всегдашнюю мобильность и предприимчивость.
Второе, что способствовало распространению в среде плантаторов духа деловитости, а также во многом сформировало весь характер виргинской плантаторской системы хозяйства, — это отсутствие в колонии больших городов. «Обитатели этих мест живут особняком друг от друга, — отмечал французский путешественник Франсуа Мишель в 1702 году, — в стране нет деревень, потому что каждые двадцать или тридцать лет приходится осваивать новую землю». И это еще не все. Не меньшее значение имел характер местности. Прибрежная Виргиния, простирающаяся в юго-восточном направлении до Чесапикского залива, представляет собой низину, разрезанную на анклавы несколькими глубокими и судоходными реками: Потомаком, Раппаханноком, Йорком и Джеймсом. Каждый анклав в свою очередь покрыт мелкой венозной сетью речек, многие из которых были в то время достаточно полноводными и поддерживали судоходное сообщение с океаном. Все эти водные пути образовывали кровеносную систему хозяйственной жизни колонии. Вверх по рекам шли суда, набитые негра
132
ми-невольниками из Африки и Вест-Индии и одеждой, предметами домашней утвари и мебели из Лондона; вниз к океану спускались суда с грузом табака, взращенного на обширных плантациях Ли, Картеров и Бердов.
С коммерческой точки зрения города были бы излишеством. Каждый богатый плантатор имел собственную пристань. Табаковод грузил бочки со своей продукцией с собственного причала на борт судна, отправлявшегося к его личному агенту в Лондоне. Импортный товар он также принимал в своем собственном порту. Этим и объясняется отсутствие в Виргинии торгового центра; Виргиния не нуждалась в колониальный период в своем Бостоне или Филадельфии: вся ее коммерция была рассредоточена по частным складам, разбросанным там и сям на берегах рек. «Ни одна страна в мире не имеет столь причудливых водных сообщений, — излагал свои наблюдения Джон Клейтон в письме Королевскому обществу в 1688 году. — Но это удобство, которое может в будущем сделать ее, подобно Нидерландам, богатейшей провинцией во всей Америке, в настоящем сильно препятствует ее развитию, поскольку противодействует коммерции и торговле.Болыпое число рек и скудость населения затрудняет торговлю, разбрасывая ее по множеству мест. Все суда получают здесь свой груз на реках, располагаясь друг от друга отдельно на расстоянии в сотни миль, а вся торговля, какая есть, похожа на шотландскую мелочную, поскольку сюда приходится завозить все виды товаров, предлагая взамен только один. Это (то есть количество рек) и объясняет в основном, среди всего прочего, почему у них нет городов». Но почему, как бы возражают ему несколькими годами позже авторы «Нынешнего состояния Виргинии», должен плантатор-купец, вполне удобно расположившийся в своей местности и не испытывающий недостатка в покупателях, приглашать к себе конкурентов в лице городских купцов или же вообще менять свой образ жизни?
В эпоху, когда сухопутные средства перевозок еще находились в зачаточном состоянии, и в новой стране, где практически еще не существовало дорог, виргинские плантаторы и люди, покупавшие товары на их пристанях, должны были благодарить столь расположенную к ним природу. «По большей части дома они строят недалеко от пристани, — отмечал преподобный Хью Джоунс в 1724 году, — и любая вещь доставляется сюда из Лондона, Бристоля и из других мест с меньшими затратами и неудобствами, чем живущему в пяти милях от города англичанину. Здесь вы не оплачиваете доставку груза из Лондона и почти не оплачиваете ее из Бристоля; в благодарность сторона, которой
133
принадлежит груз, подряжается на перевоз табака тем же судном, направляющимся к своим владельцам в Англию».
Критики виргинских порядков не раз жаловались, что отсутствие в Виргинии городов привело в жалкое состояние ее культуру, религию и коммерцию. Изделия английских мебельщиков, по дешевой цене доставляемые прямо на плантации в трюмах судов, приходящих за объемистыми бочками табака, препятствовали развитию местных ремесел. В самом деле, легкость речных перевозок в немалой степени способствовала провинциализму мышления многих плантаторов. «Первоначально, — докладывал 1убернатор Спотсвуд в 1710 году,—люди селились по берегам больших рек; боязнь индейцев удерживала их от проникновения в глубь территории; они ничего ас знали о земле, расположенной за пределами их собственна:: плантаций, не получали они и никакой иной корреспондент., кроме как водным путем». Поощрение «сосуществования» в городах, заявляли критики, способствовало бы становлению более высоких форм цивилизации. Некоторые предлагали принять соответствующие законы: установить для городских жителей налоговые льготы и изыскать другие способы, которые могли бы сделать жизнь в городах более привлекательной. Тем не менее все меры подобного рода оказались неудачными: природа местности настояла на своем. До последних десятилетий XVIII века коммерческая жизнь Виргинии — со всеми сопутствующими ей коммерческими преимуществами — так и оставалась разбросанной: коммерцией занимался только каждый богатый плантатор в отдельности и совершенно независимо. А так как города за это время в Виргинии так и не выросли, то виргинскому сельскому джентльмену приходилось в большей мере, чем его английскому собрату, овладевать чисто городскими навыками и талантами: предприимчивостью, умением вести жесткий торг, способностью мгновенно оценивать возможные выгоды или убытки.
В отличие от деревенского хозяйства многих английских джентльменов табаководство не вписывалось в систему традиционной натуральной экономики; оно поставляло товар с целью извлечения прибыли. Расходы плантатора на приобретение рабов, земли и инвентаря покрывались за счет больших займов наличными деньгами. Бухгалтерские книги Джорджа Вашингтона и многих других плантаторов рассказывают довольно грустную историю. Виргиния — это колония, основанная «на дыме», как жаловались некоторые; потому Джефферсон, подобно другим до него, выступал за большую диверсификацию экономики. И
134
все же, как заявляют некоторые историки, плантаторская система в том виде, в каком она существовала на Вест-Индских островах и в Виргинии, была со времен Римской империи первым большим экспериментом ведения коммерческого крупномасштабного сельского хозяйства.
Английский сельский джентльмен традиционно интересовался делами своей фермы. Даже лицо столь значительное, как восьмой герцог Девонширский (несколько десятилетий спустя), испытал «самый торжественный момент жизни», когда его свинья получила первый приз на Скиптонской ярмарке. Богатый виргинский плантатор не довольствовался призами на местных ярмарках. Его табак конкурировал на взыскательном мировом рынке, и табаководу приходилось зорко следить за стоимостью сотни различных вещей. Когда месье Дюран де Дофине в 1686 году посетил Роузгилл, великолепное имение Уормли, то сначала подумал, что вступает на территорию «весьма обширной деревни». Жизнь огромной плантации далеко превосходила все, что можно было увидеть в обычном деревенском хозяйстве. По плантации сновали сотни рабов, белых ремесленников, надсмотрщиков, стюардов и торговцев: они выращивали на продажу табак и продукты питания, изготовляли инструменты, сельскохозяйственные орудия и одежду для себя и для местного и иностранного рынка, куда эти изделия нередко доставлялись в трюмах собственных судов плантатора. Виргинская плантация больше походила на современный перенесенный в XVIII век «город при компании», чем на идиллическую деревню. Чтобы править этим маленьким миром сельского хозяйства, торговли и ремесла, требовалось обладать крепкой деловой хваткой и большим запасом практических знаний. Широта и универсальность, особенно впечатляющие в людях типа Уильяма Берда и Томаса Джефферсона, были свойственны многим богатым и преуспевающим виргинским плантаторам XVIII века: они интересовались естествознанием, достаточно хорошо разбирались в медицине и в механике, ориентировались в метеорологии и считали своим долгом знать юриспруденцию. Как ошибочно объяснять эту чисто практическую необходимость приобретения знаний влиянием абстрактных учений и весьма отдаленным примером европейского Просвещения! Интеллектуальный кругозор плантатора объясняется просто — достаточно взглянуть на список проблем, которые он решал в своей обыденной жизни.
Порожденная всеми этими условиями каста людей, хотя и имела достоинства чисто американские, в основе своей все же оставалась аристократически-элитарной. Конечно, виргинский
135
джентльмен был инициативнее в делах, не боялся запачкать руки трудом, зорко следил за балансом доходов и расходов, мыслил более по-капиталистически, а его интеллектуальные интересы были более разносторонними. Но при всем этом он оставался членом маленького привилегированного класса. Основы этого класса были заложены давно и прочно — еще до начала XVUI века. Полковник Роберт Куорри докладывал лордам торговли в 1704 году, что на каждой из четырех больших рек Виргинии проживают от десяти до тридцати поселенцев, «своим прилежанием и успешной торговлей составивших себе изрядные состояния». К середине века число таких людей возросло, причем среди них появились и «выскочки» типа Джефферсонов или Вашингтонов. Однако сам этот процесс увеличения числа богатых плантаторов в то же время десятикратно "пожил количество разорившихся средних и мелких хозяе» Между состоятельными семействами и всеми другими пролегала пропасть, которая никогда не была такой глубокой, как около 1750 года.
Пора расцвета табачной аристократии в Виргинии — а это как раз несколько десятилетий в середине XVIII века—совпала с периодом юности почти всех виргинских вождей Революции и тех, кому предстояло в будущем составить «виргинскую династию» в молодом федеральном правительстве. Вашингтон родился в 1732 году, Монро, последний из группы виргинских лидеров, — в 1758-м. Биографии и письма этих людей приоткрывают завесу, за которой скрыта от нас жизнь породнившихся между собой «четырех сотен». Когда тубернатор Александр Спотсвуд докладывал 9 марта 1713 года государственному секретарю, что ему удалось наконец заполнить три вакансии в Губернаторском совете подходящими людьми «честных и лояльных принципов, хорошего происхождения и довольно состоятельными»,он пожаловался, что не мог, кроме них, найти никаких других, вполне соответствующих должности. Все другие подходящие люди уже занимали в системе управления выгодные места «или же... связаны родственными узами с одной семьей (Бурвеллами), которая и без того уже имеет своих горячих сторонников — большую часть членов настоящего Совета». В перечне лиц (всего 91 человек), назначенных в Губернаторский совет в период с 1680 года до начала Революции, обнаруживаются только 57 разных фамилий, при этом девять фамилий составляют почти треть списка, а четырнадцать других — еще почти одну треть. Четыре члена Совета носили фамилию Пейдж, и еще на каждую из следующих: Бурвелл, Берд, Картер, Кастис, Гаррисон, Ли, Ладвелл и Уормли — приходилось по
136
трое государственных деятелей. Каждый член Совета, как правило, занимал не одну, а несколько должностей. «Множество мест, которые занимают члены Совета, — жаловались тогда, — приводит к большой неразберихе, особенно в тех случаях, когда занимаемые одним лицом должности несовместимы: случается, что сборщики налогов обязаны информировать самих же себя как лиц, занимающих судебную должность, об обнаруженных недоимках; бывает также, что достойные советники разбирают и ревизуют собственные счета». Монополия на должности не ограничивалась рамками Губернаторского совета: на местах влиятельный плантатор мог одновременно исполнять должности члена приходского совета, мирового судьи, командира местной милиции и депутата палаты граждан.
Немногие сохранившиеся письма Томаса Джефферсона времен его юности (написаны между 1760 и 1764 годами), содержащие почти все, что нам известно о нем из первых рук в возрасте до 21 года, читаются как страницы светской хроники: имена, которые можно было бы подписать под этими живыми картинами, почти без исключения принадлежат «лучшим» виргинским семействам. Ребекка Бурвелл, первая романтическая любовь Томаса, — из той же семьи, что заправляла Губернаторским советом пятьюдесятью годами раньше. «Дорогой Уилл, — пишет Джефферсон молодому Флемингу, — я придумал самый восхитительный план жизни, какой только можно себе вообразить. Ты обменяешь свою землю за Эджхиллом,или же я свою— за Фэрфилдзом, там женишься на С[аки] П[оттер], а я — на Р[ебекке] Б[урвелл], мы вместе купим коляску, заведем пару резвых лошадок, будем выступать в одних и тех же судах и посещать балы, разъезжая по всей округе. Как тебе это нравится?» В письмах этого молодого светского льва множество раз повторяются имена Пейджей, Маннов, Картеров, Нелсонов, Ли, Блэндов и Йейтсов: ни одно из них нельзя исключить из метрической книги высшего света Виргинии.
Мир 1760-х, 50-х и 40-х годов не отделен стеной от 1776 года. Образ мысли людей середины века, не претерпев особых изменений, перешел к более позднему поколению. И чем глубже мы проникаем в жизнь и обычаи Виргинии той эпохи, тем яснее видим преемственность, связывавшую поколение людей, делавших Революцию, с их отцами и дедами. Чем больше мы убеждаемся в местной генеалогии их идей, тем меньше надобности искать их корни в космополитической родословной философии или интерпретировать эти идеи как настроения, не имевшие постоянного места жительства, а просто «витавшие в
137
воздухе» в ту эпоху по всему свету. Идеи Революции в этом случае уходят своими корнями в обыденную жизнь. Философы европейского Просвещения, которых вытащили на суд истории в качестве предполагаемых отцов Американской революции, тогда окажутся неуместны на этом суде точно так же, как преступные кузены, появляющиеся на сцене в последнем действии плохой детективной драмы. Полностью раскрывшиеся в Революцию побуждения и образ действий людей, ее совершавших, начали формироваться еще очень задолго до нее — столетием раньше в условиях каждодневной жизни Виргинии.
19
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЖЕНТРИ
Было бы большой ошибкой полагать, что высокая гражданская культура виргинцев никак не связана с той благоприятной обстановкой, которую создала для себя в Виргинии ее правящая элита. Лишь благодаря современному искаженному восприятию политические институты колониальной Виргинии превратились в зачаточную форму уравнительной демократии. Опасения Джорджа Вашингтона относительно утраты англичанами их начал самоуправления и личных прав были, несомненно, вызваны его ориентацией на исконно виргинские политические традиции середины XVIII века, поскольку он и не знал никаких иных. Эти традиции породили в Виргинии институт представительной формы правления, отражавшей интересы местной элиты, чисто аристократические добродетели которой питали корни американской представительной формы правления. И эти корни, таким образом, уходят в седую старину — в «золотой век» Виргинии.
Никогда еще правящий класс не относился к своим общественным обязанностям с большей серьезностью: власть обязывала управлять. При всех ограничениях избирательного права, сохранявшихся в течение всего колониального периода, в Виргинии вместе с тем существовал закон обязательного голосования для тех, кто правом голоса обладал. В немногих других колониях закон наказывал полноправного избирателя за неявку на выборы и, хотя не совсем ясно, в какой степени это уложение применялось на практике, сохранение этого закона с первых дней колонизации вплоть до послереволюционной поры в полной мере убеждает: участие в государственной жизни колонии считалось там гражданским долгом. И если от
138
обычного избирателя требовалось лишь отдать свой голос, то на людей, обладавших большим весом в обществе, возлагалось более тяжелое бремя власти. Когда Джефферсон в 1781 году при весьма печальных для него обстоятельствах тосковал по «независимой частной жизни», он выразил этим желание свободы, разделявшееся представителями многих влиятельных виргинских семейств.
На владельца большой плантации возлагались широкие и разнообразные обязанности управления хозяйством, не исполнять которых он не мог: он разбивал сады, определял сроки посева и уборки табака, доставал материалы для изготовления обуви и одежды, следил за здоровьем своих рабов. В равной мере не мог он уклониться и от исполнения своих общественных обязанностей. Преуспевающий плантатор, таким образом, волей-неволей вырабатывал у себя навыки командования. Потому он приступал к управлению делами колонии с той же самоуверенностью, которую проявлял, занимаясь собственным хозяйством. Его плантация была Виргинией в миниатюре, а вся Виргиния — одной большой плантацией. И той и другой следовало управлять, проявляя чувство такта, твердость и благоразумие. И как на плантации, так и во всей Виргинии почетная обязанность принимать решения возлагалась на тех, чьи ставки в игре были самыми большими.
Список состава палаты граждан — это перечень фамилий самых крупных плантаторов. Отбор производился жесткий: путь политической карьеры от мирового судьи или члена приходского совета до должности в Губернаторском совете строго охранялся на всем его протяжении бдительным местным джентри.Не получив его одобрения, рассчитывать на успех было делом безнадежным. И палата граждан, приобретавшая все большее влияние в колониальный период и в конце концов подчинившая себе и губернатора и его Совет, была не чем иным, как политическим собранием правящей аристократии. В палате принимались основные решения о ценах на табак, о его качестве, налогообложении, образовании, религии, отношениях с индейскими племенами. И здесь же обучались политической науке и проверялись на деле люди, которых продвигали на высшие должности. Свободные держатели земли (фригольдеры) избирали депутатов палаты, но только сами депутаты обладали властью продвигать кого-либо из виргинцев на наиболее высокие должности, с величайшей добросовестностью просеивая сквозь свое сито всех лиц высшего сословия,пригодных выполнять задачи управления колонией. И хотя
139
палата насчитывала в середине XVIII века менее сотни мест, все выдающиеся виргинцы того столетия прошли в ней свою школу.
Мнения депутатов сталкивались не столь сильно, как можно было бы предположить; их дискуссии мало напоминают дебаты современных законодателей. Принципиальные противоречия возникали — о том красноречиво свидетельствуют годы открытого конфликта по поводу Акта о гербовом сборе, — однако политические разногласия еще не расходились по закосневшим партийным линиям. В пору становления новой формы правления виргинцы еще не усвоили идею возможного разделения на политические партии. XVIII век уже перевалил за половину, а они, как кажется, становились лишь уступчивее и единодушнее и охотно признавали лидерство людей самой разной политической ориентации. Примером тому могут служить выборы в 1774 году делегатов на первое континентальное собрание, когда, заседая уже в качестве Виргинского съезда, палата избрала Пейтона Рэндолфа, Ричарда Блэнда и Эдмунда Пендлтона — депутатов, проявивших себя в дебатах из-за Акта о гербовом сборе явными консерваторами, и одновременно их оппонентов— Ричарда Генри Ли и Патрика Генри.
Особенно характерной чертой правящего класса Виргинии было отношение его к государственной должности. Виргинская элита считала должность своей собственностью. В годы Революции и в первые десятилетия независимости депутаты палаты граждан сами назначали (почти исключительно из своего состава) всех губернаторов, членов Совета, судей, офицеров и делегатов в федеральное собрание.Депутаты хорошо знали всех представителей господствующего класса и распределяли между ними почетные права и обязанности с впечатляющей, если и не всегда непогрешимой, мудростью.
Компанейски уютное существование, которое устроил для себя виргинский правящий класс, конечно же, имело и менее привлекательные стороны,что особенно ясно показывает нашумевшее «дело Робинсона». Вряд ли современный газетчик смог бы изготовить материал более сенсационный, чем просто голые факты. Когда Джон Робинсон, спикер и казначей палаты, отошел в мир иной, «Виргиния газетт» (от 16 мая 1766 года), издававшаяся Пэрди, простодушно объявила его кончину «несчастьем, которое должно оплакиваться всеми бедствующими и неимущими, кого не раз спасали и ободряли его человечность и великодушие». Масштабы неслыханной щедрости Робинсона, о которых, конечно же, догадывались задолго до
140
этого, по-настоящему открылись только после того, как его душеприказчики стали подводить баланс его доходам и расходам. Тут они выяснили, что Робинсон в бытность хранителем общественной казны изъял из нее 100 761 фунт 7 шиллингов 5 пенсов, каковые одалживал своим многочисленным друзьям. Суммы займов были различными: от 14921 фунта, выданного Уильяму Берду-третьему (не унаследовавшему деловой хватки предков и к тому же неудачливому в карточной игре), 6274 фунта —Льюису Бурвеллу, 3848 фунтов—Картеру Брэкстону, 3975 фунтов— Арчибальду Кэри и до 12 фунтов—Ричарду Генри Ли и 11 фунтов — Патрику Генри. Члены Губернаторского совета задолжали Робинсону в общей сложности около 16 000 фунтов, а депутаты палаты граждан — более 37 000 фунтов. Душеприказчик Робинсона Эдмунд Пендлтон, потративший лучшие годы своей жизни на приведение в порядок финансовых дел покойного, был сам осчастливлен им на сумму в 1020 фунтов. По мере того как вскрывались новые факты,становилось все более очевидным,что вряд ли нашлось бы хоть одно известное виргинское семейство, не воспользовавшееся великодушием, которое Робинсон проявлял к своим ближним, запуская руку в общественную казну. Сеть задолженности опутывала всю Виргинию: этим и объясняется, вероятно, то сдержанное отношение депутатов, которое они проявляли в течение многих лет к идее разделения должностей спикера палаты и казначея колонии и к предложениям провести полную ревизию ее финансов. Приятный во всех отношениях Робинсон сделал из общественной казны кассу взаимопомощи для правящей клики.
Две особенности дела просто бросаются в глаза и, как кажется, дают верный ключ к пониманию жизни и обычаев тогдашних правителей Виргинии. Первое — Робинсон ни разу не воспользовался казенными средствами ради личной выгоды (если, конечно, не считать таковой естественную благодарность со стороны друзей). Второе — когда факты махинаций стали известны, влиятельные члены палаты даже не подумали обвинить покойного в нечестности; напротив, они чуть ли не воздавали ему хвалу за избыток общественной добродетели. Когда Роберт Картер Николас (преемник Робинсона на посту казначея) заикнулся все же о некотором нарушении законности, его тут же осудили, после чего он счел своим долгом объявить, что Робинсон раздавал деньги, «руководствуясь в своих поступках ошибочными представлениями о милосердии и сочувствии к попавшим в беду людям». Общие чувства выразил тубернатор Фокье, когда, выслушав отчет Пендлтона,
141
сказал: «Что ж, такова была чувствительность его чрезмерно щедрого на доброту сердца». Как бы мы ни оценивали поведение Робинсона, его история в полной мере раскрывает нравы общества, власть в котором принадлежит немногим привилегированным лицам.
Обладание властью накладывало иногда довольно обременительные обязанности. Почти с момента своего зарождения палата граждан требовала присутствия депутатов на открытии каждой сессии. На члена палаты, не явившегося на общий сбор, накладывался, в соответствии с Актом 1659 —1660 годов (и последующими подтверждающими его постановлениями), штраф в 300 фунтов табака за каждые двадцать четыре часа отсутствия без уважительной причины. На первом заседании спикер обычно зачитывал письма, в которых объяснялась неявка того или иного депутата, после чего палата либо принимала эти объяснения, либо отвергала их. Нередко — как, например, в случае с Джеймсом Бреем в 1691 году — присутствующие бывали столь оскорблены самим объяснением, что спикер палаты тут же выписывал ордер на арест провинившегося и его держали под стражей до тех пор, пока он не приносил должных извинений. Некоторые процедурные моменты на открытии сессий — такие, например, как выборы спикера палаты, — требовали личного присутствия каждого депутата, но палата не отличалась особой снисходительностью и к пропускам обычных заседаний. Незадолго до конца XVII века штраф за отсутствие на заседании, равнявшийся двум шиллингам и шести пенсам, был увеличен до стоимости одной бочки табака. Когда во время сессии 1684 года пять депутатов не подали голоса на перекличке и, как при этом выяснилось, уехали без разрешения домой, собрание тут же вынесло резолюцию, приказывающую шерифам соответствующих округов наложить на каждого из разгильдяев штраф в одну тысячу фунтов табака.Они не были допущены к работе палаты, пока не извинились.
Палата граждан издавна (по крайней мере с 1666 года) не признавала права отзыва законно избранного депутата: он не освобождался от своих обязанностей даже в том случае, когда избиратели его округа подавали в палату соответствующий официальный запрос. Порядок этот просуществовал долго, он действовал и в XVIII веке и сильно усугубил печальное положение Джефферсона, когда в мае 1782 года, сразу же после того, как он из-за всеобщего недовольства подал в отставку с поста губернатора Виргинии, население округа Албемарль избрало его своим депутатом в палату. Устав от службы, пере
142
живая острую боль от неблагодарности общества, Джефферсон хотел отказаться от этой чести. Когда он послал свой отказ Джону Тайлеру, спикеру палаты, ответ не заставил себя долго ждать: в нем достаточно зловеще сообщалось: «Конституция, по мнению членов палаты, не позволяет принять вашу отставку». Одновременно Тайлер предупреждал, «что достойным и способным людям лучше управлять, чем быть управляемыми, поскольку вполне возможно и,более того, весьма вероятно, что места способных и достойных граждан в том случае, если они удалятся от общества, займут и будут на них преуспевать продажные и невежественные люди». В конце Джефферсон получал прямой приказ «обеспечить явку, не навлекая на себя санкции ареста».
Депутаты палаты граждан, конечно же, избирались. Выборы, хотя и были менее продажными и больше поощряли политические способности, во многом напоминали английские парламентские выборы того же периода. И, естественно, они не имели ничего общего со свободным для всех выбором, позволяющим любому честолюбивому молодому человеку испытать свое счастье на политическом поприще; процедура избрания в палату граждан прежде всего выявляла предпочтение, которое оказывалось фригольдерами одному из немногих джентльменов.' И хотя теоретически право быть избранным не обусловливалось более жестким цензом, чем право голоса, кандидатами в депутаты на практике оказывались только представители джентри.
Выборы происходили в непринужденной обстановке, всячески подчеркивавшей щедрость кандидатов и самостоятельность выбора фригольдеров: в сущности,они представляли собой довольно странное смешение мероприятия и праздника. Красноречие в такой кампании, по-видимому, значило немного; только самый вздорный или же совсем бестолковый кандидат вздумал бы изливать свое красноречие перед соседями, знавшими его с детства. Крайне редко происходило и открытое обсуждение «программ», хотя даже самый известный кандидат не мог надеяться на победу, не потолкавшись как следует среди своих избирателей. Обычай запрещал вымогать голоса или даже голосовать за самого себя, а партийные организации еще не существовали. Предполагалось, однако, что кандидат должен использовать косвенные (чаще всего гастрономические) методы агитации; никто не мог надеяться на успех, не угостив как следует голосующих. Обилие поданного ромового пунша, имбирного печенья и жаркого из говядины или свинины убеждало расчетливых избирателей, что их кан
143
дидат располагает достаточным великодушием и весом, чтобы достойно представлять их на Ассамблее. Угощение избирателей стоило недешево. Сэмюел Овертон из округа Ганновер оценивал стоимость двух своих избирательных кампаний в 75 фунтов;расходы Джорджа Вашингтона, когда он баллотировался в депутаты палаты граждан, ни разу не составляли менее 25 фунтов, а в одном случае — и все 50. Такие деньги в несколько раз превышали сумму, нужную для покупки дома и земли, обеспечивавших колонисту право голоса. Виргинские уложения, конечно же, запрещали «прямо или косвенно» предоставлять избирателям «деньги, мясо, вино... подарки, подношения, награды или угощения... для того, чтобы обеспечить себе избрание, или же в благодарность за избрание депутатом в Генеральную ассамблею», но этот закон, по-видимому, применялся редко. Общепризнанная репутация гостеприимного хозяина всегда была хорошей защитой от возможных обвинений в подкупе избирателей.
Голосование проходило в здании суда округа или же, в хорошую погоду, на лужайке перед ним. От современных выборов в Америке оно отличалось в основном лишь публичностью, в которой осуществлялся выбор каждого избирателя, и, естественно, вытекающими из нее изъявлениями благодарности или же холодного отчуждения. Как правило, кандидаты сами присутствовали на выборном пункте. За столом сидели шериф, кандидаты и служащие (по одному на каждого кандидата). Избиратели по одному подходили к столу и объявляли свой выбор, что тут же заносилось на бумагу, подобно тому как это делается на боксерском матче при подсчете очков. Поскольку все присутствующие были в курсе того, как идет голосование и каким может быть итог, кандидат имел возможность в последнюю минуту послать своих сторонников за недостающими голосами. По мере того как каждый голосующий объявлял свое предпочтение, слышались возгласы одобрения с одной стороны и недовольный гул голосов с другой, и, в то время как положение кандидатов относительно друг друга менялось, зрители делали новые ставки. Кандидат, в пользу которого высказывался тот или иной избиратель, обычно вставал, кланялся и выражал ему свою благодарность: «М-р Бьюкенен, я навсегда сохраню в своей памяти то доверие, которое вы оказали мне. Я буду дорожить им, как пером на моей шляпе, вечно». Выражение личной признательности кандидата голосующим стало со временем обычаем столь нерушимым, что в редких случаях, когда кандидат не мог при
144
сутствовать на выборах сам, он посылал кого-то из друзей свидетельствовать свое почтение. Когда во время выборов 1758 года Джорджа Вашингтона, командовавшего тогда милицией округа Фредерик, задержали в форте Камберленд военные дела, его друг Джеймс Вуд, самый влиятельный человек в округе, сидел на выборном пункте за него и благодарил каждого избирателя в отдельности за одобрение деятельности отсутствующего полковника. Меньше практиковалось голосование поднятием руки, возгласами одобрения или другими такими же неформальными проявлениями своего отношения к кандидату.
Контроль за выборами со стороны джентри отнюдь не сводился к усилиям расположить к себе избирателей. Ведь из среды джентри избирался шериф, а шериф заправлял выборами. Он решал, отвечает или не отвечает тот или иной колонист условиям, дававшим ему право голосовать, он устанавливал дату выборов, определял время начала и окончания подачи голосов. Опротестовать решение шерифа можно было только в палате граждан, а та всегда с крайней неохотой шла на отмену решений местных властей.
«Джентльмены-фригольдеры! — возглашал наконец шериф с крыльца здания суда. — Входите в суд и голосуйте, кто еще не голосовал! Голосование закрывается!» Иногда подача голосов заканчивалась уже к двум часам пополудни, но,если шериф считал, что еще многих избирателей задержали в пути «дождь или разливы рек», он мог продлить голосование до следующего дня. Какой современный кандидат в депутаты не позавидует возможности виргинского джентльмена отложить окончание выборов до поры, когда он наберет достаточное количество голосов!
Виргинский закон позволял джентльмену-фригольдеру голосовать в том округе, где он владел недвижимостью, обеспечивающей ему право голоса. Если джентльмен имел право голоса в трех округах, он мог голосовать без исключения за все три квоты кандидатов во всех трех округах. И поскольку каждый человек мог представлять в палате любой округ, в котором он мог голосовать, это еще больше расширяло возможности богатых плантаторов. Они всегда могли выбрать место, где их шансы на победу оказывались наилучшими. Многие известные виргинцы, и среди них Джордж Вашингтон, Патрик Генри, Джон Маршалл и Бенджамин Гаррисон, использовали свои богатые и широко разбросанные по колонии земли в целях достижения чисто политического успеха.
145
20 РЕСПУБЛИКА СОСЕДЕЙ
Виргинский республиканизм имел отчетливо аристократический характер, потому Джефферсон и Вашингтон больше, чем их достопочтенные современники из других областей страны,верили в представительную форму правления. У выходцев из других колоний — Джона Адамса,Александра Гамильтона и Гувернера Морриса — понятие «народ» прямо ассоциировалось со стихией городской толпы, с «большим зверем». И напротив, в «республиканской» форме правления виргинцы узнавали свою привычную, хотя и сложно уравновешенную, систему традиционных отношений. 1
Современный историк, которому захотелось бы представить избирательную систему Виргинии в виде аллегории, вряд ли справился бы с задачей успешнее, чем сделал это Роберт Ман-форд из Мекленбурга, написавший в 1770 году комедию в трех актах под названием «Кандидаты, или Нравы виргинских выборов». Возможно, в этой маленькой пьесе впервые отчетливо отразилось типично американское отношение к политике как к состязанию. Изображенная в пьесе небольшая группа избирателей играет на выборах пассивную и добродушную, но отнюдь не глупую роль. Все действующие лица, включая кандидатов, уверены в способности избирателя здраво судить о человеческой натуре; по их мнению, избиратель вполне в силах разгадать истинную сущность претендента на выборную должность — расчетливого, честолюбивого или своекорыстного.
Вероятный. Ну, кажется, я прощупал настроения всех уважаемых людей округи; их симпатии — на стороне Достойного и моей. Важничающий и Неуверенный так очевидно льстят, так суетятся в погоне за каждым голосом, что скоро, я надеюсь, их будут единодушно и искренне презирать.
Стремясь к победе, честный кандидат Не станет уверять, что будет рад, Кто б ни был избран. Но, любим судьбою Иль нет, всегда пребудет сам собою. Глупец же, домогающийся чести, Всех оглушить готов потоком лести, Шумит, кричит, из кожи лезет вон... И что же? По заслугам — побежден.
Само собой разумеется, джентльмены-фригольдеры проникаются здоровым отвращением к Важничающему, Неуверенно
146
му, а также богатому гуляке Подвыпившему, испытывая по ходу действия все большее уважение к Вероятному и Достойному.
Достойный. Я мало склонен к выборным должностям. Ты, Вероятный, знаешь, что я не стремлюсь к популярности и что никогда я не обхаживал людей в надежде получить тот утомительный пост, который они теперь взвалили на мои плечи.
Вероятный. Охотно верю. Твоя нелюбовь к выборным должностям берет начало в твоей привязанности к теплу и уюту домашнего очага, а эта привязанность в тебе ничуть не меньше, нежели в любом другом человеке. Но, сэр, долг каждого способного на то человека — служить своей стране, с честью и терпением нести возложенное на него бремя.
Хорошо смазанная машина аристократической власти отнюдь не противодействует в пьесе народному волеизъявлению, напротив, она уберегает народ от ошибок: в конце концов, шериф всегда на месте, чтобы вовремя закрыть голосование. Рассудительные соседи под одобрительные возгласы в конечном счете избирают двух способных кандидатов. Разве это не счастливое свидетельство того духа независимости, радуется Вероятный, который столь приличествует виргинцам!
Описанные в пьесе обычаи виргинского сельского общества породили независимость поведения самих депутатов палаты граждан. Аристократически-сословный характер выборов — и,в частности,наследование должностей в палате членами влиятельных виргинских семейств, самоуверенность и обеспеченность крупных плантаторов — во многом обусловил независимость и здравомыслие депутатов. Становясь законодателями, они редко оглядывались назад, ловя одобрительную улыбку или же признаки недовольства своего избирателя.Этим они резко отличались от нынешних представителей, чье поведение зачастую зеркально отражает желание тех, кто за них голосовал.
В то время в Виргинии считалось неоспоримой истиной, что обладающие реальной властью плантаторы из хороших семейств имеют неписаные права на членство в палате граждан при условии, конечно, если они пользовались уважением у своих менее состоятельных соседей. «Между различными слоями общества, — отмечал Джон Ф.Д.Смит уже во времена Революции, — здесь гораздо больше различий, чем во всех остальных колониях Америки; не столь сильно выражены в Виргинии и дух равенства и уравнительный принцип, захватившие ныне почти всю страну». Занятого своими делами богатого плантатора от того, чтобы баллотироваться в депутаты палаты граждан, отвра
147
щала не столько возможность его доизбрания, сколько гарантированная победа.
Защищенность положения депутатов способствовала деловому обсуждению их мнений в палате — в этом современные законодатели могли бы виргинцам только позавидовать. Депутаты палаты граждан приближались к идеалу народного избранника, каким его мыслил Эдмунд Берк: эти люди повиновались не избирателям округа, а своим суждениям и принципам. Виргинские избиратели обладали влиянием как раз достаточным для того, чтобы предотвратить безответственное поведение депутата, и в то же время недостаточным,чтобы сделать из депутата послушное орудие, исполнителя их желаний. Это неустойчивое равновесие обеспечивало действенность законодательства. В «Кандидатах» Манфорда положительный м-р Вероятный делает все от него зависящее, лишь бы не пообещать избирателям всего того, чего они от него хотят, — в самом деле, зачем бы он был нужен народу, если бы народ до предпочитал его суждения своим собственным? Наиболее впечатляющий пример такой берки-анской независимости был продемонстрирован в 1788 году на сессии Виргинского конвента, собранного для ратификации новой федеральной конституции. Тогда по крайней мере восемь депутатов проголосовали за новую форму правления наперекор воле своих избирателей.
Атмосфера в виргинской палате граждан сильно отличалась от порядков, царящих в современных законодательных собраниях штатов. Это лишь частично объясняется различным уровнем одаренности депутатов. Серьезность, мудрость, открытость и здравомыслие, проявленные виргинцами в решающие годы обсуждения в палате Акта о гербовом сборе — то есть во время тех самых «убийственных дебатов», которые Джефферсон, тогда еще студент колледжа, слушал, стоя в дверях заседаний, — не были прямым следствием ни величия виргинцев как политиков,ни чрезвычайной важности обсуждаемых вопросов. Просто эти люди не хотели потакать капризам избирателей и говорили от своего собственного имени. Их речи складывались из серьезных и иногда довольно тонких доводов, приводимых ради убеждения собратьев-депутатов. В дискуссиях законодателей-виргинцев отсутствовали не относящиеся к делу, бессвязные, путаные, хотя иногда и забавные рассуждения, которыми столь изобилуют ныне стенограммы заседаний конгресса и законодательных собраний штатов. В те дни обсуждению законов (по крайней мере в Виргинии) отводилось гораздо больше времени, чем ответам на письма изби
148
рателей, сенсационным заявлениям в комиссиях или же поискам служебных мест для своих верных сторонников. Может быть, американский фольклор не так уж преувеличивает, утверждая, что по сравнению с современными законодательными собраниями штатов палата граждан Виргинии выглядела как заседание богов на Олимпе.
Самое главное — люди серьезно разговаривали друг с другом; цветистая фраза в таком разговоре значила немного. За редкими и потому особенно бросающимися в глаза исключениями, такими, например, как Патрик Генри, виргинские депутаты предпочитали трезвый тон обычной деловой беседы. Вероятно, трудно отыскать в истории другой такой же представительный орган законодательной власти, где ораторское искусство ценилось бы меньше. В непринужденной атмосфере палаты граждан, которую любой посетитель колониального Уильямсбурга может ощутить и поныне, убедительность аргумента значила очень много, демагогия же была попросту бессмысленна. Джефферсон не отличался красноречием, что позже заставило его писать ежегодные послания конгрессу, а не произносить свои речи лично; Вашингтон и Мэдисон вряд ли были ораторами лучшими, чем он; такие известные депутаты палаты, как Ричард Блэнд, Пейтон Рэндолф и Джон Робинсон, владели устным словом весьма посредственно. Палата граждан (подобно ее английскому аналогу — палате общин) была клубом избранных, где джентльмены серьезно обсуждали свои общественные заботы.
Виргинией правили собственники. В колонии не было ни одной состоятельной семьи, члены которой не заседали бы в Губернаторском совете, палате граждан, суде округа или в каком-нибудь другом представительном органе; в то же время в колонии не было ни одного правительственного органа, в котором не доминировали бы собственники. Люди, владевшие собственностью, должны были обладать, и действительно обладали, наиболее полной информацией о всех крупных хозяйственных и политических проблемах своего общества: они знали все о ценах на табак и стоимости его производства, о качестве основных предметов импорта, расположении самых выгодных рынков сбыта, о морских путях транспортировки грузов и маршрутах по сухопутным дорогам, о местах наиболее удобных переправ.
Но самым главным все-таки была земля: землю распахивали, безжалостно истощали, делили между детьми—земля поистине была той основой, на которой росли правящие семейства и состояния Виргинии. Землю эту можно было получить или же не получить: решения, касающиеся собственности на нее — эти
149
обширные девственные угодья, стоимость которых неизмеримо вырастет уже в следующие десятилетия, — принимало правительство, в основном палата граждан и Губернаторский совет.
Кроме того, палата обладала постоянными полномочиями регулировать владение уже освоенными землями; в Англии подобную власть имели суды. Владельцу-англичанину, унаследовавшему майорат и желавшему распоряжаться землей без ограничений, приходилось прибегать к сложной, но в целом довольно рутинной судебной процедуре, разработанной для таких случаев изобретательными адвокатами. По-иному решались дела в Виргинии.Здесь наследник, желавший избавиться от сковывавших его ограничений, обращался в палату граждан, а та в случае положительного решения принимала именно на данный участок земли и только на имя конкретного владельца специальное частное определение. В 1711 —1774 годах палата приняла в общей сложности 125 таких актов, и почти три четверти из них — на имя членов таких известных семейств, как Армистеды, Беверли, Брэкстоны, Бурвеллы, Картеры, Дэндриджи, Эппы, Пейджи, Тейзвеллы, Уормли, Вашингтоны и Йейтсы. Естественно, эти семейства были кровно заинтересованы либо в личном, либо в косвенном родственном представительстве в органе, разбиравшем их прошения. Без частных актов в отношении собственности на землю не мог обойтись ни один богатый плантатор: он должен был свободно распоряжаться своей землей, перемещать по ней с места на место рабочую силу, освобождаться от истощенных участков, чтобы покупать новые земли все дальше и дальше на Западе.
Еще более важное значение имели полномочия депутатов палаты и Губернаторского совета распоряжаться земельной сокровищницей Запада; юридические ключи от нее находились у них в руках. В этом не было никакого секрета. Господствующая расточительная система землепользования, отсутствие твердых цен на табак и непомерные аппетиты лондонских купцов подсказывали единственный разумный выход: плантатор-табаковод становился одновременно земельным спекулянтом. Джордж Вашингтон, бесспорно обладавший деловой хваткой и честолюбием, не был по своей натуре игроком, но и он использовал любую возможность, чтобы увеличить свои земельные владения. Вашингтон понимал, что продвигающаяся на Запад волна заселения неминуемо повысит цену на плодородные земли предгорий: следовало только ловить момент и приобретать участки заранее. В июне 1767 года Вашингтон советовал своему несчастному другу капитану Джону Поузи, которого все глубже и глубже засасывала тря-
150
сила долгов: «Обрати внимание на округ Фредерик! Разве не разбогатели Хайты и все прочие, первыми завладевшие тамошней землей? Впрочем, нет, вспомним, как были нажиты самые большие состояния у нас в колонии. Разве не захватом и не приобретением за бесценок богатых земель в глубинке? В то время их никто не считал настоящими землями, но теперь это самые лучшие, какие у нас есть». В середине столетия—а точнее, после своей ссоры с Брэддоком и до вступления в командование революционной армией — Вашингтон, подобно многим своим виргинским собратьям-аристократам, был, по точному выражению Дугласа Фримэна, именно «охотником за землей».
Алчному до земли плантатору требовалась не только крепкая физическая сила, но и тонкое политическое чутье. Тропа к земельному богатству пролегала как по дикой местности, еще не занесенной на карту, так и по коридорам правительственных учреждений в Уильямсбурге. Второй, так называемый «внутренний» путь, хорошо освоенный виргинцами, вел к тому же широкому раздолью плодородных земель Юга и Запада. Не было, вероятно, ни одной состоятельной виргинской семьи, которая бы не прошла по нему. Когда в 1728 году Уильям Берд, которому правительство поручило установить границу между Виргинией и Северной Каролиной, впервые увидел эти богатейшие пойменные земли, он тут же нарек их «землей Эдема». Купив у уполномоченных Северной Каролины полученные ими за услуги 20 000 акров, он заключил с моральной точки зрения весьма сомнительную сделку. В 1742 году Берд не упустил еще одного такого же «счастливого шанса» и приобрел у правительства еще 105 000 акров земли, надеясь получить ее совсем даром, но все же выплатив 525 фунтов. К концу жизни этот человек владел 179 440 акрами плодороднейшей в Виргинии земли — таков был итог его «служения» обществу и деловой предприимчивости.
Ни в какой другой сфере «общественных дел» деятельность Джорджа Вашингтона после избрания его в палату граждан не проявилась столь ярко, как при изыскании участков земли, положенных ему и его однополчанам как ветеранам кампании 1754 года. В соответствии с чрезвычайной декларацией, выпущенной губернатором Динвидди в феврале 1754 года, ветеранам отдавались «200 000 акров земли Его Величества на реке Огайо», но только благодаря усилиям Вашингтона, вносившего по этому поводу специальные билли в палату граждан, писавшего письма губернатору и выступавшего с неоднократными обращениями в Губернаторском совете, все эти тысячи акров через восемнад
151
цать лет все же были выделены. Вашингтон взял на себя все хлопоты, связанные с получением пожалования, выделением земель на местности и распределением их между претендентами соответственно ранту и званию. В результате ему достались 24100 акров, из которых 18 500 составили его личный надел, размер которого он определил сам, и 5600 акров приходились на участки, выделенные другим ветеранам, которые он, воспользовавшись своим особым положением, купил у них по невысокой цене. При разделе земли Вашингтон имел еще одно важное преимущество: он хорошо знал подлежащую разделу землю и, таким образом, смог проследить, чтобы угодья, которыми вознаграждался его патриотизм, не уронили его личной и военной чести. При всем этом у него не было никаких оснований полагать, что он чрезмерно воспользовался благоприятными обстоятельствами. «Без ложной скромности и отнюдь не преувеличивая свою роль,—писал он,—могу заметить, что без моего неослабного внимания к каждой мелочи, которая содействовала успеху, нам не выделили бы ни одного акра земли». Не меньшие заслуги мог бы приписать себе Вашингтон и в деле получения тысяч акров земли, которые были выделены ему и другим известным виргинцам при посредничестве компаний «Грейт Дисмэл Свомп» и «Миссисипской»: и в том и в другом случае содействие государственных органов сыграло существенную роль.
Виргинская представительная форма правления в ее «золотой век» во многом страдала от чрезмерного практицизма,при-земленности и слишком удобного для элиты отождествления экономической и политической власти. Ошибки эти,однако,совершались людьми дела, а не мечтателями, реформаторами или революционерами. В результате виргинцы, владевшие огромной земельной собственностью, могли стать еще богаче, тогда как белые работники у подножия социальной лестницы не могли взобраться даже на первую ее ступеньку,а у негров вообще не оставалось никаких шансов освободиться от рабства. И в то же время виргинская аристократия вполне доказала свою способность эффективно управлять, в этом отношении ее способ правления был ничуть не хуже, чем любой другой в обществе до нее или после. В смысле же возможностей, открывавшихся перед талантливым человеком, коль скоро он вступал на лестницу, ведущую вверх, мало что могло остановить его.
Нет, никакие книжные проекты английских или французских политических теоретиков — будь то Локк, Монтескье или Руссо — не объясняют причин взлета виргинской политической
152
культуры. Американцы стояли на твердой почве реальности, им ни к чему были грезы. Готовая сражаться за свою представительную форму правления и положить, если надо, на алтарь британской конституции «жизнь, состояние и священную честь» своих граждан, Виргиния не дала миру ни одного серьезного трактата в области политической теории. Виргинцы знали представительную форму правления на практике; так к чему же были домыслы, какой она должна быть? Великие виргинцы находились в самом центре столкновения всевозможного рода интересов. Реалии экономики и политики являлись им в виде фактов полнокровной действительности, и потому они не отличались склонностью к кабинетной философии. Это и явилось одним из важнейших их достоинств.
Уместно спросить: почему депутаты палаты граждан с таким пренебрежением относились к простому народу и произносили дифирамбы в честь власти «богатых и благородных»? Можно ответить: потому, что они жили в колонии, где народ принимал правление «богатых и лучших», а «богатые и лучшие» в свою очередь не притесняли народ. Виргинцы, впоследствии обнаружившие столь некритическую веру в народовластие, исходили из проверенного жизнью, хотя и очень ограниченного опыта: они хорошо знали своих сельских соседей, доверявших политическому таланту своей необычайно одаренной аристократии. Виргинский аристократ зависел от богатства: он мог его умножить, но в равной степени мог его и потерять; такое положение дел не давало успокаиваться правящей элите и обусловливало ее предприимчивость. К элите можно было приобщиться, но из нее, проявив некомпетентность в делах, можно было столь же закономерно и даже почти неизбежно выпасть или же по крайней мере навсегда отрезать себе пути к восхождению на высоты политической власти.
Виргинский XVIII век почти не обнаруживает фактов, которые свидетельствовали бы о недовольстве существовавшей в колонии и обрисованной выше политической системой. Она устраивала народ, а потому и у элиты не было причин ставить свой образ жизни под сомнение. Хотя во второй половине века некоторые незначительные экономические и политические реформы в колонии все же были проведены, все они хорошо вписывались в рамки традиционно сложившегося на протяжении «золотого века» Виргинии порядка. Больше того, наиболее влиятельные (и даже наиболее революционно настроенные) виргинцы увидели и в самой Революции попытку сохранить свой спокойный и умеренный уклад жизни.
153
Восхищаясь идеалом английского джентльмена, виргинские правители особенно ценили в нем умеренность, которую всячески культивировали и в своем образе жизни. Не презирая, в отличие от некоторых современных им английских джентльменов, торговлю или труд и отнюдь не восхищаясь праздной аристократией, они в то же время были весьма далеки от того, чтобы идеализировать рабочего с натруженными руками, и не разделяли хвалы, которую расточали ему впоследствии американские сторонники президента Джэксона или же европейские приверженцы уравнительной демократии. Из «Английского джентльмена» Брэтуэйта виргинцы вычитали, что умеренность имеет три измерения и должна равно соблюдаться в сфере разума, телесного здоровья и богатства. «Умеренность,—сообщалось им, — достоинство крайне необходимое и подобающее джентльмену (в нашем случае это человек, возвратившийся на родину из дальних стран и, как неофит, нуждающийся в хорошем советчике); оно выделяет его среди других». И это же древнее достоинство, необходимое в искусстве управления обществом, было не менее важным в вопросах религии,из-за которых европейцы терзали друг друга на протяжении долгих столетий.
21
«ПРАКТИЧЕСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ»: ЕПИСКОПАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ БЕЗ ЕПИСКОПОВ
Виргиния не была основана преследуемыми за веру беженцами, и ее религия с раннего периода не носила ни утопического, ни пуристского характера. Неотъемлемой частью жизни английского джентльмена в Америке должен был стать господствовавший в Англии того времени церковно-религиозный уклад. Именно этот фактор, как никакой другой, в решающей степени повлиял на всю последующую историю Виргинии, а через виргинцев — и на становление самого американского характера. В 1724 году преподобный Хью Джоунс, лично знакомый с жизнью в колонии, отмечал:
Если Новую Англию можно назвать прибежищем диссидентов и Амстердамом религии, Пенсивальнию — питомником квакеров, Мэриленд — убежищем католиков, Северную Каролину — приютом беглых, а Южную Каролину — раем для морских разбойников и пиратов, то Виргинию можно справедливо считать счастливой обителью настоящих британцев и истинных христиан; эта колония не ставит перед собой чрезмерно возвышенных целей и не опускается до слишком низких, потому она заслуживает более высокой оценки и всяческого поощрения.
154
Сектанты Новой Англии, Пенсильвании и Мэриленда верили, что чистота истинной религии требует от них непримиримой борьбы с институтами прежней родины. Однако виргинцы начали пересаживать английскую религию на берега Америки еще задолго до возникновения здесь первых протестантских общин. Хотя незначительные движения раскола беспокоили Англию с времен средневековья, единственную влиятельную группу христиан из всех существовавших за рамками англиканской церкви составляли там к 1607 году, основанию Виргинии, католики. Поэтому, не являясь всего лишь одной из многочисленных сект, англиканская церковь считалась в Виргинии единственно возможной и истинной и практически распространялась на все колониальное общество. И хотя со времени основания и до конца XVIII века в колонии изменилось многое, виргинской религии как-то удалось сохранить свое безраздельное господство.Вир-гинцев не одолевали яростные страсти,побуждавшие многих возводить заново Храм Сионский или же строить Град Братской Любви, им было свойственно спокойное и глубокое религиозное чувство,создававшее вокруг всех их институтов некую мягкую ауру божественного благоволения. Ткань виргинского общества скреплялась старыми и прочными нитями веры.
«Другие вольны выбирать какие угодно методы воспитания детей, — писал (14 июля 1720 года) Роберт Картер в Лондон из Раппаханнока своему доверенному лицу, руководившему образованием его сыновей, — я хочу, чтобы принципы нашей священной религии своевременно укрепились в их сердцах, и если я верен нашей англиканской церкви, то ей же должны принадлежать и мои дети. Единственное, чего я не понимаю, так это чрезмерно возвышенных идей и выходящего за рамки приличий и догматов увлечения обрядовостью. Практическое благочестие — вот зерно истинной веры, все остальное — шелуха». В Виргинии середины XVIII века дух умеренности выражался в теплой и спокойной верности установлениям англиканской церкви и в отторжении более драматического и обольстительного религиозного экстремизма. Сектантов разного рода в колонии было мало.
Как можно объяснить появление в Виргинии этого духа умеренности? Прежде всего корни его нужно искать в истории. Англиканская церковь возникла, как известно, в результате компромисса; она и впоследствии продолжала занимать, по словам лорда Маколея, «некое срединное положение между церквами Рима и Женевы». Дух компромисса обеспечивал ей положение государственной и как нельзя лучше отвечающей
155
нуждам либерального общества, и он же во многом обусловил ее необычайную жизнеспособность. В описываемую эпоху даже в метрополии англиканская церковь более полагалась на институты, чем на доктрины. Господствующее положение ее в Виргинии просто усиливало эту тенденцию.
На берегах Массачусетского залива пуританизм приобрел более практический характер и меньше интересовался догмой, чем дома в Англии. Пуритане в Англии находились, образно говоря, «на осадном положении»; в Новой Англии они могли жить, как хотели. Не сталкиваясь с многочисленными идейными оппонентами, пуритане несколько утратили интерес к постоянному оттачиванию своих теологических рапир. Заботы по управлению колонией притупляли также оружие догматов: к концу XVII века новоанглийские пуритане все чаще шли на разумный компромисс, что породило в конечном счете конгрегационализм XVIII и унитарианство XIX века.
В силу подобных же причин англиканскому вероисповеданию в Виргинии суждено было стать даже более практическим и склонным к компромиссу, чем на его родине в Англии. Виргиния создала еще меньше теологических трактатов, чем Новая Англия, всю свою энергию ее жители вкладывали в церковные институты: в проблемы прихода, приходского совета, церковных старост, содействия правительственным органам, исправления нравов и призрения бедных. И если к практицизму пуритане Новой Англии пришли парадоксальным путем — преследуя чисто доктринерские цели, то англиканская Виргиния благодаря своей приверженности светским и духовным традициям лишь сохранила и усилила его.
Примером практицизма, которым была проникнута религиозная жизнь Виргинии, могут служить библиотеки плантаторов, содержавшие немало религиозных книг. Так, в библиотеке Эдмунда Беркли, типичного плантатора-аристократа (умер в 1718 году) из 113 названий книг наибольшую группу (32) составляли имеющие отношение к религиозной тематике. То же можно сказать и о библиотеках многих других плантаторов: среди них, упомянув лишь немногие, можно назвать книжные собрания Уильяма Фитцью, Ральфа Уормли-второго, Ричарда Ли-второго, Роберта Картера и Уильяма Берда-второго. В этих собраниях полемические теологические труды встречаются крайне редко, большая часть входящих в них религиозных книг — это англиканские наставления типа «Долга христианина» Ричарда Эйлст-ри или «Благородного грешника, или Храброго джентльмена Англии» Клемента Эллиса.Немногие случайные религиозно
156
полемические работы также, как правило, посвящены не вопросам теологии, а скорее религиозным институтам — проблемам организации церкви и ее управления.
Укоренившись в Виргинии, англиканская церковь не изменила своего вероучения ни на йоту, чего нельзя сказать о ее институтах, которые подвергались самым радикальным,поистине «заокеанским» изменениям. И если океан благополучно изолировал виргинских англикан от теологической борьбы в метрополии, то обширные пространства необжитой земли совершенно преобразили их церковные институты. Англиканскую церковь принято также называть епископальной церковью, что точно отражает ее характер, поскольку она — церковь, управляющаяся епископами. Однако, как ни странно, именно епископов церковь в Виргинии не знала. Без следа исчезла в Виргинии и присущая англиканской церкви в отличие от многочисленных сектантских церквей иерархичность: виргинские конгрегации верующих отличались подчеркнутой независимостью и сильно выраженными началами самоуправления. В этом, как ни в чем другом, особенно проявился талант виргинцев успешно приспосабливать к новым условиям старые английские институты: изменяя их внешние формы, колонисты не трогали их содержания. Преобразование церкви осуществлялось двумя путями: во-первых, сведением власти английских епископов в колонии на нет и, во-вторых, распределением власти епископа по местным приходским советам. Виргинская церковь так и не стала истинно «епископальной» — то есть в ней так и не появился епископ — по крайней мере до 1783 года, до отделения от Англии.
В течение всего колониального периода вопрос о том, должна ли Виргиния иметь собственного епископа, не переставал волновать умы людей по обе стороны океана. Подразумевалось, хотя и непонятно, какие тому были юридические основания, что бразды правления колониальной церковью должны находиться в руках епископа Лондонского. Однако достаточно разумные епископы отказывались брать на себя полномочия, которые, как они чувствовали, им было бы трудно осуществлять. «Когда епископ живет в одной части света, а его церковь находится в другой, — писал епископ Томас Шерлок (епископ Лондонский в 1748 — 1761 годы), — исполнение пастырских обязанностей очень обременительно для епископа и в значительной мере бесполезно для народа». Из-за двусмысленности юридического положения, сложной борьбы политических амбиций и разного рода опасений колониальная Виргиния так и не получила своего епископа, а в 1771 году палата граждан епископальной Виргинии
157
заняла по отношению к епископству такую же негативную позицию, что и прежде до нее пуритане Массачусетса. Таким образом, единственная связь между колонией и церковью в Англии в течение всего колониального периода осуществлялась лицом, наделенным весьма неопределенными правами и называемым официально уполномоченным.
Поскольку епископ в Виргинии отсутствовал, для посвящения в сан каждый кандидат в англиканские священники должен был отправляться в Англию. «Люди в этой стране, — сетовал епископ Шерлок в 1751 году, — не хотят готовить своих детей к священничеству. Их устрашают превратности пути и большие затраты, которыми чревато отправление детей в Англию, где они часто заболевают оспой — болезнью смертельной для жителей тех мест». Английские священнослужители, ратовавшие за назначение в колонию епископа, следующим образом живописали несчастный удел молодых виргинцев, пожелавших стать священниками: «Даже если им посчастливится благополучно добраться сюда, то, оказавшись здесь без друзей и знакомых, придется пройти через весьма трудное испытание — никому здесь не известные, без всяких рекомендаций и поручительств, располагая лишь кое-какими бумагами, они вынуждены будут сами представлять себя незнакомым лицам. Разве уже этих обстоятельств недостаточно, чтобы обескуражить самый смелый и предприимчивый дух?» Как отмечал в 1767 году один американский литератор, поездка из Виргинии в Англию обходилась не менее чем в сто фунтов, а из пятидесяти двух кандидатов в священники, недавно отправившихся в Англию с целью посвящения в сан, домой в целости и сохранности вернулись лишь сорок два.
Все эти трудности и дороговизна тогдашних путей сообщения лишь помогли виргинцам основать свою, американскую церковь, сильно отличавшуюся от английской, которую она должна была имитировать. Новые церковные институты появились совершенно естественно: выстраивая их, виргинцы не издавали манифестов, не писали трактатов с обоснованием нового вероучения или догматов, укреплявших его основы, они не трубили изо всех сил в теологические трубы — все совершилось как бы само собой, под чинной англиканской мантией. Задолго до Революции в Виргинии уже существовал свой собственный конгрегационализм. От конгрегационализма Новой Англии он отличался лишь тем, что не обладал ясно выраженным теологическим обоснованием. Свои скромные самоуправляющиеся структуры виргинцы строили за защитным фасадом древнего иерархически выстроенного здания англиканской церкви. Они
158
работали незаметно и так успешно, что полное значение содеянного долгое время оставалось невыявленным. И если им удалось создать «епископальную» церковь без епископов, они действительно могли творить любые чудеса!
К середине XVIII века виргинская церковь сформировалась окончательно: она представляла собой группу самостоятельных приходов, земные дела которых управлялись палатой граждан; в вопросах вероучения приходы вообще не имели над собой никакой центральной власти. Насколько известно, регулярные собрания виргинского духовенства не проводились,и поэтому церковь не знала авторитета догмы. В таких условиях наблюдение за деятельностью священников и определение порядка отправления религиозных обрядов стало обязанностью наиболее влиятельных в приходе мирян, несомненно считавших свое руководство самым надежным.
В Англии священник назначался на свою должность епископом; будучи «введен в должность», он получал приход как бы в собственность, которой он владел независимо от воли (а иногда и против воли) прихожан. Снять священника можно было только решением суда самого епископа. Следствием такой практики явились две неразлучные беды английской епархиальной жизни XVIII века: «плюрализм», или обслуживание большого числа приходов одним священником, и «абсентеизм», или обслуживание прихода священником, в нем не проживавшим, а иногда и вовсе его не посещавшим. Несчастный английский прихожанин был, таким образом, совершенно бесправен.
Виргинцы справились с этой болезнью на удивление простым способом: действуя от имени прихожан, члены приходского совета сами избирали своего священника и держали его на службе до тех пор, пока он их устраивал. Виргинские миряне ввели у себя этот порядок, не прибегая к законодательству, они использовали юридическую процедурную уловку, которую затем превратили в один из едва ли не главнейших институтов своей религиозной жизни. Чисто юридически священник в Виргинии вступал в свою должность и в права владения «церковной землей» (то есть участком, который приход выделял для содержания своего священника) только после того, как был «представлен» приходским советом губернатору и Совету и официально «введен в должность». С «введением в должность» он получал своего рода право собственности на данный приход, а до этого момента исполнял должность лишь с согласия прихожан. Практичные виргинцы, всегда желавшие сполна получать за свои деньги, прибегли к простой практике «непредставления» (или же «невведения в
159
должность») своих священников. Их содержали на основе ежегодно возобновляемых договоров, «которые называют достаточно грубо, — с отвращением докладывали в «Нынешнем состоянии Виргинии» (1697) Хартвелл, Блэр и Чилтон, — наймом священников; потому ихредко представляют губернатору, чтобы тем самым держать в большем подчинении и зависимости». Тридцатью годами позже преподобного Хью Джоунса так же беспокоили «те из членов приходских советов, кто ошибочно принимают себя за хозяев своего проповедника и считают, что, заключая с ним ежегодно договор, подобно тому как это делалось в прошлом, вольны выбросить своего слугу на улицу, когда им угодно».
Однако опасения за судьбу духовенства Виргинии в основе своей оказались беспочвенными. В 1724 году было установлено, что каждый виргинский священник служил в одном и том же приходе в среднем по двадцать лет. Одновременно выяснилось, что из двадцати восьми священников-респондентов, отвечавших на анкету, составленную епископом Лондонским, двадцать три не были «введены в должность» и, таким образом, юридически служили в своих приходах на основе ежегодно возобновляемых договоров.
В Англии с викарием, замещавшим на кафедре не проживавшего в приходе богатого священника — последний мог наслаждаться богатством и роскошью своего отдаленного имения, — обращались соответственно его нищете и убожеству: он обедал на кухне вместе с дворецким и горничной. В Виргинии даже церковные служители низших рангов пользовались всеми привилегиями джентльмена. «Любой молодой священник, собирающийся жениться, — с удовлетворением докладывал уполномоченный Блэр, — после небольшой проверки, доказывающей, что он относится к благонравному и воздержанному типу людей, может не опасаться, что не найдет себе выгодной партии среди дочерей местных джентльменов». Было бы приятно также сообщить, что англиканское духовенство Виргинии все сплошь состояло из просвещенных и высоконравственных людей; сделать подобный вывод мешает лишь то, что о личностях тех священников нам мало что известно. В то же время нет никаких причин сомневаться, что англиканские священники в Виргинии были,как правило,честными и трудолюбивыми. В 1759 году преподобный Эндрю Бэрнэби отмечал, что все шестьдесят с небольшим виргинских пасторов — «это люди, в общем, воздержанного и примерного нрава». В любом случае они не были много хуже священников других времен и определенно превосходили моральным обликом своих английских собратьев.
160
В то же время вся жизнь виргинского пастора была пропитана особым, специфическим запахом колонии — запахом табака. И если в утверждении, что вся Виргиния «основана на дыме», есть определенная доля преувеличения, то она гораздо меньше в заключении, что в Виргинии «церковь — это табак». По крайней мере в своем прямом смысле поговорка эта верна: почти с самого начала жалованье виргинским священникам исчислялось и выплачивалось в фунтах табака. С 1695 года годовое содержание священника было установлено законом и равнялось 16 000 фунтов табака. А поскольку табак, которым выплачивалось жалованье священника, принадлежал приходу, где тот служил, денежный эквивалент заработка во многом зависел от качества выращиваемой в данной местности продукции. «В некоторых приходах, — сетовал преподобный Хью Джоунс, — вакансии пасторов подолгу не закрываются по причине плохого качества их табака». Священник, служивший в приходе, где культивировался грубый сорт «Ороноко», считал свое положение невыгодным по сравнению со своим коллегой, проповедовавшим слово Божье прихожанам, производившим более мягкий широколистный (и более дорогой) сорт, получивший название «Ароматный». Когда уполномоченный Блэр в 1724 году в ответном письме епископу Лондонскому запрашивал для Виргинии еще больше священников, он аргументировал это тем, что,кроме незанятых вакансий в пяти «ароматных приходах»,есть еще «вдвое большее число вакансий в приходах, где возделывается "Ороноко”». До сих пор имеет хождение старая виргинская поговорка о честолюбивом священнике: «К благословию хорошо идет ароматный табачок».
Церковь колониальной Виргинии не занималась политикой. По существу,единственным исключением из этого правила было так называемое «дело проповедника» (1763), когда Патрик Генри в возрасте 27 лет впервые привлек к себе внимание, начав общественную деятельность. Дело это никак не касалось ни вопросов теологии, ни даже проблем управления церковью: речь шла о том, позволительно ли церковным приходам при высокой конъюнктуре цен на табак оплачивать услуги своих священников по ценам времен дешевого двухпенсового табака.
«Общественное или политическое лицо виргинцев, — резко отзывался о них преподобный Эндрю Бэрнэби в 1759 году, — отвечает их характеру: они гордятся своими свободами и ревниво оберегают их, не терпят никаких стеснений и не выносят даже мысли о подчинении какой-то более высокой власти». Порядок избрания священников приходскими советами, действующими
161
6-382
от имени своих прихожан, установился еще в конце XVII века. В пользу него высказался в 1703 году сам генеральный прокурор Англии сэр Эдвард Норти, тем не менее выборность так и не получила в то время ясного юридического подтверждения. В 1719 году уполномоченный Блэр смело отстаивал ее принцип от нападок 1убернатора Спотсвуда; после этого в колониальной Виргинии он более никем серьезно не оспаривался, и приходы продолжали избирать своих священников, нанимая их на основе ежегодно возобновляемых контрактов. Таким образом, битвы Американской революции, как заметил епископ Мид, разворачивались в виргинских приходах задолго до ее начала, в течение всех ста пятидесяти предшествовавших лет. «Налоги только при условии представительства — всего лишь перефразировка лозунга: содержание священников только при условии их избрания. Смысл тот же».
«Самоуправление» в Виргинии XVIII века — в области как религиозной, так и гражданской — было,по существу,правлением влиятельных плантаторов, осуществлявшимся от лица их работников и соседей. Начальной школой, где правящая элита постигала свою политическую науку, был приход. Согласно закону, приходский совет, насчитывающий не более двенадцати членов, избирался прихожанами. Поскольку периодичность выборов законом не оговаривалась, правящая элита прибегала к удобной для нее практике неопределенно долгого срока пребывания в совете, заканчивавшегося либо смертью, либо добровольной отставкой. Когда возникали вакансии, совет сам избирал новых членов. Этот самовоспроизводящийся источник власти играл в жизни колонистов немаловажную роль, и влиятельные плантаторы обнаруживали явное нежелание выпускать его из-под своего контроля. «Мятежная» сессия виргинской Ассамблеи, созванная в 1676 году, во время восстания Натаниела Бэкона, провела принятыми ею актами многочисленные «реформы», многие из которых впоследствии доказали свою жизнеспособность; тем не менее все последующие Ассамблеи отказывались подтвердить закон, устанавливавший переизбрание приходских советов через каждые три года. В течение всего XVIII века самовоспроизводящийся механизм приходских советов оставался неизменным. Вплоть до 1784 года, когда англиканская церковь Виргинии потеряла свой статус государственной, регулярные выборы в приходские советы не проводились. И в течение всего этого долгого периода опротестовать их решения можно было только в Генеральном суде или же в Ассамблее колонии.
162
В целом,однако,самоизбранные представители прихода справлялись со своими обязанностями неплохо. Они заседали по крайней мере два раза в год, собираясь обычно в доме одного из членов совета, и решали вопросы избрания священника, продления срока его найма или же прекращения. Как правило, члены совета, образованные, честные и состоятельные граждане, пользовались властью мудро и сдержанно. И если Виргинии удалось избежать таких проклятий английской епархиальной жизни, как абсентеизм, плюрализм, угодничество и коррупция, если виргинские приходы отказывались от услуг тех священников, прибывших из Англии, что «рычали в таверне и заикались на кафедре», то заслуга в этом принадлежит приходским советам.
Через свой совет и с помощью уполномоченных им церковных старост приход осуществлял некоторые из функций современного шерифа, окружного прокурора и большого жюри. В число обязанностей членов совета входило привлечение к судебной ответственности лиц, обвинявшихся в нарушении морали: пьянстве, богохульстве, клятвопреступлении, клевете, несоблюдении правила воскресенья, непосещении церковной службы, разврате и супружеской неверности. Совет собирал церковные налоги, оценивал собственность, определяя ее размер, и уточнял границы земельных владений. Раз в четыре года под общим руководством суда округа члены приходского совета назначали двух лиц, которые «обмеряли» землю, то есть обследовали и обновляли межевые знаки и заносили результаты такого обследования в приходские книги.
Действуя через свой совет, приход являлся в то время основным органом социального обеспечения. Приходский совет привлекал внимание общества к случаям крайней бедности и, при отсутствии богадельни, обеспечивал «бедствующих и немощных» за счет общественных средств пропитанием и кровом в домах граждан, соглашавшихся их принять. Приходский совет стремился также избавить приход от содержания незаконнорожденных детей, заставляя мать заботиться о них,и принуждал отца подписывать соответствующие денежные обязательства; в некоторых случаях он отдавал таких детей в услужение, срок которого заканчивался, когда им исполнялось тридцать лет. В западных округах приходские советы брали на себя заботу о детях, оставшихся сиротами после грабительских набегов индейцев. С 1748 по 1752 год приход в округе Августа, где угроза нападения индейцев была особенно велика, смог обеспечить домашним кровом сорок семь сирот, поместив их в новые семьи. Участь жи
163
6*
телей Норфолка—городка, сгоревшего на глазах его жителей в первый день Нового 1776 года, — была в значительной степени облегчена благодаря действиям его приходского совета. В конце XVII века взимаемые по местному церковному налогу суммы нередко в три или четыре раза превышали размер всех других налогов. Незадолго до Революции бюджет каждого из приходов Труро и Фэрфекс превышал бюджет всего округа Фэрфекс, из этих двух приходов состоявшего.
Никто из влиятельных виргинских граждан не мог, не потеряв уважения, уклониться от участия в местной религиозной жизни: церковные обязанности были неотделимы от гражданских. Мировые судьи округов обычно являлись также и членами приходских советов: Джордж Вашингтон, Джордж Мейсон и Джордж Уильям Фэрфекс, все судьи округа Фэрфекс, входили в местный приходский совет Труро; четверо из девяти членов приходского совета Викомико, заседавшие 10 ноября 1757 года, были одновременно мировыми судьями — этот ряд можно продолжить. Лица, назначавшиеся офицерами милиции, и судьи округов, рекомендовавшие их губернатору, как правило, оказывались одними и теми же людьми. В 1785 году, после отделения церкви от государства, многие полномочия приходских советов перешли к судам округов, что тем не менее ничего не изменило по существу: влиятельные плантаторы по-прежнему управляли делами церковных приходов — уже в качестве судей.
В таких условиях было бы крайне странно, если бы ведущие политические и общественные деятели Виргинии не являлись бы одновременно и наиболее влиятельными прихожанами англиканской церкви. Из более чем ста членов виргинского конституционного конвента 1776 года только трое не были членами приходских советов. Две трети лиц, подписавших Декларацию независимости, являлись прихожанами англиканской церкви, и шестеро из них — сыновьями или внуками англиканских священников. В годы Революции приходские советы в Виргинии служили очагами сопротивления английским властям и движения за независимость. Когда после роспуска законодательных органов колонии и упразднения окружных судов в каждом округе потребовалось избрать небольшой комитет безопасности, де-факто действовавший как правительственный орган, в трети округов Виргинии одним из членов таких комитетов — а зачастую и председателем — стал англиканский священник. Трудно назвать хотя бы одного вождя Революции, кто не был бы, подобно Джорджу Вашингтону, Джеймсу Мэдисону, Эдмунду
164
Пендлтону и Патрику Генри, истинным сыном англиканской церкви. Тот факт, что к числу истых прихожан принадлежали и такие ревностные лоялисты, как Джонатан Бучер, не меняет существа дела. В Виргинии преданность англиканской церкви — и как оплоту старины и всего английского, и как местному выражению стремления к независимости — питала то самое уважение к британской конституции и традиционным свободам англичанина, что вдохновляло идею Революции.
Потому нет ничего парадоксального в том, что лидеры Виргинии, почти все как один добрые прихожане англиканской церкви, в то же время были вождями Революции. Считать, что «английская» церковь Виргинии, так же как и британское управление колониями, была потрясена катаклизмом рационализма, антиклерикализма и антитрадиционализма с эпицентром где-то далеко в Европе, — значит искать излишне легкое решение вопроса. Эта точка зрения просто не подтверждается фактами.
22
«ПРАКТИЧЕСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ»: ВЕРОТЕРПИМОСТЬ БЕЗ ТЕОРИИ
Широта пространств, на которых раскинулись виргинские церковные приходы, накладывала свой отпечаток на местную религиозную жизнь. К 1740 году небольшой приход в Виргинии охватывал в среднем приблизительно двадцать миль; на этой площади проживало разбросанное население белых численностью от семисот до восьмисот человек, или около ста пятидесяти семей. Крупный приход мог простираться на шестьдесят миль и более, в особенности если его продольная ось шла в юго-западном направлении к неясно очерченной границе, разделявшей Виргинию и Северную Каролину. Церкви располагались друг от друга на расстоянии десяти миль и более. «Обширность приходов, — сетовал преподобный Александр Форбс в 1734 году (его собственный приход составлял шестьдесят миль в длину и одиннадцать в ширину), — не только препятствует посещению церквей по праздникам; очень часто все мои труды в местах, избранных самой паствой, оказывались бесплодными: проделав ради молитвы в каком-нибудь частном доме путь в пятьдесят миль, я обнаруживал, что погода к тому времени ухудшалась и в дом приходили лишь немногие или же вовсе никто; в иных случаях разлившиеся из-за дождей реки и болота делали дороги непроходимыми, и мне приходилось возвращаться, не исполнив
165
своего долга и даже не утолив собственной духовной потребности». Непроизвольно давая количественную оценку религиозному рвению, он добавлял, что набожности прихожан хватало, чтобы пройти до церкви пять или шесть миль; на преодоление больших расстояний — в десять или пятнадцать миль — требовалась более пылкая вера. Впрочем, тому могли быть и другие причины: на многих плантациях работало большое число новоприбывших рабов или же еще не свыкшихся с местными порядками договорных работников, и осторожные плантаторы с неохотой оставляли свои поместья без присмотра взрослого члена семьи — мужчины.
Отсутствие в колонии центральной церковной власти, которая бы следила за единообразием отправления обрядов, а также недостаток церковной утвари приводили к небрежению столь важными для англиканской церкви формальностями. «После того как священник, окончив проповедь, умолк, — отмечал в 1715 году посетитель воскресной службы в одной из церквей на виргинском побережье, — все мужчины вынули трубки и закурили». Нельзя с полной достоверностью сказать, действительно ли многие прихожане поступали, как те, кто позже в соседней Каролине, сильно расстраивая преподобного Чарлза Вудмейсо-на, приходил в церковь со своей трубкой. В то же время точно известно: в одних приходах не было купелей для крещения, в других — стихарей для священников, а где-то еще прихожане причащались, сидя на местах, а не преклонив колени перед алтарем. «Каждый священник здесь, — писал преподобный Хью Джоунс, — совершенно независим в том, что касается каких-то частностей обстановки и обрядности богослужения». Многие церковные обряды совершались дома, а не в храме.
Поскольку приходы здесь очень обширны... иногда доставлять покойников в церковь и хоронить их в церковной ограде невозможно. Потому появился обычай хоронить в садах и парках, в местах красивых и уединенных, обсаженных вечнозелеными деревьями и хорошо ухоженных, где лежат нередко целые семейства. Довольно часто покойников здесь отпевают прямо в домах, где собираются многочисленные группы из соседей и друзей усопшего. Когда вы начинаете настаивать на чтении заупокойной проповеди и церемонии в церкви, вам отвечают, что в таком случае могут обойтись и без них. В домах также — иногда из прихоти, чаще по обычаю и в большинстве случаев по необходимости — крестят детей и творят очистительную молитву для рожениц. Если запрещаешь им это делать, вам отвечают, что могут обойтись и без этого. В домах чаще всего они и венчаются, не обращая внимания на время суток и года.
Обширность пространства совершила в Виргинии то, на что в Англии потребовались десятилетия теологических споров. Из
166
брав свой собственный, отличный от других путь развития, виргинцы неосознанно «очищали» англиканскую церковь от присущих ей иерархичности и чрезмерного внимания к обрядам. Примечательно, что как раз эти недостатки подвергались самым ожесточенным и яростным нападкам со стороны массачусетских пуритан.
Но пространство не только «очищало» религию, оно во многом охлаждало ее пыл. Чем больше мы проникаем в суть виргинского религиозного духа, тем лучше понимаем, почему именно Виргиния стала настоящим оплотом веротерпимости XVIII века и в числе первых из колоний, имевших государственную церковь, отделила ее от государства. В самом деле, в Виргинии начало этому процессу было положено в 1776 году, в то время как в Коннектикуте государственный характер церкви сохранялся до 1818, а в Массачусетсе — до 1833 года. Умеренность была занесена в Виргинию отнюдь не яростными ветрами доктрин, дувшими из-за рубежа.
Ключ к пониманию виргинской веротерпимости нужно искать в правильной оценке духа практического компромисса, обусловившего возникновение англиканской церкви на ее родине и давшего ей новый жизненный стимул на американской земле. В бурные годы Революции не кто иной, как Эдмунд Пендлтон и другие, не менее, чем он, преданные сторонники англиканской церкви, организовали управление Виргинией и предотвратили ее распад. Пендлтон в те дни, как отмечал путешественник-флорентиец Филип Маццей, даже получил в народе прозвище Умеренный. Отсутствие у виргинцев ревностного отношения к религиозной догме объясняется довольно просто: зачастую они о догме ничего не знали. Так, например, Джордж Вашингтон, весьма деятельно принимавший участие в работе своего приходского совета, наверное, не смог бы отличить англиканского вероисповедания от любого другого христианского, хотя был твердо убежден, что англиканская церковь выступает за умеренность во всем и служит оплотом приличий в обществе, в котором он жил.
Основателей виргинского общества привели в Виргинию не гонения за веру, их не объединял общий фанатизм; они были горячими сторонниками традиционного английского уклада жизни и стремились сохранить его достоинства по другую сторону океана. Не проявляя никакого интереса к теологии, они хотели увеличить население колонии и потому не особенно ревностно следили за соблюдением законов, направленных против диссидентов, и терпимо относились даже к папистам и
167
квакерам, пока те вели себя смирно. Уильям Фитцью, верный прихожанин англиканской церкви, легко уживался со своим соседом Джорджем Брентом, католиком; более того, он даже разработал план переселения католиков в колонию, где они могли бы жить своей собственной общиной. И тот же Уильям Фитцью изыскивал способы, которые помогли бы привлечь в Виргинию французских гугенотов. Многие другие влиятельные виргинцы англиканского вероисповедания также стремились превратить Виргинию в дом всех честных христиан. Джон Плезанте, квакер, в противоречии с буквой закона избранный в палату граждан, освободил свое место в ней только потому, что отказался принять присягу .Эдикт короля Якова II от 1687 года, приостанавливающий действие законов, направленных против нонконформистов (как протестантов, так и католиков), был встречен в Виргинии со всеобщим энтузиазмом: получив известие о нем, виргинцы били в барабаны и стреляли из пушек! Совет тут же подготовил королю благодарственный адрес. Палата граждан одобрила избрание членом палаты от округа Стаффорд католика. Тем не менее против квакеров виргинцы по-прежнему готовы были применить силу: квакеры, как обычно, обнаруживали явное нежелание содействовать военной защите общества, а их кочевой образ жизни, как и прежде, представлял собой источник потенциальной опасности, поскольку мог быть использован для получения разведывательной информации врагами колонии — французами и индейцами. В то же время даже к квакерам виргинцы относились дифференцированно: когда Томас Стори в начале XVIII века завоевал их доверие, ему позволяли свободно странствовать по колонии,проповедуя ересь.
Люди, желавшие укрепить колонию, поселив в ней просто граждан — неважно, будь то англичане-нонконформисты, шотландцы, ирландцы, гугеноты, немцы или голландцы, — не спорили из-за теологических мелочей. «В отношении дела м-ра Дейвиса, пресвитерианина, — мудро наставляла в 1750 году Совет Виргинии английская Торговая палата, — мы считаем веротерпимость и вольное отправление религий столь неотъемлемыми элементами истинной свободы и столь важными условиями для совершенствования и обогащения любой торговой нации, что они в любом случае и всегда должны оберегаться в колониях Его Величества как святыня». Бесспорно, время от времени им приходилось прибегать к мерам по сдерживанию религиозных смутьянов, угрожавших спокойствию или безопасности колонии. Виргинцы, например, запретили
168
въезд в колонию пуританам в 1640 году и Ассамблею квакеров в 1662 году; столетием позже (1770) они посадили в тюрьму отличавшихся особым фанатизмом баптистских проповедников. Все эти меры,однако,носили чрезвычайный характер и свидетельствуют скорее об отсутствии, чем о наличии,в колонии религиозных гонений.
К середине XVIII века религиозные секты — пресвитериане, баптисты и даже квакеры — добились определенного общественного признания. «Если среди вас есть люди чистой совести, не разделяющие веру нашей церкви, — объявил в своей инаугурационной речи генерал-губернатор Гуч, назначенный на должность в 1728 году, — то я буду относиться к ним, исходя из того, что доброе отношение к таким людям столь верно отвечает истинному духу христианской веры, что не может не отвечать и интересам нашей англиканской церкви». Законы против квакеров применялись, по-видимому, не для защиты религиозной ортодоксии, а для того, чтобы предотвращать насилие и возможность пособничества врагам колонии под прикрытием странствующего проповедничества. В 1721 году суд округа Короля Георга отклонил обвинения, предъявленные нескольким лицам за их отказ посещать приходскую англиканскую церковь, аргументируя свое решение тем, что обвиняемые назвались пресвитерианами. В 1724 году, вместо того чтобы потребовать от группы сектантов посещения местной приходской церкви,приход Ганновер того же округа пошел на то, что построил для них отдельный молитвенный дом и выплачивал содержание их священнику. В 1744 году колония отразила свое отношение к религиозной свободе в законодательстве: принятый тогда акт, по-прежнему требуя от каждого виргинца регулярного посещения церкви, позволял посещение церкви по выбору.
Когда в 1740-х годах Виргинию наводнила воинствующая секта пресвитериан, иногда называемых «новоозаренными», преподобный Патрик Генри (дядя знаменитого Патрика, англиканского священника церкви Св. Павла прихода Ганновер) следующим образом описывал их службу:
Прибегая к самым ужасным выражениям и ими же составленным изречениям, они громогласно возглашают с кафедры то, что называют ужасом поклонения букве закона; они проклинают всех и бранят, называя пожилых людей седыми чертями и всех, живущих во грехе плоти, — проклятыми из проклятых, чьи души горят в аду, хотя сами они живут на земле, и еще исчадием ада, воплощениями дьявола, в тысячу раз худшими, чем сами черти, и так далее и так далее; и все это время проповедник повышает голос, доводя
169
себя до яростного исступления,стучит ногами и безжалостно бьет кафедру, пока самые слабые из слушателей, испуганные, не закричат, не повалятся вниз и не забьются,к изумлению зрителей,в конвульсиях, как в припадке падучей; если же таким образом падут лишь немногие, проповедник снова впадает в ярость, взывая: «Никто из вас более не припадет к Христу?» — и продолжает греметь дальше, как прежде, пока не приведет quantum safficit своей конгрегации в такое же состояние; и все это провозглашается проповедниками как проявление в их сердцах могущественной силы Божьей милости, и... тех, кто не согласен с ними, они тут же огульно проклинают как закоренелых негодяев.
Такие священники, предупреждает Патрик Генри, не остановятся ни перед чем. «Одержимые», утверждающие, что они «так же определенно попадут в рай,как будто бы уже находятся в нем», они способны внушить преступникам уверенность, что никакое преступление не может воспрепятствовать спасению избранного. Тем не менее, несмотря на явную угрозу общественному порядку со стороны «новоозаренных», преподобный Генри не оставлял надежды приручить их. Он даже разрешил одному из их лидеров, Джорджу Уайтфилду, проповедовать со своей кафедры при условии, что до проповеди им будет прочитана одна из молитв «Общего молитвенника».
Следует ли порицать виргинцев за трепет перед старьем, возрождаемым активизацией религиозных движений? И тиранией ли с их стороны было требовать от бродячих священников регистрации мест, где те собирались служить? Многие отказывались выполнить даже это простое условие. Cause celebre яростной евангелической кампании явилось «дело» преподобного Сэмюела Дейвиса, которому власти в 1748 году благожелательно выдали лицензию на отправление службы в семи молельных домах пяти различных округов. В то же время ему было отказано в лицензии на службу во всех прочих приходах. Не собирается ли он, спрашивали его, завести в колонии новую разновидность странствующего абсентеизма или же внедрить в Виргинии сеть религиозных агитаторов под началом некоего главного пастора, который бы постоянно поддерживал в них пыл?
Так называемые «отколовшиеся баптисты» попали в Виргинию приблизительно в 1767 году. К тому времени общинные баптисты мирно жили там уже несколько десятилетий и не испытывали со стороны закона никаких притеснений; действительно, нет никаких документальных свидетельств, подтверждающих, что хотя бы один баптист пострадал в коло-
Достаточное количество (лот.).
170
нии за свою веру до нашествия бродячих баптистов. Многие из новоприбывших были проповедниками-мирянами, и выдача лицензий им не полагалась; другие же, будучи профессиональными священниками, отказывались выполнить столь простое условие, как то, что они зарегистрируются на право получения лицензии, перечислят темы своих проповедей и те молельные дома, где собираются служить. Почти пятьдесят «отколовшихся баптистов», отправленных в тюрьму в 1768 — 1776 годах, были осуждены не по религиозным обвинениям, но за «нарушение спокойствия» или же за отказ дать обязательство не нарушать общественный порядок в будущем.
«Я считаю, что Евангелие Господа нашего Иисуса Христа признает лишь мягкие и сдержанные слова убеждения,—писал 7 февраля 1767 года полковник Уильям Грин, мировой судья и член приходского совета, баптистскому священнику, служившему в его приходе. — И любой человек, заходящий в этом направлении далее, как бы ни дорожил он своим мнением и кем бы ни был, англиканцем или анабаптистом, и какой бы титул или имя ни носил, не причастен, по моему скромному разумению, духу истинного христианства». Объяснение полковника могло бы служить настоящим манифестом виргинского «практического благочестия»:
Что касается меня, я мог бы жить в мире и любви с любым добрым человеком любой из христианских сект; не нахожу я причин для ссоры или розни и с тем, кто мыслит не так, как я; с таким же успехом я мог бы ссориться с ним потому, что он отличается от меня весом или ростом. Не должно осуждать за отличный от других образ мысли... Бог — нелицеприятен. Потому было бы высшей самонадеянностью и своенравием связывать милость Божью с каким-то одним народом или сектой.
Буквально через несколько месяцев после того, как были написаны эти строки, полковник Джон Блэр из Уильямсбурга, член Губернаторского совета, призывал сторонников англиканской церкви, своих единоверцев, к терпимости, поскольку, как он заявлял, те же баптисты творят добрые дела: они обратили на путь истинный нескольких грешников, привели некоторых к раскаянию и, порицая бездельников, заставили их заботиться о своих семьях.
В квакерской Пенсильвании Франклин тоже горячо одобрял разнообразие доктрин, позволявших единому, но разноликому Боту различными способами направлять людей на путь истинный. Конечно, виргинцы привыкли мыслить иначе. Они бы прежде всего присоединили к своей церкви всех верующих, преобразовав, таким образом, церковь англичан в церковь вир
171
гинцев. По их представлениям, церковь не была ни братством святых во плоти, ни сообществом совестливых, ни даже общиной счастливых обладателей Истинной Догмы; она являлась прежде всего вольной ассоциацией практичных людей, стремившихся, каждый по-своему, пусть безотчетно, через веру в Христа стать добрыми англичанами и достойными виргинцами. Иными словами, церковь Виргинии была удобным зонтиком, собиравшим под собой всех людей доброй воли.
Драма преподобного Патрика Генри, одолжившего свою англиканскую кафедру еретику Джорджу Уайтфилду, повторялась тысячи раз в самых разнообразных вариантах. Первая же встреча виргинцев с глашатаями и инициаторами так называемого «великого пробуждения» почти автоматически вызвала у них желание немедленно вовлечь сектантов в лоно своей церкви, перенять из их вероучения все наиболее в нем ценное и привить сектантам заманчивый дух соблюдения респектабельности и внешней благопристойности. Как сообщал в 1741 году из соседнего Мэриленда преподобный Хью Джоунс, в церкви этой колонии, в сущности почти неотличимой от виргинской, царили «энтузиазм, деизм и вольнодумство».
В самом деле, кто должен был охранять строгую церковную ортодоксию в стране без епископа и даже без единого церковного собрания? Религиозные убеждения многих выдающихся виргинцев, включая Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Патрика Генри и Джеймса Мэдисона, не отличались особой четкостью. Что вовсе не означало расхождения с догмой англиканской церкви: просто никто из этих людей не знал наверняка, во что именно следовало верить, чтобы оставаться добрым верующим. Все эти люди были сторонниками единственно истинной церкви — «единственно истинной» не в том смысле, что она обладала единственно верной для всех людей догмой (поскольку сама догма англиканского вероучения была чем-то весьма неопределенным и расплывчатым), но в том, что все люди, за исключением разве что фанатиков или смутьянов, могли спокойно жить в ее лоне, придерживаясь своих убеждений. Такой порядок предвосхищал,по существу,появление интерденоминационализма в американской религиозной жизни XX века.
В Англии в высших кругах духовенства XVIII века создавались книги высокого интеллектуального достоинства. Одна из беднейших эпох в духовной жизни церкви отличалась в то же время богатой философской литературой, написанной священниками; епископы Беркли, Батлер и Хоудли модернизировали
172
теологию, подготовив ее к битвам нового века. Однако, точно формулируя свои религиозные идеи, проводя четкие категориальные различия между ними, каждый из философов все более отдалялся от остальных. Виргиния не породила ни одного подобного труда, и не только потому, что на виргинской земле не было епископа: просто категориальные отличия совсем не интересовали ее вождей. Именно неразвитость интеллектуальной жизни Виргинии спасла ее от теологической распри.
Колледж Уильям-энд-Мэри был основан,согласно указу, в 1693 году «в целях воспитания добрых священников»; первым президентом его стал уполномоченный Джеймс Блэр, формальный глава виргинской церкви. Ортодоксальное англиканское духовенство хотело бы видеть в колледже «полезнейший и достохвальный питомник истинного христианства и крепкий оплот против заразы диссидентства в Виргинии»; колледж, однако,так никогда и не обрел клерикальной и теологической ориентации и не оправдал, таким образом, надежд, какие возлагали на него некоторые из основателей. Напротив, он стал оплотом традиционно-христианской, мирской, умеренной культуры, точно соответствовавшей укладу жизни в Виргинии в XVIII веке. Спустя тридцать лет после основания колледжа преподобный Хью Джоунс следующим образом описывал качества преуспевающего виргинского священнослужителя:
Эти люди должны также повидать мир и прочитать о нем больше, чем то требуется от английского священника в его приходе; им следует не только знать философию и умозрительные положения этики и уметь рассуждать о них, но также изучить людей и дело не меньше, чем книги; они должны, кроме того, вести себя как подобает джентльменам и быть вежливыми и добродушными, не позволяя себе чрезмерной свободы и распущенности; им пристала ученость, не превращающаяся в цинизм, и искренняя религиозность, не переходящая в стоицизм. И они должны уметь поступаться мелочами,чтобы не вызывать волнений или беды...
Виргинцы не хотели отравлять свою жизнь желчностью религиозных споров, что, однако, отнюдь не свидетельствует об отсутствии у них религиозного чувства. Именно религия воспитывала у виргинских лидеров терпимость и нежелание спорить из-за точек над теологическими «i». Превалировавший в виргинской церкви дух истины и компромисса способствовал распространению веротерпимости еще задолго до принятия Акта о религиозной свободе. К счастью, общественные институты Виргинии, которую совершенно справедливо называли также «ста
173
рым доминионом», сформировались еще до отделения от англиканской церкви ста с липшим оппозиционных сект, то есть до XVII века, когда Англия превратилась в страну чудовищных религиозных джунглей. Дух религиозного энтузиазма головорезов-фанатиков эпохи пуританизма не затронул Виргинию даже в XVII веке, она осталась в стороне. Таким образом, колония выиграла время, в течение которого церковь успела упрочить свое положение на основе того мирского духа, который был свойствен государственной англиканской церкви.
«Гонения, религиозная гордыня и страсть к противоречию, — отмечал Кревкер в Америке конца XVIII века, — вот источники того, что люди обычно называют религией. Все это в Америке отсутствует; пыл в Европе стеснен; здесь он, преодолевая просторы, рассеивается; то, что в Европе — стесненная со всех сторон крупица пороха, здесь, не производя особого воздействия, свободно сгорает на открытом воздухе». Умеренность слишком часто путают с равнодушием. А поскольку odium theologicum* измерить легче,чем любовь к Богу, то эпохи и народы, более склонные убивать во имя религии, зачастую несправедливо приобретают репутацию наиболее религиозных.
Тот дух либерализма в религии, которому мы справедливо воздаем честь и чьими американскими святыми-покровителями были великие виргинцы, не следует объяснять каким-то стремлением подменить традицию чем-то новейшим и «просвещенным». Без клерикализма не может быть и антиклерикализма. Сблизить деяния и мысли великих виргинцев с французскими «атеизмом» и «рационализмом» взялись задним числом энтузиасты-теологи типа Тимоти Дуайта, игнорировавшие факты и неспособные представить себе, что общество достойных людей может благополучно пережить эпоху разнообразия доктрин. Сама жизнь Виргинии опровергала умозаключения, почерпнутые из книг. Подобно тому как вера многих виргинцев в преимущество республиканской формы правления естественным образом родилась из удачного опыта их общения с джентльменами-фригольдерами из плантаторской аристократии, точно так же их, людей, воспитанных под широкой крышей виргинской церкви, нисколько не страшило разнообразие религиозных верований. Они привыкли наблюдать разнообразие в самой повседневной жизни своего хорошо упорядоченного колониального общества.
Религиозная ненависть (лат.).
174
23
ГРАЖДАНЕ ВИРГИНИИ
Было бы самым большим заблуждением усматривать в типичном виргинце классического «гражданина мира». Как и первые вожди Америки, виргинцы предпочитали начинать со своих собственных, близких им забот. Отправной точкой для их мысли и действия всегда служило то конкретное положение, которое они занимали во времени и пространстве.
Если Джордж Вашингтон представляется в наше время бесцветной фигурой, то лишь потому, что позднейшие наслоения демократических предрассудков наделили нас цветовой слепотой: мы с трудом различаем на знамени Вашингтона цвета его Виргинии. Нам трудно поверить, что виргинские отцы нашей республики были воспитаны в условиях, созданных аристократией, рабством и государственной церковью. Современная американская демократия, твердят нам, уходит своими корнями в некую «демократию» XVIII века, и мы охотно ищем ее ростки в городских сходках Новой Англии (предположительно микрокосме демократии), а отнюдь не в виргинской табачной аристократии. Однако пути истории темны и противоречивы. Разве гордость и независимость виргинских плантаторов-аристократов не исходит из обширности их владений и их чувства аристократической ответственности? Разве ценность личной свободы не увеличивалась в глазах виргинцев при виде окружавшего рабства? Разве их аристократический склад ума, привычка повелевать и вера, что они способны принимать решения от лица общества, не помогли им осознать свою роль вождей Революции? Возможно, революции всегда возглавляются теми, кто действует, по словам судьи Холмса, исходя из «аристократической предпосылки, что вы знаете, что для них лучше, гораздо лучше них, — и это так и есть». Возможно, самая надежная веротерпимость воспитывается не под влиянием либерального рационализма и антиклерикализма, а как раз в лоне спокойной, не слишком страстной англиканской церкви.
Виргинцы выработали сильный иммунитет к самым опасным вирусам: в отличие от других они менее всего претендовали на обладание истиной — касалась ли она общества, управления или религии, — на обладание полное и немедленное. В мыслях и поступках они руководствовались принципами эмпиризма и даже реформ — то есть тем духом, что сформировался на табачных полях Виргинии, а це в разъедающей атмосфере абсолютных истин, хлынувших тогда из Европы. Традиционализм —
175
верность здоровым обычаям старой Англии — определял их время; местный патриотизм—верность обычаям своего прихода и округа, своим друзьям и соседям — пространство. Сила этих чувств (а чтобы быть точными, следует называть их чувствами, а не философскими воззрениями) во многом объясняет, почему им удалось сделать такой Виргинию и каким образом в первые,самые критические для республики годы ей удалось помочь Аймерике. Сила традиционализма вскоре сказалась в Революцию, когда виргинцы защищали свои традиционные права англичан. Сила местного патриотизма проявилась в самостоятельности приходов, в духе федерализма, в Конституции и в приверженности к правам штатов. Тот факт, что традиция, которой они следовали, была выражена неотчетливо — предметом для подражания служил виргинцам образ жизни английского провинциального джентльмена, — не делал их связь с традицией менее реальной. И нельзя назвать ни одной области жизни, которую бы этот столь туманный и в то же время реальный идеал не затрагивал. Более узкий, правовой по своему характеру традиционализм также сыграл свою важную роль, когда во время Революции виргинцам на точном юридическом языке потребовалось сформулировать, каким именно образом были нарушены их исконные права англичан. Но и до этого, в эпоху виргинского «золотого века», традиционализм освещал их жизнь ровным, всепроникающим светом. Сила виргинских основателей традиций исходила из их стремления изменять высаживаемые на новую почву институты, из их стремления придать перенесенному издалека прошлому особый привкус местного и настоящего.
Местному патриотизму виргинцев уделялось, по всей видимости, слишком мало внимания и придавалось несоразмерно малое значение. В наши дни, когда говорить о правах штатов стало немодно, нам излишне часто твердят, что любовь человека к местности, где он живет,лишь тормозит прогресс страны.Нам повезло,что виргинцы в XVIII веке думали иначе. Их внимание к особым нуждам вполне конкретного, родного для них места на земле не только придавало их политической карьере и ожиданиям особое местное своеобразие — сама политическая мысль виргинцев была пропитана местным ароматом и сдерживала все их социальные идеалы в определенных рамках. Местный патриотизм был семенем федерализма, без которого страна не выжила бы, а ее либеральные институты не упрочились. Из своих достижений, которые Джефферсон хотел увековечить на могильном камне, лишь одно — Декларация независимости — вы
176
ходило за пределы Виргинии, два других—виргинский статут о религиозной свободе и основание Виргинского университета — имели только местное значение.
Проиграв всю гамму виргинской жизни XVIII века, мы увидим, как сменяют друг друга множество фактов, свидетельствующих, что виргинские лидеры были связаны с родиной даже теснее, чем английские в ту же эпоху—с Англией. Речные пути сообщения и трудности сухопутного транспорта собирали всю коммерческую деятельность неподалеку от плантаторских усадеб — на личных пристанях. То же верно и в отношении культурной жизни: центрами ее (включая лучшие библиотеки) являлись разбросанные по всей колонии и стоящие особняком плантаторские дома. Дети состоятельных плантаторов не ходили в столичные школы, а учились в местных школах «на старых полях» или занимались с частным преподавателем под крышей родного дома.
Хотя Уильямсбург оставался политическим центром колонии, он так и не стал столичным городом; и при отсутствии городов приходские молельные дома, здания окружных судов и отдельные усадьбы стали естественными центрами притяжения общественного интереса и местами собраний. В свое время автор «Виргинского излечения» (1662) жаловался на то, что «разбросанность мест проживания» в Виргинии является источником опасной независимости и отклонений от догмы англиканского вероучения и что «единственное средство лечения виргинской болезни... следует искать в строительстве и заселении городов в нескольких округах». Благожелательные космополиты снова и снова предлагали вознести Виргинию до респектабельно-английского уровня книжной культуры и религиозной ортодоксии, навязывая ей возведение городов. Давление с этой стороны вызвало полемику по вопросу о так называемом «образе проживания» между теми, кто возлагал свои надежды на городскую Виргинию, столь же просвещенную и культурную, как родная Англия, и теми, кто считал, что Виргиния может стать просвещенной и культурной, идя своим собственным путем. Акт о совместном проживании 1680 года ставил целью вызвать рост городов в законодательном порядке, однако он, так же как и все последующие (включая даже октябрьский Акт 1705 года, освобождавший горожан от трех четвертей налогов), преуспел лишь в появлении городов на бумаге. Дух местного патриотизма, неповторимый характер местности и возделывание табака, подкрепленные такими институтами, как окружные суды и приходские советы, — все это оказалось для
177
законодательства слишком крепким орешком. Зачем, справедливо спрашивали плантаторы, им строить города, которые могли бы оттянуть на себя коммерцию с их личных пристаней и их власть из местных судов и церквей?
Одним из немаловажных последствий процветающего местничества явилось здоровое сближение личной выгоды с политической деятельностью. Виргинец избирал политическую карьеру не только для того, чтобы защищать свои значительные имущественные и семейные интересы, но и из-за личной вовлеченности во все проблемы местной жизни. Давая советы своему племяннику,молодому Питеру Карру,в письме от августа 1785 года, Джефферсон убеждал его в том, что личное честолюбие политика должно включать в разумных пропорциях стремление и к личной выгоде и к общественной пользе: «Каждый потерянный тобою день будет откладывать момент твоего вступления на политическую сцену, где ты сможешь быть полезен самому себе... Обогатив свои знания, ты приобретешь самую возвышенную точку зрения на все предметы простым служением интересам своей страны, интересам своих друзей и своим личным интересам, сохранив в то же время чистыми и незапятнанными и свои совесть и честь». В те годы и еще долгое время после под выражением «моя страна» Джефферсон подразумевал Виргинию. Сближение общественной деятельности с интересами того места, где жил политик, заставляло виргинцев искать политические решения не в велениях философских абсолютов, но в балансе местных интересов. Подобно традиционализму, местный патриотизм не терпел политической догмы.
Виргинцы обрели свой особый склад ума, свою прославленную гибкость духа благодаря некоторым поистине счастливым совпадениям. В конце XVII и в XVIII веке возможность перенесения многих сторон английской провинциальной жизни в Виргинию мог представить себе любой здравомыслящий человек. В то же время условия жизни там не были столь схожи, чтобы обеспечить перенос английских обычаев легким, чисто механическим способом. Если бы Виргиния менее походила на Англию, то попытки воссоздать в Новом Свете английские обычаи могли показаться лишь абсурдными и романтическими. Если бы Виргиния более походила на Англию, то подражание всему английскому могло оказаться только мимикрией и живые английские институты скоро превратились бы в американские окаменелости. Ни один разумный виргинец не мог рассчитывать на то, что ему удастся сыграть драму английской жизни дословно; в то же
178
время виргинец не мог не ощущать, что его виргинскую драму следовало играть в английской традиции.
Виргинскому сельскому джентльмену удалось избежать как раз той нелепой несообразности, сущность которой хорошо передается карикатурой на английского колониального чиновника, обедающего в смокинге в джунглях в хижине из соломы. Многие из поселенцев на Ямайке и Барбадосе в XVIII веке тоже хотели построить на островах свои маленькие Англии, хотя экзотические флора и фауна, расслабляющий климат тропиков и мириады других местных отличий не позволяли даже мысленно, не вдаваясь в самую безудержную фантазию, рисовать в этих условиях нечто, даже отдаленно схожее с порядками английской жизни. Скоро те, кто не смог выдержать чуждого образа жизни, вернулись в умеренный климат Англии. Они оставили Кариб-ские острова во власти приказчиков-управляющих и тех немногих английских плантаторов, кто открыто предпочитал экзотический образ жизни с его особыми привилегиями роскоши, праздности, деспотизма и безответственности. В противоположность всему этому климат и характер местности в Виргинии позволяли поселенцам, не переходя границ разумности, имитировать порядок английской провинциальной жизни и пересаживать на новую почву английские институты. К счастью, они избежали искушения сделать из подражания догму или же строить свою жизнь точно по английским чертежам.
Самым главным общественным институтом Виргинии был табак; и сила и слабость виргинцев особенно ярко сказались в том, что они охотно приняли его правление. Заключив в свои объятия местную природу, виргинцы иногда позволяли ей себя соблазнить. Устроители жизни в Джорджии непременно решили выращивать экзотического шелкопряда—лидеры Виргинии, обнаружив, как хорошо растет на их земле табак, позволили ему взять власть над собой.
Последний акт виргинской колониальной драмы преподносит нам еще один урок высочайшей иронии. Действие его происходит во время Революции в рамках федеральной Конституции и при господствующем положении виргинской династии (Вашингтон —Джефферсон—Мэдисон—Монро) в федеральном правительстве. Вожди той эпохи были последним цветом виргинской аристократии середины XVIII века и отнюдь не первым — американского национального духа. Начав Революцию и столь много сделав для ее победы, виргинская аристократия, по существу, совершила самоубийство. Бедствия войны, разрушения, произведенные в Виргинии британскими войсками, отделе
179
ние церкви от государства, разрыв торговых связей и упадок культуры табака — все это внесло свою лепту в конец аристократии и ее институтов.
Федеральная Конституция была той столбовой дорогой нации, с которой нельзя повернуть назад. Ведущая роль виргинцев в федеральной системе сохранялась, пока правительство страны оставалось аристократическим сотовариществом, каким была, в сущности,Виргиния в прошлом. У кормила правления Соединенными Штатами виргинцы оставались до той поры, пока Соединенные Штаты оставались не чем иным, как большой Виргинией. Преувеличенные виргинские добродетели XVIII века оказались пороками. Местный патриотизм стали называть местничеством, а особые интересы земли, на которой жили люди, считались мелочными и препятствующими прогрессу.
Книга вторая
ВОЗЗРЕНИЯ И ПОРЯДКИ
Я думаю, мы на правильном пути усовершенствований, ибо мы осуществляем эксперименты.
Бенджамин Франклин
Они больше склонны изучать людей в деле и общении, нежели углубляться в книги, и большей частью они стремятся к быстрейшему и наиболее эффективному познанию только того, что является абсолютно необходимым.
Хью Джоунс
На новом месте им открылись новые перспективы и новые воззрения. Научная мысль в Америке еще не родилась, но были признаки американского образа мышления. По мере того как составленные в Европе планы развития в каждой колонии подвергались изменениям, стали проявляться и общие для колоний пути развития. Последующие главы покажут направления размышлений по вопросам познания и образования, деятельности квалифицированной части населения в области права, медицины и науки. Новые горизонты открывались в Новом Свете, и не потому, что у американцев взгляд был зорче, а потому,что он не натыкался постоянно на груды богатств прошлого.
Часть пятая
РАМКИ МЫШЛЕНИЯ АМЕРИКАНЦА
Мы считаем самоочевидными истины...
Декларация независимости
24
ТРЕБУЕТСЯ: ФИЛОСОФИЯ НЕОЖИДАННОГО
К началу XVII века Европа накопила богатый, но нескладный культурный багаж. Системы мысли, сложившиеся институты, профессиональные традиции, догматически определенные разделы знаний, рассматриваемые как все то, что необходимо знать, весьма загромоздили пейзаж Англии и Европы. Самой земли почти не было видно.
Системы всегда порождают другие системы; когда новые освободительные движения возникли в Англии и на континенте в XVII и XVIII веках, они приняли знакомую европейскую форму антисистем. Таким образом, Просвещение, заявлявшее об освобождении людей от суеверия, догмы старой власти и окаменелой мысли, само приобрело много черт неподатливости и авторитаризма того, с чем и боролось. Европейское Просвещение в действительности было не многим больше,чем заключение мысли в тюрьму образца XVII и XVIII веков. Новый «рационализм», который европейцы хвастливо представили как свою новую свободу, был старым догматическим способом порабощения человека. То, что Карл Бекер описал в качестве «Небесного города философов XVIII века», было лишь миражом свободы. Лучшие европейские умы того времени трудились над созданием стен новой конструкции, внутри которой должны были себя заточить. Освобождение никак иначе не могло быть постигнуто в Европе.
Жизнь в Америке должна была придать новое значение самой идее освобождения. Для американцев культурное обновле
182
ние и интеллектуальная свобода не должны были означать только лишь смену одних идолов другими;они означали выход на свежий воздух.
Самым многообещающим новшеством Нового Света был не его климат, его флора, его фауна или его полезные ископаемые, а его новая концепция знания. Богатство новообретенной земли могло создать условия хорошей жизни по меркам Старого Света. Однако понимание, что само знание может отличаться от того, во что прежде верили, открывало сферы, о которых ранее и не мечтали. В Новом Свете перед людьми повсеместно открылись немыслимые возможности. Ни одно из американских изобретений не повлияло на мир в такой степени, как концепция знания, вытекающая из американского опыта. Чтобы понять это открытие, мы должны приглядеться к первым дням колонизации.
Когда еще культура столь мало была обязана ее немногим великим умам или счастливым в силу своего происхождения мужчинам и женщинам? Одно из различий между культурами Европы и Соединенных Штатов состоит в том, что более старая культура традиционно зависела от монументальных достижений немногих, в то время как более новая культура — распространенная, размытая, ориентированная на развитие — больше зависела от неординарных, сходящихся воедино путях многих.
В большинстве прежних общественных систем — разумеется^ аристократических обществах Западной Европы—правители и духовные лица были классами «объясняющими». Они были признанными обладателями путей познания, секретных ключей к хранилищу тайн и знаний предков. Протестантская Реформация с ее учением,всеобщим для всех верующих, конечно, подорвала почитание к особому классу «знающих», но вскоре и она создала институт «протестантских» священников (в Женеве — Кальвина или в Лондоне — архиепископа Лода), которые в свою очередь отрицали свободу постижения истин для мирян или для еретиков. Простые люди могли проявить свой здравый смысл, действуя только путем, одобренным их «старшими».
Американская жизнь быстро подтвердила свое несоответствие любому особому классу «знающих». Здесь люди были более заинтересованы в накоплении опыта, нежели в совершенствовании «истины»; новизна Нового Света подтолкнула их к мысли о том, что система доказательств сама по себе может ввести в заблуждение. Как пояснял в конце XIX века Уильям Джеймс, необходимость в теоретически совершенных доказательствах редко проявляется на практике. В Америке, говорил он, «обладание истиной, отнюдь не являясь самоцелью, выступит только
183
предварительным этапом удовлетворения других жизненных потребностей». Иногда сознательно, иногда волею обстоятельств американцы прислушивались к требованиям «самоочевидности». Вскоре этот призыв к самоочевидному стал отличительной чертой народной теории познания — подменой философии или философией необразованных мыслителей.
Чем больше общество обременено грузом своей древней культуры и обычаев, тем более вероятно, что его глубинная и отточенная мысль изменит путь своего развития. Одним из путей, с помощью которого американский опыт раскрепостил Новый Свет, было освобождение людей от представления о том, что любой из значительных общественных институтов нуждается в солидном фундаменте системного мышления; что умелое правление должно подкрепляться глубоким политическим учением; что активное религиозное учение должно быть поддержано умным богословием—словом, что наилучшее существование должно основываться на самом умудренном мышлении. Этот подход должен был объяснить внешне противоречивые направления практического и традиционного в американском уме — открытость к неизведанным путям и готовность принять старые и традиционные законы, — поскольку как здравый смысл, так и обычное право прошли испытание временем и были способами решения проблем, не требующими раздумий.
В Америке, казалось, не было большой необходимости в философии неожиданного как в новом варианте европейских школ философии. Переизбыток отработанных наилучшим образом способов мышления европейского ума еще раз доказывал, что Америка вряд ли нуждалась в новшествах. Менее аристократичный и более мобильный Новый Свет требовал такого метода понимания человеческого опыта, который подходил бы для чужестранцев и был бы в равной степени приемлем для любого, где бы он ни находился.
«Здравый смысл» был, разумеется, старым и вполне уважаемым явлением в западноевропейской цивилизации. Некоторые шотландские мыслители XVIII века — их влияние не обошло Америку, а один из них стал фактически любимым философом Георга III — разработали особую «философию здравого смысла». В Америке явно доминирующее стремление к самоочевидному не приняло, однако, каких-либо похожих академических форм; это была философия, не имевшая философов. Она должна была стать таковой, так как это был образ мышления, питаемый сомнением в способности профессионального мыслителя думать лучше других.
184
Обращение к самоочевидному не вытеснило более академические и более догматические способы мышления среди всех американцев, но американская жизнь подпитывала его, превратив в превалирующий. Это было не построением немногих великих американских мыслителей, а образом американского мышления. Он основывался на двух мнениях. Первое состояло в том, что причины, на основании которых люди совершают свои поступки, гораздо менее важны, чем сами поступки; что лучше поступить хорошо во имя неправильных или непонятных целей, чем хранить,как сокровище,систематизированную «истину» с амбициозными выводами; что глубокие раздумья не обязательно приводят к наиболее удачному поступку. Второе мнение исходило из убеждения в том, что новизна жизненного опыта должна свободно восприниматься человеческой мыслью. Зачем процеживать Новый Свет через философские сита Старого? Если философия отрицала косвенные намеки опыта, то должна быть отвергнута философия, а не опыт. Таким образом, человеческий разум был полезен не тогда, когда он обладал самыми совершенными инструментами для анализа и систематизации всего знания, а когда был наиболее чувствителен к непредсказуемым нашептываниям окружающего мира. Блестяще образованный ум был менее важен, чем ум открытый и ничем не отягощенный.
25
ПРИЗЫВ К САМООЧЕВИДНОМУ
Второе предложение Декларации независимости провозглашает: «Мы считаем самоочевидными истины...» Извлекая основные общественные истины из их «самоочевидности», как было в первоначальном проекте, Декларация основывалась на ярко выраженной американской специфике.
Корни призыва к самоочевидному были описаны достопочтенным Хью Джоунсом еще в 1724 году в данной им характеристике жителей Виргинии:
Итак,у них хорошие природные наклонности, и они быстро изучают искусство и науки; однако бизнес или увлечение обычно отвлекают от серьезной учебы, постижения глубины явлений, от готовности к обустройству своих дел, так как пока они основательно не постигли основ знаний и не установили такие порядки и такие институты, какие могли бы постепенно вписаться в столь благоприятные естественные возможности. Как бы то ни было, благодаря их быстрому восприятию они обладают достаточным багажом знаний и беглостью речи, хотя их познания большей частью только поверхностны.
185
Они скорее предрасположены постигать людей через бизнес и общение, чем погружаться в книги,и в основном стремятся постичь только то, что абсолютно необходимо, самым быстрым и наилучшим образом.
Самые обдуманные суждения по этому поводу принадлежат Франклину и Джефферсону, наиболее красноречиво высказывавшим идеи американского и антиаристократического образа мышления о мышлении. Далеко не единожды Франклин отказывался участвовать в научном споре. «Диспуты, — опровергал он европейских критиков своих идей по электричеству, — хороши для умиротворения чужой раздражительности и для разрушения собственного покоя». Он говорил, что если его наблюдения верны, то они непременно подтвердятся опытом других людей; если нет, их следует отвергнуть. Суть своей веры в самоочевидное он выразил в письме одному англичанину, сообщая в 1786 году о позитивных сдвигах в американском правительстве. «Я думаю, мы на правильном пути усовершенствований, ибо мы осуществляем эксперименты. Я не противостою всему, что кажется неправильным, так как массы гораздо легче направить по правильному пути силою опыта, чем сдерживать их от неверного шага посредством рас-суждений». Это во многом перекликается с замечаниями Джефферсона (в его проекте преамбулы закона Виргинии об учреждении свободы религиозных верований) о том, что «мнения и вера людей зависят не от их собственного желания, а непроизвольно следуют доказательствам, предложенным их рассудку».
Основатели европейской либеральной мысли утверждали, что в любом открытом столкновении истины и заблуждения неизбежно превалирует истина. Им же принадлежит другое утверждение о вере в философов, о таинственной способности просвещенныхивеликихумовусваивать истины соперничающих систем, о возможности философов разграничивать системы, соответствующие существующим явлениям и законам природы. У них была просто другая аристократическая вера, но ныне аристократией стали философы и ученые. Прогресс идентифицировался с тем, что сэр Фрэнсис Бэкон назвал «распространением знания»: единицы талантливых и привилегированных играли ведущую роль. Классическое французское произведение «Исторический очерк развития человеческой мысли» маркиза де Кондорсе создало самых глубоких философов—Декарта, Ньютона и Лейбница,героев битвы за освобождение человеческой мысли. Усовершенствованная ими метафизика помогла людям вырваться из политических и религиозных тюрем, воздвигну
186
тых за века королями и священниками. Это была работа «людей одаренных, всегда существующих благодетелей рода человеческого».
Такое объяснение было неприемлемо для Америки. Даже Джон Адамс, считавший, что общественное неравенство — родник истории, был разгневан. «Жаль, — иронично восклицал Адамс, — что этот одаренный человек не может быть королем и священником для всего человечества!» А в 1811 году Адамс добавил к своим рассуждениям:
Французские философы были слишком опрометчивы и торопливы. Они были столь же хитры, как и себялюбивы, и такие же лицемеры, как священники и политики Вавилона, Персии, Египта, Индии, Греции, Рима, Турции, Германии, Уэльса, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Италии или Англии. Они не понимали того, что собирались делать. Они ошиблись в своих силах и возможностях: и в результате были разгромлены со всеми своими теориями.
Боюсь, что поспешность и опрометчивость философов задержали прогресс человечества по крайней мере на сто лет.
Общественная мысль совершенствовалась в знаниях, а общественное сердце в человечности, справедливости и доброте; отступали остатки феодализма, инквизиции, пыток, жестокости наказаний, негритянского рабства. Но философы должны подойти к совершенству per saltum*. В десятки раз более разъяренные, чем Джек в «Сказке бочки», они рвали и раздирали всю одежду на кусочки и не оставили в ней ни одной целой нитки. Они вынуждены были искать прибежище у Наполеона, а Гиббон сам стал защитником инквизиции. Какие милые и славные Равенство, Братство и Свободу они установили теперь в Европе!
Недоверие Адамса к немилосердным требованиям гения и его предпочтение более медленному, трезвому развитию общественной мысли отразили глубинное движение в американском восприятии мира: различие между Вашингтоном и Наполеоном; между Рузвельтом, Трумэном и Эйзенхауэром, с одной стороны,и такими доморощенными европейскими провидцами, как Ленин, Муссолини и Гитлер, — с другой.
В Америке народ могла бы освободить не борьба современных учений со старинными и ошибочными философскими системами, а возможность приблизить всю философию к повседневной жизни. Никакая философия не была слишком свята для такого испытания. Американцы усмотрели меньшую ценность высокоинтеллектуальных состязаний ученых академий, страстных споров художников и пророков левых движений мира по сравнению со свободной конкуренцией рынка. Подобная конкуренция была еще едва знакома Европе и могла быть
* Скачком, немедленно (лат.).
187
никогда ею не познана в грубом американском обличье. Когда судья Оливер Уэнделл Холмс писал в 1919 году, что «наилучшее испытание истины состоит в умении мысли приспособиться к конкуренции рынка», это не было обращением отдельного философа к обществу философов. Скорее он взывал от имени профессиональных мыслителей к большей части американцев.
В XVIII веке, если не раньше, американский опыт уже начал придавать нашему мышлению эту особенность. Защищая свободу издателей, Франклин писал 24 июля 1740 года в «Пенсильвания газетт»: «Если напечатанное в данном виде полезно, то человечество извлечет из этого выгоду; если же это вредно... то, чем больше оно выставлено на публичное обозрение, тем больше выявлена его слабость и тем больший позор падет на автора, кем бы он ни был». Да и Джефферсон, настаивая на свободе слова, печати и совести, меньше уповал на привлечение современных философов к делу просвещения, чем на возможность каждого свободно и ясно мыслить, полагаясь на свой собственный опыт. «Ваш собственный разум — это единственный советчик, данный вам небесами, — советовал Джефферсон, — и вы в ответе не за правильность, а за честность решения». Основные американские проблемы должны были быть решены скорее на основе житейского опыта, чем в дискуссиях или учебе. Прямой и кратчайший путь дерзаний американцев может быть проиллюстрирован их идеей прогресса.
К XVIII веку многие европейские мыслители пришли к идее прогресса окольными и мучительными в интеллектуальном отношении путями. Был созерцательный философский путь, исследованный Фрэнсисом Бэконом и Декартом; был созерцательный исторический путь, исследованный Фонтенелем, Кондорсе и Гиббоном. Некоторые мыслители отталкивались от свойств человеческого характера или законов природы; другие переносили свое историческое видение в прошлое,на римлян, Сократа или даже на первобытные племена. Некоторые подвергали критическому анализу человека, общество и вселенную,с тем чтобы обнаружить элементы неизбежного развития; другие обращались к давно прошедшим событиям, чтобы проследить их влияние в настоящем и будущем.
Все это было областью размышлений ученых мужей. В Англии прогресс представлялся продуктом медленного, лишенного драматизма развития в течение длительного периода сравнительно мирного прошлого. Во Франции прогресс казался мечтой, которая могла полностью осуществиться только в будущем. Но в Америке не надо было быть ни историком, ни
188
пророком: прогресс, казалось, подтверждался повседневными делами. В колониальной Америке с самого начала люди подмечали самоочевидность прогресса в Новом Свете. «Пусть нам укажут на какую угодно колонию или страну в мире, — заявили судьи из Массачусетса в ответе истцам по «делу о петиции Чайлда» (1646), — где было бы больше сделано за шестнадцать лет». Когда спустя столетие Бэрнэби приехал в Филадельфию, он воскликнул, что там, где всего лишь восемьдесят лет тому назад была «дикая и нетронутая пустыня, заселенная только хищным зверьем и варварами», теперь процветающий город. «Может ли разум получить большее удовольствие, чем от осознания подъема и прогресса городов и государств? Чем от созерцания богатого и изобильного государства, возникающего из небольшого поселения или колонии? Это удовольствие должен ощутить каждый, кто видит Пенсильванию». Американская история могла бы быть подытожена во фразе, появлявшейся на многих книжных титульных листах: «Прогрессивное развитие... британских поселений в Северной Америке».
В связи с американским примером стало естественным определять прогресс степенью роста и развития. Выживание и жизнеспособность американских колоний сами по себе были доказательством прогресса. Свои умозаключения о прогрессе в Америке Франклин сделал на основании того, что заметить мог любой: население на просторах Американского континента росло. Как пояснял Франклин в своих трудах — «Заметки относительно увеличения численности человечества, заселения стран и т.п.» (1755), — не было бы большей ошибки, чем делать общий вывод о росте населения на основании опыта стран Старого Света. «Подсчеты, произведенные на основе наблюдений, осуществленных в полностью заселенных старых странах, подобных европейским, не подойдут для новых стран, подобных американским». Было бы бесполезным делом стараться ограничивать американских предпринимателей или держать в узде американское население. «Ибо народ возрастает соразмерно числу свадеб, и он тем сильнее, чем легче и спокойнее содержать семью. Когда семью содержать легко, больше людей вступают в брак и в более раннем возрасте». Изобильная земля и легкость в ведении дел в Америке побуждали людей рано вступать в брак и иметь больше детей: население здесь удваивалось каждые двадцать лет. «Несмотря на такой рост, территория Северной Америки столь обширна, что потребуется много лет, дабы полностью ее заселить, и до тех пор, пока она не будет полностью заселена, труд никогда не будет дешево цениться здесь, где человек долго не бывает ра-
189
ботинком у других, а приобретает свою собственную землю, где человек долго не работает коммивояжером, а присоединяется к новым поселенцам и заводит собственное дело,и так далее. Таким образом, труд в Пенсильвании не дешевле теперь, чем был тридцать лет назад, хотя сюда были ввезены тысячи работников». В то время как высокая стоимость труда предотвращала конкуренцию колоний с метрополией в производстве товаров, растущее население с годами расширяло американский рынок для товаров британских.
Короче говоря, для естественного размножения растений или животных нет ограничений, кроме тех, что создаются самим количественным их ростом и нехваткой пищи... Таким образом, согласно данным о занятости, представляемым колониями предпринимателям в метрополии, сейчас, как предполагается, в Северной Америке находится свыше миллиона англичан (хотя, думается, пересекли океан менее 80 000), и до сих пор выходцев из Британии,возможно,не меньше, а значительно болыпе.Удваивание миллиона, положимдсаждые двадцать пять лет в следующем веке создаст население большее, чем в Англии, и по эту сторону океана окажется самое большое число англичан. Какое приращение мощи Британской империи в людях, да и в землях! Каков рост торговли и мореплавания! Какое количество судов и моряков!
Франклин видел, что американская действительность уже разрушает европейские теории. Например, теория «меркантилизма», с помощью которой Англия и ее соперники оправдывали свою борьбу за империи, была построена на данных о перенаселенности Европы. Меркантилизм исходил из предположения о том, что богатства мира — это пирог и больший его кусок для одной страны означал меньший для всех остальных. В постоянно увеличивающемся Новом Свете все это казалось док-тринерством.Почему Америка должна следовать европейской схеме? Почему здешний рост народонаселения должен угрожать благосостоянию Англии? Напротив, как отмечал Франклин, расширение американских колоний привело бы к снижению возможной конкуренции со стороны американских производителей и к росту рынка сбыта для английских товаров.
Производство основывается в бедности. Массы безземельной бедноты, вынужденные трудиться на других за низкую плату или же голодать, создают для предпринимателей возможность налаживать производство, осуществлять его достаточно дешево, дабы не допускать импорт таких же товаров из-за границы и окупать расходы по собственному экспорту.
Однако человек, имеющий свой участок земли, на котором он может собственным трудом содержать в достатке семью, не до такой степени беден, чтобы трудиться на производстве и работать на хозяина. Таким образом, до тех пор пока в Америке для нашего народа земли имеются в достаточном количестве,наемная сила не может быть в избытке и за любую оплату. Один
190
очень способный автор замечательно подметил, что естественным средством существования малочисленного населения в лесной стране является охота, большего числа людей — скотоводство, еще более многочисленного — сельское хозяйство, и при самом большом количестве людей—производство; и это последнее должно прокормить значительную часть народа в многонаселенной стране, иначе людям придется или жить благотворительностью, или погибнуть. Таким образом, курс нарост народонаселения, что очень благоприятно для Великобритании, будет осуществляться наилучшим обра-зом,при этом гарантией успеха является владение Канадой.
В своей работе «Намерения Великобритании относительно ее колоний и приобретение Канады и Гваделупы» (в соавторстве с Ричардом Джэксоном, 1760) Франклин использовал свои рассуждения применительно к британской политике в Северной Америке после победы над Францией. Вопрос, в то время обсуждавшийся в печати и в парламенте, состоял в том, следует ли британцам вытеснить французов из Северной Америки, аннексируя Канаду, или вместо этого занять сахарный остров Гваделупу. Ортодоксальные меркантилисты заявляли, что холодные, пустынные, дикие пространства Канады с ее нуждающейся в защите длинной границей и весьма скудной пушной торговлей легли бы тяжелым бременем на мать-Англию и что вытеснение французов из Северной Америки очень опасно укрепило бы независимость американцев. Однако Франклин иначе воспринимал проблему: по его мнению, рост, экспансия и увеличение народонаселения были законом американской жизни. Все старинные аналогии между человеческим организмом и государственным были неверны, так как для роста государственного организма фактически не было естественных границ. Потребляя английские товары, американский рынок обеспечивал большую занятость для английской рабочей силы и в итоге привел к десятикратному увеличению численности населения метрополии. Трудно оценить значение работы Франклина, особенно учитывая,что ряд влиятельных англичан (включая самого великого Питта) уже разделяли его взгляды, но британцы по Парижскому договору 1763 года приобрели Канаду, а не Гваделупу и,таким образом,отвели французскую угрозу от континентальных американских колоний.
Этот принцип мышления фактически обосновал новую американскую аргументацию для имперской экспансии. Он также выражал свежий и наивный подход к самой идее прогресса.Экс-пансия американских колоний XVIII века могла бы и не послужить столь мощным уроком, если бы Франклин и другие не научили американцев в наивной и энергичной форме оспаривать казавшееся самоочевидным.
191
То же самое могло быть высказано в отношении других американских идей колониальной эпохи, что на первый взгляд напоминало выводы философов европейского Просвещения. При повторном к ним обращении эти американские доктрины часто оказывались «самоочевидными* выводами, сделанными на основании фактов американской жизни. Например, разносторонние интересы философа французского происхождения выражали его веру в высшее единство разума, а его энциклопедические интересы утверждали теоретический «рационализм». Разносторонность же колониста Виргинии диктовалась фактическим многообразием его ответственности — за местные власти, религию, урожай, медицинское обслуживание и все остальное в его небольшом мирке колониального поселения. К тому же, в то время как во Франции всеобщее равенство должно было усердно доказываться исследованиями и размышлениями (например, в работе Руссо «Рассуждение о начале и основаниях неравенства...»), в Америке идея равенства имела самоочевидное значение. Разумеется, американские реалии в то же время ущемляли американские идеалы: когда «жизненные реалии» в Америке, казалось, противоречили равенству (как в случае с неграми или индейцами), многие добрые американцы испытывали серьезные сомнения.
У американцев с самого начала сформировалась привычка воспринимать в основном только те идеи, которые, казалось, уже прошли испытание жизненным опытом. Они пользовались существующими вещами как мерой того, чем они и должны быть; в Америке понятие «есть» стало мерилом для понятия «должен». Не был ли Новый Свет живым отрицанием старого резкого различия между миром, какой он есть, и миром, каким он мог бы или должен быть?
26
ЗНАНИЕ ПРИХОДИТ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ
В наши дни обычным явлением для отдаленных районов мира стал процесс их изучения, нанесения на карту, исследования растительного мира и описания, что предваряет основательное заселение этих районов колонистами. Исследователь, географ и натуралист теперь идут первыми; за ними следует поселенец. Таким образом, весь набор новых явлений исчерпывается или используется различными учеными — еще до того, как начинает развиваться поселенческая культура. Например, к настоящему
192
времени у нас есть более разностороннее, более обширное и более точное знание об Африке, Внутренней Монголии и Арктике, чем было у американских колонистов об Америке, за исключением ее узкой полосы вдоль Атлантического побережья.
Такой мглы, что покрывала в ту пору Новый Свет, сейчас,вероятно,нет ни над одной частью мира; Америка была одним из последних мест, где европейские поселенцы появлялись в большом количестве до исследователей, географов и профессиональных натуралистов. Руководствуясь почти исключительно слухами и обещаниями, первые американцы испытали много радостей и забот, неожиданностей и разочарований исследователей, хотя вели образ жизни постоянных поселенцев. Эта особенность была решающей: озаряла их размышления об окружающем мире, воздействовала на идеал человека, освобождала от многих метафизических и догматических проблем, мучавших европейца, более подверженного самоанализу и ориентированного на книжные познания; она обольщала их глаза и мысли изменчивыми, непостоянными, непредсказуемыми очертаниями окружающего мира — очертаниями, в отношении которых всякий человек, подчас первый зритель, сам по себе был знатоком. Пришло время для чересчур образованного европейца вновь открыть землю, по которой он шествует.
Возможно, никогда ранее ни в одной цивилизованной стране понятия материального и интеллектуального развития не были столь явно синонимичны. Расширение страны и ее заселение автоматически расширяло знания людей о мире. Символом этой американской особенности была экспедиция Льюиса и Кларка (1804—1806), задуманная и снаряженная Джефферсоном, ее познавательные и политические цели были самым тесным образом переплетены. Даже самые ранние документы капитана Джона Смита, Уильяма Брэдфорда или Джона Уинтропа свидетельствуют, что рост знаний об Америке автоматически означал рост новой американской общности. Подчас мы забываем, сколь постепенным было «открытие» Америки: оно было побочным продуктом оккупации континента. Действие, продвижение, исследование означало также расширение границ познания; это неизбежно придавало практичность и динамизм самому понятию «знание». Изучать и действовать стало единым процессом.
Континент сам по себе был великим хранилищем непознанного, и он оставался таким вплоть до XIX столетия. Это случилось не только потому, что у порога сельского дома можно было неожиданно встретить какой-то новый вид растения или животного; предстояло еще описать многие простейшие географиче
193
7-382
ские данные. Любой читатель однотомника первопроходца Дже-дидиа Морса «Американская география» (1789) представляет себе огромные неизведанные пространства, волновавшие ведущих американских географов того времени. Первый полный и систематизированный труд по географии Америки был создан немецким ученым Кристофом Дэниелом Эбелингом (1741 — 1817), в чьих семи томах «Описательной географии и истории Америки: Соединенные Штаты Северной Америки» (1793—1816) были собраны и тщательно исследованы многие сведения из сотни различных источников. Американцы были слишком заняты освоением своей земли, чтобы писать научные труды о ней. Хотя во времена колониальной эпохи были созданы многие обзоры по регионам, такие, как «История Нью-Гэмпшира» Белнепа, «История Вермонта» Уильямса и «Заметки о Виргинии» Джефферсона^ полезные справочники, подобные справочнику Морса, интерес американцев был обращен к использованию земли, а не к полному систематизированному ее описанию. Даже до многотомного труда Эбелинга наиболее значимые описания американской географии были созданы не американцами. «Все сообщения об Америке, опубликованные до сих пор, даже написанные теми, кто обладал особым доступом к наилучшей информации,столь несовершенны, — пояснял Морс в предисловии к своему труду,—что из них может быть почерпнуто очень немного сведений об этой стране. Европейцы были единственными, кто описал американскую географию, и зачастую они позволяли себе фантазировать там, где нужны были просто факты, вводя, таким образом, в заблуждение своих читателей и в то же время заявляя о стремлении рассеять их невежество».
Хотя восточное побережье в определенной степени было изучено, знание земель, лежащих за Аппалачами, полностью основывалось на догадках. Некоторые из них имели политические последствия. Джефферсоновский план будущих западных штатов на правильной современной карте выглядит бессмыслицей; его можно понять лишь с учетом искаженных сведений о географии Запада, которые были распространены в то время. В составленной Морсом на основе «новейших и самых лучших источников» Новой карте Северной Америки (1794) южная окраина Скалистых гор располагалась северо-западнее озера Верхнее! «Исток Миссури неизвестен» — значилось на ней, а река Колумбия и горы Сьерра-Невада не были обозначены вовсе. Морс откровенно признавался в незнании географии Северной Америки, кроме Атлантического побережья: о заливах, фиордах, проливах и островах близ континента «(кроме тех, что отно
194
сятся к Соединенными Штатам...) мы мало что знаем, помимо их названий». Центр континента был не исследован настолько, что широкое распространение получили различные предположения для объяснения особенностей климата освоенного побережья. Относительно холодный климат Америки объяснялся наличием непроходимых лесов, которые, как считалось, покрывают внутренние районы континента (вероятно, для предохранения земли от высыхания под воздействием солнца). На побережье, где леса были вырублены и морские ветры могли достигать глубинных районов, зимние температуры, как утверждалось, стали значительно выше со времен первых поселений.
Новые «данные» по естествознанию, как действительные, так и вымышленные, служили основным материалом для составления самых первых рекламных брошюр, призванных привлечь поселенцев в Америку или побудить их к приобретению там земель. Авторы этих брошюр проявляли не больше осторожности или склонности к сдержанности, чем дельцы от рекламы в любые другие времена. Авторы путеводителей всегда были склонны преувеличивать или, когда было необходимо, придумывать экзотические явления. Некоторые из них зашли в своей фантазии весьма далеко, как, например, турецкий писатель Ибрагим Эффенди, который в 1729 году описал замечательное дерево «ваквак», плодами которого были зрелые и привлекательные женщины; однако многие другие использовали свое воображение для описания необычных растений и чудес Эльдорадо в отношении воды и климата.
Многие истинные знания о Новом Свете были побочным продуктом путешествий, предпринятых в интересах конкретных практических целей. Когда в 1728 году Уильям Берд работал в комиссии по определению границы между Виргинией и Северной Каролиной, он вел журнал «История межевой границы», заслуживающий судьбы более широко читаемого классического произведения настоящей литературы Нового Света. В безыскусной разговорной манере Берд описал не только реальные проблемы обследованных необжитых районов Америки. Он собрал воедино все разнообразные необычные детали окружающей действительности: здесь и суеверный страх индейцев «рассердить Стража Леса, если готовишь пищу из мяса животных и птиц в одной посудине», и рассказ о том, как мужчины-индейцы «скакали на лошадях более неловко, чем любой голландский моряк, а женщины сидели верхом на французский манер, но были столь застенчивы, что не удавалось уговорить их сесть на коня, пока мы были в поле их зрения», и
195
7*
наблюдения за повадками дикой индейки, и сведения о свойствах корней растений как лекарства против змеиных укусов, о достоинствах американского дикого винограда, о повадках медведей и съедобных качествах медвежьего мяса, а также о поразительно приятном аромате мяса хорька.
Сотни деловых поездок других людей предоставили тысячи разрозненных данных о Новом Свете: официальных топографов,подобных Берду, Питеру Джефферсону (отцу Томаса), Чарлзу Мейсону и Иеремии Диксону, которые провели пять лет (1763—1768), уточняя зловещую линию, носящую их имена; частных наблюдателей, таких, как Джордж Вашингтон, поставивший себе цель найти самые лучшие земли и захватить их; странствующих священников,подобных Чарлзу Вудмейсону, принадлежавшему к англиканской церкви; квакера Томаса Чок-ли или же братьев Уэсли, наметивших свой собственный путь спасения человеческих душ; и купцов, подобных полному причуд торговцу книгами Джеймсу Дантону. Один из британских офицеров,Генри Букет,прислал в Филадельфию 3 февраля 1762 года из отдаленного форта Питт Джону Бартраму посылку с образцами: «Полагаю, Вам интересно было бы узнать, что рождает природа в этих диких местах... Я был бы Вам весьма обязан, если бы Вы послали мне на досуге каталог деревьев и растений, характерных для этой страны и непривычных для европейской почвы, так как я намереваюсь в более мирные времена отправить коллекцию одному моему другу».
Казалось, в Америке все знания аккумулируются небольшими, разрозненными порциями. Почти непреодолимым искушением было просто собрать воедино эти порции, не слишком беспокоясь о том, представляют ли они ценность с точки зрения привычных европейских понятий. В то время как американцы добывали новые сведения, европейцы, более склонные к теоретическому, книжному знанию, систематизировали их. Европейские и особенно английские садоводы и натуралисты помогли американцам познать окружающее их богатство. Джон Бартрам, филадельфийский самоучка, открывший, возможно, больше новых растений, чем любой другой американец, и основавший первый в Америке ботанический сад, началом своей ботанической деятельности и средствами для своих длительных экспедиций был обязан Питеру Коллинсону, лондонскому ботанику и торговцу детскими вещами, который распространял американские растения среди английских садоводов. Но, по словам его современника, Бартрам был «больше коллекционер, чем ученый», хотя и «замечательный природный гений», но обладающий недостаточ-
196
ними знаниями основ ботаники. Значение его семян и растений для научной ботаники было открыто английскими натуралистами, такими, как сэр Ганс Слоун и Марк Кейтсби, голландским ботаником Йоханном Фридрихом Гроновиусом и великим шведом Карлом Линнеем. Склонность Бартрама к коллекционированию новых видов и его неспособность систематизировать их символизировали направления американской мысли.
Вероятно, другим знаменитым американским ботаником того же типа был Джон Клейтон, клерк из округа Глостер, штат Виргиния, чьи образцы послужили основой для известной монографии Гроновиуса «Растительный мир Виргинии» (1739 — 1743), которая в значительной степени использовалась самим Линнеем. Вполне естественно, что «Растительный мир Виргинии», основная методологическая монография по американской ботанике в колониальную эпоху, должен был стать плодом европейской научной мысли.
В колониальные времена самый значительный вклад в развитие науки был сделан энергичным и остро мыслящим Кэдуоле-дером Колденом. Родившись в Шотландии, Колден получил степень магистра в Эдинбурге и медицинское образование в Лондоне. В 1710 году он приехал в колонии. С1718 года до своей отставки с государственной службы в 1750 году он занимал ряд должностей в Нью-Йорке—главного землемера, членаГуберна-торского совета и, наконец, 1убернатора провинции. Большую часть жизни он исполнял свои обязанности, полагаясь на заместителей, и, получая средства к существованию за государственный счет, посвятил себя научным изысканиям и был полон решимости сделать свое имя бессмертным. Обладая склонностью к систематизации знаний, он рано увлекся классификациями Линнея. Хотя Колден много думал и писал о мифической «естественной» ботанической системе и любил рассуждать о наиболее общих научных проблемах, эти мысли не привлекли большого внимания; международную славу ему принесла его коллекция и описание американских ботанических новинок. Его «Plantae Coldenghamiae», список растений, найденных в окрестностях его нью-йоркской фермы, возможно, был ближе к систематизированной ботанике из всего созданного американцами в колониальную эпоху. В Америке он так никогда и не был опубликован полностью.
Распространяющийся интерес к американской природе оказался заразительным. Когда в 1748 году видный шведский профессор Петер Калм прибыл в Америку за счет стокгольмской Королевской академии наук изучать растения и деревья для их
197
возможного выращивания в Швеции, он также соблазнился необыкновенным разнообразием американской природы. Хотя он и открыл некоторые новые разновидности и даже виды американских растений, основные полученные им результаты не носили систематизированного характера. Его работа «Путешествия по Северной Америке» включала и такие наблюдения, как небольшая длина юбок канадских женщин, неэкономность методов работы американских фермеров и повадки черных муравьев.
Бюффон и Линней воодушевили американцев на исследование и открытие их нового мира: европейские интересы совпали с американскими возможностями. Однако американцы, будучи предрасположены предоставлять необработанный материал для европейских исследователей, сами редко обрабатывали свои знания на европейский манер. Иногда уже само существование такого числа исследователей в современной Евп;пе, казалось, наталкивало американцев на мысль о том, что сами они не нуждаются в крупных обобщениях. Во всяком случае,им недоставало досуга; они были далеки от старых библиотек и научных центров, а их новый мир манил большим разнообразием «немыслимых феноменов». В Европе, чтобы открыть что-то новое в земном существовании, необходимы были напряженная работа философа, изыскания ученого или трудолюбие энциклопедиста. В Америке надо было прилагать усилия, чтобы не заметить необычное.
27
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Чтобы сделать открытие, американцу не требовалось ни смелости, ни воображения. В старой многонаселенной Англии почти каждый факт или опыт давался усилиями, талантом или мужеством. Не так было в Америке, где новизна, казалось, сама прокладывала себе путь даже к наиболее равнодушному и безразличному взору.
Следовало ли в таком случае упрекать американца, если он слишком охотно верил в то, что его знания произрастают всего лишь из пристального взгляда на мир и конкретных поступков? Каким образом он мог быть менее старательным, чем его азиатский или европейский современник, в поисках знаний на основе рассуждений и исследований? Как отмечал в 1782 году маркиз де Шастеллю:
Чем больше науки приближались к совершенству, тем более редкими становились открытия; однако Америка обладала преимуществами и в мире
198
науки, и в том, в котором мы живем. Ее владения простираются на значительную часть небес и суши, подлежащую изучению. Какие наблюдения не могут быть осуществлены между реками Пенобскот и Саванна? Между озерами и океаном? Естествознание и астрономия—ее своеобразная вотчина,и по крайней мере первая из этих наук обещает огромные перспективы.
Одним из самых значимых и, безусловно, наиболее американских вкладов в развитие науки должна была быть регистрация событий и явлений повседневной жизни. Это было естествознание.
В Англии конца XVII века Роберт Бойль, сэр Исаак Ньютон и другие представители процветающего Королевского общества составили новые законы физики. Но такие вклады в науку были не просто отдельными новыми данными, а глубоко научными выводами. Именно в этой сфере были осуществлены в Англии в эпоху американского колониального периода сенсационные открытия. Физические науки подтверждались, разумеется, опытом и наблюдениями; однако своим духом, значением, даже целями они отличались от естествознания, которое было в сфере перспектив Нового Света.
Различие между естествознанием и физическими науками предполагает различие между научными концепциями Нового Света и Старого в колониальный период. Описывать американцев и европейцев XVIII века только в качестве «ученых» или «детей Просвещения» — значит затушевывать то, что представляет наибольший интерес. По крайней мере две крупные особенности отличают мир физической науки от мира, в котором американские ученые проявляли наибольшее усердие и достигали наилучших результатов в колониальную эпоху. Во-первых, ученый-физик должен уметь теоретически обосновывать свои практические результаты. В противоположность этому развитие естествознания зачастую осуществлялось только с помощью регистрации явлений, привлекших внимание наблюдателя, как, например, в «Естествознании Сельборна» Гилберта Уайта, «Путешествии вокруг света на корабле “Бигль”» Чарлза Дарвина и классических произведениях колониальной Америки по естествознанию, «Путешествиях» Петера Калма, «Естествознании штата Каролина», исследовании «Флорида и Багамские острова» Марка Кейтсби и «Заметках о Виргинии» Джефферсона. Ни одна из этих книг не принесла бы пользы физику. Во-вторых, ученый-естественник — физик или химик — не имеет дела с предметами и категориями повседневной жизни. Он говорит об энтропии, о силе тяжести, о химических субстанциях, о водороде,кислороде и так далее. Этим он отличается от натуралиста,
199
чья лексика почти всегда близка к народной, — он говорит о воде, земле, дожде и воздухе.
Общим местом в истории колониальной американской науки является тот факт, что в то время как в естествознании были достигнуты больные успехи, вклад в естественные науки был значительно меньшим. Эта особенность американской мысли слишком часто объяснялась не чем иным, как ее незрелостью: оглупляющими последствиями условий колониальной жизни, удаленностью Америки от старых учебных центров, недостатком досуга и книг, срочной необходимостью освоения новой страны. Однако подобное объяснение скрывает от нас некоторые из живучих черт американской культуры, так как явно американский подход к науке восходит к ке.хиН^хьной эпохе. Чарлз Томсон писал Джефферсону 9 марта 17Я? года: «Эта страна открывается философскому взору как обширное, богатое и неосвоенное пространство. Оно изобилует корнеплодами, растениями, деревьями и минералами, достоинства и назначение которых остаются для нас неясными».
♦ ♦ ♦
Сведения о Новом Свете, собранные в Новом Свете, обрабатывались из рук вон плохо; в первую очередь замечали то, что само привлекало внимание. То, что виделось, зачастую зависело от удачи путешественника и благоприятного времени года. Джон Джосселин с энтузиазмом поведал 26 июня 1639 года о тех замечательных вещах, которые он видел и слышал в Новой Англии,— истории о «молодом льве, [незадолго до этого] убитом индейцем у Пискатавея; о морском змие, или змее, который лежал свернувшись, подобно канату, на скале у Кейп-Энн, а проплывающие мимо на лодке англичане с двумя индейцами убили бы змея, но индейцы отговорили их, утверждая, что им всем грозит опасность быть убитыми змеем... о тритоне,или болотном человеке, которого он видел в заливе Каско... и который уцепился своими руками за борт каноэ, а м-р Миттин топором отрубил одну руку, похожую по всем признакам на человеческую, тритон вскоре утонул, окрасив воду своей багровой кровью,и пропал из поля зрения». Неудивительно, что Джосселин пришел к выводу, «что в мире существует больше странных вещей, чем можно увидеть между Лондоном'и Стейнсом».
Прочитав записи Джосселина и другие отчеты наблюдательных путешественников, как можно поверить в то, что описательный подход в науке ограничивает воображение? Богиня
200
многообразия царила даже в таких первых рекламных брошюрах, как «Новоанглийское поселение» Фрэнсиса Хиггинсона (1630), в которой описывается, как Бог приспособил землю, воду, воздух и огонь в Америке, чтобы они наилучшим образом удовлетворяли человеческую жизнь. Уильям Вуд в стихотворении «Перспектива Новой Англии» (1634) в поэтическом беспорядке перечислил:
Державный Лев, Медведь —хозяин леса, Лось легконогий и Олень-повеса...
В дуплистом дереве найдя себе приют, Енот и Еж в содружестве живут. Здесь Заяц с Кроликом приют себе нашли И Белка (но повыше от земли), А под землей кипит работа споро — Хорек и Лис здесь прорывают норы. Мотучий Барс — и тот зарылся в землю, И серый Волк, чьему я вою внемлю. Бобры гордятся шкурою нарядной^ А Нутрии дух источают смрадный.
Спустя столетие пестрые новшества Нового Света, переполнившие страницы творения Уильяма Берда «История спорной границы» и наиболее значимого после Декларации независимости литературного произведения Джефферсона — «Заметки о Виргинии» (1784), — представляли собой информационную мешанину о минералах, растениях, животных, организациях и людях. Эта волна впечатлений обрушивалась из Америки на оставшихся дома, но проявляющих большой интерес англичан и была основным потоком новых знаний, поступающих из Нового Света. Америка формировала саму концепцию знаний.
Современный читатель все еще может обратиться к книгам Марка Кейтсби «Естественная история Каролины, Флориды и Багамских островов» (1731 —1743), произведениям Джона Барт-рама и Уильяма Бартрама, книге Александра Уилсона «Американская орнитология» (1808 —1814) или беглым, сделанным по случаю запискам Одюбона и прочитать их с удовольствием и пользой. Авторы большинства работ по естествознанию — даже якобы «системных» обзоров по цветам, деревьям, птицам или млекопитающим — описывали объекты своего внимания, не выходя за рамки познаний обычного человека. Хотя изредка и попадалось латинское название или научная сноска, их работы были написаны на уровне любого человека, имеющего глаза,
Перевод В. Орлова.
201
уши и определенную долю любознательности. Рисунки обладали той же степенью «сложности», что и в иллюстрированных журналах XX века. Для написания подобных книг о путешествиях и по естествознанию теоретической подготовки не требовалось; не было необходимости и в сложных определениях, философских построениях или научной аргументации. Книги были набором фактов, собранных более или менее наобум, по мере того как открыватель набредал на них. Не было общего или логически продуманного порядка изложения материала; автор не испытывал необходимости следовать от определений и предпосылок к выводам. Таким образом, эти книги значительно отличались от таких классических трудов «выясняющей причины» науки, как «Начала» Ньютона. Более того, в то время как лишь немногие могли понять Ньютона и уж совсем мало кто мог внести какой-то вклад в развитие физики, любой сметливый американец был в состоянии дополнить естествознание, заметив неизвестное растение, особенности поведения опоссума или оленя, индейский обычай.
♦ ♦ ♦
Нам слишком долго объясняли, что «унифицированная» система знаний необходима для придания обществу смысла и единства; что люди проявляют большую склонность делиться ценностями и работать во имя общей цели, если они объединены большой всеохватывающей научной системой,и что некая ясная и стройная философия каким-то образом, вероятно, обеспечит подобную систему единого замысла. Готовым примером, конечно, служат средние века, когда такие богословы,как Фома Аквинский и Дунс Скот,создали памятники схоластической философии. Банальной стала идея о том, что более унифицированная философия приведет к более унифицированному обществу и что наш мир был бы лучше и разумней, если бы мы в Америке имели такую стройную и «унифицирующую» мысль.
Но так ли это на самом деле? Это могло казаться таковым в более ранних общественных системах, где смысл событий, как считалось, доступен лишь священникам или правящему классу. Могло ли это продолжаться в современном образованном обществе, где большинство народа, по общему мнению, понимает цели развития общества? Унифицировать такое общество силою только лишь концепций невозможно, какими бы усовершенствованными и искусными, какими бы жизнеспособными они ни были у немногих философов и богословов. «Попытка перебро
202
сить мост над пропастью между многообразием и единством — это старейшая проблема философии, религии и науки, — отмечал Генри Адамс в работе «Мон-Сен-Мишель и Шартр» (1905), — однако самый непрочный мост из всех — это человеческая идея, если только где-то в ее рамках или вне ее не таится энергия, далеко не индивидуальная; и в этом случае тотчас же вновь встает старый вопрос: что это за энергия?»
Утверждать, что общество может или должно быть «унифицировано» какой-то всеобщей философской системой — будь то «Сумма теологии», «Институты» Кальвина или «Капитал» Маркса,— значит вверять себя концепции знаний аристократических классов: пусть элита знает основы и смысл общественного развития, она сохранит эти знания для всех остальных.
Когда, таким образом, смысл жизни определяется философской системой, когда философия становится инструментом унификации знаний, знание само по себе становится монополией. Чтобы понять систему, необходимо начать сначала, необходимо понять предпосылки, зачастую сформулированные специальными терминами или на иностранном языке,и продвигаться от определений, аксиом и предположений к выводам и заключениям.
Но тот вид нового знания, который жизнь в Америке сделала возможным именно потому, что была практичной и многообразной, не требовал предварительного обучения. Можно было «нырнуть» куда угодно. Познание Нового Света — его климата, географии, растений, животных, дикарей и болезней — было доступно любому. Грубо нацарапанная надпись на коре дерева, сообщающая, что «здесь Дэниел Бун застрелил медведя», или сделанное походя описание русла реки становились крупицами естествознания. Американец не испытывал необходимости в первоначальных подробных данных или точных определениях и предпосылках, он брался за первое же новое явление, которое привлекало его внимание.Если «знания» были разносторонними, то люди могли учиться с помощью обычного жизненного опыта. Они сами себя «создавали», ибо способны были действовать в любое время и в любом месте. Джон Бартрам и Бенджамин Франклин являли собой пример такого способа обучениям было много других, «усовершенствовавших» свой опыт, чтобы стать примером системы познания американского образца. Идеал американского естествознания замечательным образом подходил к мобильному обществу. Путь к нему пролегал не только через академию, монастырь или университет, но открывался везде любому человеку.
Часть шестая
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБЩЕСТВО
Один из греков претендовал на государственный пост; против его кандидатуры возражали по той причине, что он не был ученым. Вы правы, сказал он, исходя из вашего понимания учености, я не ученый, но я знаю, хак сделать бедный город богатым, а маленький—великим.
Джерид Элиот
28
ОБЩЕСТВО ИДЕТ В УНИВЕРСИТЕТЫ
«Гуманитарное» образование, призванное расширять границы восприятия человеком времени и пространства, было в Европе привилегией избранных. Традиционным критерием гуманитарного образования, если его можно назвать таковым в Англии XVIII века, служила степень «бакалавра гуманитарных наук», присуждаемая, как предписывалось парламентом, только Оксфордским и Кембриджским университетами. Эта старая клерикально-аристократическая монополия сохраняла ученую традицию и была тем древом, на котором произросли золотые плоды европейской мысли. Однако университеты были подобны оранжерее, где могли развиться лишь определенные направления мысли. Их древние стены создавали двойную преграду: с одной стороны, они отделяли обитателей университетов от общества, а с другой, — препятствовали проникновению народа в мир книжной мудрости.
Надо признать, что в Англии XVII и XVIII веков появились признаки перемен. В XVII веке,особенно после принятия в 1662 году Акта о единообразии, обязующего всех священнослужителей, а также-преподавателей колледжей и школ целиком признавать «Книгу общих молитв», нонконформисты создали так называемые «диссидентские академии» для подготовки своего духовенства, для организации высшего образования детей «диссидентов». Интеллектуальная жизнь Англии того времени со
204
средоточивалась главным образом в ассоциациях типа Лондонского королевского общества или поместьях джентльменов. Все это вело к секуляризации и расширению сферы английской мысли. Однако, по крайней мере вплоть до начала XIX века, цитаделью просвещения в Англии оставались Оксфорд и Кембридж. Пусть описание Гиббоном привычной картины Оксфорда, «погрязшего в выпивках и предрассудках», и является карикатурой, университеты в XVIII веке действительно находились в состоянии летаргии. И тем не менее, благодаря вековым тради циям университетов, их попечителям, монополии на присуждение степеней, их огромным и постоянно растущим книжным фондам (по закону каждый из двух университетов получал экземпляр книги, выпущенной в Англии), их возможностям публиковать книги (в XVII и XVIII веках они были в числе тех немногих, кто имел право печатать книги вне Лондона), их контролю за порядком продвижения по службе в политической и религиозной сферах, было чрезвычайно сложно с ними не считаться. «Демократизация» английского высшего образования в начале XIX века шла не по линии превращения «диссидентских академий» в университеты, а была по большей части результатом послабления правил приема в Оксфорд или Кембридж по религиозным признакам, а также расширения приема студентов-стипендиатов. Даже в современном английском обществе аристократизм и ученость ассоциируются с Оксфордом и Кембриджем.
Однако в Америке формирование жизни общества и распространение университетского образования с самого начала шли под влиянием множества различных факторов. Остановимся на двух из них.
Первое: неопределенность американского права и нечеткость различий между колледжами и университетами способствовали разрушению монополии в образовании.
Хотя возникновение Оксфорда и Кембриджа было окутано средневековым туманом, их контроль над английским высшим образованием явился в основном результатом предоставленной им законом монополии в этой сфере. Говоря юридическим языком, только им принадлежало неоспоримое право быть английскими университетами. В 1571 и в 1573 годах соответственно Оксфорд и Кембридж получили хартии, которые давали статус корпорации, и им, единственным во всей Англии, были предоставлены исключительные полномочия в присвоении научных званий. Их монополия была абсолютной до 1827 года, когда в ре
205
зультате борьбы с ними был основан неортодоксальный Лондонский университет.
В Англии различие между колледжем и университетом всегда было более или менее четким и существенным. Колледж являлся прежде всего местом проживания и обучения студентов, был, как правило, самоуправляющимся, но не обладал правом устраивать экзамены и присуждать степени. Университет имел право присуждать степени и был учебным заведением, где обычно давалось образование в области либо права, либо медицины, либо богословия в дополнение к семи гуманитарным дисциплинам и философии; их особые полномочия имели под собой правовую основу (сначала в форме папской буллы, а затем в форме королевской или парламентской хартии). Вплоть до начала XIX века, таким образом, в Англии было множество колледжей и всего лишь два университета — Оксфорд и Кембридж. Все усилия основать дополнительные учебные заведения с правом присуждения степеней оказались безрезультатными. Грешэм-колледж, например, основанный в 1548 году, располагал семью профессорскими должностями и в итоге превратился в крупный научный центр — Лондонское королевское общество, однако так никогда и не стал университетом. «Диссидентские академии», из которых вышли такие видные люди, как Даниель Дефо, епископ Джозеф Батлер, Джозеф Пристли и Томас Мальтус, продолжили свое существование в форме средних («общественных»)школ или богословских учебных заведений, так и не получив права присуждать степени.
Значение всего этого для английской жизни и образования, несмотря на то что сложно определить и понять это значение, было тем не менее непреходящим и всеобъемлющим. По крайней мере со времен королевы Елизаветы I университеты, несмотря ни на что, имели неослабевающий, а быть может, даже возрастающий авторитет в обществе. К XVIII веку духовная спячка Оксфорда и Кембриджа (так же как и бесчинства в американских колледжах в начале XX века) стала расхожим анекдотом. Великий Эдвард Гиббон в 1752 году писал об ученых мужах колледжа Св. Магдалины в Оксфорде: «Они не обременяли свои головы ни чтением, ни мыслями, ни писанием. Они погрязли в разговорах о рутинных делах колледжа и политике тори, в сплетнях и обсуждениях семейных неурядиц; неудержимый порыв молодости проявлялся в скучных беспробудных пьянках». Только несколько профессоров выполняли свои обязанности. В Кембридже с 1725 по 1773 год ни один из почетных профессоров современной исто
206
рии не прочел ни одной лекции. Правда, один из них все-таки прославился — он разбился насмерть, упав пьяным с лошади. В университетах не пренебрегали и прелестями светской жизни: для детей знати и Оксфорд и Кембридж оставались фешенебельными курортами, куда они подчас приезжали со своими наставниками, слугами и охотничьими собаками.
Но несмотря на все это, великие древние университеты вовсе не были бесплодными. Они дали миру сэра Исаака Ньютона, Эдмунда Галлея (комета Галлея), сэра Уильяма Блэкстона и Эдварда Гиббона. Оксфорд и Кембридж оставались оплотом и хранилищем английской национальной культуры.
Провинциальная Америка была совершенно другой. Ни пороки, ни добродетели этих древних монополий не могли быть перенесены за океан. Складывавшееся веками различие между колледжами и университетами в Англии, так же как и многие другие традиции Старого Света, затушевывалось и подчас теряло всякий смысл в Америке. В частности, правовые полномочия различных органов управления колониями, особенно это касалось права создавать корпорации и устанавливать монополию, отличались друг от друга, были неустойчивы и расплывчаты. Ничто не имело так много последствий, как эта неопределенность правовой ситуации в Америке.
Согласно английскому праву, существовавшему в период колонизации Америки, группа лиц, как правило, не могла ни действовать в качестве юридического лица, ни владеть собственностью, ни возбуждать судебное дело и быть объектом судебного разбирательства, а если она и функционировала как юридическое лицо, то в случае смерти одного из членов группы существование юридического лица прекращалось. Частные лица могли выступать в роли корпорации только в том случае, если они получали эти привилегии от своего правительства. Лорд Коук провозгласил ортодоксальную английскую доктрину: «Король,и только король,может создать корпорацию или дать право на ее создание». Это была правовая теория. Существовали и некоторые особые исключения (корпорация, созданная в соответствии с «предписанием» или с нормами «общего права»; кроме того, епископ Дарема имел право создавать корпорации в своем «графстве»),но в целом право на создание корпорации было одной из строго очерченных прерогатив правительства^ большинство начинаний зависело от того, пожелает ли король или парламент предоставить хартию на создание корпорации.
Кто же в американских колониях мог создавать корпорации? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Было несколько ти
207
пов колоний с различным правовым статусом — «корпоративные», «королевские», «собственнические». Хартии на собственнические колонии (например, в Мэне) обычно содержали «клаузулу даремского епископа», по которой владельцу колонии предоставлялись те же королевские полномочия власти, какими был наделен английский епископ. Но конкретное указание на делегирование органу управления колонии права создавать корпорацию можно было найти чрезвычайно редко, что открывало широкий простор для действий законников-крючкотворов. К этому можно добавить много неясностей в соотношении между правовыми полномочиями губернаторов колоний и законодательными собраниями, так же как между органами управления колоний в целом и английскими властями. На почве этой правовой неразберихи пышным цветом расцвело множество недозволенных, противоречивых и странных институтов.
Первый американский колледж был создан в такой типичной для Америки атмосфере. В настоящее время основание Гарвардского университета обычно датируется 1636 годом, когда Общее собрание Массачусетса выделило четыреста фунтов «на создание школы или колледжа», но его правовой статус и объем полномочий были в то время более чем неопределенными. Первые ученые степени начали присуждаться Гарвардом в 1642 году, хотя никто ему этого права юридически не предоставлял; Гарвард не обладал даже правами корпорации. Когда в 1650 году колледж в конечном итоге получил хартию от Общего собрания Массачусетса, там опять не было упоминания о предоставлении Гарварду права присуждать степени; это произошло,вероятнее всего,потому, что само Общее собрание не было уверено в своих полномочиях предоставлять право присуждать степени. Первый решительный президент Гарварда (1640—1654) Генри Данстер совершил смелый поступок, приняв решение о присуждении колледжем разного рода степеней. «Это была почти декларация независимости от короля Карла», — квалифицировал этот поступок Сэмюел Элиот Морисон. Поскольку хартия 1650 года с правовой точки зрения казалась весьма ненадежной, Инкриз Мэзер, будучи в Англии после Революции 1688 года, пытался, хотя и безуспешно, получить специальную королевскую хартию. Правовые основы Гарварда, источники его полномочий присуждать степени, а также вопрос, является ли Гарвард с правовой точки зрения, если о таковой вообще можно говорить, колледжем или университетом, оставались неясными и неопределенными вплоть до XX века. С момента возникновения Гарварда
208
президент и члены совета при каждом удобном случае умело использовали эту неопределенность.
Йель появился в то время, когда правовое положение процветавшего и присуждавшего степени уже в течение почти шестидесяти лет Гарварда казалось наиболее шатким. Юридические проблемы Гарварда как такового осложнялись, естественно, ненадежностью хартии колонии Массачусетского залива; было очевидным, что колониальные власти, которые сами могли быть объявлены незаконными, не обеспечат Гарварду законные права. Кто же мог надеяться удовлетворить Общее собрание,губернатора, меняющиеся английские кабинеты министров и при этом соблюсти уважение к старым английским институтам права и должным образом учесть потребности колоний? Был и еще один скользкий вопрос — не нарушает ли колония собственную хартию тем, что превышает свои законные полномочия, когда, к примеру, предоставляет статус корпорации колледжу или университету, не имея на это никакого права. Подобное нарушение могло дать недружелюбно настроенным английским политическим деятелям почву для того, чтобы поставить под сомнение законность существования колонии в целом. В эти годы и у Массачусетса, и у Коннектикута было достаточно врагов в метрополии, которые были бы рады воспользоваться таким удобным случаем. «Не знали, как поступить, чтобы не переборщить... — говорили в 1701 году судья Сэмюел Сьюолл и Айзек Эддингтон по поводу разработанного ими Акта об основании Йеля. — Мы сознательно насколько могли принизили квалификацию академии с тем, чтобы она лучше выдержала все невзгоды; мы не посмели придать ей статус корпорации, опасаясь судебного приказа Quo-Warranto*. Из осторожности они решили дать своему учебному заведению скромное и двусмысленное название «университетская школа». И только в 1745 году, т.е. почти полвека спустя, Йель, присудив уже десятки степеней, получил формально статус корпорации.
История колледжей в колониях является одним из самых замечательных примеров триумфа правовой практики над теорией, а также победы общественных потребностей над казуистикой профессиональных юристов. Накануне Революции по крайней мере девять созданных в колониях учебных заведений
По какому праву, какой властью (средневековаялатынь). Приказ Q.W., издаваемый судом и адресуемый должностному лицу, предписывает этому лицу объяснить, почему умышленно нарушаются или не исполняются должностные обязанности.
209
(которые существуют и поныне) уже присуждали степени. В это время в Англии было всего лишь два заведения, обладавших правом присуждать степени,— Оксфорд и Кембридж, чья уходящая корнями в далекое прошлое монополия все еще обеспечивалась искусно выработанными правовыми нормами, определяющими отличительные особенности этих заведений. Законность права старейших американских колледжей — Гарварда, Уильям-энд-Мэри и Йеля — присуждать степени осйо-вывается, как сказал бы юрист, на «праве давности», т.е., проще говоря, они в течение долгого времени присуждали степени и никто им этого,по сути,не запрещал. История американского высшего образования могла бы быть совершенно иной, как,впрочем,и многое другое в американской культуре, если бы на американскую почву было полностью перенесено принятое в Англии резкое разграничение между корпорацией, обладающей монопольным правом присуждать степени и называющейся «университетом», и всеми «другими заведениями»; если бы был создан единственный для всех американских колоний королевский университет; если бы всем колониям было четко и определенно запрещено присуждать степени.
Второе: контроль извне сделал колледж частью общества,
В Европе XVII века, и, несомненно, в Англии, университеты и их колледжи были местом сосредоточения выдающихся ученых мужей, обладавших чувством собственного достоинства. По средневековой клерикальной традиции в университетах сохранилась академическая форма самоуправления, которая существует в большинстве стран Европы и по сей день. Ученые, группировавшиеся вокруг университета, управляли его книжными фондами, зданиями, фондами пожертвований, распоряжались должностями и ревностно оберегали свою власть. Они были почти уверены, что университет принадлежит им. Каким бы ни было влияние всего этого на «академическую свободу», стремление сделать университеты независимыми от общества и изолировать общество и университеты друг от друга было очевидным. И поныне в Англии бытует выражение «город и мантия», смысл которого в противопоставлении населения города и университета.
Протестантский дух, присущий американским колониям, был,безусловно,созвучен усилению «мирского» (т.е. неакадемического) контроля. Средневековые университеты были церковными организациями, и их «самоуправление» являлось прямым
210
следствием автономности духовенства. Протестантская Реформация предоставила мирянам возможность участвовать в управлении церквами; другим моментом в подрыве власти класса священнослужителей явился допуск мирян к управлению университетами. «Со времен Реформации, — писал один из американских авторов в 1755 году, — понятие священности колледжей и других папских религиозных заведений было отброшено... При этом целью было не разрушение колледжей или университетов и не ограбление муз, а их спасение от папского засилья... создавая новые университеты и колледжи, британская нация сделала их несколько помпезными,согласно обычаям, сложившимся... в папские времена; эти обычаи существовали уже долгое время, и они предпочитали страдать, но следовать им. Но и протестантские князья, и республики, и государства, на чьих территориях никогда прежде не было университетов,при создании колледжей и университетов не обращали внимания ни на какие папские обычаи и традиции, а наделяли их привилегиями и правами и обеспечивали наставниками, исходя лишь из нужд обучения». В старой Англии, несмотря на распространение протестантизма, университетские факультеты оставались за своими средневековыми стенами. В Америке таких стен не было.
Если мы теперь оглянемся назад, то станет очевидным, что участие «мирян» в управлении колледжами в большей степени определялось объективными условиями и отсутствием в Америке каких-либо институтов, чем чьей-то мудростью или предвидением. В то время как европейские университеты XVII и XVIII веков унаследовали богатые земли, здания, фонды пожертвований, правительственные субсидии и многое другое, первые американские колледжи, как отмечают Хофстедтер и Метцгер, были наиновейшими «произведениями искусства». Их создавали небольшие общины; светские советы по управлению помогали в распределении ограниченных ресурсов колледжей и были посредниками между ними и общиной, без поддержки которой никаких колледжей не было бы вообще.
В Европе университеты исторически представляли собой определенный тип гильдии, объединяющей людей с духовным образованием. В Америке подобных гильдий существовать не могло по той простой причине, что там не было достаточного количества образованных людей. Управление новыми институтами неизбежно попадало в руки представителей всей общины. Факультеты европейских университетов возглавлялись образованными, выдающимися людьми или просто людьми в возрасте, которые внушали доверие и могли претендовать на самостоя
211
тельность в управлении. В Гарварде же президенту Генри Дан-стеру в 1650 году только что исполнилось сорок лет, казначею было двадцать шесть, а средний возраст преподавателей составлял около двадцати четырех лет (тогда это были в большинстве молодые ученые, временно находившиеся в колледже с целью подготовки к принятию духовного сана); вряд ли персонал колледжа мог рассчитывать на уважение окружающих и на получение власти от общины.
Таким образом, еще в колониальный период возникла та модель управления извне, которая в дальнейшем всегда будет присуща американским колледжам. В самый ранний период существования Гарварда и Уильям-энд-Мэри в системе управления этими колледжами были некоторые признаки двойного подчинения — руководство колледжами осуществлялось преподавательским составом, а существовавший вне колледжа орган имел право вето. Однако ни в одном из колледжей эта система долго не просуществовала. Уже в 1650 году Гарвард оказался под прямым управлением магистратов и священнослужителей, а отнюдь не профессоров; это положение так и сохранилось. К середине XVIII века в пору процветания Уильям-энд-Мэри местное дворянство, бесспорно, имело влияние на преподавателей.
Прототипом системы управления американских колледжей была система управления, появившаяся в Йеле, а также в Принстоне, где из представителей общины создавался совет попечителей, который на законном основании владел колледжем и управлял им. Попечителями были священники, магистраты, юристы, врачи, торговцы; преподавателей среди попечителей не было. Американским колледжам не суждено было стать самоуправляющимися гильдиями людей науки.
С формой управления извне связано появление еще одного института — института президента американского кол’леджа. При старой европейской системе, где самоуправление осуществлялось членами совета колледжа или преподавательским составом университета и поддерживалось традиционно сложившимися пожертвованиями и церковными приходами, подобный пост был немыслим. Однако американская система управления колледжами извне потребовала нововведения. Попечители очень часто отсутствовали, у них не было ни времени, ни желания руководить; преподаватели же были молоды и постоянно менялись. Президент колледжа заполнил этот вакуум власти. Он единственный представлял и преподавательский состав, и общественность, поскольку являлся членом
212
совета по управлению и одновременно пребывал в колледже. Будучи практически на службе у попечителей, он, как правило, был самым информированным из них и в результате становился их лидером. В качестве ведущего представителя преподавательского состава он защищал и интересы преподавателей. От его активности зависела репутация, а иногда и само существование колледжа. Он соединял в себе ученого и бизнесмена; он должен был уметь применять ученость в текущих делах и деловую хватку в науке.Не имея аналога в Старом Свете, он являлся живым символом крушения монастырских стен.
29
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВМЕСТО ВЫСОКОЙ УЧЕНОСТИ
В Америке колледж стал местом, где больше заботились о распространении знаний, чем об их накоплении или сохранении. «Университетское» образование в Америке, с какой стороны на него ни посмотреть, не могло считаться законченным высшим образованием. Ни одна из причин широкого распространения высшего образования не была характерной лишь для Америки, однако,взятые все вместе, они составили непреодолимую силу, направленную против узаконенной монополии и территориальных рамок.
Религиозное сектантство и многообразие. Каждый из первых трех колледжей — Гарвард, Уильям-энд-Мэри, Йель — был основан в поддержку той или иной церкви в колонии. Вплоть до 1745 года эти колледжи оставались единственными. Только к середине XVIII века, когда «Великое пробуждение» породило религиозный энтузиазм и обострило антагонизм между сектами и когда процветание обеспечило американцам достаточно средств для обучения своих сыновей в колледжах и для строительства учебных зданий, начался стремительный рост числа колледжей в колониях. Президент Йеля Эзра Стайлс назвал это явление «всплеском энтузиазма вокруг колледжей». В то время как в Англии замечательные «диссидентские академии» даже не добились права присуждать степени, в Америке школа каждой секты претендовала на высокое положение древнего европейского университета. Перед Революцией почти каждая значительная христианская секта имела свое собственное учебное заведение: пресвитериане «новой линии» основали Принстон; баптисты-ревайвалисты основали Браун; голланд
213
ские реформаты-ревайвалисты основали Раттере; конгрегационалистский священник преобразовал индейскую миссионерскую школу в Дартмутский колледж; англикане и пресвитериане совместными усилиями основали Кингз-кол-ледж (впоследствии Колумбийский университет) и Колледж Филадельфии (впоследствии Пенсильванский университет).
Создание какой-либо сектой колледжа становилось еще одной веской причиной для всех остальных сект создавать свои собственные колледжи с тем, чтобы спасти побольше американцев от ереси конкурентов. Появление же всех этих сектантских колледжей давало массу доводов сторонникам светской школы для основания своих колледжей с целью спасения молодежи от всякого догматического невежества. Движение ускорялось. Его не так-то легко было остановить; правда, в тяжелое время Революции оно замедлилось. В период между 1746 и 1769 годами в колониях было создано вдвое больше колледжей, чем в предыдущие сто лет; в 1769—1789 годах — вдвое больше, чем в предшествующие двадцать лет. Так это и продолжалось. Движение набирало скорость и, по всей видимости, до сих пор едва ли остановилось.
Такая конкуренция, между прочим, привела к либерализации. Если каждая секта, основывающая колледж, и надеялась иметь преобладающее влияние в нем, то монополизировать его она не отваживалась. В условиях Америки второй половины XVIII века обостряющийся религиозный антагонизм фактически стал причиной создания леежсектантских советов управления. При том, что президент колледжа принадлежал, как правило, к господствующей секте, обычно считалось необходимым для примирения враждующих сект вводить в совет попечителей их представителей. В первом совете управления англиканского Кингз-колледжа было четыре священнослужителя других вероисповеданий; совет управления Брауна, в котором главенствующую роль играли баптисты, включал немалое число конгрегационалистов, англи-кан и квакеров. Из двадцати четырех попечителей Пенсильванского университета (возникшего на основе несектантской высшей школы) шесть были представителями всех основных вероисповеданий, включая католицизм.
Между появившимися в большом количестве учебными заведениями возникла острая борьба за привлечение студентов, потому что в Америке с ее разбросанными поселениями было весьма мало мест, где какая-либо секта могла обеспечить колледж полным набором студентов. Это привело к тому, что ни один американский колледж колониального периода не подвер
214
гал поступающих в него студентов религиозной проверке. Таким образом, религиозная терпимость, обусловленная не абстрактной теорией, стала идеалом американского высшего образования, о чем точно высказался Эзра Стайлс, ставший президентом Йеля в 1778 году, когда колледж все еще страдал от узколобой ортодоксальности упрямого Томаса Клэпа (ректора и президента колледжа в 1740 —1766 годах). Терпимость Стайлса помогла колледжу возродиться. Он, конечно, честно признавался в своем предпочтении конгрегационализма, но в делах не позволял себе руководствоваться им.
Во всех протестантских сектах так много чистого христианства, что я с радостью и милосердием принимаю их все без исключения. Они далеко не безупречны, и нам необходимы взаимное терпение и снисходительность. Я не намерен проводить свои дни в междоусобной борьбе. Главное, я буду противостоять любым требованиям и попыткам сект завоевать превосходство и первенство, а в остальном — стремиться к умиротворению, гармонии и доброжелательности.
Провинциальная Америка уже начала находить спокойствие в разнообразии. Всего лишь десять лет спустя в статье «Федералиста» (№ 51) авторы с пророческой мудростью отмечали: «В свободной стране обеспечение гражданских прав должно быть таким же, как обеспечение прав религиозных. Оно в одном случае зиждется на разнообразии интересов и в другом — на многое образии сект». Быстрое увеличение числа сект и рост религиозного фанатизма в Америке XVIII века породили неожиданную и непредусмотренную (часто нежелательную) религиозную терпимость. Если той или иной секте не хватало силы для принуждения, они все мудро «выбирали» путь убеждения.
Географические расстояния и местная гордость. Географические расстояния, которые способствовали рассредоточению религиозных страстей, привели также к рассредоточению страстей интеллектуальных, которые, возможно, и могли бы быть сконцентрированы в одном-двух центрах высшего образования. В Америке никогда не было активного движения за национальный университет. Представители многочисленных и разнообразных колледжей, разделенных большими расстояниями, никогда не были объединены в сообщество ученых людей и не осознавали себя таковыми. До XIX века даже попытки выработать общие правила приема в колледж или организовать всеобщую ассоциацию колледжей были незначительны и безрезультатны. Такие организации, как общество «Фи-Бета-Каппа» (основано в 1776 году), стремящееся к объединению образованных людей из разных колледжей, имели слабое влияние.
215
Американские колледжи были прежде всего учебными заведениями местных общин. Гарвард, Уильям-энд-Мэри и Йель были созданы определенными провинциями и предназначены только для их нужд, и поддержку они получали от своих местных властей.
Первостепенной целью американских колледжей было не умножение числа образованных людей на континенте в целом, а скорее обеспечение того или иного региона страны знающими священниками, юристами, врачами, торговцами и политическими деятелями. В то время как университетские центры традиционного английского образования были вдалеке от Лондона — политического и коммерческого центра страны, — первые американские колледжи обычно располагались неподалеку от деловых центров своих колоний. Местоположение колледжа Уильям-энд-Мэри в Уильямсбурге (как и Брауна, Йеля и Пенсильванского университета), при котором такие студенты, как Джефферсон, могли в свободное от занятий время забежать послушать дебаты в Законодательной ассамблее,создавало условия для связи образования с политической жизнью. Это символизировало как свободное общение между американскими университетскими кругами и обществом в целом, так и близкую причастность лидеров к специфическим проблемам тех мест, где они жили.
В Англии знатные семьи посылали своих сыновей в немногочисленные наилучшие «общественные» школы, по окончании которых молодые джентльмены съезжались в Оксфорд и Кембридж (хотя бы только для охоты и пирушек). Каждый, кто мог себе это позволить, оказывался,таким образом,в отдаленном от родных мест «национальном» учебном заведении. «Если он возвращался работать туда, где родился, то уже не был там в полной мере коренным жителем,—пояснял Дж.Китсон Кларк.—Он говорил на языке, отличающемся от языка местных жителей, его дружеские связи далеко уносили его мысли, и, самое главное, у него не было с согражданами тех тесных добрососедских отношений, которые обычно складываются смолоду. Возможно, это мешало развитию активной жизни провинциальной Англии, которая ей была необходима и необходима до сей поры. Ахуже всего то, что это способствовало появлению кастовости и усиливало горизонтальное социальное расслоение, причем в то самое время, когда при росте благосостояния и углублении социальной напряженности горизонтальное расслоение было особенно опасным». В Америке высшее образование строилось по территориальному принципу. Это различие имело важное значение,
216
поскольку рассредоточение высшего образования служило укреплению местной основы федерального союза. Приближенность колледжа к дому и, следовательно, меньшая стоимость обучения, по всей видимости, были решающими факторами при выборе колледжа большинством студентов в дореволюционной Америке.
Американцы уверовали в то, что ни одну общину без собственного колледжа нельзя считать полноценной. Возможно, подобными мотивами были обусловлены знаменитые положения Земельного ордонанса 1785 года и Северо-Западного ордонанса 1787 года, касающиеся земельных фондов для нужд образования; впоследствии они стали основой для университетов штатов. Те, кто в начале XIX века осваивал земельные участки, предусматривали в своих планах и колледжи, чтобы привлечь поселенцев в новые города.
Социальная и географическая мобильность: борьба за студентов. Эти новые заведения, имевшие непрочное положение, конкурировали друг с другом, стараясь завоевать себе репутацию, обеспечить финансовую поддержку и, самое главное, привлечь студентов. В колледжи Нью-Джерси и Род-Айленда (впоследствии Принстон и Браун), взимавшие самую низкую плату за обучение, а также в Дартмут, где часть студентов могла работать для оплаты своего содержания, быстро увеличился поток абитуриентов. Колледж Филадельфии и Кингз-колледж, иногда называемые «джентльменскими», привлекали наименьшее число студентов из дальних мест,и контингент студентов в них был малочисленный.
В течение колониального периода колледжами применялись практически все современные способы набора студентов, не было лишь стипендии, выделяемой спортсменам. Этому существует множество подтверждений — от рекламных брошюр до деятельности выпускников колледжей в качестве вербовочных агентов. Кроме того, занижались требования при приеме и выпуске студентов, создавались «народные» курсы. Все это имело целью привлечь студентов, чьи взносы за обучение были крайне необходимы. В1773 году Джон Трамбулл из Коннектикута жаловался: «Исключая лишь одну соседнюю провинцию, в наших колледжах бытует непроходимое невежество; экзамены свелись к простой формальности; и после четырехлетнего прозябания в колледже ни одному из студентов никогда не было отказано в присуждении степени по причине их тупости и непригодности».
Вместо того чтобы вкладывать деньги в приобретение книг или в создание факультетских фондов, американские колледжи
217
начали строить впечатляющие здания, которые вряд ли могли себе позволить. За двадцать пять лет, предшествовавших Революции, пять колониальных колледжей потратили около 15 000 фунтов на возведение или переоборудование зданий. Подобные расходы произвели, можно предположить, благоприятное впечатление и как следствие вызвали приток студентов. Однако высокие первоначальные траты в колледжах Филадельфии и Род-Айленда привели их к банкротству практически накануне открытия.
Несмотря на конкуренцию между колледжами, стоимость высшего образования все же не была низкой. В середине XVIII века совокупная плата за комнату, питание и обучение составляла от 10 фунтов в год (в колледжах Нью-Джерси и Род-Айленда) до 20 фунтов (в Кингз-колледже); богатый студент мог позволить себе истратить сумму в пределах 50 фунтов. В этот же период годовой заработок плотника составлял не больше 50 фунтов, преподавателя колледжа — около 100 фунтов, а преуспевающего юриста — только 500 фунтов. И хотя честолюбивые родители могли получить ссуду на образование своего сына, было очевидно, что обучение в колледже не для бедных: еще не существовало постоянной и широкой системы стипендий и не было принято, если не считать Дартмута, чтобы студенты работали во время своего пребывания в колледже. Тем не менее, принимая во внимание все вместе взятое, положение с высшим образованием в Америке было намного лучше, чем в Англии, где его можно было получить не менее чем за 100 фунтов в год.
* * *
Неоспоримым результатом рассредоточения высшего образования и конкуренции между колледжами был рост числа, но отнюдь не качества научных степеней. За тридцать лет до 1747 года из трех колониальных колледжей было выпущено около 1400 человек; в последующие тридцать лет колледжами Британской Северной Америки было присуждено степеней бакалавра в два раза больше, и половина из них пришлась на вновь созданные учебные заведения. Любой американец, который мог позволить себе платить по 10 фунтов в год в течение четырех лет, имел возможность, если этого хотел, получить статус человека с «высшим» образованием. Американские колледжи многим предоставляли не просто то, что в Англии было привилегией немногих; они занимались интеллектуальной инфляцией.
218
Рассредоточение учебных заведений в ранний колониальный период легло в основу модели, которая никогда не менялась. После Революции время от времени провозглашались грандиозные замыслы о создании единственного высококлассного учебного заведения под эгидой конгресса. Его предполагалось разместить в национальной столице, куда из-за рубежа могли привлекаться республикански настроенные студенты, где могли быть сконцентрированы интеллектуальные ресурсы нации и где не было бы места местническим предрассудкам.Об этом говорилось даже на федеральном конституционном конвенте. В проекте Чарлза Пинкни было четко сформулировано право федерального законодательного органа основывать национальный университет там же, где будет размещаться правительство, и Мэдисон, по всей видимости, отнесся к предоставлению такого права благосклонно. При окончательном рассмотрении это предложение было отклонено, то ли потому, что члены федерального конституционного конвента считали это право уже косвенно предоставленным, то ли потому, что не хотели его давать. Джордж Вашингтон был увлечен идеей находящегося в национальной столице учебного заведения, призванного «предоставить студентам возможность посещать дебаты в конгрессе и таким образом более свободно и глубоко знакомиться с принципами законодательства и управления страной». Но отцы-основатели поддержали местные учебные заведения, которые уже широко распространились по всей стране.
Почти до конца XVIII века в типичном американском колледже был президент (обычно духовное лицо, иногда пастор близлежащей церкви) и несколько (редко более трех) наставников, как правило молодых людей, готовящихся к духовной карьере. Там работало также несколько преподавателей — зрелых людей, полностью владеющих своим предметом. В тех условиях учебный процесс в американских колледжах, в отличие от их организационной структуры, неизбежно должен был носить традиционный характер. За немногими важными исключениями и несмотря на определенное влияние английских «диссидентских академий» и шотландских университетов, американские колониальные колледжи придерживались того учебного процесса, который наставники перенимали от своих наставников и который в конечном итоге своими корнями уходил к английским университетам и их средневековым прототипам. Отличительной чертой американского колледжа являлся не объем передаваемых им знаний, а сведения о том, как, когда, где и кому эти знания передавались.
219
По мере дальнейшего распространения колледжи, охватывая все большее число людей различных вероисповеданий и развивая свои связи с местными общинами, все меньше и меньше отождествлялись с тем или иным религиозным движением. На протяжении XVIII века количество выпускников американских колледжей, принимавших духовный сан, уменьшалось. Ко второй половине XVII века даже Гарвард, созданный как религиозное учебное заведение, начал привлекать детей ремесленников, торговцев и фермеров. К концу XVIII века только около четверти выпускников всех американских колледжей становились священнослужителями. Тем временем недостаток в специализированном юридическом и медицинском образовании сказывался на состоянии этих профессий; обучение им в основном происходило в виде неформального ученичества.
Американские колледжи, которые стремились воспитать добропорядочных граждан, только лишь случайно могли подготовить глубоких- и смелых ученых. Маркиз де Шастеллю, путешествуя по Америке в 1780-х годах, заметил, что в этой стране философу легче было содействовать распространению учебных заведений, чем преодолевать препятствия на пути их развития. «Пусть совы и летучие мыши машут крыльями в сомнительной прозрачности смутных сумерек, — предупреждал он, имея в виду пороки Англии. — Американский орел должен устремлять свой взор к солнцу».
Как это ни странно, преимущество американских высших школ заключалось в их количестве. С самого начала американские колледжи по сравнению с английскими учебными заведениями больше заботились о распространении, чем об углублении высшего образования. Обществу в два или менее миллиона человек, рассредоточенных по вытянутому вдоль океана побережью огромного континента, следовало бы сконцентрировать научную мысль в некоем подобии американских Афин, с тем чтобы ученые мужи могли обогащать друг друга с наибольшей пользой. Но ничего из этого не вышло, и американцы научились ценить интеллектуальные достоинства, сформировавшиеся в отрыве друг от друга: ощущение соответствия обстановки и времени, свободный обмен опытом между обществом и его учеными-наставниками. По традиционным меркам, американцы были менее образованными, но они создавали новые критерии ценности образования. Пусть они и не знали достаточно хорошо тексты своих священных писаний, но зато открывали тысячу новых источников света.
220
30
ИДЕАЛ ЦЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
В то время как развитие европейской культуры шло сложнейшим путем расчленения, специализации и монополизации отдельных направлений человеческих знаний и деятельности, американская культура с момента ее возникновения допускала их совместное развитие. Американская жизнь придала гибкость отношению человека к своим знаниям и самому себе. Это привело к появлению нового, не совсем четко выраженного идеала, к которому должно стремиться образование, — воспитание цельной личности на основе реальной действительности, уходящей глубокими корнямй в колониальную эпоху.
Неопределенность американских общественных классов. Идеалы средневекового образования, если они и оставались лишь идеалами, были по крайней мере определенными. Задолго до основания американских колоний традиционное гуманитарное образование определялось как введение в семь (а не в шесть или восемь) гуманитарных наук. Так складывался учебный процесс свободного человека, то есть гуманитарное образование. С такой же определенностью на всех «высших» университетских факультетах преподавались теология, право и медицина. В американских условиях ни гуманитарное, ни специализированное образование не смогли сохранить свою былую четкость. Когда положение человека неясно и непрочно, как это было в Новом Свете, он не может знать наперед, какой вид образования был бы для него наиболее подходящим. В европейской культуре различие общественного положения определялось различием в овладении тем или иным предметом: гуманитарные науки, принадлежность свободного человека, требовали работы ума, «вспомогательные» науки требовали умения обращаться с материальными предметами. В течение долгого времени это разграничение отделяло науку от техники, и устранение его было чрезвычайно важным для прогресса. Подобным же образом различие между «мыслителями»,с одной стороны, и,с другой — изобретателями-практиками, которых как только снисходительно ни называли — и «механиками», и «прожектерами», и «авантюристами» от экономики, — было резким и глубоким. Различия, которые в Европе свято почитались и подкреплялись обычаями, законами и словесно, в Америке казались расплывчатыми и искусственными.
221
Хотя колониальное общество было, без сомнения, гораздо более аристократическим, чем мы привыкли о нем думать, многие обстоятельства мешали четкому определению этой аристократии, за исключением, пожалуй, Южной Каролины, Виргинии и северной части штата Нью-Йорк. В колледжах с немногочисленным и постоянно меняющимся преподавательским составом традиционные предметы вводились,как правило, без всякой системы. Появление большого числа разнообразных видов научных степеней, которые давались за самые различные предметы и на самых различных уровнях, еще более спутало традиционные европейские стандарты, и стало непонятно, какой же стандарт следует считать подлинным.
Неясность ролей. Традиционный набор гуманитарных наук, от которого уже начали отходить в Европе, не мог служить раскрепощению человека в Америке. Люди здесь считали весьма трудным готовить себя к той или иной роли, даже к такой, как «гуманитарно образованный человек». Это объяснялось просто тем, что роли еще не были четко определены. Таким образом, в профессиональной сфере никакая традиционная форма обучения не могла по-настоящему подготовить человека для выполнения новых задач,стоящих перед американским священнослужителем, врачом, юристом или преподавателем. Там, где эти профессии понимались широко, где почти каждый выступал в роли и врача, и юриста, и учителя, критерии высокого профессионализма были размытыми. Предполагалось, что преуспевающий священник Новой Англии должен быть одновременно и немного врачом, и политическим деятелем, и учителем, и прочее и прочее.
Примечательной в этой связи была новая и более универсальная роль, которую играли женщины в жизни американского общества. Уже в XVIII веке рост влияния средних классов и распространение грамотности привели к улучшению положения в образовании европейских женщин. Несмотря на то что наши сведения довольно отрывочны, факты говорят, что женщины колониальной Америки в отличие от англичанок были более разносторонними, более активными, играли более заметную роль, и в целом их деятельность вне семейного очага была более успешной. Система мелкого домашнего производства, при котором мужчины работали в доме или недалеко от него, давала жене или дочери возможность учиться. В колониальный период было на удивление большое число женщин, занимавшихся работой в типографии или изданием газет, и далеко не все они были вдовами, продолжавшими дело своих мужей. Среди женщин
222
были аптекари и даже врачеватели. На плантациях Юга, особенно для ведения хозяйства, мужу была необходима помощь жены. Уильям Берд в своих секретных дневниках ярко рисует, насколько важна была помощь умелой и энергичной жены. В Новой Англии, где мужья-мореплаватели оставляли своих жен на долгие месяцы и годы в одиночестве, женщины успешно занимались торговлей.
Повсеместная нехватка рабочих рук вела к тому, что люди стали меньше обращать внимания на социальные предрассудки. В первые годы существования Новой Англии не считалось из ряда вон выходящим и никто даже не повел бы бровью, если девушка из благородной семьи шла в услужение. Судья Сэмюел Сьюолл писал, что его сестра собиралась стать горничной в одной бостонской семье. После смерти Уильяма Шиффа, помощника сборщика таможенных пошлин в Бостоне, в 1771 году его жена, дочь именитых граждан, с помощью друзей открыла бакалейное дело.
Огромные расстояния, географическая и социальная мобильность, нехватка школ для детей представителей новых классов расширили круг обязанностей женщин, возложив на них ответственность за обучение членов семьи. Возможно, сейчас показалось бы странным, что Коттон Мэзер обучал свою дочь Кэтрин латыни и ивриту. Один из ведущих деятелей Виргинии времен Революции Джордж Уит, под руководством которого Джефферсон учился юриспруденции, был известен тем, что «блестяще владел древнегреческим языком, которому его научила мать, когда они жили в глуши». В 1783 году Джефферсон, определяя круг чтения для своей дочери Пэтси, пояснял: литература должна быть «весьма отличной от той, которая, по моему мнению, могла бы быть рекомендована для чтения представительнице женского пола в любой другой стране, но не в Америке. Мне пришлось при определении круга чтения дочери не только учитывать ее индивидуальные особенности, но и смотреть гораздо шире, т.е. представлять ее как потенциальную главу маленькой семьи. Я рассчитал, что в замужестве в четырнадцати случаях к одному ей может попасться болван, и, естественно, в такой ситуации воспитанием детей,скорее всего,будет заниматься она — без чьей-либо помощи и руководствуясь собственными понятиями. К произведениям лучших поэтов и прозаиков я с этой целью добавил определенный объем более серьезной научной литературы».
Даже такое отрывочное свидетельство показывает, что в колониях женщины успешно занимались различными видами дея-
223
тельности и играли более видную роль в профессиональной и общественной жизни, чем в последующий период вплоть до XX века. Колониальные законы стремились уравнять правовое положение мужчин и женщин. Права замужних женщин, в частности право заниматься бизнесом и право возбуждать дело о разводе, были значительно расширены; в английском обычном праве ничего подобного невозможно было даже представить.
Американские мужчины, как и американские женщины, были в целом менее, чем их европейские собратья, ограничены каким-либо видом деятельности и в силу обстоятельств стали весьма разносторонними. Они были не «универсальными» людьми, но брались за любое дело. Стоящие перед ними задачи и открывающиеся возможности расширяли и разнообразили круг их интересов. «Бизнесмен», а не виртуоз явился прототипом американской многогранной натуры, поскольку при каждой новой возможности американец умело использовал свои способности. «Все жители Новой Англии без исключения, — замечал Тимоти Дуайт в начале XIX века, — если не вмешивается болезнь или какое-то несчастье, — люди дела... Здесь считается, что священник должен заниматься спасением паствы, а не забивать себе голову высокими материями, которые в определенном смысле полезны и являются украшением человека, но имеют весьма отдаленное отношение к главной цели... Священники Новой Англии очень редко располагают достаточно обширными библиотеками, которые могли бы помочь им с образованием».!! в других профессиях, требующих специальных знаний, о людях судили не столько по тому, хорошо ли они знают свой предмет, сколько по тому, как они применяют свои знания на деле. Преподаватели колледжей рассматривались скорее как посредники при получении образования, а не как носители мудрости; они прежде всего были «учителями». Как только женщины начинали осознавать новые задачи и возможности, они прежде всего уделяли особое внимание практическому результату своей деятельности; им приходилось делать самую разную работу. Традиционные представления о предназначении женщины роли не играли.
На почве упущенных и использованных возможностей колониальной Америки в умах американцев появилось убеждение, что знания, как и сам Новый Свет, еще только предстоит открывать. Английские руководства, наподобие книги Брэтуэйта «Английский джентльмен», рекомендовали людям, относящим себя к джентльменам, никоим образом не выглядеть слишком умелыми (будь то танцы, фехтование, начитанность или сочини
224
тельство), чтобы не показалось, что они вынуждены из-за отсутствия состояния зарабатывать себе на жизнь, как простые ремесленники. В первые годы существования Виргинии так называемые джентльмены старались себя сдерживать из-за боязни показаться слишком опытными, но это длилось недолго; бессмысленное джентльменство пришлось не по нутру Америке. Здесь приветствовались все умельцы, за исключением педантов и монополистов.
Америка не выражала особого энтузиазма по отношению к людям с глубоким, независимым и «безупречным» интеллектом. Всеобщий страх перед всякой экзотикой и китайской грамотой, перед властью разума, способной возвысить человека над другими людьми, породил веру американцев в «божественную ус-редненность», в веру, которая могла возникнуть только в американских условиях. Кревкер заметил по поводу одного им-мигранта,приехавшего в Америку в 1782 году: «Он не найдет там, как здесь в Европе, многочисленного общества, где все забито людьми; он не почувствует этого постоянного столкновения сторон, этой трудности начинания, этих распрей, в результате которых калечатся судьбы людей. В Америке есть место для каждого; есть ли у него какой-либо талант или усердие? Он употребит его для того, чтобы обеспечить себе средства к существованию,и преуспеет в этом».
Часть седьмая
ПРОСВЕЩЕННЫЕ РАССТАЮТСЯ СО СВОЕЙ МОНОПОЛИЕЙ
Это место было свободно от трех великих напастей человечества — священников, юристов и врачей... народ был еще слишком беден, чтобы содержать этих просвещенных джентльменов.
Уильям Берд
31
РАЗМЫВАНИЕ ГРАНЕЙ МЕЖДУ ПРОФЕССИЯМИ
Как мы уже убедились, американская колониальная эпоха была скорее эпохой свободы, чем эпохой гения. В наследство от нее остались не великие мыслители-индивидуалисты, а обновленное общественное сознание. Старые категории были потрясены в своих основах, а новые возможности открыли немыслимые прежде перспективы для старых знаний.
Колониальная Америка не была ни первым местом, ни первой эпохой, где и когда свершалось разрушение старых шаблонов. Положившая начало протестантизму Реформация в Европе выступала против деления на священника и мирянина, на имеющих доступ на небеса и на тщетно стремящихся туда попасть, составлявших большинство. Но то, чего могли бы добиться реформаторы, ограничивалось установленными ими самими законами. Например, в Англии старинные Оксфордский и Кембриджский университеты, оказывавшие столь глубокое влияние на английскую культуру, являлись наследием единой церкви времен средневековья, когда священники и миряне принадлежали к различным общественным классам. Сам факт сохранения этих великих университетов увековечивал многие из прежних различий, особенно между хранителями священного знания и обществом в целом. Колониальная Америка была сво
226
бодна от всего этого, следовательно, имела больше свободы для обновления своей жизни и мысли.Всеобщая веротерпимость обрела более полное выражение в условиях американского образа жизни.
К XVIII столетию интеллектуальная жизнь в Европе была облечена в застывшие формы определенных профессий,частных владений,различных гильдий, городских обществ и специализированных ассоциаций, а также профессиональных сфер, разграничивших интеллектуальную деятельность. Каждая профессиональная сфера знаний была помечена знаком «вход воспрещен», опиравшимся на соответствующий закон или обычай. Более молодая американская культура почти не имела подобных препон — старые монополии не могли сохраниться в силу полного отсутствия организованных монополистов. Америка покончила с разграничениями: там, где жизнь была полна неожиданностей, неисследованных диких пространств и непредсказуемых проблем, ее задачи не укладывались в строго заданные рамки. Тому же, кто предпочитал размеренный ход жизни, кто стремился продолжить свои узаконенные торговые операции, не испытывая конкуренции со стороны непрофессионалов, новичков или чужаков, кто не хотел вести дела, на которые не получил официального разрешения, лучше было остаться в Англии.
По крайней мере четыре решающих особенности колониальной Америки способствовали этим изменениям в оценке человеком самого себя и своих познаний. Они проистекали не из обычной человеческой предусмотрительности, а порождались особенностями Нового Света.
Возвращение к более ранней стадии развития. Когда человек оказывается отброшенным в условия существования более ранней эпохи, он неизбежно делает для себя массу открытий. Он вновь постигает забытые возможности своих инструментов и учится оценивать их по более низким критериям примитивной эпохи. Острый камень, который раньше служил человеку орудием убийства, едва ли отличался от того, что он использовал в хозяйстве, однако в более цивилизованные времена появилось различие между «оружием» и «орудием», так как и то и другое приобрело более специальное назначение.Таким образом^ Европе XIX столетия ружье стало прежде всего военным оружием; однако для обитателя лесной глуши колониальной Америки, который должен был защищать себя и свою семью от хищников и часто охотой добывал мясо для пропитания, различие между оружием и орудием вновь перестало играть роль.
227
8*
Все сказанное об инструментах также применимо к общественным устоям и профессиям. В примитивных условиях люди, занимавшиеся врачеванием с использованием самых разнообразных приемов, казалось, почти не отличались друг от друга — нашептывали ли они заклинания, прибегали ли к хирургическому вмешательству либо полагались на сна-добья.Однако в Англии XVIII столетия все эти задачи были четко разграничены — каждая стала сферой деятельности клана: цирюльников-лекарей, врачей-терапевтов и аптекарей. В Америке такое разграничение сохранить было бы трудно: врачеватель (подчас юрист, или губернатор, или же священник) справлялся со всем этим один.
Универсальность, продиктованная непредсказуемостью. Повседневная оседлая жизнь многих поколений приучала людей жить по заветам предков. Но в Новом Свете все было по-иному. Здесь встреча с непредсказуемым стала обычным явлением, и человек должен был быть готовым к нему. Неспециалисту приходилось становиться юристом, архитектором, врачом, заниматься ремеслами, которые другие (увы, те, кто оставался за океаном) знали намного лучше. Универсальность была теперь не просто достоинством, она стала необходимостью. Человек, не умеющий делать все понемногу, не способен был быть американцем.
Скудость общественных структур. Когда общественные структуры еще окончательно не сформировались, у них нет и четко определенных функций. Даже различные религии постепенно начали взаимно уподобляться. Пуританизм постепенно стал менее пуританским; епископальная церковь стала менее иерархичной и более общинной, а религиозные движения,подобно квакерскому, которые не учитывали особенностей Нового Света, не могли долго сохранять в нем свое влияние. Как отмечал в 1782 году Кревкер: «Так смешались все секты, как и все народы, так религиозное безразличие незаметно распространилось по всему континенту, что сейчас является самой яркой особенностью американцев. Во что это выльется, никто не может сказать...»
Последняя серьезная попытка в колониальные времена учредить гильдию по средневековому образцу имела место в 1718 году в Филадельфии. Вместе с профессиональными гильдиями наиболее значимыми организациями, монополизирующими знание в Старом Свете, были старые учебные заведения. Но в Америке отсутствовали и они, и Новый Свет сделал мысль свободнее.
228
Недостаток рабочей силы и изобилие земли. В колониальной Америке ощущалась нехватка рабочей силы и профессионального мастерства, людям приходилось выполнять разнообразные работы потому лишь, что не было возможности нанять кого-либо. Это неизбежно привело к ухудшению качества выполняемых работ, иначе они не делались бы вообще. Плотник вынужден был делать работу бондаря, столяра-краснодеревщика или сапожника. Печатник становился переписчиком, производителем бумаги, чернил, переплетчиком, почтальоном и общественным деятелем. Изобилие земли приводило к тому, что, даже занимаясь фермерством, американец не проявлял стремления к более эффективному труду, чтобы заработать средства к жизни. Когда люди могли доводить свои земли до истощения, когда они воспринимали как должное наличие больших земельных пространств для будущего использования, у них и не было того стимула, который подтолкнул к реформам сельского хозяйства Англию XVIII столетия. Когда все, включая старый родной дом, распродавалось, люди меньше держались за какой-то конкретный участок земли. Как только он переставал кормить их, люди снимались с места. Земля сама по себе значительно потеряла свою прежнюю юридическую и общественную значимость. Чтобы обеспечить здесь свое существование, не требовалось особых навыков. По крайней мере у свободных белых колонистов существовало множество различных способов заработать на жизнь,и для них не составляло труда переехать на другое место или же сменить вид деятельности.
«Чужестранцы здесь весьма желанны, — так пояснял Франклин в своей «Информации для тех, кто хотел бы переехать в Америку» (1782), — ибо всем хватает места, а посему старые поселенцы не испытывают ревности к ним». Поскольку земля была дешевой, то любой трудолюбивый молодой мужчина мог стать на ноги. «Следовательно, ощущается постоянный спрос на все большее число ремесленников всех необходимых и полезных специальностей, дабы обеспечить возделывателей земли непритязательными домами, мебелью и посудой, которые невозможно привезти из Европы. Приличные мастера в любой области механики обязательно найдут себе применение, и их работа будет хорошо оплачена; при этом чужестранцы не испытывают никаких ограничений на выполнение любых работ, где они являются специалистами, и для этого не требуется никаких разрешений». Франклин подчеркивал, что в Америке любой мог рассчитывать на получение квалификации, ибо каждый трудолюбивый молодой человек мог пойти в ученики, что в Европе для него было бы
229
слишком дорого. «Быстрый рост населения в Америке отметает боязнь соперничества, и ремесленники охотно берут себе учеников в надежде на доходы за их работу, которую те будут выполнять в течение оговоренного времени после приобретения квалификации. В итоге детям из бедных семей не составляет труда приобрести профессию, так как ремесленники сами стремятся иметь учеников, и многие из них даже платят родителям за то, чтобы их мальчики десяти-пятнадцатилетнего возраста проходили обучение до достижения двадцати одного года; многие бедные семьи по приезде в страну получают возможность собрать сумму, достаточную для приобретения такого количества земли, чтобы можно было обустроиться и прокормиться остальным членам семейства».
♦ * *
Новая и плодотворная неопределенность общественных структур вошла, таким образом, в американскую реальность. Прежняя привычная и вызывавшая уважение идея «призвания» уступила место идее «благоприятной возможности». В последние годы историки много писали об изменениях, предположительно происходивших в Европе во времена протестантской Реформации. Согласно Максу Веберу, все протестантские вероисповедания в отличие от средневекового католического выразили новое отношение к различным видам человеческой деятельности. Как утверждает Р.Г.Тони, это новое отношение заставило человека задуматься над своим «выбором». Однако в действительности Европа могла предложить большинству очень небольшой выбор; вместо свободы люди должны были исполнять долг, предопределенный семьей. В Европе почитать «призвание» означало лишь улучшать свои навыки в традиционной деятельности.
Не многие из американцев, дабы определить свое призвание, обращали внимание на семейные традиции. Они должны были искать свой шанс, открывать для себя в американской реальности новые возможности. Когда задачи диктуются человеку быстро меняющимися условиями жизни,он не может их решать, приковывая себя к какому-то определенному виду деятельности. Ни один осторожный человек не мог знать наверняка, что он есть на самом деле и что его ожидает; каждый должен был быть готовым к любым изменениям. Готовность к полным опасностей переездам стала типично американской чертой.
230
32
ЮРИСТ БЕЗ УЗКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Когда в 1758 году молодой Джон Адамс консультировался у главы бостонской адвокатуры по вопросам квалифицированного обучения американских юристов, в ответ он услышал вопрос о том, какое образование получил сам Адамс и насколько он владеет риторикой. «Тогда м-р Гридли провел сравнение между деятельностью и занятиями юриста-дворянина в Англии и адвоката в Америке: здесь юрист должен изучать общее право и гражданское право, естественное право и морское право, должен выполнять обязанности адвоката, юриста, атторнея, солиситора и даже нотариуса, так что здесь эта профессия намного сложнее, чем в Англии». Наставник Адамса знал, что в Англии XVII — XVIII веков профессиональная деятельность юристов была тщательно разработана и разграничена и эти разграничения отражали как уровень английской юриспруденции, так и предубеждения английского общества.
На самом верху стояли барристеры, юридическая аристократия. Объединенные старинными корпорациями — судебными «иннами» при Верховном суде в Лондоне, — они обладали монополией на ведение дел в залах этого суда. Старейшины корпораций барристеров «Линкольнз инн», «Иннер темпл», «Мидл темпл» и «Грейз инн» начиная с XV века обладали полномочиями предоставлять право адвокатской практики в суде, т.е. право выступать в суде защитником. Гражданская война в Англии в XVII веке разогнала членов корпораций «иннов» и нарушила их устоявшуюся учебную деятельность. В конце XVIII столетия чистой фикцией стало даже требование об обязательном проживании учеников в доме опытных юристов в качестве их помощников.Однако «инны» сохранили свою монополию.
Тем не менее эти благовоспитанные адвокаты из «иннов» составляли лишь небольшую часть юридических служб общества. Повседневные юридические вопросы решались специалистами, принадлежавшими к двум другим особым группам. Атторнеи не были уполномочены выступать в суде, и их функция заключалась в том, чтобы от имени клиента запустить судебную машину в действие. Они допускались к выполнению своих особых функций судьями из тех судов, где практиковали, так как каждый суд располагал своим собственным ограниченным контингентом атторнеев, не обязательно имевших полномочия практиковать в других судах. Следующей группой специалистов (называемых
231
солиситорами, или стряпчими) были частные юридические агенты, которые не были уполномочены ни выступать в судах высоких инстанций, ни приводить судебный процесс в действие, но они следили за юридическими вопросами дела в интересах своих клиентов. Этими солиситорами выступали различные специалисты: некоторые из них были также атторнеями, другие не были; кое-кто преуспевал в суде лорд-канцлера. Их число быстро росло для обслуживания приобретавших влияние землевладельцев и торговцев. В начале XVII века один возмущенный барристер жаловался, что солиситоры, «подобно саранче в Египте,обжирают всю страну». Были также нотариусы, объединенные в свою корпорацию, они готовили все юридические документы, подлежавшие заверению печатью, патентные агенты и еще другие, менее значимые специалисты.
Существовавшая тогда социальная обособленность отделяла барристеров, или «консультантов», от всех остальных юристов — они были джентльменами и, стало быть, членами настоящей «профессиональной» группы. Как распорядились английские судьи в 1614 году, «всегда должно существовать различие между барристером, дающим юридические консультации в соответствии с законом, т.е. основным лицом после приставов и судей в отправлении правосудия, и атторнеями и солиситорами, являющимися только лишь служащими и занимающими более низкое положение». Солиситоры поначалу были лишь агентами, служащими, распорядителями, а атторнеи были сродни торговцам, так как обеспечивали себя за счет вознаграждения от индивидуальных заказчиков. Судьи же вышли именно из рядов барристеров. В отличие от торговцев или ремесленников они получали скорее не «вознаграждение», а «жалованье», которое ни в те дни, ни сейчас не подлежит изъятию судебным путем.
Перенос всех этих замечательных особенностей через океан свел на нет усилия даже самого преданного поклонника английских институтов. Американская неопределенность в отношении того, что на самом деле делает человека «джентльменом», затушевала все границы между «благородными профессиями» и другими видами деятельности. Так как в Америке не было ни одной апелляционной судебной инстанции, то не было и места, где бы честолюбивые молодые адвокаты и младшие судьи могли повышать свое мастерство. Высшие колониальные суды были разбросаны по тринадцати различным центрам, каждый из которых имел собственное законодательство. Не было американского Лондона, где юристы могли бы объединить своиусилия. Возмож
232
но, наиболее существенным было то, что в течение длительного времени юридический бизнес был слишком скуден, чтобы позволять существовать столь многим специальностям.
Каковы бы ни были причины, но ни в одной из колоний до середины XVIII столетия не существовало четко обозначенной профессии юриста. Старое английское предубеждение против юристов приобрело в Америке новую силу. Несмотря на случавшиеся в Англии выступления против юристов (столь давние, как восстание Джека Кэда в 1450 году, и столь недавние, как гражданская война XVII века), они не были отлучены от власти и привилегий; судебные «инны», Сообщество нотариусов и другие старинные гильдии сохранили свои позиции. В Америке с самого начала не было таких цитаделей. В здешних условиях, где суды создавались на свободной и неопределенной основе, где даже у судей обычно не было полного юридического образования, недоверие к юристам стало устоявшимся явлением. К концу XVHI века, когда американской торговле понадобился юрист с более глубокими познаниями, уже сложилось представление о том, что люди, получившие юридическое образование, не приобретут того монопольного положения высшего класса, которое они занимают в Англии.
Недавно сформировавшиеся правящие группировки в каждой из колоний предпочитали сохранить за собой привилегии, на которые могли бы претендовать представители закона. В Виргинии, например, землевладельческая аристократия своими силами справлялась с юридическими вопросами, предпочитая не поощрять создание нового сословия колониальных юристов. В Массачусетсе духовенство, опираясь на пуританскую предубежденность против юристов, сдерживало развитие квалифицированной, независимой адвокатуры: первая известная в колониальные времена мера предосторожности в отношении юристов (законодательство по вопросам гражданских свобод,ст.26) запрещала выплату вознаграждения за представительство в суде. В Нью-Йорке торговцы и крупные землевладельцы также не желали уступать своих прав юридической аристократии. В Пенсильвании квакеры старались вообще не допускать судебных заседаний, прибегая к услугам неспециалистов как «обычных миротворцев».
Однако, хотя колонии могли существовать и даже процветать без барристеров,солиситоров и адвокатов, они не могли существовать без закона. По мере роста населения и благосостояния, усложнения экономической жизни колоний появлялись люди, для которых право становилось конкретной сферой дея
233
тельности. К завершению колониальной эпохи в каждой колонии существовало нечто напоминающее юриспруденцию. Никто заранее не планировал результат, но каждая колония по-своему обеспечивала свои нужды. Каждая своим особым путем подошла к единому для Нового Света пункту назначения, который в интеллектуальном отношении был столь же далек от пропитанных портвейном холлов лондонских судебных «иннов», как и в географическом. Неразвитость профессионального аппарата наряду с нехваткой заведений по подготовке юристов объясняла упрощенную систему профессионального обучения. Английские солиситоры и атторнеи проходили длительную подготовку, напоминающую систему обучения подмастерьев. Согласно соответствующим статьям Акта парламента 1729 года был установлен пятилетний срок обучения, прежде чем солиситор или атторней мог практиковать в каком-нибудь суде. В отношении уважаемых барристеров, однако, сохранялось особое положение. Для тех, кто в общественном и финансовом отношениях был готов к работе, допуск к их особой, исключительной сфере деятельности, по словам одного историка, напоминал возврат украденных товаров — «не задавая никаких вопросов». К ним не применялось даже общее требование обязательности ученичества. Тем не менее в колониальной Америке ученичество, обычно более упрощенное, чем то, что требовалось для английских атторнеев и солиситоров, открывало дверь ко всем видам деятельности профессионального юриста.
Разнообразные обязанности были правилом. Ко времени Революции в Новой Англии и в центральных колониях сформировалась малообразованная, небрежно подготовленная прослойка юристов, далекая от независимости суждений. В более крупных колониях прослеживалась тенденция распределять юристов по различным судам, каждый из которых определял свои критерии юридической деятельности. В небольших колониях (например, Род-Айленд, Коннектикут и Делавэр), где, похоже, все судьи и практикующие юристы знали друг друга, юрист, получивший доступ в один из судов, обычно допускался и во все остальные. В Северной Каролине, Нью-Йорке и Нью-Джерси право назначать всех атторнеев принадлежало королевским губернаторам, однако они, как правило, осуществляли эти назначения только по рекомендации судьи или суда. Самой первой американской ассоциацией юристов была, вероятно, нью-йоркская, основанная до 1748 года и прекратившая свое существование вскоре после 1765-го; в Массачусетсе ассоциация адвокатов была создана только в 1761 году. В XVIII веке во всех этих колониях практику
234
ющие юристы выделялись из остального населения более высоким уровнем образования, скорее общего, чем специального, и полученного обычно в колониальных колледжах.
На Юге, особенно в Виргинии и Южной Каролине, городов было меньше, и английские порядки здесь ценились больше и копировались более сознательно. В этих местах контроль за допуском всех атторнеев осуществлялся высшими судами, хотя иногда и косвенным путем. Ведущие юристы обучались в лондонских судебных «иннах». После примерно 1750 года резко возросла популярность этих «иннов»: до 1815 года из приблизительно 236 слушателей судебных «иннов» американского происхождения более половины было принято между 1750 и 1775 годами. Примерно треть из них была из Южной Каролины, около четверти — из Виргинии, а из Мэриленда их было больше, чем из Пенсильвании, Нью-Йорка или Массачусетса. Все это соответствует юридическому консерватизму южных лидеров Американской революции. Кто лучше их знал старинные методы английских юристов и традиционные права англичан?
Итак, в Америке разнообразие климата, экономических проблем, природных условий, а также местная традиция вызвали к жизни многообразие требований, предъявляемых в отношении законников. Отсутствие экономической или политической столицы отражало и усиливало это многообразие; отсутствие единого центра препятствовало установлению монополии в этой сфере деятельности. Усилия южной аристократии, направленные на то, чтобы судебные «инны» стали центром их профессиональной деятельности, провалились — Лондон был слишком далеко.
Таким образом,возникла более простая, менее снобистская форма юриспруденции, не разделяющая юристов и не разводящая их по специальным направлениям, а устанавливающая неформальную градацию среди практикующих юристов согласно их образованию и опыту работы. В некоторых районах заниматься юридической деятельностью в высших судах допускались только наиболее образованные и наиболее опытные юристы. Несколько серьезных попыток (например, в ранних законодательных актах Виргинии) приживить английскую систему разграничений не имели успеха: молодые барристеры, выходцы с Юга, вернувшись после практики в судебных «иннах», в течение какого-то времени, казалось, монополизировали деятельность в колониальных судах, однако Революция прекратила практику направления студентов в Англию и помешала формированию особой категории юристов, не дав ей существенно утвердиться.
235
В 1810 году даже в Виргинии суды прямо заявляли о том, что функции барристера и атторнея «не разделяются и осуществляются одним человеком».
Уничтожение различий между сферами деятельности барристеров, солиситоров и атторнеев имело меньшее значение в сравнении с крушением стен, которыми в старой Англии юридические знания ограждались от простых людей. Там, где земля была скорее товаром, а не фамильной ценностью, землевладельцами становилось значительно большее количество людей, которые по мере необходимости изучали некоторые законы. Поскольку колонисты сами приобретали знания о юридических правах английских подданных, они с гораздо меньшим доверием относились к ограниченному кругу профессионалов, получивших специальное образование.
Одной из причин, в силу которой мы так мало знаем об американском праве колониальной эпохи, является то, что многие судьи были непрофессионалами. Похоже, они мало внимания обращали на английскую практику, о которой в колониях почти ничего не знали, да и ни один случай из американской судебной деятельности к тому времени не был документально зафиксирован. Их собственные мнения обычно в отчет не включались. Нам очень мало известно о взглядах судей на материальное право, ибо даже в случаях регистрации принятых решений обоснование приводилось редко. До завершения колониальной эпохи ни в одной американской колонии не было суда, который в основном состоял бы из профессионально подготовленных юристов. Даже в высшем суде Массачусетса, состав судей которого в XVIII веке был многочисленнее, а сами судьи лучше подготовлены по сравнению с другими колониями, профессиональных юристов было немного. В период между 1692 годом и Революцией из девяти верховных судей Массачусетса только трое получили специальное юридическое образование — двое в судебных «иннах» и один в колонии, остальные были священниками, врачами, торговцами или простыми людьми с общим образованием. Из двадцати трех судей того же времени только трое имели настоящее юридическое образование, остальные были священниками или непрофессионалами; двое судей из морского суда получили образование в английских судебных «иннах». Среди судей Массачусетса иных профессионально подготовленных юристов не было. Положение в других колониях многим не отличалось, а если и отличалось, то тем, что образованные юристы в судах были еще более редким явлением; повсеместным правилом был судья-неспециалист.
236
По воспоминаниям Джефферсона, когда он занимался адвокатской практикой в законодательном собрании, у генерального прокурора Виргинии Джона Рэндолфа было три рукописных тома отчетов по судебным делам, заслушанных в этом собрании между 1730 и 1740 годами. Хотя это была высшая судебная инстанция Виргинии, ее решения по вопросам английского права (по мнению Джефферсона) имели «малое значение в связи с тем, что судьи этого суда, состоявшего только из членов королевского тайного совета, выбирались в зависимости от их благосостояния и общественного положения, а не юридических познаний, на их решения нельзя было ссылаться, они не прибавляли и не уменьшали весомости решений английских судов по тем же самым вопросам. Хотя в том, что касалось вопросов нашего особого законодательства, их судебные решения, независимо от правильной или ложной юридической обоснованности, сохраняли свою авторитетность».
По английским меркам юридических книг в колониях было недостаточно. Джон Адамс писал в автобиографии, что, когда он пытался получить американское юридическое образование, ему «очень не хватало книг». В Америке обычно использовалась пятая часть от тех примерно ста пятидесяти томов судебных решений, что были опубликованы в Англии до Американской революции, доля научных трудов и учебников была еще меньше. Первый том американских судебных решений был опубликован только в 1790 году.
Когда судьями были непрофессионалы, адвокаты мало стремились к тому, чтобы стать образованными юристами. Действительно, профессиональное юридическое образование могло иметь негативные последствия, так как в этом случае адвокат едва ли смог бы его продемонстрировать, не раскрывая невежества судьи и не вызывая подозрений среди присяжных заседателей. Во время полемики между губернатором и законодательным собранием Массачусетса Джон Адамс «широко цитировал» судебные отчеты Мура—«авторитетный источник по юриспруденции, который не читал ни один человек в Массачусетсе». Не получивший профессионального юридического образования Томас Хатчинсон (который был главным судьей Массачусетса более десяти лет) тем не менее был значительно более начитан в юридической литературе, чем большинство из тех, кто занимал место на судейской скамье. Адамс, однако, писал, что даже Хатчинсон не знал основ и посему «всячески избегал этой темы, не найдя ничего лучшего, как заявлять при этом, что обоснования, выдвигаемые лордом Коуком, носят искусственный характер».
237
В колониальные времена выразителем крайних антипрофес-сиональных настроений был главный судья Сэмюел Ливермор, председательствовавший в судах Нью-Гэмпшира в конце XVIII века Как жаловался один из немногих профессионально образованных юристов того времени, «судья Ливермор не получил юридического образования и не любил, когда ему докучали в суде по этому вопросу. Когда Уэст попытался изучать специальную литературу по юридической аргументации, главный судья спросил, зачем он ее читает, «неужели он думал, что он и его собратья не знали того, что есть в этих старых,затхлых,изъеденных червями книгах?» В то самое время, когда английские юристы возводили на престол строгое правило прецедента, судья Ливермор отверг ссылку на свое же более раннее,противоположное решение, заявив, что «каждый бочонок должен стоять на собственном дне». Судья Джон Дадли (фермер и торговец, восседавший на одной скамье с Ливермором) предписывал суду присяжных: «Наше дело — осуществлять правосудие между сторонами не с помощью юридических уловок, почерпнутых из Коука или Блэкстона, чьих книг я никогда не читал и читать не буду, а с помощью здравого смысла, как между людьми». Когда просвещенный Джереми Мейсон отрабатывал вопрос о возражении в суде по поводу относимости к делу доводов противной стороны — одного из наиболее известных приемов английской юридической защиты, — судья Дадли высмеял чуждые тонкости как «несомненную адвокатскую выдумку, рассчитанную на то, чтобы препятствовать правосудию».
Если подчас американский юрист обладал меньшей профессиональной подготовкой, чем его английский коллега, то у грамотного рядового американца таких знаний было больше. Некоторые непрофессиональные судьи, подобно двум главным судьям Массачусетса — Уильяму Стафтону (1692—1701) и Сэмюелу Сьюоллу (1718—1728), были хорошо знакомы с юридической литературой и вполне могли соперничать с английскими судьями. Д-р Уильям Дугласс отмечал, что «в наших колониях, особенно в Новой Англии, люди хорошо разбираются в юридических уловках, обычный деревенский житель Новой Англии почти готов для работы адвоката в сельской местности Англии».
Восемнадцатый век в Англии был эпохой повсеместной профессиональной специализации: «Краткий курс» Мэтью Бэкона появился в 1736 году, знаменитая юридическая энциклопедия (в 23 томах) Чарлза Вайнера — в 1742 — 1753 годах, «Дигест» Ка-минса—в 1762-м. Огромный успех работы Вайнера позволил от
238
крыть в Оксфорде первую профессорскую должность по английскому праву, занятую сэром Уильямом Блэкстоном, который на лекциях читал свои знаменитые «Комментарии». А «Комментарии по английскому праву» Блэкстона были наиболее претенциозной и наиболее успешной из когда-либо предпринятых попыток ограничить беспорядочно разросшееся английское право до размеров разумной и усваиваемой системы. Нельзя утверждать, что в колониальной Америке были созданы великие юридические системы или фундаментальные труды в области права. Однако в ней разворачивалась разнообразная, разрозненная и разносторонняя деятельность сотен непрофессионалов, полуюристов, псевдоюристов и немногих получивших настоящее юридическое образование. Из всех известных юридически оформленных соглашений (около шестидесяти), опубликованных в американских колониях до 1788 года, ни одно не было, строго говоря, трактатом, с точки зрения профессиональных юристов. Они, скорее, являлись разновидностями «Краткого руководства для констеблей» и аналогичных справочников в помощь населению по юридическим вопросам.
«Возможно,ни в одной стране мира нет такой всеобщей тяги к изучению права, — отмечал Эдмунд Берк в известном разделе своей речи о примирении с Америкой. — Все, кто читают, и очень много читают, стараются приобрести некоторые познания в этой науке». В американской тенденции к уничтожению монопольного положения юристов он усматривал большой смысл — такое общество не допустит своего угнетения. Население колоний будет объединено общим пониманием или общим заблуждением в отношении своих юридических прав. Разве не примечателен тот факт, что к 1775 году (а по словам Берка, он узнал об этом от известного книготорговца) в Америке было продано почти столько же экземпляров «Комментариев» Блэк-стона,сколько и в Англии?
Идее общего права противоречили усилия Блэкстона по его систематизации, но он впервые предложил средство, с помощью которого любой грамотный человек мог усвоить основные положения его юридического опыта. Поэтому мода на Блэкстона,чей труд неоднократно переиздавался в Америке конца XVIII — начала XIX века, свидетельствовала о распространенности правовых знаний и о глубоком их усвоении в Америке. Для американского права Блэкстон значил столько же, сколько для американской грамотности значил синий орфографический словарь Ноа Уэбстера. Имея в руках всего лишь четыре тома «Комментариев», любой человек, как бы далек он ни был от ста
239
ринных юридических школ, от судов или законодательных учреждений, мог стать юристом-любителем. Блэкстон был находкой для делового американца, для амбициозного жителя глубинки и для честолюбивого политика. Одним из забавных моментов американской истории стал тот факт, что барристер-сноб из консерваторов, оттачивавший свое мастерство в угоду вкусам молодых джентльменов из Оксфорда, стал наставником Авраама Линкольна и тысяч подобных ему. Способствуя распространению правовых знаний и юридических терминов среди населения вплоть до отдаленных районов страны, Блэкстон внес большой вклад в становление «сделавших самих себя» людей, выдвинувшихся в руководители Нового Света.
33
СЛИЯНИЕ ПРАВА И ПОЛИТИКИ
В течение всего колониального периода Америка, возможно, не дала ни одного юриста, который получил бы основательное образование,соответствующее строгим английским меркам. Американцы были дилетантами и поклонниками права, но никогда — его высокими служителями; немногие,если таковые среди них были, чувствовали себя уверенно в созданных человеческим разумом джунглях нотариальных актов о переделе имущества, документов для рассмотрения в суде лорд-канцлера, имущественных исков.
Однако даже нехватка юридических учебников и слабая юридическая подготовка технического аппарата судов имели определенные преимущества. Немногие доступные книги, подчас переоцениваемые и превозносимые до небес, как правило, тщательно изучались. Джефферсон почерпнул свои правовые знания из немногих классических трудов, в частности Брэктона, Коука и Блэкстона (которые, как отмечено в его тетради для заметок, он перечитывал и тщательно изучал). Вероятно, так ему удалось лучше усвоить общие основы, чем если бы он блуждал в книгохранилище, переполненном хаотическим набором трудов правоведов всех прошлых эпох. Например, в лорде Коуке Джефферсон увидел не только ворчливого законника, но и поборника тех, кто отстаивает свободный и в то же время грамотный подход к делу: «Не было более разумного вига, который создал бы более глубокое понимание ортодоксальных доктрин британских свобод. Наши юристы тогда все были вигами». Джефферсон отдавал предпочтение Коуку, а не «слащавому
240
мэнсфилдизму Блэкстона», который, по его мнению, породил утонченный торизм даже среди младшего поколения американских юристов, называвших себя вигами. Ссылка на древнюю англосаксонскую форму английского общего права, как бы слабо она ни подкреплялась историческими фактами, помогла Джефферсону в разумных пределах упростить юрисдикцию и конкретизировать права англичан.
Многие мудрые современные юристы отмечали,как отразилась на деятельности юристов — создателей федеральной конституции столь ощутимая нехватка научной литературы. Судья Миллер, один из самых компетентных членов Верховного суда в конце XIX века, писал о невежестве как об одном из основных факторов, определявших правосудие наших западных штатов; как считают, ему также принадлежит наблюдение, что у первых судей «недоставало знаний на совершение неправильных поступков, а посему они поступали верно».
В Новом Свете существовало множество юридических проблем, для решения которых не находилось соответствующих прецедентов в английском праве или о которых не знали по эту сторону Атлантического океана. Поэтому американские судьи смело экстраполировали малопонятные принципы или простодушно применяли не совсем относящееся к делу английское законодательство. Эта тенденция усилилась в последнюю треть XVIII столетия со своевременным появлением «Комментариев» Блэкстона, лишивших также юристов колониальной Америки соблазна составить свой собственный свод законов.
В то время как американские правовые знания стали проще и доступнее, сама юридическая мысль приобрела новый оттенок, который долго сказывался на американском юридическом мышлении и политических институтах. При определении того, каким образом следует вершить дела, любая система общего права обращается к опыту прошлого: она не нарушает деятельность общественных структур и заботится преимущественно об их функционировании, а не об оперативности законодательства или юридическом кодексе. Довольно странным было то, что эта тенденция обрела новую силу в колониальной Америке. Менее заметной стала граница между формальным «правом» (некогда монополией просвещенного класса) и любыми другими видами правовых знаний.
Американцам,подобно Джефферсону,законы и все другие стороны человеческой деятельности представлялись перемешанными друг с другом. В своих многочисленных письмах к честолюбивым студентам, изучающим право, Джефферсон
241
советовал им получить хорошее общее образование, читать книги по различным отраслям знаний, не пренебрегать изучением языков, математики или натурфилософии. «Если заложена такая основа, вы можете приступить к основательному изучению права и добиться больших успехов, опираясь на знание родственных наук. Основными из них являются натурфилософия, этика, религия, естественное право, литература, критика, риторика и ораторское искусство. Изучение нескольких дисциплин дает преимущество. Разнообразие освобождает разум,так же как и взгляд».
В программы колледжей вводилась «юридическая» дисциплина, но не для профессиональной подготовки, а потому, что она была тесно связана с теологическими и «философскими» предметами. Первый учебный план Кингз-колледжа предусматривал на четвертом году изучение «основных принципов правосудия и деятельности правительства наряду с историей, богословскими и светскими предметами», и вскоре там было учреждено профессорство по естественному праву. Собственные планы Джефферсона в отношении колледжа Уильям-энд-Мэ-ри, а позднее и Виргинского университета предусматривали широкое изучение права в тесной увязке с гуманитарными предметами. Более широкий подход, принятый в американской системе формирования юридических кадров, демонстрирующий, насколько далекими от английской подготовки, основанной на узкопрофессиональных союзах, стали взгляды американцев в отношении юридического профессионального обучения, наилучшим образом был изложен в плане 1777 года президента университета Эзры Стайлса по вопросу о профессорстве в области права в Йеле:
Профессорство в области права столь же важно, как и в области медицины; не для того, чтобы готовить юристов или барристеров, а для воспитания граждан. Возможно, менее четверти молодых джентльменов, получивших образование в колледже, становятся специалистами в области богословия, права либо медицины. Большая их часть, завершив академический курс обучения, возвращается домой, вливается в общество и начинает заниматься торговлей либо своим хозяйством. Тем не менее, вероятно, большинство этих людей самим течением их жизни втягивается в ту или иную сферу гражданской или государственной деятельности. Многие действительно достойны пристального внимания, их воспитание и образование позволяют им стать полезными членами общества, представителями избранного круга, мировыми судьями, членами законодательных органов, судов, депутатами в конгрессе. Какую пользу получает общество от того, что в его распоряжении есть достаточное количество людей, получивших хорошие знания в области прав и свобод? Эти знания привлекают внимание, они внушают тем, кто не получил гуманитарного образования, мысль об их
242
использовании на благо общества. В значительной степени благодаря нашим научным центрам Америка в нынешние напряженные времена смогла найти достаточно людей, способных осуществить великое и важное дело по реализации новых политических курсов, осуществлению правительственной деятельности, проведению государственных мероприятий в военно-морской, политической и общегражданской областях жизни республики Соединенных Штатов с такой мудростью и величием, которые уже поражают Европу и принесут нам почести в глазах последующих поколений... Едва ли возможно поработить республику граждан, хорошо знающих свои законы, права и свободы.
В более поздние времена, когда юридическая деятельность в Америке должна была стать скромнее, с ней ассоциировалась гордость «юристов» за свою решающую роль в создании государства и его институтов. Из пятидесяти шести человек, подписавших Декларацию независимости, двадцать пять были юристами; из пятидесяти пяти членов конституционного конвента в Филадельфии тридцать один был юристом; в первом составе конгресса десять из двадцати девяти сенаторов и семнадцать из шестидесяти пяти членов палаты представителей были юристами. Однако вопреки общему мнению это не свидетельствует о значении представителей интеллигенции в создании нашей нации. Американский опыт не порождал благоговейного трепета перед специалистом в области права или какой-либо другой сфере знаний. Рамки профессиональных привилегий в Америке не были четко определены. Американский опыт скорее свидетельствует о распространении юридических знаний среди деловых людей Америки и об отсутствии разграничения между юридической и другими областями знаний в американских условиях. Сколь мало это говорит нам о Джефферсоне — юристе-самоучке с кратким сроком ученичества в конторе Джорджа Уита,— если мы станем утверждать, что он был профессиональным юристом!
Значение юриста в Америке ярче всего проявилось на примере жизненного пути Эндрю Джэксона, который в двадцать лет после ученичества, проведенного в постоянных разъездах с выездным судом и под покровительством общительного полковника Джона Стоукса,был объявлен судом в 1787 году «человеком с безупречной репутацией и глубокими юридическими знаниями».
Раннее крушение бастионов вокруг профессионального юридического знания — это ключ к пониманию последующей американской политической жизни. Недоверие к юристам преобразуется в растущее уважение к праву. Американская революция могла быть выражена юридическим языком, так как это был
243
язык образованной части общества. Крупные вопросы американской политической жизни во времена Гражданской войны в XIX веке и «Нового курса» в XX веке выражались юридическим языком — священная проверка на «конституционность» — именно потому, что американцы относились к почитаемым ими юридическим регуляциям как к каркасу, на котором построено их общество. В этом апробировании политических событий юридическими законами проявлялось своеобразное самолюбование,не столь часто заметное у развитых народов. В мире, где мечты становятся явью, общество начало обретать свои подлинные черты, соответствующие его устремлениям.
Часть во сьмая
МЕДИЦИНА В НОВОМ СВЕТЕ
Их счастье в том, что у них очень мало врачей, причем те, которые имеются, используют только простейшие лекарственные средства, в изобилии растущие в лесах. И воистину, недомогания их немногочисленны, а лекарства настолько общеизвестны, что недостает таинственности ремесла врачевания,создаваемой учеными людьми в других странах и порабощающей человечество.
Роберт Беверли
34
ЕСТЕСТВЕННОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ И ПРОСТЕЙШИЕ ПРИРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Американский опыт не способствовал значительному прогрессу медицинской науки. Даже биологические науки в колониальный период в теоретическом плане не двигались вперед. Однако в некоторых областях науки, разбухших в Европе от объема догматических учений, простота американской жизни, американская наивность оказались в своем роде небесполезными. Одной из этих областей была медицина, включая такую ее отрасль, которая впоследствии получила название фармацевтики,или фармакологии.
Естествознание (особенно ботаника) и медицина в XVIII веке были тесно взаимосвязаны. В те времена наиболее часто употреблялись лекарства растительного происхождения, а самыми важными трактатами по ботанике стали «травники» — описания распространенных лекарственных растений, дававшие представление о том, где они произрастают и для чего предназначены. Совершенно естественно, что врачи, получившие образование в Европе, попав в новую страну с незнакомыми растениями, использовали эту возможность и делали открытия в области бота
245
ники. Даже и неспециалисты изучали американскую флору в надежде внести вклад в медицинские знания.
В 1610 году, в несчастливый первоначальный период существования Джеймстаунской колонии, губернатор и городской совет сообщили в Лондонскую компанию о широко распространившемся заболевании («странный понос и озноб») и об оскудевших запасах лекарств. Врач компании д-р Лоренс Боуэн начал изучать возможность использования в медицинских целях местных растений. Среди прочего, в камеди белого тополя он обнаружил бальзам, который мог «исцелить любую свежую рану», и экспериментировал с сассафрасом, который произрастал в большом количестве в районе Джеймстауна. Табак со времени его открытия интересовал европейцев с точки зрения возможности его применения в медицине. В книге Хэрриота «Краткий и правдивый отчет о недавно открытой земле Виргиния» (1588) табак преподносился как медицинское средство, которое «снимает излишнее возбуждение и вообще улучшает настроение, открывает поры и протоки тела, по коей причине использование оного препятствует нарушениям жизнедеятельности организма, но если даже таковые произойдут, делает их не слишком длительными и за короткое время устраняет их; поэтому тело аборигенов сохраняется в отменном здравии и не подвержено многим болезням, которые часто поражают нас в Англии». Утверждалось, что курение табака способно излечить от подагры и приступов малярии, облегчить похмелье, уменьшить усталость и чувство голода. «Джеймстаунская трава» (datura stramonium*), которая, как доказано современной медициной, когда применяется в малых дозах, имеет седативное и противоспазматическое действие, а в больших дозах является наркотиком и ядом, ценилась как «успокоительное» средство.
Роберт Беверли в 1705 году отмечал, что «поселенцы испытывают отвращение к любому лечению, кроме как в крайних случаях»:
У поселенцев... есть различные коренья, характерные для данной местности, которые они в этом случае объявляют незаменимыми. Их счастье в том, что у них очень мало врачей, причем те, которые имеются, используют только простейшие лекарственные средства, в изобилии растущие в лесах. И воистину,недомогания их немногочисленны, а лекарства настолько общеизвестны, что недостает таинственности ремесла врачевания, создаваемой учеными людьми в других странах и порабощающей человечество.
Дурман {лат.).
246
Два известных английских врача убедили Марка Кейтсби осуществить в 1710 — 1719 годах путешествия, которые легли в основу его книги «Естественная история Каролины, Флориды и Багамских островов». Он открыл множество лекарственных трав, включая подофил, змеиный корень, женьшень и гамамелис. Среди наиболее полезных было так называемое «дерево-от-зубной-боли», «листья которого пахнут, как листья апельсинового дерева. Эти листья, а также семена и кора растения, пахучие, а на вкус очень острые и вязкие, используются людьми, населяющими морское побережье Виргинии и Каролины, для лечения зубной боли, откуда и произошло название растения». Даже д-р Джон Морган, который был привержен европейским методам лечения и надеялся ввести в Америке все жесткие правила европейской медицинской подготовки, не мог не увидеть особые открывшиеся там возможности:
Мы живем на широко раскинувшемся континенте, лишь небольшая часть которого, даже там, где он заселен, изучена. Леса, горы, реки и недра земли предоставляют пытливому уму широкие возможности для исследований. В этом отношении американский ученый имеет некоторые существенные преимущества перед европейским, которые заключаются в следующем. Наиболее широкие возможности открываются перед нами в области дальнейшего изучения естественной истории. Европейские страны многократно подвергались исследованию многими высокообразованными и талантливыми людьми, имевшими целью тщательнейшим образом изучить все, что здесь было достойно внимания, вследствие чего для исследователей последующих поколений остается меньше надежд или возможностей сделать новые открытия. Эта часть света может рассматриваться как богатейший источник естественных знаний, еще нетронутый, достаточный для того, чтобы удовлетворить похвальную жажду славы в молодых исследователях природы. Эти открытия должны значительно обогатить медицинскую науку... Сколько существует растений, взросших на этой почве и обладающих только им присущими свойствами?
Повышенному вниманию к естественной истории среди американских врачей способствовали не только особые возможности Нового Света, но также одна из древних догм европейской медицины, воплощенная в концепции «соответствий». Эта догма, выраженная девизом similia similibus («подобное подобным» — теория, которая впоследствии причудливым образом была подтверждена использованием прививок), предполагала, что Провидению угодно обязательное совпадение того места, где возникла болезнь, с местом, где будет найдено средство ее исцеления. К концу XVIII века некоторые ученые начали сомневаться в справедливости этого тезиса, но данное убеждение было так распространено, что Бенджамин Смит Бартон в своих «Коллекциях для эссе по лекарственным препаратам»
247
(1801 — 1804) назвал «общеизвестной» теорию, что «каждая местность обладает целебными средствами, пригодными для лечения именно здесь встречающихся заболеваний... что основную часть исконных целебных средств следует искать среди растений тех краев, где преобладает данное заболевание». Так, широко распространенным было убеждение, что средство против укуса гремучей змеи будет, вероятно, найдено в той же местности Америки, где обитают гремучие змеи. И что же?! Polygala senega (корень гремучей змеи,или змеиный корень) оказался именно тем, что надо! Разве не прав был глава шведских церквей в Пенсильвании преподобный Николас Коллин, тоже в некотором роде изобретатель и натуралист, когда воскликнул: «Щедрый Творец открывает свои замечательные дары соразмерно нашим потребностям... Каждый край располагает местными целебными средствами против своих природных изъянов». Даже когда эта древняя догма превратилась не более чем в гипотезу или предположение, она все равно побуждала тех, кто исследовал распространенные в Америке болезни, с особым интересом заниматься растениями, которые, волей Создателя, произрастают именно здесь.
В Америке получившие специальное медицинское образование врачи много и плодотворно занимались изучением американского ландшафта, климата, встречающихся здесь растений и животных. Отчасти, конечно, это явилось результатом исторически сложившейся тесной связи между ботаникой и медициной как отраслями европейской академической науки (которая не принесла большой пользы ни той, ни другой). Однако в те дни многие ученые, за исключением математиков и астрономов, обычно сперва обучались медицине. Великий шведский ботаник Карл Линней получил медицинское образование, а директор ботанического сада Германн Бургаве занимал доминирующие позиции в европейской медицине начала XVIII века, будучи профессором ботаники и медицины в Лейденском университете. Для его учеников ботанический сад был обычной принадлежностью медицинского учреждения. Даже в начале XIX века в Колледже врачей и хирургов в Нью-Йорке для целей обучения все еще содержали ботанический сад.
Многие из ведущих американских натуралистов колониального периода имели медицинскую подготовку. Некоторые, как Джон Бартрам и Джон Клейтон, были самоучками, однако, например, Кэдуоледер Колден получил медицинское образование в Лондоне, а Бенджамин Смит Бартон, автор первой значительной американской публикации по ботанике («Элементы ботани
248
ки», 1803), профессор медицины в Пенсильванском университете, пришел к ботанике, занимаясь фармакологией.
Врачи — зачастую единственные люди с научным образованием на мили вокруг, особенно на Юге, где книг и обученных специалистов любого рода было мало, — делали основную часть открытий в области ботаники. Карьера д-ра Александра Гардена, от имени которого идет название «гардения», воплотила в себе возможности, соблазны и ограничения американской жизни. За тридцать лет работы в качестве врача в Чарлстоне, штат Южная Каролина, он открыл много новых видов и семейств растений и достиг, пожалуй, наибольших результатов среди американских ботаников той эпохи, но даже он так и не написал значимого систематизированного научного труда. Самое существенное из того, что он сделал в науке, было отражено в его письмах. Вскоре после того, как он приехал в Чарлстон, получив до этого ученую степень в области медицины в Эдинбурге, где его интересу к ботанике способствовали занятия в ботаническом саду, он начал переписываться с европейскими натуралистами, включая Линнея, и познакомился с американскими учеными, такими,как Колден, Клейтон и Джон Бартрам, с которыми обменивался мнениями. Хотя интересы Гардена отличались динамизмом и разнообразием, не будучи четко оформленными, они имели тенденцию сосредоточиваться на вопросах, поставленных европейскими учеными. «Мы в Чарлстоне являем собой общество наизанятейших, наисуетливейших, самых спешащих животных, каких только можно вообразить, — жаловался он. — И тем не менее в действительности мы мало что делаем, но нам нужно изображать деятельность. И такого рода важная спешка наблюдается у всех, кроме, может быть, джентльменов-плантаторов, которые выше абсолютно любого рода деятельности, за исключением принятия пищи, пития, битья баклуш, курения и спанья—пяти занятий, составляющих смысл их жизни и существования». Линней побудил его собирать рыб, пресмыкающихся и насекомых Каролины, в результате чего имя Гардена чаще любого другого из имен американских натуралистов упоминалось в знаменитом двенадцатом издании книги Линнея «Система природы». Но Гарден так и остался только увлеченным собирателем исходных материалов, на основе которых европейские ученые создавали свои системы.
Д-р Джон Митчелл из Урбанны (Виргиния), который тоже получил образование в Эдинбурге, утверждал, что открыл двадцать пять видов растений,и это делало его соперником Гардена по части ботанических находок. Он описал для Королевского
249
общества жизненный цикл и механизм размножения такого своеобразного американского животного, как опоссум, и исследовал воздействие факторов окружающей среды на различие цвета кожи человеческих рас. Первая удовлетворительная карта британской и французской Северной Америки (1755), использовавшаяся на мирных переговорах 1783 года и по-прежнему бывшая в ходу в конце века, была составлена именно им.
Членов этого разбросанного по всей Америке кружка врачей-натуралистов объединяло сотрудничество и полуизвест-ный и мучительно расплывчатый предмет изучения с его американской спецификой. Систематизацию полученных знаний они предоставляли своим корреспондентам в Англии, Франции, Германии, Голландии, Швеции, тогда как сами отдали всю свою энергию сбору, описанию и толкованию новых находок в своем Новом Свете.
* * *
Любой исследователь, изучающий европейское медицинское образование XVII и XVIII веков, не может не увидеть значимости конкретной и практической направленности работы американских врачей. Над европейским медицинским образованием, особенно в крупных университетских центрах, по-прежнему довлела догма. «Виталисты», сторонники «химиатрии» и «физиатрии» спорили между собой относительно того, какая из выдвинутых ими концепций является единственно правильной, объясняющей все в человеческом организме. За редким исключением,каждый видный профессор медицины предлагал свое собственное упрощенное толкование его жизнедеятельности; каждому заболеванию полагалось так или иначе быть очередным сбоем в общей «системе» организма. Одни ученые полагали истоком всех болезней нарушения с «соками»,другие — неполадки с «напряженностью» в организме, а третьи называли еще более примитивные, доктринерские причины. В том случае, если американские врачи вообще получали образование, они обучались на подобных догмах, однако отсутствие в Америке вплоть до 1765 года медицинских учебных заведений привело к тому, что они оказались не включенными в этот столь затягивающий, но бесплодный спор. Позднее, по мере того как американское медицинское образование «усовершенствовалось», по эту сторону океана среди ученых-медиков появилось уже больше подобных догматиков. Самым знаменитым среди них был, по-видимому, Бенджамин Раш, который проповедовал монистическую теорию
250
напряженности организма и имел почти беспредельную веру в кровопускание. Самым неопровержимым доказательством его теории было то, что, если кровопускание производилось достаточно долго, любой пациент в конечном итоге расслаблялся!
Даже самому доброжелательному историку не покажется значительной та сумма полезных знаний, которой располагали получившие специальную подготовку европейские доктора медицины XVIII века. Появление и развитие такой величественной новой системы, как ньютоновская физика, казалось, подталкивало врачей к тому, чтобы поддаться соблазну рассматривать организм как простую систему. И только с развитием патолого-анатомии, которому способствовала работа,опубликованная Морганьи из Падуи в 1761 году, в европейских медицинских школах значительно продвинулись вперед классификация, объяснение и успешное лечение специфических заболеваний. На протяжении значительной части XIX столетия установки были такими догматичными, теории такими доктринерскими, руки и инструменты настолько зараженными микробами, а «методы лечения» настолько изнуряющими, что врач с образованием зачастую скорее убивал, нежели лечил пациента. Если даже пациент-американец и не имел никаких других преимуществ, то ему по крайней мере повезло в том, что к берегам его страны не был доставлен весь тяжелый груз научных ошибок.
Простые медицинские процедуры не были здесь более эффективными в лечении больного по сравнению с теми методами, которые практиковались в Старом Свете, но они, вероятно, меньше мешали процессу выздоровления пациента. В то время как европейский врач часто полагался на крайние меры, которые доводили его упрощенческие догматические представления до их логического — хотя иногда и фатального — завершения, американский врач-любитель скорее готов был допустить естественный ход событий. Вместо того чтобы полагаться на такие безжалостные средства, как рвотные, слабительные и кровопускание (которые историки медицины часто называли «геройскими»), лекарь-самоучка был склонен использовать менее сильнодействующие и менее вредоносные методы.
Священники колониального Массачусетса, лучше всех, по-видимому, разбиравшиеся в заболеваниях своих сограждан, были склонны прописывать такие благотворные и безвредные средства, как отдых, свежий воздух и массаж. Первая работа по медицине, написанная в британской Северной Америке, не принадлежала перу дипломированного врача. «Краткое руководство для простых людей Новой Англии, рассказывающее о том,
251
как лечить самих себя и своих близких при оспе или кори», написанное священником Старой южной (третьей) церкви в Бостоне Томасом Тэчером, было опубликовано в январе 1678 года во время пика эпидемии оспы. В этом листке не имелось ничего нового. Совершенно очевидно было заимствование из книги великого английского врача Томаса Сиденхема, который сам являлся пионером в борьбе против «геройских» методов лечения. Сиденхем призывал позволить «природе самой вершить свое дело, не требуя от врача ничего, кроме как несколько ослабить ее воздействие, когда оно чрезмерно, и подкрепить его, когда оно слишком слабо». Единственная книга, сочиненная Тэчером, содержала всего лишь простой список из тридцати пронумерованных пунктов, изложенных непрофессиональным языком. «Как только эта болезнь явит свои признаки, пускай больной воздерживается от мяса, и вина, и свежего воздуха, давайте обычно пить ему подогретый ячменный отвар с поджаренным хлебцем, в умеренном количестве и когда попросит. Из еды давайте жидкую овсяную кашу на воде, жидкий суп и другие не слишком горячие, легко усваиваемые блюда, компот из яблок и иногда молоко для разнообразия, но не холодные». Тэчер с готовностью признавал, что является «хотя и не врачом, но радетелем о здоровье больных», однако доктора даже и сейчас придерживаются общего мнения, что тэчеровское «Краткое руководство» содержало правильное описание оспы, данное в почти современных терминах, и предлагало разумный режим для пациентов. Это было полезное руководство, пожалуй даже более полезное, чем то, которое мог бы написать дипломированный врач. Оно переиздавалось во время эпидемий сначала 1702 и затем 1721 годов.
В Америке не только непрофессионалы отдавали предпочтение более простым средствам лечения, подсказываемым здравым смыслом. Использовавшаяся врачами Виргинии в XVII веке терапия была значительно проще той, что применялась их английскими современниками. Лекарства, особенно привозные экзотические,были крайне дороги, а аптекари, умевшие смешивать сложные снадобья, по эту сторону океана были очень редки. Опытные фармацевты в Виргинии посылали свои подручных в лес, чтобы те отыскали естественные целебные средства; большинство их препаратов были поэтому простые, домашнего приготовления, и с меньшей вероятностью могли помешать естественному процессу выздоровления. Невозможно в полной мере оценить эту простоту, если не знать, какие неудобоваримые смеси приготовляли образованные европейские доктора: туда входили человеческие экскременты, моча и много всего
252
прочего, что смешивалось по очень сложным рецептам. Американские врачи, особенно более образованные из них, не всегда отходили от этой утвердившейся практики: губернатор Уинтроп, например, обычно прописывал мазь из лесных вшей. Коттон Мэзер в 1724 году сообщил в Лондонское королевское общество, что бостонские врачи давали рекомендации глотать «свинцовые пули» от «той скверной хвори», которую они называли «заворотом кишок». В одном случае прописанная пуля попала в легкое пациента; «исходя из... злосчастных экспериментов, я полагаю, что многое бы вытерпел, прежде чем решиться прибегнуть к такому методу лечения».
Даже выдающийся врач XIX столетия Оливер Уэнделл Холмс (хозяин стола, за которым завтракали его знаменитые собеседники), хотя и относился враждебно к пуританам, не мог не признать, что методы лечения их врачей-священников были менее вредными, чем те, которыми пользовались их европейские современники.
То, что пришло к нам из первого столетия медицинской практики в сочинениях Уинтропа и Оливера, является сравнительно простым и разумным. Я подозреваю, что условия грубой, суровой жизни, при которых колонисты оказывались наедине с дикой природой, научили их уму-разуму, также какусло-вия военной кампании учили врачей и хирургов в минувшую (Гражданскую) войну. Добротная еда в достаточном количестве, чистый воздух и вода, гигиена, хороший уход, обезболивающие средства, опиум, стимулирующие средства, хинин, два или три обычных лекарства оказались достаточной основой для оказания медицинской помощи; а изыски фармакопеи, когда для нее настали трудные времена, также сошли на нет, как вышитые рубахи, белые лайковые перчатки и тросточки из ротанга. «Хорошее вино лучше всего подкрепит ее»,—сказал губернатор Джон Уинтроп-младший Сэмюелу Сай-мондсу, говоря с последним о его жене, аналогично тому, как Сиденхем однажды вместо лечения заказал своему пациенту, находившемуся в припадке мужской истерии, жареного цыпленка и пинту Канарского вина.
Одним из лучших примеров чрезмерной ретивости врача была область медицинской помощи беременным. Во времена, когда еще не знали антисептиков и причины родовой горячки были неизвестны, именно при осмотре беременной женщины врач скорее всего мог занести инфекцию. Приблизительная статистика смертельных исходов от родового сепсиса в Виргинии до 1860 года свидетельствует о значительно более высоком уровне смертности среди белых женщин, которые пользовались услугами врачей, по сравнению с негритянками, у которых роды принимали повивальные бабки. Аналогично этому непрофессиональный, индивидуальный,с небольшим числом персонала стационарный уход за больными в колониальной Виргинии, по всей видимости,
253
превосходил тот, который предоставлялся в крупных английских муниципальных больницах, где вместе содержались бедные, умалишенные и больные и где грубость и испорченные нравы обслуживающего персонала являлись притчей во языцех.
Нехватка профессионалов научила жителей Виргинии самим делать все необходимое. В долгих поездках в глуши по пути на отдаленную плантацию или для осмотра своих угодий они должны были заниматься самолечением: например, Уильям Берд во время своих экспедиций не имел при себе врача. Когда в 1733 году он проезжал через приграничные районы, у него «невыносимо заболел зуб». «Среди нас не было врача, чтобы выдрать зуб, как не было и специальных инструментов для этого. Однако на помощь пришло воображение, и я исхитрился избавиться от этого беспокойного спутника, придумав одну штуку». Берд попросту привязал один конец нитки к зубу, а другой — к бревну и скакал вокруг, пока зуб не вывалился.
На каждой большой усадьбе почти ежедневно возникала необходимость, чтобы непрофессионал исполнял обязанности доктора. Плантатор Виргинии точно так же не мог позволить себе посылать за врачом всякий раз, когда у его рабов возникали легкие недомогания, как современный фермер не может вызывать плотника, когда нужно слегка подремонтировать амбар или забор. Даже на больших плантациях повседневная медицинская помощь оказывалась самим хозяином, его женой или надсмотрщиком, а в случае необходимости они же лечили и тяжело больных. Когда Уильям Берд в октябре 1732 года приехал на свою плантацию недалеко от Ричмонда и узнал, что в окрестностях распространилась пагубная эпидемия дизентерии, он поручил своему управляющему «прибегнуть к следующему средству, в случае если мои люди также подвергнутся заболеванию. Выпустить им немедля крови около восьми унций, на следующий день дать им дозу индейского снадобья и, если симптомы не исчезнут, повторно вызвать рвоту на следующий день. В течение этого времени они не должны есть что-либо, кроме куриного бульона и вареных яиц, а пить должны только четверть пинты молока, прокипяченного с квартой воды, с добавлением туда, для лечения, небольшого количества корня коровяка или опунция, чтобы восстановить слизистую кишечника и заживить поверхность раны. Одновременно я распорядился сообщить об этом способе лечения всем бедным соседям и особенно моим надсмотрщикам, со строгим указанием прибегнуть к нему с появлением первых признаков недомогания, поскольку при этой болезни и при всех других острых заболеваниях промедление очень опасно». Джордж
254
Вашингтон обычно сам предписывал лечение своим рабам, а когда он в последний раз заболел, первым, кто лечил его кровопусканием, был его надсмотрщик, а не врач. Когда Томас Джефферсон приехал как-то летом из Белого дома в Монтичелло, он собственноручно сделал прививку от оспы семидесяти или восьмидесяти людям насвоих плантациях, а соседи под его руководством сделали прививку еще примерно сотне человек.
Большая часть забот по оказанию медицинской помощи ложилась на жену плантатора, которую могли поднять с постели в любой час ночи, чтобы принять роды или же оказать экстренную медицинскую помощь кому-нибудь из заболевших рабов. Она же организовывала уход за малолетними детьми работающих матерей-рабынь. «Она очень заботится о своих неграх,—писал в 1781 году маркиз де Шастеллю о Марии УиллингБерд, вдове Уильяма Берда-третьего.—Делает их настолько счастливыми, насколько позволяет их положение, и сама служит им доктором, когда они заболевают. Она даже сделала ряд интересных открытий, связанных со свойственными им заболеваниями, и открыла очень хорошо действующий способ лечения разновидности сыпного тифа, которая обычно за несколько дней сводит их в могилу и против которой тщетно сражались врачи страны».
Неудивительно, что среди наиболее распространенных книг в библиотеках Виргинии можно найти популярные медицинские справочники. Книга «Каждый человек — сам себе доктор, или Врач бедного земледельца» (1734) получила большую популярность, рекомендуя «простые и доступные средства, которыми люди могут излечиться от всех или большинства недомоганий, связанных с местными климатическими условиями, причем с очень малыми затратами, поскольку нужные снадобья приготовляются в самой Америке на основе произрастающих здесь трав». Бенджамин Франклин опубликовал в Филадельфии три издания этой книги (1734, 1736 и 1737). Самой первой работой по фармакопее, когда-либо опубликованной в британской Америке, была тридцатидвухстраничная брошюра д-ра Уильяма Брауна, составленная им в 1778 году в суровые дни Революции и перечислявшая самые простые, дешевые и доступные лекарства.
Условия жизни в колониях, порождавшие иногда неуважительное отношение к образованию, также способствовали недоверию к всезнающему профессионализму, над которым уже и так посмеивались в Европе. Уильям Берд-старший настолько не доверял врачам, что отказался позвать за доктором,даже когда заболел в последний раз. Его сын, знаменитый Уильям Берд-второй,также предпочитал свои собственные, практические ме-
255
тоды лечения. А в Филадельфии времен Франклина люди передавали друг другу острую эпиграмму под названием «Преимущество иметь двух врачей»:
Проворный врач — как в лодке гребец, В искусстве и мастерстве удалец; Но если два врача вдруг по веслу возьмут, Скорее к Стикса берегам вас довезут.
Джефферсон в 1807 году красноречиво выступил против безапелляционного догматизма врачей:
Наблюдая изрядно, как природа предпринимает спасительные усилия по восстановлению нарушенных функций, он (мудрый врач) должен был бы скорее довериться их действию, нежели рисковать нарушить их и еще более разладить систему, проводя рискованные эксперименты на столь сложном и неразгаданном механизме, как человеческое тело, и с предметом столь святым, как человеческая жизнь. Или, если видимость какой-то деятельности необходима для поддержания надежды и духа больного, она должна иметь самый невинный характер. Один из наиболее успешно работавших врачей, кого я знал, заверил меня, что использовал больше таблеток из хлеба, капель из подкрашенной воды и присыпок из золы пекана, чем всех других лекарств вместе взятых. Это,безусловно,был обман во спасение. Но безрассудный врач не ограничивается этим и подменяет знание догадкой. Он оставляет позади себя узкое поле известного и отправляется в необъятную область неизвестного. Для собственного руководства он избирает какую-нибудь воображаемую теорию корпускулярного притяжения, химического действия, механических сил, стимулирующего воздействия, накапливаемого или утрачиваемого раздражения, кровопускания ланцетом и кровенаполнения при помощи ртути или какую-то другую замысловатую идею, которая запросто объясняет ему все тайны природы. На основе принятого таким образом принципа он составляет свою таблицу нозологии, распределяет болезни по группам и назначает одинаковый курс лечения по аналогии для всех случаев, сгруппированных им таким произвольным путем. Мне самому привелось увидеть, как последователи Хоффмана, Бургаве, Шталя, Каллена, Брауна сменяли один другого, как зыбкие изображения волшебного фонаря, а их фантазии, подобно свежим моделям нарядов, каждый год поступающим из Парижа, становились, благодаря новизне, модой дня, чтобы затем уступить свою эфемерную популярность следующей новинке. Пациент, которого лечат, следуя модной теории, иногда выздоравливает—несмотря на лечение.
Европа, которая научила нас столь многим вещам, имеет что позаимствовать с этой стороны Атлантики по части разумных принципов в данной области науки.
В то время как американцы, казалось, меньше страдали от изощренных форм знахарства, обстоятельства подталкивали их в сторону естественного излечения. Всеисцеляющие снадобья профессиональных врачей иногда заменялись всеисцеляющими факторами природной среды, взахлеб пропагандируемыми в рекламной литературе: воздухом Новой Англии, водой Виргинии,
256
климатом Джорджии. Там, где природа была так щедра, человек готов был ждать от нее слишком многого.
Достижения эпохи не оправдали пророчества д-ра Дэвида Рамсея, сделанного на вторую годовщину получения независимости, что искусства и науки «нуждаются в свежей почве и всегда больше всего расцветают в новых странах». Он был ближе к правде, когда с гордостью говорил об успехе врачей-любителей, чей здравый смысл позволял им делать то, что с точки зрения академического образования было трудным или невозможным. «Гордость ученых иногда страдает, когда они видят или слышат, что эти ученики опыта исцеляют очень многих, работая без теории или системы и приобретая мастерство в излечении распространенных заболеваний на основе наблюдения и практики».
35
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ—ОБЩИНА
Именно в области лечения распространенных заболеваний— которые к этому времени со всей очевидностью стали главными проблемами общественного здравоохранения — американский опыт был особенно полезен. Некоторых болезней, которые в Европе представлялись неизбежной частью повседневной жизни, здесь можно было избежать за счет хорошо организованных общественных мероприятий. Болезни, которые в Англии являлись эндемическими и которыми здесь постоянно болело определенное число людей, в Америке стали приобретать характер эпидемий, неожиданных и серьезно угрожавших общине.
Тревоги общественности по поводу болезни в меньшей степени зависят от действительного уровня смертности, чем от ее драматического воздействия на общественное сознание. Хотя в Америке среди белых поселенцев от оспы, по-видимому, умирал меньший процент населения, чем в Англии, здесь оспа почти всегда носила характер пугающей эпидемии. В течение XVII и XVIII веков в Англии и на Европейском континенте оспа была обычным заболеванием среди детей. К тому времени, как человек вырастал, он, как правило, уже не раз имел контакт с больными оспой и либо обнаружил иммунитет к этой болезни, либо приобрел его, выжив. Поэтому среди взрослого населения Европы оспа не была эпидемическим заболеванием. Но в Америке, где оспа отсутствовала, пока не была завезена европейцами, она была значительно менее распространена. Многие американцы вырастали, ни разу не имея контакта с больным оспой.
257
9-382
В XVIII веке обычным для Америки соображением против того, чтобы посылать сыновей получать высшее образование в Англию, была смертельная опасность заболеть оспой. Когда приехавший из Франции Франсуа Луи Мишель в 1702 году посетил колледж Уильям-энд-Мэри, он удивился, увидев довольно много — сорок—студентов; он выяснил, что богатые родители, которые раньше отправляли сыновей в Англию, предпочитают интеллектуальную незрелость, сопутствующую колониальному образованию, опасности английской оспы. Преподобный Хью Джоунс отмечал в 1724 году, что большинство жителей Виргинии получали бы образование в Англии, «если бы они не боялись оспы, которая, как правило, оказывается для них губительной». Церковь Виргинии могла бы так и не выработать собственные отличительные черты и не стать в такой степени автономной, если бы родители детей, желающих посвятить себя церкви, не боялись отправлять их учиться в Англию.
Поскольку оспа была неизвестна среди индейцев, они оказались особенно ей подвержены. Как губернатор Томас Хатчинсон впоследствии отмечал в своей «Истории», в 1633 году «оспа произвела ужасное опустошение среди индейцев Массачусетса... Они были лишены должного ухода или лечения и умирали в большем количестве относительно их общего числа, чем когда-либо англичане. Джон Сагамор из Уайнсимета и Джеймс из Линна умерли от болезни почти со всем их народом». Даже в XIX веке оспа косила некоторые индейские племена, которые до того избежали заболевания; смертельные случаи в некоторых из них превышали 90 процентов. Нет никакого сомнения, что больше индейцев умерло от эпидемий, чем от мушкетов белого человека.
Среди белых поселенцев оспа также была преимущественно эпидемическим заболеванием. Она распространялась в колониях с определенными интервалами—иногда через целое поколение — и поражала значительное число взрослых людей. Не являясь более одним из обычных испытаний для детей, она разражалась как неожиданное и ужасающее бедствие, которое па-рализовывало жизнь общины и заставляло приостанавливать торговую и государственную деятельность. Там, где общины были небольшими и представители почти всех видов ремесел были малочисленны, утрата единственного плотника или же оружейника становилась общей бедой. Даже высокий коэффициент смертности от болезни не дает адекватного представления о том, какой урон наносился жизни общины.
Пожалуй, самый яркий пример особого внимания к общественному здравоохранению, характерного для американской
258
медицины, дает Новая Англия, где благодаря компактности Бостона и пуританской заботе о жизни общины были заданы соответствующие для этого предпосылки. Одна из наиболее успешных кампаний по борьбе с болезнью за всю американскую историю была осуществлена в XVIII веке. Вопрос о том, как бороться с оспой, публично дебатировался врачами, священниками, журналистами. Неожиданным героем истории стал не кто иной, как Коттон Мэзер (1663 —1728), которого так невзлюбили несколько поколений плохо информированных на сей счет либеральных историков. Однако с недавних пор благодаря объективным научным разработкам образ Мэзера как обладателя мефистофельского характера начал рассеиваться, и теперь мы можем воспринимать его как яркий пример сочетания устремлений и границ возможностей науки ранней Новой Англии.
У Коттона Мэзера был удивительно разносторонний, пытливый и практичный ум. Мы лучше поймем Мэзера, если представим себе его в качестве более раннего прототипа Бенджамина Франклина (1706 —1790), который и в самом деле слышал в Бостоне несколько проповедей Мэзера. Он прочел «Стремление делать добро* Мэзера (первый литературный псевдоним Франклина— Сайленс Дугуд) и в своей «Автобиографии» указал, что данное произведение было книгой, которая «породила во мне образ мысли, повлиявший на главнейшие события моей жизни».
Через нее он, вероятно, открыл для себя литературный жанр, который ему предстояло прославить в «Бедном Ричарде». Даже «Хунта» Франклина—как основной ее замысел, так и детально разработанная процедура собраний данного сообщества,—казалось, была заимствована из идеи Мэзера о создании в Бостоне общественными силами различных организаций и служб. Некоторые из наиболее характерных мероприятий, осуществленных Франклином, были непосредственно подсказаны мыслями Мэзера. Но даже более важным, чем прямое влияние, было их интеллектуальное родство.
Представляется неправомерным разделять Мэзера и Франклина по академической антитезе, противопоставляя кальвинизм Просвещению. Сходство между интересами и достижениями этих двух великих мужей демонстрирует специфические черты американской культуры в прежние времена: всеохватывающую разносторонность, удивительным образом не сдерживаемую рамками господствующих теорий; отсутствие оригинальности; чрезвычайную практичность, несистематичный и произвольный подход к философии и, главное, готовность встретиться лицом к лицу с возможностями Нового Света. В свое время слава Кот
259
9*
тона Мэзера как исследователя находок американской земли дошла до британских ученых, удостоивших его почетной степени доктора Абердинского университета (1710) и желанного членства в Королевском обществе (1713).
Если судить по критериям того времени, Мэзер как ученый— исследователь природы обладал живым и пытливым умом. Его научные послания (которых после 1712 года было написано более сотни) друзьям из Европы и коллегам-натуралистам включали записки об американских растениях и индейских снадобьях,об американских птицах, включая дикую индейку, орла и голубей всех типов, о гремучей змее, о силе грома и молнии в Америке, о тритоне, о зародыше, находящемся внутри куриного яйца, об индейском исчислении времени и о многом другом. В письме от 24 июля 1716 года, которое сопровождало посылку, содержавшую шесть или семь произраставших только в Америке растений, он дал самое раннее из известных описание процесса гибридизации растений. Его наблюдения касались в основном индейского зерна—кукурузы, которую генетики впоследствии считали особенно подходящей для своих экспериментов. Мэзер достаточно широко мыслил и чтобы принять гипотезу о половом размножении цветущих растений, незадолго до того выдвинутую Неемией Гру.
С юности Коттон Мэзер проявлял интерес к медицине. Было время, когда он собирался сделать медицину своей профессией, но, поскольку в Гарварде не было специального курса ио данному предмету, он был предоставлен самому себе и в значительной мере — самостоятельному чтению. В этом плане тоже можно провести параллель между Мэзером и Франклином, поскольку как открытия Франклина в области электричества, так и идеи Мэзера в области медицины вряд ли могли зародиться в голове получившего специальное образование профессионала.
Насколько нам сейчас известно, первым обобщающим трактатом по общей медицине, написанным в английских колониях в Америке, была работа Коттона Мэзера, завершенная в 1724 году. Название его труда «Ангел Вифезды» происходило от знаменитой купальни, упоминавшейся в Евангелии от Иоанна (5:2 — 4), однако, как представляется, оно было навеяно Мэзеру работами известного физика Роберта Бойля. Несмотря на то что Мэзер и другие медики опубликовали много разрозненных материалов по таким проблемам, как оспа и корь, эта обобщающая работа, хотя о ее существовании в рукописи и было широко известно, в XVIII веке издана не была. Сын Коттона Мэзера через двенадцать лет после смерти отца предпринял значительные усилия, стремясь добиться ее публикации.
260
Заинтересованность Мэзера в изучении болезней, возможно, была усилена его религиозными убеждениями, основывающимися на пуританской теологии с ее упором на первородный грех и мрачный дуализм человеческой натуры. Так, подчеркивание пуританским вероучением идеи греха, казалось, причудливым образом усиливало эмпирическую направленность американской науки, это, может быть, даже помогло освободить американскую медицинскую практику от догматизма их образованных европейских современников. Для Мэзера по крайней мере такая логическая связь представлялась достаточно очевидной. В начале первой главы своей книги он пояснял:
Давайте видеть в грехе причину болезни. Существует, быть может, две тысячи заболеваний — и ведь каждое из них может сокрушить нас! Но что является причиной всего этого? Помните, что грех был тем, что впервые навлекло болезнь на грешную землю и что все еще продолжает изнурять мир миром болезней.
Труд Мэзера представлял собой описание болезней. В одном из первых предложений относительно его опубликования он был назван «эссе о распространенных заболеваниях человечества, содержащее, во-первых, чувства сожаления, которые должен пробуждать больной из-за недомоганий своего тела. А затем, богатый выбор простых, но действенных и проверенных средств лечения от болезней».
Книга не претендовала на оригинальность. «Нельзя ожидать, —пояснял Мэзер,—что, пока колонии еще находятся в таком младенческом состоянии, как наши, и им еще в колыбели пришлось побороть столько змей,. как это произошло у нас, в них могут сложиться подходящие условия для формирования множества проницательных математиков или для предоставления им досуга для необычайных открытий и достижений». Однако Мэзер был несправедлив к себе. Уже самой организацией материалов в книге и расставленными в ней акцентами он заслужил место среди наиболее прогрессивных исследователей медицины своего времени. Идея выделения различных заболеваний только начала распространяться за рубежом. Вплоть до середины XVI столетия основное внимание европейских медиков было приковано к «общему состоянию системы», а все болезни рассматривались лишь как его вариации. Только с деятельностью Парацельса в период Ренессанса началось действительное возрождение идеи о существовании многих различных заболеваний — каждое со своей причиной и своими средствами лечения. В XVII веке английский врач Сиденхем настаивал на том, что бо
261
лезни могут так же различаться между собой, как растения и животные, и что, следовательно, они должны внимательно изучаться и классифицироваться. Насколько незначительный прогресс был достигнут к 1700 году, видно из того факта, что к этому времени были известны только два специфических средства (хинная корка для выработки хинина против малярии и ртуть против сифилиса); и даже эти средства, вероятно, пришли непосредственно из народной медицины.
В мэзеровском «Ангеле Вифезды» нашла отражение эмпирическая точка зрения, чуждая многим образованным европейским врачам. Он проявил меньшую заинтересованность в «причинах», чем в средствах исцеления болезней; страницы его книги изобиловали описанием лекарств, которые он назы^* *"^иечатель-ными и многократно испытанными». В главе, посвященной «сомнениям и противоречиям врачей», иллюстрир^ неустойчивость позиции врачей со специальным образованием, он привел в качестве примера их противоречивые предписания по поводу чахотки. «Мы не будем здесь, — поясняет Мэзер, — заниматься рассмотрением различий во мнениях среди врачей по вопросу о причине этого заболевания (кто может, прочитав список по данному вопросу, составленный Долеусом, не воскликнуть при этом: «Пророки обезумели!»?), но лишь посмотрим, в чем их расхождения по поводу его лечения».
Надежда Мэзера на то, что, быть может, удастся найти способ защитить население Новой Англии от кошмара оспы, возникла после прочтения в 1714 году заметки в «Трудах Лондонского королевского общества». Это было сообщение турецкого врача, который описывал, как «прививка», то есть намеренное заражение здорового человека субстанцией, взятой от человека, больного оспой, обычно дает легкий случай заболевания, после чего пациент выздоравливает и навсегда остается невосприимчивым к болезни. Тогда Мэзер написал в Лондон одному врачу:
Как так получается, что ничего больше не предпринимается, чтобы ввести эту операцию в практику и в обычай в Англии? Когда существует столько тысяч людей, готовых отдать столько тысяч фунтов, чтобы избавиться от опасности и ужаса этого страшного заболевания. Я молю Вас, сэр, помочь этому делу и спасти больше жизней, чем доктор Сиденхем. Что до меня, то, если бы мне пришлось снова увидеть, как оспа придет в мой город, я бы немедленно стал добиваться согласия наших врачей на введение этой практики, которая может положить начало такой благой тенденции. Но если бы мы узнали, что Вы сделали это до нас, как бы это нас воодушевило!
Соответствующая возможность представилась Мэзеру в апреле 1721 года, когда корабль из Вест-Индии завез эпидемию ос
262
пы в Бостон. События последующих двух десятилетий отчетливо обозначили контраст между возможностями медицины по обе стороны Атлантики. Во время серьезной вспышки оспы, происшедшей в тот год в Лондоне, великосветская леди Мэри Уортли Монтегю, научившаяся этому в Турции, уговорила наконец-таки Георга I позволить осуществить прививку двум его внучкам. Несмотря на королевский пример, в Лондоне было сделано только около двадцати разрозненных прививок, а когда в двух случаях они привели к смертельному исходу, противодействие со стороны общественности, подкрепленное негативным отношением медицинского сословия, усилилось. Прививки в Англии были временно прекращены. Они вскоре возобновились в различных районах страны в значительных количествах, однако ни в одной отдельно взятой общине недостаточных для того, чтобы можно было сделать обоснованные выводы относительно эффективности этого метода как средства охраны общественного здоровья. Широко раскинувшийся город, где оспа была постоянной бедой, Лондон не являлся подходящим местом, чтобы испытывать действенность прививки. Никакого существенного прогресса не было достигнуто до тех пор, пока в 1752 году серьезная эпидемия, вспыхнувшая в Лондоне, не привлекла внимания общественности к данной проблеме, а к тому времени успехи прививок в Америке, о которых в Англии широко говорилось и писалось, были уже давно известны.
Отправной точкой наступления на оспу в Америке было начало июня 1721 года, когда Мэзер публично обратился к врачам Бостона с призывом попробовать применить прививки в целях защиты населения. Его выступление вызвало ожесточенные споры. Врачи со специальным образованием—во главе с раздражительным д-ром Уильямом Дуглассом, единственным в городе врачом с медицинской степенью, — в целом выступили против проведения эксперимента. Они, естественно, испытывали раздражение по поводу того, что непрофессионалы пробуют учить их, как делать их дело, и настаивают на применении методов, за-имствованныху «мусульман, правоверного народа пророка Магомета». У них действительно был весомый аргумент против новой практики, а именно что при отсутствовавшей тогда тщательности при проведении прививок последние в целом способствовали тенденции к распространению болезни. Но врачи делали упор на возражениях теологического характера, утверждая, что тот, кто осуществляет прививки, противится «премудрому провидению всемогущего Бога», доверяясь больше «ненужным, беспочвенным манипуляциям человека, чем нашему Спасителю, охраняю
263
щему естественный ход вещей». Газета «Нью-Инглэнд курант», незадолго до того основанная Джеймсом Франклином при содействии его младшего брата Бенджамина, верная духу консерватизма, присущего колониальной прессе, выступила против мэзеровской новомодной практики. Однако многие представители духовенства поддержали требование Мэзера дать возможность со всей объективностью испытать действенность прививок. Страсти разгорались. С обеих сторон публиковались острые памфлеты, из которых больше полудюжины написал Мэзер. Общественное мнение стало буквально взрывоопасным: в ноябре в дом Мэзера была брошена бомба.
Все были согласны, что лечение оспы является общественно значимой проблемой. Несмотря на противоде^/Р’—, запрет городских властей и угрозы, что Бог их покарает, Зэб пчелу Бойл-стону при поддержке Мэзера и его сторонниковт": духовенства во время эпидемии удалось осуществить в Бостоне определенное число прививок. Их было достаточно много, чтобы дать статистическое подтверждение того, что намеренный риск в случае прививки был меньше риска умереть при обычном заражении. В марте 1722 года, когда эпидемия пошла на спад, Мэзер сообщил секретарю Лондонского королевского общества, что из почти трехсот жителей Бостона, сделавших прививки, умерло только пятеро или шестеро (причем могло оказаться, что еще до прививки они заразились естественным путем), тогда как из пяти тысяч заболевших непривитых умерли почти девятьсот. Это означало, что в том случае, если человек заболевал оспой, будучи инфицирован естественным образом, вероятность его смерти была почти в девять раз выше, чем при прививке. Тот факт, что во время эпидемии почти половина населения заразилась оспой, свидетельствовал, что, с точки зрения общины как единого целого, стоило рисковать и делать прививки.
Подбор этих статистических данных Бостона был первой работой в области общественного здравоохранения, одним из первых опытов количественного анализа подобной медицинской проблемы. Эти сведения в дальнейшем оказались весьма значимыми, причем не только в утверждении прививок в качестве профилактического мероприятия, но и для «расчетов вероятности», производившихся математиками—конечно же, европейскими!
Успех Мэзера в практической деятельности больше, чем какой-либо другой отдельно взятый фактор, способствовал укреплению идеи о том, что оспа со временем, вероятно, может быть побеждена, а это зародило в людях мысль о возможности излечения других заболеваний. Сам д-р Дугласс отдал должное силе
264
эмпирического опыта Америки; к 1729—1730 годам, когда из Ирландии в Бостон вновь была завезена эпидемия оспы, он и большинство его коллег уже убедились в преимуществе проведенных с должным вниманием прививок, и теперь они сами осуществляли прививки своим пациентам. В 1755 году Дугласс заявил, что риск в случае прививки составляет только два или три процента и может быть еще уменьшен. «Я недоумеваю, вследствие каких причин прививки до сих пор мало используются в нашей метрополии, Великобритании, учитывая, что они вполне успешно применяются у нас в колониях и поселениях, в особенности в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии и Чарлстоне в Южной Каролине».
Влияние бостонских экспериментов распространялось по всем колониям. Когда в начале 1738 года прибывший из Африки корабль завез эпидемию оспы в Южную Каролину—край, имевший «в запасе больше земель, чем жителей», и куда почти тридцать лет не приходила такая беда, д-р Джеймс Килпатрик и его коллеги немедленно стали делать множество прививок. В Чарлстоне, где в то время проживало около пяти тысяч человек, один врач подсчитал, что собственноручно сделал 450 прививок. К тому моменту, как эпидемия пошла на убыль, около тысячи человек получили прививки. Уровень смертности для получивших прививки, по свидетельству д-ра Килпатрика, составил где-то около одного процента — ничтожно мало в сравнении с большой смертностью среди заболевших непривитых. В том, что прививки стали в Америке общепринятой практикой, решающее значение имело сильное, даже грубое воздействие живого опыта, пренебрежение теорией и ориентация на результаты. Многократно повторялась сомнительная сентенция пропагандистской брошюры Килпатрика: «Ничто, кроме реального успеха этого метода, не могло бы дать ему возможность просуществовать до настоящего времени». Однако в адресованном врачам предупреждении он не без оснований предостерегал их от «природной поверхностности суждений и благоприобретенной путаницы в голове», побуждавших их игнорировать заведомо успешные результаты. В американской медицинской практике наблюдалась сознательная преемственность; Килпатрик, например, потрудился составить диаграмму более раннего успешного применения прививок в бостонскую эпидемию 1721 года.
И в то же время сам здравый смысл, казалось, восставал против этой практики. «Новшество, заключающееся в том, чтобы искать убежище от болезни, бросаясь в ее объятия, — отмечал д-р Килпатрик,—естественно, имело очень мало шансов быть хоро
265
шо принятым при первом знакомстве с ним». А когда опасения простых людей и профессионалов-медиков были усилены за счет «квалифицированного мнения» в метрополии, преодолеть их было не так легко. Почти каждая колония в то или иное время запрещала прививки, но эти законы долго не продержались. К 1760 году колонии уже переходили к тому, чтобы скорее регулировать, чем запрещать данную практику, а к 1775 году по меньшей мере в центральных и южных колониях законы были нацелены только на то, чтобы создать разумный заслон на пути распространения инфекции получившими прививки лицами. Даже в Новой Англии, где законы запрещали данную практику, их действие временно отменялось и прививки разрешались в период эпидемий. В сентябре 1774 года, когда в Филадельфии заседал Континентальный конгресс, врачи города условились не проводить более прививок до завершения его работы «в связи с тем, что некоторые делегаты Севера и Юга, насколько известно, не болели оспой».
В начальный период Революции армия способствовала распространению оспы по всей территории колоний. По совету главного врача американских войск д-ра Джона Моргана генерал Джордж Вашингтон отдал указание сделать прививки всему составу армии. Подобное массовое прививание оспы, осуществленное в специальных, нацеленных на это госпиталях, явилось, по-видимому, самым широкомасштабным из всех проводившихся ранее экспериментов такого рода. Когда в 1792 году оспа вновь пришла в Бостон, почти половина из более чем двадцати тысяч его жителей уже имела прививки.
Еще до конца колониальной эпохи угроза оспы — возраставшая в Англии почти вплоть до 1800 года—в Америке вполне контролировалась: эпидемии возникали не столь часто и вызывали меньше ужаса. Еще более значимым результатом успеха американской практической деятельности было то, что она помогла подготовить умы людей по обе стороны океана к новому шагу в борьбе против этой болезни. В конце XVIII столетия, когда Эдвард Д женнер осуществил эпохальное открытие вакцинации, его кажущимся парадоксом было напугано меньшее число людей. В течение двенадцати лет после открытий Дженнера и сделанного Бенджамином Уотерхаусом сообщения о них для читающей газеты американской публики («Коламбиан сентинел», 12 марта 1799 года) вакцинация получила в Америке широкое распространение. Правительства штатов начали ее финансирование, а конгресс уполномочил федерального агента по вакцине бесплатно высылать вирус по почте в любое место Соединенных Штатов.
266
36
ПРАКТИКУЮЩИЙ ВРАЧ
В те времена, когда Америка еще была колонией, понятие «профессия» определялось в Англии как занятие, «подобающее джентльмену». Под этим обычно подразумевались, по Джозефу Аддисону, «три специальности: богословие, право и медицина». Хотя ни одна из них не гарантировала человеку богатство, любая предоставляла ему достаточно высокое социальное положение. В число этих профессий включались врачи,однако не хирурги и не аптекари, какими бы умелыми или высокообразованными они ни были, поскольку их ремесло не считалось подходящим для высших слоев. Существовавшие в Англии разграничения между видами деятельности и,следовательно,между областями знаний воплощали социальный снобизм господствовавшей аристократии. Исключительное положение, эгоизм и леность порождали жесткую корпоративность и выхолащивали науку, препятствовали достижению новых знаний и освоению новых методов.
Из профессий, требовавших подготовки в Англии, медики в числе первых вслед за духовенством и, быть может, юристами подверглись более скрупулезному разделению на категории. Ни в одной другой области различия между гильдиями не были столь трудно уловимыми, столь путаными и столь глубоко укоренившимися. К XVIII веку, однако, мощные силы промышленной революции начали подрывать издревле существовавшие исключительные права ремесленной и торговой гильдии; государственное регулирование становилось неэффективным. Однако в получавших развитие и специализацию областях знания, таких,как, в частности, медицина, монопольные права сохранялись и в ряде случаев даже становились более четко выраженными. Подобное разделение по роду занятий увековечивало разделение отраслей знания.
В начале средневековья «доктор медицины» обычно получал образование в монастырской школе; к XV веку это был человек, получивший специальное медицинское образование и патент от университета на занятия медициной. Однако сфера его деятельности была гораздо более узкой, чем у современного врача. Он должен был непременно владеть латынью и греческим — языками, на которых сохранялись медицинские знания прошлого, кроме того, имел широкое общее образование. Так, когда Генрих VIII в 1518 году основал Королевский колледж врачей, он намеревался сделать его как специальным учебным заведением, таки закрытой организацией практикующих «целителей».
267
Хирургия была совсем иным делом. Ее статус был намного ниже. В средневековых университетах ее не изучали; отчасти из-за того, что церковь запрещала проливать кровь, а также потому, что ручной характер труда делал ее менее достойным занятием. Лечение и заживление ран, вся хирургия и выдирание зубов вышли из ремесла цирюльников, которые с начала XIV века имели собственную гильдию. После 1540 года лица, владевшие этими навыками, объединились как цирюльники-хирурги, но существовавшее внутри гильдии разделение обусловливало запрет цирюльнику выполнять работу хирурга (кроме выдирания зубов) и запрет хирургу брить кого бы то ни было. Углубляющаяся социальная пропасть разделяла тогда медицину и хирургию — два крупных направления медицинской практики, которые кажутся нам сейчас так тесно связанными.
Фармацевтика была отдельной областью. Первоначально аптекари приравнивались к бакалейщикам и входили в гильдию бакалейщиков, однако в 1617 году аптекари получили собственные, закрепленные хартией, монопольные права, и бакалейщикам было запрещено продавать лекарства. Акушерство являлось также отдельной профессией. По меньшей мере до конца XVII века им занимались почти исключительно женщины, получавшие на это разрешение у епископа, а впоследствии иногда — у организации цирюльников-хирургов.
В течение XVII и XVIII веков в Англии происходили некоторые изменения — большей частью негативного характера — в организации многочисленных медицинских профессий. Задачи усложнялись, и не наблюдалось существенного улучшения качества образования и профессиональной подготовки. К XVIII веку Королевский колледж врачей осуществлял отбор среди поступающих, исходя в значительной мере из их общественного положения, и перестал давать образование, сколько-нибудь достойное названия этого заведения. Ни в Оксфорде, ни в Кембридже больше не существовало медицинской школы. По той или иной причине, может быть, благодаря плеяде блестящих врачей-практиков, хирурги из числа цирюльников-хирургов, кажется, все-таки не вымерли. Но у них были свои проблемы, врачи широкого профиля продолжали диктовать им свою волю. Большое неудобство причиняло сохранявшее силу в начале XVIII века древнее правило, требовавшее, чтобы хирург, прежде чем осуществить операцию, испрашивал разрешение у епископа. Только в 1745 году хирургам удалось отделиться от цирюльников и образовать собственное товарищество. Аптекари в результате длительного конфликта с врачами в начале XVIII ве
268
ка добились юридического права в ограниченном масштабе заниматься медицинской практикой второстепенного характера. Вдобавок к этой все возраставшей путанице существовало множество территориальных различий. К концу XVIII века в Великобритании имелось восемнадцать инстанций, выдававших разрешение на занятие медициной, каждая из которых обладала ограниченными полномочиями — как в функциональном, так и в территориальном отношении. Исследователи этого вопроса сейчас беспомощно разводят руками, не в силах отыскать какой-либо смысл в этих мириадах взаимоналагавшихся монопольных прав и циркуляров.
Этот вагон и маленькая тележка предписаний не перекочевали в Новый Свет отчасти по причине отсутствия специалистов. «Помимо надежды избавиться от преследования в этом отдаленном уголке, — писал Уильям Берд в 1728 году, — новые владельцы (Нью-Джерси) заманивали к себе многих завлекательным описанием края, а именно рассказывая, что это место свободно от трех великих напастей человечества: священников, адвокатов и врачей. И в этом не было ни слова лжи, потому что люди здесь оставались еще слишком бедны, чтобы содержать этих ученых джентльменов». Хотя Берд и несколько упрощал, но правильно подметил, что американцы были свободнее от ученых монополистов, чем их современники в Англии.
Образовавшаяся здесь профессиональная организация врачей в противоположность английской не была жестко корпоративной, разграничения между врачами по их специализации были либо слабо выраженными, либо не существовали вовсе. Правительственный контроль над медициной в американских колониях практически сошел на нет. Традиция выдачи патентов не исчезла, однако действовавшие в колониях правила не были четко оформлены и не предусматривали правовых санкций. В первом законе по медицине, принятом в колонии Массачусетского залива (1649),было просто-напросто указано, что никто не может заниматься лечением «без совета и согласия тех, кто преуспел в данном искусстве (если оных можно отыскать),или же по крайней мере кого-нибудь из наиболее понимающих и авторитетных из присутствующих».
В большей части колониальных указов в данной области рассматривались скорее вопросы оплаты, нежели профессиональной компетентности. Еще в 1639 году Ассамблея Виргинии откликнулась на протесты по поводу «неумеренных и завышенных тарифов и расценок, назначаемых лечащими врачами и хирургами». В Виргинском акте 1662 года разъяснялось:
269
Поскольку завышенная и неумеренная плата, взыскиваемая различными корыстолюбивыми и скупыми практикующими врачами и хирургами, приводит к тому, что некоторые жестокосердные хозяева, руководствуясь в большей мере соображениями выгоды, нежели милосердия, скорее предоставляют случаю заботиться о выздоровлении заболевшего слуги, чем дают себе труд пригласить дотошного, но неумелого щжча, который запрашивает чаще всего больше, чем стоит сам пациент, многие бедняки вынуждены отдавать себя во власть затяжной болезни...
Более образованные из американских врачей были достаточно хорошо осведомлены^ что европейская профессиональная традиция требовала, чтобы они определили свою специализацию и придерживались ее. В медицинской школе Эдинбургского университета — основного учебного заведения за рубежом, где обучались американцы,— студенты из колоний основали «Виргинский клуб», имевший свой устав, который подписывали все его члены. Третий пункт устава в 1761 году представлял собой торжественное обязательство, «что каждый член данного клуба сделает все от него зависящее для поддержания чести своей профессии, не принижая ее отныне смешением с ремеслом аптекаря или же хирурга». Однако в Америке, где само понятие «джентльмен» (и, как следствие, представление о том, что «подобает» ему) было размыто, оказалось не так просто придерживаться исключительно джентльменских занятий. В английских и некоторых других европейских сельских общинах тонкие профессиональные перегородки, конечно, иногда тоже ломались или теряли практическую значимость. Однако в колониальной Америке пренебрежение к таким разграничениям было широко распространенным.
Разделение профессии на подгруппы действительно имело мало практического значения в среде американских врачей. Рекламные объявления и контракты рассказывают нам о многих, кто, подобно д-ру Густаву Брауну из округа Чарлз в Мэриленде,в 1734—1740 годах занимался «врачеванием, хирургией и фармацевтикой». К этим трем разделенным в Англии профессиям некоторые врачи в колониях иногда даже присовокупляли профессию акушера. Когда среди колонистов встречался кто-либо, кто думал не так, как окружающие, подобно д-ру Джеймсу Макклергу, получившему образование в Эдинбурге и сохранявшему верность представлениям относительно врачебной специализации, он обнаруживал, что неспособен обеспечить свою семью... «Это, однако, отчасти обусловливается тем, что я не совмещал врачевание с трудом аптекаря и хирурга, как это принято в нашей стране... Здесь легче, по-видимому, чем в какой-либо другой стране, достигнуть определенного уровня, будучи хи
270
рургом или аптекарем». «Я пользуюсь английским словом «доктор», — писал маркиз де Шастеллю во время своего путешествия по Америке в 1781 году, — поскольку разделение между хирургом и врачом так же мало известно в армии Вашингтона, как в войсках Агамемнона. Мы читаем у Гомера, что врач Макаон сам перевязывал раны... Американцы следуют древнему обычаю,и это получается очень хорошо».
В самом деле, как можно было вечно щепетильничать в вопросе профессиональных различий в такой стране, как Америка, где недоставало образованных врачей, профессиональных ассоциаций, академий, юридических или традиционных нормативов? Итак, в Америке изменчивая ситуация в большей мере, чем это было принято, формировала медицинскую практику.
В Новую Англию периода ранней колонизации медицинские знания передавались больше через священников, чем через врачей. В Англии конца XVI — начала XVII века некоторые священники-диссиденты изучали медицину в качестве дополнительной специальности на случай, если они будут изгнаны из страны. Старейшина плимутских «пилигримов» Уильям Брюстер, а также Эдвард Уинслоу и Сэмюел Фуллер, по-видимому, обладали такими знаниями. Почти целое столетие после смерти Фуллера в 1633 году в Массачусетсе не было ни одного крупного врача-специалиста. Необходимое лечение членам общины обеспечивали священники (как Томас Тэчер, написавший брошюру для простых людей о лечении оспы), школьные учителя и плеяда замечательных губернаторов-медиков. Джон Уинтроп, первый губернатор колонии Массачусетского залива, был, вероятно, ведущим консультантом по вопросам медицины и лечил больных так же хорошо, как и обычный врач в Англии. Его сын, ставший губернатором штата Коннектикут, имел обширную медицинскую практику и посылал живущим вдалеке колонистам Новой Англии письма с лучшими медицинскими рекомендациями, какие он только мог составить на основе английских книг и бесед со знакомыми. Не было ни одного политического или религиозного деятеля, который не обладал бы медицинскими знаниями: Уинслоу лечил индейского вождя Массасойта; проповедник Джон Элиот пытался обучить индейцев современной медицине; во времена эпидемий губернаторы или их помощники сами принимали решения о надлежащих мерах по охране здоровья людей. Великие экспериментаторы в области прививок против оспы Коттон Мэзер и Зэбдиел Бойлстон не имели медицинских степеней. В то время как в старой Англии духовен
271
ство иногда ограничивало и тормозило врачебную практику, в Новой Англии обладавшее разносторонними интересами духовенство помогало как освободить медицину от прежних пут средневековой корпоративности, так и оживить, придав ей больше эмпирической направленности.
Медицинская практика, таким образом, распадалась на множество различных профессий. Из пятнадцати работ на медицинские темы, изданных между 1721 и 1752 годами, авторы которых нам известны, только четыре (опубликованные д-ром Уильямом Дуглассом) были написаны человеком, чья квалификация могла бы быть признана соответствующей званию врача в Англии. Только лишь в 1781 году были созданы медицинское отделение в Гарвардском колледже и Массачусетское медицинское общество. Это общество, начиная с 1790 года, время от времени публиковало свои издания, однако вслед за публикациями указанного года следующие появились только восемнадцать лет спустя. Общественное здравоохранение входило в обязанности мудрого губернатора и компетентного духовенства. Произошло не только включение разделенных в Англии специальностей в сферу компетенции практикующего врача общего профиля — сами врачи в значительной степени стали частью большего социального слоя, состоящего из лиц, занимавшихся политическими и религиозными делами общины.
В колониях Юга аналогичные результаты были вызваны несколько иными причинами. Европейские профессиональные разграничения здесь тоже не привились, а собственная организационная структура профессии еще не сложилась. Если здесь и имелись какие-то различия, то скорее между более и менее образованными людьми, чем между теми, кто владел разными традиционными специальностями. На далеких и отстоящих друг от друга на значительном расстоянии плантациях хозяевам приходилось выполнять обязанности столь же новые и разнообразные, как и духовенству Новой Англии. В XVII веке те немногие из южан, кто зарабатывал себе на жизнь врачеванием, как правило, занимались также политикой, сельским хозяйством и юридической практикой. Только в 1691 году виргинские медики — наряду с паромщиками и неграми — специальным указом были освобождены от службы в народной милиции.
Даже в Филадельфии, где не было ни доминирующего в общественной жизни и обладающего разносторонними интересами духовенства, ни экстренных обстоятельств, характерных для жизни на плантации, — то есть тех факторов, под давлением ко
272
торых осуществлялась бы ломка европейских традиций, — тем не менее наблюдалась благотворная неопределенность профессиональных разграничений. В течение XVIII века предметом гордости этого города являлся самый высокий уровень образования врачей, который невозможно было встретить где-либо еще в колониях: из семнадцати «врачевателей», которые, насколько известно, с 1740 по 1775 год занимались в Филадельфии медицинской практикой, все, за исключением трех, учились какое-то время в Европе. В 1765 году в Филадельфии была основана первая в Америке медицинская школа, что явилось самой ранней попыткой ввести там академические учреждения, характерные для европейской медицины. Именно здесь, если вообще где-либо в Америке, можно было встретиться с проявлением профессиональной гордости и профессиональных отличий, но привычное для Европы профессиональное высокомерие отсутствовало. Когда д-р Адам Томпсон из Эдинбурга приехал в 1748 году в Филадельфию с целью «заниматься врачеванием, хирургией и акушерством», но публично объявил, что не собирается держать собственной аптеки, то, по-видимому, вызвал неудовольствие коллег, решивших, что в этом проявилось его критическое отношение к их готовности быть в медицине мастерами на все руки, включая даже фармацевтику.
37
ОБУЧАЯСЬ НА ОПЫТЕ
«Он принадлежит к разряду врачей-клиницистов, — отмечал в 1744 году, характеризуя д-ра Уильяма Дугласса, заезжий шотландский врач д-р Александр Гамильтон, — и иронически относится ко всякой теории и основывающейся на ней практике, считая, что только эмпиризм, то есть чистый опыт, является единственным надежным фундаментом, на котором должна основываться практическая деятельность. Здесь вокруг него группируется ряд учеников, которые с жадностью усваивают его воззрения и, не имея достаточного объема знаний, не слишком сообразительны, чтобы разглядеть недостатки и ошибки своего наставника». Это был тот же д-р Дугласс, который из профессиональных соображений выступал против эксперимента Мэзера по проведению прививок. Быть может, ему преподала урок эпидемия 1721 года, поскольку его тогдашний доктринерский подход не был типичным для его врачебной деятельности. С точки зрения европейского врача того
273
времени, в работе д-ра Дугласса и его коллег-американцев уже наблюдалась поразительная тенденция, выражавшаяся в заинтересованности в практических путях лечения определенных заболеваний.
Американских врачей побуждали к такому подходу ряд обстоятельств, и особенно их неформальная система медицинского образования. Вплоть до 1765 года в британской Северной Америке не было медицинских школ; в связи с тем, что не многие американцы могли позволить себе обучение в Эдинбурге, Лондоне или Лейдене, обычной стала система ученичества. В XVIII веке в Виргинии примерно только один из девяти докторов имел медицинский диплом, и это, как представляется, отражало общее соотношение в колониях к моменту начала Революции. Зэбдиела Бойдстона — по-видимому, наиболее успешно работавшего и независимого врача колониальной Новой Англии — обучил его отец. Кларки из Бостона — наиболее знаменитая семья медиков в колониальный период — не испытывали нужды в медицинской школе: шесть поколений Кларков получали медицинское образование дома. Между первым, Джоном Кларком (который, возможно, обладал медицинским дипломом и приехал в Новую Англию около 1638 года), и седьмым (получившим степень доктора медицины в 1802 году) ни один из этой семьи успешно трудившихся врачей не имел формального медицинского образования.
Повсюду в колониях ученичество являлось обычной, почти единственной дорогой к приобретению профессии. Сохранившиеся с начала XVII века экземпляры виргинских контрактов свидетельствуют о том, что доктор с положением обычно держал у себя дома в течение семи лет молодого человека, который исполнял обязанности сиделки, швейцара, кучера, посыльного, фармацевта и ассистента хирурга и одновременно читал книги и обучался, главным образом наблюдая за работой хозяина. Хотя этот метод обучения был, как правило, недешев — лучшие виргинские практикующие врачи запрашивали обычно около сотни фунтов в год, — имелась серьезная конкуренция среди желавших попасть в качестве ученика в дом наиболее почитаемых мастеров своего дела.
Многие из колониальных врачей признавали особую значимость получения медицинского образования там, где обучающийся собирался впоследствии заниматься врачебной практикой. Д-р Томас Бонд отмечал, выступая в 1766 году с лекциями в Пенсильванском госпитале:
274
Каждый климат порождает соответствующие болезни, для понимания и лечения которых требуется опыт... Поэтому ни одна страна не может быть столь же подходящей для обучения молодых людей медицине, как та, где они будут трудиться, где заповеди, выработанные никогда не оскудевающим опытом, передаются от отца к сыну, от учителя к ученику. В подтверждение того, что это не произвольное мнение, но истинное положение вещей, можно указать, что американские дикари, без помощи литературы, как выяснилось, обладают умением лечить болезни, присущие их климату, лучше, чем это делают получившие обычную подготовку и наиболее образованные из врачей, и что их открытия обогатили современную медицинскую практику некоторыми наиболее ценными из применяемых нами теперь лекарств.
Однако другие, включая ведущих представителей данной профессии, жаловались, что американское медицинское образование является недоброкачественным и недостаточным, — они настаивали на принятии требования о необходимости более формального медицинского образования. Среди приверженцев данной точки зрения пользовался известностью Джон Морган (1735—1789) из Филадельфии. Получив типичное американское медицинское образование (ученичество под руководством д-ра Джона Редмана) и опыт работы военным хирургом во время экспедиции к форту Дюкейн, Морган поехал за границу в традиционное турне по европейским центрам медицины, включавшее Эдинбург, Лондон, Париж, Парму и Падую. По возвращении в Филадельфию Морган объявил о своей решимости начать медицинскую практику, «не становясь аптекарем и не занимаясь хирургией». Ему не удалось убедить американских врачей оставить операции хирургам, а смешивание лекарств — аптекарям, но он помог убедить попечителей Колледжа Филадельфии основать первую американскую медицинскую школу и сам был назначен профессором теории и практики медицины. Его теперь знаменитая «Лекция об учреждении в Америке медицинских школ», прочитанная в мае 1765 года, является одним из лучших описаний американской медицинской профессии того времени. Морган резко критиковал отступление от формальностей и отсутствие отчетливого разграничения медицинских специальностей, что называл «уравниванием всех категорий медиков». Хотя он долго и старательно учился и много путешествовал, но жаловался: «Тем не менее мне говорят, что практиковать здесь, только давая консультации и осматривая больных,и не выручать при этом окружающих, становясь хирургом или аптекарем, — значит забывать, что я родился американцем». Морган призывал к «раздельной и определенной форме практики в области медицины, хирургии и фармацевтики», как это было принято за рубежом. Проще говоря, он еще не открыл истины, которую Генри
275
Адамс проповедовал американцам в конце XIX века: что одинаково важно было как учиться на основе европейского опыта, так и понять, в чем «опыт человечества является бесполезным для них». Нигде это не было столь важно для американцев, как в ученых профессиях, поскольку именно в них, по словам Адамса, «давление общества закрепощало мысль».
Никто не может отрицать, что ситуация в Америке во многом обедняла медицину: в колониях не наблюдалось теоретических завоеваний, не велось хитроумных, требующих выдумки и результативных лабораторных изысканий. Хотя определенный прогресс в медицинской практике и имел место — например, в иммунологии и общественном здравоохранении,— но никаких эпохальных открытий в медицинской науке не происходило. Что действительно наблюдалось в американской медицине XVIII века, так это формирование новой медицинской профессии. Передовые рубежи теоретической медицины по-прежнему находились в европейских центрах. И тем не менее то, что д-р Джон Морган пренебрежительно назвал «младенческим состоянием колоний», давало Америке преимущество. Позволив непосредственному изменчивому опыту прорываться через старые перегородки, разделявшие области медицинского знания, люди могли увидеть связи в природе, затемненные прежде цеховыми привилегиями и тщеславием ученых специалистов.
Таким образом, американская практика разрушила как социальные, так и интеллектуальные барьеры между различными направлениями медицинской науки. В XVIII столетии преуспевающий врач в Новой Англии хорошо одевался и ездил навестить больных в экипаже. Его английский коллега того времени предпочитал носить напудренный парик, платье из красного атласа или же парчи, бриджи, чулки и башмаки с пряжками, треуголку и брать в руки трость с золотым набалдашником. Снобизм английского врача не был только его личным грешком, он разрывал целостность медицинской науки, отделяя теорию от практики, медицину от хирургии и акушерства, и все это вместе — от фармацевтики. Просто уменьшить или нивелировать этот снобизм — намеренно или же в силу американских условий — означало собрать воедино разрозненные частицы практического опыта. В Европе лишь к середине XIX века медицина и хирургия приобретут более или менее равный социальный статус, только тогда врачи и хирурги смогут свободно сотрудничать. В Америке же их равенство, обеспеченное системой ученичества, существовало изначально.
276
Обучение путем ученичества приводило американского молодого врача к тому, что сейчас, используя более сложные современные термины, можно назвать «клиническим» подходом — то есть к большей склонности к наблюдению и лечению самих больных, нежели к лабораторным опытам. «В те времена, когда в Парижском и большинстве европейских университетов медицину преподавали чисто теоретически, без какой-либо демонстрации конкретных примеров у постели больного, — отмечал д-р Генри Сигерист в своей работе по истории американской медицины, — в Америке ее изучали в повседневном контакте с пациентами». Такой уклон, однако, возник не по чьей-то воле и умыслу, и многие из хорошо образованных людей, напротив, стремились его избежать. Самые красноречивые слова в его защиту были высказаны век спустя д-ром Уэнделлом Холмсом (чья собственная работа явилась блестящим результатом той же тенденции, хотел он того или нет) в его знаменитой вводной лекции «О преподавании книжном и у постели больного» (1867), прочитанной студентам-медикам Гарварда.
Когда я сравниваю эту непосредственную передачу практического опыта умудренного человека прямо студенту, где каждый факт может пригодиться ему в борьбе между жизнью и смертью, — с отстраненными, не имеющими применения «научными» истинами, которые я и некоторые другие привыкли преподавать, я не могу не задаваться вопросом, не существует ли вероятность того, что, если мы допускаем, что наши предшественники обучали слишком мало, может, мы сами иногда пытаемся обучать слишком много. Я почти краснею, когда представляю, как даю описание восьми отдельных составных частей, образующих твердое небо,или семи мелких вето-чек барабанного нерва...
Я слышу голос какого-нибудь искателя правды, обращающегося к анатому и химику с презрительным негодованием: «Какой чепухой вы засоряете мозг молодых людей, которым предстоит держать в руках жизнь своих собратьев? Вот мужчина, у которого начался припадок: вы можете рассказать мне все о восьми частях, образующих твердое небо, но у вас не хватит соображения расстегнуть этому человеку воротник — и старухи называют вас дураком. А вот этот приятель только что проглотил яд. Мне нужно что-то, чтобы как можно скорее вывернуть его желудок наизнанку. Ой, вы забыли дозировку сульфата цинка и между тем помните рецепт изготовления аллоксана!»
«Послушайте, господин доктор, если я прошу плотника прийти и заделать мне протечку в крыше, из-за которой заливает дом, вы думаете, мне не все равно, знает ли он ботанику?.. Если моя лошадь потеряет подкову, вы думаете, я не доверю кузнецу подковать ее, пока не выясню, разбирается ли он в разнице между окисью и закисью железа?»
«Но моему научному труду предстоит принести полезные результаты со временем, в следующем поколении или когда-то в далеком будущем».
♦Дьявол! — как это сказано у вашего доктора Рабле, — отвечает искатель правды.—Какое до этого дело мне, и моей колике, и моей боли при мо
277
чеиспускании? Я плачу капитану парохода компании «Кьюнард», чтобы он быстро и безопасно довез меня до Ливерпуля, а не для того, чтобы он составлял карту Атлантики для последующих пассажиров!»
Американская система ученичества с ее ранним сочетанием теории и практики и непосредственной передачей опыта врача-практика привела к тому, что американский доктор, как представляется, более успешно выполнял повседневную работу врачевателя. Д-р Натаниел Чэпмен отмечал в 1820 году, что, хотя европейские врачи являются более образованными и творчески мыслящими, ни в какой другой стране медицинская практика не осуществляется так хорошо, как в Америке.
И это еще не все. Устранение прежних границ между теорией и практикой, между «высшими» и «низшими» видами медицинской деятельности создало более свободную атмосферу, в которой американская медицина сделала свои значительные шаги вперед. Хотя Америка XVIII века не породила великих ученых в области медицины, она породила компетентных врачей-практиков, клиническим интересам которых предстояло со временем принести свои плоды. Некоторые американцы, не всегда врачи по профессии, осознавали, что это будет именно так. Д-р Томас Бонд отмечал в 1766 году, что «от нас требуется больше в этом недавно заселенном мире, где часто возникают новые болезни». Он призывал к непредвзятому, эмпирическому, поэтапному подходу. Где еще мог быть столь важен обмен опытом? Четыре десятилетия спустя Джефферсон по-прежнему надеялся увидеть, что здесь будет «придаваться первостепенное значение клиническому наблюдению и наименьшее — умозрительным теориям».
Одним из первых плодов особого уклона медицины в Америке было улучшение состояния больниц и ухода за больными. В Европе XVII и XVIII веков больницы слишком часто оказывались социальными отстойниками, где бедные, душевнобольные и разного рода обездоленные гнили заживо,пожираемые полчищами паразитов. В Америке число построенных больниц не было сколь-либо значительным вплоть до XVIII века, когда умалишенныхщоддающихся лечению, и заразных больных начали содержать раздельно. Даже в Виргинии XVII века пациент чаще проживал в доме врача, где само по себе отсутствие характерной больничной вони было уже большим преимуществом.
Пенсильванская больница, основанная Томасом Бондом в 1751 году при активной поддержке Бенджамина Франклина, работала, по критериям тех лет, чрезвычайно успешно. Воздвигнутая как «средство увеличения народонаселения и сохранения
278
многих полезных членов общества от гибели и страдания», больница со дня основания до 1773 года приняла 8831 пациента, среди которых, по данным администрации, 4440 излечились полностью и только 852 умерли. Уровень смертности здесь был вполовину меньше по сравнению с больницами общего типа за рубежом. Д-р Бенджамин Раш с гордостью заявил в 1774 году, что по сравнению с больницами в Европе «пенсильванская больница является настолько совершенной, насколько могут сделать ее человеческая мудрость и великодушие».
Немногие заметные американские публикации колониального периода по вопросам медицины, о некоторых из которых мы уже упоминали, имеют,несомненно,клиническую направленность. В Бостоне доклад д-ра Уильяма Дугласса об эпидемии краснухи 1735—1736 годов был первым компетентным клиническим описанием болезни, сделанным на английском языке. В труде д-ра Томаса Кэдуоледера «Эссе по вопросу вест-индских колик», опубликованном Бенджамином Франклином в 1745 году, было показано, что многие джентльмены страдают от отравления свинцом, поскольку пили ямайский ром, который перегонялся по свинцовым трубкам. В Чарлстоне д-р Джон Дайнинг точно описал эпидемию желтой лихорадки 1748 года. В Филадельфии в 1750 году вышел подробный отчет д-ра Джона Кирсли о результатах исследования желтой лихорадки. Многие медики, наблюдавшие оспу, сообщали о ходе этой болезни и давали сравнительную оценку эффективности различных методов ее лечения.
Американская колониальная медицина не дала ничего значимого в теоретическом плане. Д-р Бенджамин Раш, следуя догматам Джона Брауна, ученика Каллена, приложил больше всех усилий, пытаясь создать всеохватывающую медицинскую теорию: его концепция «стении» и «астении» объясняла все недомогания неправильным состоянием «напряженности». Теоретические изыскания Раша являлись медицинским доктринерством худшего рода, но даже он не был доктринером во всем. Он содействовал более гуманному обращению с душевнобольными и пытался улучшить состояние здравоохранения населения Филадельфии такими разумными и целесообразными мероприятиями, как вывоз нечистот, очистка воды и уборка улиц.
Даже в XIX веке заметные успехи американской медицины подтверждали ее клинический подход: американские достижения явились результатами работы никак не дифференцированного сословия врачей, испытывавших давление чрезвычайных
279
обстоятельств. Две героические фигуры, истинные святые покровители американской медицины,стали символами, драматически воплотившими особые обстоятельства Нового Света. Первым был Эфраим Макдоуэлл (1771 — 1830), живший в лесной глуши врач, который проучился один год в Эдинбурге, однако не получил ученой степени в области медицины. Ему попалась пациентка, у которой по внешнему виду можно было определить большую брюшную опухоль — настолько большую, что первоначально он принял ее за беременность. До Макдоуэл-ла хирургия занималась ампутациями, удалением камней, лечением переломов и некоторыми другими процедурами, но серьезными полостными операциями никогда. 13 декабря 1809 года Макдоуэлл, которому ассистировал только его ученик-племянник, положил пациентку на стол в своем доме в Данвилле, штат Кентукки, и за двадцать пять минут, пока та читала вслух псалмы для поддержания духа, вскрыл брюшную полость и удалил кисту яичника. Когда пять дней спустя Макдоуэлл пришел навестить больную, та сама заправляла свою постель; она прожила еще тридцать один год. Это была первая овариотомия в истории медицины; она могла бы не состояться, если бы не суровые условия жизни в лесной глуши и не нехватка образованных специалистов.
Вторая героическая фигура — Уильям Бомонт (1785 — 1853) был армейским врачом, все образование которого состояло из нескольких лет ученичества. 6 июня 1822 года, когда Бомонт находился в отдаленном форте Макинак на севере Мичигана, французско-канадский служащий американской пушной компании получил заряд картечи в левый бок. Чего только Бомонт не делал, чтобы заживить рану, однако дыра в животе жертвы (именующаяся на языке специальных терминов желудочной фистулой) оставалась открытой. В порыве вдохновения Бомонту захотелось воспользоваться этой редкой возможностью и понаблюдать через незажившее отверстие, что же в действительности происходит в желудке. Он поселил этого человека под собственной крышей, где и осуществлял свои наблюдения с образцовым мастерством и изобретательностью, однако без помощи книг или лабораторий. Он обратил внимание на действие желудочного сока и на влияние различных возбуждающих субстанций, таких,как чай, кофе и алкоголь. В результате им были написаны «Эксперименты и наблюдения за желудочным соком и физиологией пищеварения» (1833), ставшие классикой клинической медицины. Эта маленькая, без претензий книга заложила основы физиологии пищеварения и науки о питании. Являлись
280
ли достижения Макдоуэлла и Бомонта прежде всего плодами гения или же возможностей, предоставляемых провинцией? Определить это нелегко. Но если бы любой из них был более образованным или мог позвать соответствующего специалиста, рискнул бы он сделать то, что сделал?
Место ближайшему будущему американской медицины, казалось,было определено скорее у постели больного или в клинике, чем в лаборатории. Пожалуй, наиболее значимым нововведением в области медицины, пришедшим из Америки в Европу в XIX веке, была анестезия при хирургических операциях, открытие которой носило отчетливо выраженный практический и клинический характер. Профилактическая медицина, стоматология, общественное здравоохранение, клинические исследования и медицинская практика общего профиля были областями, где Америка особенно преуспела. Это были также области, где американский образ жизни, ослабление социальных и профессиональных различий и разнообразный опыт нового континента имели наибольшее значение.
Часть девятая
ПРЕДЕЛЫ АМЕРИКАНСКОЙ НАУКИ
Милорд, руки нам нужны больше, чем головы. Самое близкое знакомство с классиками не выкорчует наши дубы, а увлечение «Георгинами» не обработает наши земли.
Уильям Ливингстон епископу Лландафа
Продолжайте эксперименты, всецело полагаясь лишь на себя,и, таким образом, следуйте по пути, полностью отличному от пути европейцев, и только тогда Вы непременно найдете то многое, что было скрыто от натурфилософов на протяжении веков.
Петер ван Мушенбрук Бенджамину Франклину
38
НАУКУ В НАРОД: АСТРОНОМИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Естественноисторический подход, предпочитающий простые уроки каждодневного опыта, и клинический, характеризующийся предубеждением против учености и теории, ни в коей мере не были безупречны. Но что они были сугубо демократическими — в этом нет сомнения. Ими поощрялись обращение к очевидным вещам и поддерживалось негативное отношение американцев к интеллектуальному классу. Они одобряли «народную науку» и верили в то, что величайшие достижения науки должны быть доступны каждому. Они вполне соответствовали идеалу ученого-самоучки.
Однако во многих областях прогресс должен был основываться на базе техники и профессиональных знаниях прошлого. Физические науки, астрономия и физика в особенности, уже к XVIII веку шли в этом направлении. Американцы колониальных
282
времен в этих фундаментальных науках выглядели не блестяще: их идеалы и надежды привели к полной неразберихе. Они иногда теряли всякое ощущение того, что является фундаментальным, и игнорировали различия между основными достижениями теоретической мысли и частными успехами прикладной науки. Они часто отрицали или скрывали свою ограниченность и стремились увенчать представителей колониальной Америки, чья деятельность в лучшем случае демонстрировала изобретательность Эдисонов и фордов, лаврами ньютонов и эйнштейнов. Ограниченность американцев нигде не проявлялась так ярко, как в людях и достижениях, которыми они громче всего хвастались.
«Америка еще не дала миру ни одного хорошего поэта, ни одного способного математика, ни одного гения в каком-либо виде искусства, в какой-либо отрасли науки». Это распространенное обвинение, повторенное французским ученым аббатом Рейналем в 1774 году, вызвало недовольство колонистов, и ответ на него Джефферсона в «Заметках о Виргинии» отразил мнение многих американцев. Джефферсон согласился с обвинением в адрес американской литературы, заметив, что у Америки просто еще не было времени создать своего Гомера или Шекспира, но он с гордостью назвал Джорджа Вашингтона великим политическим и военным деятелем. Особенно Джефферсона раздражало обвинение против американской науки. Знаменательно, что он отвергал его, не апеллируя к американским достижениям в области естествознания, где отличились сам Джефферсон и многие другие, а приведя два примера из области физических наук, где был не очень сведущ, но которые, по его мнению, могли бы произвести наибольшее впечатление на европейцев. «В физике,—напоминает Джефферсон европейским клеветникам, — мы дали миру Франклина; никто в современном мире не сделал более важных открытий, чем он, и не обогатил в такой степени философию или не предложил более оригинальных объяснений сущности природы. Мы считаем господина Риттен-хауса непревзойденным из всех живущих астрономов: что же касается гениев, то ему среди них должно принадлежать первое место, потому что он самоучка».
Внимательно рассмотрев достижения этих двух блестящих ученых и их ближайщих соперников, мы можем обнаружить пределы американской культуры в колониальный период, и тогда начнем осознавать, какую цену платили американцы за свой демократический образ мысли.
В XVIII веке в Европе под «новой наукой» в астрономии и физике, естественно, подразумевалась ньютоновская наука.
283
Когда Вольтер в 1720-х годах посетил Англию, он заметил, что, хотя Ньютона прочли единицы, о нем толковали все, приписывая ему, как мифологическому Геркулесу, подвиги всех других героев. Большинство англичан, даже образованных, в разговорах о Ньютоне опирались на сведения, почерпнутые из популярных книжек и публичных лекций. В качестве примера можно привести «Простое и доступное введение в философию Ньютона... Предназначается для дам и господ, желающих познать эту науку и не имеющих математического образования» Бенджамина Мартина (1751). Это в еще большей степени касалось американцев. «Начала» Ньютона были впервые опубликованы в Англии в 1687 году (хотя ряд открытий был сделан им гораздо раньше); однако, по всей видимости, первый появившийся в колониях экземпляр книги был тот, что приобрел в 1708 году Джеймс Логан. Даже в более позднее время экземпляры этой книги в Америке были редкостью: Йельский колледж получил ее второе издание (1713) от самого сэра Исаака; Джон Уинтроп-четвертый стал обладателем экземпляра третьего издания (1726). Похоже, что большинство американцев, известных своими познаниями в области астрономии и физики, включая Франклина и Риттенхауса, знакомились с работами Ньютона главным образом из вторых рук.
Возможно, наиболее важным вкладом колониальной Америки в развитие ньютоновской науки было не ее теоретическое углубление, а скорее результаты наблюдений, сделанных с помощью трех с половиной футового телескопа, который в 1672 году был подарен Гарвардскому колледжу Джоном Уинтропом-младшим. Используя этот телескоп, Томас Брэттл провел наблюдения за Великой кометой 1680 года, результатами которых воспользовался сам Ньютон и упомянул о них в своих «Началах».
После смерти Брэттла самым видным американским астрономом первой половины XVIII века был, без сомнения, Джон Уинтроп-четвертый (1714—1779). Он был потомком первого губернатора колонии Массачусетского залива; в его родословной также много ведущих ученых Новой Англии. Уинтроп не стал народным героем и не был упомянут Джефферсоном, но этот человек обладал большой эрудицией и огромной энергией и снискал всеобщее признание как самый достойный последователь Ньютона в Америке. Курсы лекций «О кометах» (1759) и «О прохождении планеты Венеры» (1769) продемонстрировали его выдающиеся способности разъяснять сложные и трудные вещи. В заметках о солнечных пятнах (1739) он высказал мысль о связи
284
между этими пятнами и северным полярным сиянием; в течение следующего столетия по крайней мере эта идея не была подхвачена ни одним из астрономов. В разумных рассуждениях о причинах землетрясений (1755) он проявил себя внимательным и проницательным наблюдателем. Однако в целом Уинтроп не создал ничего выдающегося; он был блестящим преподавателем, но в науку внес немного. Еще до своего назначения в 1738 году профессором математики и натурфилософии Гарварда он представил членам Лондонского королевского общества результаты своих исследований в области естествознания, сопроводив их образцами растений, животных и минералов. Только в Гарварде он сосредоточил свое внимание на математике и астрономии, тем не менее по-прежнему в его деятельности чувствовалась большая склонность к естественноисторическому подходу. Его научные работы носили описательный, фрагментарный и ограниченный характер. Почти все эти работы основывались на каком-либо особенном явлении природы или катастрофе — ударе молнии, толчках землетрясения, появлении кометы, солнечном затмении, — которые можно было наблюдать в Америке.
Уинтроп не написал эпохальной книги, но был организатором эпохальной экспедиции. За его жизнь дважды произошло прохождение Венеры по диску Солнца: такого явления не было в предшествующие сто двадцать пять и не ожидалось в последующие сто лет. По системе Ньютона, расстояние между планетами и их удаленность от Солнца определялись только условно, то есть путем сравнения с гипотетическим расстоянием от Земли до Солнца. Наблюдения же за прохождением Венеры, сделанные с отдаленных друг от друга точек, впервые могли дать возможность рассчитать в милях действительное расстояние Земли от Солнца, а следовательно, и удаленность от Солнца других планет. Подобные результаты были полезны не только для астрономии, но и для мореплавания, топографии и картографии. С этой целью Уинтроп подготовил Гарвардскую экспедицию на Ньюфаундленд, которая явилась первой организованной колледжем американской астрономической экспедицией и первой научной экспедицией в Америке. «Это явление (которое наблюдалось всего лишь раз от сотворения мира), — объяснял губернатор Фрэнсис Бернард Ассамблее Массачусетса, — по всей вероятности, решит определенные вопросы в астрономии, что в конечном счете будет весьма полезно для навигации: с этой целью страны, для которых море-плавание играет немалую роль, считают своей обязанностью
285
послать в различные части света математиков для проведения наблюдений». Губернатор убедил Ассамблею Массачусетса в необходимости предоставить Уинтропу с двумя помощниками шлюп, чтобы они отправились на Сент-Джонс вести наблюдения, интересующие ученых всего мира.
Хотя Уинтроп и отличался своими знаниями в астрономии, символом американской астрономии в колониальный период считался Дэвид Ритгенхаус (1732 — 1796). Многие американцы разделяли мнение Джефферсона, что Риттенхаус был «непревзойденным астрономом» и первым из гениев, потому что был самоучкой. Риттенхаус практически не получил официального образования. Он начал свою трудовую деятельность как часовых дел мастер и механик, и большую часть жизни часы были основным источником его доходов. Как и Франклин, с которым его нередко сравнивали современники, он представлялся олицетворением американского идеала цельного человека. Мастеровой Революции, он был механиком в Пенсильванском комитете по безопасности, помог укрепить берега реки Делавэр и придумал способы производства пушек и боеприпасов. Он был членом конвента, разработавшего первую конституцию Пенсильвании, был также первым казначеем своего штата и первым директором Монетного двора США. Его знание металлов и математики было использовано Джефферсоном,чтобы упростить запутанную и сложную монетную систему нового государства. Джефферсон был такого высокого мнения о его научном таланте («в мире есть лишь один такой Риттенхаус»), что выражал сожаление по поводу политической активности Риттенхауса, опасаясь, что одаренный астроном может «забросить Ньютона в заботах о государстве». Соотечественники Риттенхауса считали его, так же как и Франклина, одним из борцов, способных помериться силами с европейскими гигантами. После смерти Франклина Риттенхаус, которому Франклин завещал свой телескоп, стал его преемником на посту президента Американского философского общества; когда Риттенхаус через несколько лет умер, его оплакивали как народного героя. Восхваляя Риттенхауса как великого американского астронома, американцы не подозревали, что,по сути, расписывались в ограниченности американской науки.
Своеобразным оправданием того, почему Риттенхауса считали великим американским астрономом, явилась его деятельность как ведущего землемера своего времени. Для того чтобы размежевать небольшие городские участки земли и определить границы ферм, в давно устроенной Европе было вполне доста
286
точно арифметики с небольшой добавкой тригонометрии, но в Америке измерений требовал целый континент. Границей собственности обширного участка девственной природы не могла служить ни большая скала, ни пень примелькавшегося дерева; эти границы нужно было определять путем астрономических расчетов широты и долготы. Работа, которая поглощала большую часть времени Риттенхауса, была вызвана чисто американскими нуждами; он пользовался астрономией как орудием землемера. В период с 1764 года, когда получил шесть фунтов за помощь Мейсону и Диксону в установлении границ Пенсильвании, Мэриленда и Делавэра, по 1787 год, когда помог обозначить являвшуюся предметом долгого спора границу между Нью-Йорком и Массачусетсом, Риттенхаус определил границы более половины из первых тринадцати колоний.
Однако даже такие крупномасштабные землемерные работы не могли соперничать с полетами математической мысли Ньютона. Риттенхаус предпринял несколько скромных и в ряде случаев небезуспешных попыток исследования Солнечной системы: прохождение Венеры по диску Солнца в 1769 году открыло перед ним прекрасную возможность вызвать у европейцев уважение к американской науке. Это было даже более заманчиво, чем при прохождении Венеры в 1761 году, ради которого Уинтроп организовал свою ньюфаундлендскую экспедицию. Тогда наиболее результативные наблюдения нельзя было провести из обжитых мест; но прохождение 1769 года, как предполагалось, можно было увидеть при благоприятной погоде из любой точки американских колоний. Организация мест наблюдения, снабжение их аппаратурой, обобщение полученных результатов явились именно тем,что могло,по всей видимости, дать возможность американским ученым показать себя.
Все это вызывало широкий интерес в колониях, хотя не всегда люди понимали, о чем идет речь. Уинтроп самолично написал небольшую доходчивую брошюру, в которой рассказал о значительности этого зрелища, объяснил, как сделать затемненные стекла для наблюдения и как зафиксировать главное время прохождения планеты и его длительность. В Массачусетсе основные наблюдения должен был проводить в кембриджской обсерватории Уинтроп. В Филадельфии главной организаторской деятельностью занимался преподобный Уильям Смит из Филадельфийского колледжа, а Дэвид Риттенхаус сосредоточился на научной стороне дела. Законодательное собрание Пенсильвании выделило сто фунтов на телескоп и еще сто фунтов на обсерваторию на той же площади, где было рас-
287
положено здание законодательного собрания; поблизости от нее были также созданы условия для наблюдений. Каждый город на всем протяжении побережья приготовился к наблюдениям, а астрономы-любители на отдаленных фермах держали наготове самодельные приборы. Вероятно, никогда ни до,ни после «научные» расчеты не зависели от такой примитивной аппаратуры.
В долгожданный час 3 июня 1769 года над наблюдателями в центральных колониях было безоблачное небо, однако драматизирование самого события привело к непредвиденным трудностям. Для того чтобы в кульминационный период вести наблюдения с помощью телескопа только что построенной Норритонской обсерватории, Риттенхаус лег на спину, а его голову поддерживали ассистенты. Но напряжение оказалось слишком сильным: как раз тогда, когда Венера вплотную приблизилась к диску Солнца, т.е. свершилось то, к чему готовились месяцами, и настал момент, ради которого Риттенхаус отлаживал свои специально сконструированные часы, он потерял сознание. Придя в себя, он смог лишь определить, сколько времени прошло.
На Риттенхаусе лежала основная ответственность за сбор и корреляцию сведений, поступивших из разных точек наблюдения. Усилиями Риттенхауса в сотрудничестве с преподобным Уильямом Смитом была проделана основная часть выпавшей на долю Америки работы по использованию результатов наблюдений для расчета солнечного параллакса; это была работа первостепенной важности, поскольку время прохождения Венеры сделало невозможным наблюдение этого феномена практически для всей Европы. Данные, полученные от многих американских наблюдателей, очень разнились между собой, а примитивность способов наблюдения делала выведение средних показателей с научной точки зрения необоснованным. И тем не йенее окончательная цифра, выведенная Смитом и Риттенха-усом, волею судеб оказалась близкой к показателю расстояния между Землей и Солнцем, который признан в настоящее время. Правильность полученного Смитом и Риттенхаусом результата была скорее следствием счастливого случая, чем плодом настоящей науки, однако это нисколько не умалило славы ни Америки, ни Риттенхауса. Смит заявил, что американские наблюдения за прохождением Венеры принесли «славу нашей стране, за что и сумма,в двадцать раз превышающая расходы,— малая цена».
Каким бы преувеличением ни было причисление Риттенхауса к великим астрономам мира, Джефферсон был прав в своей
288
трезвой оценке Риттенхауса, сказав, что «он мастерски доказал свой великий гений механика, какого еще не знал мир. Мира он воистину не создал, но, подражая Создателю, приблизился к нему настолько близко, как никто от сотворения мира до сегодняшнего дня». Известность среди колонистов Риттенхаусу главным образом принесло хитроумно придуманное и искусно сделанное приспособление для приобщения людей к астрономии — действующая модель Солнечной системы, которая называлась планетарием. Его механизм не был первым из подобных механизмов и даже не первым, сделанным в Америке, но это, по всей вероятности, была самая сложная и точная астрономическая модель из когда-либо созданных. Это было тем более замечательно, так как у него не было официального образования и жил он вдали от европейских центров науки. Будучи человеком удивительной скромности, Риттенхаус тем не менее осмелился, говоря его собственными словами, решительно утверждать, что он «не скопировал ни общую конструкцию, ни расположение основных частей с какого-либо планетария и не руководствовался каким-либо описанием. Не использовал ни единой цифры, найденной в книгах, для создания хотя бы одного колесика, а старался изо всех сил самостоятельно сделать расчеты, поскольку ни одна попавшаяся цифра не отвечала с достаточной точностью поставленным целям». Если американцы не смогли ничего добавить к теории небесной механики Ньютона, то они по крайней мере смогли построить наилучшую для того времени действующую модель Солнечной системы.
«Я сделаю свой планетарий так, что он будет действительно полезным, — писал Риттенхаус 28 января 1767 года, когда у него впервые зародился этот план, — он поистине будет способен давать нам в любой момент данные об астрономических явлениях, что не может, на мой взгляд, сделать ни один существующий планетарий». Через несколько месяцев он сообщил Американскому философскому обществу в Филадельфии подробности своего плана, которые в основном давали представление о планетарии. В элегантном вертикальном корпусе предполагалось расположить большую центральную панель, к которой по бокам будут примыкать две меньшие по размеру панели. В середине центральной панели на вертикальном листе латуни размером в четыре квадратных фута должен быть размещен шар из позолоченной латуни, изображающий Солнце; вокруг этого шара будут двигаться другие шары из латуни или слоновой кости, представляющие вращающиеся по эллиптическим орбитам планеты, «движение которых будет то более быстрым, то более медлен
289
10-382
ным, что должно как можно ближе соответствовать закону равных площадей». На одной из малых панелей (каждая размером четыре на два фута) будут представлены «все явления, связанные с Юпитером и его спутниками, — их затмения, прохождения, отклонения,— а также все явления, связанные с Сатурном, его кольцом и спутниками». На другой малой панели будут показаны «все феномены Луны, в частности точное время, количество и продолжительность ее затмений, а также затмений Солнца Луной; с помощью самых искусных приспособлений будет демонстрироваться солнечное затмение, как его можно наблюдать в любой точке земного шара».
Когда механизм приводился в движение поворотом рычага, планеты должны были начинать вращение по своим орбитам, а три циферблата точно показывать время суток, день месяца и год, соответствующие положению этих планет 5000 лет вперед или назад. Такие захватывающие небесные явления, как прохождение Венеры по диску Солнца, а также затмение Луны или Солнца, могли быть теперь предсказаны.
Еще более замечательным устройством был крошечный телескоп, который мог быть направлен с Земли на любую планету, «и широта,и долгота этой планеты с земной точки наблюдения указывалась с помощью градуированного круга и стрелки». Согласно первоначальному проекту, этот механизм должен был иметь специальное устройство, предназначенное для сопровождения показа творений рук Божьих «музыкой небесных сфер». Преподобный Уильям Смит, энергичный президент Филадельфийского колледжа, работавший рука об руку с Риттенхаусом во время прохождения Венеры, с энтузиазмом воспринял этот проект. И Смиту, и Риттенхаусу казалось вполне естественным, что готовый планетарий будет передан Филадельфийскому колледжу, и Смит надеялся на шумный успех. Однако доктор Джон Уизерспун, недавно прибывший из Шотландии, чтобы занять место президента Колледжа Нью-Джерси (впоследствии Принстон), поспешил в мастерскую Риттенхауса в Норритоне и убедил его продать свой планетарий за триста фунтов его колледжу. Честолюбивый Уильям Смит заявил, что «никогда не испытывал большего разочарования и обиды», чем в тот момент, когда прочел в «Пенсильвания газетт» 26 апреля 1770 года, т.е. через три дня после удачного визита Уизерспуна к Риттенхаусу, что механический шедевр века потерян для его колледжа в Филадельфии. И особенно его уязвило то, что Риттенхаус «так мало придал значения своему превосходному изобретению, что согласился отправить его в деревню»!
290
Риттенхаус пытался успокоить Смита (который уже согласился купить другой экземпляр планетария, который Риттенхаус должен был сделать) тем, что договорился устроить первую демонстрацию принстонского механизма в его колледже в Филадельфии. Склонный к рекламе, Смит объявил о цикле из четырнадцати лекций в марте — апреле 1771 года; гвоздем программы должна была быть лекция самого Риттенхауса, сопровождаемая демонстрацией планетария. Ассамблея Пенсильвании настолько была восхищена механизмом, что ассигновала триста фунтов «как доказательство высоких чувств, которые эта палата питает к его (Риттенхауса) гению математика и способностям механика, проявившимся в создании вышеозначенного планетария», и создала комитет помощи Риттенхаусу в постройке третьего (и, естественно, большего по размерам) планетария.
Многие американцы горячо приняли планетарий как убедительное подтверждение того, что теперь Новый Свет может соперничать в научном прогрессе со Старым. Когда Американское философское общество в просветительских целях опубликовало в 1771 году первый том своих трудов, первая часть была озаглавлена «Математические и астрономические записки», а первая записка содержала план планетария Риттенхауса. В «Пенсильвания газетт» от 26 апреля 1770 года было помещено первое сообщение о планетарии, в котором говорилось: «Поскольку он сделан в Америке,и сделан более совершенно, чем когда-либо созданный в Европе механизм подобного рода, у каждого патриота должно появиться огромное чувство гордости за свою страну, завоевывающую славу и поднимающуюся к самым высоким вершинам наук, а также стремящуюся к совершенствованию искусства». Когда Уизерспун готовил брошюру, чтобы привлечь студентов из Вест-Индии в Принстон, он постарался объяснить, что им будут читаться лекции по астрономии с использованием «недавно изобретенного и сконструированного эсквайром Дэвидом Риттенхаусом планетария, который наиболее взыскательными судьями признан самым блестящим из когда-либо созданных». На новой печати Пенсильванского университета, принятой в 1782 году, были начертаны лишь название университета и дата его создания, остальное место занимало изображение планетария Риттенхауса. В 1779 году в законопроекте Джефферсона о преобразовании колледжа Уильям-энд-Мэри было особо оговорено, что колледжу необходимо приобрести подобное устройство — «механическое изображение, или модель Солнечной системы, задуманное и сделанное величайшим
291
ю*
астрономом Дэвидом Риттенхаусом», — и что это устройство должно «носить имя Риттенхауса». Присутствовавший во второй раз на заседании Американского философского общества Джефферсон выдвинул предложение, с которым все единодушно согласились, что общество подготовит планетарий для принесения в дар королю Франции и сделает это не только для того, чтобы выразить благодарность американцев своему союзнику в Революции, но также и для того, чтобы опровергнуть клевету на американскую культуру со стороны европейских критиканов. Преподобный Джеймс Мэдисон в письме Джефферсону с энтузиазмом поддержал «превосходный и простой метод убедить этих горе-теоретиков, как Вы совершенно справедливо их назвали, в несостоятельности их критики, послав в Европу и планетарий и Риттенхауса».
Ни Риттенхаус, ни его детище никогда не попали в Европу, однако многие американцы и некоторые дружелюбно настроенные европейцы с большим уважением стали относиться к американской культуре, которая их взрастила.
39
НАИВНАЯ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ И ИСКУСНЕЕ УСТРОЙСТВА: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Подчас американец мог сделать какое-либо открытие, даже в области физики, просто потому, что был менее образован, чем его европейские коллеги. Незнание проторенных путей научной мысли делало его более свободным в следовании за фактами, куда бы они его ни завлекали. Так что оснований для глубоких традиций теоретической науки не было, хотя нельзя полностью отрицать прогресс в области физики на американской почве. Полагаться на неискушенность в такой постоянно развивающейся науке, как физика, под силу только великому гению, и по крайней мере один из американцев колониальных времен — Бенджамин Франклин — оказался способным на это.
Воззрения Франклина формировались, без сомнения, в контексте ньютоновской экспериментальной науки, однако он не был хорошо знаком с классическими произведениями Ньютона и никогда не претендовал на это. Даже о том, что он читал «Оптику» Ньютона, имеются лишь косвенные свидетельства; все подтверждает наши догадки, что Франклину не хватало познаний в математике, чтобы понять ньютоновские «Начала» и другие работы подобной сложности. Его теоретическая база для
292
углубленного изучения любой из физических наук была весьма скудной.
Истинные достижения Франклина были смазаны тем, что, как в Америке, так и за границей, его экстравагантно ставили в ряд с величайшими теоретиками математики и физики. Джон Адамс заявил, что Франклин «более известен в мире, чем Лейбниц или Ньютон, Фридрих или Вольтер». Лорд Чэтем восхвалял его в палате лордов как «одного из тех, кого вся Европа высоко ценила за знания и мудрость и ставила рядом с нашими бойлями и ньютонами». Великий химик Джозеф Пристли объявил его открытие, сделанное в результате эксперимента с воздушным змеем, «вероятно самым великим со времен сэра Исаака Ньютона». Суть истинной гениальности Франклина была погребена под еще менее разборчивыми похвалами, посыпавшимися на него после смерти.
В действительности же его успехи продемонстрировали триумф наивности над образованностью. Ключ к разгадке необычного успеха Франклина-«физика» лежит в объяснении провала Кэдуоледера Колдена. Нью-йоркский служащий Колден, о чьей деятельности как естествоиспытателя мы уже говорили, стремился к величию в европейском стиле. В своем труде «Принципы движения материи» (1751) Колден притязал на то, что продолжает работу Ньютона и даже превосходит его, предлагая общую теорию «причинности» гравитации. У Колдена не было ни специального образования, ни систематического склада ума, не было у него и общения с другими учеными-физиками, без которого великие творения в области математической физики создавались весьма редко. И тем не менее он претендовал на то, что «открыл истинную причину движения планет и комет и сделал из этого вывод о причинности всего явления (гравитации) с той точностью, которая согласовывалась с самыми тщательными наблюдениями». К счастью, пояснял он, всего этого можно было достигнуть «без помощи конических сечений или каких-либо других знаний, хватило простых правил арифметики и тригонометрии». В противоположность Колдену у Франклина не было иллюзий, что в математическом мире Ньютона он чувствует себя как дома; он просто хотел объяснить некоторые специфические явления. Работа Колдена, может, и была бы выше качеством, живи он в Европе, вблизи от древних центров науки, но Франклин при таких обстоятельствах мог бы вообще ничего не создать.
Репутацию физика принесло Франклину электричество; только здесь им были сделаны открытия, имевшие непреходя
293
щее значение. Они не были обобщены в научных трудах, не были они и малыми посылками большой теории происхождения,при-роды и причинности электричества и менее всего относились к предмету в целом. Его работы по электричеству были беспорядочными и разноплановыми. Книга Франклина, ставшая знаменитой под названием «Опыты и наблюдения над электричеством, сделанные в Филадельфии в Америке», фактически была сборником писем, которые были подобраны так несвязно, что некоторые читатели выражали сомнение, предназначались ли они для публикации. В виде книги они не публиковались в Америке до 1941 года.
«Он постарался, — говорил сэр Хамфри Дэви, — полностью очистить предмет от таинственности и неясностей. Он писал в равной мере как для непосвященных читателей, так и для философов; он излагал подробности увлекательно и ясно, элегантно и просто». Даже современный читатель с удивлением обнаруживает, что такая фундаментальная работа настолько общедоступна и что ее язык не изобилует математическими терминами. Эта работа, принесшая Франклину научную славу, читается скорее как кулинарная книга или советы по демонстрации фокусов, чем как трактат по физике. В одном из своих наиболее важных писем, объясняя «поразительный эффект, получаемый с помощью заостренных тел и заключающийся в выделении и снятии электрического огня», он писал:
Поместите железное ядро диаметром три или четыре дюйма на горлышко чистой и сухой стеклянной бутылки. На тонкой шелковой нитке, прикрепленной к потолку прямо над горлышком бутылки, подвесьте маленький пробковый шарик величиной примерно с детский стеклянный шар, длина нити должна быть такой, чтобы пробковый шарик мог соприкасаться с ядром. Наэлектризуйте железное ядро, и пробковый шарик будет отброшен на расстояние около четырех или пяти дюймов, в зависимости от количества полученного электричества. Если в этот момент вы нацелите на ядро на расстоянии шести или восьми дюймов острие длинной, тонкой и острой иглы, эффект отталкивания немедленно прекратится и пробковый шарик полетит в сторону ядра. Тупое тело должно быть поднесено на расстояние дюйма, вызовет искру, и эффект будет тем же самым.
Во времена Франклина серьезные эксперименты с электричеством можно было производить с помощью кухонной утвари, поскольку эта область находилась на заре своего развития и еще не прибегала к математике. Из всех наук, прогресс которых был довольно значительным в XVII и XVIII веках, электричество имело самую короткую историю. В электричестве по сравнению с астрономией и математической физикой было еще очень много неизвестного и непознанного. В то время казалось, что у него
294
нет практического применения, открывался лишь широкий простор для удовлетворения досужего любопытства. Интерес Франклина к электричеству был, пожалуй, еще менее «практичным», чем у некоторых из его современников, так как он сомневался, что оно когда-либо станет панацеей в медицине, как в то время некоторые предсказывали. Его самым большим преимуществом было то, что он обладал неакадемическим складом ума любителя; как и многие другие американцы, делавшие открытия, он видел больше, потому что значительно меньше знал, что следовало видеть.
Когда Франклин впервые заинтересовался электричеством, а именно после 1746 года, он знал чрезвычайно мало о том, что было сделано в Европе. Возвратившись в Филадельфию из Бостона, где ему случилось быть свидетелем «электрических развлечений», Франклин был обрадован, узнав, что Библиотечное общество получило несколько стеклянных трубок от Питера Коллинсона. Три таких же, как он,любителя присоединились к Франклину, чтобы повторить увиденные им эксперименты. Самым активным был Эбенезер Киннерсли, имевший духовный сан, но никогда не имевший кафедры баптистский священник— «искусный сосед без определенных занятий, которого, — говорил Франклин, — я воодушевил показывать эксперименты за плату». Двумя другими были Филип Синг (1703 —1789), по профессии серебряных дел мастер, и Томас Хопкинсон (1709 — 1751), юрист, отец известного Фрэнсиса Хопкинсона. Оба они были в числе основателей Американского философского общества. Уточнить роль каждого из них в проведении первых важных экспериментов довольно нелегко,отчасти потому, что Франклин в своих оценках не был излишне скромен. Но ни один из этой разношерстной компании не был изначально «натурфилософом»; ни у одного не было университетского дипломащ, по английским меркам, никого из них нельзя было назвать образованным человеком.
Любители из Филадельфии совершенно не были знакомы с трудами европейских натурфилософов. Они считали, что Синг сделал нечто новое и важное, когда «изобрел» элементарный электрический прибор: стеклянный шар вращался на железном стержне, возникало трение, в результате чего появлялось электричество. Это казалось огромным усовершенствованием по сравнению с «утомительным занятием» — натирать стеклянную трубку. Однако приборы, подобные прибору Синга, давным-давно использовались в Англии и были популярны среди европейских экспериментаторов с электричеством.
295
Похоже, что Франклин знал о ранних европейских работах в области электричества только от своего лондонского корреспондента Питера Коллинсона. Франклин сообщал Коллинсону, что он и три его единомышленника из Филадельфии ведут наблюдения «над весьма примечательным явлением, которое мы рассматриваем как нечто новое». Но у него нет возможности узнать, является ли это действительно открытием или европейские ученые уже сталкивались с подобным явлением. Более поздние письма Франклина Коллинсону (которые впоследствии составили книгу об электричестве) продолжали носить характер дневника исследователя, мучающегося мыслью, видел ли кто-нибудь открытую им землю до него.
Если бы у Франклина было больше сведений о том, чего достигли европейские ученые, он, может быть, и не осмелился бы высказать свое простое и смелое предположение: электричество является единой субстанцией, не меняющейся в зависимости от материала, из которого оно произведено.Это было фундаментальным открытием Франклина в области электричества. Две формы электричества он охарактеризовал тогда просто как «положительное» и «отрицательное» электричество в зависимости от того, каким, по его убеждению, будет направление потока.
Искушенная мысль европейцев в данной области уже «продвинулась» к более сложной доктрине, принадлежащей Дюфе:
Есть два совершенно разных электричества; одно из них я называю стеклянным электричеством, другое — смоляным. Первое порождается стеклом, хрусталем, драгоценными камнями, шерстью животных, шерстяной пряжей и многими другими вещами. Второе — янтарем, копалом, эбонитом, шелком, простой ниткой, бумагой и огромным количеством прочих веществ.
По-видимому, Франклин ничего не знал о разграничении электричества, которое сделал Дюфе. На основе собственных наблюдений он подошел непосредственно к эпохальному предположению, что все электричество является единой субстанцией. Если бы даже Франклин и знал об ошибочном разграничении, сделанном европейскими учеными, он, возможно, предложил бы свое собственное простое объяснение. Но это потребовало бы дерзости воображения от человека, чьей сильной стороной был здравый смысл, а отнюдь не дерзость. Скорее всего,он не осмелился бы даже заявить о своих сделавших революцию наблюдениях.
Мы знаем, что произошло с его взглядами после того, как он ближе познакомился с работами своих европейских современ
296
ников, и это, к счастью, помогает нам лучше понять сделанное Франклином. Из расхожих работ европейских авторов по электричеству, многие из которых были посланы Питером Коллинсо-ном в Библиотечное общество Филадельфии, Франклин почерпнул всеми уважаемые идеи и общепринятую терминологию. Его способность проникновения в сущность вещей притупилась. Уже к 1748 году он был склонен скорее получать сведения из книг, чем в результате наблюдений; он стал смотреть на вещи глазами своих европейских современников. Опубликованная в 1751 году в Лондоне брошюра, в которую были включены четыре письма Франклина об электричестве, практически явилась его основным вкладом в эту область. Наиболее дальновидные европейские ученые опасались, что Франклин, приобщившись к их познаниям, скоро не сможет пойти дальше того, что сделали они. Петер ван Мушенбрук, открывший принцип конденсатора и изобретший лейденскую банку, предостерегал американского ученого. Получив в 1759 году просьбу Франклина прислать ему книги по электричеству, он убеждал его: «Продолжайте эксперименты, всецело полагаясь лишь на себя, и, таким образом, следуйте по пути, полностью отличному от пути европейцев, и только тогда Вы непременно найдете то многое, что было скрыто от натурфилософов на протяжении веков». К несчастью, к этому времени Франклин уже стал «образованным» в области электричества и вредные последствия были налицо.
Труды Франклина по электричеству, следовательно, не были исключением из колониальной науки, которая носила описательный и ограниченный характер. С присущим ему везением Франклин случайно занялся предметом, где нехватка математических знаний не была недостатком, а отсутствие образования обернулось достоинством, и забавы, подогретые любопытством, смогли принести плоды. Этого вряд ли было достаточно, чтобы Джефферсон имел основания хвастаться, что Америка уже дает миру великих физиков, которые мохут соперничать с физиками Старого Света. Это меньше всего доказывало, что Америка являлась благодатной почвой для фундаментальных научных открытий теоретического характера. Если это о чем-то и говорит, то совершенно об обратном. Отсутствие в колониальной Америке других достижений в области физики только подчеркивало нетипичный и случайный характер открытия Франклина.
Это открытие, больше всего пленившее воображение народа и воспетое американским фольклором, было весьма далеко от утонченного мира ньютоновской физики: Франклин просто су
297
мел доказать идентичность молнии и электричества и, как следствие, изобрел молниеотвод. Знаменитые опыты Франклина с электрическим воздушным змеем не были фундаментальным теоретическим открытием. Это был талантливый способ применения на практике «возможностей острия» и теории электричества как «единой субстанции»; и то и другое было уже описано Франклином в его письмах. Это было сочетание прикладной науки с искусством механика. Европейцы уже догадывались об идентичности молнии и электричества, но доказать это не сумели. Вкладом Франклина было изобретение элементарного устройства, мысль о котором, по его словам, «могла прийти в голову любому занимающемуся электричеством», но почему-то не осенила никого из европейских физиков, которые были поглощены своими «электрическими машинами», лабораторными экспериментами и теоретическими дискуссиями.
Когда доктор Джон Лайнинг из Чарлстона спросил Франклина, как он додумался провести эксперимент с воздушным змеем с целью проверки идентичности молнии и электричества, Франклин ответил цитатой из своего научного дневника:
9 ноября 1749 года. Электрическая субстанция совпадает с молнией следующими специфическими чертами: 1. Дает свет. 2. Имеет одинаковый цвет. 3. Зигзагообразное направление. 4. Быстрота движения. 5. Проводится металлами. 6. Треск, шум при взрыве. 7. Продолжает существовать в воде или во льду. 8. Расщепляет тела, через которые проходит. 9. Убивает животных. 10. Плавит металлы. И. Воспламеняет горючие вещества. 12. Имеет сернистый запах.—Электрическая субстанция улавливается острыми предметами. — Мы не знаем, присуще ли это свойство молнии. — Но поскольку наличествует совпадение всех специфических черт, по которым мы только что их сравнили, можно ли считать невозможным и это совпадение? Надо экспериментировать.
К тому времени, когда Франклин предложил очевидный и единственно убедительный способ проверки гипотезы, некоторые европейцы делали попытки ее проверить. Возможно, они уже шли путем Франклина еще до того, как сам Франклин додумался до этой мысли.
Аббат Нолле, один из наиболее «прогрессивных» и образованных французских физиков и страстный сторонник теории двух субстанций, отверг этот прямой призыв к «простым» наблюдениям. В своей «Автобиографии» Франклин рассказал, как Нолле, загодя обидевшись на то, что он не упомянул его имя в «Опытах и наблюдениях над электричеством», «не мог поначалу поверить, что такая работа сделана в Америке, и заявил, что она, должно быть, придумана его врагами в Париже, чтобы дискре-
298
дотировать его систему. Затем, уверившись, что такая персона, как Франклин из Филадельфии, действительно существует, в чем он сомневался, он написал и опубликовал книгу писем, адресованных главным образом мне, в которых защищал свою теорию и отрицал истинность моих экспериментов и вытекающих из них положений». Тем не менее Франклин не был втянут в софистический спор по вопросам, разрешение которых могло зависеть только от наблюдений. «Мои заметки содержали описание экспериментов, которые может повторить и проверить каждый, а если нельзя проверить, то и защищать нельзя... Я решил предоставить моим записям говорить самим за себя, считая, что лучше я свое свободное от общественных дел время потрачу на новые эксперименты, чем на обсуждение тех, что уже были сделаны».
В воплощении своих идей Франклин был настолько нетерпелив, что в том же самом письме, где предложил эксперимент по подтверждению идентичности молнии и электричества (и даже до того, как эксперимент был поставлен и его гипотеза получила подтверждение), он описал молниеотвод. «Если это так, — писал он в 1749 году из Филадельфии, — то не может ли наше знание возможностей острия быть полезным человечеству в сохранении домов, церквей, кораблей и пр. от удара молнии? Воспользовавшись нашим знанием,мы установим на самых высоких точках этих строений вертикально стоящие железные стержни, заостренные,как иглы,и позолоченные для защиты от ржавчины; от основания стержней вниз по зданию пойдет проволока, которая заземляется или, если это корабль, обматывается вокруг одного из вантов и по борту корабля опускается в воду».В «Альманахе бедного Ричарда» за 1753 год он опубликовал простейшее описание молниеотвода под заглавием «Как сохранить дома и пр. от молнии».
Молниеотводы быстро привились в Америке. Хотя научные знания об электричестве были весьма скудны, тем не менее все, что люди знали об электричестве, они старались как можно быстрее и шире применить на практике, чего не наблюдалось в крупнейших научных центрах Европы. Мы не располагаем достоверными статистическими данными, но по наблюдениям, сделанным по обе стороны Атлантики, молниеотводы гораздо шире применялись в Америке, чем в Англии. «Ни одна страна с большей очевидностью, чем Америка, не доказала эффективность электрических стержней», — отмечал преподобный Эндрю Бэрнэби еще в 1759 году, когда путешествовал по Виргинии. Несмотря на то что в здания иногда и попадала молния, молние
299
отводы нашли настолько широкое применение, что все реже можно было услышать о пострадавших зданиях. Бэрнэби выражал надежду, что этот пример американцев побудит других оставить свои религиозные предубеждения против применения научных приборов для безопасности человека.
Однако даже в Америке распространение молниеотвода задерживалось из-за религиозных предрассудков и научного консерватизма. В 1755 году, вскоре после того, как начали использоваться молниеотводы, Бостон пережил страшное землетрясение, причины которого преподобный Томас Принс объяснял в новом приложении к своей проповеди «Землетрясения — творенья Божьи и знаменья его справедливого недовольства». «Чем больше заостренных железных стержней будет поднято над землей для того, чтобы извлечь электрическую субстанцию из воздуха, тем больше будет увеличиваться насыщение ею земли... В Бостоне было возведено молниеотводов больше, чем где бы то ни было в Новой Англии; и похоже, что сотрясение в Бостоне было наиболее ужасающим. О! Никуда не уйти от всемогущей Божьей длани! Если мы питаем надежду уйти от нее в воздухе, на земле это нам не удастся: да, это может стать перстом судьбы». Однако здравомыслящий профессор Джон Уинтроп, который понял суть стержней Франклина, прочел лекцию в часовне Гарвардского колледжа, опровергающую эти дикие измышления, и, по-видимому, те случаи, когда молниеотводы делали свое дело, перевесили в сознании народа фантастические возражения теоретиков. Будучи в 1772 году в Лондоне, Франклин был удивлен, обнаружив, что англичане только начинают использовать молниеотводы, в то время как в Америке железные стержни широко используются уже почти двадцать лет и их можно увидеть не только на общественных зданиях, церквах и загородных особняках, но и на маленьких частных домах.
Возможно, на американцев влияли условия их жизни. «Грозы (в Америке) намного более частое явление, чем в Европе... — писал Франклин в 1772 году из Лондона. — Здесь в Англии практическое применение (молниеотводов) развивается очень слабо, удары молнии наносят ущерб реже, и люди, естественно, не так отчетливо осознают ее опасность». По данным метеорологов, частота гроз на юге Канады почти такая же, как в Европе (в среднем примерно одиннадцать дней в году), но по мере продвижения к югу она увеличивается, и в штатах, выходящих к Мексиканскому заливу, гроз почти в семь раз больше (в среднем примерно семьдесят два дня в году). Эти данные приблизитель
зоо
ные, и, возможно, в XVIII веке погода была иной. Но у нас достаточно информации, чтобы предполагать, что молнии и грозы бывали в Америке гораздо чаще, чем в Европе. В любом случае они должны были казаться более угрожающими жителям колониальной Америки, рассеянным на просторах малоизученного континента.
40
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЛУБИНКИ
Неизвестный автор имеющего до сих пор важное значение обзора «Американское сельское хозяйство», в котором описывается колониальное сельское хозяйство XVIII века, в 1775 году делает вывод, что «американские плантаторы и фермеры в своем большинстве самые никудышные работники в христианском мире». Это наблюдение было сделано автором в то время, когда Европа находилась на гребне волны аграрной революции, и Англия уже в течение нескольких десятилетий была в центре событий. Усиливающееся в этой стране движение «огораживания» старых общинных земель и пастбищ, которое практиковалось уже длительное время, способствовало появлению более эффективных капиталистических методов хозяйствования. Джетро Талл изобрел приспособление для посадки семян рядами и в своей работе «Конно-пропашное земледелие» (1733) ратовал за регулярную вспашку в целях уничтожения сорняков и усиления питания корневой системы растений. Лорд «Турнепс» Тауншенд, внуку которого принадлежит авторство актов Тауншенда, следуя советам Талла, улучшил севооборот. К середине столетия Роберт Бейкуэлл поставил животноводство на научную основу; к концу же века Артур Янг, обладавший острым глазом и отточенным пером, занялся популяризацией этих и других технических новшеств. Крестьяне и мелкие фермеры не спешили менять привычные методы, для ряда же богатых землевладельцев экспериментирование в сельском хозяйстве превратилось в хобби, и в период до начала Американской революции оно вошло в моду по всей стране. Королева Каролина выписала книгу Талла, а Георг П прослушал объяснение системы Талла в своем дворце. Георг III, «Георг-фермер», который, как говорят, носил с собой последний выпуск издаваемого Янгом сельскохозяйственного журнала, утверждал, что у Янга он почерпнул гораздо больше, чем у любого другого из своих подданных.
301
Однако в Америке колониальный период мало что дал развитию ее сельского хозяйства.Джордж Вашингтон, будучи сам достаточно консервативным фермером, в письме к Артуру Янгу от 5 декабря 1791 года описывал положение в Америке следующим образом:
У английского фермера может сложиться презрительное отношение к нашему земледелию или возникнуть жуткое представление о наших землях, когда он узнает, что с одного акра земли собирают не более восьми-десяти бушелей пшеницы; но такой низкий результат можно отнести (а это в большинстве случаев так и есть) за счет того... что цель фермеров нашей страны, если их вообще можно назвать таковыми, не получить от земли, которая дешева или досталась им задешево,все, что она может дать, а максимально использовать рабочую силу, которая дорога; вследствие этого большинство земель были вскопаны, но не обработаны и не культивированы, как полагается, тогда как в Англии, где земля дорога, а труд дешев, фермеры были заинтересованы как можно лучше обрабатывать землю и применять усовершенствования,с тем чтобы собрать большой урожай с маленького участка земли.
Эта оценка была справедливой. Некоторые усовершенствования, например топора и ружья,были сделаны жителями захолустной Америки благодаря их изобретательности, ставшей притчей во языцех. Но многое из того, что мы знаем о фермерах колониальных времен, говорит о преобладании у них провинциального консерватизма. Богатство природы, которое в более поздней истории Америки поощряло дух экспериментаторства, в колониальные годы этот дух расхолаживало.
«Расточительство» — понятие, безусловно, относительное. Для американских колонистов труд был более дефицитен, чем земля; им представлялось более экономичным истощать землю и двигаться дальше, чем тратить ценное время на ее обработку и удобрение. Колонисты по-своему были весьма заинтересованы в экономии, но им были нужны «трудосберегающие» средства. И оказалось, что на первых порах наиболее доступным трудосберегающим средством стало расточительное использование земли. Большая часть преобразований в сельском хозяйстве Англии имела целью сделать старые земли более продуктивными, как правило, за счет больших затрат труда.
Поскольку мало кто из фермеров вел подробные записи, нам предстоит еще многое узнать о распространенных в колониальной Америке методах ведения сельского хозяйства. Но европейцы, путешествовавшие по Америке и пытавшиеся найти там что-то новое, сходились во мнении, что американские методы ведения сельского хозяйства были отсталыми. «Приезжавшие в Америку европейцы, — говорил шведский ботаник Петер Калм
302
о центральных колониях 1748 — 1751 годов, — видели расстилавшиеся между деревьями превосходные богатые земли, рыхлые, как превосходные грядки в огороде. Им ничего не оставалось, как рубить деревья, складывать их и убирать сухие листья. Затем они тут же могли заниматься вспашкой, которая на такой рыхлой почве не составляла большого труда; посеяв зерно, они получали обильный урожай. Этот легкий способ получения богатого урожая избаловал английских и других поселенцев из Европы и толкал их к использованию методов ведения сельского хозяйства, которыми пользовались индейцы... Вот, похоже, где кроется причина, почему сельское хозяйство и наука о нем так несовершенны в Америке, по которой можно путешествовать несколько дней и почти ничего не узнать о земле... за исключением того, что их грубые ошибки и беспечность в отношении будущего дают каждодневную возможность делать всякого рода выводы и учиться на их ошибках. Одним словом, они с одинаковой беспечностью относятся к полям зерновых, лугам, лесам, рогатому скоту и т.д.... они сосредоточены на том, что имеют сегодня, и не смотрят в будущее». Хотя Калм, вероятно, перехвалил природное плодородие почвы и легкость ее первой обработки, он совсем не преувеличил широко распространенное среди американских фермеров легкомыслие.
Многие другие говорили о поломанных изгородях, хилом, бродящем без присмотра, некормленом и неухоженном скоте. Навозом никто не пользовался. Искусственные пастбища долгое время были редкостью, и немногие фермеры заготавливали корм на зиму. В конце XVII века некий француз, путешествовавший по Виргинии, увидел «поутру несчастных животных, целиком покрытых снегом и дрожащих от холода; для них не было припасено никакого корма. Они глодали кору деревьев, потому что трава была под снегом». Хищники — волки, медведи и дикие собаки — нападали на беспомощные стада; разводить овец поэтому было трудно. Изобилие рыбы и дичи улучшало питание колонистов, но отнюдь не способствовало улучшению сельского хозяйства; английские колонисты из средних и низших слоев не были к тому же и искусными охотниками. Они приехали из страны, где охота была исключительной привилегией знати. Американское разгильдяйство приводило к вырождению английских пород скота. «Свиньи кишели на земле, как паразиты, и к ним часто так и относились», — отмечал Роберт Беверли; их даже не приписывали ни к какому хозяйству. Первые поселенцы постоянно соблазнялись возможностью ухватить то, что давала природа, особенно если это касалось пищи, и,таким образом, ос
303
вободиться для того, чтобы увеличивать свои капиталы за счет освоения новых земельных участков.
Обилие земли и дичи являлось не единственным фактором, который тормозил развитие американского сельского хозяйства. Человек, занимавшийся в Америке сельским хозяйством, скорее был любителем: «Любой становился фермером... а не механиком или ремесленником, моряком, солдатом, слугой и т.д.; тот, у кого были деньги, покупал землю и становился фермером». Хотя по колониальным меркам английский фермер и мог выглядеть передовым, методы его хозяйствования оставляли желать лучшего в сравнении с теми, что использовали его европейские современники, например немецкие фермеры. Редко способы ведения хозяйства, ввозимые в колонии из Великобритании, оказывались наилучшими.
Приезжающие колонисты применяли любые средства для получения быстрых результатов, не заботясь о том, насколько это истощает землю. Их первой необходимостью было обеспечить себе постоянный источник продуктов питания, и первые уроки земледелия они черпали у аборигенов. Индейская кукуруза, которую европейцы назвали «маисом», оставалась основной зерновой культурой во всех колониях. Хотя индейцы и вывели высокоурожайные сорта, их методы возделывания земли были примитивными; колонисты длительное время следовали их примеру. К тому же беспрерывный посев кукурузы скоро истощил почву. «По их системе земля, ставшая непригодной после выращивания кукурузы, — отмечает автор «Американского сельского хозяйства», — стоила для них не больше, чем небо над головой».
Колониальные войны, которые вспыхивали то и дело, затрудняли землеустройство, увеличивали нехватку рабочей силы и вынуждали американских фермеров оставаться консервативными. «Мы одновременно и военные,и фермеры, — сетовал в 1759 году Джерид Элиот,—условия, в которых мы живем, напоминают Древний Рим—от плуга к войне и от войны назад к плу-iy». По его подсчетам, только за один предыдущий год по меньшей мере 5000 мужчин оставили фермы для того, чтобы сражаться с французами или индейцами; «это вкупе с огромными расходами на войну делает небезопасным и неразумным отказ от проторенных дорог ради новых выдумок... когда нет ни рабочих рук, ни лишних денег для выполнения новых проектов или применения неопробованных методов».
Круг проблем, стоявших перед фермерами, от непривычно тяжелой зимы в северных колониях до столь же непривычной
304
жары в обеих Каролинах, был значительно шире, чем в маленькой Англии. И сколь разнообразны были почвы, урожаи и типы климата в Америке, столь же разнообразны были примеры плохого ведения сельского хозяйства. Длящиеся несколько месяцев зимы Новой Англии с промерзшей, покрытой снегом землей сводили к нулю советы английских теоретиков бережливым фермерам использовать зимнее время для подготовки и вспашки полей; у фермера Новой Англии было лишь короткое весеннее время, когда он мог собирать навоз, ставить изгороди и боронить поле. Такой порядок вещей оставался неизменным и не мог быть другим, поскольку низкие урожаи заставляли новоанглийского фермера тратить каждую свободную минуту на очистку дополнительного акра земли, которой вскоре также грозило истощение.
В центральных колониях, в Пенсильвании в особенности, где методы ведения сельского хозяйства могли быть и получше, стремление к чрезмерному расширению — «ухватить за свои деньги как можно больше земли» — было просто разлагающим. Ощущалась большая потребность в рабочем скоте, но его было ничтожно мало, да и колонисты не имели понятия, как за ним ухаживать. «Они очищают какое-либо поле, и у них хватает плугов, скота и людей, чтобы обработать лишь то, что они очистили, и не больше; они держатся за это поле, пока оно дает хоть какой-то урожай; когда же земля перестает родить, они очищают новый участок и обходятся с ним подобным же образом... Это неизбежно ведет к тому, что поселенцы тратят половину своего состояния на покупку земли, то есть на оплату взносов за нее провинции: если у человека в кармане сто фунтов и он может на эти деньги должным образом обработать сорок или пятьдесят акров земли, а берет патент на три или четыре сотни акров и взносы за эту землю составляют половину его состояния, его возможности обработать ее, совершенно очевидно, уменьшаются».
Мы уже видели, как выращивание табака в Виргинии привело к истощению почвы и превратило собственников плантаций в спекулянтов землей и какое отражение это нашло в правительстве колонии. Дальше к юту методы ведения сельского хозяйства были еще хуже. Малая плотность населения в Северной Каролине, отсутствие хорошего морского порта усиливали стремление использовать землю и двинуться дальше. В диком лесу можно было добыть камедь, смолу и живицу. Произрастающий в затопленных местах Южной Каролины рис был незнакомой англичанам культурой; его возделывание сталкивалось с
305
проблемами дренажа и ирригации, решение которых было дорогостоящим, и колониальные плантаторы не обладали особым умением их решать. Быстро истощала землю также неизвестная английским фермерам индигоноска.
Широкое разнообразие климата, почвы и культур было само по себе препятствием для согласованных действий по совершенствованию американского сельского хозяйства. Каждый регион должен был извлекать уроки из собственного опыта. Трудности общения внутри страны и нехватка нужных книг были причиной устойчивости применяемых методов. Дорогостоящие эксперименты, например по производству шелка и вина, повторялись заново отчасти из-за отсутствия достоверных сведений о предшествующих неудачах. Но самым большим препятствием были абсолютно непривычные условия Америки, в которых многие советы из английских книг становились бесполезными. Как отмечал в 1748 году Джерид Элиот, вообще удивительно, что был достигнут какой-то прогресс, «если принять во внимание, что первых поселенцев было мало и они приехали из развитой страны с долгой историей в непроходимые леса и на невозделанные целинные земли, где весь их прежний опыт и знания не могли сослужить им службу: у них не было ни тяглового скота, ни повозок; они оказывались неумелыми почти во всем, с чем сталкивались, — можно сказать, что в определенном смысле они начали заново строить свой мир».
То, что английские агрономы понимали как усовершенствование сельского хозяйства в колониях, не обязательно приводило к улучшению жизни колониальных фермеров. С точки зрения Британской империи, самым желательным было стимулировать производство таких продуктов, как пенька, сахар, индиго, шелк и вино, источники сырья для которых на Британских островах отсутствуют и за которые Британии приходилось платить золотом другим странам. Результаты такого бездумного подхода к сельскому хозяйству колоний мы уже видели на примере Джорджии. Почти в каждой колонии прилагались дорого обходившиеся, но бесполезные усилия для увеличения производства экзотических монокультур. «Есть все основания полагать, что после многих разочарований земли Огайо,наконец,оправдают надежды нации на получение из колоний конопли, — отмечал с оптимизмом автор «Американского сельского хозяйства». — Это именно то, чего мы так долго ждали... Нерадивость такого рода иногда порождает мысли, что виновата страна, хотя вина лежит только на производителе... Их следовало бы обязать ежегодно снабжать флот
306
определенным количеством конопли, производимой в колонии: это заставило бы их обратить большее внимание на эту важную культуру».
Более реалистические и организованные попытки улучшить американское сельское хозяйство предпринимались медленно. Первый значительный труд по американскому сельскому хозяйству появился в Новой Англии в середине XVIII века, когда земли уже не казались столь богатыми и плодородными, а нехватка леса стала проблемой. Шесть эссе преподобного Джерида Элиота, увидевшие свет между 1748 и 1759 годами, были собраны в отдельный том под названием «Эссе о полевом земледелии в Новой Англии, как оно ведется и как оно может вестись» (Бостон, 1760). Внук проповедника Джона Элиота, пытавшегося обратить в христианство индейцев из Нэйтика, коннектикутский священник Джерид Элиот был также ведущим врачом в своей колонии. Многие врачи из Коннектикута прошли его школу. Его долгая деятельность в качестве врачующего священника—«более тридцати лет работы, требовавшей многочисленных поездок»,— дала ему возможность, как он отмечал, накопить сведения для своих эссе и для проведения собственных опытов. «Унция опыта весомее фунта науки», — говорил Элиот. Его эссе внесли мало нового в сельскохозяйственную науку, но он собрал полезные советы по дренажу, севообороту, удобрению, скотоводству и по многим другим вопросам. Элиот усовершенствовал изобретенное Джетро Таллом устройство для высадки семян и приспособил метод Талла к американским условиям. Но даже Элиот, мечтавший о крупном промышленном производстве шелка в Коннектикуте, выступал в поддержку мелких землевладений как лучшего средства защиты границ империи.
Только спустя несколько десятилетий к Элиоту, пытавшемуся внести улучшения в американское сельское хозяйство, присоединились и многие другие. Еще до середины века местные сельскохозяйственные общества Великобритании обобщали опыт фермеров-джентльменов и обменивались результатами экспериментов. Однако в Америке организация, по-настоящему занимавшаяся совершенствованием сельского хозяйства, появилась только в 1785 году. Ранее Американское философское общество в Филадельфии среди своих задач ставило и эту, но сделано было очень мало. Например, знаменитый отвальный плуг Джефферсона, один из его основных вкладов в развитие сельского хозяйства, появился только в конце века — в 1798 году. Прогресс в американском сельском хозяйстве начался в послереволюционные годы.
307
Естественно, в этом отсталом колониальном сельском хозяйстве были и исключения. На примере знаменитых нарраган-сетских иноходцев с Род-Айленда — «некоторые из них проходили милю за немногим больше чем две минуты, т.е. намного меньше, чем за три», — было ясно, что в этой стране вполне возможно выращивать первоклассный скот на экспорт. Немецкие фермеры, прибывавшие в страну в начале XVIII века, главным образом в Филадельфию, чтобы следовать дальше на Запад к плодородным угодьям Пенсильвании и в долину реки Огайо, отличались бережливостью, которая резко контрастировала с небрежностью других американских фермеров. Они сделали знаменитой Конестогскую долину, и не только крытыми массивными, на широко поставленных колесах «конестогскими фургонами», ставшими позднее символом движения на Запад, но и выведенными ими из английской породы «конестогскими лошадьми», которые были лучшими образцами тяглового скота в колониальный период. По наблюдениям Бенджамина Раша, сделанным в конце века, методы немецких фермеров появились в результате учета ими просчетов и ошибок других американских фермеров. «Немецкую ферму можно было отличить от ферм других жителей штата по самым большим амбарам, по простой, но компактной форме их домов, по высоте изгородей, по протяженности фруктовых садов, по плодородию полей, по богатству лугов и, наконец, по достатку и чистоте во всем, что им принадлежало». Эффективная система ведения сельского хозяйства у немцев основывалась на использовании привезенных ими с собой опыта и сноровки. Они просто оставались по-своему консервативными.
Книга третья
ЯЗЫК И ПЕЧАТНОЕ СЛОВО
Люди, живущие на одной четвертой части земного шара, смо1ут объединиться и общаться, как дети одной семьи.
Ноа Уэбстер
Жители британских колоний уже начинали говорить как американцы. В том, что они читали, и в том, что они печатали, уже чувствовался собственный путь Нового Света. В последующих разделах мы увидим зарождение американского языка и американского произношения, а также то, как американские печатные станки стали использоваться для обеспечения потребностей американцев. В Америке печатное слово перестало быть собственностью литературных кругов и стало принадлежать народу.
Часть десятая
НОВОЕ ЕДИНООБРАЗИЕ
Наиболее грамотно пишут те, кто не знает орфографии.
Бенджамин Франклин
41
АМЕРИКАНСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ
Несмотря на то что выходцы из разных концов Англии, рассредоточенные по колониям на побережье, цеплялись за привычный для них образ жизни, свойственный тем местам, из которых они приехали, они, сами того не ведая, создали культуру, которая во многих отношениях была более однородной в огромной Америке, чем в крошечной Англии. Поселенцы стремились сохранить свой родной язык, и в процессе перемещения по просторам Нового Света, а также вверх и вниз по социальной лестнице они привели его к единообразию. Вскоре один и тот же разговорный язык, как эхо, разнесся по всему континенту, преодолевая пространство так же, как печатное слово преодолевает время. В американском языке осуществилось пророчество, сделанное в елизаветинские времена Сэмюелом Дэниелом, который в 1599 году написал:
О наш язык, сокровищница слов, Дойдешь и до чужих ты берегов, И, просвещая дикие народы, Во славу нации ты пустишь всходы. И новые миры, возникшие из тьмы, На радость нам заговорят, как мы.
И всего лишь два века спустя, когда эта мечта стала явью, Ноа Уэбстер предсказывал, что «Северную Америку будут населять сотни миллионов людей, говорящих на одном языке». В отличие от Европы Америка подавала надежды, что наступит время,
310
когда «люди, живущие на одной четвертой части земного шара, смогут объединиться и общаться, как дети одной семьи».
И в самом деле,американский язык пришел к удивительному единообразию. Мы можем оценить по достоинству наше преимущество, посмотрев на такие многоязычные страны, как Индия, Советский Союз и Китай, и вспомнив, что в Европе, занимающей территорию размером менее четырех миллионов квадратных миль, говорят по меньшей мере на двенадцати основных языках. Народ Соединенных Штатов, живущий на территории, превышающей три миллиона квадратных миль, говорит лишь на одном языке. Существует гораздо больше различий в языке, на котором говорят жители Неаполя и Милана, или жители Кентербери и Йоркшира, или шахтер из Уэльса и студент из Оксфорда, или провансальский крестьянин и парижский адвокат, чем в языке, на котором говорят в США в штатах Мэн и Калифорния, или в языке, на котором говорит американский промышленный рабочий и президент колледжа.
Языковое единообразие Америки имеет как географическую основу (отсутствие барьеров между местными диалектами), так и социальную (отсутствие кастовых и классовых барьеров). Эти оба момента наложили большой отпечаток нажизнь страны, явились одновременно признаком и причиной стремления к национальному единению. Когда мы обращаем внимание на то, какую роль в политической жизни Канады играет многочисленное франкоговорящее население, или на то, как многоязычие мешает федерации в Индии, мы начинаем осознавать, насколько иной могла бы быть политическая жизнь в нашей стране, если бы у нас не было единого языка. Проявление многих специфических черт современной американской культуры — включая географическую мобильность населения, систему народного образования, каталоги заказов почтой, радио- и телевизионные сети, общенациональные журналы массового распространения, «национальную рекламу» (с учетом воздействия всего этого на образ жизни) — было бы затруднено в многоязычной стране. Что сталось бы с американским политическим стилем «от бревенчатой хижины до Белого дома», если бы, как это происходит в Англии, человек, не имеющий «соответствующего» происхождения, выдавал бы себя каждым словом? Наш общий, лишенный классовых особенностей язык создал основу для равноправия в Америке.
Рядом с этим великим языковым единообразием, формирование которого можно отнести ко временам первых английских поселений, другие «американские» черты нашего языка кажутся
зп
несущественными. Если бы это лингвистическое единообразие так прочно не укрепилось в колониальный период, до потока разнородной эмиграции XIX века, Соединенные Штаты не могли бы явить собой миру парадоксальный феномен нации, где множество представителей разных народов говорят на одном языке. Начиная почти с первого поселения ощущалась необходимость в единообразии языка.
Во-первых, возьмем произношение. Люди, прибывшие в такие удаленные друг от друга районы, как Массачусетский залив и Виргиния, говорили на одном и том же языке. Большинство из них были родом из одних и тех же мест—Лондона, Центральной и Южной Англии — и являлись обычно представителями одних и тех же общественных классов. Хотя и сегодня различия в речи жителей Новой Англии и Юга не так уж велики, чтобы мешали людям понимать друг друга, в Америке XVII века не наблюдалось, вероятно, даже таких небольших различий в разговорной речи жителей самых отдаленных друг от друга колоний Атлантического побережья. В те времена манера говорить жителей Новой Англии и южан была похожа на то, что мы теперь называем «южным акцентом». Таким образом, произношение современных южан является во многих отношениях наследием старых времен, а «английские» особенности речи жителей Новой Англии более позднего периода—по всей видимости, новообразованием.
В какой-то момент на берегах Америки под влиянием как колониальной специфики, так и сугубо американских условий в английской речи начали проявляться тенденции к еще большему единообразию. В своем словаре американизмов (1816) Джон Пикеринг отметил «большее в отличие от Англии единообразие диалектов повсеместно в США... как результат частых перемещений людей из одного конца страны в другой». Этот факт был отмечен еще в конце XVIII века таким знатоком языка, как преподобный Джон Уизерспун, который прибыл из Шотландии, чтобы стать президентом Принстона. «Простолюдин в Америке говорит лучше, чем простолюдин в Великобритании, — заметил он в своем сочинении «Друид» (1781), — по той простой причине, что, не имея более или менее постоянного места жительства и часто переезжая с места на место, он не так подвержен восприятию местных особенностей ни в произношении, ни во фразеологии. В Британии существует гораздо большая разница в диалектах графств, чем в Америке в диалектах штатов». Когда-то оторванные друг от друга местные диалекты Англии встретились, и перед говорящими на них встала необходимость общения. Современные
312
ученые-лингвисты пришли к выводу, что в отличие от метрополии тенденция к единообразию языка является общей характерной чертой для всех колоний.
В XVIII веке Америка, следовательно, уже была плавильным котлом, хотя на начальных этапах бурлящая в нем масса была относительно однородной. Только в XIX и XX веках пошла пестрая смесь из ирландцев, немцев, поляков, евреев, итальянцев, мексиканцев и китайцев; но в XVII и XVIII веках иммигранты приезжали из Йоркшира, Норфолка, Суффолка, Эссекса, Лондона, Кента, Гэмпшира и других английских графств. Всякий, кто посмотрит на карту Англии, где помечены места происхождения лиц, иммигрировавших в XVII веке в Новую Англию и Виргинию, обязательно поразится рассредоточению этих мест по всей территории родной для иммигрантов страны. Как мы уже говорили, несмотря на то что существовала тенденция к оседанию иммигрантов в определенных местах (выходцы из Центральной Англии концентрировались в Виргинии, из Лондона и Восточной Англии — в Новой Англии) и что иммиграция пока еще мало затронула крестьянство, тем не менее в первых американских колониях были представители разных социальных слоев из различных частей их родной страны.
Американские условия жизни стимулировали единообразие даже в более мелких масштабах, как, например, на территории Новой Англии. Около 70 процентов поселенцев Плимута, Уотертауна, Дедэма и Гротона в Массачусетсе XVII века, о которых имеются сведения, по всей видимости, прибыли из Лондона и графств Восточной Англии; остальные были из других мест. Наиболее важно то, что представители властей не говорили все на одном диалекте и, таким образом, не могли навязать тот или иной диалект в качестве языка общины. Произношение, которое можно определить по текстам полуграмотных писцов городов Новой Англии, прибывших из разных частей Англии, дает основание предполагать, что тогдашняя речь отличалась удивительным единообразием и была очень близка к общепринятой английской речи.
Путешествовавшие в XVIII веке по Америке отмечали не только отсутствие диалектов, но и поражались тому, что американцы из всех слоев общества говорили на правильном, грамотном английском языке. Преподобный Хью Джоунс, находясь в Виргинии, отмечал в 1724 году, что «плантаторы и даже местные негры, как правило, говорят на хорошем английском языке без специфического говора и могут мило вести беседу на многие распространенные темы». Член Губернаторского совета Роберт
313
Картер предпочитал нанимать для своих детей домашнего учителя не из шотландцев и англичан, а из образованных американцев «по соображениям английского произношения». В XVIII веке преподаватели колледжа Уильям-энд-Мэри уделяли особое внимание тому, чтобы студенты осваивали правильное произношение. Путешествуя по колониям в 1764 — 1765 годах и оказавшись в Филадельфии, шотландец лорд Адам Гордон писал: «Здесь меня больше всего удивила правильность языка; английский, на котором говорят все слои общества, по своей чистоте и совершенству превосходит все, что можно услышать в любом районе Лондона, кроме изысканных».
Некоторые дошли до того, что утверждали, будто колонисты «вообще говорят по-английски лучше, чем англичане». И даже критически настроенные люди соглашались с этим. Преподобный Джонатан Бучер (1737 — 1804), который около пятнадцати лет прожил на Юге, учил пасынка Вашингтона Джона Парка Ка-стиса, а во времена Революции был одним из ведущих лоялистов, провел много лет над составлением «Глоссария архаичных и местных слов». Он понимал, что на самом-то деле отсутствие диалектов в Америке обедняет язык, и тем не менее считал «замечательным явлением то, что Северная Америка отличается не только широко распространенным чистейшим произношением английского языка, с которым сталкиваешься повсюду, но и его полным единообразием».
Характеристика американской речи в период,непосредственно предшествующий Революции,в сжатом виде была дана Уильямом Эддисом в его письме из Америки от 8 июня 1770 года:
В Англии почти каждое графство отличается своеобразным диалектом; жителей не столь уж отдаленных друг от друга мест различают даже несходные привычки и взгляды; а вот в Мэриленде и соседних с ним провинциях, следует заметить, повсеместно существует поразительное сходство в речи, и истинная правда, что произношение большинства людей — правильное и изысканное на самый взыскательный вкус.
Колонистами становились искатели приключений, прибывшие не только из самых различных уголков Великобритании и Ирландии, но также почти из каждой европейской страны, где принципы свободы и коммерции давно уже эффективно действуют. Поэтому разве не разумно предположить, что английский язык должен быть сильно исковеркан в результате этого странного смешения представителей разных национальностей? Однако на деле получилось обратное. Язык прямых потомков столь разношерстных предков совершенно одинаков и ничем не испорчен; в нем нет ни местных слов, ни акцента, заимствованных от британских или иностранных родичей.
Что касается меня, то я признаюсь, что абсолютно не в состоянии объяснить очевидную разницу между колонистами и живущими на родной земле людьми, имеющими тот же уровень образования и достатка. Это единообразие языка существует не только на побережье, где значительно число людей
314
из Европы, но также и во внутренних районах страны, где население хотя и медленно, но увеличивается и где редко предоставляется возможность извлечь пользу от общения с образованными приезжими.
В колониальный период сопротивляемость американского языка заимствованным и новообразованным словам свидетельствовала о силе стремления к единой английской речи. Бездумная ассимиляция иностранных слов могла бы привести к возникновению полуанглийского наречия, англо-китайского гибрида языка или papiamento по типу тех языков, на которых говорят в Карибском бассейне или в некоторых частях Юго-Восточной Азии. Но этого не случилось. У английских колонистов была масса возможностей включить в свой язык французские и немецкие слова, и то, что они этого не сделали, удивительно вдвойне. До Революции из немецкого языка было заимствовано совсем немного слов, и это несмотря на то, что в Пенсильвании, Виргинской долине, Джорджии и других местах жило несколько общин, говорящих на немецком языке. И только лишь после покупки Луизианы (1803), после колонизации бассейна Миссисипи и особенно во время и после войны США с Мексикой (1846—1848) было взято много слов из испанского языка. До Революции, до покупки Луизианы и до усиления контактов с французами в северо-западных пограничных районах не было значительного заимствования и из французского языка, хотя несколько важных слов, таких,как portage (переноска, перевозка), chowder (похлебка), cache' (запас провианта), были заимствованы намного раньше, bureau (контора, отдел) и prairie (прерия, степь) — непосредственно перед Революцией. Некоторые из самых ранних заимствований были из голландского языка, например «босс» и «янки», но в целом заимствований из голландского языка было немного.
В течение колониального периода наибольшее, по всей вероятности, пополнение английского языка в Америке шло по двум узким направлениям: заимствование индейских слов и образование новых сочетаний английских. Индейские слова в большинстве были географическими названиями, особенно названиями природных образований, как,например, Массачусетский залив; или это были слова, относящиеся к индейским социальным структурам, жизни индейцев, предметам обихода, выращиваемым ими зерновым культурам: hominy (дробленая кукуруза), toboggan (тобогган, сани), pemmican (пеммикан, высушенное мясо), mackinaw (шерстяное одеяло), moccasin (мокасин), papoose (ребенок), sachem (вождь), powwow (жрец, церемония заклинания), tomahawk (томагавк), wigwam (вигвам),
315
succotash (блюдо из зеленой кукурузы, бобов и соленой свинины), squaw (индианка, женщина, жена). Все эти слова вошли в употребление еще до середины XVIII века. Незнакомые переселенцам растения и животные Америки стимулировали появление новых сочетаний из привычных английских слов: bullfrog (лягушка-бык, лягушка-вол), mudhen (американская лысуха), catbird (американский дрозд), catfish (полосатая зубатка), muskrat (мускусная крыса, ондатра), razorback (кит-полосатик), gartersnake (неядовитая змея), groundhog (лесной сурок); условия американской жизни породили такие слова, как backwoods (лесная глушь), backstreet, backlane (улица или переулок на задворках), backlog (большое полено), backcountry (захолустье), а часть старых английских слов приобрела новое значение, соответствующее американскому ландшафту: bluff (обрыв, отвесный берег), cliff (отвесная скала, утес), neck (коса, перешеек, узкий пролив), bottoms (низменность, долина), pond (пруд), creek (рукав реки, приток, ручей). От некоторых из этих новообразований уже исходил слабый аромат той обильной и острой приправы к языку, которая неминуемо должна была сдобрить его в начале XIX века. Но до Революции единственной поразительной новой чертой, которую английский язык приобрел в Америке, было его единообразие.
Само понятие «американизм», означающее выражение, появившееся в Америке или преимущественно там используемое, не было известно до 1781 года, когда Уизерспун впервые его употребил. До этого момента в нем практически не было большой нужды. Порывистость и чрезмерность, буйство (этим определением мы обязаны Дейви Крокетту) жаргона приграничья и Дикого Запада, цветистая ура-патриотическая напыщенность речи ораторов 4 июля — все это, кажущееся столь американским, пришло не из XVIII века, а из XIX. Заимствования из французского, испанского, итальянского, немецкого и идиша, а также слова, произвольно созданные коммерческой фантазией, такие, как Kodak («Кодак»)’ и Sanforized (декатировано) ”, были тоже порождены американскими условиями жизни XIX и XX веков: широким притоком иммигрантов, индустриализацией, массовым производством товаров, смешением национальностей в больших городах, расширением рекламного дела и выпуском национальных журналов, развитием радио и телевидения. Словарный состав
** Название фирмы.
Пометка на ярлыке изделия, означающая специальную обработку ткани.
316
языка стал явно американским по крайней мере полвека спустя после провозглашения Декларации независимости. Экспансивный, бодрый, разноликий и авантюрный дух Англии елизаветинских времен должен был обрести свое более позднее подобие в Америке XIX века; дух отважных поисков, свойственный этим двум эпохам, выражался в жизнеутверждающем, изобретательном и экспериментальном характере языка. «Черты елизаветинской эпохи в американском английском языке, — заметил Крэпп, — являются не наследственными, а приобретенными на американской почве».
В течение всего колониального периода американская речь оставалась консервативной, все более тяготея к единообразию. Люди, не говорившие по-английски, были склонны к быстрой ассимиляции. Например, весьма быстро ассимилировались французские гугеноты, искавшие убежища в Америке после отмены в 1685 году Нантского эдикта. Многочисленные немцы, прибывавшие в Америку в XVII веке, временами даже целыми общинами, и расселявшиеся в Пенсильвании и Виргинской долине, иногда сохраняли видоизмененный немецкий диалект для общения между собой, но их язык оказал ничтожное влияние на американский английский. Новые иммигранты надеялись попасть в высшие социальные слои, где уже говорили на американском английском, и это побуждало их учить язык, на котором общались окружающие. Говоря на «ломаном английском», родители сами стремились к общепринятому языку и надеялись, что их дети смогут преуспеть в этом мире.
42
В ПОИСКАХ СТАНДАРТА
Как только грамотные люди Америки XVIII века поняли, что у них есть собственный язык, они начали проявлять излишний восторг перед литературным языком Англии. Вероятно, это было типичным явлением для колоний: люди, которые все еще чувствовали неустойчивость своей новой культуры, старались обрести уверенность, демонстрируя, что они могут быть даже лучше живущих на родине. Они напоминали кузена-провинциала, который, собираясь в большой город, старается принарядиться. Колониальный стиль мышления породил определенное отношение к языку, которое до сих пор сказывается в жизни каждого американского школьника и до сих пор влияет на американское произношение.
317
В этой области, так же как и во многих других, Бенджамин Франклин был выразителем интересов колониальной Америки. Символическим отражением напряженной обстановки, существовавшей в колониальной культуре, было то, что Франклин твердо придерживался старого языкового строя, хотя без колебаний вносил в язык пустячные изменения. Его незаконченный «Проект нового алфавита и реформы правописания» (1768), в котором предлагалось упразднить за ненадобностью буквы с, w, у и j и добавить шесть новых знаков, был сложным, как большинство новых систем упрощенного правописания. Он отстаивал свой проект лишь в страстном письме к «Diir frind» («дорогому другу») Мэри Стивенсон, хотя здравый смысл давно уже должен был заставить его согласиться с Мэри, которая смогла «si meni inkanviiniensis, az uel az difikyltis» («увидеть в нем как массу неудобств, так и трудностей»). Однако, сколько Франклин ни забавлялся, подправляя правописание, он никогда не стремился в своих собственных писаниях посягнуть на апробированный английский стиль Аддисона. К традиционному английскому языку он испытывал такое же уважение, как и к традиционным правам англичан.
Франклину предстояло стать отцом пуризма в американском английском языке. В истории английского языка XVHI век называют эпохой педантов. На первый взгляд удивительно, что Франклин, будучи в самых разных сферах поборником здравого смысла и экспериментаторства, в области языка оказался одним из самых скучных. Когда Франклин послал английскому философу Дэвиду Юму экземпляр своего памфлета о Канаде и Гваделупе и в ответе ему Юм высказал некоторые критические замечания по поводу его языка, Франклин с готовностью их принял. 27 сентября 1760 года он написал, что соглашается с возражениями Юма по поводу использования таких новых слов, как pejorate (уничижительный), colonize (колонизировать), unshakable (непоколебимый): «Я признаюсь, что введение новых слов при том, что уже существуют достаточно выразительные старые слова, в принципе неверно, так как это ведет к изменению языка». Франклин выразил мнение, что было бы более приемлемым, если бы в английском языке, как в немецком, было дозволено образовывать новые сочетания из старых слов. «Я надеюсь с Вашей помощью, — заверял Франклин, — мы в Америке сделаем наиболее правильный английский Вашего острова нашим вечным стандартом, и я верю, что так оно и будет. Уверяю Вас, что через век-другой аудитория (если Вы мне позволите употребить это понятие) любо
318
го настоящего английского писателя значительно расширится за счет англоговорящего народа наших колоний. Я часто с удовольствием думаю об этом».
У Франклина никогда не было сомнений в необходимости настоящего английского. Почти тридцать лет спустя в своем знаменитом письме Ноа Уэбстеру от 26 декабря 1789 года Франклин с выражением благодарности за посвященное ему сочинение «Рассуждения об английском языке», возможно, не без иронии приветствовал проявленное Уэбстером «усердие как в сохранении чистоты нашего языка, его оборотов и произношения, так и в исправлении ошибок, которые постоянно допускают жители наших некоторых штатов». Далее Франклин посоветовал Уэбстеру обратить внимание на некоторые «ошибки», выражая надежду на то, что «в дальнейших публикациях Вы отметите их неодобрительными пометками». Франклин особенно возражал против употребления слова improved в значении employed, против превращения в глаголы таких существительных, как notice и advocate, и использования слова progress в качестве глагола, что является «наиболее нелепым и гадким из всех трех». В этом письме было ничтожно мало того, чего бы не мог написать сам доктор Джонсон. От письма исходил дух эпохи педантов.
Мы порой забываем силу примера Франклина в том, что касается конформизма и «чистоты» языка. Одной из причин его высокой репутации среди американских писателей, как отмечал Джон Пикеринг в 1816 году, было то, что «Франклин принадлежал к числу очень немногих американских писателей, чей стиль удовлетворял английских критиков». Из успеха Франклина всеми был сделан вывод: чтобы писать на хорошем языке, необходимо придерживаться надежных английских образцов. Как проницательно заметил Генри Кэбот Лодж, почти вплоть до середины XIX века «на первых порах своей карьеры начинающий американский литератор вынужден был выдавать себя за англичанина для того, чтобы получить одобрение вовсе не англичан, а своих соотечественников».
В конце XVIII века американцы, описывая особенности американского языка, почти всегда из благих побуждений делали (говоря словами Франклина) «неодобрительные пометки». Преподобный Джон Уизерспун, например, в своих эссе «Друид» (1781) ратовал за «чистоту и совершенство» языка. По его мнению, усиленное стремление американцев к единообразию, т.е. к единой речи для всех социальных слоев, на самом деле угрожало чистоте языка, поскольку вульгаризмы, употребляемые каким-либо общественным классом или в какой-либо части
319
страны, быстро оказывали пагубное влияние на речь остальных, включая «ученых и общественных деятелей».
К четвертому классу неправильностей в языке относятся местные выражения и слова. Под этим я подразумеваю такие вульгаризмы, которые существуют в одной части страны и которых нет в другой. В Англии подобного рода вульгаризмы распространены значительно шире, чем в Америке. Из всего населения страны в основном простые люди никогда далеко не уезжают с тех мест, где они родились и выросли. В результате существует много характерных различий не только во фразеологии, но и в произношении, одежде, обычаях и т.д. не только между графствами, но даже между городами одного и того же графства...
И поскольку в Англии гораздо больше, чем в Америке, местных вульгаризмов, именно по этой причине опасность, что их будут использовать ученые и джентльмены, гораздо меньше. И действительно, сама суть явления заключается в том, что местное выражение не употребляется никем, кроме родившихся в данной местности или живущих в ней. Однако я убежден, что в Америке даже местные вульгаризмы намного легче, чем в Европе, проникают в речь людей, занимающих более высокое положение.
Этим поиском «более чистого» английского, под которым чаще всего просто подразумевался «наиболее английский английский», специалисты занимались даже в XIX веке. Менкен высказал мнение, что с начала Революции до 1800 года в язык вошло больше американизмов, чем в любой другой период с первых дней колонизации до массового движения на Запад. Отчасти из-за этой волны новообразований в языке американские пуристы активизировали свою деятельность. «Он (язык) отошел от английского стандарта уже настолько далеко, — предупреждал в 1816 году Джон Пикеринг, — что нашим ученым следует как можно быстрее взяться за восстановление чистоты языка и стремиться предотвратить его дальнейшую порчу».
Среди активных радетелей за возвращение к более чистому английскому языку был не кто иной, как святой покровитель американского лингвистического национализма Ноа Уэбстер. Если что и объединяло все труды Уэбстера, так это стремление к очищению американского языка; он собирался осуществить его, возвратив язык на уровень «лучшего» языка «лучшего» периода в истории Англии. Когда Уэбстеру был всего лишь тридцать один год, он опубликовал труд «Рассуждения об английском языке» (1789), в котором полностью выразил свои идеи. Там была изложена теория (которой он в основном придерживался вплоть до 1806 года), что каждый язык в определенные периоды достигает своего апогея.
Однако, когда язык достигает определенной степени совершенства, он должен либо остановиться в своем развитии, либо пойти вспять,так как
320
дальнейшие достижения в науке либо прекращаются, либо замедляются, либо становятся слишком незначительными, чтобы ощутимо влиять на язык. Эта стадия совершенства приходится на тот период, когда страна изобилует первоклассными писателями, обладающими как дарованием, так и вкусом. Такой период в Англии начался с эпохи королевы Елизаветы и закончился правлением Георга П. Для языка было бы лучше всего, если бы стиль письма и произношение слов остались теми же, какими были при королеве Анне и ее преемнике. С тех пор внесены некоторые усовершенствования, однако в произношении были допущены многочисленные искажения Гарриком, а в стиле—Джонсоном, Гиббоном и их подражателями.
Уэбстер настойчиво убеждал не в больших преимуществах нового американского языка, а в больших возможностях, открывающихся в Америке, для восстановления «английского языка в его чистоте». Воистину опасными новаторами, утверждал он, являются английские писатели конца XVIII века; нельзя допустить, чтобы их пример пагубно отразился на американцах. Английские критики, обратившие внимание на «искажения» в американском языке, просто показали свое невежество.
Исследуя язык и сравнивая разговорную речь йоменов нашей страны со стилем Шекспира и Аддисона, я вынужден заявить, что люди в Америке, особенно потомки англичан, говорят на самом чистейшем в современном мире английском языке. В нем едва ли можно найти привнесенную идиому, под чем я подразумеваю выражение, которое никогда не использовалось лучшими английскими писателями со времен Чосера. Они сохраняют отдельные устаревшие слова, от которых отказались писатели, возможно и чисто искусственно, так как слова, которыми заменяют устаревшие, не являются ни более мелодичными, ни более выразительными. Во многих случаях американцы сохраняют правильные обороты речи, вместо которых так называемые облагораживатели языка ввели обороты,в высшей степени неточные и абсурдные.
В этом же консервативном ключе Уэбстер был готов оправдывать даже свою реформу правописания. Когда его упрекали в том, что он вводит новшества всего лишь с целью упрощения, он твердо стоял на своих позициях. «В тех немногих случаях, когда я пишу слова несколько иначе, чем их пишут сегодня,—заявлял Уэбстер в 1809 году, — я не вношу новшества, а отвергаю их. Когда я пишу fether, lether и mold, я ничего другого не делаю, как привожу слова к их оригинальной орфографии, так как никакого другого написания не было в наших ранних английских книгах». Он искал «примитивно-этимологическую орфографию», которая наряду с очищением стиля «вернет языку его былую чистоту». То же самое было и с произношением. «Вы произносите deaf как def, мы же — как если бы это слово писалось deef, — сказал Уэбстер двадцать лет спустя приехавшему в Америку английскому морскому офицеру капитану Бэзилу Холлу, — и так
321
как это произношение правильное, а вы от него отказались, я буду твердо придерживаться американской формы».
В своем сильном увлечении чистотой и единообразием американского языка Уэбстер явно недооценил, насколько много появилось американских слов и насколько широко распространилось американское словоупотребление. В своих «Рассуждениях» он выражал сомнение по поводу того, что в американском обиходе наберется сотня английских слов, которые не были бы понятны всем, «исключая слова, используемые сугубо на местном уровне». Почти сорок лет спустя, в год публикации его «Американского словаря английского языка» (1828),он хвастался капитану Холлу, что «нет и пятидесяти слов, которые используются в Америке и не используются в Англии». Так называемый «Американский словарь», составленный Уэбстером, был обильно снабжен примерами из американских авторов, однако, как заметил Томас Пайлс, другой причины называть его «американским» не было.
Тем не менее Ноа Уэбстер был истинным американцем, и это проявилось особенно тогда, когда он искал внешний (пусть даже английский) стандарт американского языка. В его страсти к законам в области лингвистики отражалась как в капле воды страсть американцев к писаным конституциям и другим видам законодательства. Это было выражением непрочности культурной основы колониального народа, а после 1776 года стало отра-жать стремление к становлению нации.
Однако каким образом стандарт мог быть установлен? Еще в 1724 году преподобный Хью Джоунс, который в ту пору преподавал математику в колледже Уильям-энд-Мэри, выражал желание, чтобы «общественный стандарт был установлен» с целые «направлять последующие поколения и предотвращать отклг нения от нормы и досадные искажения и неправильности в нашей письменной речи и выражениях». В 1774 году другой автор вероятно Джон Адамс, на страницах «Ройял америкэн мэгэзин» утверждал, что если такое множество людей на такой огромной территории говорит на одном и том же языке, то возможности «совершенствования» английского языка могут реализоваться путем создания «Американского общества друзей языка». Губернатор Нью-Гэмпшира, принадлежавший к лоялистам, напра вил это предложение в Лондон государственному секретарю п<> делам колоний. Несколько лет спустя после того, как стран-стала независимой, Джон Адамс обратился к президенту конгресса с предложением 5 чтобы конгресс учредил академию . целью «исправления и улучшения английского языка и устаноъ-
322
ления его статуса». То, что в Англии никогда подобной акаде-мии не было, делало еще более значительным факт ее создания в Америке. «У каждого человека в любой части континента будет общий стандарт языка, который станет для него образцом как в произношении, так и в определении значения слов, и это окажет благотворное влияние на союз штатов». В 1806 году в сенат был представлен законопроект о создании такой академии и с одобрительной оценкой доложен комитетом, одним из членов которого был Джон Куинси Адамс; однако, когда была внесена поправка о том, чтобы в названии академии опустить слово «Национальная», проект был похоронен. При случае и Ноа Уэбстер отстаивал необходимость законодательства для утверждения статуса языка и сохранения его чистоты, но в помощи конгресса он особенно не нуждался. В своей епархии он стал кем-то вроде диктатора и, как все диктаторы, предпочитал провозглашать законы сам. Все это было лишь первыми шагами в продолжавшейся вплоть до нашего века череде настойчивых попыток использовать законодательство или школьного учителя для сохранения чистоты и сугубо американского характера языка.
К концу XVIII века наблюдательные американцы стали замечать, что, несмотря на широко распространенное единообразие языка в колониях или, возможно, в результате этого явления, по эту сторону океана не появилось никакого слоя населения, никакой местности, где могли бы со знанием дела судить о правильности языка. «Мы находимся на огромном расстоянии от островной Великобритании, которой самой еще предстоит найти стандарт языка, — заметил в 1781 году доктор Уизерспун.— Каждый штат равноправен по отношению к другому штату и независим от него; и я уверен, что ни один из них не согласится, по крайней мере в ближайшее время, принять законы другого шт<^ та в том, что касается как речи, так и действий. Время и случай должны определить, чем все это обернется, будем ли мы продолжать рассматривать язык Великобритании в качестве образца, по которому нам следует формировать свой; т.е. в нашей новой империи не найдется какого-либо классического центра знаний, достаточно влиятельного для того, чтобы предписывать правила устной и письменной речи». По мнению доктора Джонсона, отсутствие культурной основы, сильное рассредоточение населения и большая протяженность Америки служили объяснением варваризмов в американском языке: «Разбросанная пе бескрайним просторам Америки нация напоминает лучи, исходящие из центра. Лучи остаются, а тепла нет ». Явление, которое амбициозный доктор пренебрежительно назвал «американским
323
диалектом», просто отражает «искажения, которым неминуемо подвержен каждый широко распространенный язык».
В начале XVII века, когда появились первые американские колонии, каждый писал, как ему вздумается. Орфография, так же как стиль и содержание, отражала причуды и индивидуальность автора или печатника. Только к началу XVIII века орфография всех основных английских авторов стала достаточно схожей; и с изданием «Словаря» доктора Джонсона (1755) у писателей появился стандарт, который приняли почти все. Для поднимающегося среднего класса было весьма удобно иметь путеводитель по проложенным высшими классами тропинкам лингвистической изысканности. Это было особенно важно для Англии, где язык долгое время был (и остается до сих пор) показателем социально-классовой принадлежности; умение говорить и писать на «стандартном» языке правящей аристократии было необходимо,чтобы обладать и другими ее привилегиями. И поэтому неудивительно, что в конце XVIII и начале XIX века появилось беспрецедентно большое количество словарей, грамматик и справочников правильной речи. Эти «лингвистические эмили посты» открывали перед людьми возможности с естественной простотой говорить и писать,как «лучшие».
Доктор Джонсон и его друзья тори должны были бы ужаснуться, обнаружив, что доктрина о «правильности» языка, гласящая, что говорить хорошо — это говорить по-книжному, а говорить по-книжному—это говорить хорошо, поможет людям низкого происхождения пробивать себе дорогу (с грамматикой и словарем в руках) в лучшие гостиные и салоны. До появления руководств по правильному словоупотреблению человек перенимал разговорную речь от своих отца и матери, так же как перенимал их манеры и осваивал по их примеру свое место в обществе. Возможно, не было более непринужденного и нецеремонного языка, чем тот, на котором английские аристократы вели беседы в гостиных в XVII и XVIII веках и от которого остались такие реликвии, как обороты ain’t и hain’t. До середины XVIII века человеку не нужно было осознанно учить «правильный» язык своего класса, да он и не нуждался в обучении, поскольку впитывал его с молоком матери. Сама идея, что существует единая «правильная» речь, которой с помощью книги-руководства может овладеть любой грамотный человек, была подрывом старых устоев и традиционной кастовости. Нетрудно догадаться, почему подобный взгляд на язык как раз подошел Новому Свету.
324
43
КУЛЬТУРА ПО КНИГАМ: ФЕТИШИЗАЦИЯ ПРАВОПИСАНИЯ
Самым влиятельным американским специалистом по языку был Ноа Уэбстер — мастер правописания Америки. Колоссальная популярность его книг по орфографии (до конца XIX века их было продано более шестидесяти миллионов экземпляров) являлась и симптомом,и символом мобильности американского общества. «Книга американского правописания» Уэбстера, «содержащая доступный стандарт произношения», появилась в 1789 году, однако, по замечанию самого Уэбстера, спрос на нее показал, что нужда в подобной книге была давно.
В Америке большую популярность получил обычай или игра, которая широким привлечением участников помогла сделать «правильную» речь доступной всем. Это были конкурсы на знание орфографии,так называемые «Spelling-bee» (конкурсы грамотеев), и слово «Ьее»* в данном значении является, таким образом, американизмом. В этом общественном мероприятии соревнующиеся и аудитория доказывали, что нет никакого секрета в том, как наиболее «правильно» говорить и писать на общем для них языке и, следовательно, что высший класс лингвистики открыт для всех. Уже во время Революции проходили конкурсы грамотеев, особенно в Новой Англии. Однако еще в 1750 году Франклин предложил проводить публичные соревнования по орфографии; во второй половине XVIII века состязания по правописанию глубоко вошли в жизнь американских школ. В сельскохозяйственных общинах и в западном приграничье, где умение правильно писать особенно ценилось как признак культурности, этот обычай снова возродился в XIX веке, о чем, например, писал Брет Гарт в своем произведении «Конкурс грамотеев в Энджелсе», где из уст Трутфула Джеймса мы узнаем:
Смотри, что творится,— все умными стали, В «очко» и в «железку» играть перестали. И только во Фриско на каждом углу Зовут грамотеев сражаться в «пчелу».
На конкурсе, описываемом Бретом Гартом, все шло спокойно, даже когда это касалось таких слов, как separate, parallel и rhythm, но когда дело дошло до написания слова gneiss, старате-
В первоначальном значении «пчела».
325
ли сочли необходимым разрешить этот вопрос с помощью охотничьих ножей.
Придание особого значения «правилам» правильной речи и письма оказало глубокое влияние на отношение американцев к произношению. Это объясняет их склонность «произносить как пишется», что до сих пор является, возможно, наиболее важным различием между английским и американским произношениями. Уже очень давно американцы, глядя на написание того или иного слова, старались определить, как же это слово «следует» произносить. Казалось, это даст стране, у которой нет культурной основы и задающей тон интеллектуальной аристократии, готовый стандарт произношения.
Нам стало настолько привычным npoH3iijvHTi слова так,как они пишутся, что трудно себе представить, что тпядация произносить слова по сложившейся привычке, а не написанию может быть старее и «грамотнее». Тем не менее похоже, это так и было. Произношение,случайно сложившееся в силу традиций и социальной принадлежности, а не на основе учебников по орфографии, существовало в языке Англии давным-давно.
Наше устойчивое произношение на основе написания проявляется само в привычке сохранять полноту слогов. В таких длинных словах, как secretaiy, explanatory, laboratory и cemetery, мы сохраняем полноту всех слогов, включая предпоследние. Англичане же почти опускают эти слоги и произносят secretTy, explanat’ry, laborat'ry и cemet’ry. Это только несколько примеров упорства американцев должным образом отражать в произношении каждый написанный слог. Некоторые из приведенных выше случаев произношения, оказалось, имеют непростую историю, поскольку сохраняемое второе ударение на предпоследнем слоге, например в слове secretaiy, по всей вероятности, было также характерным и для разговорного языка Англии в XVII и XVIII веках. Однако если в Англии эти слоги были постепенно утрачены, в Америке они старательно сохранялись. Это не меняет дела, а просто показывает, что произношение американцев, основанное на написании, как и многое другое в нашей речи, консервативно. Наше почтительное отношение к орфографии как к руководству по произношению настолько глубоко в нас укоренилось, что мы сохраняем стиль речи, который в Англии довольно быстро отмер. Конкурсы грамотеев имели ту же цель — сохранить полное воспроизведение слогов и обеспечить буквальность в произношении. В давние дни правописанию обучались, прочитывая слова из учебника по орфографии вслух, буква за буквой, слог за слогом: «о, г — or; d,i — di; n,a — па; г,у — ry; ordinary». Те, кого
326
обучали языку по этому методу (часто прибегая к соревнованиям между командами), должны были на всю жизнь овладеть навыками тщательности, взвешенности и буквальности в произношении. Наша слабость произносить слова, исходя из их написания, повлияла на произношение имен собственных, в особенности географических названий. В Англии произношение имен собственных уходило корнями в сложившуюся по воле случая традицию, но американцы, слышащие, что Worcester произносится как Wooster, склонны и писать его соответствующим образом; Birmingham всегда произносится американцами точно и полностью, а не с пропусками гласных, как это свойственно англичанам.
Часто подвергавшаяся нападкам со стороны искушенных учеников «диктатура школьной учительницы» умеряла наш энтузиазм и изобретательность. Однако учительница, так же как и ее предшественник, школьный учитель, провозглашавшая доступные правила пользования языком, способствовала стиранию классовых различий и созданию еще одной возможности продвижения в нашем мобильном обществе. Кто бы мог предугадать, что определенный до мелочей стандарт языка будет содействовать развитию свободного и эгалитарного общества?
Г.Л.Менкен определил в обобщенном виде более широкое значение особой точности американской речи:
Это вкратце можно охарактеризовать как проявление влияния класса, лишь недавно приобретшего вес в обществе и, следовательно, не совсем уверенного в себе,—класса, представители которого изо всех сил стараются не выдать говором своего плебейского происхождения... Таким образом, правильность речи становится отличительной чертой именно тех, кто только что добился успеха в обществе. Несомненно, что подобных людей всегда было больше в Соединенных Штатах, чем в Англии, и не только из числа богатой и изысканной аристократии, но также и из интеллигенции. Типичная американская школьная учительница — главный хранитель лингвистической пунктуальности в республике,— как правило, не является представительницей класса с культурными традициями, а вышла или из среды мелких фермеров, или мелких чиновников, или из рабочей среды. Я думаю, что то же самое можно сказать даже о типичном преподавателе американского колледжа. Эти люди выступают за чистоту речи и обучают этому исходя не только из логических посылок; без сомнения, это помогает им скрыть неуверенность в своей собственной культурности. От них исходит большинство ничем не обоснованных правил и инструкций, которые приводят в отчаяние школьников и раздражают писателей. Они являются главными открывателями и разоблачителями «плохого английского» в произведениях таких величин, как Уитмен, Марк Твен и Хоуэлле. Но было бы ошибкой считать их влияние целиком или даже по большей части пагубным. Они героически боролись с распространением среди нас диалектов и делали это с таким успехом, что нигде в США ныне не существует ничего подобного ни подвываниям кокни, чрезвычайно неприятным для слуха, ни их же столь бе
327
зумным манипулированиям с h. И они до такой степени привели в порядок общепринятую речь, что даже у тех, кто говорит самым вычурным языком, фактически нет того глупого жеманства, которое до сих пор свойственно литературному английскому языку.
Американский язык своеобразно отразил характерную особенность американской культуры: с одной стороны, грамотность, с другой — отсутствие литературности. Стандарт печатного слова предполагает широкое распространение грамотности; диктатура школьной учительницы была бы абсолютно невозможной, если бы каждый американец не попадал под ее руководство через систему всеобщего образования в общественных школах. Более того, если бы в Америке существовала мощная объединенная литературная аристократии, способная сделать свою случайно сложившуюся манеру речг: критерием для всех образованных людей, образцы точное"", из учебников были бы излишни и неспособны выполнять свою роль. Грамотность замещает аристократию. Исследователи языка отмечают, что тенденция к приведению разговорной формы слова в соответствие с письменной «в целом усиливается по мере того, как печатная и письменная формы языка все более проникают в языковое сознание народа». В то время как эта тенденция проявлялась в Англии не так заметно, в Америке она была гораздо более сильной. «Каждая новая группа американских граждан, — отмечает Крэпп,—входила во владение языком не как естественным наследством и не как привилегией, а должна была приобретать его как нечто, требующее собственных умственных усилий и учения». В процессе обучения чтению, письму и разговору на общепринятом языке многие народы слились в единую нацию.
Первые поселенцы Новой Англии, грамотные представители среднего класса, сторонники начального образования, должны были приложить много усилий, чтобы прежде всего добиться единообразия. Школьный учитель — янки, так же как и янки — мелкий торговец, много путешествовал по стране, и всегда у него была с собой книжка по орфографии, служившая мерилом разговорной респектабельности. В начале XIX века хозяин лавки в Новой Англии мог иметь для покупателей «все: виски, мелассу, набивной ситец, книги по орфографии, патентованные наборы инструментов». Ноа Уэбстер прекрасно воспользовался тем обстоятельством, что единообразие американского языка зависело от школьного образования и всеобщей грамотности. В своей книге «Рассуждения об английском языке» он утверждал: «Ничто, кроме создания школ и установления определенного единообразия в пользовании книгами (предпочтительнее всего
328
справочником по орфографии Уэбстера!), не сможет уничтожить различия в разговорной речи и сохранить чистоту американского языка». Но это было бы невозможным без высокого уровня жизни и грамотности:
Пусть англичане заметят себе, что, когда я говорю об американских йоменах, то имею в виду, что их не следует сравнивать с безграмотными крестьянами их собственной страны. Йомены нашей страны — это крепко стоящие на ногах независимые землевладельцы, хозяева собственной судьбы и собственной земли. Это достаточно образованные люди. Они обучены не только чтению, письму и ведению счетов, но очень многие из них еженедельно читают газеты и, помимо Библии, которую можно найти в каждой семье, читают выдающиеся английские проповеди и трактаты по религии, этике, географии и истории, например труды Уоттса, Аддисона, Эттербери, Сэлмена и др. В восточных штатах общественные школы дают вполне удовлетворительное образование всем детям и оказывают почти на всех благотворное влияние.
Уэбстер, безусловно, горячо верил в насаждаемый извне стандарт печатного языка. От человека, сделавшего состояние на книге по орфографии, трудно было ожидать чего-либо иного. В прошении Уэбстера об авторском праве на его учебники, а также в их вступительной части было написано, что цель этих книг — «устранение неправильностей и искажений, которые, к несчастью, портят разговорную речь благовоспитанной части американцев... и, что наиболее важно, обеспечение правильного и единообразного произношения... путем устранения явных различий в местных диалектах, являющихся объектом взаимных насмешек жителей разных штатов».
Законодательствуя в области языка, Уэбстер в то же время отрицал, что ставит перед собой цель быть законодателем. Он говорил, что подобное законодательство излишне, так как истинным авторитетом в вопросах языка является американский народ. Бесспорно, среди прочего Уэбстер имел в виду и это, когда в предисловии к своему «Словарю» процитировал Франклина: «Наиболее грамотно пишут те, кто не знает орфографии». По словам Уэбстера, беда большинства тех, кто писал о языке прежде (особенно из англичан), заключалась в том, что они пытались диктовать свои правила, и, «вместо того чтобы попытаться разобраться, что есть английский язык, они стремились показать, каким ему следует быть, исходя из этих правил». В подтверждение своих мыслей Уэбстер писал: «Нормой правильности является общепринятая в народе практика, и с ней по крайней мере надо считаться, когда дело касается такого важного вопроса, как установление законов разговорной речи». Уэбстер находил свои стандарты в «правилах самого языка» или, как
329
гласит выражение, которое он не мог часто не повторять, в «общепринятой в народе практике».
В своих «Рассуждениях» Уэбстер замечал, что истинно демократическое уважение к народным традициям возможно лишь в стране социального равенства. В Англии, пояснял он, призыв к единому словоупотреблению, которое только и очищает и оживляет язык, был невозможен по той простой причине, что небольшая изолированная кучка аристократов, кичащаяся своими привилегиями, возвеличила свои особенности речи.
Когда все люди занимают прочное положение и никакие индивидуальные черты не считаются вульгарными или смешными, каждый наслаждается истинной свободой. Но когда определенная группа людей, занимающих высокое положение, осмеливается утверждать: «Мы являемся эталонами правильности и элегантности, и все несогласные с принятой у нас практикой речи будут считаться вульгарными и невежественными», — они уж слишком свободны в обращении с правилами языка и нормами благовоспитанности.
Однако попытка установить стандарт речевой практики людей того или иного социального слоя чрезвычайно абсурдна: один из моих друзей однажды заметил, что подобную попытку можно сравнить с установкой маяка на плавучем острове. В этой попытке заключено стремление зафиксировать то, что по своей сути изменчиво; по меньшей мере это должно быть изменчиво, пока предполагается, что стандартом местной речевой практики является лишь сама местная речь, то есть другого стандарта, кроме нее самой, не существует...
Но это еще не все. Если речь немногих людей в столице считать эталоном, то практика этой речи должна быть распространена на всю страну. Кто же это сделает? Человек, способный к обобщениям, возможно, попытается отразить эту практику в словаре; но ведь произношение даже в суде или на сцене отнюдь не одинаково. Таким образом, составитель словаря должен брать за образец своих друзей и патронов; и в том и в другом случае ему обязательно будут возражать, а значимость предложенного им стандарта будет ставиться под сомнение; или же ему придется в качестве стандарта дать два варианта произношения, что оставит пользователя словарем в таком же затруднительном положении, в каком он и был. И первый и второй варианты были испробованы в Англии даже с наиболее признанными стандартами, но ни один из них повсеместно не прижился.
Стремление привить языковой эталон аристократов может служить лишь одним из примеров общей ошибки сделать речевую практику ограниченного круга людей общим правилом.
Вариации произношения, существовавшие на Американском континенте, отнюдь не казались Уэбстеру преградой к тому, чтобы сделать «всеобщую речевую практику» американцев эталоном для всей страны. В своей книге по орфографии он вознамерился просто отразить эту всеобщую речевую практику. «Я не моту предложить собственной системы, — подчеркивал Уэбстер. — Правилом речи должен стать повсеместно распростра
ззо
ненный обычай, и любое отклонение от него должно расцениваться как неправильность. Диалект, на котором говорят в каком-либо штате, так же нелеп, как диалект другого штата; каждый опирается на местный обычай, и ни один из них не может претендовать на превосходство». Сам воздух Америки должен был способствовать возникновению стандарта американского языка.
Как отмечал английский издатель книги Дэвида Рамсея «История Американской революции» (1791), даже до Революции американский язык уже имел свой собственный стандарт. Свободному от диалектов языку Нового Света предстояло стать самым единообразным и самым универсальным из всех языков, известных западному миру. Время докажет, что в словах Уэбстера: «Нам следует быть верными нашей речевой практике и распространенному в нашей стране обычаю» — заключалось скрытое пророчество. Основываясь на них, нам предстояло создавать образцовый американский язык, который, по словам Крэппа, «развился и продолжает развиваться в тысяче уголков страны в результате смешений, компромиссов, имитации, приспособляемости, то есть всеми возможными путями, какими меняющиеся люди в изменяющихся обстоятельствах приспосабливаются друг к другу и к новым условиям жизни». Американцы выражали одинаковый энтузиазм как по поводу языкового законодательства, так и обычаев в языке. В своем отношении к тем или иным законам американцы сочетают наивную веру в законодательство с глубоким почтением к старинным обычаям и общему праву. Это алхимическое соединение противоположностей, которое вдохнуло жизнь в нашу федеральную конституцию, дало также жизнь и нашему языку.
Именно потому, что этот пласт культуры был напрямую заимствован, он. как никакой другой, наиболее ярко отражает особенности американской жизни. Джеймс Фенимор Купер дал оценку этому явлению в 1828 году в работе «Взгляд на состояние литературы и просвещения в Американских Соединенных Штатах»:
Совершенно очевидно, что высшее общество Лондона должно быть для Англии, да и для всей империи законодателем моды в произношении слов; поскольку в это самое общество входят все те, чьи обычаи, происхождение, состояние и политическая известность делают их предметом восхищения, становится неизбежным стремление имитировать их манерность, будь то в языке или во внешнем виде, с тем чтобы создать впечатление, что ты принадлежишь к их кругу...
В Америке все обстоит совершенно по-другому. Если бы у нас была такая великая столица, как Лондон, где люди, имеющие достаток, образование
331
и свободное время, периодически собираются, чтобы скоротать время, я думаю, и у нас бы появилась задающая тон аристократия, в среде которой возник бы как определенный стиль речи, так и одежды, и поведения... у нас нет такой столицы, чтобы оказывать большое влияние на язык, да и, похоже, в обозримом будущем не будет... Привычные проявления благовоспитанности и даже произношение жителей Бостона, Нью-Йорка, Балтимора и Филадельфии различаются во многом, и натренированное ухо может отличить уроженца любого из этих городов от уроженцев других мест по едва уловимой особенности их речи. Однако заметного желания у светского общества этих городов подражать светскому обществу других мест нет...
Если бы народ нашей страны был подобен народу любой другой страны на земном шаре, мы должны были бы сейчас говорить на огромном множестве малопонятных наречий; но в действительности народ Соединенных Штатов как единое целое, за исключением небольшого количества потомков французов и немцев, говорит на английском языке, который несравненно лучше, чем тот, на котором говорят в Англии... Одним словом, мы как нация говорим на нашем языке лучше, чем любой другой народ говорит на своем. Если представить себе огромное пространство нашей страны, то правильность, с которой все произносят и употребляют слова, вызывает истинное изумление. Такое сходство в речи может быть только за счет широкого распространения интеллектуальных ценностей и неуемной активности населения, которая, в определенном смысле, побеждает пространство.
Здесь вместо «королевского английского» получил развитие «народный английский», который удивительно подходит стране без столичного города, стране, в которой у каждого есть привилегия говорить языком аристократа.
Часть одиннадцатая
КУЛЬТУРА БЕЗ СТОЛИЦЫ
Разбросанная по бескрайним просторам Америки нация напоминает лучи, исходящие из центра. Лучи остаются, а тепла нет.
Сэмюел Джонсон
Людям, являющимся философами или поэтами, у которых нет других занятий, лучше было бы закончить свой жизненный путь в Отаром Свете.
Бенджамин Раш
44
«ЛУЧИ, ИСХОДЯЩИЕ ИЗ ЦЕНТРА»
Низкое качество американских литературных произведений в колониальный период способствовало поддержанию открытого рынка для импортной продукции и придавало особое значение формам импортирования. Никогда ранее, конечно же, столь многочисленная и занимавшая широкие просторы цивилизация не была столь образованна и столь образованный народ не создавал бы меньше художественной литературы. Может быть, была некая связь между двумя этими особенностями американской культуры — между образованностью всего общества и необразованностью правящих кругов? В современной западноевропейской культуре наиболее почтенное использование печатного слова, за исключением священных религиозных текстов, имеет место в изысканной литературе привилегированных классов. О таких культурах судят по драмам, поэмам, романам и эссе, которые, подобно дворцам и замкам, являются памятниками аристократических культур. Но должны ли мы судить о нашей культуре по ее способности создавать такие памятники? Должны ли мы
ззз
надеяться посвятить большую часть американского народа в таинства аристократической художественной литературы?
Печатное слово имело иное предначертание в Америке, роль менее понятную, исходя из традиционного набора критериев у историков литературы. Исключительно американский акцент на уместность, полезность, «читательский интерес», разные вкусы сделал из печатной продукции иной институт.
Не литератор, а журналист, не эссеист, а автор практических руководств, не художник, а публицист — вот типичный представитель американской пишущей братии. Его читателя найдешь не в салоне, а на базарной площади, не в монастыре или в университетском дворике, а в парикмахерской или у камина простого человека. Его печатная продукция «объективна»: она приковывает внимание к предмету, а не к самой себе. Делая меньший акцент на форму, такое печатное слово не имеет тенденции создавать класс профессиональных «ценителей», круг посвященных, которые ценят форму ради самой формы. Здесь также американская жизнь фокусируется скорее на процессе, нежели на конечном результате: печатная продукция рассматривается не столько как «литература», сколько как информация. Эти тенденции уходят глубоко в наше прошлое и пышно расцвели отчасти потому, что в колониальный период на нащей почве еще не произрастала литературная культура.
В Западной Европе литература правящих классов была вначале написана на мертвом и чужом «классическом» языке; недоступность увеличивала ее престиж, а также могущество и самомнение тех, кто обладал ключами от античных храмов знаний. В аристократических культурах до сих пор, как правило, предполагается, что творения Древней Греции и Рима никогда не смогут быть сравнимы с работами простых современных авторов. Классическое обучение для английского правящего класса длительное время состояло в изучении античных классиков — в Оксфорде они многозначительно названы просто «великие»; предполагалось, что будущий представитель правящих классов должен познать литературу для избранных на греческом и латинском языках прежде, чем обратиться к национальной литературе. В Америке же многое в этой области должно было быть изменено. Некоторые из наиболее культурных людей могли выступать против увековечивания «классических» норм в образовании. Несмотря на такие романтические исключения, как Джордж Сэндис, переводивший Овидия в Виргинии в 1620-е годы, знание древних языков никогда не давало такого высокого, как в Англии, престижа в
334
кашей культуре. Мы качали с национальной литературы, которая приобрела грестиж благодаря своей практичности.
Поскольку книги г стличие ст разговорного гзыка нуждались в транспортировке, особенность книжной культуры в колониальной Америке (или в различных ее частях) была связана с развитием средств передвижения. Гак как книги являются физическими объектами, изготовляемыми в некоем определенном месте, они имеют тенденцию оседать неподалеку от места производства или,во всяком случае,недалеко от центров распространения. Поэтому писать о книгах Америки колониального периода так, как если бы они были повсюду одинаковыми, совершенно неверно.
В колониальный период центры импорта и продажи книг и, возможно, даже чтения располагались вдоль Атлантического побережья. Было проще пропутешествовать тысячу миль по воде, чем сотню по суше, и гораздо менее хлопотно было везти с собой дюжину книг на борту корабля в течение шести недель, чем на суше десять дней. Книжная культура состояла в значительной степени из импорта. Многие характерные черты американской жизни были связаны с этим простым обстоятельством и с особыми способами импортирования.
Книги являли собой продукт урбанизации, а до Революции не было ни одного удаленного от моря сколько-нибудь значительного города. Даже в 1790 году каждый из восьми городов с населением более шести тысяч человек находился на побережье. Следствием продвижения на Запад и строительства удаленных от моря городов явилось возникновение городских центров, которые в меньшей степени были подвержены влиянию европейской литературной культуры. Однако лишь спустя много десятилетий с тех пор, как в Америке были выпущены первые книги, они стали заменять книги, ввозимые из Англии.
Сознание американского города было устремлено через море к Лондону. «Поскольку его взоры были обращены в большей мере на восток, нежели на запад, — отмечает Карл Брайден-бо, — он больше напоминал европейское общество в американской обстановке». Более того, практически все без исключения важнейшие пути заселения Америки брали начало из какого-нибудь восточного прибрежного города. Основные города на побережье представляли собой как бы многочисленные воронки, через которые британская книжная культура втекала внутрь страны и распространялась далее в сельскую местность. Литературная культура колониальной Америки, таким образом, оста
335
валась длительное время пропущенной через городской фильтр. Единственным важным исключением была Виргиния, на территории которой множество рек и производство табака обусловили распространение книг до границ частных плантаций, но культурный поток, льющийся через всю Виргинию, уже был отфильтрован в Лондоне.
Ни один из пяти крупнейших городов не установил неоспоримого культурного господства над колониальной жизнью в целом. Несмотря на сходство в формах правления, в тавернах и дружеских развлечениях, имели место серьезные локальные различия, важные для будущего американской культуры. Мы привыкли считать Бостон культурным центром Америки XVII века, однако до 1680 года городская жизнь как Нью-Йорка (в то время все еще именовавшегося Новым Амстердамом), так и Ньюпорта, могла поспорить с бостонской. Хотя Бостон был наиболее многонаселенным из ранних колониальных городов, к 1760 году он уже уступал Нью-Йорку и Филадельфии. На протяжении XVIII столетия, таким образом, среди колониальных городов имело место состязание за лидерство: даже в первые десятилетия Филадельфия была на равных с Бостоном, а Нью-Йорк не намного отставал; Ньюпорт и Чарлстон были уже большими городами по английским провинциальным масштабам. Постепенно появились многочисленные города меньшего размера: Портсмут, Салем, Хартфорд, Нью-Хейвен, Новый Лондон и Олбани, если упомянуть лишь некоторые из них. Какой-либо приоритет если и был, то часто перемещался в ту или иную сторону. Когда Филадельфия стала самым многонаселенным городом, люди не могли забыть, что им незадолго до того был Бостон, а к концу XVIII столетия жители Нью-Йорка начали питать надежду, что они, может быть, в свою очередь потеснят Филадельфию. Однако никогда не существовало американского Лондона или Парижа, неоспоримого исторического центра, лидера в политической, культурной и коммерческой сферах.
В результате американская литературная культура, даже несмотря на магистральную связь с Лондоном, начала по-разному реагировать на локальные проблемы и многообразную жизнь континента. В последующие столетия это также будет определять книжную культуру нации. Колониальный период создал свое культурное наследие из разнообразия религиозных воззрений, из многочисленных местных способов зарабатывать на жизнь, из сотни других региональных различий, каждое из которых сделало бы гегемонию какого-то одного
336
района затруднительной. Процветание книжного импорта в нескольких колониальных городах, таким образом, расширило возможности выбора лучшей продукции.
45
БОСТОНСКИЕ «РЕЛИГИОЗНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ»
Основные библиотеки Англии, например университетские библиотеки, собирали свой фонд на протяжении многих поколений; недавно изданные книги там составляли лишь небольшую часть от унаследованных ценностей. Среди книг, закупленных для ввоза в колонии, однако, новые издания занимали более заметное место. Из приблизительно четырехсот книг, переданных Джоном Гарвардом в 1638 году колледжу, которому суждено будет носить его имя, более четверти были изданы после 1630 года. Случалось, конечно, что люди привозили с собой старые семейные собрания, однако количественное соотношение в пользу недавно изданных книг (усугубленное частыми пожарами в колониях, вроде того, что уничтожил Гарвардскую библиотеку в 1764 году) приобрело тенденцию к росту по мере того, как XVIII столетие подходило к концу. Это увеличило важность форм выборочного импортирования, характерных, например, для Бостона.
В первые годы существования Бостона книги представляли собой на удивление многочисленный и доходный товар. В 1686 году, когда городу было всего лишь полстолетия от роду, а его население составляло менее семи тысяч человек, он располагал процветающей книжной торговлей и более чем полудюжиной продавцов книг, из которых по крайней мере один сколотил солидное состояние на этом бизнесе. Сравните с книжной торговлей в наши дни в городах такого же размерам вы поймете значение книг в жизни Бостона XVII столетия.
Джон Дантон, лондонский продавец книг, который посетил Бостон с деловым визитом в 1686 году, оставил описание события, которое, несмотря на очевидное преувеличение, отражает преуспевающую отрасль книжной торговли. «Я столь же желанный для них, как подкисший эль в летнюю пору; они рассматривают мои доходы как свои потери в соответствии со старой поговоркой, что интерес не солжет». Дантон утверждал, что менее чем за пять месяцев он собрал пятьсот фунтов, причитающиеся ему по старым счетам за книги, продал большой запас
337
книг, который привез с собой, и взял заказы на еще большее количество книг, которые должен был прислать из Англии. Книжная коммерция продолжала процветать: р i 715 году Дэниел Нил отмечал, что биржа, расположенная на месте современного здания законодательного органа штата, была «окружена книжными магазинами», занимающимися процветающим бизнесом.
Позиция Бостона как коммерческого центра давала ему возможность влиять на литературный вкус и формировать круг чтения соседних колоний. «Другие правительства Новой Англии, — отмечал губернатор Томас Хатчинсон, имея в виду конец XVII столетия, — ,..не ввозили английских товаров или почти не ввозили товаров непосредственно из Англии, они снабжались массачусетскими торговцами». Но книжный рынок Новой Англии, хотя в значительной степени и более свободный, чем печатный станок, был также под контролем.
«Старый уличный торговец, — писал Коттон Мэзер в 1683 году, — наводнит эту страну религиозными и полезными книгами, если я буду его направлять, поэтому я буду направлять его и помогать ему в этом, сколько смогу». Энергичный Мэзер и его собратья — правители Бостона приложили усилия, чтобы увеличить приток книг и быть уверенными, что книги эти полезные. Когда в 1713 году Массачусетская ассамблея приняла закон против «уличных торговцев, разносчиков и лоточников», которых признанные торговцы за пределами Бостона подозревали в розничной торговле крадеными товарами (и вмешательстве в их ремесло), Мэзер совместно с бостонскими продавцами книг «обратился к Ассамблее по поводу того, чтобы ее последний закон против разносчиков не помешал уличным торговцам распространять религиозные книги по стране».
После упоминания о «религиозных и полезных книгах» Мэзер тщательно охарактеризовал печатную продукцию, которую властители дум и бостонские закупщики книг импортировали для города и глубинки. Насколько мы можем судить, на бостонском рынке преобладали книги религиозные и дидактические. Интересное тому свидетельство содержится в счетах Джона Ашера, бостонского продавца книг. В 1682 году Ашер получил из Лондона около восьмисот книг, по-видимому отобранных для него английским поставщиком. Около половины были религиозными, около одной пятой — романы и беллетристика, почти пятую часть составляли учебники: к другим значительным категориям относилась литература по навигации (60 томов), историческая литература и книги с путешествиях (45 томов) и медицинские книги (12 томов). Такое
338
соотношение должно было представлять мнение лондонского продавца книг относительно вкусов Новой Англии, но аналогичные счета через три года, если судить по ним (в то время Ашер уже сам заказывал книги), свидетельствовали, что бостонская склонность к дидактическому и нехудожественному направлению в литературе была даже сильнее, чем предполагал лондонский продавец книг. Восемьсот томов, которые Ашер сам заказал в тот год, почти поровну делились на религиозную литературу и учебники, и незначительное количество составляли книги других направлений — пятьдесят по навигации, три дюжины юридического характера и не более полудюжины — романы и беллетристика.
Другие сведения наводят на мысль, что религиозная направленность фонда книг Джона Ашера была весьма типична для Бостона конца XVII столетия и что эта тенденция сохранялась на протяжении нескольких десятилетий. Когда в 1700 году умер Майкл Перри, бостонский продавец книг, инвентарная опись его имущества показала, что из приблизительно двухсот имевшихся в наличии наименований две трети составляла религиозная литература.
Наиболее значительные частные библиотеки принадлежали, конечно же, видным священникам. Самой крупной и внушительной из их числа была библиотека Коттона Мэзера. «Я думаю, — воскликнул полный энтузиазма Джон Дантон в 1686 году, — он является обладателем одной из лучших (среди частных) библиотек, которую я когда-либо видел: мало того, я могу сказать больше и торжественно заявить, что как знаменитая Библиотека Бодли в Оксфорде является предметом гордости этого университета, если не всей Европы (поскольку она превосходит библиотеку Ватикана), так библиотека м-ра Мэзера — предмет гордости Новой Англии, если не всей Америки. Я уверен, что она является лучшей достопримечательностью, которую я видел в Бостоне». Об этой библиотеке, каталога книг которой мы, к сожалению, не имеем, написал сын Коттона Сэмюел как о «являющей собой, безусловно, наиболее ценную часть семейного достояния», насчитывающей до «7 или 8 тысяч томов наиболее интересных и избранных авторов». Без всякого сомнения, коллекция имела в основном религиозную направленность.
В те ранние годы американской истории Гарвардский колледж по-прежнему выполнял предназначение, для которого и был основан, а именно: готовить ученое духовенство для Новой Англии. Почти три четверти томов, оставленных Джоном Гарвардом этому колледжу, были теологическими; поступления,
339
последующие и в течение этого же столетия, подтвердили теологическую направленность. Несмотря на отдельные жалобы (начиная с президента Генри Данстера в 1647 году) на ограниченный характер фонда библиотеки, до конца XVIII века Бостон не располагал значительной коллекцией книг нетеологического содержания.
Даже в 1723 году каталог Джошуа Джи указывал на то, что две трети книг из коллекции Гарвардского колледжа представляли собой теологические и религиозные работы. Больше всего бросался в глаза недостаток современной и художественной литературы. В библиотеке, конечно, имелись произведения Шекспира, Мильтона и менее значительных поэтов, однако читатели должны были рассчитывать только на свои силы, если хотели найти произведения Попа, журналы «Татлер» или «Спектей-тор». Во многих отношениях библиотека Гарвардского колледжа не очень отличалась от небольшой библиотеки колледжа на Британских островах, но ограниченность выбора имела большие последствия для Новой Англии, где Гарвардский колледж на протяжении длительного времени определял интеллектуальную жизнь. Эта ограниченность выражала также господствовавшие литературные вкусы общества, поскольку в первую очередь именно священники Новой Англии распространяли сведения о книгах в проповедях и многими другими путями.
Литературные возможности были, несомненно, более ограниченны в Новой Англии, чем в Лондоне, но едва ли более, чем в отдаленных местах на севере или западе Англии. Литературу Новой Англии нельзя сравнивать со всей английской литературой XVII столетия, но лишь с той ее небольшой частью, которую составляла литература пуритан английских провинций. Однако и в этом случае она была тематически ограниченной. В Бостоне XVII столетия ничего не оставалось от ранних, более раскованных и более богатых приключениями веков английской культуры. Книги привозились в Новую Англию, за редким исключением, с определенной целью. Дешевые книжные лавки на Лондонском мосту осмеливались выставлять такой товар, за который продавцу книг в Бостоне последовало бы наказание в виде штрафа или у позорного столба. Различные фривольные, непочтительные, непристойные и неортодоксальные книги, которые просачивались на лондонский рынок, чтобы приятно возбуждать, а иногда стимулировать и обогащать ум, редко находили доро1у в Бостон. Заказы торговцев книгами уныло бедны даже на великие произведения художественной литературы столетия.
340
Ничто не было более «практичным» в пуританской Новой Англии, чем религия. Пристрастие к прикладной религии вызвало там бурное развитие религиозной литературы, но в то же время ограничило мировоззрение людей. Обстоятельства, которые отделили религиозную литературу, если не всю литературу вообще, от сферы художественной, аристократической и философской, сформировали придирчивое, практическое свойство вкусов. Парадоксально, что тот самый интерес к общественному образованию, которому было суждено превратить Массачусетский залив в одно из самых грамотных и книжных сообществ своего времени, помог также ограничить вкус и интересы колонии в первые годы ее существования. Ибо грамотность рассматривалась там в первую очередь как вспомогательное средство для постижения религии и только во вторую как средство приобретения другого рода полезных знаний. Предполагалось, что «религиозные и полезные книги» являли собой полный ассортимент книг для образованного человека. Книги «для удовольствия и развлечения», многие из которых принадлежали к лучшим произведениям английской литературы, не вписывались в эту схему.
Для того чтобы отвечать за свое спасение, чтобы увидеть слово Господне самому, а не глазами священника, человек должен был уметь читать. Суд высшей инстанции колонии Массачусетского залива (11 ноября 1647 года) разъяснял:
Главный замысел старого обманщика Сатаны заключается в том, чтобы не дать людям познать Священное Писание, сохраняя его, как в прежние временаща незнакомом языке, убеждая людей в теперешние времена не учить языки, чтобы по крайней мере истинный смысл и значение оригинала могли быть затуманены фальшивым блеском, исходящим от обманщиков, рядящихся в обличье святых. Чтобы знания не были погребены со смертью наших духовных и кровных отцов, Господь помогает нашим усилиям.
Поэтому в юрисдикции каждого церковного прихода, как только Господь увеличит там число домовладельцев до пятидесяти, немедленно назначить человека для обучения чтению и письму детей, которые обратятся к нему...
Основным учебником обязательного общественного обучения в Массачусетсе был «Новоанглийский букварь», который незадолго до конца XVII столетия стал учебником-бестселлером Новой Англии. В течение последующих полутора веков было продано более трех миллионов экземпляров. Ему суждено было стать проводником грамотности для Новой Англии и даже для части других колоний, подобно словарю Ноа Уэбстера в синем переплете,занявшему позднее такое же место в жизни молодой нации. Но в то время,как тексты Уэбстера были предназначены
341
для формирования всесторонне грамотных людей, говорящих и пишущих на одном и том же языке. «Новоанглийский букварь» имел более догматическую цель. С того самого дня, когда ребенок в Новой Англии выучил алфавит и прочел первый слог в своем букваре, он был вынужден впитывать истины, которым следовало его общество.
Обучение стало в какой-то степени более светским после Революции. В XVIII веке рифмованный алфавит от «Адама» до «Якова» иногда уступал место алфавиту от «арбуза» до «ямы». Вместо того чтобы, как раныпе,призывать детей учиться читать для постижения Библии и Царства Небесного, к концу XVIII столетия некоторых из них предостерегали:
Тот, кто азбуку не учит, Ничего и не получит. Только грамотные дети Будут выезжать в карете.
Тем не менее это были незначительные изменения; твердая религиозная основа — Апостольский символ веры, «Отче наш» и кое-что из Катехизиса — прочно вошла в XIX век, когда «Новоанглийский букварь» был окончательно поглощен орфографическими словарями и почитателями Ноа Уэбстера.
С десятилетиями XVIII века сильный практический и дидактический дух ослабевал даже в Новой Англии. Там, как и повсюду в колониях,со временем ассимилировались вкусы, поскольку в большинстве колоний на книжную культуру оказывали решающее влияние состоятельные горожане. Эти местные аристократии были коммерческими по происхождению, а так как коммерция процветает на взаимообмене, то культура всех американских прибрежных городов в XVIII веке стала более однородной. Во второй половине столетия институты распространения книг — продавцы, частные библиотеки и библиотеки колледжей — были дополнены «общественными библиотеками» (типа книжного клуба, созданного Франклином в Филадельфии, члены которого платили взносы за право брать книги), коммерческими и публичными библиотеками с выдачей книг на дом. Эти библиотеки были в гораздо меньшей степени теологическими, они предлагали читателям выбор книг по истории, литературные тексты, книги о путешествиях, юридические и научные труды, беллетристику — выбор достаточно широкий,
* Перевод В.Орлова.
342
чтобы удовлетворить вкусы городских жителей повсюду в Северной Америке.
Но прежняя характеристика книжного Бостона — узкопрактический дух — сохранялась длительное время. Если бы его литературная культура была более гибкой, менее насыщенной нетерпимым провинциальным пуританизмом. Бостон мог бы стать культурной столицей, которая, возможно, дала бы иной поворот всей американской интеллектуальной жизни.
46
КНИГИ ПО ХОЗЯЙСТВУ И ДОМОВОДСТВУ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ПЛАНТАЦИЯХ
Хотя Виргиния управлялась аристократией, ее столица не была большим городом — обстоятельство, столь же решающее для виргинской книжной культуры, сколь и для ее политических институтов. В 1776 году она была наиболее густонаселенной из колоний и имела почти в два раза больше людей, чем Массачусетс, Пенсильвания, Мэриленд или Северная Каролина, — пятую часть всех жителей колоний. Однако в то время,как другие колонии имели большие города (Филадельфия насчитывала 40 тысяч человек и даже Чарлстон — 12 тысяч), официальная столица Виргинии Уильямсбург насчитывал постоянного населения всего лишь полторы тысячи человек. Хотя в городе располагалось правительство, находился колледж Уильям-энд-Мэри и он был небольшим центром литературной жизни. Уильямсбург оставался большую часть года сонной деревушкой. Два раза в год, в так называемые «общественные времена», когда собирался суд высшей инстанции или созывалась Ассамблея. Уильямсбург быстро, но на короткое время оживал и его население удваивалось. Но как и средневековые европейские ярмарочные города, он оставался местом периодических сборищ.
Поэтому в колониальный период книги, которые поступали в библиотеки виргинских плантаций, не проходили через книжные магазины близлежащих городов. За исключением тех, что колонисты привезли с собой или приобретали во время последующих редких поездок в Англию, книги большей частью доставлялись из Лондона по специальным заказам. Каждый плантатор должен был сам решать или по обыкновению предоставить это своему лондонскому агенту, какие книги следует прислать. В 1722 году, как вспоминал позднее в своей «Авто
343
биографии» Франклин, «не было ни одного хорошего книжного магазина ни в одной из колоний к югу от Бостона». Для центральных колоний это было все же преувеличение, характеризующее Франклина как первооткрывателя библиотек и книжных магазинов. Но в Виргинии все обстояло именно так долгие годы. До 1736 года в Уильямсбурге, вероятно, не было ни одной книжной лавки. Почти столетие спустя Джефферсон все еще жаловался Джону Тейлору (28 мая 1816 года) на «трудности в получении новых произведений в нашей ситуации (Монтичелло), в глубине страны и без единой книжной лавки». Но отсутствие процветающей книжной торговли, как факт виргинской жизни, вовсе не свидетельствовало об отсутствии потребности в книгах.
Содержимое частных библиотек указывало на то, что,как в книгах, так и в других предметах импорта, виргинские джентльмены следовали примеру своих английских собратьев. По английским канонам им разрешалось быть грамотными, но, упаси Бог, не учеными: педантичности и углубленности во что-либо следовало избегать,как чумы. Они должны были достаточно знать обо всем, чтобы правильно поступать и решать свои частные вопросы, но, как предостерегал сэр Томас Пейтон, «не сбивать с толку ученых мужей с их книгами и друзей недавно появившимися на свет словами». Для джентльмена это было вполне оправданно. О нем в меньшей степени судили по уму, чем по обстановке в его доме, в меньшей степени по интеллекту и учености, чем по милосердию и доброте в его поступках.
Мало что в английской модели вдохновляло виргинского последователя на поприще литератора или собирателя книг. Простые люди Виргинии XVII века читали мало, если вообще читали, большинство виргинцев, вероятно, не могли читать. Если задаться вопросом не сколько было грамотных, а сколько неграмотных, не умеющих поставить свою подпись, ответ получим неутешительный. Историк Филип Александр Брюс, автор социального портрета колониальной Виргинии, изучил документацию округов XVII столетия, чтобы выяснить, сколько имен было подписано крестами вместо надлежащей росписи. Из восемнадцати тысяч обследованных почти половина белых виргинцев мужского пола (включая нескольких судей) были столь неграмотны, что не могли расписываться. Три четверти белых женщин не могли поставить свою подпись. Даже эти цифры, вероятно, преувеличивали уровень грамотности виргинцев, поскольку известно, что люди, которые могут расписываться, иногда не могут ни читать, ни писать.
344
На верху социальной лестницы несколько плантаторов-аристократов даже в XVII веке располагали солидными библиотеками, но слишком уж большое впечатление на них производил такой феномен, как библиотека Уильяма Берда,которая насчитывала к 1744 году более 3600 наименований. С коллекцией Уильяма Берда, самой большой в Виргинии, соперничали лишь книжные собрания Коттона Мэзера и Джеймса Логана. Другие «первые джентльмены Виргинии» — Уильям Фитцью, семейства Ли, Картеров и Уормли — обладали значительными собраниями, но ни в какие времена ведущие представители колониальной Виргинии не были особенными книгочеями или же просто начитанными людьми. Изучение почти ста частных библиотек показывает, что они в среднем были меньше, чем обычно предполагается, около половины имели менее двадцати пяти наименований. До 1700 года библиотека в Виргинии, насчитывавшая более сотни книг, была редким явлением, даже в XVII веке не было ничего необычного в том, что в описях имущества владельцев среди утвари крупнейших виргинских поместий содержалась всего лишь дюжина книг. Явлением более типичным, чем, скажем, библиотека Джефферсона, было небольшое количество трактатов практического назначения у Вашингтона или опись имущества Джона Чилтона, которое, хотя и оценивалось в 1700 фунтов, располагало всего лишь «двумя небольшими старыми Библиями и восемнадцатью другими книгами, по большей части старыми».
Особенно отличительная черта этих коллекций — их утилитарность. Более крупные из библиотек располагали обширным собранием книг как религиозного, так и светского содержания, обязательно включавшим Библию и Книгу Литургии, но даже такие «религиозные» книги, как «Практика благочестия, или Всеобщий долг человека» Бейли, были скорее утилитарными и нравоучительными, нежели теологическими и умозрительными. Их многообразие — от ортодоксального пуританства до деизма — свидетельствует о разносторонности интересов и терпимости их владельцев.
В XVII веке юридические книги часто преобладали не только в крупных библиотеках таких людей, как Роберт Картер (его собрание включало триста наименований, из которых сто были юридическими), но даже в небольших библиотеках. Полковник Саути Литтлтон, крупнейший плантатор округа Аккомак, после своей смерти в 1680 году оставил семнадцать книг, четыре из которых были юридическими; капитан Кристофер Кок из округа Принцессы Анны оставил после себя в 1716 году библиотеку из
345
двадцати четырех книг, девять из которых были юридическими. В XVIII веке процент юридических книг имел тенденцию к увеличению не только у юристов, но и у врачей, священников и особенно у крупных плантаторов. В этой новой стране, где все состояния были связаны с землей и где юридические права часто оспаривались, не хватало юристов. В качестве окружных судей, членов законодательных органов и церковных советов руководящие деятели Виргинии сталкивались со всеми юридическими проблемами судьи, законодателя и представителя исполнительных органов. Они не могли отправлять свои простейшие общественные обязанности, не располагая некоторыми знаниями английской юридической традиции, которая явилась настоящим цементирующим звеном их сообщества. Она обеспечивала существование институтов Виргинии и закладывала основы новой нации.
В меньших по размеру библиотеках и собраниях, состоявших из двух дюжин наименований и меньше, которые трудно и назвать «библиотеками», особенно часто можно было встретить медицинские книги, предназначенные в помощь плантатору и его жене для лечения больных рабов. Их многочисленные справочники по сельскому хозяйству, строительству, коневодству, охоте и рыбной ловле предназначались не для хобби, это были необходимые в хозяйстве вещи. Даже руководство по верховой езде или садоводству давало виргинцам возможность в мельчайших подробностях воспроизводить английскую сельскую жизнь.
Для виргинцев жизненное руководство для джентльмена-христианина должно было казаться едва ли менее практичным чем инструкции, как лечить оспу. Даже «классики», похоже, не столько создавали престиж образованным джентльменам, сколько служили справочниками о человеке, истории, природе и событиях. Плутарх, Аристотель и Плиний были главным образом источником научной информации и политической мудро -сти. Число классических трудов с вступлением в XVIII век возросло, но они никогда не попадались в большом количестве Виргинцы полагались на переводы. «У них мало ученых, — писал преподобный Джон Клейтон в Англию из Джеймстауна ь 1684 году, — таким образом, каждый учится, чтобы быть немне -го врачом, немного юристом, тебя позабавит их неподдельна^ жажда к чтению все новых и новых книг».
Приезжим англичанам было трудно представить, что преуспевающий правящий класс предпочитал приобретать знания из собственного опыта, нежели из книг. Возможно, здесь имел мес
346
то новый тип культуры, где даже джентльмен, который мог себе позволить и другое, предпочитал черпать информацию от людей, а не из книг, а когда читал книги, предпочитал читать их с определенной целью. «Тем не менее, — заметил преподобный Хью Джоунс в 1724 году, — благодаря способности быстро схватывать они располагали достаточными знаниями и бойким языком, хотя обучались большей частью поверхностно. Они более склонны познавать мир в бизнесе и общении, нежели уйдя с головой в книги, и в основном испытывают страсть к изучению того, что абсолютно необходимо, и делают это самым лучшим и быстрым способом». Их жизнь вне дома, недостаток свободного времени, управление плантацией, отнимающее массу времени, и уединенность отдаленных друг от друга особняков сделали беседу гораздо предпочтительнее чтения. Говорили, что Джордж Вашингтон выставлял одного из своих рабов на ближайшем перекрестке, чтобы приглашать любого случайного прохожего для оживления трапезы новостями из внешнего мира. Многие путешественники задавались вопросом, не отражает ли знаменитое «южное гостеприимство» скорее одиночество, чем великодушие.
Крупнейшие плантаторы Виргинии, как и духовенство Новой Англии, контролировали книжную культуру своей провинции. Духовенство и светские люди, однако, поменялись ролями, поскольку много англиканских священников Виргинии (некоторые фактически были капелланами у крупнейших плантаторов) полагались на библиотеки плантаторов-аристократов, у которых состояли на службе. На чем же еще настоятель приходской церкви Христа мог остановить взгляд в поисках материала для чтения, если не на книгах, которые Роберт Картер собрал в Ко-ротомэне? Так, разнообразная «религиозная» деятельность плантатора сделала его поставщиком (и даже цензором) книг для духовенства его прихода. Отсутствие библиотек, выдающих книги на дом, делало его также библиотекарем для своих более бедных соседей и прихожан. Преподобный Томас Брей, уполномоченный англиканской церкви в штате Мэриленд, после 1696 года считал недостаток книг угрозой компетентности и независимости южного духовенства, и отчасти для того, чтобы поправить дело, было основано Общество распространения христианских знаний. Брей открыл библиотеки в штате Мэриленд, в Новой Англии, в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Северной и Южной Каролине, но не в Виргинии.
Такое положение вещей усилило влияние вкуса плантаторов на общество в целом. Их разобщенность, по-видимому, не при
347
вела к независимости и разнообразию в области литературных вкусов. Напротив, превалировало поразительное единообразие. Чем меньше плантаторы имели возможности общаться, тем более охотно принимали они старые английские порядки.
Книги для виргинцев были в основном лишь объектом купли-продажи. И, таким образом, изредка выписывались плантаторами из Лондона. 27 августа 1768 года Уильям Нелсон обращался к фирме «Джон Нортон и сыновья»:
Я уже послал с оказией Вам счет за погрузку 6 бочек моего урожая табака. А сейчас отвечу на Ваше письмо от 23 мая. Я признателен за поставку копченой сельди, но то ли ее не так хорошо прокоптили, как раньше, то ли, что вероятнее, мой вкус изменился, одним словом, больше ее не присылайте, не надо; однако жду от Вас садовых семян, сыра, в счет нового урожая, и книги, о которых я писал, и будьте любезны добавить к этому следующее, а именно: «Комментарии к английским законам» Блэкстона; также одну простую шляпу 6-го размера и кружевную такого же, 8 пар крепких ботинок и туфель для мальчика восьми лет и столько же шляп и ботинок для двух мальчиков 13 и 15 лет.
Практичность виргинцев была иного свойства, нежели у представителей Новой Англии. Виргинцы были не склонны, даже если бы позволяли географические условия, принять культурное лидерство от столицы Новой Англии. Мироощущение плантаторов там не было ни достаточно определенным, ни ярким в сравнении с другими колониями. Большое разнообразие условий жизни в Америке не способствовало развитию литературы,не создавало самобытной интеллектуальной сферы общения. Если виргинец был менее ворчлив и упрям, чем пуританин Новой Англии, он был зато крепкоголов, привержен закону и непоэтичен. В Виргинии не было места литературно образованному классу, Граб-стрит или изысканному салону.Виргинцы не принадлежали к культурной элите, они были деловыми людьми, стремящимися приспособиться и укрепиться на американской почве.
47
ПУТЬ РЫНКА: ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Широта взглядов, характерная для книжной культуры Филадельфии колониальных времен, была чуждой жителю Новой Англии или Виргинии. Особенный квакерский тон этой культуры также не способствовал взаимопониманию. В результате Филадельфия оказалась тогда непригодной для столицы
348
американской культуры. Анализ данных об импорте, покупках, чтении и сочинительстве книг в метрополии Друзей Господа приводит нас не в гостиные патронов, мансарды богемы, не в какие-либо места живого общения литературных кругов. Он приводит нас к разнообразной ежедневной деятельности врачей, бизнесменов, владельцев магазинов и мастеровых.
Сравнение кружка Сэмюела Джонсона в Лондоне и кружка Бенджамина Франклина в Филадельфии показывает различие в отношении к книге в старой и новой культурах. Известное письмо д-ра Джонсона лорду Честерфилду, в котором он упрекает своего патрона в высокомерии, никогда не могло быть написано в Филадельфии. Представьте себе Франклина, разыскивающего патрона, дожидающегося благородного лорда в приемной и теряющего время на написание писем с упреками за неучтивость человеку, нуждающегося в льстецах! Сравните кружок д-ра Джонсона, часто посещавшийся Джеймсом Босуэллом, сэром Джошуа Рейнолдсом, Эдмундом Берком, Оливером Голдсмитом, Дэвидом Гарриком и Эдвардом Гиббоном — писателями в традиционном смысле этого слова, — с «тайным союзом» Бенджамина Франклина «Хунта», с его молодыми, неизвестными членами, включая стекольщика, землемера, столяра, сапожника и нескольких печатников.
Довольно странно, что само учение филадельфийского квакерства — с его опорой на духовную сторону, недоверием к догмам, особым вниманием к личности, — которое сделало квакеров бескомпромиссной и малопригодной для руководства большой общиной, также способствовало их практичности в подходе к знаниям. Пути мистицизма непредсказуемы: по тем же самым причинам, по которым квакеры отказались сражаться с индейцами, они желали сражаться с педантизмом. Уильям Пенн советовал своим детям:
Имейте немного книг, но пусть они будут хорошо отобранными и хорошо читаемыми, религиозной или гражданской тематики... чтение многих книг слишком отвлекает ум от размышления. Познание самих себя и природы по делам и поведению людей — подлинная человеческая мудрость. Дух каждого человека знает мир человеческих интересов, и подлинное знание в большей мере достигается путем созерцания и правильного размышления, нежели благодаря чтению, поскольку обильное чтение угнетает разум и гасит его естественный источник света, что является причиной существования в мире столь многих неразумных ученых.
Не связанные рамками английского пуританства, пуритане Новой Англии старались привлечь внимание к своим книгам, но квакеры Пенсильвании с не меньшей горячностью убеждали по-
349
лататься на жизненный опыт. Догмы Новой Англии могли ограничить читательский интерес практической целью строительства Сиона, но квакеры Пенсильвании меньше смотрели в Священное Писание, нежели в свои сердца и на грехи своей общины. Если их религия не побуждала овладевать книжными знаниями, то по крайней мере не удерживала от любого рода познаний.
В отличие от пуритан квакеры никогда не были склонны к компромиссу. К началу XVIII века они развили в себе единственную, лишь слегка уступающую непоследовательности добродетель, которая проявилась особенно отчетливо в их отношении к книгам. Несмотря на собственные предостережения, Уильям Пенн владел солидной библиотекой, и другие лидеры квакеров имели книжные собрания, которые служили «для удовольствия и пользы». Одной из трех крупнейших колониальных библиотек начала XVIII века (наряду с библиотеками Коттона Мэзера и Уильяма Берда) владел Джеймс Логан, квакер, секретарь Пенна, который позднее стал лидером консервативной партии и до конца жизни последовательно занимал практически все важные посты в колонии. Логан ожидал, что гамбургский купец, через которого он заказывал произведения на греческом и латыни, бу дет удивлен «обнаружить американского купца в медвежьей шкуре, утруждающего себя чтением таких книг». Тем не мерее он очень любил свои книги и надеялся, что они послужат ему развлечением в старости.
Интеллектуальная жизнь Филадельфии давала большой простор для деятельных умов. Филадельфийцы были в меньшей степени подвержены ортодоксальности, чем жители Новой Англии, в меньшей степени придерживались узких практичс ских и политических интересов, чем жители Виргинии, и в меньшей степени следовали вкусам литературной аристократии, чеь жители Лондона. Все это не сделало Филадельфию литературной столицей всей Америки, но обогатило и без того многоои разную колониальную культуру.
К середине XVIII века Филадельфия продемонстрировала широкое разнообразие религиозных убеждений и различные формы богослужения. Неофициальная инвентаризационна i опись городских строений, произведенная преподобным Эндрь Бэрнэби в 1759—1760 годах, включала «хороший зал заседаний принадлежащий обществу свободных масонов, и восемь или десять помещений для отправления религиозного культа, а имен но: две церкви: три квакерских молитвенных дома, дв^ пресвитерианских заведения подобного рода, одну лютеран
350
скую церковь, одну голландскую кальвинистскую церковь, одну шведскую, одну папистскую церковь, один анабаптистский молитвенный дом и аналогичный моравский; имеется также академия, или колледж, первоначально построенная как молельня для м-ра Уайтфилда». Такая терпимая атмосфера в религии способствовала взаимообмену книгами и идеями по многим другим направлениям.
Филадельфия стала центром книжной торговли, и ее значение возрастало с каждым новым десятилетием XVIII века. В 1742 году было только пять книжных магазинов, к 1760-м годам пятьдесят книготорговцев открыли магазины, к 1776 году в городе насчитывалось семьдесят семь книжных магазинов. Таким образом, если в конце XVII века в англоязычном мире бостонская книжная торговля уступала только лондонской, то во второй половине XVIII столетия лидерство перешло к Филадельфии.
Хотя книжная торговля Филадельфии не была самой развитой в Америке колониального периода, она все же росла и процветала. Импорт книг стал более разнообразным. Некоторые магазины даже посчитали для себя выгодным специализироваться: Джеймс Чэттин — в основном на квакерской литературе, Спархок и Эндертон — на «очень большом выборе книг,предназначенных для обучения и развлечения всех хозяев и хозяек в Америке», Уильям Вудхаус — на редких книгах, Чарлз Стартин — на классике и дорогих изданиях, Генри Миллер — на немецких книгах. К 1770 году пятая часть городских продавцов книг располагала книгами на немецком языке. Атмосфера свободной конкуренции привлекала книги из Франции; во второй половине столетия в филадельфийских магазинах можно было найти, вероятно, больше французских книг, чем в любой из тринадцати колоний.
Конкуренция среди продавцов книг помогала распространять книги и идеи. Их магазины одними из первых американских коммерческих предприятий широко использовали рекламу в газетах и современные наглядные, зрелищные методы торговли. Во второй половине XVII1 столетия газеты были обычно заполнены объявлениями книготорговцев (занимавшими иногда целые страницы). Газеты распространялись и в отдаленных районах и вместе с рекламными плакатами и торговыми каталогами прививали колонистам вкус к грамотности.
Наиболее предприимчивым из ранних американских торговцев был Роберт Белл, шотландец, чья «сомнительная» религия и мораль — он был отцом незаконнорожденного ребенка и открыто содержал любовницу, — по-видимому, сделали его еще бо-
3S.
лее удачливым продавцом. Пионер «национального» рекламного дела, он почти во все колониальные газеты помещал объявления о первых американских изданиях блэкстоновских «Комментариев» и других подобных работах. Он путешествовал по континенту, скупая лучшие коллекции, которые доставлялись в Филадельфию, где затем распродавались или распространялись в другие колонии. Наиболее известным его приобретением явилась библиотека Уильяма Берда из Виргинии, которую он отправил в Филадельфию, «возможно, в не менее чем 40 повозках». Под удары своего аукционного молоточка он развлекал филадельфийские аудитории живым юмором и превратил книжный аукцион в важный американский институт. Книжный аукцион длительное время был в ходу на Европейском континенте, но достиг Англии лишь в конце XVII века, а Бостона, несмотря на его процветающую книжную торговлю, лишь в 1713 году. Именно в процветающей, свободно развивающейся Филадельфии с ее пестрой аудиторией грубая коммерческая торговля книжным товаром была наиболее успешной.
В 1744 году Бенджамин Франклин рекламировал свой собственный аукцион лучших книг с минимальной начальной ценой, обозначенной на каждом томе. Его заседания проводились ежедневно в установленные часы на протяжении трех недель. Аукцион ни в коей мере не ограничивался подержанными книгами, издатели использовали этот путь, чтобы распространить остатки тиража среди читающей публики. Белл, рекламируя аукцион в 1770 году, указал в каталоге розничные цены своих новых книг и объявил, что каждая будет предложена за полцены. Благодаря таким распродажам, разъяснял печатник колониального периода, он мог превратить «мертвые запасы в живые деньги и опять браться за работу какого-нибудь знаменитого автора, распространяя знания по всей Америке».
Никто не мог соперничать с Беллом, чье остроумие и эксцентричность были главным филадельфийским развлечением. «Многие, посещающие его аукцион, чтобы повеселиться, — сообщала газета, — бывало, покупали книгу, откликаясь на хорошую шутку. Его распродажи были похожи на спектакли... Почти про любого писателя он мог бы рассказать анекдот, повергавший аудиторию в хохот. Иногда он ставил рядом с собой бидон пива и произносил комические тосты. Его буффонада была разнообразной и не знала границ». В середине XVIII века в этой некогда квакерской метрополии книги стали обычным товаром, очень доходным. Трудно представить бостонского священника или виргинского плантатора, принимающих участие в таких уве
352
селениях, для них книги имели более узкое и к тому же более важное назначение. Обращая свои распродажи-беседы к городскому ремесленнику или случайному покупателю, Белл показал себя тонким знатоком развивающегося филадельфийского рынка, который был далек от насыщения.
Аудитория для импортируемых книг была расширена и развита благодаря другому институту, который познал свой первый успех на американской почве в Филадельфии, — так называемой «общественной библиотеке», раннему примеру американского отождествления познания с самосовершенствованием. Хотя и не являясь американским изобретением — такие библиотеки не были редкостью в Англии в 1720-х годах,,— оно занимало особое место в жизни американского города.
«Общественная библиотека» была просто клубом, члены которого вносили вступительный взнос плюс ежегодный взнос за право пользоваться собранием книг, принадлежащим группе лиц. Самый первый такой институт, известный в американских колониях, вырос из «Хунты», основанной Бенджамином Франклином в 1727 году. Этот клуб молодых ремесленников и торговцев, созданный для «взаимного совершенствования», был организован по образцу модели Коттона Мэзера для окрестных обществ взаимопомощи, в двадцати из которых он состоял и сам. Провозглашенная им цель была сходна с целью будущих американских «сервисных» клубов, таких,как Ротари и Киуэнис.
Группа Франклина не вела непринужденной остроумной беседы об изящной литературе, она выбирала темы для «дискуссий»: «Может ли быть оправдана смертная казнь в отношении частных лиц, не совершавших преступлений, но представляющих угрозу общественной безопасности и спокойствию? Как в случае с чумой, чтобы остановить распространение инфекции, или с казненными здесь валлийцами?», «Если суверенная власть пытается лишить человека его права (или, что не меняет существа дела, того, что он считает своим правом), позволительно ли ему оказать сопротивление, если он в состоянии это сделать?», «Почему запотевает сосуд с холодной водой в летнее время?».
Когда помехой для дискуссий членов «Хунты» оказалась нехватка книг, они не стали просить их у богатого покровителя, а вместо этого объединили в общий фонд свои небольшие личные средства. Сначала просто собрали книги, принадлежащие членам союза, на полках, расположенных на стене клубной комнаты, но этого было недостаточно. В 1731 году Франклин предложил свой план создания Библиотечной компании
353
Филадельфии, «и с помощью моих друзей в «Хунте»,— писал он, — нашел пятьдесят человек, внесших по сорок шиллингов каждый для начала и по десять шиллингов в год за пятьдесят лет— срок, в течение которого наша компания должна просуществовать. Впоследствии мы разработали устав, компания увеличила свою численность до ста человек». Библиотечная компания Филадельфии за свою долгую жизнь — много свыше полувека, оптимистично отведенного ей Франклином, — поощряла такое «целенаправленное чтение», которое было характерно для американских колонистов на Севере и Юге.
Как и члены позднейших «книжных клубов», члены франклиновской компании не полагались на свои собственные суждения, «и комитет, считающий м-ра Логана джентльменом всесторонней эрудиции и лучшим знатоком книг в этих краях, дал указание м-ру Годфри нанести ему визит и просить помочь с каталогом подходящих книг». Логановский выбор книг, стоивший сорок пять фунтов стерлингов, был заказан в Лондоне 31 марта 1732 года. Всего было сорок с лишним наиме-нований.В список не входила ни одна работа по теологии, но он включал словари, учебники грамматики, атлас, несколько многотомных работ по истории, описания путешествий и биографии, а также несколько книг по политике и этике. Около трети наименований охватывало дисциплины явно практического свойства: анатомию, биологию, химию, геометрию, математику, астрономию, сельское хозяйство,— вошел туда «Полный английский справочник ремесленника» Даниеля Дефо. Лишь немного произведений классической литературы (разумеется, «Илиада», «Одиссея» и драйденовский перевод Вергилия) и что-то из беллетристики («Спектейтор», «Гардиан», «Татлер» и работы Аддисона) хоть как-то соответствовало литературным вкусам образованных людей в Лондоне. За полвека масштабы библиотеки увеличились,но ее характер и направленность особенно не изменились. «Библиотекарь уверял меня, — рассказывал Джэкоб Душе в 1772 году, — что на одного влиятельного и богатого человека приходилось двадцать ремесленников, которые часто посещали библиотеку». Два года спустя из 8000 наименований только 80 относились к «беллетристике, остроумию и юмору».
Эта подписная библиотека и многие подобные процветали в Филадельфии и городах Новой Англии, где в последующие полстолетия открылось пятьдесят библиотек. В Филадельфии Библиотечная компания имела тенденцию поглощать другие библиотеки и к началу Революции превратилась в главный инс
354
титут культурной жизни города. К ней добавилась богатая библиотека Джеймса Логана, переданная общественности после его смерти в 1751 году. Позднее Франклин хвастался, что его Библиотечная компания была «матерью всех североамериканских подписных библиотек, в настоящее время столь многочисленных»; фактически это было одним из проявлений широкой грамотности колониальной Америки. Он не преувеличивал, когда отмечал, что «эти библиотеки улучшили в целом речь американцев, сделали простых ремесленников и фермеров столь же умными, как и большинство джентльменов из других стран, и, возможно, в известной степени помогли колониям отстаивать свои привилегии».
* * *
Отношение к книгам, описанное в этих главах, на самом деле было даже более разнообразным. В Нью-Йорке большую часть XVIII столетия не было особого интереса к книгам, до Революции он не располагал столькими книжными магазинами, как Бостон или Филадельфия, хотя его книжная торговля была сопоставима с книжной торговлей таких провинциальных английских городов, как Ньюкасл, Ливерпуль или Бат. Превалировали практические, коммерческие интересы, к тому же неразбериха с элементами голландской культуры вместе с конкуренцией между литературными языками сдерживала развитие книжного бизнеса. Чарлстон в Южной Каролине, который был единственным большим городом к югу от Филадельфии до возвышения Балтимора в середине XVIII века, демонстрировал уникальный на континенте аристократизм. Его высший класс, недавно разбогатевший на торговле рисом, индиго и рабами, наслаждался закрытыми частными клубами и копировал образ жизни лондонской знати более успешно, чем американцы где бы то ни было еще. Город, живший напряженным ритмом концертов, танцев, выездов на охоту, скачек, петушиных боев и карточных игр, приобрел известность также своими красивыми и нарядными женщинами. Но свободно сорившая деньгами аристократия особо не тратилась на книги; первый большой книжный магазин в Чарлстоне открылся лишь в 1754 году, когда Роберт Уэллс предложил «главным образом развлекательный» ассортимент книг. Эта деловая, веселая, некнижная община, конечно,была очень самобытна, но все же культурной столицей колоний стать не могла.
355
48 ПОЭЗИЯ БЕЗ ПОЭТОВ
Приморские города, каждый по своему разумению, просеивали книжную культуру метрополии для всесторонне грамотных, но не очень литературно образованных людей. Постепенно в книжных вкусах отдаленных районов стала преобладать практичность и целенаправленность. Почти полностью зависимые от Лондона в том, что касается книг, колонисты не могли избежать заимствования английской манеры размышлять о разных вещах, но не позаимствовали институт литературно образованного класса.
Широкое разнообразие и равная конкуренция с городом лишили американские колонии естественной среды для литературного класса. Этот класс может процветать, лишь находясь в центре событий, а в Америке не было такого центра.
Культурной вершиной английского литературного слова являлся, конечно же, Лондон. Сам факт, что книги в Америке в течение всей колониальной эпохи импортировались главным образом из Англии, имел большое значение: он делал терпимым и оправдывал в глазах энергичных американцев отсутствие их собственного литературного класса. Фактически колониальная Америка располагала большим запасом готовой художественной литературы, поставляемой из-за рубежа и на ее родном языке. Колониальное положение, таким образом, обеспечивало американцев прекраснейшими плодами великой литературы, которую они в известном смысле могли назвать своей, в то же время страна была свободна от институтов, которые породили эту литературу. Короче говоря, колонисты могли наслаждаться лучшими образцами поэзии, при этом им не нужно было терпеть класс поэтов, они могли посмеиваться над элегантным юмором Аддисона и Стиля, при этом им не нужно было содержать класс эссеистов, они могли развлекать себя изделиями Граб-стрит, не утруждаясь созданием подобного соседства. Колонисты могли пожинать плоды аристократической и праздной культуры нескольких столетий, и при этом им не нужно было самим накапливать большую сумму социальных различий и интеллектуального и экономического неравенства, из которых и вышла эта культура.
Некоторые наблюдательные колонисты отмечали плохие и хорошие стороны создавшейся ситуации. «Ваши авторы, — писал Бенджамин Франклин своему лондонскому продавцу книг Уильяму Стрэену (12 февраля 1744 года), — мало знают о своей
356
славе по эту сторону океана. Мы являемся своего рода наследниками по отношению к ним». Наследники удобно устроились, имея возможность наслаждаться самыми восхитительными плодами развития общества, не обременяя себя его специфическими институтами: могли читать греческих философов, не познав рабства, на котором основывалась греческая цивилизация, могли снова увидеть шедевры Бенвенуто Челлини без риска сгинуть в коридорах власти Италии эпохи Возрождения. Наследники могли быть эклектиками; обособленность от эпицентра событий и конфликтов дала им возможность быть более разносторонними в своих интересах. «Я бы не хотел, чтобы ты слишком тщательно отбирал памфлеты, которые присылаешь мне, — писал Франклин Стрэену, — позволь мне иметь все хорошее или плохое, вокруг чего поднимается шум и на что есть спрос, поскольку у меня здесь друзья с разными вкусами, и всем хочется угодить». Он объяснил свой заказ на шесть комплектов нового издания трудов Александра Попа тем, что американцы питают живой интерес ко всем лучшим английским авторам. «Мы читаем их произведения с полной беспристрастностью, так как слишком далеки от всех фракций, партий и предрассудков, которые довлеют над вами. Мы ничего не знаем об их личных слабостях, недостатки их характера нам неведомы, и поэтому поражают нас так сильно самые лучшие стороны их произведений. Они никогда не обижали нас или кого-либо из наших друзей, мы не конкурируем с ними, поэтому мы без устали превозносим и восхищаемся ими. Что бы Томсон ни написал, пришли мне дюжину экземпляров. Я не читал поэзию несколько лет и почти было потерял вкус к ней, пока не познакомился с его “Временами года”».
Но американские литераторы не были писателями, они были священниками, врачами, печатниками, юристами, фермерами. Они были занятыми людьми, и чем больше они были заняты, тем скуднее записи, которые они оставили нам. Мы располагаем более обширными литературными отчетами об американской жизни начала XVIII века, чем о бурных годах ближе к концу столетия. Возможно, ни одно великое событие нового времени не оставило такого бедного свидетельства о себе со стороны его участников, как Американская революция.
В Америке отсутствие особого литературного класса сохранялось и в XIX столетии. Но это было не очень заметно, пока такие писатели, как Вашингтон Ирвинг и Джеймс Фенимор Купер, фактически не положили начало его формированию. «В нашей стране нет особого класса литераторов, — писал Джефферсон в
357
1813 году, — каждый человек занят каким-то полезным делом, а наука является всего лишь второстепенным родом деятельности, всегда подчиненным основному делу жизни. Поэтому лишь немногие из тех, кто имеет квалификацию, располагают досугом, чтобы писать». Джон Пикеринг согласился, что едва ли здесь существует такое понятие, как «профессиональные писатели». «Столь велика потребность в талантах всех видов для активного использования в профессиональной и другой деятельности в Америке, — разъяснял судья Джозеф Стори в 1819 году, — что немногие из наших способнейших людей имеют свободное время, чтобы посвятить его исключительно литературе или изящным искусствам... Эта очевидная причина объяснит, почему у нас так немного профессиональных писателей, а те, которые есть, не из самых способных». Президент Йельского университета Тимоти Дуайт четко обрисовал последствия того, что страна пользуется заимствованной литературой:
Книги практически всех видов, на любую тему уже написаны для нас. Наше положение поэтому исключительное. Поскольку мы говорим на одном языке с народом Великобритании и обычно находились в состоянии мира с этой державой, наши торговые связи гарантируют нам регулярную поставку большого числа книг, которыми наводнена эта страна. В любом виде искусства, науки и литературы мы получаем то, что в значительной мере нас интересует. Следовательно, книгопроизводство — это бизнес, нам не слишком необходимый по сравнению с любой другой страной в мире, и это является серьезной причиной, почему пишется сравнительно мало книг.
Кое-кто, желая быть не хуже других, выражал ностальгическое стремление потеснить английскую литературу своей собственной, американской. Еще в 1769 году автор публикации в «Пенсильвания кроникл», подписавшийся Тимоти Соберсайд-сом, предупреждал, что филадельфийцы, деятельно поддерживающие производство, в то же время не должны более игнорировать девять муз: «Это вовсе не означает, что какое-либо из этих милых созданий переселилось с нашими предками в ранний период заселения европейцами этого континента». Критик надеялся, что «мы не должны более, как прежде, быть всецело признательны метрополии за все изделия поэтической галантереи, но сможем, наконец, обеспечить себя достаточным количеством продукции собственного труда и усердия». Тем не менее даже в Филадельфии, где только и могла быть космополитическая атмосфера, усилия по созданию оригинальной изящной литературы оказались бесплодными. Например, преподобный Уильям Смит, ректор Филадельфийского колледжа, пытался собрать кружок поэтов под названием Общество
358
джентльменов, но нашел только рифмоплетов. Лучшее американское изречение колониального периода, а возможно, и последующих времен не сложилось в ритмичной стихотворной строке или отточенном эссе. Его следовало искать в своде законов, сборниках политических дискуссий, проектах, рекламных брошюрах, проповедях, речах, произнесенных на заседаниях в законодательных органах, газетных столбцах и отчетах научных обществ. Такая литература никогда не могла бы удовлетворить писателей Старого Света.
Американская печатная продукция процветала при отсутствии сильной литературной аристократии. Она была рассредоточена. Ее центр был повсюду, поскольку его не было нигде. Каждый человек мог к ней принадлежать. Каждый мог говорить на ее языке. Она являлась продуктом и основателем деятельного, мобильного, открытого общества, которое предпочитало полезные истины заоблачным высям и всегда сохраняло здоровое подозрение к недоступным для всех, напыщенным, многоязычным салонным остротам. В 1772 году англиканский священник Джэкоб Душе, один из первых многочисленных популярных американских церковных ораторов, заметил:
Самый бедный чернорабочий на территории Делавэра считает себя имеющим право высказывать мнение в вопросах религии или политики с той же свободой, что джентльмен или ученый. В самом деле, между жителями Филадельфии меньше различий, чем между жителями любого другого цивилизованного города мира. Богатство не дает никаких преимуществ. Поскольку каждый человек надеется в один прекрасный день стать вровень со своим богатым соседом... Господствующего вкуса на все книги без исключения не существует, так как практически каждый человек является читателем и, высказывая свое отношение, верное или неверное, к различным изданиям, с которыми знакомится, ставит себя не ниже, в смысле знаний, их авторов.
Часть двенадцатая КОНСЕРВАТИВНАЯ ПРЕССА
Ни один американец, насколько я знаю, не желал жить на чердаке ради того, чтобы стать писателем.
Тймоти Дуайт
49
УПАДОК КНИГИ
Если принять во внимание интеллектуальную энергию американцев колониального периода, количество выпускаемых ими книг было на удивление невелико. Даже самые образованные, как Франклин и Джефферсон, не выражали свои наиболее важные идеи в книгах.
Сказать, как это сделал Франклин в своем циркулярном письме от 1743 года о создании Американского философского общества, что американцы не писали много книг из-за занятости другими делами и вследствие «незрелости» американской культуры, —значит ввести в заблуждение. Книга не расцвела на этой почве, но другие виды печатной продукции произрастали в изобилии.
Все разубеждало колониального печатника браться за выпуск большой книги. Прежде всего нехватка шрифта. В Англии его запасы были ограниченны, это входило в контроль за прессой; указ Звездной палаты от 1637 года разрешал только четырем гражданам, каждый из которых мог иметь ограниченное число подмастерьев, работать со словолитнями в одно и то же время. Только с началом Революции американцы смогли покупать шрифт американского производства. Что еще ухудшало положение в американских колониях, так это то, что шрифт, привозившийся сюда, обычно состоял из комплектов, которые были длительное время в употреблении и от которых уже отка
360
зались английские печатники. В 1779 году, когда Франклин получил экземпляры бостонских газет, присланных ему во Францию, он сказал, что единственное, что он может отчетливо увидеть в них, — это то, что американские печатники отчаянно нуждались в новом шрифте. «Если у вас когда-нибудь будут какие-либо секреты, которые бы вы хотели сохранить в тайне, напечатайте их в этих газетах».
В те дни, задолго до изобретения линотипа, число полос, которое печатник мог одновременно оставить в наборе, зависело от имевшегося у него количества шрифта. Печатник колониальных времен, располагавший только одним комплектом шрифта определенного размера, не мог оставлять полосы в наборе, ему приходилось набирать несколько полос, печатать их, а затем, чтобы продолжить, разбирать шрифт. При лихорадочном спросе на работу печатника — на рекламные брошюры или на юридические и коммерческие бланки, основу его бизнеса, — шрифт мог понадобиться в любое время. При таких обстоятельствах расчетливый печатник предпочитал небольшие заказы, которые быстро окупали его затраты, книгам с неопределенным рынком, финансовая выручка от которых могла быть получена не ранее чем через год.
Нехватка и плохое качество бумаги явились еще одним сдерживающим обстоятельством для книгопечатания. Хотя Уильям Брэдфорд, печатник из Филадельфии, основалбумажную фабрику неподалеку от Джермантауна еще в 1690 году и производство бумаги увеличилось за колониальный период, американские печатники по-прежнему оставались зависимыми от европейских поставок. Одной из причин, почему Акт о гербовом сборе и законы Тауншенда вызывали такое раздражение и приблизили революционные события, была та, что эти законы включали бумагу в число импортируемых товаров, подлежавших налогообложению. Даже если не принимать во внимание принципиальные вопросы, высокая цена на бумагу сама по себе давала печатникам повод разжигать негодование американцев. Об острейшей потребности в импорте бумаги можно судить исходя из того, что более дешевые ее сорта, которые использовались для газет, были исключены в 1769 году из революционных резолюций, запрещавших импортирование ряда товаров.
Во время Революции Джорджу Вашингтону приходилось писать своим генералам на каких-то клочках, за неимением лучшего, офицерам отправлялись незапечатанные депеши, поскольку бумага была слишком драгоценна, чтобы использовать ее для конвертов. Корреспонденты писали на вырванных
361
из начала или конца книги чистых страницах и на листках из старых бухгалтерских книг. Иногда из-за отсутствия бумаги неделями не выходили газеты, и часто они были напечатаны на разнородной по цвету, размеру и качеству бумаге, какую удалось найти печатнику.
Недостаток бумаги остро ощущался в колониальный период из-за нехватки тряпья — из него делалась бумага — и квалифицированных изготовителей бумаги. Когда Уильям Паркс основал в 1774 году первую бумажную фабрику в Виргинии, он в своей «Газетт» (26 июля 1774 года) убеждал жителей Уильямс-бурга продавать ему свою изношенную полотняную одежду:
Сказал философ, что из ничего Нам сделать невозможно ничего. Почтенный Паркс закону вопреки Вам за ничто наполнит кошельки. (Да будет славен этот патриот, Кто за тряпье наличные дает!)...
Мы в старых сундуках порой храним Былых воспоминаний сладкий дым. Вот фартук шерстяной, побитый молью, В котором совершали богомолье,
А вот чепец, что вдохновил поэта На двадцать два любовные сонета, А эти две батистовые шали Какие перси некогда скрывали...
Делия Смок в городе живет И свято нравственность свою блюдет. Не бойся, Делия, неси в «Газетт» Свою одежду, в этом сраму нет, Ведь можно и одежду отнести, И непорочность строго соблюсти.
Печатники Новой Англии для развития своего бизнеса использовали причуды в большей степени теологического свойства. В ценном бумажном грузе с захваченного испанского корабля, который Томас Флит, бостонский печатник и книгоиздатель, приобрел в 1748 году, он обнаружил несколько кип папских булл и индульгенций. На обратной стороне некоторых из них он напечатал тексты популярных песен, таких, например, как «Черноглазая Сюзанна», «Красавчик Гарри», «Прогулка Тига в лагерь», а другие разрекламировал для продажи: «Буллы и ин-
Перевод В. Орлова.
362
дульгенции теперешнего папы римского Урбана VIII поштучного печатному листу или целой кипой значительно дешевле, чем можно приобрести у французских или испанских священников, но так же выгодно».
Ко всему прочему бумага, изготовляемая в американских колониях, была такого качества, что годилась только для газет, брошюр, листовок, альманахов и букварей, но не для книг, которые должны были использоваться длительное время. Для книг печатнику колониального периода приходилось заказывать у своего лондонского агента европейскую (предпочтительнее голландскую) бумагу. Было трудно или даже невозможно выкроить бумагу одинакового качества на целую книгу, тем не менее печатник не мог позволить простаивать своему малому количеству шрифта, ожидая,пока прибудет бумага для всей книги. Поэтому он обычно набирал часть книги, на которую бумага была, затем складывал напечатанные листы и разбирал шрифт до прибытия новой порции бумаги, позволявшей продолжить начатое.
Типографская краска также была проблемой. В основном справочнике печатников (моксоновском, 1683 года — «Технические упражнения») можно было прочесть, что типографская краска, изготовленная промышленным способом, уступала той, какую могли сделать сами печатники, но печатникам колоний не хватало сажи и лака для такого производства. Поэтому они продолжали в основном полагаться на худшую по качеству готовую краску, импортируемую из Англии. Печатные станки также должны были импортироваться.!! только в 1769 году Айзек Дулиттл из Нью-Хейвена построил на продажу первый американский печатный станок.
Итак, неудивительно, что мало книг печаталось в американских колониях и что основным товаром американского продавца книг на протяжении колониального периода была привозная книга. Революционные резолюции 1769 года, запрещавшие импортирование ряда товаров, аккуратно перечисляли «печатные книги и брошюры» наряду с порохом и рыболовными крючками среди предметов, которые по-прежнему можно было ввозить из Англии. Только к концу XVIII столетия американская печатная книжная продукция стала конкурировать с английской.
Но в колониальный период замечательно было уже то, что печатнику удавалось напечатать хоть какие-то книги — солидные тома законов, отдельные работы по современной истории или религиозные трактаты. На всем, что он печатал, сказывалось плохое оборудование и скудное сырье. Печатник был вы
363
нужден экономить бумагу, используя более мелкий, чем требовалось, шрифт. Иногда экономия поощряла строгость издания, но обычно нехватка бумаги ограничивала возможности художника и, значит, лишала книгу хорошего, радующего глаз оформления.
Хотя американцы пытались импортировать некоторые из английских нововведений, американское печатное дело в техническом отношении значительно отставало от английского на протяжении XVIII столетия. Во время пребывания в Англии после 1724 года Бенджамину Франклину с его сверхъестественным талантом находиться в нужном месте в нужное время случилось работать на некоторых из спонсоров Уильяма Кэсло-на и поэтому быть в курсе относительно кэслоновского усовершенствованного шрифта, который он импортировал в Америку в 1740-х годах. Но только в 1790 году, после того как техника набора и производство бумаги стали хорошо налаженными в Америке, там вышла первая монументальная работа: началась серийная публикация американского издания Британской энциклопедии, которая насчитывала восемнадцать томов и печаталась семь лет.
С зарождения своего ремесла европейский печатник пытался защитить свои капиталовложения, обеспечив себя наперед поддержкой богатого покровителя, который обычно рассчитывал на лестное посвящение. Постепенно, с расширением книжного рынка, печатники искали для каждого издания не одного,а многих покровителей; люди заранее соглашались купить определенную книгу при выходе ее в свет. Когда рынок еще больше расширился, как в Англии XVIII столетия, издатели стали рисковать своими собственными капиталами. Но еще длительное время американские книги продолжали выходить под патронажем официальных лиц, губернаторов и законодательных органов. Льстивые посвящения надменному покровителю, который купил комплименты в свой адрес, редко встречаются в книгах, напечатанных по эту сторону океана.На протяжении XVIII столетия американский печатник в большей степени, чем его английский коллега, старался покрыть свои капиталовложения за счет осуществленной заранее подписки.
Поскольку на книги необходимо было подписываться заранее, для печатника имелись все основания обезопасить себя, проявляя осторожность в отношении новых идей, неизвестных авторов, радикально настроенного корреспондента. Когда же он решался выпустить книгу без подписки, то старался не ри
364
сковать. Издательский список даже предприимчивого Бенджамина Франклина был вполне традиционен. Франклин издавал книги, как отмечал Карл ван Дорен, чтобы делать деньги или заводить друзей, предпочтительнее и то и другое. Выпущенные им правительственные издания, альманахи и такие книги, как «Каждый человек сам себе врач» (1734), «Справочник ветеринара» (1735) и «Новоанглийский букварь», принесли значительный доход.
Издание американских книг увеличивалось на протяжении XVIII столетия, однако работ, имеющих непреходящую ценность, появилось немного. Более объемные и многочисленные произведения, особенно в Новой Англии, были по обыкновению религиозными — проповеди, трактаты, практические руководства и комментарии к Библии, — хотя не обязательно работами по теологии. В списках американских ходовых книг преобладали учебники, подобные «Новоанглийскому букварю», практические руководства вроде справочника Джона Теннента «Каждый человек сам себе врач», справочники в области бизнеса, как «Руководство для молодого секретаря» Уильяма Брэдфорда, таблицы готовых расчетов и ноты. На Юге юридические книги превосходили числом религиозные. Поскольку колонии располагали многими законодательными органами, небольшим числом подготовленных юристов, несколькими системами судов, часто с судьями-непрофессионалами, юридические справочники пользовались повсеместным спросом. Были, конечно, исключения, подобно Псалтырю (1640), «Исследованию свободы воли» (1754) Джонатана Эдвардса и меннонитской книге мучеников — «Der Blutige Schau-Plat»(1748), которая с ее 756 страницами имела отличительную черту — была самой объемной (и, по общему мнению, самой безобразной) книгой, изданной в колониях перед Революцией.
Наблюдательный автор обзора «Bibliotheca Americana» писал из Лондона в 1789 году:
Северной Америке, возможно, недостает некоторого изящества литературы. Она гордится не теми достойными литераторами, которые вызывают в Европе низкопоклонство со стороны ученых паразитов и аплодисменты непросвещенной толпы за поиски и открытия, которые как раз и определяют путь к настоящим изяществам и удобствам жизни...
Все,что полезно,— продается, но скорее издания по темам чисто спекулятивного свойства и любопытные, чем важные, книги же по искусству и науке, многотомные и дорогостоящие, в основном остаются на руках у продавцов. Американцы не имеют свободных денег на все,что угодно, а только на то,что им необходимо, и при книжных закупках исходят из настоящей или будущей пользы.
365
50 РАСЦВЕТ ГАЗЕТЫ
Американский печатник скорее служил грамотности, нежели литературе. Выпуск литературных произведений был незначителен в сравнении с огромным количеством другой продукции, требующейся для коммерческой деятельности и правительственных нужд. В этом было какое-то сходство с английским книгопечатанием. Но в целом работа печатника в Америке не могла быть такой, какой ее сделали традиция и аристократия по другую сторону океана.
Колонисты, как мы убедились, располагали готовой художественной литературой, которую просто импортировали из метрополии, и наиболее известные книги английской литературы были, вероятно, столь же доступны в основных колониальных городах, как и в английской провинции. Если печатник мог привезти и продать книгу из Лондона, для чего ему было напрягаться, чтобы выпустить худшее и более дорогое колониальное издание? Печатники колоний полностью издали Библию на английском только в 1782 году, но к 1663 году уже выпустили более тысячи экземпляров известного перевода Библии Джона Элиота на индейский язык. Библия на английском могла быть с достаточной легкостью привезена из Англии, но индейский перевод, важный для новоанглийских миссионеров, не мог быть получен нигде в другом месте. Американский печатник оставался свободным для удовлетворения специальных нужд своей общины. Джефферсон считал предметом особой гордости американцев то, что они были спасены от «массы чепухи», которая выходила из-под европейских прессов, но далеко обошли Европу по производству полезной научной продукции.
Как мы увидим, именно нужды колониальной администрации поддержали печатников в самом начале. К тому же разбросанность правительства по нескольким колониальным столицам способствовала очень ранней распространенности очагов грамотности и общественной информации. Печатного станка не было ни в одном английском провинциальном городе до 1693 года, когда последние ограничительные акты наконец потеряли силу, по-прежнему не было станков в таких английских городах, как Ливерпуль, Бирмингем и Лидс. Но в американских колониях к концу этого года прессы уже появились в Кембридже, Бостоне, Сент-Мэрис-Сити (Мэриленд), Филадельфии и Нью-Йорке. Если бы каждой колонии пришлось ждать станков до тех пор, пока спрос на книги или коммерче
366
ское печатание обеспечит соответствующий доход, прошло бы много десятилетий, но американская печать стала процветать к середине XVIII столетия. И все это благодаря правительственным субсидиям. В1762 году, когда Джорджия, последняя из тринадцати колоний приобретшая станок, привлекла Джеймса Джонстона на работу в Саванну в качестве правительственного печатника, в колониях насчитывалось уже около сорока работающих типографий.
В первые годы бблыпая часть того, что выходило в печати, была правительственными изданиями: законы, бюллетени, отчеты колониальных законодательных органов. Первым документом, напечатанным в английской Америке, была не поэма или проповедь — им был юридический бланк «Присяга свободного человека», датированный 1639 годом. Юридические и коммерческие бланки были главными предметами торговли, поскольку требования, предъявляемые к ним, не менялись с эволюцией литературных вкусов. Когда Франклин, приблизительно в 1730 году, открыл свой писчебумажный магазин, в его первом ассортименте товаров было много таких бланков, которые в его «Автобиографии» скромно характеризуются как «самые правильные из всех, что были у нас». Многочисленные колониальные правительства, каждое со своим уставом и своей системой судов и документов, увеличивали количество необходимых бланков.
Слава «Альманаха бедного Ричарда» затмила мириады других альманахов, которые отвечали повседневным нуждам. Каждый честолюбивый колониальный печатник издавал свой собственный альманах. Альманахи предлагали американскому фермеру XVIII века услуги, которые сейчас оказываются сельскохозяйственными службами, городскими газетами, журналами, радио и телевидением. Часы восхода и захода солнца, циклы луны, приливы и отливы, прогнозы погоды были расписанием жизни фермера, необходимым ему, как и железнодорожное расписание современному владельцу сезонного билета. Для многих фермеров альманах был наиболее важным изданием, помимо Библии, которым он располагал. Он сообщал ему даты судебных заседаний и расписание почтовых курьеров, почтовых карет, пакетботов. Он соединял в себе характерные черты журналов «Ветер хоумс энд гарденс», «Попьюлар микэникс» и «Ридерз дайджест». Он содержал практические советы, как, например, рецепт, предложенный в «Альманахе Джонаса Грина» за 1760 год, «согласно которому мясо, какой бы неприятный запах оно ни имело, можно было сделать за несколько минут таким же
367
ароматным и безопасным для употребления, как вообще любое мясо». Мало кто из печатников не давал мудрые, хотя, возможно, и не столь уж новые советы и не высказывал особые соображения для «уединенных жилищ бедных и неграмотных, куда глубокомысленные рецепты ученого писателя никогда не проникают». Старые номера сохранялись, чтобы скоротать долгие зимние дни, развлечь засидевшегося гостя или использовать в качестве записных книжек и для подсчетов. Кипа из дюжины или более старых номеров со всегда уместными советами, информацией и литературными драгоценностями стала главной отрадой читателей отдаленных районов. В годы перед самой Революцией альманахи распространяли новейшую политическую информацию, мнения и споры.
В то время как ни один печатник не мог приобрести известность, не издавая альманах, большие доходы и будущее были связаны с газетой. Конторские книги печатной компании Франклина и Дэвида Холла за 1748 —1765 годы показывают, что доходы от «Пенсильвания газетт» в этот период были самой большой статьей дохода (свыше шестидесяти процентов) их предприятия, остальное приходилось примерно поровну на общественные и служебные и другие издания, включая и «Альманах бедного Ричарда». В то время как масштабы предприятия Франклина были необычными, его пропорции,скорее всего, можно считать типичными — большой акцент на современные и функциональные работы, скудный список «литературы». Незадолго до конца XVIII столетия английский наблюдатель, сделавший обзор американской печатной продукции, мог сообщить:
Газеты Массачусетса, Коннектикута, Род-Айленда, Пенсильвании и Мэриленда бесподобны в той, что касается остроумия и юмора, развлечения или советов. Каждая столица штата на этом континенте издает еженедельную газету, и некоторые из них располагают одной или большим числом ежедневных газет.
В первой половине XVIII века, когда только начали печататься английские провинциальные газеты, газеты в столицах колоний стали уже привычным институтом. К 1730 году семь газет регулярно выходили в четырех колониях, к 1800 году их насчитывалось более ста восьмидесяти. «Нью-Йорк газетт» или «Уикли пост бой» с гордостью отмечали (16 апреля 1770 года):
Не в пику университетам Я воздаю хвалу газетам. Они для нашего народа Как школы (но иного рода).
368
Когда б они не выходили, О чем бы люди говорили? Газета—пир из новостей, Здесь блюда есть для всех гостей — Кто любит с перцем, кто послаще, Кусок находит подходящий .*
В конце XVIII века преподобный Сэмюел Миллер отмечал, что, хотя население Соединенных Штатов составляло половину населения Британии, суммарный годовой тираж газет, по оценкам, превышал двенадцать миллионов, более чем на две трети превосходя тираж газет метрополии. «Часы, отведенные для чтения большинством людей, — писал Франклин из Филадельфии в 1786 году, — в последнее время столь заняты газетами и периодически выходящими небольшими памфлетами, что немногие решаются попробовать прочесть книгу форматом в четверть листа».
Ранний расцвет американской газеты был в некотором смысле чисто колониальным проявлением того, что сначала имело место и в Англии, но получило дальнейшее развитие благодаря многим местным особенностям: распространению грамотности, протяженности страны, существованию нескольких столиц, каждая со своими политическими новостями, и конкуренции среди ряда прибрежных городов. Многое из того, что американцы говорили о своих привычках в области чтения, было патриотическим преувеличением, однако имелось достаточно фактов, подтверждавших портрет Америки, нарисованный преподобным Сэмюелем Миллером около 1785 года:
Зрелище, никогда ранее не наблюдавшееся среди людей и даже до сих пор не имеющее аналогов на земле. Это зрелище не только образованных и богатых, но большинства людей; даже те, кому предопределена ежедневная работа, имеют свободный и постоянный доступ к общественной печати, получают регулярную информацию по любому случаю, следят <за ходом политических событий, обсуждают общественные дела, и это, таким образом, означает, что стремление к приобретению знаний дает и необходимые средства к его осуществлению. Никогда, можно с уверенностью сказать, количество политических изданий не было столь велико в пропорции к населению страны, как в настоящее время у нас. Никогда они не были, учитывая все обстоятельства, столь дешевы, столь повсеместно распространены и столь легко доступны.
Наиболее подходящим литературным выражением американской жизни, меняющейся, полной новшеств, движения и разнообразия, была калейдоскопическая, недолговечная, разно
* Перевод В.Орлова.
369
сторонняя газета. Газета должна быть полезной и своевременной, она не может требовать длительного изучения и сосредоточенности, она должна быть грамотной, но не может отделять художественное и экспрессивное от коммерческого и утилитарного. Она должна соединять общественное и частное; должна считаться с общиной, но не декларативно, а опираясь на факты и анализ конкретных событий. На примере газет видно, как Америка покончила со всеми различиями. «Они доносили до каждого класса в обществе, — отмечал печатник того времени, — бесчисленное множество разрозненных знаний, которые сразу же обогатили интеллектуальный уровень общества и привили людям вкус к внимательному прочтению периодических изданий».
Для спасения газет от чрезмерной «литературности» не было ничего важнее рекламы, которая привязала их к повседневным коммерческим заботам. «Кроме того, ежедневные рекламные объявления в газетах о новых книгах, проектах, изобретениях, открытиях и усовершенствованиях, — объяснял Исайя Томас, печатник и историк колониального периода, — хороши, чтобы расширить кругозор и просветить общественность, и по праву относятся к методам пробуждения и концентрации общественного внимания, каких, судя по приведенным примерам, не счесть в наше время». Очень рано американская газета скорее должна была оправдывать себя в утилитарном качестве, нежели считаться поставщиком истин в последней инстанции. Несмотря на то что во Франции Робеспьер и Мирабо владели каждый своей собственной газетой для обращения к избирателям, это был не американский стиль. Джефферсон с негодованием отвергал любой контроль над прессой, которая защищала его точку зрения. Только около полувека после 1790 года в американской прессе господствовал сильный дух партийной пристрастности. Большую же часть истории журналистики независимость и высокое качество американской прессы были связаны в основном с коммерческим духом и необходимостью предложить покупателю на свободном рынке нечто,стоящее его денег.
Поскольку ранние американские журналы носили, как правило, локальный характер, они были в гораздо меньшей степени необходимыми круговороту повседневной жизни, чем газета, и, таким образом, медленнее расцветали на американской почве. Журнал, как и книга, является «смешанной» литературной формой, содержит разнообразные развлекательные материалы и наставления; он приближается к книге по формату, по постоянству читательского интереса и требованиям, предъявля
370
емым к печатнику. Беспрецедентный успех журнала в Америке задержался на полтора столетия и тогда стал символом глубоко просветительского, хотя решительно нелитературного характера нашей культуры. В Англии XVIII столетия журнал по-прежнему нес на себе печать небольшого круга образованных людей, для которых и предназначался.
Только в 1741 году начал выходить первый американский журнал с продолжительной историей. До начала эры Революции американские журналы были немногочисленны, недолговечны (не более трех лет) и бесцветны. Лишь к концу XVIII века появился жизнеспособный, широко распространенный типично американский журнал. Большинство ранних американских журналов откровенно копировали английские «Джентлменс мэгэ-зин» и «Лондон мэгэзин»; они были, по словам Фрэнка Лютера Мотта, не чем иным, как «британскими журналами, публикуемыми в колониях». Недостаток в них литературных новинок был впечатляющ; они, казалось, были созданы в основном при помощи ножниц, нежели пера. Американские периодические издания обыкновенно заимствовали по меньшей мере три четверти своего содержания из других (преимущественно английских) книг, брошюр, газет и журналов — способ составления наиболее простой во времена, когда авторское право еще не сделало плагиат неприличным.
51
ПОЧЕМУ КОЛОНИАЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЫЛА КОНСЕРВАТИВНОЙ
Когда печатные станки, комплекты шрифта, бумага и типографская краска должны были импортироваться, когда перевозки по суше были плохо развиты и городов было немного, ни один человек не мог иметь печатный станок или работать на нем без ведома и согласия правительства. Никогда пресса не контролировалась более эффективно, чем в первые годы существования американских колоний. На обширной незаселенной территории не было никаких «подпольных прессов», которые на протяжении всего XVII века дразнили и приводили в ярость власти в Англии.
Ни в одной из колоний не было ничего похожего на сегодняшнюю «свободу печати». К 1686 году английское правительство включало в свои официальные указания губернаторам провинций следующий параграф:
371
И поскольку очень большое неудобство может возникнуть вследствие свободы печатания на нашей вышеупомянутой территории при нашем правительстве, вам надлежит принять меры, используя все необходимые приказы, чтобы никто не держал никакого печатного станка и чтобы никакая книга, брошюра или какая бы то ни было другая продукция не была напечатана без прежде полученного от вас специального разрешения и лицензии.
Этот контроль оставался в правовых обязанностях королевских губернаторов в течение всего времени существования королевских губернаторов в тринадцати колониях. Сколь бы нелегким и неблагоразумным ни был процесс принуждения, сила всегда незримо присутствовала и, должно быть, сдерживала печатников колоний.
Власти все еще были под впечатлением большой силы, которую печать могла дать любому безответственному человеку. Европейским правящим классам не заботиться о контроле над производством взрывоопасной печатной продукции было равнозначно разрешению производства пороха без лицензии или создания частных армий. В Америке контроль осуществлялся иногда одним способом, иногда другим, и потребность в цензуре менялась по мере развития событий. Но одно ясно: традиционная европейская идея монополизации прессы с целью укрепления социального порядка была успешно перенесена на американские берега. Американские условия сделали этот контроль даже более эффективным, чем в Англии.
Между 1639 и 1763 годами более половины американской печатной продукции выходило в Новой Англии, и вся эта про-дукция,за небольшим исключением,была напечатана в Бостоне или вокруг него. Массачусетский контроль над печатью был поэтому одним из важнейших регулирующих факторов раннего периода. В течение двух десятилетий после появления первого печатного станка в Массачусетсе в 1638 году не существовало официальной цензуры, но незначительная продукция кембриджской типографии не содержала ни одного материала, который мог бы прийтись не по вкусу представителям исполнительной власти. Дебаты внутри общины — как, например, по делу Энн Хатчинсон или по требованию правовой реформы, выдвинутому доктором Робертом Чайлдом, — не нашли отражения в печатной продукции Массачусетса для поддержки недовольных. За кембриджской типографией надзирал президент Гарвардского колледжа. В 1662 году массачусетская администрация, обеспокоенная «возмутителями общественного благополучия», приняла закон «для предотвращения беспорядков и оскорбления властей страны, связанных с печатью», и в со
372
ответствии с ним создала специальный орган для цензуры всех материалов перед печатью. История печати в колониальном Массачусетсе, таким образом, — простой рассказ о различных формах и степенях контроля. Цензура строго осуществлялась приблизительно до 1685 года, немного слабее в течение последующих сорока лет. После 1723 года колониальное правительство не просматривало рукописи перед печатанием, но часто угрожало судебным преследованием (и иногда действительно они имели место) в соответствии с нечетким законом о клевете.
В Англии на протяжении этих лет рост населения, увеличение количества печатных станков и расцвет либеральных идей сделали правительственный контроль за прессой более затруднительным. Но он оставался эффективным в Массачусетсе. Поскольку там колониальное правительство действовало по своим собственным законам, упущения в английском законе о цензуре (после 1679 года) и даже истечение сроков действия всех английских цензурных законов в 1695 году не способствовали ослаблению контроля над американской печатью. Цензура (т.е. контроль перед публикацией), хоть и не такая строгая, продолжала иметь место в колонии Массачусетского залива на протяжении последующей четверти столетия. Таким образом, когда «Ныослеттер», первая регулярно выходящая газета в Америке, появилась в Бостоне 24 апреля 1705 года, она несла на себе печать цензуры, уже устаревшую для Англии, — контрольную фразу «опубликовано с дозволения властей». Губернаторский совет продолжал осуществлять свое неоспоримое право запрещать печатную продукцию критического толка.
Усиленный контроль за прессой перешел в эпоху Революции. В 1770 году,на начальных этапах революционного волнения в Массачусетсе, английские лорды из Совета по колониальным делам выражали недовольство тем, что колониальное правительство не сумело наказать «подстрекательские и клеветнические публикации». Губернаторский совет Массачусетса ответил, что в рамках конституционных ограничений он на самом деле действовал более успешно, чем палата лордов в Англии. «Почему нет обвинений в адрес палаты лордов... что они не препятствуют этим подстрекательским и клеветническим публикациям дома? Если у нас и бывают подобные, то на пятьдесят таковых в Англии у нас встречается одна». Тем не менее Совет постарался реабилитировать себя, начав судебное преследование за клевету против критически настроенных печатников. К началу Революции закрытие оппозиционных типографий было установившейся практикой, свобода печати не приобрела всеобщей поддержки, не закрепи
373
лась в сознании общества. Поэтому по мере роста революционных настроений в Бостоне радикальная партия использовала террор толпы против писателей и печатников, которые осмеливались защищать короля и парламент. Когда Массачусетс принял свою новую конституцию в 1778 году, она включала декларацию в поддержку свободы печати, но декларация была риторической и двусмысленной, вероятно, из-за широко распространенных сомнений в мудрости такой ранее не существовавшей практики. Во время войны, когда все публикации, неблагосклонные к революционному движению, были запрещены, не существовало реальной свободы печати. После того как наступил мир, политические лидеры в Массачусетсе потребовали не «свободной печати», а возврата к «хорошо регулируемой».
Джон Адамс, например, в течение длительного времени утверждал, что «лицензия на печатный станок не доказательство свободы». Еще в 1774 году, когда защитник на британском судебном процессе заявлял, что революционные обвинения в тирании необоснованны, поскольку в Массачусетсе разрешено печатать самые разнообразные мнения, Адамс выражал недовольство «возмутительной лицензией на печатные станки тори». «В мире нет ничего столь совершенного, чем нельзя было бы злоупотребить... Когда народ коррумпирован, печать может быть превращена в машину, которая завершит его падение, и все теперь знают, что кабинет министров ежедневно использует ее для усиления и укрепления коррупции и для уничтожения добродетели на корню... и свобода печати вместо того, чтобы содействовать свободе, только приблизит ее погибель». Неудивительно, что Джон Адамс и его товарищи—лидеры федералистов в Массачусетсе поддержали законы 1798 года об иностранцах и подстрекательстве, они только были обеспокоены, что законы могут оказаться неэффективными. «Если когда-нибудь суждено будет настать коренному улучшению жизни человечества,—по-прежнему предостерегал Адамс два десятилетия спустя, — философы, теологи, законодатели, политики и моралисты обнаружат, что регулирование печати — самая трудная, опасная и важная проблема, которую им придется решать. Человечеством нельзя сейчас управлять как без этого, так и с этим».
В колониальном Массачусетсе господствующие священники, подобно семейству Мэзеров в пору его расцвета, обнаружили пути для претворения в жизнь своих норм в обход закона. Когда Инкриз Мэзер написал в 1700 году книгу, подвергнув критике деятельность церкви, недавно образованной в колонии преподобным Бенджамином Колменом и его друзьями, обвиняемый
374
священник приготовил ответ, но, чтобы обеспечить его публикацию, ему пришлось отправить рукопись в Нью-Йорк. «Желательно, чтобы читатель обратил внимание на то, — говорилось в памфлете Колмена, — что печать в Бостоне испытывает такой страх перед почтенным автором, которому мы отвечаем, и его друзьями, что мы не могли добиться от здешнего печатника опубликования следующих листов, и это явилось единственной истинной причиной, почему мы послали рукопись для издания столь далеко, где она и напечатана с некоторыми трудностя-ми».Бартоломью Грин, бостонский печатник, объяснил следующую коммерческую причину, скрывавшуюся за его отказом: в последний раз, когда он выполнил печатную работу без предварительного правительственного разрешения, у него потребовали внести исправления и перепечатать ее с учетом официальных критических замечаний.
Печатание началось при поддержке правительства во всех колониях. Печати предполагалось быть подпоркой для существующих институтов; там, где была опасность, что она может послужить другим целям, власти вообще предпочитали обходиться без печати. «Я благодарю Бога, что у нас нет ни бесплатных школ, ни печатания, — с гордостью заявил в 1671 году сэр Уильям Беркли, губернатор Виргинии в течение тридцати восьми лет,— и надеюсь, у нас век их не будет. Поскольку учение принесло с собой в мир неповиновение, ересь и секты, а печатание их обнародовало вместе с клеветой на правительство. Бог уберег нас и от того и от другого». Некоторые виргинские лидеры следующего столетия не разделяли энтузиазма Беркли по поводу неграмотности, но долгие годы его скромные идеалы, предначертанные для Виргинии, ощущались по крайней мере в отношении печати. В 1682 году правительство впервые было напугано из-за печатного станка и печатника, привезенных Джоном Бакнером, богатым землевладельцем и купцом округа Глостер, чье правонарушение состояло в публикации некоторых колониальных законов без разрешения властей. Бакнер предстал перед губернатором и Советом, ему было велено прекратить свои подрывные действия и для «предотвращения всех бед и беспокойств, которые могут произойти вследствие свободы печати», дать обязательство вести себя подобающим образом. В 1683 году король Англии приказал, с целью предотвращения любых таких «бед и беспокойств» в будущем, губернатору Виргинии «обеспечить с помощью всех необходимых приказов и инструкций невозможность использования никакого печатного станка никогда вообще». До 1730 года, когда Уильям Паркс ос
375
новал цех в Уильямсбурге, в Виргинии не было печатных станков. С тех пор до 1766 года она располагала только одним, да и тот официально служил правительству. «Я не слышал, чтобы издание газет было когда-либо запрещено в Виргинии, — вспоминал Джефферсон много лет спустя. — До начала революционных диспутов у нас был только один печатный станок,и тот в основном печатал правительственные материалы, но для иных, общественных нужд не было ни одного,ничего неприятного для губернатора не могло быть напечатано».
За пределами Бостона ведущими печатными центрами были Филадельфия и Нью-Йорк. В обоих городах право властей контролировать печатную продукцию, если не с помощью цензуры, то судебными преследованиями за клевету и законодательными указами, продолжало признаваться по крайней мере до Революции. Уильям Брэдфорд, который был первым печатником Пенсильвании (первая публикация датируется 1686 годом), находился в постоянном конфликте с правительством и «Обществом друзей» обычно из-за самой банальной неучтивости. Наконец, в 1693 году, когда он подвергся судебному преследованию за публикацию памфлета, поддержавшего одну из сторон в междоусобном квакерском споре, он с отвращением покинул колонию и стал королевским печатником в Нью-Йорке. В последующие полдюжины лет в Филадельфии вообще не было печатного станка. Сын Уильяма Брэдфорда Эндрю, который вернулся в Филадельфию и стал официальным «печатником провинции» в 1719 году, был только слегка более удачливым, чем его отец, в удовлетворении требований властей. Судебные разбирательства о клевете и подавление оппозиционной прессы были обычным делом до конца Революции.
Во многом аналогичная история рассказана о Нью-Йорке, который начал соперничать с Бостоном и Филадельфией в качестве источника печатной продукции только после 1760 года. Известное дело Джона Питера Зенгера (1734 — 1735), которое подтвердило право суда присяжных в делах о клевете трактовать соответствующий закон в зависимости от обстоятельств, важно в ретроспективе и как поворотный пункт в правовой доктрине. Но для установившейся практики общества это не имело такого значения; даже после дела Зенгера вопрос в Нью-Йорке ставился не о том, должна ли пресса быть «хорошо регулируемой», а о том, в чьей власти это регулирование. Вознаграждением Зенгеру за оправдание в суде, сделавшее его героем в написанных позднее историях свободы печати, явилось его назначение монопольным «общественным печатником» в 1737 го
376
ду. Двадцатью годами позже другой печатник, Хью Гейн, предстал перед судом законодательного собрания и ему был сделан выговор; он смиренно попросил прощения, но все равно с него были востребованы судебные издержки — за правонарушение, заключавшееся в публикации части отчетов открытых заседаний представительного органа! Джеймс Паркер — печатник Генеральной ассамблеи Нью-Йорка — в 1747 году повиновался запрету губернатора Клинтона и не опубликовал протест Ассамблеи против него, но на следующий год осмелился напечатать этот документ среди результатов голосования в Ассамблее. А через десять лет, в 1756 году, сама Ассамблея признала Паркера «виновным в серьезном проступке и неуважении к власти этого учреждения» за публикацию статьи в его газете, содержащей критику в ее адрес. И так далее.
Американская колониальная печать была ограничена не только правительственным контролем, цензурой и угрозой судебного преследования за клевету. Первые американские печатные станки были обязаны самим своим существованием колониальным правительствам — это неизбежно сказывалось и на самих печатниках, и на продукции их цехов: правительственная поддержка означала правительственный контроль. В разрозненных колониальных общинах, где имевшаяся небольшая страсть к литературе удовлетворялась с помощью книг, ввозимых из метрополии, появление печатных станков могло быть отложено на десятилетия, если бы это зависело от спроса на беллетристику. Но с образованием первых поселений каждое правительство стало нуждаться в печатном станке, чтобы распространять свои воззвания и законы, публиковать материалы о дебатах, заседаниях, решениях и результатах голосования для губернаторских советов и законодательных ассамблей, а также удовлетворять ежедневные потребности в юридических-бланках. Даже в первые годы существования каждой колонии, когда рынок для коммерческого печатания был мал, спрос на локально изданные книги отсутствовал и торговля газетами и периодическими изданиями все еще неразвита, правительство могло предложить годовой контракт с гарантированным доходом каждому, кто обещал выполнять его заказы.
Если коротко рассказать о введении печатания в американских колониях, то получится отчет о том, как тринадцать различных правительств субсидировали общественную службу. В Массачусетсе печать на начальном этапе своего существования была, как и следовало ожидать, под пристальным надзором ведущих священников и Гарвардского колледжа; она служила
377
церкви и штату одновременно. Ее возможности и назначение нашли свое отражение уже в первых трех изданиях: недавно исправленной «Присяге свободного человека» (1639), альманахе, составленном для Новой Англии (1639), и известном Псалтыре (1640) — новом и, по общему мнению,более литературном переводе псалмов тремя богословами Новой Англии. Основной продукцией ранней печати английских колоний были постановления суда высшей инстанции.
Бенджамин Франклин, будучи предприимчивым бизнесменом, ценил свое назначение клерком в Законодательную ассамблею Пенсильвании в основном за возможность обеспечить свои печатные станки правительственными заказами. Менее чем за двенадцать лет (1739—1750) Франклин получил в качестве жалованья за печатание законодательных актов и бумажных денег сумму в 2762 фунта из пенсильванской казны. Франклиновское «Скромное изучение свойств и необходимости бумажных денег» (1729), которое он и написал и напечатал, привело к выпуску большего числа местных бумажных денег, обеспеченных богатым запасом пенсильванской земли. «Мои друзья здесь (в Ассамблее), которые полагали, что я принес некоторую пользу, сочли нужным вознаградить меня тем, что наняли печатать деньги — очень выгодная работа и большое подспорье. Это еще одно мое преимущество, связанное с умением писать». В другой раз Франклину даже заплатили за уничтожение колониальных денег, когда они со временем истрепались. Приблизительно в это же время соседняя колония Делавэр заключила с Франклином контракт на печатание денег, законов и протоколов правительственных заседаний.
Уильям Паркс, который в 1730 году привез Виргинии ее первый за полвека станок, только двумя годами раньше основал цех в Аннаполисе, став официальным печатником колонии Мэриленд, которая привлекла его гарантированным годовым жалованьем за печатание отчетов о дебатах, результатах голосования и документов Законодательной ассамблеи. Паркс задействовал свой печатный станок в Уильямсбурге только после того, как Законодательная ассамблея Виргинии предложила ему печатать ее официальные бумаги и с каждым годом возраставшую массу денег за сумму от 120 фунтов и до 280 к концу его жизни. Не все колонии были столь удачливы, некоторым приходилось отсылать свою продукцию в соседние или даже за границу. Хотя Законодательная ассамблея Южной Каролины, чтобы привлечь печатника, предлагала поощрительную премию еще в 1722 году, только через девять лет ей удалось его получить.
378
В таких условиях колониальная пресса едва ли могла стать очагом новых, ошеломляющих и радикальных идей. Печатник должен был быть «человеком правительства», приемлемым для правящей в колонии группировки. Только правительственные заказы делали возможным печатнику в колониях жить за счет своей профессии; поэтому печатание правительственных бумаг занимало первое место в его строгом расписании, о чем свидетельствовали многие предисловия к частным образом поддерживаемым книгам, содержащие извинения по поводу запаздывания с их изданием или публикации в сокращенном виде. Однако с развитием торговли и ростом населения в каждой колонии печатание правительственных бумаг составляло все меньшую долю печатного бизнеса. И, наконец, пришло время, когда стало финансово возможным для инакомыслящего или нетрадиционного печатника идти своей дорогой.
52
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПЕЧАТНИК»
Многие столетия блистательные американские «джентльмены прессы» вовсе не были «джентльменами» по европейским стандартам. Предшественники американского газетчика не были эссеистами, остряками и профессиональными писателями, но в первую очередь печатниками — мастерами, имеющими дело с полезной общественной информацией. Они не были литераторами, для которых естественной средой служили гостиная, кофейня или салон. Напротив, они были слугами народа, или, на языке XVIII века, «общественными печатниками». Их руки были испачканы типографской краской, они часто посещали законодательные ассамблеи и рыночную площадь в поисках ходового товара. Их печатные цеха стали форумами и почтовыми конторами — центрами новостей и мнений. Чтобы заработать на жизнь, им приходилось завоевывать доверие правительства, открывать источники новостей и изыскивать способы быстрой реализации своего товара. Они уже начинали развивать беспрецедентную сеть общественной информации, которая потом объединит большую нацию, стимулируя возрастающий аппетит к новостям.
Некоторые особенности жизни колоний усилили внимание людей, которые зарабатывали на жизнь подобного рода деятельностью. Наиболее важной из них было большое число самостоятельных правительств — каждое со своими исполнительной
379
властью и легислатурой, материалами заседаний и предписаниями, которые нужно было печатать. Само существование стольких многих самостоятельных политических единиц придало особый статус и практическое общественное назначение ранней американской печатной продукции и, таким образом, помогло поставить печатный станок на службу всему грамотному обществу.
К началу Революции каждое колониальное правительство располагало печатником в своей собственной столице для удовлетворения своих собственных нужд, печатники трудились во всех основных городах вверх и вниз по Атлантическому побережью. Если одно колониальное правительство было недовольно своим общественным печатником, другое радушно принимало его и помогало организовать официальное предприятие. Лица, обладавшие квалификацией, чтобы стать общественными печатниками, всегда ценились.
В то время, когда печатные станки стали распространяться в городах Америки, так же как перемещались они из Лондона, Оксфорда и Кембриджа в английские провинции, американский печатник колониальных времен обладал достоинством и влиянием (как и некоторыми новыми отличительными чертами), неведомыми его английскому провинциальному коллеге. «Общественный печатник» был американским феноменом. Уильям Паркс, Бенджамин Франклин, Уильям и Эндрю Брэдфорды жили в правительственных центрах, где делались новости. Их влияние в общественной жизни предопределило особые, характерные для американской действительности отношения между политикой и прессой, которые совсем недавно нашли выражение в регулярных президентских пресс-конференциях. Английский провинциальный печатник был всего лишь ремесленником, только лондонский королевский печатник был на особом положении. Но общественный печатник каждой американской колонии занимал важный общественный пост.
Печатая колониальные законы, материалы заседаний Законодательной ассамблеи и главную газету, общественный печатник был основным местным завсегдатаем почтовой конторы. Поэтому он находил удобным и часто прибыльным становиться местным почтмейстером и тогда мог не только использовать почтовых курьеров для доставки своих газет за общественный счет (Франклин так некоторое время и поступал), но и извлекал выгоду из почтмейстерства многими косвенными путями. Огромные расстояния, которые обостряли аппетит на новости, делали почтовую контору в каждом городе местом сбора деловых людей. Поскольку все письма проходили вначале через руки
380
почтмейстера, он имел самый быстрый и конфиденциальный доступ к новостям. Когда горожане приходили получать свою почту, он мог собирать представлявшие местный интерес новости и в то же время продавать книги, журналы, лекарство от кашля, сургуч, шоколад, лимоны, писчую бумагу, перьевые ручки и скрипичные струны. Цех печатника стал напоминать более поздний универсальный магазин. В каждой общине его владелец был влиятельным человеком.
Первая периодическая газета «Бостон ньюслеттер» (первый номер вышел 24 апреля 1704 года) была «напечатана с разрешения властей» Джоном Кэмпбеллом, почтмейстером, общественным печатником колонии. Последующие почтмейстеры в Бостоне стали считать, что такое издание было придано их конторе. Газета Эллиса Хаска, основанная в 1734 году, имела многозначительное название «Бостон уикли пост-бой»* и выходные данные:
Бостон; отпечатано для Эллиса Хаска, почтмейстера: рекламные объявления принимаются в почтовой конторе на Кингз-стрит, расположенной напротив северного входа Городской ратуши, где все жители города или страны могут получить эту газету.
В Коннектикуте первая газета была основана также печатником, который был почтмейстером колонии. Преимущества почтмейстерского поста помогли держать прессу в руках респектабельных людей, располагавших доверием своего правительства.
Первые издатели (а часто и создатели) книг и газет в американских колониях были, таким образом, хорошо знакомы с общественным вкусом и проблемами продажи и доставки печатной продукции широкой публике. Один из немногих случаев, когда Франклин нарушил свое правило, заключавшееся в том, что «никогда не следует просить, никогда не следует отказываться и уходить в отставку» с общественного поста, имел место в 1751 году, когда он добивался должности заместителя главного почтмейстера американских колоний и уполномочил своих друзей в Англии заплатить за нее до 300 фунтов. «Место, по общему мнению, стоит около 150 фунтов в год, но мне бы оно как раз очень подошло, особенно потому, что позволит осуществить давно разработанную программу, экземпляр которой я отослал вам, и она в скором времени даст плодотворные результаты для вас и для всех любителей полезных знаний, поскольку теперь я
«Бостонский еженедельный почтальон».
381
располагаю широкими знакомствами с изобретательными людьми в Америке». Эта программа должна была привести к созданию Американского философского общества, вначале задуманного Франклином как своего рода накопитель полезных знаний. Переписка была его основной целью, поскольку Франклин верил, что прогресс достижим через объединение в общий фонд обычной информации, полученной от людей, «проживающих в разных климатах, на разных землях, строящих разные заводы, шахты, добывающих разные полезные ископаемые и способных претворять в жизнь разные усовершенствования, производить изделия и т.д.».
За время долгого общения с колониальной почтовой службой — вначале (после 1737 года) в качестве заместителя почтмейстера Филадельфии и позднее (1753—1774) заместителя главного почтмейстера американских колоний — Франклин сделал много полезного для почтовой службы и превратил ее в доходное дело для себя лично. К 1769 году контора, которая до его вступления в должность едва покрывала расходы, принесла ему 1859 фунтов чистого дохода. Когда Франклин стал почтмейстером в Филадельфии в 1737 году, не существовало юридических оснований для приема газет в качестве почтовой корреспонденции, как и никаких установленных норм для их разноски. Как почтмейстер он мог просто вручить свои газеты почтовым курьерам (и запретить разносить конкурирующие). Другие преимущества его работы для издательской деятельности были многочисленны: «Развивалась переписка, которая улучшила мою газету, увеличила тираж, как и количество рекламных объявлений, что,таким образом, обеспечило мне значительный доход. Газета моего давнего конкурента соответственно приходила в упадок».
Когда Франклин стал заместителем главного почтмейстера колоний, он расширил эксперимент, начатый в Филадельфии, разрешив своим конкурентам использовать почтовую доставку. В 1758 году он впервые установил твердые (и очень выгодные) почтовые расценки для газет. Даже эта реформа меньше всего была ориентирована на создание свободной прессы, но прежде всего на усиление и рост консервативной. Его цель, он пояснял, заключалась в том, чтобы «избавиться от этих неудобств и в то же время не препятствовать распространению газет, которые во многих случаях полезны правительству, выгодны бизнесу и общественности».
Контроль за распространением газет и, следовательно, за печатным мнением со стороны правительств колоний стал более
382
обременительным по мере обострения конфликта мнений. Уильям Годдард (1740 — 1817) и его сестра Мэри Кэтрин Годдард (1736 — 1816) заслужили положение святых покровителей свободной прессы в Америке, выступив против почтовой монополии. Во многих отношениях прототип американского бизнесмена, неугомонный, лишенный чувства юмора и бестактный Годдард был необыкновенно наделен агрессивностью, организаторскими способностями и умением быть услышанным. Сын врача и почтмейстера Нового Лондона, штат Коннектикут, Годдард изучил профессию печатника, будучи учеником Джеймса Паркера и Джона Холта, почтмейстеров и газетных издателей Нью-Хейвена. В 1762 году Годдард основал типографию в Провиденсе, штат Род-Айленд, приступил к изданию газеты и стал городским почтмейстером. Будучи не в состоянии обеспечить восемьсот подписок, необходимых, чтобы окупить затраты, он двинулся сначала в Нью-Йорк, а затем в Филадельфию попытать счастья в различных издательских предприятиях. Наконец обосновался в Балтиморе, где его «Мэриленд джорнэл» и «Балтимор эдветайзер» (1773 — 1793) были очень заметны в последние годы перед завоеванием колониями независимости.
Как владелец «очень свободной прессы» он подвергся преследованиям со стороны контролируемой правительством почтовой конторы, которая потребовала с него фунт в неделю за доставку трехсот пятидесяти газет в районы за пределами Филадельфии. Годдард отреагировал на это созданием своей собственной почтовой системы, чтобы устранить такую зависимость от правительства. Годдардовский проект набирал силу, и 30 декабря 1773 года известие о бостонском чаепитии было доставлено из Нью-Йорка в его контору в Балтиморе его собственными почтовыми курьерами.
Желание иметь более свободную, более «конституционную» почтовую службу находилось в русле революционной мысли. Еще в 1711 году виргинский законодательный орган отказался выделить деньги на почтовую контору, которая была недавно реорганизована в соответствии с постановлением парламента, мотивируя это тем, что расценки, установленные британским парламентом, были равнозначны взиманию налога без соответствующего разрешения. Только в более поздний период XVIII века, после девяти лет заочного руководства Франклином почтовой службой, возникло хоть какое-то эффективное соперничество со старой системой. К тому времени расцвет газет увеличил спрос на почтовые услуги, а смелость, предприимчивость и организаторские способности Уильяма Годдарда сдела-
383
ли возможным появление новой системы. «Действуя во все времена последовательно и на пределе своих возможностей в поддержку английской конституции, прав и свобод своих соотечественников... в особенности в качестве печатника, невзирая на собственную безопасность и личную выгоду, — разъяснял Джон Холт, нью-йоркский печатник,в мае 1775 года, — Годдард из-за такого поведения вызвал ненависть многих влиятельных людей и очень сильно пострадал (больше всех, по его мнению, в этой стране) от запрещений и препятствий на пути распространения тиража его газет, чинимых управлением почты, которое длительное время было инструментом в руках британского министерства, осуществляя его планы по закабалению колоний и пытаясь свести к нулю действие английской конституции».
Нужды Континентального конгресса, новой американской армии и приобретавших вес колониальных газет привели к возникновению первой почтовой службы Соединенных Штатов. Когда 26 июля 1775 года была основана находящаяся в общественном владении американская почтовая система, это произошло не на основе британской системы, а на основе годдардовского частного предпринимательства, которое ставило своей задачей освободить почтовую службу от власти правительства. Тем не менее новое правительство проявило консерватизм, когда назначило первым министром почт Соединенных Штатов не Годдарда, который задумал и организовал почтовую службу, а Франклина, который многие годы руководил британской почтовой системой. В том или ином виде американская почтовая служба, и в особенности министр почт и почтмейстеры на местах, продолжала заниматься политикой.
Колониальный печатник-журналист-почтмейстер, таким образом, развивал новую и исключительно американскую профессию. Он начинал в Америке скорее как ремесленник и мелкий предприниматель, нежели писатель, но выполнял важную функцию в правительстве, вводя его в курс общественных дел. Рассредоточение правительства по тринадцати различным центрам, настоятельная потребность в определенного рода практической информации и соединение типографии с почтовой конторой перемешали потоки печатного слова и общественной мысли.
Книга четвертая
ВОЙНА И ДИПЛОМАТИЯ
К чему отказываться от преимуществ своего особого положения? К чему бросать родную землю, чтобы защищать чужую?
Джордж Вашингтон
Американский опыт в колониальную эпоху породил особый взгляд на проблемы войны и мира, который будет еще долго влиять на наше отношение к целям войны, задачам дипломатии и роли военных в политической жизни. Война и мир — нечто большее, чем наличие или отсутствие грохота, запаха гари, разрушений, боли и кровопролития. Война и мир — это жизненный уклад. Позиция народа в отношении войны и мира так же складывается из исторического опыта и так же тесно связана с образом жизни этого народа, как его законы и религия. В следующих главах мы рассмотрим происхождение американских обычаев в области военного дела и дипломатии.
13-382
Часть тринадцатая НАЦИЯ МИНИТМЕНОВ
Они сами решали, когда им становиться солдатами, а когда бросать оружие.
Джозеф Доддридж
53
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА И НАИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Время, когда были основаны американские колонии, обычно называют «эпохой ограниченных военных действий в Европе». С начала XVII века, когда пуритане обосновались в Массачусетской бухте,и вплоть до французских революционных войн в конце XVIII века Европа демонстрировала благородную сдержанность. После кровавой бойни религиозных войн эпоха Просвещения принесла Европе облегчение не столько от самой войны, сколько от вызванных ею ужасов. Война сделалась более умеренной не столько благодаря усилиям, направленным на ее запрещение, сколько по причине возникновения правил ведения войны и специализации функций вооруженных сил. После установления ограничений не только войны стали менее разрушительными, но и их результат стал менее определенным, поэтому вся европейская история в колониальную эпоху была чередой бесконечных, но мало что решающих военных действий. «Теперь стало обычным, — заметил Даниель Дефо в 1697 году, когда еще тянулась война Франции с Аугсбургской лигой, — чтобы армии по пятьдесят тысяч человек с каждой стороны стояли друг против друга в засаде и проводили бы всю кампанию, прячась или, как это принято называть, наблюдая друг за другом, а потом расходились бы по зимним квартирам. Все дело в принципах ведения военных действий, которые теперь так же отличаются от прежних, как длинные парики от бородок клинышком или со
386
временные нравы от обычаев прежних времен. Сегодняшние принципы ведения войны заключаются в следующем:
Никогда не вступать в бой, не имея очевидных преимуществ, и всегда располагаться лагерем таким образом, чтобы можно было избежать боя.
И если командующие армиями противников оба хорошенько соблюдают эти правила, почти невероятно, чтобы они вступили в бой друг с другом».
По обыкновению сражения происходили на больших открытых пространствах, где можно было соблюдать военные правила и боевой порядок. Перед началом битвы армии противников располагались, как фигуры на шахматной доске, каждая сторона знала численность сил врага, каждое подразделение армии должно было выполнять только те маневры, которые от него ожидали. Внезапные нападения, ведение боевых операций не по правилам, любые неожиданные и необъявленные действия не одобрялись и рассматривались как нарушение военных обычаев. «Такой способ ведения войны, — по меткому определению Дефо, — требует больше денег и меньше жертв, чем войны прежних времен». Хотя армии увеличились, потери уменьшились. В 1704 году, отмеченном решающими битвами в войне за Испанское наследство, на поле боя погибли лишь 2000 британских солдат и моряков и не более 3000 умерли от ран, болезней или других причин, вызванных войной.
Такая умеренность была бы невозможна, если бы ведение войн не стало занятием для избранных, недоступным для народных масс. Война стала задачей военных, чья деятельность была так же далека от простого человека, как занятия ученого,адвоката, врача или священнослужителя. Офицеров воюющих сторон связывало профессиональное братство и общий аристократический круг Европы: в свободное от службы время они вместе бражничали и развлекали друг друга, устраивая балы, концерты и званые обеды. Военные, как правило, были аристократами, офицерами становились представители высших классов, для которых воинская служба своему монарху оставалась долгом со времен средневековья. Рядовых солдат, еще не осознававших современных представлений о чести и славе «сражаться за родину», было по современным масштабам очень немного, и они все чаще набирались из подонков общества. Европейские монархи, вынужденные набирать солдат из тюрем и кабаков, предпочитали пополнять ряды своих армий профессиональными наемниками из швейцарцев или гессенцев, если государственная казна это позволяла.
387
Война не была столкновением двух мобилизованных народов, освященным патриотизмом. Сражения происходили не внутри городов или заводских стен, а на специальном поле боя, равнине, находящейся на определенном расстоянии от населенных пунктов. Там «правила ведения войны» четко и неукоснительно соблюдались, и вмешательство в мирную жизнь поселений, ферм и ярмарок практически исключалось. Командующие армиями так же отказались бы начать битву в густых зарослях или в лесу, ночью или в плохую погоду, как современная профессиональная бейсбольная команда не согласилась бы провести игру в лесу или в дождливый день. Исключения случались, но необычайно редко.
С середины XVII века и почти до конца XVIII война в Европе была лишь политическим средством. Целью войны являлось не уничтожение другого народа или изменение его образа жизни или политических и экономических институтов. Обычно с помощью войны один государь пытался увеличить свои владения, отстоять свою честь или добиться уступок от другого монарха, который чаще всего приходился ему двоюродным братом. Задачи были гораздо более узкими, чем во время религиозных войн XVI и первой половины XVII века.
Всеевропейский характер культурных традиций аристократии способствовал развитию общих идей, на которых основывалась специальная литература, определяющая справедливые основания для вступления в войну и допустимые пределы военных действий. В этот период основным руководством была книга Гроция «De jure belli ас pacis» («О праве войны и мира», 1625 — 1631), в которой устанавливались обязательные «правила» для цивилизованных государств; позже ей на смену пришел труд Ваттеля «Le droit des gens» («Право народов», 1758), который внес в эти правила некоторые изменения, хотя в нем по-прежнему утверждалось, что цивилизованные государства и в военное, и в мирное время связаны между собой определенными естественными законами.
Американские индейцы, поджидавшие в засаде первых поселенцев, к сожалению, ни Гроция, ни Ваттеля не читали. У них не было международной аристократии, и они не знали о преимуществах ограниченных военных действий, которые должны вестись только в ясную погоду и на открытом поле. У них были собственное оружие и собственная тактика, тактика лесной войны. Они не привыкли объявлять генеральные сражения и давать сигнал к наступлению. В отличие от фитильного ружья индейский лук был оружием бесшумным, точным,и его скорострель
388
ность не зависела от погоды; а томагавк был более универсальным оружием, чем пятнадцатифутовая пика. Когда индейцы захватывали вражеских солдат, они не подчинялись военным законам Гроция о взятии в плен и обмене пленными. Напротив, в их правилах были жестокие убийства и пытки, им ничего не стоило снять кожу со своего врага или заколоть его заостренными палками. Преподобный Джозеф Доддридж был свидетелем нападений дикарей в западной части Виргинии во второй половине XVIII века:
Индейцы убивают без разбора. Их целью является полное истребление врагов. Их жертвами становятся дети, потому что мальчики могут стать воинами, а девочки — матерями. Даже ребенок в утробе представляет для них опасность. Они не довольствуются тем, что плод погибает вместе с убитой матерью, они вырывают его из чрева и вешают на шесте как военный трофей и средство для устрашения оставшихся в живых противников. Если индейцы и берут пленных, то движет ими отнюдь не милосердие. Они сохраняют жизнь захваченным врагам для того, чтобы, пытая их, удовлетворять свою дикую жажду мести.
Американские условия породили новый жанр приключенческой литературы — рассказы об индейском плене. В этих историях описывались страдания и героизм обыкновенных поселенцев, их жен и детей.
Индейцы были вездесущими.Они нападали без предупреждения и в глухой тишине ночи были постоянной угрозой для жителей лесных хижин. Как вспоминает Коттон Мэзер, поселенцам Новой Англии казалось, что «на них со всех сторон набрасывалось несметное количество дьяволов во плоти»; для них индейцы были «множеством диких волков». На побережье ни одна колония поселенцев не избежала резни. Кровавое побоище в Виргинии в 1622 году, а затем еще одно в 1644-м навсегда остались в памяти жителей колонии. Восстание Натаниела Бэкона в 1676 году выражало требования западных поселенцев предоставить им больше помощи против индейцев. Мы уже рассмотрели, как бойни, устроенные индейцами в середине XVIII века, усугубили кризис правительства квакеров в Пенсильвании. Все эти кошмары и определяли военную политику поселенцев вплоть до конца XVIII века. Индейская угроза, висевшая над приграничными районами колоний в течение всей эпохи колонизации, оставалась проклятьем заселявшегося Запада и в XIX веке. Только через десять лет после разгрома индейцев войсками Кастера в 1876 году и отправки немногих оставшихся в живых на специальные территории,или в резервации, угроза нападения индейцев перестала существовать.
389
Не одни индейцы представляли опасность для поселенцев. Некоторые территории английских колоний страдали от постоянной угрозы нападения со стороны европейских держав: Франции, Голландии, Испании. В то время как Англия оставалась в относительной безопасности от иноземных вторжений после гибели «Непобедимой армады» (1588) и по крайней мере до наполеоновских времен, первые поселенцы Виргинии нередко с ужасом ожидали повторения в своей провинции истребления гугенотов испанцами, случившегося в форте Кэролайн во Флориде. Не единожды пионеры, поселившиеся в Джеймстауне, поднимали тревогу, извещая сограждан о том, что испанские корабли вошли в русла местных рек; они с тревогой следили за каждым приближающимся парусом, опасаясь встречи с захватчиками. В 1643 году в Бостоне случился переполох при приближении французского корабля водоизмещением в 140 тонн, на борту которого находился Латур. Этот город и в дальнейшем не раз имел основания опасаться нападений европейских войск. Даже пацифизм пенсильванских квакеров был поколеблен появлением в городской гавани испанских кораблей.
Возможность нападения заставляла жителей общин в случае опасности собираться под одной крышей. Форты, строившиеся для защиты местного населения от набегов индейцев, стали символом неограниченного характера военных действий в Америке. При первой же угрозе нападения индейцев поселенцы, жившие по соседству с фортом, собирали самое необходимое и укрывались за его стенами. В Новой Англии количество фортов увеличилось при возникновении в 1676 году угрозы войны с индейским вождем, прозванным «королем Филиппом», часть из них продолжала существовать и в XVIII веке, во время войн с французами и индейцами. Все колонии следовали одному образцу. Иногда с общего согласия постоянным местом для укрытия становилась определенная постройка, имеющая толстые стены с амбразурами, консольный второй этаж и по возможности боковые флигели, пригодные для наблюдения. А некоторые города, такие, как Хедли, Нортхемптон или Хэтфилд в долине реки Коннектикут, подражали индейцам, обнося свои поселения оборонительным частоколом.
Как отмечает преподобный Доддридж, жизнь в переполненном форте была не сахар; но особенно поселенцы боялись бабьего лета, которое они называли «индейским».
Жители отдаленных мест не могут не содрогнуться от ужаса, услышав это выражение... во время долгого периода непрерывных войн с индейцами, который выпал на долю первых поселенцев, мирная передышка случалась
390
только зимой, когда суровость климата препятствовала набегам индейцев на их жилища. Поэтому жители приветствовали наступление зимы,как праздник, ведь в течение всего времени с весны и до начала осени они были заперты в тесных фортах и должны были терпеть эти ужасы войны с индейцами. И вот с приближением зимы все фермеры, за исключением владельца форта, расходились по домам, чувствуя себя заключенными, только что выпущенными из тюрьмы. В веселой суете проходили приготовления к зиме: сбор зерна, копание картофеля, откармливание свиней, приведение в порядок жилищ. Для наших предков мрачные дни зимы были милее майского ветерка и весенних цветов. Но случалось иногда,что после, казалось бы, окончательного прихода зимы вдруг становилось теплее и надолго наступали туманные дни. Это время и называлось «индейским летом», потому что индейцам вновь предоставлялась возможность совершать свои опустошительные набеги на поселения колонистов. Когда таял снег, лица всех жителей омрачались печалью, а солнечное тепло ужасом леденило их сердца. Предчувствие еще одной встречи с индейцами и вынужденного бегства в ненавистный форт было очень мучительным, и эти горестные предчувствия очень часто бывали оправданны.
В таких колониальных войнах солдатами были все, поскольку все жили на поле сражения. Женская храбрость стала легендарной. В 1766 году в округе Шенандоа в Виргинской долине двое мужчин везли в фургоне своих жен и детей в сторону спасительного форта. На них напали пятеро индейцев и убили обоих мужчин. «Женщины, — сообщал очевидец, — вместо того чтобы упасть в обморок при виде своих истекающих кровью и умирающих мужей, схватили их топоры и с решительностью амазонок и почти сверхчеловеческой силой стали защищать себя и своих детей. Одному из индейцев удалось схватить ребенка госпожи Шитц, он стал вытаскивать мальчика из фургона; но с быстротой молнии женщина одной рукой выхватила ребенка, а другой нанесла такой удар по голове обидчика, что ему оставалось только уносить ноги. В этой отчаянной схватке несколько индейцев получили серьезные раны, напавшим пришлось спасаться бегством, а женщины с детьми продолжали свой путь к форту». Всего через несколько лет госпожа Экспириенс Бозарт защищала от индейцев спрятавшихся в ее доме соседей. Двое присутствующих мужчин были тяжело ранены, а она, мастерски орудуя боевым топором, двоим индейцам размозжила головы, а у третьего выпустила кишки. Отдаленные провинции не были местом для неженок, тот, кто рассчитывал на прибытие «войск», недолго задерживался на этом свете.
Мальчики с раннего детства готовились защищаться. Умение владеть томагавком и застрелить мелкую дичь из лука или ружья было спасительным в случае нападения индейцев. Когда мальчик достигал призывного возраста и должен был вступить в ополчение, он уже чувствовал себя в лесу как дома и знал повад
391
ки индейцев. Доддридж писал о Виргинской долине в 1760 году: «Мальчик считался взрослым в двенадцать-тринадцать лет, в этом возрасте он получал дробовик и дробницу. И тогда он становился солдатом форта, и за ним закреплялась собственная амбразура. Охотясь на белок, индюков и енотов, он быстро осваивал искусство стрельбы из ружья».
Охота, войны с индейцами и частые лесные стычки привели ко многим усовершенствованиям в механизме винтовки. К середине XVIII века «пенсильванская» винтовка, позже ставшая известной под названием винтовки «Кентукки», уже заметно отличалась от своего прототипа—альпийской винтовки. Американская винтовка была длиннее, с более тонким стволом, меньшего калибра (около 12 мм), пули к такой винто,'"с -или всего пол-унции, но она обладала гораздо большей кучностью. Напротив, германская винтовка даже времен Американской революции была неуклюжей, тяжелой и короткоствольной, пули ее были вдвое тяжелее американских, она отличалась более редким боем и тяжелой отдачей, а дальнобойность и кучность оставляли желать лучшего. Хотя медленная зарядка при помощи короткого металлического шомпола и пестика и не делала винтовку непригодной для использования в лесной глуши, американцы разработали более быстрый и требующий меньших усилий способ зарядки — «оболочку пули». Небольшой кусок промасленной материи, в которую заворачивалась свинцовая пуля (чуть меньше ствольного отверстия), можно было плавно протолкнуть в ствол. С помощью оболочки пуля плотно вгонялась в ствол, и тем усиливалась огневая мощь винтовки. В результате достигнутых улучшений это оружие обладало небывалой кучностью и мощью и было необычайно легким в обращении.
Перед Революцией это ружье, почти неизвестное в Англии и встречающееся только у охотников в горных пределах Европы, стало общепринятым оружием в окраинных провинциях Америки. «Во многих поселениях Пенсильвании постоянно изготавливаются винтовки, гораздо лучшие привозимых из Европы, — писал в 1776 году англиканский священник из Мэриленда, — и оружейные мастера никогда не сидят без работы. В этих местах, милорд, мальчики, как только обретают способность стрелять, начинают часто ею пользоваться, охотясь кто на птиц, кто на зверей. Обилие и разнообразие дичи, а также большие возможности для охоты делают американцев лучшими стрелками в мире, и тысячи жителей Америки охотой добывают пропитание для своих семей. Это является обычным для стрелков в приграничных районах, которые в основном промышляют охотой на
392
оленя и индюка. Тысяча таких стрелков в лесной местности разнесут в пух и прах ваше отборное десятитысячное войско». Подобные донесения сделали каждого американца снайпером в глазах английских солдат.
Легенда о вездесущем американском стрелке, одетом не в военную форму, а в кожаную охотничью рубаху, стала оружием психологической войны. Диксон и Хантер в своих ведомостях «Виргиния газетг» 9 сентября 1775 года поместили репортаж о состязании стрелков, отправлявшихся в Бостон: один из них с расстояния в шестьдесят футов восемь раз подряд прострелил бычий глаз величиной с доллар, причем глаз был прикреплен к доске, которую другой участник состязания зажал между колен. Джордж Вашингтон устроил подобное состязание в кембриджской общине в августе 1775 года в надежде, что осведомители донесут устрашающие сведения до британских войск. А британский мушкет тех времен был настолько ненадежен, что армейский устав мушкетеров даже не содержал команды «целься!». В начале Революции генерал Джордж Вашингтон издал приказ, в котором настоятельно рекомендовал своим солдатам «кожаные охотничьи рубашки и длинные бриджи из того же материала... Эта одежда вызывает неподдельный ужас у противников, они принимают каждого, одетого подобным образом, за настоящего снайпера». Но в отличие от европейского мушкета у винтовки не было штыка, она была оружием более изощренным, требующим специального обращения. Малопригодная в европейском боевом строю винтовка была оружием индивидуальным, ему не было равных в перестрелках, и оно лучше всего годилось для расправы с единичным противником. Такая тактика выводила из себя хорошо вымуштрованных профессиональных военных и способствовала распространению среди британских офицеров мнения, что подчинить американское население — задача безнадежная.
В Америке война стала профессиональным занятием не только для военных, но и для всего населения. Колонисты предпочитали лучше сами защищать себя на близлежащей территории, чем прибегать к помощи профессионалов на отдаленном поле битвы. Подобно тому как каждый житель Америки был более или менее грамотным, но вряд ли нашелся бы хоть один образованный, каждый американец был немного солдатом, но настоящих солдат среди них не было. Война велась при отсутствии профессиональной армии, генералов и даже «солдат» в строгом европейском смысле слова. Вторая поправка к федеральной Конституции гласила: «Поскольку для безопасности
393
свободного государства необходимо хорошо организованное народное ополчение, право народа хранить и носить оружие не подлежит ограничениям».
Своеобразный американский опыт,безусловно,труден для понимания, если сопоставить американцев с европейцами в вопросах войны или дипломатии, потому что профессиональная армия и аристократическое офицерство Европы сделали войну занятием изощренным и утонченным. Эта изощренность была двойственной. С одной стороны, специализация функций солдата сделала возможным ограничение военных действий. С другой стороны, эта специализация способствовала изощренной дипломатии, в духе которой монархи использовали профессиональные армии для своих коварных или мелочных целей и благодаря которой незаинтересованное население с легкостью соглашалось, чтобы его «государство» (то есть профессиональные военные) вступало в войну. Профессиональная армия посылалась в любое место, угодное монарху для осуществления его имперских, династических или торговых интриг. К XVIII веку европейская война была очень далека от наивных представлений о защите своего очага, воины были обучены убивать по причинам, им не понятным, и в далеких землях, им безразличных. К концу XVIII века подобные политические войны требовали все больше и больше крови европейцев и европейского золота. Но такие войны были едва ли понятны американским колонистам и еще менее могли быть ими оправданы, поскольку война для них была необходимой защитой всеми жителями своего очага от вездесущего и безжалостного врага. Американцы долго не могли уяснить смысл военных игр королей, министров и генералов, которые использовали одетых в форму пешек на далеких полях боя, или дипломатических игр, к которым такие войны были только прелюдией.
54
КОЛОНИАЛЬНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ И ЛЕГЕНДА О ГОТОВНОСТИ
«Отдать оружие в руки всего народа всегда считалось в Европе экспериментом, чреватым только опасностью, — писал президент Йельского университета Тимоти Дуайт в начале XIX века. — У нас же долгий опыт показал, что это абсолютно безопасно... Если государство будет справедливым, если оно будет разумным в своих требованиях, если должное внимание будет
394
уделяться практическому и религиозному образованию детей, немногие возьмутся за оружие с какими-либо другими целями, кроме развлечения или защиты своей жизни и своей страны. Здесь труднее было убедить граждан иметь оружие, а не предотвратить его использование в насильственных целях». История военной организации американских колоний представляет собой обзор многочисленных усилий по вооружению как можно большей части гражданского населения и обеспечению боевой готовности граждан по первому.требованию.
В Европе, где правители неохотно отдавали в руки своих подданных средства для возможного бунта, высокая стоимость огнестрельного оружия делала его недоступным для большинства населения. Ав Америке необходимость самозащиты и добывания пропитания сделала оружие доступным почти каждому. Европейский государь, находящийся за океаном, не мог бы запретить колонистам иметь оружие, даже если бы и пытался, но он не боялся, что американское оружие будет угрожать его трону. Английские губернаторы с самого начала жаловались на эту вооруженность населения, а американцы ею гордились. «Как несчастен тот, — сетовал губернатор Виргинии сэр Уильям Беркли, которому пришлось иметь дело с восстанием Бэкона в 1676 году,—кому приходится управлять народом, по крайней мере шесть седьмых коего бедны, в долгах, недовольны и вооружены». Даже столетие спустя Кревкер отмечал, что жители глуши, как только чувствуют опасность, сразу же берутся за оружие.
Население вооружалось не только ввиду постоянной угрозы войны, но и в связи с особым характером военных действий в американских лесах, где они в основном представляли собой многочисленные вооруженные стычки. Плохая связь, огромная территория, индейские военные обычаи не способствовали проведению централизованных боевых операций, напротив, война здесь была множеством беспорядочных столкновений между небольшими отрядами или отдельными вооруженными людьми, действующими на свой страх и риск. Когда нападали индейцы, самой мудрой обороной была засада за скалами и стволами деревьев. «Во время нашей первой войны с индейцами, — писал проповедник Джон Элиот Роберту Бойлю в 1677 году, — Господь открыл нам всю тщетность нашего военного искусства на европейский манер. Теперь, к нашему счастью, мы научились тайной войне. А какова цель Господа, открывшего нам эту науку, мне неведомо».
Муштровка, точность исполнения приказов и дисциплина профессионального солдата мало могли пригодиться, а децент
395
рализация командования была неизбежной. Губернаторы Виргинии, опасаясь, что возбужденное население может спровоцировать нападения индейцев, берясь за оружие без повода, первое время в самом деле запрещали создание ополчения без разрешения губернатора. Но такое промедление могло оказаться роковым, и к 1680 году право созывать ополчение перешло к должностным лицам в различных округах колонии. Командир отдаленного форта был вынужден проявлять независимость, которая порой оказывалась равносильной неповиновению начальству. Когда командир виргинского форта Раппаханнок капитан Кэдуоледер Джонс в сентябре 1679 года получил неугодный ему приказ, он собрал свой гарнизон, прочел вслух депешу и сжег ее на глазах у всех, объявив во всеуслышание, что этими действиями он выражает свое отношение к майору Роберту Беверли и к самому губернатору. Какую пользу могла принести при таких обстоятельствах тщательно разработанная стратегия командующего, который находился далеко от района боевых действий?
Первые английские колонисты осуществляли свои десантные операции экспромтом. Хотя они,к счастью для себя,и имели в качестве командира бывалого военачальника капитана Майлса Стэндиша, их вооруженный отряд не был постоянно действующим воинским подразделением, а представлял из себя, по выражению одного историка, «сборную команду», которая формировалась в каждом конкретном случае из тех, кто был под рукой. Уже в первых столкновениях определились черты, характерные и для последующих военных действий в колониях: в сражение вступали отряды случайно собравшихся, беспорядочно вооруженных людей, над которыми не было эффективного центрального командования. Первые поселенцы в Плимуте поняли, что оборонительные действия должны быть частью повседневной жизни — такой же,как возделывание земли, добыча пропитания и строительство жилья. «Они всегда начеку, и днем, и ночью», — писал в 1627 году из Плимута один из приезжих. Мужчины ходили в церковь с мушкетами в руках,и во время службы каждый ставил рядом с собой оружие. Но когда поселенцы начали распространяться от побережья в глубь страны и угроза нападения индейцев перестала быть постоянной, появилась необходимость в создании организованных отрядов. Образованная в Новой Англии система народной милиции стала образцом обороны для колониальных территорий.
Народное ополчение, конечно, не было изобретением американцев. Являясь основным примером американского «регресса»,
396
оно было возрождением средневекового Указа о вооружении (1181), послужившего базой для образования в Англии ополчения, в котором состояли все годные к военной службе свободные граждане. Каждый должен был сам обеспечить себя вооружением, периодически проходить подготовку под руководством местного командира и быть готовым к сбору по сигналу тревоги. К концу XVII — началу XVIII века, когда принцип ограниченных военных действий сделал войну занятием для немногих профессионалов, английское ополчение стало своеобразным зрелищем, чем-то вроде механизма для проведения парадов и демонстрации выправки господ офицеров. Однако в Америке древняя система ополчения с существенными изменениями, внесенными Новым Светом, легла в основу организации обороны общин от врагов.
Организационной единицей этой системы был не солдат, получивший профессиональную подготовку, централизованно снабжаемый оружием и военным снаряжением, а гражданин, вооруженный на собственные средства. Магистрат поселения в колонии Массачусетского залива в марте 1631 года постановил, что все общины должны в течение двух недель снабдить оружием всех жителей мужского пола (включая слуг, но исключая должностных лиц администрации и священников) под контролем командиров народной милиции. Каждый, кто еще не имел оружия, должен был купить его; если он не располагал достаточными средствами, муниципалитет предоставлял ему ссуду, которую он должен был выплатить при первой же возможности. На следующий год власти колонии постановили, что каждый до сих пор не вооруженный гражданин должен быть использован в обслуживающем персонале, и этот закон остался в силе. В Плимуте требования закона были еще более детально проработанными: с января 1633 года каждый мужчина должен был иметь мушкет или другое подходящее оружие, патронташ, шпату, два фунта пороха и десять фунтов пуль. В результате серии постановлений, принятых властями Массачусетса и соседних колоний, была создана система народной милиции, при которой каждый годный к военной службе мужчина был вооружен и каждая община имела собственную милицейскую роту, которая периодически собиралась на военные учения и смотры.
По европейским стандартам народная милиция была самым невоенным образованием. Она не носила военной формы. Хотя некоторые губернаторы и были избраны за их воинский опыт, очень редко во главе колониальной милиции действительно стоял профессиональный солдат. Беспрецедентной и вселяю
397
щей беспокойство особенностью колониальной милиции была невообразимая для профессиональной армии практика выборности офицерского состава.
В Новой Англии, как нам уже известно, существовал необычный порядок проведения церемоний этих выборов — с артиллерийской канонадой перед собранием вооруженных граждан. С небольшими изменениями и за редким исключением, назначение офицера местного ополчения целиком зависело от выбора населения, колониальные власти обычно утверждали решение граждан. Такая практика стала приемлемой, только когда установился обычай избирать офицеров на неопределенный срок или же автоматически переизбирать достойных офицеров. Эта система была более гуманной по сравнению с жестокой дисциплиной европейских профессиональных армий (служба в которых, особенно в отдаленных колониях, была мерой наказания за преступление), но она порождала непринужденность в отношениях между офицерами и солдатами, что ослабляло ее боеспособность. Такая система также служила солдатам напоминанием, что они сражаются каждый за себя, и способствовала дезертирству в связи с неудовлетворенностью службой.
На Юге после 1700 года задача обороны белого населения усложнялась страхом перед восстанием рабов. Например, в Южной Каролине «патруль», то есть временный отряд белых мужчин из гражданского населения, разыскивающий и подвергающий наказанию беглых негров, вскоре стал частью милиции. В других районах милицейская система также применялась для охраны рабовладельческого общества. Насколько велик был в действительности страх перед восстанием рабов и в какой мере он питал дух воинственности — это вопрос спорный, но никто не станет отрицать, что особенности плантаторского рабовладельческого общества способствовали распространению воинских функций на все белое население. Бремя военного командования принимало на себя гражданское руководство общины, которое, в противном случае, завидовало бы военному сословию, как оно завидовало адвокатам или любой другой группе профессионалов. В Виргинии вновь появился пост «лейтенанта округа», и выражение «полковник из Кентукки» до сих пор напоминает о первых американских военных учреждениях.
Несмотря на редкие исключения, можно только удивляться, насколько похожи были все американские поселения, когда они организовывали (или не могли организовать) свою оборону. Повсюду колонисты опирались на вооруженное население, а не на профессиональную армию. Отсутствие различий между «воен
398
ным» и любым другим человеком является еще одним примером стирания цеховых и сословных различий, свойственных европейскому образу жизни.
Сама система милиции с ее постулатом о готовности каждого гражданина с оружием в руках по первому зову подняться на защиту страны порождала уверенность, которая часто оборачивалась опасным заблуждением, что общество всегда готово встретить опасность. Зачем нужна регулярная армия в стране минитменов? В период первой мировой войны Уильям Дженнингс Брайан хвалился, что по призыву президента миллион свободных граждан возьмутся за оружие в течение одного светового дня. Его уверенность была основана на устарелом мнении, что сам образ жизни в Америке формирует людей, всегда готовых к бою. Страх перед регулярной армией, которая по европейской теории была орудием тиранов и угнетателей, укреплял враждебное отношение к профессиональной военной организации. Более того, пока военными были обычные граждане, временно оторванные от своих мирных занятий, и пока не существовало профессиональной группы, оберегающей свои интересы и престиж, мало кто из американских политических деятелей решался агитировать за профессиональную армию.
Давнишний миф о постоянной боевой готовности граждан помогает объяснить, почему американцы всегда так охотно демобилизуют свои вооруженные силы. Вновь и вновь наша народная армия с головокружительной скоростью складывала оружие, чтобы оказаться в состоянии сомнительного мира. Такой ритм жизни установился в ранний колониальный период. Народ моментально бросался к оружию: например, в ночь на 3 сентября 1675 года, во время «войны короля Филиппа», после объявления тревоги в местечке в тридцати милях от Бостона в течение часа под ружье встали тысяча двести ополченцев. Но как только был дан отбой тревоги, закончен поход или завершена кампания, с не меньшей скоростью расходились ополченцы по домам.
В Новой Англии после каждой из ранних войн с индейцами ополчение быстро распадалось. «Война короля Филиппа» в 1675—1676 годах принесла огромные жертвы плохо подготовленным колониям. Они полагались на ошибочный постулат, на основании которого требование боеготовности каждого гражданина обеспечивало безопасность всего населения. Милиция, созданная для мирного времени, не располагала коммуникациями, пригодными для ведения войны. Не было ни центрального командования, ни постоянной интендантской службы для беспе
399
ребойного снабжения армии. Городок за городком вынуждены были отражать внезапные нападения и не имели возможности обеспечить взаимоподдержку. Однако этот очевидный урок прошел для колонистов даром, во всяком случае ничего не изменилось. Как только заканчивалось сражение, вооруженные силы распадались. К 1683 году интерес к организации местной обороны настолько упал и стало так трудно поддерживать постоянную численность строевых офицеров, что власти Плимута, например, объявили о назначении сверху офицеров ополчения, если местечки будут по-прежнему не выполнять своих обязанностей. Когда индейцы вновь напали на американские поселения в 1689 году, колонисты опять были катастрофически не подготовлены к войне.
55
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И КОЛОНИАЛЬНЫЙ «ИЗОЛЯЦИОНИЗМ»
Милиция была создана для защиты ферм, домов и городов, а не для того, чтобы служить орудием чьей бы то ни было генеральной стратегии. Находясь под угрозой нападений индейцев, поселенцы не видели смысла в том, чтобы посылать людей сражаться на отдаленных территориях и оставлять незащищенными собственные дома. К тому же обычно в войне с индейцами было трудно определить линию фронта. Поэтому с самого начала американцы мыслили военную оборону в самых простых и прямых ее формах. Они не представляли себе людей, марширующих к местам сражений, а видели перед собой человека с оружием в руках, стоящего плечом к плечу со своими соседями и защищающего свое селение от врага. Поселенцы были готовы построить укрепление, крепостное сооружение или форт для обороны своего местечка, но они не изъявляли особого желания содержать форт в отдалении от дома, сколь бы выгодным это ни оказалось для их собственной защиты с точки зрения стратегии.
Некоторые необходимые оборонительные сооружения так и не были построены, поскольку близлежащие местечки не имели средств на возведение соответствующих укреплений, а отдаленные не имели желания их возводить. Например, Кастл-Айленд имел стратегический контроль над проливом, по которому суда входили в Бостон, и хорошо укрепленный и защищенный форт в этом месте мог бы служить для обороны всего поселения. Но
400
неоднократные попытки убедить отдаленные местечки нести часть расходов по содержанию форта оказались безрезультатными, форт в Айленде не имел постоянного гарнизона, там никогда не хватало солдат, и он периодически оставался брошенным. Содержание форта, когда он вообще содержался, брали на себя Бостон и несколько близлежащих городков. То же самое можно рассказать о Виргинии и южных поселениях, где угроза нападения пиратов или иностранных государств со стороны моря была постоянной. Форт в Джеймстауне, например, пришел в такое запустение к 1691 году, что его даже нельзя было использовать как склад для припасов. Поскольку оборона побережья требовала самых больших затрат, совместных усилий и планирования, а также крупной помощи от дальних населенных пунктов, она и оказалась самым слабым местом в военной организации американских колоний. Для такой обороны колонистам приходилось рассчитывать на сторожевые корабли, которые приходили из Англии, с английскими экипажами на борту.
Возможно, самым основным в характере отношений между колониями было нежелание каждой из них отправлять свою милицию на помощь соседу. -«Городская охрана», или местная милиция, Нового Амстердама, образованная во время войны с индейцами 1664 года, отказывалась даже выходить за городскую черту. Когда Нью-Йорк или Южная Каролина держали оборону, они тем самым обороняли и другие колонии, но это происходило только из-за их географического положения, а никак не благодаря сотрудничеству или дальновидности поселенцев. Однако любая из колоний была не прочь использовать своих соседей. Виргиния в течение долгого времени посылала курьера в Нью-Йорк и Новую Англию, чтобы получить сведения о движении вражеских французских войск и северных индейцев; никогда не предлагая свою помощь в случае, если она могла понадобиться Северу, виргинские поселенцы просто хотели заранее знать о возможном нападении на них самих. Огромная доля информации, которой обменивались колонии, состояла из более или менее дипломатических объяснений тех причин, на основании которых каждая из них не имела возможности или средств послать милицию за пределы своих границ.
Например, когда губернатор Нью-Йорка Генри Слоутер в середине лета 1691 года послал губернатору Массачусетса письмо с предложением предпринять совместный поход на Канаду, чтобы в самом зародыше уничтожить угрозу их общим границам, он получил ответ, полный несообразных отговорок. По объяснени
401
ям губернатора Брэдстрита, Массачусетс должен был защищать свои границы от возобновившихся нападений индейцев, колония старалась снарядить два военных корабля для охраны своего побережья от французского капера, и к тому же у Массачусетса не было лишних денег. Но ничто из вышеперечисленного не помешало губернатору Массачусетса поинтересоваться, не захочет ли Нью-Йорк послать гарнизон в местечко Пемакуид, где индейцы угрожали Массачусетсу с северо-востока. Когда подобную же просьбу от Нью-Йорка получила в 1693 году Виргиния (просьба сопровождалась требованием со стороны Англии), Ассамблея Виргинии задала вопрос: как поможет оборона далекого Нью-Йорка защитить от врага саму Виргинию? Враг угрожает ее собственному побережью, сократить свои вооруженные силы, послав часть из них в Нью-Йорк,—значит увеличить опасность, грозящую ее территории. Виргиния всегда защищала себя сама (все еще настаивала Ассамблея в 1695 году), и она хочет, чтобы все оставалось по-старому. Не стоит и говорить, что силы посланы не были, а деньги на помощь Нью-Йорку в общем деле обороны от врага были отправлены только после того, как губернатор и тайный совет Виргинии отменили решение Ассамблеи. Когда колония Массачусетс в 1703 году вновь подверглась опустошительным набегам индейцев, она тщетно обращалась за помощью к соседним Коннектикуту и Род-Айленду. Совет Коннектикута убедительно доказал, что колония едва справляется с защитой собственной границы. Они не осознавали то, что уже было доказано захватом Дирфилда, — их граница могла быть успешно защищена только в Массачусетсе. Население Коннектикута даже сослалось на свою хартию, на основании которой оборона поселения не могла распространяться за его границы без специального постановления суда высшей инстанции. Конечно, добиться такого постановления было невозможно.
Это повсюду укоренившееся местничество явилось серьезным препятствием для Великобритании в ее усилиях по объединению всех колониальных войск перед лицом угрозы со стороны французов и индейцев в середине XVIII века. Губернатор Нью-Йорка сэр Чарлз Харди писал из Форт-Джорджа 7 мая 1756 года:
Общее дело должно быть заботой каждого честного человека, и сейчас как никогда требуется объединение всех сил этого обширного доминиона для защиты справедливых прав Его Величества и изгнания вероломного и неусыпного врага с захваченных им территорий, врага, который использует любую нашу оплошность, не упускает ни единой возможности и, хотя является немногочисленным по сравнению с нашим огромным населением, дей
402
ствует как единое целое, под командованием, которому подчиняются все; и постоянно угрожает миллионам наших разъединенных жителей набегами индейцев, этих неслыханных варваров, которые опустошают наши земли, не встречая сопротивления.
Таково, мой господин, насчастное состояние разделенной Америки. Ваша светлость желала бы появления на поле боя сильной армии; провинции, о которых шла речь в прошлом году, подняли на борьбу многих и многих граждан, численность их должна достигнуть 10 000, но, мне кажется, их будет немного меньше. Казалось бы, это звучит многообещающе, но я не мшу похвастаться большими успехами: мы очень медлительны, ни одно из поселений не начинает первым поднимать людей, опасаясь, что соседи его обманут и не соберут обещанного количества рекрутов.
Повсеместно колонисты боялись отдавать своих юношей в регулярную армию, чтобы центральное командование не послало их воевать далеко от дома. Им казалось, что тем самым их дома и ближайшие границы наверняка будут лишены необходимой защиты.
Вскоре проблема самообороны стала тесно связана с конституционными проблемами. Причиной или одной из причин гражданской войны в Англии в середине XVII века было решение вопроса о том, кому подчиняется армия. Гражданские свободы англичанина, освобождение от жесткого налогообложения и даже само представительное правительство, по мнению населения королевства, зависели от наличия у представительной Ассамблеи полномочий по воинскому призыву, военной подготовке и командованию своими вооруженными силами. Если бы правительство Великобритании могло собрать колониальную армию за счет самих колонистов, издалека осуществлять командование и обеспечивать строгую дисциплину, могло бы послать эту армию туда, где требовалась защита интересов Великобритании, какой бы смысл был тогда в конституции и самоуправлении свободных англичан?
Старый страх англичан перед регулярной армией соединился с новым американским страхом перед «уведенной» армией, размещенной вдали от родных мест. Колонии медлили, оправдываясь малоубедительными мотивами, якобы продиктованными благоразумием и достаточно вескими законными основаниями. Все это заканчивалось отказом каждой из колоний выпустить свои вооруженные силы из-под собственного командования. «Дело в том, — писал с должной проницательностью лорд Лоудон из Нью-Йорка 22 ноября 1756 года, — что губернаторы здесь ничего не значат; их предшественники распродали все королевские привилегии, чтобы получить свое жалованье; и пока не будут созданы независимый от провинций фонд для вы
403
платы жалованья губернаторам и новая форма управления провинциями, Вы ничего не сможете сделать с колониями... а если ждать мира, у Вас недостанет сил привести здесь в исполнение ни одно постановление парламента».
Для американцев война приобрела особый смысл. «Изоляционизм» отдельных колоний и военный опыт Нового Света, породившие этот изоляционизм, могут многое объяснить в Американской революции. Война за независимость была столкновением двух взглядов на то, как, когда и где люди должны сражаться. Правительство Великобритании посчитало необходимым вести в Америке старомодные европейские войны, у которых были порой серьезные, а порой совсем ничтожные (но всегда тайные) причины, силами регулярной армии, перемещающейся по Североамериканскому континенту по приказу главнокомандующего. Попутно армия защищала колонистов и, пребывая в составе империи, колонии получали много косвенных преимуществ.
Но было бы трудно доказать, что любая из британских колониальных войн велась в целях простой «самообороны». Иногда общая стратегия требовала наступательных действий.
Для этого всегда было наготове искусное оправдание: какую пользу принесет империи использование ее профессиональных вооруженных сил в тех или иных целях? Военная политика Великобритании никогда не была так понятна англичанам, как необходимость самообороны против мародерствующих индейцев — американским поселенцам. Даже по завершении в 1763 году долгой, дорогостоящей и «победоносной» Семилетней войны против французов и индейцев занятие англичанами Канады и изгнание французов из Северной Америки оказались отнюдь не желательной мерой. Как мы уже убедились, некоторые англичане, вероятно, боялись, что устранение угрозы со стороны Франции сделает колонистов менее зависимыми от метрополии, к тому же они не надеялись выгодно использовать холодную канадскую целину. Подобные проблемы имперской политики казались неуместными американскому поселенцу, для которого оборона означала защиту от внезапной смерти. Даже американцы, живущие на побережье, где было более безопасно, надеялись, что в Новом Свете они смогут избежать европейской династической и военной политики. Основные проблемы англофранцузских войн, связанные с финансами и людскими ресурсами, были созданы самим правительством Великобритании. Разделяли ли колонисты с метрополией (несмотря на сопротивление колоний) бремя расходов и вооруженной борьбы, остает
404
ся вопросом спорным, но ясно одно: колониальные Ассамблеи делали все возможное, чтобы их вклад был наименьшим. Если бы колонисты были «дальновиднее» и меньше придерживались «изоляционистской» политики, они бы увидели, что их идея «Америки-крепости» была ограниченной, и разглядели бы многочисленные преимущества, которые сулило им финансовое участие в имперских войнах. Если бы они добровольно взяли на себя эти расходы, могло бы не произойти тех изменений в политике Великобритании после 1763 года, которые вызвали финансовый нажим со стороны метрополии и парламентские дебаты по поводу налогообложения, и у колоний не возникло бы причин для восстания.
Американский опыт побудил колонии считать, что оборона начинается дома. Чем больше они сталкивались с этой проблемой, тем больше приходили к выводу, что их убеждение в необходимости местного управления армией и казной находит свое подтверждение в Конституции Великобритании. Парламент пытался обязать колонии вести — и финансировать — политические войны. Но сознание собственной обособленности, свойственное каждой колонии, мешавшее им приходить на помощь друг другу в ранних колониальных войнах и принесшее немало вреда лорду Лоудону во время англо-французской войны и войны с индейцами, привело их к Войне за независимость. В этой войне, как позднее в войне 1812 года, подобная недальновидность, вновь подкрепленная правовыми, конституционными, финансовыми и житейскими основаниями, опять чуть не привела к катастрофе.
Итак, нет ничего парадоксального, что колонии были готовы к «бунту» и в то же время не были готовы к объединению; напротив, оба этих фактора объясняют друг друга. Крайний сепаратизм и решимость сохранять местные силы для защиты родных домов и местечек также были причиной непреодолимых трудностей, выпавших на долю колоний во время Революции. Но те же причины в конечном счете сделали невозможным подавление американцев регулярной армией Великобритании. И по тем же причинам американский федерализм был труднодостижимым, необходимым и на удивление успешным.
Эти факторы питали также корни позднейшего американского «изоляционизма». Место европейской концепции войны как средства удовлетворения полутайных нужд короны, казны или империи, заняло представление о войне как необходимой и временной защите отечества. Как сказано в прощальном послании Вашингтона:
405
Первоочередные интересы Европы или не имеют вообще, или имеют к нам весьма отдаленное отношение. В этой связи в Европе часто возникают конфликтные ситуации, причины которых совершенно чужды нашим интересам. Отсюда следует, что с нашей стороны будет опрометчиво связывать себя искусственными узами с ее постоянно меняющейся политикой недолговечных союзов и противостояний.
Наша обособленность и удаленность делают для нас необходимым и возможным другой путь. Если мы останемся единой нацией, руководимой знающим свое дело правительством, недалек тот час, когда мы сможем воспротивиться нанесению нам материального ущерба извне; когда мы сможем настоять на неукоснительном соблюдении установленного нами нейтралитета; когда воинствующие государства, будучи не в состоянии ничего от нас добиться, не так легко решатся на вызывающие действия; когда мы сможем выбрать мир или войну в соответствии с нашими интересами, основанными на справедливости.
К чему отказываться от преимуществ своего особого положения? К чему бросать родную землю, чтобы защищать чужую? К чему, связывая свою судьбу с любым европейским государством, ставить мир и благосостояние нашей страны в зависимость от европейского честолюбия, соперничества, стремлений, настроений или причуд?
В соответствии с новой федеральной Конституцией объявление войны было возможно только посредством обременительного и долгого открытого законодательного процесса. Это отношение первых американцев к проблеме войны сохранилось и впоследствии. И американский народ продолжает оказывать сильное и часто дезорганизующее воздействие на внешнюю политику государства.
56
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Представление о том, что в войнах, которые ведет Америка, будут сражаться «поставленные в строй фермеры», зародилось в самом начале американской истории. Армия должна была объединять вооруженных граждан. Каста военных, всадник на белом коне, дворцовый или государственный переворот, борьба армии с правительством — этим постоянным атрибутам европейской политической жизни не дано было возродиться на американской почве. Провозглашенное федеральной Конституцией подчинение армии гражданским властям было лишь подтверждением одного из непоколебимых установлений колониальной жизни.
Характерный для американцев взгляд на армию содержится в описании Доддриджем обитателей отдаленных провинций,
406
которые «создали вдоль реки Огайо, на границах Пенсильвании, Виргинии и Кентукки кордон, охранявший страну во время революционной войны от нападений индейцев. Они были местными янычарами, а именно солдатами по желанию, берущимися за оружие или складывающими его, когда это казалось необходимым. Для них военная служба стала занятием добровольным и, конечно, неоплачиваемым».
Задолго до окончания колониального периода государственные деятели и профессиональные военные Великобритании поняли, что нельзя рассчитывать на американцев при комплектовании регулярных частей британской армии, дислоцирующихся в Америке. Хотя жители отдаленных провинций с их меткими винтовками были готовы защищать родные дома, в рядах профессиональной армии европейского типа они были неуправляемы. Вооруженные граждане отдельных колоний, проникнутые духом местного патриотизма, отказывались участвовать в стратегических операциях и были не в состоянии осуществлять общие задачи обороны колоний. Если правительство Великобритании надеялось защитить колонии,предотвратив сосредоточение враждебных французских вооруженных сил, ему приходилось посылать в Америку профессиональную армию. Занятие Луисбурга в 1745 году силами Новой Англии было единственным примером успешной крупномасштабной военной операции местных войск; и даже это событие не стало результатом хорошо разработанной стратегии, а произошло ввиду счастливого стечения обстоятельств.
Когда генерал Брэддок готовился к злополучной кампании 1755 года, он мало надеялся на американские войска. И все же даже его слабые надежды не оправдались. Ядро его армии составляли солдаты регулярных частей британской армии, которые предполагалось укрепить американскими призывниками. Вооруженные силы должны были финансироваться из добровольных взносов колониальных Ассамблей, предполагалось, что колонии частично возьмут на себя поставку провизии. Но Брэддок был разочарован: народу набралось очень немного, Ассамблеи существенной поддержки не оказали, а провиант поступал весьма нерегулярно. Характерно, что в то же время северные колонии приняли решение о создании местной армии под командованием избранного ими генерала. Это событие явилось предвестником трудностей, с которыми через несколько лет пришлось столкнуться лорду Лоудону и которые усугубили отказ американцев от европейских методов ведения войны.
407
Великобритания в лице Лоудона предприняла величайшее в дореволюционной истории усилие по централизации военных действий американской армии. В соответствии с заранее разработанными планами он в 1756 году прибыл в Америку, имея широкие полномочия по организации вооруженных сил для борьбы с французами и индейцами; предполагалось, что он будет командовать регулярной армией численностью почти в 14 000 человек (2/з рядового состава, не считая пополнения, должны были составить американцы). В течение двух лет англичане, пользуясь сомнительными методами, смогли поставить под ружье 7500 американцев, за это же время из Великобритании прибыло всего 4500 призывников. В 1757 году ситуация коренным образом изменилась: только 1200 жителей колоний было призвано к военной службе, в то время как И 000 английских солдат ступило на американскую землю. Ожидалось, что Лоудон с молчаливого согласия органов управления каждой из колоний станет верховным главнокомандующим всеми местными вооруженными силами, включая также и милицию. Но чем больше Лоудон начинал разбираться в характере колониальных войск и колониальных обычаев, тем меньше он рассчитывал на американских солдат — как в качестве новобранцев в рядах регулярных военных формирований, так и в качестве резервных милицейских формирований. «В этой стране король может рассчитывать только на себя и на тех, кого он сюда посылает, — писал Лоудон из Америки еще в сентябре 1756 года, — потому что эта страна не откликнется на его призыв».
Все, что Лоудон видел в колониальной милиции, возмущало его как профессионального военного. По его прибытии около семи тысяч ополченцев были размещены в северных фортах колоний. Эти люди были рекрутированы в разных колониях, а офицеры назначены каждый своей провинцией. Отдельные войсковые формирования подчинялись только своим собственным правительствам. Когда Лоудон и его помощники производили войсковой смотр в частях генерала Джона Уинслоу (назначенного губернаторами Массачусетса, Коннектикута и Нью-Йорка), они ужаснулись отсутствию подобающей воинской дисциплины и даже элементарных санитарных условий. Они наблюдали, как за один день была вырыта сотня могил для умерших от болезней. «Зловоние, которое испускает этот форт, само по себе может вызвать заражение, — сообщали Лоудону из форта Уильяма Генри, — все их больные находятся внутри. Я не мог себе представить такой грязи, все необходимые постройки, кухни, могилы
408
и скотобойни размещены на территории военного лагеря». Дезертиры получали лишь не слишком строгие взыскания. Лоудон был потрясен, увидев солдат, стреляющих в разные стороны после окончания учений, спящих на посту и устраивающих охоту на марше. Но выборные офицеры редко наказывали нарушителей, боясь потерять расположение солдат.
Ни один здравомыслящий командующий не допустит людей с таким представлением об армии к службе в подчиняющихся строгой дисциплине регулярных войсках. Но с чего бы вдруг американец стал соблюдать британскую воинскую дисциплину? Колониальная милиция во всех отношениях лучше: каждый солдат из Массачусетса получал 10 Уд пенса в день, а солдат британской регулярной армии — не более 4 пенсов, к тому же колониальный солдат мог рассчитывать на материальное поощрение за сверхсрочную службу. Снабжение милицейских частей было роскошным по сравнению со снабжением регулярной армии. Милиционеру не только полагалось большее содержание, но, прослужив лето, он получал возможность оставить себе топорик, одеяло и ранец, а вскоре в рядах милиции установился выгодный обычай забирать домой мушкеты. Он мог всегда рассчитывать на сахар, имбирь, ром и патоку, а его походное содержание было втрое выше, чем у солдата британской регулярной армии. Жили солдаты провинциальной милиции припеваючи по сравнению с солдатами регулярной армии, которых можно было подвергнуть телесному наказанию или отправить на пожизненную службу в Вест-Ин-дию.И настолько припеваючи, что командир провинциального войска никогда не знал точно, сколько солдат в его распоряжении. Когда магистрат Массачусетса постановил послать войска в Краун-Пойнт в северо-восточный район провинции Нью-Йорк, было специально оговорено, что «солдаты не обязаны двигаться южнее Олбани и западнее Скенектади». «Войска прибывают и отбывают, — писал очевидец об армии генерала Джонсона из Нью-Йорка, — плохо вооруженные, в плохом обмундировании и с еще худшей дисциплиной: одни, по их словам, уже отслужили свой срок, другие только что приступили к службе. Никогда не представлял себе существование такого разношерстного стада, где почти каждый сам себе хозяин и генерал».
Американский «дух уравнительства» пользовался у британских офицеров дурной славой. «Наша милиция не подчиняется никакой дисциплине, — жаловался Кэдуоледер Колден лорду Галифаксу в 1754 году. — Жители северных колоний достигли
409
такого равенства и под лозунгом свободы здесь царит такая распущенность, что они не признают никакой власти, никакого старшинства».
«У офицеров этой армии, за очень редким исключением, — отмечал очевидец, имея в виду колониальные войска, — нет никакого представления о военной службе,и большинство из них ничем не отличается от своих подчиненных, они выглядят как главари толпы и, по существу, таковыми являются». Кадровые офицеры британской армии долгое время относились к американским «офицерам» с презрением. В 1741 году во время похода на Картахену на берегу Карибского моря офицеры из Виргинии и даже сведущий в военном деле опытный командир губернатор Гуч не получили повышения и были грубо обойдены вниманием. Сам Джордж Вашингтон должен был проехать полстраны, чтобы решить вопрос о собственном воинском звании. Установленный порядок, подтвержденный герцогом Камберлендским в 1754 году, предусматривал, что «все офицеры, назначенные нами или нашим верховным командованием в Северной Америке, получают воинские звания прежде офицеров, назначенных губернаторами или советами провинций Северной Америки; мы также желаем, чтобы генералы и старшие офицеры колониальных войск не были равными по званию генералам и старшим офицерам, назначенным нами». Лоудон привез с собой новый приказ, разрешающий присвоение колониальным офицерам высоких званий, но было уже поздно.
Ни одной из проблем, мучивших Лоудона во время англофранцузской войны и войны с индейцами, не избежал и Вашингтон в Войне за независимость. Вашингтон, стараясь создать объединенную континентальную армию из невоенных американцев, сам очутился в шкуре лорда Лоудона. Хотя цели были другие, трудности оказались все те же. Континентальная армия, как и регулярная армия Великобритании двадцать лет назад, комплектуя свои ряды, должна была соперничать с милицией отдельных штатов, и Вашингтону не удалось добиться в этом особого успеха. Если бы судьба Америки зависела только от американской регулярной армии, исход войны был бы более сомнительным и отдаленным. Однако Вашингтон мудро воспользовался возможностью вести войну поэтапно—сначала в Новой Англии, затем в центральных колониях, затем на Юге,— а не сразу на всех фронтах, как велись англо-французская война и война с индейцами. Такая стратегия позволила успешно использовать рассредоточенные милицейские отряды и способствовала большей эффективности его небольшой армии.
410
В период Войны за независимость возобновились столкновения между офицерами по поводу званий и старшинства, когда кадровые офицеры британской армии пытались помыкать простыми ополченцами, и континентальные офицеры возродили в своей среде былой гонор кадровых военных. И конгресс, и штаты демонстрировали демократическую щедрость; они раздавали воинские чины всем годным к военной службе, независимо от заслуг. «Мой кузнец состоит в чине капитана», — с удивлением сообщал Де Калб. Чтобы избежать обид, было безопаснее признать, что любой военный может оказаться в высшем офицерском чине. «Не проходит и часа,—писал Вашингтон президенту Континентального конгресса 3 августа 1778 года, — без новых обращений и новых жалоб по поводу чинов... Мы не можем созвать военный трибунал или провести смотр подразделений без горячей дискуссии по вопросу о старшинстве». Когда полковник колониальной милиции Крафтс и полковник континентальной армии Джэксон должны были нести гроб своего соратника, Крафтс, как старший по возрасту, считал себя вправе идти впереди, но Джэксон заявил, что как континентальный офицер он имеет право на старшинство. Ни один из них не пошел навстречу другому, Крафтс и его друзья покинули похоронную церемонию.
Даже у Вашингтона терпение истощилось, но, поскольку местные амбиции были непреодолимы, он научился мириться с ними и даже использовать их в общем деле. «С первых дней своего назначения я добивался уничтожения всех различий между солдатами разных территорий (то есть штатов), называя всех более общим именем —американцы, но понял, что невозможно преодолеть предрассудки; и при новой организации я считаю наилучшим выходом побудить штаты к соревнованию. А для этого не будет ли лучше предложить каждому штату если не назначать, то хотя бы предлагать собственные кандидатуры на бригадирские посты?» В 1780 году на вопросы конгресса относительно его трудностей с продвижениями по службе и производству в чин он ответил: «Если бы мы являлись одной армией или тринадцатью армиями, объединенными для совместной обороны, ответить на ваши вопросы не составляло бы труда; но мы иногда бываем и тем и другим одновременно, и не было бы большим преувеличением, если бы я сказал, что порой мы и не то, и не другое, а какое-то соединение обоих понятий».
Все американские армии соревновались друг с другом в привлечении рядовых офицеров, в чинах и в славе. Рядовым из Новой Англии платили больше, чем солдатам из средних штатов.
411
Массачусетс, чтобы получить преимущество, даже предложил выдавать личному составу вознаграждение каждый лунный, а не календарный месяц. Именно эту уловку Вашингтон заклеймил как «самый предательский удар делу установления порядка в армии за всю историю... Сам лорд Норт не смог бы изобрести более эффективного средства, чтобы развалить нашу службу по вербовке солдат». Проблемы усугублялись уже известными «уравнительскими настроениями» американцев; их нежеланием разрешить выплату офицерам достаточно высокого вознаграждения, что вызвало недовольство и породило несвойственное армии панибратство между офицерами и солдатами.
Широко распространенная боязнь профессиональной армии увеличивала трудности. Джон Адамс заявил, что в конечном счете будет надежнее поддерживать веру граждан во временную, хотя и не столь действенную милицию.
«Хотя это может стоить нам дороже и, возможно, мы рискуем проиграть то или иное сражение, действуя такими методами, но нам не будет грозить опасность развращения и ожесточенности, свойственная постоянной армии, а наша милиция во время службы приобретет мужество, опыт, дисциплину и выносливость. Я хочу, чтобы каждый житель нашего континента был солдатом и осознавал свой долг в случае необходимости сражаться не на жизнь, а на смерть. Римляне не знали отступления. Я хочу, чтобы американцы были такими же». Предложения назначать долговременные пособия офицерам, чтобы привлечь лучших людей и поднять боевой дух, встречали сопротивление. Элбридж Герри указал причины (13 января 1778 года): «Младенческое состояние государства, отвращение к чиновникам и наемникам, которое может привести к потере Великобританией своих привилегий, равенство солдат и офицеров перед войной».
Зачисление на военную службу на короткий срок (иногда всего лишь на три месяца) было отражением распространенного страха перед постоянной профессиональной армией и уверенности, что армия будет не нужна после окончания войны. Вашингтон часто жаловался, что в этом суть его проблем. Например, в циркуляре от 18 октября 1780 года, разосланном штатам из штаба Вашингтона около Пассейика, говорилось:
Я свято убежден, что длительность этой войны, большинство неудач и перипетий, которые нам пришлось испытывать, во многом явились результатом временного зачисления на службу... Небольшое сплоченное войско, имеющее постоянную структуру, способную обеспечить необходимую воинскую дисциплину, могло бы противостоять врагу гораздо успешнее, чем
412
толпы милиции, которые порой находились не на поле боя, а на пути к нему или с него: ввиду отсутствия стойкости, свойственного всей милиции, и невозможности оказать на нее давление считалось непрактичным держать большую часть солдат милиции на службе даже в течение того срока, на который они были призваны; а срок этот обычно бывал столь короток, что нам долгое время приходилось содержать два состава солдат — вступающих в армию и увольняющихся из нее.
Люди расходились по домам, когда только начинали понимать свои обязанности, и часто перед лицом вражеской угрозы приходилось набирать новую армию. Непостоянный состав армии явился причиной многих военных поражений американцев. Генерал Ричард Монтгомери начал роковой штурм Квебека в конце декабря 1775 года, потому что срок службы всех его солдат из Новой Англии истекал в полночь 31 декабря, и он был уверен, что они не задержатся ни на один день.
Ненадежность и отсутствие дисциплины среди вооруженных граждан Америки, так поспешно поставленных под ружье, не давали покоя храбрым революционным командирам — от Вашингтона до полевых лейтенантов — и превращали широкомасштабное планирование в иллюзии. Тысячу раз милиция оставляла поле боя, распространяя вокруг пораженческие настроения.
Сторонники милиции, предупреждал Вашингтон, «чуть не лишили Америку всех ее свобод». «Я клятвенно заверяю, что не знаю ни одного обстоятельства, способного оправдать мнение о пригодности милиции или любого необстрелянного войска для настоящих сражений. Я убедился, что они бывают полезны как легковооруженные отряды для ведения рассыпного боя в лесах, но совершенно не способны провести или поддержать крупное наступление... Недавнее сражение под Кэмденом — печальное подтверждение этой теории. Милиция разбежалась при первом же залпе, оставив континентальные войска в окружении, когда они вынуждены были сражаться за жизнь, а не за победу ввиду огромного численного превосходства противника». «Боже правый! — воскликнул Дэниел Морган 1 февраля 1781 года, всего через несколько дней после победы над Тарлтоном. — Почему у нас так мало солдат, когда вокруг так много людей слоняется без дела?» В тот переломный период войны, когда Грин отступал перед армией Корнуоллиса, Эдвард Стивенс напрасно взывал к своим войскам.
Перейдя через Ядкин, мы не смогли бы построить к бою больше восьми тысяч человек, включая и всех до одного ополченцев, а у большей части солдат приданной мне милиции закончился срок службы. Я видел насущную необходимость задержать этих людей на несколько дней, пока войско
413
генерала Грина не соберет свои силы, и генерал просил меня сделать все возможное. Я их построил и довел положение вещей до их сведения. Но к моему глубокому удивлению и разочарованию,ни один солдат не согласился ответить на мой призыв. Каждый говорил, что он был хорошим солдатом и отслужил свой срок службы. Даже если бы от их пребывания в строю еще десять или пятнадцать дней зависело спасение страны,не думаю, чтобы они пошли на это. Милиция ни на что не годится. Основная забота ополченца в течение всего срока службы — остаться целым.
Однако многие ополченцы относились к своему долгу весьма небрежно, они часто уходили домой до истечения срока. Дезертирство было обычным делом. Очень трудно определить эффективность военной тактики, применявшейся в ряде сражений, потому что нельзя с точностью сказать, какое количество «потерь» революционной армии явилось результатом дезертирства, а не гибели или попадания в плен. За несколько недель до Беннингтонского сражения 16 августа 1777 года более четырехсот человек дезертировали или,точнее, просто исчезли. Во время осады Ньюпорта в это же время за несколько дней дезертировали пять тысяч человек. Это так ослабило силы Салливана, что ему пришлось отказаться от идеи наступления.
Не один раз — например, около Саванны в марте 1779 года, в Джонстауне в октябре 1781 года (и таких мест было слишком много, чтобы перечислить их все) — многочисленные ополченцы в панике убегали с поля боя. Хотя у Гилфорд-Корт-Хаус 15 марта 1781 года американцы численно превосходили англичан более чем вдвое, бегство всей милиции поголовно обеспечило победу Великобритании. Опытный генерал Дэниел Морган с проницательностью предсказал такой исход, когда предостерегал генерала Натаниела Грина против использования крупных частей милиции. Он посоветовал: «Если они будут сражаться, вы разобьете Корнуоллиса, если не будут, он разобьет вас. Поставьте... милицию в центр, а в арьергарде разместите отборные части, отдав им приказ стрелять в первого же солдата, который побежит с поля боя». Грин последовал совету Моргана, но паника среди ополченцев из Северной Каролины и Виргинии оказалась сильней.
Как такая неорганизованная, недисциплинированная армия с нерегулярным снабжением могла взять верх над первоклассными войсками одной из сильнейших военных держав? И на самом деле, как можем мы объяснить нашу победу в этой войне? В истории сражающейся Америки увековечено немало героических поступков, свидетельств отваги и жертвенности. Живое воображение непрофессиональных американских генералов в отличие от догматизма, свойственного профессиональному военному
414
командованию Великобритании, давало колониям непредвиденные преимущества. Но все же до сих пор трудно объяснить, почему англичане после Йорктауна так быстро сдались. Сегодня наиболее убедительным будет мнение, что не американцы выиграли, а англичане проиграли войну или, быть может, они просто отказались от дальнейшей борьбы, видя безнадежность своего дела. Обширность американской территории (и разбросанность колоний, из-за которой отсутствовала та «яремная вена», которую могли бы перерезать британские войска) привела англичан к осознанию невозможности подчинить Америку. В течение первых четырех лет Революции ни один из крупных городов — Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия и Чарлстон — не избежал оккупации регулярными войсками Великобритании, но это не приносило ощутимых результатов. Сердце Америки было везде и нигде — в каждом отдельном человеке. К тому же французы оказали серьезную помощь американской милиции и нерегулярным частям, и угроза постоянного союза Америки и Франции не давала покоя Британской империи.
Быть может, самым характерным и самым настораживающим событием в истории этой войны было внезапное расформирование армии. В январе 1781 года—за десять месяцев до капитуляции Корнуоллиса в Йорктауне — в Пенсильвании разразился армейский бунт; и снова в июне 1783 года перед самым подписанием мира взбунтовавшиеся солдаты, захватившие пороховые склады и учреждения в Филадельфии, где заседал Континентальный конгресс, грозили, что добьются выплаты жалованья с оружием в руках. Именно в разгар этих беспорядков континентальная армия была расформирована, и 4 декабря генерал Вашингтон с грустью попрощался со своими офицерами. Самым американским в Революции было ее окончание, когда вооруженные граждане поспешили вновь влиться в состав мирного населения. В этой войне, как и в последующих войнах, случавшихся в американской истории, «конец войны» неотвратимо предполагал роспуск армии.
Не случайно, что в американском фольклоре прощальное слово Вашингтона и уничтожение армии остаются такими же сокровенными символами, как и первый призыв к оружию, подъем «поставленных в строй фермеров» и внезапное появление минитменов. Реальная история организации армии печальна и постыдна — ничего подобного нельзя найти в анналах военной истории.
Однако именно слабость профессиональной армии стала предзнаменованием силы американских политических институ-
415
тов. Невоенные американцы без колебаний выбрали генерала своим первым президентом. Вашингтон мог бы стать «первым в войне, и в мире, и в сердцах соотечественников», но предоставление политической власти военачальнику в Америке значит совершенно не то, что в других странах. Для американцев идеалом военного был не Цезарь, а Цинциннат — не опытный генерал, купающийся в лучах военной славы, которой он отдал жизнь, а землепашец, вынужденный оставить свои табачные плантации.
Когда перед концом войны американские офицеры захотели создать организацию для сохранения своего товарищества, своих воспоминаний и традиций (и, быть может, своего политического влияния), они назвали себя Обществом Цинциннатов. Вашингтон возглавил его, хотя и с большой неохотой, поскольку не одобрял создания организации и надеялся, что она вскоре будет распущена. Среди широких масс создание общества вызвало серьезные опасения, что возникнет американская военная каста, они считали такое общество потомственных военных вредным рассадником аристократических идей, центром монархического заговора. Общество было так близко духу монархизма, что король Франции Людовик XVI повелел своим офицерам создать его французское отделение и считать орден Цинциннатов военной наградой.
Когда воспоминания об Обществе Цинциннатов совсем стерлись в памяти американских граждан, в дома многих американцев вошла еще одна военная реалия. Это была медаль за воинские отличия «Пурпурное сердце», которую учредил Вашингтон указом от 7 августа 1782 года:
Генерал, жаждущий поощрять благородные стремления своих солдат и благоприятствовать всем образцам воинских заслуг, предписывает, что в случае совершения военнослужащим любого поступка, заслуживающего поощрения, отличившийся получит право носить на обшлаге мундира с левой стороны изображение сердца из пурпурного полотна или шелка, окантованное узким шнурком или обвязкой. Не только примеры исключительной храбрости, но и искренняя верность и безупречная служба будут в должной мере вознаграждены... Солдатам, заслужившим эту награду, дозволяется, как офицерам, проходить через все караулы и стражи.
Отныне путь к славе в свободной стране открыт для всех патриотов — этот указ имеет обратную силу касательно начала войны и будет действовать постоянно.
Несмотря на то что в дальнейшем федеральная Конституция дала центральному правительству полномочия по ведению военных действий, американская армия так до конца и не объеди
416
нилась. Милиция штатов, превратившаяся впоследствии в «национальную гвардию», продолжала играть важную роль. Она сохраняла дух местного патриотизма и различия в обычаях и военных порядках, которые в конечном итоге и создавали всевозможные проблемы. Изначальный характер милиции, как местных сил, организованных в мирное время, продолжал сохраняться в течение Гражданской войны и двух мировых войн, так что люди по-прежнему сражались плечом к плечу со своими соседями.
Начиная с самого Вашингтона,в американской истории снова и снова — особенно после упадка «виргинской династии» — на высшие государственные посты приходили люди, обязанные этим военной славе. Даже в Великобритании, где в XVIII и XIX веках не особенно боялись военных переворотов, военные редко становились премьер-министрами; использование военных успехов в политической карьере было делом неслыханным. Но в Америке это стало обычным: на ум сразу приходят такие выдающиеся примеры, как Джэксон, Уильям Генри Гаррисон, Тейлор, Грант, Теодор Рузвельт и Эйзенхауэр. Многие из них начинали службу не в рядах регулярной армии, а в местном ополчении. И их военные подвиги отнюдь не казались чисто профессиональными успехами — они были успехами простых американцев. Именно отсутствие касты военных позволяло воину-гражданину с легкостью завоевать место на американской политической арене.
ДЭНИЕЛ БУРСТИН И АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
В свое время Гегель писал, что Америка — страна без прошлого и ей принадлежит только будущее. В связи с этим он предлагал «исключить ее из тех стран, которые до сих пор были ареной всемирной истории». Этот взгляд великого немецкого мыслителя оказался пророческим, хотя он и игнорировал глубокие корни нового общества, которые существовали как в Европе, так и на Американском континенте.
В современных Соединенных Штатах историческая наука, в особенности ориентированная на изучение отечественной истории, хорошо развита. Среди видных американских историков, которые внесли существенный вклад в изучение американской цивилизации, можно назвать плеяду замечательных исследователей: Генри и Брукса Адамсов, Фредерика Тернера, Генри Коммаджера, Роберта Хофштадтера, Джорджа Банкрофта, Аллена Нэвиса и других. Этим ученым принадлежат многочисленные обзоры истории США, ими выдвинут ряд методологических принципов ее изучения, например «гипотеза фронтира», называющая внутренним стимулом развития американской цивилизации движение на Запад, освоение земель за счет расширения западных границ, идея «божественного предопределения», концепция «американского Адама» и т.д.
К сожалению, многие из работ по истории США остаются недоступными отечественному читателю. На русский язык переведена только фундаментальная (но незавершенная) работа Вернона Луиса Паррингтона «Основные течения американской мысли» («Прогресс», 1962).
Тем больший интерес представляет публикация на русском языке книги известного американского историка Дэниела Бур-
418
стина «Американцы», дающая широкую панораму американской истории.
Бурстин родился в 1914 году на юге США, в городе Атланта, штат Джорджия. Позднее его семья переехала в Оклахому. Высшее образование Бурстин получил в престижном Гарвардском университете, а затем продолжил образование в одном из старейших колледжей Оксфорда — Бэллиол-колледже. Здесь он специализируется в области права и получает сразу две первые премии за свои исследования. Вернувшись из Великобритании в США, Бурстин становится профессором американской истории в Чикагском университете. Помимо преподавательской деятельности, он занимается редактированием 30-томной «Чикагской истории американской цивилизации», а также читает лекции в Риме, Женеве, Кембридже, Сорбонне, Киото, Пуэрто-Рико. В 1969 году Бурстин становится директором Национального музея истории и технологии в Смитсоновском институте в Вашингтоне, а в 1974 году избирается на очень важный в политическом и научном отношении пост директора Библиотеки конгресса, на котором он проработал двенадцать лет. В 1986 году Бурстин уходит в отставку с этого поста, чтобы завершить работу над своими новыми книгами.
Дэниел Бурстин — автор многих исторических исследований, которые изданы не только в США, но и во многих странах мира, за исключением разве что СССР (настоящее издание — первая его публикация на русском языке). Среди работ Бур-стина — «Потерянный мир Томаса Джефферсона» (1948), «Дух американской политики» (1953), «Имидж. Путеводитель к псевдособытиям в Америке» (1969), «Демократия и ее неудобства» (1971), «Республика технологии» (1978), «Первооткрыватели» (1983), «Скрытая история» (1987).
Большинство этих работ посвящены главным образом американской истории, ее демократическому опыту, достижениям научно-технической революции в США, выдающимся деятелям американского прошлого. Книга «Первооткрыватели», о мировых открытиях прошлого и настоящего, переведена на двадцать языков.
Но самая популярная книга, принадлежащая перу Бурсти-на, — это, пожалуй, трехтомник «Американцы», удостоенный трех престижных премий — Бэнкрофта, Паркмана и Пулитцера. Хотя все три тома были написаны в разное время и имеют свои подзаголовки, они составляют одно целое и дополняют друг друга. В 1958 году вышла книга «Американцы: Колониальный опыт», в 1965 году появилось ее продолжение — «Американцы:
419
Национальный опыт» и, наконец, в 1973 году — завершающий том «Американцы: Демократический опыт».
В целом все три тома представляют грандиозную эпопею истории США, от первых поселений колонистов, прибывших сюда в поисках счастья в первой половине XVII века, до середины XX века.
Следует предупредить читателя, что «Американцы» — это не изложение гражданской истории США. Читатель не найдет здесь хронологического описания событий американского прошлого. Скорее, это история культуры США, американской цивилизации во всей ее сложности и разнообразии. Уже такой подход, довольно необычный для исторического исследования, делает книгу Бурстина в известной степени уникальной.
Первый том, имеющий подзаголовок «Колониальный опыт», посвящен истории американской культуры XVII — XVIII веков, периоду колонизации Америки и становления американской нации. Здесь автор восстает против широко распространенных в американской исторической литературе представлений, согласно которым американская культура — это реализация заветов и пророчеств «отцов-основателей». Бурстин пишет: «Америка зачиналась как отрезвляющий опыт. Колонии были почвой, опровергавшей осуществимость утопий. В последующих главах мы постараемся показать, как реальность Америки растворяла в себе или преображала радужные мечты, возникшие под небом Европы... Новая цивилизация рождалась не столько из планов и проектов,сколько из того отрицания,какое Новый Свет привносил в обыкновения Старого».
С этой точки зрения Бурстин рассматривает трансформацию идей пуритан Новой Англии, социальную философию квакеров в Пенсильвании, утопические идеи поселенцев Джорджии, религиозно-мессианские — колонистов Виргинии. Наряду с этим исследуется становление новой культуры: развитие научных знаний, системы образования, книгопечатания и прессы, американского языка, который уже в колониальный период приобрел существенные отличия от английского литературного языка, и т.д. В целом Бурстин приходит к выводу, что в колониальный период американская культура носила разобщенный характер. Это была культура отдельных изолированных сообществ, она еще не приобрела общенациональных черт и находилась под сильным влиянием английских традиций.
Второй том, носящий подзаголовок «Национальный опыт», освещает историю американской культуры в период между Американской революцией и Гражданской войной. В это время,
420
как показывает Бурстин, отдельные колонии и поселения превращались в единое государство, а пуританин трансформировался в янки. Именно в этот период американцы стали единой нацией, обладающей самобытным языком, национальным характером, своим пантеоном героев.
В XIX веке многие европейцы критически относились к американской культуре, выражали сомнение в самой возможности ее существования, называя США «культурной пустыней» или «культурной провинцией» Европы. В своем исследовании Бурстин убедительно опровергает подобного рода стереотипы. Он показывает, как формирование американской нации и государственности приводит к созданию своеобразного типа культуры, что проявлялось в развитии образования, демокра-тической>печати, права, в окончательном оформлении американского языка, который широко заимствовал слова из других языков — индейского, испанского, голландского, немецкого и французского,— в появлении чувства патриотизма, в развитии литературы, эпоса, в появлении оригинального американского юмора и т.д.
Наконец, третий том этого исследования — «Демократический опыт» — характеризует историю американской цивилизации от Гражданской войны до середины XX века. В этом томе автор рассматривает и культуру аграрной Америки, и культуру больших городов, явившуюся результатом урбанизации и индустриализации, показывает те изменения, которые внесли в жизнь и быт американцев автомобили, автодороги, супермаркеты, особенности жилищного строительства и питания, чисто «американский» стиль в одежде, средства массовой коммуникации, реклама и развлечения.
Достоинство книги Д.Бурстина заключается в живом, занимательном и вместе с тех оригинальном подходе к анализу американской истории, в серьезных попытках представить материальную и духовную культуру США в историческом развитии. Бурстин обладает острым критическим умом, его объектом становятся некоторые стороны американской цивилизации, связанные с потребительством, «массовой культурой», созданием политических и рекламных имиджей,что составляет предмет специального исследования вышеупомянутой книги «Имидж». Одним словом, Бурстин стремится реалистически понять прошлое своей страны и трезво оценить культурный потенциал этого прошлого.
В одной из своих последних книг — «Скрытая история» — Бурстин опровергает представление о том, что историк — это
421
пророк наоборот. «Когда мы становимся историками, мы соблазняемся пророческими искушениями: хотим быть умнее, чем на самом деле, отрицаем возможность непредсказуемого. Но наше прошлое лишь чуть более отчетливо, чем наше будущее, и, подобно будущему, постоянно меняется, то скрываясь, то появляясь вновь. Быть может, было бы более правильным назвать пророчество историей наоборот»*.
Бурстин никогда не занимался пророчествами, не объявлял, как это порой делают некоторые американские историки, американскую модель культуры глобальным примером для всего остального мира. Его книги — занимательный, порой критический и всегда обстоятельный, основанный на фактах рассказ о прошлом Америки, открытие неизвестных или малоизученных фактов ее истории. В книге «Первооткрыватели» Бурстин говорит, что человечество узнало о мире и о самом себе благодаря таким первооткрывателям, как Ньютон, Коперник, Колумб, Дарвин, Марко Поло, Парацельс, Маркс, Фрейд, Эйнштейн и другие.
Сам Бурстин тоже «первооткрыватель». Он открывает нам мир американской культуры, показывает, как в процессе взаимодействия многих культур, существовавших на Американском континенте и завезенных из Европы, развился сложный, многообразный, совершенно не похожий на европейский,мир материальной и духовной культуры США.
Книга Бурстина «Американцы» помогает ответить на вопрос, поставленный еще в XVIII веке Гектором Кревкером в его книге «Американский фермер»: «Что такое американец?» Чем он отличается от европейца, каковы особенности американского национального характера, каковы традиции и особенности американской культуры? Правда, Бурстин сравнительно мало уделяет внимания таким сферам культуры, как философия или литература, концентрируя внимание на том, чем он занимался как директор Национального музея истории и технологии: развитие техники, образования, печати, почты, транспорта, рекламы, средств массовой информации. Но не обходит он и американскую духовную культуру — показывает развитие нравственных традиций, религии, языка. Интенсивному развитию всего этого способствовали демократический опыт общественной жизни, открытость влияниям со стороны других
Daniel Boorstin. Hidden History. Exploring our Secret Past. New York, Vintage Book, 1989, p.XI.
422
национальных культур, участие национальной культуры в борьбе страны за свою независимость и суверенность.
Мы рекомендуем читать три тома книги «Американцы» последовательно, книга за книгой. Тогда перед читателем откроется монументальная картина развития американской цивилизации, которая, несмотря на свою сравнительную с Европой молодость, достигла значительного прогресса и сегодня оказывает все возрастающее влияние на культуру других стран мира.
Вячеслав Шестаков
КОММЕНТАРИИ
Русский перевод первой части трилогии, впервые опубликованной нью-йоркским издательством «Рэндом-хаус» в 1958 г., выполнен по тексту 10-го издания: Boorstin Daniel J. The Americans. The Colonial Experience. N.Y., Random House [N.D.] Copyright, 1958. 10th printing. 434 p.
C.5
... Алексис Токвиль увидел... — Цитируется пассаж из последней главы первой книги сочинения, принадлежащего французскому политическому и государственному деятелю, историку и социологу А. де Токвилю (1805 —1859), ♦Демократия в Америке» (1834). См. русск. изд.: М. «Прогресо, 1991.
С. 8
Элиот Джерид (1685 —1763) — американский священник, врач колониального периода. Член-корреспондент Английской академии наук с 1757 г. Содействовал созданию металлургической и шелкопрядильной промышленности в Коннектикуте. Автор книги «Эссе о сельском хозяйстве в Новой Англии».
Брэдфорд Уильям (1590 —1657) — американский государственный деятель колониального периода. С незначительными перерывами занимал должность тубернатора Плимута с 1621 по 1654 г. Автор знаменитой хроники «Плимутское поселение» (1630 —1631; 1646 —1650), впервые полностью опубликованной в 1856 г.
С. 9
Американская революция — речь идет о вооруженной борьбе североамериканских колонистов в 1775 —1783 гг. против войсковых соединений британской регулярной армии. В историографии также известна как Война за независимость.
424
С. 10
Смит Адам (\Т23 —1790) — английский экономист, философ, юрист и педагог. В 1770 — 1780-е гг. — ректор университета в Глазго. Автор труда «Богатство наций» (1776), получившего всеевропейскую известность.
Перфекционисты — последователи религиозного учения американского священника-реформатора Джона Хамфри Нойеса (1811 —1886), основавшего в 1848 г. известную «Общину Онейда». Название конгрегации восходит к тексту Евангелия (от Матфея, 5.48). Перфекционисты, в частности, убеждены, что, «духовно общаясь с Иисусом Христом», верующие способны вернуть себе первозданную безгреховность души.
С. 11
Мэзер Коттон (1663 — 1728) — американский общественный и религиозный деятель. Видный литератор и теолог Новой Англии колониального периода.
Уинтроп Джон-старший (1588 —1649) — американский юрист, государственный деятель. С1629 по 1649 г. с незначительными перерывами избирался на должность губернатора колонии Массачусетского залива.
С. 12
Хиггинсон Фрэнсис (1586 — 1630) — американский священник колониального периода, автор сочинения «Новоанглийское поселение, или Краткое и правдивое описание достоинств и недостатков этой страны» (1630), представляющего собой дневник, который велся автором в 1629 —1630 гг.
С. 13
Кальвин Жан (1509 —1564) — французский теолог-протестант, основатель учения, получившего название «кальвинизм». Его основным трудом принято считать книгу «Институты христианской религии».
Эймс Уильям (Амезиус) (1576 — 1633) — английский теолог пуританского направления, с начала XVII в. являлся пастором англиканской церкви в Гааге.
Уильямс Роджер (1603 —1683) — американский священник-конгрегационалист колониального периода. Один из основоположников традиции религиозного либерализма и веротерпимости в Новой Англии. После переселения в колонии на родину возвращался дважды: в 1643 и в 1652 — 1653 гг. Автор религиозно-полемических книг «Кровавый завет преследования за веру» (1644), «Кровавый завет, ставший еще более кровавым благодаря попытке мистера Коттона отмыть его кровью агнца» (1652) и др.
Дадли Томас (1576 — 1653) — американский деятель колониального периода, неоднократно избиравшийся в течение 1630 — 1640-х гг. губернатором колонии Массачусетского залива.
Вэйн Хэрри — биографические сведения о нем не разысканы.
...следует ли принимать петицию Чайлда... — Речь идет о судебном процессе по иску врача Роберта Чайлда, который в середине XVII в. обратился в Генеральную ассамблею Массачусетской колонии с официальным требованием привести местную юрисдикцию и законодательство в полное соответствие с английскими законами.
425
..принадлежит ли ассистентам право вето... — В ХУП в. «ассистентами* называли тех депутатов Генеральной ассамблеи Массачусетской колонии, которые не имели никаких управленческих должностей в исполнительных органах власти и не входили в составы каких-либо комитетов или комиссий в отличие от так называемых «магистратов».
Даже диспуты с Энн Хатчинсон и Роджером Уильямсом... —Речь идет о религиозной полемике большинства священников Массачусетса с Р.Уильямсом, который в начале 1630-х гг. выступил против практики принуждения в вопросах веры и теологии, а также об антиномианской «ереси» проповедницы Энн Хатчинсон (1591 — 1643), которая во время процесса над ней также обвинила власти колонии Массачусетского залива в антихристианской жестокости.
С. 14
Мильтон Джон (1608 — 1674) — английский поэт, публицист и общественный деятель периода Английский революции 1640—1649 гг.
Пресвитериане — представители одного из наиболее умеренных протестантских религиозных движений, сохранявшего иерархическую церковную организацию, но утвердившего принцип выборности всех священнослужителей пресвитерами (старейшинами) общины.
Индепенденты (в Англии были известны также под именем «браунисты») и они же сепаратисты (название, закрепившееся в североамериканских колониях) — представители протестантского религиозного течения, отстаивавшие независимость каждой отдельной общины верующих как от церковных, так и от светских властей.
Левеллеры (т.е. «уравнители») — наиболее леворадикальная в социально-политическом плане пуританская секта, действовавшая в Англии. В период революции 1640 — 1649 гг. они выдвинули требование имущественного равенства.
Милленаристы (от лат. millenarium — «тысячелетие») — сторонники религиозного христианского течения, рассматривавшие свое время как последний апокалиптический период, непосредственно предшествовавший наступлению «тысячелетнего царства Божия» на земле.
С. 15
Маккарен Патрик А. (1876 —1954) —американский политический деятель, сенатор с 1933 г.
..подрывные взгляды м-ра Уилрайта... — Речь идет о том, что священник Джон Уилрайт (1592 — 1679), женатый на Мэри Хатчинсон, родной сестре Энн, во время судебного процесса над его родственницей в 1637 г. вступился за нее и был также осужден «за предательство» на изгнание из колонии Массачусетского залива.
УордНатаниел (1578 —1652) —английский священник, живший и работавший в Массачусетсе с 1634 по 1647 г. Автор книги «Простой башмачник из Аггава-ма» (1647), опубликованной им в Лондоне под псевдонимом Теодор де ля Гард.
Фамилисты — религиозная секта, организованная в XVI в. во Фрисландии Ни*-коласом Никлеусом (1502 — 1580). Фамилизм как учение представляет собой смесь немецкого мистицизма с элементами анабаптизма (см.ниже) и с этикой перфекционизма. Особую известность фамилисты приобрели в свя
426
зи с тем, что провозглашали и практиковали полигамию (отсюда и название секты, рассматривающей себя в качестве одной большой семьи).
Антиномиане (в перев. с греч. ♦противозаконные»)—последователи радикального протестантского учения, отвергавшие какую-либо зависимость христианина от «буквы» ветхозаветных законов, поскольку они были отменены пришествием мессии.
Анабаптисты (в перев. с греч. «крещенные вновь, снова») — протестанты, требующие крещения верующих во взрослом возрасте, поскольку, по их убеждению, выбор своего вероисповедания должен быть совершен каждым человеком сознательно.
Энтузиасты (в перев. с греч. «одержимые богом») — так в XVI—XVU вв. в Англии называли представителей запрещенных или полулегальных сект. Название имело резко отрицательное значение, близкое к русскому понятию «бесноватые».
Нортон Джон (1606 —1663) — новоанглийский священник колониального периода, автор книги «Ортодоксальный евангелист» (1654).
С. 17
Коттон Джон (1584 — 1652) — американский религиозный деятель, теолог колониального периода, один из лидеров новоанглийского конгрегационализма.
С. 19
Донн Джон (1572 — 1631) — английский священник, поэт. Глава «метафизической школы».
Тейлор Джереми (1613 — 1667) — английский священник, духовник короля Карла I.
Эндрюс Ланселот (1555 — 1626) — английский государственный и религиозный деятель, епископ Винчестерский, член Тайного королевского совета с 1609 г.
Перкинс Уильям (1558 — 1602) — английский религиозный деятель, педагог, литератор. Один из ведущих идеологов пуританизма.
С. 20
Миллер Перри Джилбер Эдди (1905 —1963) —американский историк, культуролог, литературовед. Специализировался в области духовной культуры Новой Англии колониального периода.
...провозглашали авторы введения к «Книге псалмов»... — Речь идет о книге, получившей в науке известность как «Книга псалмов Массачусетского залива». Она была впервые опубликована в 1640 г. и представляет собой лишенный каких-либо поэтических достоинств, но полный по составу перевод Псалтыри, выполненный колониальными священниками Ричардом Мэзером, Джоном Элиотом и Томасом Уэлдом, которые и являются авторами упомянутого в монографии коллективного предисловия.
Хукер Томас (1586 — 1647) — массачусетский священник, теолог, полемист, представлявший либеральное течение в колониальном пуританизме.
427
С. 22
После того как в 1660 году в Англии потерпел крах пуританский политический курс... — Речь идет о реставрации монархии в Англии решением парламента от 8 мая 1660 г. и коронации Карла П Стюарта 21 апреля 1661 г.
..подобно герою «Благости безграничной»...—Имеется в виду лирический герой духовной автобиографии английского писателя и общественного деятеля-нонконформиста периода Реставрации Джона Баньяна «Благость безграничная к самому страшному из грешников» (1666).
С.23
Муди Джошуа — биографических сведений о его жизни не имеется.
Мэзер Инкриз (1639 — 1723) — бостонский священник-конгрегационалист, литератор, один из представителей массачусетской династии Мэзеров.
С.28
Мэзер Ричард (1596 —1669)—массачусетский священник колониального периода. Выполнял ряд дипломатических поручений совета Массачусетской колонии при дворе короля Якова II.
Новоанглийский конгрегационализм—радикальное движение в пуританизме — колониальный вариант английского браунизма.
С. 29
..холь скоро люди не ошибаются относительно их установления, порядок их совершения должно признать как бы ниспосланным свыше. — Имеется в виду доктрина «богодухновенности» тех обрядов, совершение которых санкционировано и объяснено Библией.
С. 31
Джонсон Эдвард (1598 —1672) — массачусетский купец и государственный деятель. Депутат Генеральной ассамблеи колонии (1634 —1672). Автор стихотворно-прозаического повествования «Чудотворные знамения Сионского Спасителя в Новой Англии» (1653).
С. 32
...король Карл... — Имеется в виду английский король Карл I (1600—1649), правивший с 1625 г.
Великая хартия вольностей — грамота, подписанная английским королем Иоанном Безземельным 15 июня 1215 г. Содержит 63 статьи, в которых оговариваются права подданных и обязанности монарха перед ними.
С. 33
..небольшую работу Джона Коттона под названием «Судебные предписания Моисея»... — Время написания Джоном Коттоном данного кодекса не установлено и, по-видимому, приходится на конец 1630-х гг. (по связи с судебным преследованием «еретиков» Роджера Уильямса и Энн Хатчинсон (1636—1637).
428
С. 36
..Ллэкстон сэр Уильям (YT23 — Y1&)} — английский юрист, автор «Комментариев к английскому праву» (1765 — 1769), самого авторитетного труда по юриспруденции в англоязычном мире в XVIII — XIX вв.
С. 37
Лечфорд Томас (ум. 1642) — английский юрист, резко критиковавший руководство колонии Массачусетского залива в упоминаемой книге «Честная игра, или Новости из Новой Англии» (1642).
С. 41
Коук сэр Эдвард (1552 —1634)—английский юрист, политический и государственный деятель, лидер популистской парламентской партии. Автор многочисленных юридических справочных, а также полемических сочинений.
С. 45
Гражданская война — война между Севером и Югом (1861 —1865).
0.46
Фокс Джордж (1624 —1691) — английский общественный и религиозный деятель, основатель квакерского «Общества друзей» (конец 1660-х — начало 1670-х гг.). Из многочисленных его сочинений особую известность приобрел «Дневник» (впервые был опубликован посмертно в 1691 г. с предисловием Уильяма Пенна).
Пенн Уильям (1644 — 1718) — ученик Джорджа Фокса, один из руководителей «Общества друзей», владелец Пенсильвании, основатель Филадельфии.
Вулмен Джон (\72й — 1772) — американский религиозный деятель-квакер предреволюционного периода, автор ряда сочинений, и прежде всего знаменитого «Дневника», опубликованного посмертно в 1774 г.
С. 47
Отцам-пилигримам, пуританам и квакерам... — Т.е. колонистам Плимута, Массачусетса и Пенсильвании. Данная терминология обретает значение только в контексте религиозной ситуации, сложившейся в Северной Америке, поскольку в строгом смысле слова все эти течения были пуританскими, а сепаратизм Плимута и конгрегационализм Массачусетса также были родственными благодаря кальвинизму, лежавшему в основе их доктрин.
С. 48
Дьюсбери Уильям (1621 —1688) — последователь Джорджа Фокса, английский религиозный писатель-квакер, трактаты которого были собраны и изданы в одной книге в 1689 г.
С. 49
Кортес Эрнандо (1485 — 1547) — испанский военный и государственный деятель, завоеватель Мексики (1521) и Гондураса (1526).
429
Леон Луи Понс де (1527 — 1591) —испанский поэт-мистик, монах францисканского ордена.
Нортон Хамфри (1600 — 1660) — американский религиозный деятель -квакер раннеколониального периода, прибывший в Род-Айленд в 1657 г.
Бишоп Джордж—о жизни этого английского литератора не найдены.
С. 54
В допенсильванский период жизнь квакерства как движения поддерживало их «трагическое столкновение* с новоанглийскими пуританами. — Речь идет о различных малочисленных общинах квакеров, которые переселялись в Новую Англию в середине XVII в. вплоть до основания отдельной колонии квакеров — Пенсильвании в 1681 г.
С. 56
Гамильтон Эндрю (1676 —1741) — американский юрист колониального периода, занимал ряд видных судейских должностей в Пенсильвании.
С. 58
Ллойд Дэвид (1656 — 1731) — американский юрист колониального периода, верховный судья колонии Пенсильвания (1717 —1731).
Логан Джеймс (1674 — 1751) — американский государственный деятель, мэр Филадельфии, заместивший своего друга Д.Ллойда в качестве верховного судьи Пенсильвании (1731 —1739).
С. 64
Гукин Чарлз — годы жизни не установлены. Известно, что он был протеже У.Пенна и что в 1709 —1717 гг. являлся вице-губернатором Пенсильвании.
Кит Уильям (1680 — 1749) — английский государственный деятель, служивший в управлении делами колоний—таможенный инспектор (1714 —1715), губернатор Пенсильвании и Делавэра (1717 —1726).
С. 65 —66
В1650 году в Англии Джордж Фокс предпочел отбыть срок тюремного заключения необходимости взять в руки оружие, защищая общество против Карла Стюарта. — Не вполне ясно, о чем идет речь: в 1649 г. Фокс был впервые арестован — за нарушение общественного порядка в церкви города Ноттингем, а 1650 — 1651 гг. он провел в заключении по обвинению в богохульстве.
С. 68
Денежная реформа — имеется в виду выпуск собственных бумажных денег — банкнот — в ряде американских колоний в середине XVIII в. в связи с острой нехваткой в обращении золотых и серебряных монет.
«Война короля Вильгельма* — в англоязычной историографии так принято называть англо-французскую войну 1689 —1697 гг., которая велась также и на территории колоний этих государств.
430
С. 69
..на повестке дня была война за Испанское наследство (в Америке более известная как «война королевы Анны*).—Речь идет о боевых действиях, которые в 1702 — 1713 гг., т.е. всего через пять лет со дня окончания «войны короля Вильгельма», стали вестись на территории Северной Америки между вооруженными отрядами британских и французских колоний.
..началась в 1739 году вспышкой войны с Испанией (так называемой «войной из-за уха Дженкинса», позже переросшей в войну за Австрийское наследство, снискавшей в колониях прозвание «войны короля Георга»). —Имеется в виду период вооруженных конфликтов 1739 — 1748 гг. Инцидент, давший название «войне из-за уха Дженкинса» (1739 — 1741) произошел в 1731 г.: капитан английского торгового судна «Ребекка» официально заявил, что он был схвачен испанской береговой охраной и искалечен во время ареста. На слушании в парламенте сторонники решительных действий против Испании, сообщая о том, как испанские власти позволяют себе обращаться с подданными английской короны, предъявили в качестве вещественного доказательства отрезанное ухо капитана Дженкинса. Это вызвало всеобщее возмущение парламентариев и заставило сэра Роберта Уолпола неохотно дать согласие на объявление войны. Вооруженный конфликт 1740 —1748 it., втянувший в себя большую часть западноевропейских государств и получивший название войны за Австрийское наследство, был вызван желанием прусского короля Фридриха П аннексировать Силезию, до того принадлежавшую империи Габсбургов. Воспользовавшись смертью императора Карла VI, Фридрих П быстро оккупировал Силезию, разгромив австрийские войска под Молвитцем (1741) и заручившись союзными договорами с Баварией, Испанией, Саксонией и Францией. Англия поддержала императрицу Австрии Марию-Терезу, дочь Карла VL Боевые действия велись на территории Нидерландов, Богемии, Италии и Северной Америки.
С. 70
Лишь к 1745 году смог губернатор Томас обеспечить ассигнования на военные нужды: гарнизону в Луисбурге... —Имеется в виду английский государственный деятель баронет Джордж Томас, в 1737 — 1747 гг. исполнявший обязанности вице-губернатора Пенсильвании.
С. 71
Франклин Бенджамин (1706 —1790) — американский издатель, государственный деятель, дипломат, естествоиспытатель, философ и писатель.
С. 73
Брэддок Эдвард (1695 — 1755) — английский военачальник, главнокомандующий британской армией в Северной Америке. В битве за форт Дюкейн (июль 1755 г.) его войска были разбиты, а он сам получил смертельное ранение.
С. 75
Моррис Роберт Хантер (1700 — 1764) — американский юрист, государственный деятель колониального периода. Верховный судья колонии Нью-Джерси (1738 —1754). В1754 г. был назначен губернатором Пенсильвании. В1756 г.
431
ушел в отставку, не сумев добиться поддержки своей политики со стороны Генеральной ассамблеи этой колонии.
Стивенсон Джордж — биографические данные не разысканы.
С. 76
Пембертон Израель (1715 — 1779) — филадельфийский предприниматель-квакер, политический и общественный деятель Пенсильвании, пострадавший во время Войны за независимость за свой пацифизм: в 1778 г. он был арестован и заключен в тюрьму.
С. 77
«Дружеская ассоциация по восстановлению и сохранению мира с индейцами мирными средствами» — квакерская общественная организация, функционировала в течение двадцати лет — вплоть до начала Войны за независимость.
С. 79
Народная партия Бенджамина Франклина — понятие «партия» в данном случае используется условно, поскольку эта политическая группировка носила исключительно временный характер и не получила никакого организационного оформления.
С. 80
Фозергилл Джон (1712 — 1780) — лондонский врач, активный участник квакерского движения.
С. 81
Председатель Тайного совета лорд Грэнвилл — речь идет о Джоне Картерете, 1-м графе Грэнвиллском (1690 — 1763), политическом противнике Р.Уолпола. Председателем Тайного совета он был в 1750-е it.
С. 84
...они удостоились — и вполне заслуженно—презрительного наименования «тори». — В этот период, т.е. в начале правления короля Георга I, лидеры английских тори оказались скомпрометированными из-за своих проякобит-ских симпатий. Когда выяснилось, что все свои надежды они возлагали на возведение на английский престол представителя находившейся в парижской эмиграции династии, тори стали считаться «подрывными элементами», тайными заговорщиками против народа и законного правительства.
С. 87
Джефферсон Томас (1743 —1826) — американский государственный и политический деятель демократического направления. Автор Декларации независимости (1776), 3-й президент США (1801 —1809).
С. 88
Фозергилл Сэмюел (1715 —1772) — английский коммерсант, активист квакерского движения в Англии и Ирландии. Северную Америку посетил в 1754 — 1756 гг.
432
С. 89
Чокли Томас (1675 — 1741) — английский коммерсант, активный участник квакерского движения, имевший крупную земельную собственность в Пенсильвании. Собрание его сочинений, в том числе и упоминаемый «Дневник», было впервые опубликовано посмертно, в 1749 г.
Такого рода «иеремиады».., — Речь идет о литературном жанре, получившем широкое распространение в письменности Новой Англии, сочетающем в себе жанровые признаки инвективы и ламентации. Название восходит к ветхозаветному образцу — «Книге пророка Иеремии».
Норрис Айзек (1701 — 1766) — пенсильванский предприниматель и политический деятель. Депутат Генеральной ассамблеи колонии (1734 — 1766), в конце жизни — спикер палаты представителей.
С. 92
Черчмен Джон — биографические сведения о нем не разысканы.
С. 94
Граф Эгмонт — речь идет о Джоне Персивале, 1-м графе Эгмонте (1683 — 1748), английском политическом и государственном деятеле.
Патернализм — теория, интерпретирующая любой вид государственной власти (экономической, политической или социальной) как «естественную» власть отца над опекаемыми им детьми, как заботу старшего о младших.
Роли сэр Уолтер (1552 —1618) — английский государственный и военный деятель, писатель, мореплаватель.
Дрейк сэр Фрэнсис (1540 —1596)—знаменитый английский капер, получивший чин адмирала. В 1577 — 1581 гг. совершил кругосветное путешествие, во время которого обследовал Тихоокеанское побережье Северной Америки; в 1587 г. под Кадиксом разгромил испанский флот. Командовал одной из флотилий в сражении против «Непобедимой армады» (1588).
С. 95
Поп Александр (1688 — 1744) — английский поэт-классицист, издатель Шекспира, переводчик поэм Гомера.
Героическое двустишие (или — героический куплет) — в английской поэзии стихотворная форма, представляющая собой попарно рифмующиеся пятистопные ямбические строки (аа ЪЪ сс и т.д.).
Юм Дэвид (1711 —1776) — английский философ и историк.
Джонсон Сэмюел (1709 — 1784) — английский писатель, критик, лексикограф.
«Памела» (Y14Q — 1741) — 4-томный эпистолярный роман английского писателя Сэмюела Ричардсона (1689—1761).
«Том Джонс» (Y1A9) — краткое название романа английского писателя Генри Филдинга (1707 —1754) «История Тома Джонса, найденыша».
Уолпол Роберт, 1-й граф Орфордский (1676 —1745) — английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании (1721 —1742).
433
С. 96
Епископ Беркли — речь идет об английском религиозном деятеле, философе Джордже Беркли (1685 — 1753), с 1734 г. ставшем епископом Клоанским.
Оглторп Джеймс Эдвард (1696 — 1785) — английский военный и государственный деятель. Чин генерала получил в 1746 г.
С. 97
Монтгомери сэр Роберт (1680 —1731) — английский военный и государственный деятель. В данном случае имеется в виду проспект «Размышления относительно планируемого основания новой колонии южнее Каролины», выпущенный в 1717 г. в связи с приобретением им территории между реками Аллатамаха и Саванна — личное владение, которое он назвал «маркграфством Азилийским».
С. 98
Лорд с явной издевкой сплетничает о любовных похождениях принца Уэльского и в то же время стремится снискать себе расположение того же принца, — Речь идет о сыне Георга I, отце будущего Георга Ш Фредерике Луи принце Уэльском (1707—1751).
С. 99
Босуэлл Джеймс (1740 — 1795) — английский юрист и литератор, автор многочисленных сочинений описательного и биографического характера, из которых наибольшей известностью пользуется жизнеописание Сэмюела Джонсона (1791).
Бёрк Эдмунд (1729 — 1779) — английский политический деятель, влиятельный публицист, принадлежавший к дружескому кругу доктора Джонсона.
Рейнолдс сэр Джошуа (1723 —1792) — английский художник-портретист. Первый президент Английской академии искусств.
Баньян Джон (1628 — 1688) — английский религиозный и общественный деятель, литератор. Автор знаменитого «Пути паломника» (1678) и упоминавшейся выше «Благости безграничной».
С. 100
Доктор Томас Брей — речь, по-видимому, идет об английском священнике и педагоге Томасе Брее (1678 —1730), основателе «Общества по распространению христианского знания» (1699) и «Общества по распространению Евангелия» (1701).
С. 103
Акр — единица измерения площади в англоязычных странах. В настоящее время равняется 4047 м .
Джентри — «лучшие люди», колониальная элита, поскольку английское понятие «джентри» в то время буквально означало «благородный, благовоспитанный человек».
434
С. 105
В соответствии с теорией меркантилизма.., — Речь идет об экономических представлениях, лежавших в основе государственной политики большинства ведущих стран Западной Европы в XVI — XVIII вв. Согласно этой теории понятие богатства нации отождествлялось исключительно с ее денежной системой и накопленным ею золотым запасом. Поэтому правительства стремились, всячески ограничивая ввоз товаров в свою страну, максимально увеличивать собственный экспорт. Одним из важнейших факторов политики меркантилизма является правительственный контроль над торговлей и промышленностью, приводивший к откровенно эгоистическим отношениям даже к своим собственным колониям.
С. 106
Ломб сэр Томас (1685 — 1739) — английский коммерсант и предприниматель, создатель шелкопрядильной промышленности Британии.
С. 109
Кревкёр Мишель Гийом Жан де (псевдоним — ЖТектор Сент-Джон) (1735 — 1813) — французский дипломат, получивший американское гражданство и ставший фермером-колонистом. Автор «Писем американского фермера» (1782), «Культуры картофеля, или Путешествия по штатам Пенсильвания и Нью-Йорк» (1801), «Очерка Америки восемнадцатого столетия» (впервые опубликован в 1925 г.).
С. 111
Мур Фрэнсис (1657 —1715) — английский врач, педагог, астролог. Известность приобрел тем, что с 1701 г. начал готовить и издавать календари-альманахи, получившие в то время широкое распространение как в метрополии, так и в колониях
С. 115
Капитан Пьюри — имеется в виду швейцарский колонист Жан Пьер Пьюри (1675 — 1736), который вел переговоры с английским правительством насчет выделения в Южной Каролине (по нынешнему территориальному делению речь идет о части штата Джорджия) земли для швейцарских протестантов, подвергавшихся гонениям в католических кантонах Получив грамоту на владение этой землей, прибыл в колонию во главе группы из 150 человех
С. 118
Королева Каролина — речь идет о Каролине, супруге короля Георга II (1683 — 1737).
С. 123
Локк Джон (1632 — 1704) — английский философ, один из родоначальников современного эмпиризма.
Бёрд Уильям (1674 —1744) — виргинский землевладелец, государственный деятель колонии, литератор, автор «Истории пограничной линии» (1728), а
435
также не так давно опубликованных дневников, часть которых называется «секретными», так как они были записаны стенографически.
С. 124
Уолпол Горас, 4-й граф Орфордский (1717 —1797)—английский писатель, автор «готического» романа «Замок Отранто» (1765).
Пендлтон Эдмунд (1721 —1803) — виргинский юрист-патриот, активно участвовавший в борьбе колонистов за независимость от Великобритании.
Вашингтон Джордж (1732 — 1799) — американский военный и государственный деятель, 1-й президент США (1789 —1797), главнокомандующий североамериканской континентальной армией в период Войны за независимость (1775—1783).
Брэтуэйт Ричард (1588 —1673)—английский поэт, юрист, ученый.
С. 125
Сэндис Джордж (1578 — 1644) — английский государственный чиновник, служивший в Виргинской компании, предприниматель-колонист, участвовавший в создании металлургического и стекольного производств в Виргинии. Поэт-переводчик, завершивший в период своего пребывания в колонии перевод «Метаморфоз» Овидия (1626).
Уэртенбейкер Томас Джефферсон (1879 —1966) — американский историк, один из крупнейших специалистов по колониальному периоду истории США.
Йоменство — понятие, по-видимому, образованное от староанглийского «eong шапп» — «молодой человек», т.е. помощник, младший слуга. По английской терминологии XV — XVII вв. йомены — владельцы небольших земельных наделов, свободные землепашцы.
С. 126
Николсон Фрэнсис (1655 — 1728) — английский военный и государственный деятель, представлявший интересы Британии в североамериканских колониях. Губернатором Виргинии был в 1698 —1705 гг.
С. 127
Последовавшее после 1660 года ужесточение контроля за соблюдением Навигационных актов... — Речь идет о постановлениях английского парламента от 1651 г., а также от 1660,1663 и 1696 гг., усиливавших зависимость колониальных американских коммерсантов и промышленников от торгового флота Британии. Согласно этим актам, в колониях запрещалось развивать собственное судостроение и создавать свой флот, а также ввозить неанглийские товары на судах, принадлежащих иностранным государствам, и т.п.
Мятеж, который возглавил Натаниел Бэкон в 1676 году... — Имеется в виду вооруженное восстание колонистов, живших в приграничных районах Виргинии. Несмотря на запрещение колониальной администрации во главе с губернатором сэром У.Беркли, земледельцы, подвергавшиеся нападениям индейцев, вооружились и создали свой отряд самообороны. Приказом губернатора это вооруженное формирование было объявлено незаконным, а его участники — государственными преступниками. Возмущенные «погра
436
ничники» во главе с Н.Бэконом (1647 —1676) решили проучить власть имущих и атаковали административный центр колонии. После внезапной смерти Н.Бэкона восстание было быстро и жестоко подавлено.
С. 128
Рэндолф Эдвард (1632 —1703) — английский государственный служащий в управлении по делам колоний, работавший как в Новой Англии, так и в Нью-Йорке. В качестве главного таможенного инспектора активно проводил политику британского меркантилизма.
Гуч сэр Уильям (1681 — 1751) — английский военный и государственный деятель, губернатор Виргинии с 1727 по 1749 г.
С. 129
...типа лорда Эффингема... — Речь, вероятно, идет о Кеннете Александре Говарде, 1-м графе Эффингемском (1767 —1845).
Encomienda — испанское правовое понятие из колониальных времен. Означает официально полученное право от властей метрополии на пользование землей вместе с проживающими на ней индейцами.
Бассет Джон Спенсер (1867 — 1928) — американский историк, педагог. Издатель журнала «Саут Атлантик куортерли». Специалист по истории Северной Каролины.
С. 131
Яков I (1566 —1625) — король Шотландии с младенческого возраста под именем Якова VI. В1603 г. этот сын Марии Стюарт после смерти бездетной Елизаветы I был коронован на английский престол как Яков I.
С. 132
Мишель Франсуа Луи — об этом французском путешественнике, посетившем Северную Америку в начале XVIII в., никак сведений не сохранилось.
С. 133
Клейтон Джон (1685 —1773) — английский ботаник. В Виргинию переселился в 1705 г.
Джоунс Хью (1670 — 1760) — виргинский священник, математик и историк колониального периода. Выпускник Оксфорда. В Америку переселился в 1716 г. Автор «Краткой английской грамматики» (1724) и «Нынешнего состояния Виргинии» (1729).
С. 134
Спотсвуд Александр (1671 —1740) — английский государственный и военный деятель, уроженец Танзании. Губернатор Виргинии (1710 — 1722), главный почтмейстер английских колоний в Северной Америке (1724 —1740).
С. 135
...восьмой герцог Девонширский...—Речь идет о Спенсере Комптоне Кавендише, 8-м герцоге Девонширском (1833 — 1908).
437
Скиптонская ярмарка — ежегодная торгово-промышленная ярмарка, проводившаяся в текстильном центре Йоркшира—городе Скиптон.
С. 136
Монро Джеймс (1758 —1831)—американский государственный и военный деятель, 5-й президент США.
С. 137
Флеминг Уильям (1736 — 1824) — американский юрист и политический деятель-виргинец. Делегат Континентального конгресса (1779 — 17Я1). Член первого состава Верховного апелляционного суда США (1789 — 1824), а с 1809 г. — его бессменный председатель.
С. 140
Акт о гербовом сборе — постановление английского парламента, получившее известность под данным названием и предписывавшее обложение косвенным налогом всего делопроизводства в североамериканских колониях. Ни один документ, не заверенный специальной платной гербовой маркой, не должен был иметь силу.
Рэндолф Пейтон (1721 — 1775) — виргинский адвокат, государственный деятель. Спикер виргинской палаты граждан (1766 —1775). Первый президент Континентального конгресса (1774 —1775).
Блэнд Ричард (1710 — 1776) — виргинский политический деятель, депутат палаты граждан (1745—1775), член виргинского корреспондентского комитета, делегат Континентального конгресса (1774—1775).
Робинсон Джон (1704 —1766) — виргинский государственный деятель, спикер палаты граждан (1738 —1766), исполнявший в эти же годы должность казначея Виргинской колонии.
С. 141
Бурвелл Льюис—биографические сведения о нем не обнаружены.
Брэкстон Картер (1736 —1797) — виргинский политический и государственный деятель, депутат палаты граждан (1761 — 1775), делегат Континентального конгресса (1776 — 1785), подписавшего Декларацию независимости (1776).
Генри Патрик (1736 — 1799) — виргинский политический и государственный деятель, делегат Континентального конгресса (1774 — 1775), губернатор Виргинии (1776 — 1779; 1784 — 1786), один из авторов конституции штата Виргиния.
Николас Роберт Картер (1728 —1780) — виргинский политический и государственный деятель, депутат палаты граждан (1756 — 1777), казначей Виргинии (1766 — 1777). С большим трудом преодолев лоялистские убеждения, признал в конце концов необходимость вооруженной борьбы против произвола правящих кругов метрополии.
Фокье Фрэнсис (1704 —1768) — английский политический деятель, правительственный чиновник. В 1758 —1768 гг. был губернатором Виргинии. В1765 г. после принятия законодательным собранием колонии резолюции Патрика
438
Генри, в которой осуждался Акт о гербовом сборе, Фокье объявил о роспуске виргинского парламента.
С. 142
Брей Джеймс — политический деятель Виргинии. Биографические сведения о нем не сохранились.
С. 143
Тайлер Джон (1747 — 1813)—виргинский юрист и политический деятель, депутат палаты граждан колонии (1777 — 1788), спикером которой он был в 1781 — 1784 гг.
С. 144
Овертон Сэмюел — никакие биографические данные о нем не известны.
С. 145
Маршалл Джон (Y155 —1835) — виргинский юрист и государственный деятель, участник Войны за независимость. Председатель Верховного суда США (1809 — 1835). Автор 5-томной биографии Джорджа Вашингтона (1804 — 1807).
Гаррисон Бенджамин (1726 — 1791) — виргинский государственный деятель, депутат палаты граждан (1749 —1775), делегат Континентального конгресса (1774 — 1778), подписавшего в 1776 г. Декларацию независимости. Губернатор Виргинии в 1782 —1784 гг.
С. 146
Адамс Джон (V135 — 1826) — массачусетский юрист, дипломат, публицист, политический и государственный деятель. 2-й президент США (1796 — 1800).
Гамильтон Александр (1757 —1804) — американский журналист, юрист, военный и государственный деятель. Активный сторонних сильной центральной власти. Первый министр финансов в администрации Джорджа Вашингтона.
Моррис Гувернер (1752 — 1816) — американский юрист, дипломат, государственный деятель консервативного направления. Делегат Континентального конгресса (1777 —1778), сенатор США (1800—1803).
Манфорд Роберт (1730 —1784) — американский военный и политический деятель, литератор. Депутат палаты граждан Виргинии (1765 —1775), участник Войны за независимость (1775 —1783), которую закончил в чине майора. Его «Пьесы и стихотворения» были впервые опубликованы посмертно в 1798 г.
С. 147
Смит Джон Фердинанд Д.—английский военнослужащий. Точные годы жизни не установлены. Один из самых известных в Виргинии и Мэриленде солдат британской короны во время Войны за независимость. Смит неоднократно попадал в плен и бежал из плена. Он исходил почти все североамериканские колонии и написал об этом мемуары «Посещение Соединенных Штатов Америки», оба тома которых вышли в 1784 г. одновременно в Лондоне и Дублине.
439
С. 149
Мэдисон Джеймс (1751 —1836) — виргинский юрист, политический и государственный деятель, 4-й президент США (1809 —1817).
С. 151
...ветеранам кампании 1754 года. — Речь идет о военном походе виргинского ополчения под командованием Джорджа Вашингтона против французов и индейцев, предпринятого в 1754 г. по инициативе губернатора Роберта Дин-видди.
Динвидди Роберт (1693 —1770) — английский государственный служащий департамента по делам колоний, губернатор Виргинии в 1751 —1757 гг.
С. 152
*Грейт Дисмэл Свомп К?» — речь идет о компании, созданной в 1763 г., по осу-шению огромного болота, расположенного на востоке Виргинии и обеих Каролин и занимавшего площадь в 2000 км2. Прокладка дренажного канала длиной в 22 мили была закончена в 1828 г.
Монтескьё Шарль Луи (1689 — 1755) — французский государственный деятель, философ-рационалист, писатель.
Руссо Жан Жак (1712—1778)—французский философ-просветитель, писатель.
С. 154
Джэксон Эндрю (1767 —1845) — американский военный и государственный деятель, 7-й президент США (1829 —1837), генерал, прославившийся во время войны с Великобританией (1812—1814).
Если Новую Англию можно назвать... Амстердамом религии-. — т.е. международным центром протестантизма, поскольку именно эту роль Амстердам играл на рубеже XVI — XVII вв., привлекая к себе взоры всех немецких, итальянских, испанских, швейцарских, французских и английских деятелей Реформации, когда у себя на родине они начинали подвергаться преследованиям.
С. 155
Лорд Маколей — имеется в виду английский политический деятель, историк Томас Бэбингтон, барон Маколей (1800 —1859).
С. 156
...к концу XVII века новоанглийские пуритане все чаще шли на разумный компромисс, что породило в конечном счете конгрегационализм XVIII и унитарианство XIX века. — Речь идет о процессе постепенного расширения социальной базы новоанглийского кальвинизма, в результате которого был снят ряд положений религиозного и общественного характера, резко ограничивавших возможность низшим слоям населения принадлежать к полноправным членам религиозной общины. Расширение социальной базы религиозной организации в Новой Англии сопровождалось также эрозией догматической и обрядовой дисциплины в общинах, допустивших в 1825 г. даже образование в Бостоне так называемой унитарианской платформы, отрицавшей догмат троицы.
Эйлстри Ричард—данные о жизни этого литератора не найдены.
440
Эллис Клемент (1630 —1700) — английский священник, литератор, опубликовавший в 1661 — 1700 гг. множество проповедей и религиозно-дидактических трактатов.
С. 157
Шерлок Томас (1678 —1761) — английский религиозный и политический деятель, епископ Лондонский, оппонент Роберта Уолпола.
С. 160
Хартвелл, Блэр, Чилтон — авторы книги «Нынешнее состояние Виргинии», впервые опубликованной в 1727 г. Никаких биографических сведений о них не имеется.
Бэрнэби Эндрю (1732 — 1812) — английский священник-англиканин, автор книги «Поездка по центральным поселениям Северной Америки в 1759 — 1760 гг.», впервые опубликованной в Лондоне в 1776 г.
С. 162
Норти сэр Эдвард (1652 — 1723) — английский юрист, генеральный прокурор Англии (1701 —1708).
Епископ Мид — речь идет об американском пресвитерианском священнике Уильяме Миде (1789 — 1862) — епископе протестантской Епископальной церкви Виргинии (1829—1862).
С. 163
...несоблюдении правила воскресенья... — Имеется в виду обязательный отказ от всех видов деятельности в этот день недели с целью обратить свою душу к Богу, подумать о вечности и о бренном.
С. 164
Мейсон Джордж (1629 —1686) — виргинский колонист-землевладелец, шериф Стаффордского округа (1669 —1686).
Фэрфекс Джордж Уильям (ок. 1720 —1787) — мировой судья виргинского округа Фэрфекс в 1750 — 1760-е гг., член Губернаторского совета колонии вплоть до 1773 г.
С. 165
Бучер Джонатан (1738 —1804) — англиканский священник, служивший в Виргинии в 1762 —1775 гг. Автор монографии «Обзор причин и следствий Американской революции» (1797).
Форбс Александр — американский священник колониального периода. Годы жизни неизвестны.
С. 167
Маццей Филип (1730 —1816) — итальянский врач, дипломат, коммерсант-виноторговец, прибывший в Виргинию в 1773 г. с целью закладки виноградников
441
и создания в южных колониях винодельческой промышленности. Во время Войны за независимость (1775 — 1783) помогал властям колоний получить кредиты итальянских банков. Автор 4-томного «Исторического и политического исследования Североамериканских Соединенных Штатов» (Париж, 1788) и «Мемуаров» (Флоренция, 1813).
С. 168
Фитцью Уильям — виргинский колонист-землевладелец, профессиональный юрист. О нем известно лишь то, что в колонии он прибыл в самом начале 1670-х гг.
Биографические сведения о Джордже Бренте и Джоне Плезантсе не найдены.
Эдикт короля Якова Пот 1687 года, приостанавливающий действие законов, направленных против нонконформистов (как протестантов, так и католиков).., — Речь идет об английском короле Якове II (1633 —1701), севшем на английский трон после смерти своего старшего брата Карла II, не оставившего законного наследника. Упоминаемый указ был издан Яковом II в связи с тем, что сам, будучи католиком и опираясь на поддержку католической группировки, он хотел назначить нужных ему людей на ключевые посты. По целому ряду законов, принимавшихся английским парламентом в течение более ста лет, однако, католики не могли занимать никаких государственных должностей.
Стори Томас, Дейвис Сэмюел — биографические сведения о них не найдены.
С. 170
Уайтфилд Джордж (Yl\5 —1770) — английский священник-евангелист, неоднократно посещавший североамериканские колонии в 1730 — 1760-е гг. Автор многочисленных теологических и назидательных сочинений, в значительной мере способствовавших так называемому «религиозному Возрождению» Америки второй половины 1740-х гг.
«Общий молитвенник» — речь идет о сборнике молитвенных текстов, признанном каноническим и обязательном для богослужения в англиканской церкви с 1549 г. и вплоть до наших дней, за исключением тех кратких периодов (1553 — 1558; 1645 —1661), когда она запрещалась постановлениями верховной исполнительной или законодательной власти.
Баптистами (в перев. с греч. «крестители») назывались представители того протестантского течения (в подавляющем большинстве своем — кальвинисты), которые выступали против крещения младенцев, считая, что этот обряд применим только по отношению к сознательно верующим людям. Поскольку большинство других протестантских общин и сект сохранили традицию крещения младенцев, между ними и представителями этого религиозного меньшинства начались трения. Это привело к тому, что баптисты до сих пор предпочитают жить компактными общинами, состоящими только из единоверцев. Отделявшиеся же от общины баптисты (так называемые «баптисты-одиночки») отличались от общинных своих собратьев (так называемых «нормальных баптистов») тем, что считали для себя обязательными миссионерскую функцию распространения своего учения и жизнь в миру — среди неверных или же среди христиан других вероисповеданий. Именно поэтому они и «отделялись» —уходили из своих общин.
442
С. 171
Грин Уильям (1731 — 1809) — американский государственный и военный деятель, участник англо-французских войн в Канаде и на границе, а также — Войны за независимость.
Блэр Джон (1732 — 1800) — американский юрист, государственный деятель. Член Верховного суда США с 1789 г.
С. 172
...с глашатаями и инициаторами max называемого ^великого пробуждениям — Речь идет о религиозном возрождении Америки во второй половине 1740-х гг.
Интерденоминационализм — мирное сосуществование различных религиозных учений, организаций, верований и общин.
„.епископы Беркли, Батлер и Хоудли модернизировали теологию, подготовив ее к битвам нового века. — Речь идет о теоретиках так называемого рационально-этического христианства.
Беркли Ричард (1685 — 1753) — английский теолог, философ и математик, автор известного «Трактата о принципах человеческого познания» (1710). В 1728 —1731 гг. проживал в Северной Америке—колония Род-Айленд.
Батлер Джозеф (1692 — 1752) — английский теолог, автор работы «Аналогии между религией естественной и данной в откровениях и строением, а также порядком природы» (1736).
Хоудли Бенджамин (1675 —1761) — английский священник, публицист, лидер течения, известного как «Низкая церковь», отвергавший любые теологические основания для контроля над духовной жизнью верующих и священнослужителей. Все проблемы церковной организации, считал он, носят исключительно политический характер, поскольку церковь — часть государства.
С. 174
Дуайт Тимоти (1752 — 1817) — новоанглийский священник, литератор, политический деятель, педагог. Президент Йеля (1795 —1817). Автор поэмы «Покорение Ханаана» (1785) и 5-томной «Теологии» (опубликована в 1818 —1819 гг.).
С. 175
Холмс Оливер Уэнделл-младший (1841 —1935) — массачусетский юрист, член Верховного суда США (1902—1932).
С. 177
Акт о совместном проживании 1680 года ... — Речь идет о законе, принятом виргинской палатой граждан и предусматривавшем значительные налоговые льготы для населения городов с целью ускорения процесса урбанизации.
С. 178
Карр Питер — биографических сведений о нем не обнаружено.
443
С. 182
Бекер Карл Лотес (1873 —1945) — американский историк и политолог.
С. 183
Лод Уильям (1573 —1645) — глава английской церкви—епископ Кентерберийский (1633 — 1645), лидер антипуританской группировки, стремившийся очистить учение, богослужение и организацию англиканской церкви от всех протестантских крайностей. Инициатор многих процессов над инакомыслящими священнослужителями.
Джеймс Уильям (1842 — 1910) — американский философ, психолог, автор монографий «Принципы психологии» (1890), «Жажда веры» (1897), «Прагматизм» (1907) и др.
С. 184
Некоторые шотландские мыслители XVIII века—их влияние не обошло Америку,, а один из них стал фактически любимым философом Георга Ш— разработали особую «философию здравого смысла». — Речь идет об Иеремии Бентаме (1748 — 1832) — ярком представителе учения философско-этического, экономического и правового утилитаризма, сочинения которого оказали глубокое влияние на общественную мысль Западной Европы и Северной Америки на рубеже XVIII — XIX вв.
Георг III (1738 —1820) — король Великобритании и Ирландии (1760 —1820).
С. 186
Бэкон сэр Фрэнсис (1561 —1626) — английский государственный деятель, философ, литератор.
Маркиз де Кондорсе Мари Жан Антуан (1743 —1796) — французский политический деятель, математик, философ.
Декарт Рене (1596 —1650) — французский философ, естествоиспытатель, физиолог. Создатель учения, известного как «картезианство» (от лат. написания его имени «Картезиус»).
Ньютон сэр Исаак (1642 —1727) — английский физик, математик, натурфилософ.
Лейбниц Готтфрид Вильгельм барон фон (1646 — 1716) — немецкий философ, математик.
С. 187
В десятки раз более разъяренные, чем Джек в «Сказке бочки»... — Речь идет о герое произведения Джонатана Свифта «Сказка бочки» (впервые опубликована анонимно в 1704 г.). Джек—младший из трех братьев, олицетворял собой образ английского пуританина-кальвиниста (он и назван был по имени Жана Кальвина — в английской традиции — Джон, или Джек, Кальвин). Джек постоянно помнил о тех оскорблениях, которые наносил ему его старший брат—господин Петр (католик), и поэтому всегда был наполнен «ненавистью и злобой».
...а Гиббон сам стал защитником инквизиции. — Речь идет об обращении Эдварда Гиббона (1737 —1790) в католическое вероисповедание, которое имело место в первой половине 1750-х гг.
444
С. 188
Фонтенель Бернар ле Бовье де (1657 —1757) — племянник Пьера Корнеля, автор поэм, оперных либретто и трагедий. Секретарь Французской академии (1699—1741).
С. 191
Джэксон Ричард — имеется в виду отец американского политического деятеля, конгрессмена Ричарда Джэксона-младшего (1764 —1838). Биографическими сведениями о Джэксоне-старшем мы не располагаем.
... и в итоге привел к десятикратному увеличению численности населения метрополии. — В течение XVII — XVIII вв. население Великобритании действительно выросло с 3,5 млн. человек до примерно 30 млн. человек.
...великого Питта...—Имеется в виду английский политический и государственный деятель Уильям Питт, граф Чэтемский (1708 —1778).
. ...по Парижскому договору 1763 года... —Речь идет о мирном договоре, подписанном 10 февраля 1763 г. Великобританией, Испанией и Францией относительно условий окончания Семилетней войны (1757 —1763).
С. 193
...экспедиция Лъюиса и Кларка (1804 — 1806), задуманная и снаряженная Джефферсоном... — Имеется в виду экспедиция, осуществленная с военными и исследовательскими целями под эгидой администрации Томаса Джефферсона и возглавлявшаяся личным секретарем президента Мериве-зером Льюисом. Отряд пересек Североамериканский континент, пройдя по маршруту от города Сент-Луиса до Тихоокеанского побережья.
Смит Джон (1580 — 1631) — английский военнослужащий, предприниматель, мореплаватель и землепроходец. Первый губернатор Виргинской колонии (1607 — 1608), автор ♦Истинного сообщения о Виргинии» (1608), <Карты Виргинии» (1612), ♦Общей истории Виргинии, Новой Англии и Саммерских островов» (1624), а также ряда других сочинений.
С. 194
МорсДжедидиа (1761 —1826) — американский священник-конгрегационалист, автор целой серии книг по географии, одной из которых является упомянутая ♦Американская география» (1789).
Белнеп Джереми (1744 — 1798) — новоанглийский священник-конгрегационалист, автор 3-томной ♦Истории Нью-Гэмпшира» (1784 — 1792), первой 2-томной ♦Американской биографии» (1794 —1798) и других работ. Основал Массачусетское историческое общество, роль секретаря которого исполнял вплоть до своей смерти.
Уильямс Джон (1684 — 1729) — новоанглийский священник, автор ♦Истории Вермонта».
С. 195
Эффенди Ибрагим — в Национальном универсальном каталоге такой турецкий писатель не зарегистрирован.
445
С. 196
.„Чарлзу Мейсону и Иеремии Диксону, которые провели пять лет (1763 — 1768), уточняя зловещую линию, носящую их имена... — Речь идет о границе между штатами Пенсильвания и Мэриленд, т.е. о границе между Севером и Югом, которая была размечена астрономом Чарлзом Мейсоном (1730 —1787) и картографом Иеремией Диксоном (даты жизни неизвестны) и поэтому со временем получила название «линия Мейсона—Диксона».
Братья Уэсли — имеются в виду родные братья, английские священники Джон Уэсли (1703 —1791) и Чарлз Уэсли (1708 —1788) — основатели общины ар-миниан-методистов (1729), пытавшиеся распространить свое учение в Джорджии (первая половина 1730-х гг.).
Бартрам Джон (1699 —1777) — американский ботаник, обследовавший флору Аллеганских гор, Флориды, обеих Каролин, а также района озера Онтарио. Автор «Наблюдений» (1751) и путевых заметок, которые он вел во время посещения Флориды (1765 — 1766), впервые они опубликованы в составе 3-томного «Описания Восточной Флориды» Уильяма Сторка (3-е издание, 1769).
Коллинсон Питер (1694 — 1768) — английский предприниматель, антиквар и натуралист, друг и коллега Б.Франклина.
С. 197
Слоун сэр Ганс (1660 — 1753) — английский медик и ботаник, главврач британской армии, личный доктор короля Георга П.
КейтсбиМарк (1679 —1749) — английский натуралист, путешественник, посетивший североамериканские колонии Великобритании в 1710 — 1719 ив 1722—1726 гг. Автор 2-томной «Естественной истории Каролины, Флориды и Багамских островов, включая наблюдения за их почвами, воздухом и водой» (1731 —1743).
Гроновиус Иоганн Фридрих (1613 —1671) — немецкий ученый, издатель и комментатор античных текстов, а также трудов по натурфилософии.
Линней Карл (1707 —1778)—шведский медик и ботаник, создатель современной системы научной классификации видов растительного и животного мира.
Колден Кэдуоледер Дэвид (1688 — 1776) — нью-йоркский государственный служащий, политический деятель, естествоиспытатель. Автор работ по ботанике, физике и истории.
Калм Петер (1715 — 1779) — шведский ученый, естествоиспытатель, обследовавший Северную Америку в 1748 —1751 гг. Тома его отчетов под названием «Путешествия по Северной Америке» публиковались ежегодно с 1753 по 1761 г.
С. 198
Бюффон Жорж Луи Леклерк граф де (VKH — 1788) — французский литератор и натуралист. С1739 г. —управляющий Королевского сада в Париже. Издатель всемирно известной «Естественной истории», 44 тома которой выходили с 1749 по 1804 г.
Шастеллю Франсуа Жан маркиз де (1734 —1788) — французский военный деятель, литератор, ученый. Участник Семилетней войны (1757 —1763) и Вой
446
ны за независимость (1775 — 1783). Автор «Путешествий по Северной Америке в 1781,1782 и 1783 гг.», впервые опубликованных в Париже в 1786 г.
С. 199
Бойль Роберт (1627 —1691) — английский химик и натуралист.
... в «Естествознании Сельборна» Гилберта Уайта,., — Речь идет об английском священнике и натуралисте Гилберте Уайте (1720 —1793), авторе книги «Натурфилософия и древности Сельборна» (1789).
«Путешествие вокруг света на корабле "Бигль"» Чарлза Дарвина... — Имеется в виду «Дневник» Чарлза Дарвина, популярный вариант которого был опубликован им наряду с научными работами, основанными на наблюдениях, сделанных во время плавания на «Бигле». Первое издание «Дневника» вышло в 1839 г., а второе — дополненное и уточненное — в 1845-м. Благодаря богатству и точности наблюдений, а также доступности изложения эта книга тотчас же обрела широкую известность и была переведена на многие языки мира.
С. 200
Томсон Чарлз (1729 —1824) — американский политический и государственный деятель, литератор. Секретарь Континентального конгресса (1774—1789).
Джосселин Джон (1610 — не ранее 1679) — английский ботаник, путешественник, литератор. Северную Америку посещал дважды: в 1638 —1639 и 1665— 1671 гг. Автор первого систематизированного обзора растительного мира Новой Англии — «Открытие достопримечательностей Новой Англии» (1672) и «Отчета о двух путешествиях в Новую Англию» (1679).
С. 201
Вуд Уильям — один из колонистов, прибывших в Массачусетс в 1629 г. Автор упоминаемого сочинения «Перспектива Новой Англии» (1634), представляющего собой отчет о жизни в колонии в 1629 —1633 гг. Больше о нем, кроме записи о возвращении в Англию в 1633 г., ничего не известно.
Бартрам Уильям (1739 —1823) — пенсильванский натуралист, сын Джона Бар-трама (см. с. 196). Автор известной книги «Путешествия», обладающей существенными художественными достоинствами.
Уилсон Александр (1766 — 1813) — американский орнитолог, поэт. Автор 8-томной «Американской орнитологии» (1808 —1814) и сборника стихотворений, опубликованного посмертно, в 1816 г.
Одюбон Джон Джеймс — 1851) — американский орнитолог, художник. Родился на Гаити. Автор рисунков и текстов для многочисленных орнитологических каталогов, публиковавшихся в США и Европе в 1820— 1840-х гг.
С. 202
«Начала» Ньютона — речь идет о труде «Математические начала натуральной философии», опубликованном в 1687 г.
Фома Аквинский (1225 — 1274) — итальянский средневековый теолог и философ, видный представитель схоластики, создатель гносеологической и онтологической систем, объявленных в 1879 г. энцикликой римского папы Льва ХШ официальным философским учением католицизма.
447
Дунс Скот Иоанн (ок. 1266 —1308) — английский средневековый теолог и философ. Один из создателей схоластического направления в западноевропейской христианской мысли. Преподавал теологию в Оксфорде, Париже и Кёльне. Из массы работ, приписываемых Дунсу Скоту, несомненными принято считать сочинения «О первом основании» и два комментария к «Сентенциям» Пьера Ломбардского.
С.203
«Сумма теологии» — сочинение Фомы Аквинского (1267 —1273), представляющее собой незавершенное, но последовательное обоснование христианской теологии системами философских категорий и принципов.
«Институты» Кальвина — имеются в виду «Институты христианской религии» (1534 — 1547) — сочинение, в котором Кальвин предпринял попытку дать системное изложение всей европейской протестантской мысли, что, собственно, и послужило основой для учения, получившего название «кальвинизм».
Бун Дэниел (1735 —1820) — американский землепроходец, охотник. Считается прототипом образа Кожаного Чулка, созданного в романах Дж.Ф.Купера.
С.206
Дефо Даниель (1660 — 1731) — английский писатель, публицист, издатель и коммерсант. Один из создателей просветительского реалистического романа.
Пристли Джозеф (1733 — 1804) — английский теолог, философ, естествоиспытатель и историк. Симпатизировал идеям Великой французской революции и поэтому был вынужден в 1794 г. эмигрировать в США.
Мальтус Томас Роберт (1766 —1834) — английский экономист, социолог. Разрабатывал принципы изучения состава и численности населения, а также закономерности происходящих в нем процессов.
В Кембридже с 1725 по 1773 год ни один из почетных профессоров современной истории не прочел ни одной лекции. —Речь идет о профессорских должностях (Regins professor), финансируемых непосредственно из королевской казны вне зависимости от последующей преподавательской деятельности.
С. 207
Галлей Эдмунд (1656 —1742) — английский математик и астроном, финансировавший и редактировавший «Начала» Ньютона. На основании теории притяжения вычислил орбиту кометы, проходившей рядом с Землей в 1682 г. и с тех пор называемой «кометой Галлея».
С. 208
Данстер Генри (1609 — 1659) — колониальный священник и теолог, первый президент Гарварда (1640 —1654).
Морисон Сэмюел Элиот (1887 —1976) — американский историк, педагог. Специализировался в области изучения военной истории США, а также раннего периода, времени Великих географических открытий и заселения Америки.
448
Революция 1688 года — имеется в виду низложение Якова П (1685 — 1688) и провозглашение Вильгельма Оранского королем Англии. В современную историографию эти события вошли под общепринятым названием «Славная революция».
С. 209
Сьюолл Сэмюел (1652 — 1730) — массачусетский купец, занимавший ряд важных должностей в администрации колонии, в том числе пост верховного судьи Массачусетса (1692 —1700; 1708 —1728). Автор известного «Дневника», опубликованного посмертно и представляющего собой один из важнейших исторических документов о частной жизни в Новой Англии.
Эддингтон Айзек — сведения о его жизни не найдены.
С. 213
Стайлс Эзра (1727 — 1795) — новоанглийский педагог и священник колониального периода. Президент Йеля (1777).
„.пресвитериане «новой линии»... — Речь идет о временном делении внутри пресвитерианской церкви США в 1740-е гг. в связи с признанием или непризнанием («старая линия») практики религиозного возрождения, т.е. о том самом делении, которое также было характерно для баптистов и голландских реформаторов.
С. 215
Клэп Томас (1703 —1767) — новоанглийский священник, педагог. Президентом Йеля был в 1745 —1766 гг.
«Федералист» — речь идет о серии из 85 политических эссе, написанных группой политических деятелей США (АТамильтон, Дж.Мэдисон, Дж.Джей) в поддержку конституции в период подготовки ее текста. Публиковались в 1787 —1788 гг. в нью-йоркских газетах. Отдельным изданием эссе вышли в 1788 г. как раз под названием «Федералист».
Такие организации, как общество «Фи-Бета-Каппа» (основано в 1776 году)... — Имеются в виду тайные студенческие братства, создававшиеся как с научными, так и социально-политическими целями. Первые сведения о существовании такого братства действительно относятся к 1776 г. (колледж Уильям-энд-Мэри, Уильямсбург, Виргиния). На этом этапе своего существования связь данного студенческого движения с революционной ситуацией в колониях проявилась вполне отчетливо.
С. 216
Кларк Дж.Китсон — никаких биографических сведений о нем не найдено.
С. 217
Трамбулл Джон (Y15Q — 1831) — американский юрист, публицист, поэт. Глава литературного кружка «Хартфордские остроумцы».
«Исключая лишь одну соседнюю провинцию...» — Речь идет о Массачусетсе, имевшем знаменитый Гарвард.
449
С. 219
Пинкни Чарлз Коутсворт (1746 —1825) — американский юрист, дипломат, государственный деятель. Депутат федерального конституционного конвента (1787).
С. 223
Уильям Бёрд в своих секретных дневниках... — Речь идет о дневниках У.Ббрда, записанных тайнописью — особыми стенографическими значками, чтобы с их содержанием случайно не смогли ознакомиться его домочадцы.
Шифф Уильям — английский колониальный служащий, заместитель таможенного инспектора в Бостоне, о котором известно, что он умер в конце 1770-х it. и что его третий сын Роджер Хейл Шифф (1763 —1851) стал английским генералом, получив за военную службу в Канаде титул баронета.
Уит Джордж (1726 — 1806) — виргинский юрист, политический и государственный деятель колонии: член палаты граждан (1745 —1775), делегат Континентального конгресса, подписавшего в 1776 г. Декларацию независимости.
С. 230
Вебер Макс (1864 —1920) — немецкий культуролог, социолог, философ.
Тони Ричард Генри (1880 — 1962) — английский экономист, историк, педагог. Один из ведущих идеологов британского лейборизма. Так же, хак и Макс Вебер, исследовал взаимосвязи между этикой протестантизма и развитием капиталистических отношений.
С. 231
Гридли Иеремия (1702 — 1767) — новоанглийский юрист, генеральный прокурор колонии Массачусетс (1757 — 1767). С 1749 г. — Великий магистр всей североамериканской масонской ложи.
С. 233
...столь давние, как восстание Джека Кэда в 1450 году, и столь недавние, как гражданская война XVII века... — Речь идет о наиболее массовых народных волнениях в английской истории. В 1450 г. на юге Англии (преимущественно в Кенте) вспыхнуло вооруженное восстание под лозунгами возврата королевских земель во Франции, очищения королевского двора и правосудия от коррупции и разврата. Во главе мятежников встал некто Джек Кэд, претендовавший на имя Джона Мортимера и, следовательно, на родство с Ричардом — герцогом Йорком. Хорошо организованное войско восставших разгромило королевскую армию, взяло Лондон, казнило военного министра и разграбило несколько домов, принадлежавших особо богатым аристократам.
Гражданская война XVII в. — вооруженное противоборство партии роялистов и партии парламента (1640 — 1649), завершившееся казнью короля Карла I и вошедшее в историографию как Английская буржуазная революция.
450
С. 234
...пропитанных портвейном холлов... —Речь идет о входивших тогда в моду в английском обществе дорогих, изысканных португальских вин — мадеры и портвейна
С. 237
Хатчинсон Томас (1711 — 1780) — государственный деятель колониального периода, историк. Губернатор Массачусетса (1771 — 1774). Верховным судьей колонии был в 1760 —1761 гг.
С. 238
Ливермор Сэмюел (1732 — 1803) — массачусетский юрист и государственный деятель, делегат Континентального конгресса от штата Нью-Гэмпшир (1780 —1782), сенатор США (1793 —1801).
Дугласс Уильям (1691 —1753) — американский врач, литератор, историк колониального периода Автор «Трактата об оспе» (1730), пособия по акушерству, альманахов и «Исторического очерка британских поселений» (1748 — 1753).
Бэкон Мэтью — биографических сведений об этом английском юристе не имеется. Известно лишь, что он умер в начале 1730-х гг.
Вайнер Чарлз (1678 —1756) — английский юрист, почти полвека собиравший и систематизировавший материалы для упоминаемой здесь 23-томной энциклопедии, которая выходила с 1742 цо 1753 г.
Камине сэр Джон (1669 — 1740) — английский юрист, политический деятель. Автор двух трудов по юриспруденции, сыгравших значительную роль в истории английского и американского права: «Отчеты о судебных процессах» и «Дигест английских законов», — неоднократно переиздававшихся в англоязычных странах в XVIII — XIX вв.
С. 239
«Краткоеруководство для констеблей»—имеется в виду книга американского автора Николаса Буна (1679 —1738) «Краткое руководство для констеблей, или Диалог между старым и молодым констеблями» (Бостон, 1710).
... синий орфографический словарь Ноа Уэбстера. — Речь идет о 1-м томе 3-томного труда американского юриста, филолога-лексикографа Ноа Уэбстера (1758 — 1843) под названием «Грамматическая организация английского языка» (1783 —1785). Первая часть этой работы, опубликованная отдельным томом в синем переплете (отсюда популярное наименование—«синий словарь»), носила название «Элементарный словарь по орфографии». Впоследствии он неоднократно исправлялся и дополнялся автором, издавался миллионными тиражами.
С. 240
...«сделавших самих себя» людей, выдвинувшихся в руководители Нового Света. — Т.е. людей, добивавшихся жизненных успехов исключительно благодаря своим собственным силам. В США это понятие обрело статус положительной социальной оценки личности.
451
Брэктон (или Бреттон) Генри (ум. 1268) — средневековый теолог, священник, юрист, автор влиятельного труда по английскому праву.
С. 241
...слащавому мэнсфилдизму Блэкстона..,. — Имеется в виду идейное влияние на сэра Уильяма Блэкстона его предшественника Уильяма Марри, графа Мэнсфилда (1705 — 1790), стремившегося рационализировать английское право, приблизив его к континентальным—европейским—нормам.
Миллер Моррис Смит (1779 — 1824) — американский юрист, судья округа Онейда (штат Нью-Йорк).
С. 243
...из пятидесяти пяти членов конституционного конвента в Филадельфии... — Речь идет о так называемом федеральном конституционном конвенте — парламентской комиссии, созданной параллельно конгрессу и разрабатывавшей текст Конституции Соединенных Штатов во время своего заседания в Филадельфии (май — сентябрь 1787 г.).
С. 244
Крупные вопросы американской политической жизни во времена Гражданской войны вХ1Хвеке и «Нового курса» в XX веке... —Речь идет о Гражданской войне (1861 — 1865), известной также как война Севера с Югом, и о целом комплексе экономических, юридических и политических реформ, проводившихся в жизнь администрацией Франклина Д.Рузвельта в 1933 — 1945 гг. под общим названием «Новый курс».
С. 245
Беверли Роберт (1673 —1722) — американский историк колониального периода, автор сочинения «Прошлое и нынешнее состояние Виргинии» (1705).
С. 246
Джеймстаунская колония—речь идет о первом поселении англичан на территории Виргинии, основанном в 1607 г. и представлявшем собой форт (он же поселок) Джеймстаун.
Лондонская компания — английское акционерное общество, созданное специально для финансирования колонизации Виргинии.
Боуэн Лоренс (погиб в 1622 г.) — английский медик, главный врач Лондонской компании. Поставлял в Виргинию семена и саженцы фруктовых деревьев. Был убит во время морского боя с испанцами вблизи Вест-Индских островов.
Хэрриот Томас (1560 —1621) — английский математик и астроном. Был воспитателем сына сэра Уолтера Роли, который отправил его в Северную Америку вместе с сэром Ричардом Гренвиллем. Возвратившись в Англию, Хэрриот опубликовал свой «Краткий и правдивый отчет о недавно открытой земле Виргиния» (1588).
452
С. 247
Морган Джон (1735 — 1789) — американский врач, основавший первое медицинское учебное заведение в Новом Свете (Филадельфия, 1765). В 1775 г. был назначен главврачом госпиталя континентальной армии.
Бартон Бенджамин Смит (1766 — 1815) —американский врач, ботаник, педагог. Автор книг по ботанике и фармакологии.
С. 248
Коллин Николас (точнее—Нильс) (1746 —1831) — шведский священник-протестант, педагог, историк и лингвист.
Бургаве Германн (1668 —1738) — голландский медик, фармацевт, ботаник и химик. Ввел практику клинической подготовки студентов медицинского факультета в Лейденском университете.
С. 249
ГарденАлександр (1730 —1791) — английский врач и ботаник. В Америку эмигрировал в 1754 г. Член Королевской академии наук.
Митчелл Джон (ок. 1690 —1768) — виргинский врач и картограф. В колонию прибыл в 1725 г. Занимал ряд судебных должностей в администрации Виргинии. Его «Карта британских и французских владений в Северной Америке» была впервые опубликована в Лондоне в 1755 г.
С. 250
...на мирных переговорах 1783 года... — Речь идет о мирных переговорах между делегациями Великобритании и США относительно условий окончания Войны за независимость (1775 —1783).
Раш Бенджамин (Y148 — 1813) — американский политический деятель, врач, химик и педагог.
С. 251
Морганьи Джованни Баттиста (1682 — 1771) — итальянский врач-хирург, «отец патологоанатомии». Поскольку в течение пятидесяти шести лет он преподавал анатомию в Падуанском университете, его так и звали — Морганьи из Падуи.
С. 252
Сиденхем Томас (1624 —1689) — английский врач, пользовавшийся в свое время международной известностью, автор многочисленных медицинских трудов.
С. 253
Холмс Оливер Уэнделл-старший (1809 — 1894) — американский врач, писатель, один из самых влиятельных в свое время бостонских критиков.
..хозяин стола, за которым завтракали его знаменитые собеседники... — Речь идет о серии эссе и очерков Холмса, публиковавшихся в журнале «Атлантике мансли» в течение 1857 г. под названием «Скетчи за обеденным сто
453
лом». В 1858 г. они вышли отдельной книгой «Самодержец обеденного стола», вслед за которой последовали продолжения: «Профессор за обеденным столом» (1860) и «Поэт за обеденным столом» (1872).
Саймондс Сэмюел (Y19Z — 1847) — американский врач и политический деятель.
С. 255
Браун Уильям (1752 —1792) — американский врач, служивший в континентальной армии в должности хирурга (1776 — 1780). Автор первой опубликованной в США работы по фармакопее.
С. 256
Таблица нозологии — так называлась каталогизация и классификация заболеваний по ряду основных признаков.
Хоффман Фридрих (1660 —1742) — немецкий врач, уделявший особое внимание изучению регуляторной роли нервной системы в человеческом организме.
Шталь Георг Эрнст (1660 —1734) — немецкий врач, химик. Создатель теории флогистона — субстанции, осуществляющей духовный контроль над вегетативными функциями тела.
Каллен Уильям (1710 — 1790) — шотландский врач, химик, разрабатывавший принципы классификации заболеваний. Автор медицинского энциклопедического словаря «Synopsis NosologicaeMedicae» (1785).
С. 257
Рамсей Дэвид (1749 — 1815) — американский врач, историк, политический деятель. Делегат Континентального конгресса (1782 — 1785). Сенатор США (1792 — 1796). Автор ряда монографий по истории Американской революции.
С. 259
Он прочел «Стремление делать добро» Мэзера (первый литературный псевдоним Франклина — Сайленс Дугуд)... — Речь идет о том, что фамилия героини Франклина («Совершающая добро») обыгрывает название упомянутого сочинения Коттона Мэзера.
«Бедный Ричард» — точнее, «Альманах бедного Ричарда» — ежегодник, издававшийся Б.Франклином в 1732—1758 гг.
«Хунта» Франклина — общество, созданное по его инициативе небольшой группой приятелей для совместного изучения наук и ученых бесед — обсуждений заранее избранных проблем на специальных заседаниях. Первые заседания состоялись в 1731 г.
С. 260
ГруНеемия (1641 —1712) — английский физиолог, ботаник.
454
С. 261
Парацельс Филип Аврелий (ок. 1493 — 1541) — швейцарский врач, алхимик, минералог. Отрицал гуморальную природу заболеваний — учение, пропагандировавшееся Гал лен ом, и использовал для медикаментозного лечения многие химические элементы и вещества, до того в медицине не применявшиеся.
С. 262
Долеус — имеется в виду Доле Этьенн (1509 — 1546) — лионский типограф и издатель. Филолог и историк. Перевел Библию на французский, составил и выпустил несколько тематических сборников.
С. 263
Монтегю леди Мэри Уортли (1689 —1762) — английская писательница. Жена английского посла в Турции. В 1718 г., вернувшись в Англию из Стамбула, она попыталась ввести дома применявшуюся турецкими врачами практику противооспенной прививки.
Георг I (1660 —1727) — король Великобритании и Ирландии (1714 —1727).
С. 264
Газета ^Нью-Инглэнд курант», незадолго до того основанная Джеймсом Франклином при содействии его младшего брата Бенджамина... — Газета Джеймса Франклина (1697 —1735) — в буквальном переводе названная «Новоанглийским вестником» — была зарегистрирована в 1721 г. Первый номер газеты появился 7 августа того же года.
Бойлстон Зэбдиел (1679 —1766) — новоанглийский врач колониального периода. Первым в Северной Америке применил метод противооспенной прививки во время эпидемии этой болезни в Бостоне (1721).
С. 265
Никаких биографических сведений о враче Джеймсе Калпатрике нами не обнаружено.
С. 266
Дженнер Эдвард (1749 —1823) — английский врач, ученик Джона Хантера. Знаменитые эксперименты, начатые им в 1796 г., доказали эффективность противооспенной вакцины и заложили основы современной науки иммунологии.
Уотерхаус Бенджамин (1754—1846)—американский врач, преподаватель Гарвардской медицинской школы. В 1800 г. сделал прививки членам своего семейства с помощью вакцины, полученной им из Англии, введя таким образом в Америку метод Э. Дженнера.
С. 267
Аддисон Джозеф (1672 — 1719) - английский эссеист, поэт, политический деятель (член парламента в 1709 — 1719 гт.). Известен прежде всего благодаря
455
издававшимся им совместно с Ричардом Стилем журналам «Болтун» (1709—1710) и «Зритель» (1711 —1712; 1714). Является также автором ряда оперных либретто, комедии «Барабанщик» (1716) и трагедии «Катон» (1713).
Генрих ИЛ (1491 —1547) — король Англии (1509 —1547).
С. 270
Макклёрг Джеймс (1146 —1823) — виргинский врач, педагог, государственный деятель. Депутат конституционного конвента (1787), президент Виргинского медицинского общества с 1820 г.
С. 271
Старейшина плимутских ^пилигримов* Уильям Брюстер, а также Эдвард Уинслоу и Сэмюел Фуллер... — Речь идет о плимутских первопереселенцах, пассажирах знаменитого корабля «Мэйфлауэр».
Брюстер Уильям (1567 —1644) — государственный деятель колонии, был, по-видимому, одним из старейших по возрасту колонистов Плимута.
Уинслоу Эдвард (1595 —1655) — государственный и военный деятель Плимута, автор исторических и полемических сочинений.
Сведения о жизни Сэмюела Фуллера до нас не дошли.
... индейского вождя Массасойта... — Речь идет о вожде индейского племени вампаноаг, обитавшего на территории Род-Айленда (ум. 1661). Был известен также под именем Оусамеквин (Желтое Перо).
Элиот Джон (1604 —1690) — массачусетский священник-миссионер. Перевел Библию на несколько местных индейских наречий.
С. 273
Томпсон Адам — биографических сведений об этом шотландском враче, жившем в середине XVIII в., не имеется.
...отмечал в 1744 году... заезжий шотландский врач д-р Александр Гамильтон. —Речь идет о докторе Александре Гамильтоне (1712—1756), прибывшем в колонию Мэриленд в 1738 г. и прожившем там всю оставшуюся жизнь. Среди его рукописного наследия имеются работы по медицине и по истории Мэриленда.
С. 274
Кларки из Бостона... — Речь идет о семействе потомственных массачусетских медиков, родоначальником которого был Джон Кларк (1609 —1676), прибывший в Новую Англию около 1638 г.
Бонд Томас (1712 — 1784) — американский врач, ученик АТамильтона (см. с. 273). Основал Пенсильванский госпиталь (1752). Прочитал первый в истории Северной Америки курс лекций по клиническому лечению. Организовал Американское философское общество. Автор научных и популярных работ по медицине.
С. 275
Редман Джон (1722 — 1808) — пенсильванский врач, активно способствовавший становлению системы медицинского образования в США сразу после
456
окончания Войны за независимость (1775 —1783). Учитель Джона Моргана и Бенджамина Pania.
С. 277
Сигерист Генри Эрнст (1891 —1957) — американский врач французского происхождения, историк медицины, издатель.
...доктора Рабле...—Имеется в виду Франсуа Рабле (ок. 1490—1553) — французский писатель и врач.
С. 278
Чэпмен Натаниел (1780 — 1853) — врач, педагог, издатель медицинских журналов. Первый президент Американской медицинской ассоциации.
С. 279
Дайнинг Джон <1708 —1760) — шотландский врач, эмигрировавший в Америку в 1730 г. Изучал эпидемические заболевания и влияние климатических условий на обмен веществ в человеческом организме.
Кирсли Джон (1684 — 1772) — врач, архитектор, политический деятель Пенсильвании. Автор многочисленных медицинских статей.
С. 282
Ливингстон Уильям (\Т23 —1790) — американский юрист, политический и государственный деятель. Первый губернатор штата Нью-Джерси (1776 — 1790). Автор поэтических произведений. Редактор «Свода законов Нью-Йорка> (изданных за 1691 —1762 гг.).
...епископу Лландафа... — Имеется в виду пригород Кардиффа (Южный Уэльс), в котором находятся один из древнейших кафедральных соборов (1120) на территории Британии и протестантский теологический колледж. О каком именно епископе идет речь—не установлено.
Мушенбрук Петер ван (1692—1761) — голландский врач, друг Ньютона. Член английской, германской, российской и французской академий наук.
С. 283
Аббат Рейналь Гийом Тома Франсуа (1713 — 1796) — французский священник, историк, философ. Его 6-томная история торгово-экономической экспансии европейских государств на Восток и колонизации Нового Света (впервые опубликована в Париже в 1770 г.) была осуждена специальным постановлением французского парламента от 1781 г. по причине безбожия, а также за опасные идеи относительно права народа контролировать устанавливаемые ему налоги и права при определенных обстоятельствах восставать против верховной власти.
Риттенхаус Дэвид (1732 —1796) — американский изобретатель, астроном, математик.
С. 284
Брэттл Томас (1658 — 1713) — бостонский купец и общественный деятель. Казначей Гарварда (1693 —1713).
457
...за Великой кометой 1680года...—Речь идет о комете Галлея 1682 г.
С. 285
В разумных рассуждениях о причинах землетрясений (1755)... — Речь идет о статье Джона Уинтропа-младшего, написанной по поводу Лисабонского землетрясения 1755 г., которое своей страшной разрушительностью шокировало общественность всей Западной Европы.
Бернард сэр Фрэнсис (1712 —1779) — английский юрист, правительственный служащий управления по делам колоний. Губернатор колонии Нью-Джерси (1758 —1760) и Массачусетса (1760 —1769).
С. 287
Смит Уильям (1727 — 1803) — английский священник, педагог. В Пенсильванию прибыл из Шотландии в 1752 г., по приглашению на должность президента Филадельфийского колледжа (1752 — 1779). Во время Войны за независимость подвергся преследованиям за сохранение лояльности по отношению к Великобритании.
С. 290
...доктор Джон Уизерспун, недавно прибывший из Шотландии, чтобы занять место президента Колледжа Нью-Джерси (впоследствии Принстон) — Речь идет о видном деятеле английского пресвитерианства священнике и педагоге Джоне Уизерспуне (1723 —1794), специально приглашенном общественностью колонии на должность президента Принстона (1768 — 1794). Принимал активное участие в политической жизни колонии революционного периода на стороне патриотов, был делегатом Континентального конгресса (1776 —1782), подписавшего Декларацию независимости.
С. 293
Фридрих — имеется в виду Фридрих II Великий (1712 —1786), король Пруссии (1740 — 1786) — «король-философ», один из «просвещенных монархов», с которым некоторое время поддерживали дружеские отношения Вольтер, Д’Аламбер, Ламеттри и Мопертюи.
Лорд Чэтем—речь идет об Уильяме Питте, 1-м графе Чатемском (1708 —1788) видном английском государственном деятеле, политическом противнике всемогущего премьера сэра Роберта Уолпола.
С. 294
Дэви сэр Хамфри (1778 —1829) — английский химик и физик, президент Королевского научного общества — английской академии наук (1820 —1829).
С. 295
Хопкинсон Фрэнсис (1737 —1791) — американский юрист, политический деятель, поэт и композитор.
С. 296
Дюфе Гийом (1400 — 1474) — основатель и крупнейший композитор бургундской школы музыки.
458
С. 298
Аббат Нолле — речь идет о французском физике,академике аббате Жане Антуане Нолле (1700—1770).
С. 300
Принс Томас (1687 — 1758) — американский священник-конгрегационалист; ученый, историк, автор 2-томной «Хронологической истории Новой Англии» (1738 —1755), охватывающей период с 1602 по 1633 г.
С. 301
Талл Джетро (1674 —1741) — английский изобретатель и агроном. Изучал методы ведения сельского хозяйства в Англии, Италии и Франции.
Лорд ttypHenc* Тауншенд, внуку которого принадлежит авторство актов Тауншенда... — Имеются в виду Чарлз Тауншенд, 2-й виконт Тауншенд (1674 —1738) — английский политический и государственный деятель периода правления королевы Анны, демонстративно ушедший в 1730 г. в отставку и занявшийся агротехническими экспериментами в своем имении, а также его внук Чарлз Тауншенд (1725 —1767) — английский государственный деятель второй половины 1760-х гг.
Бейкуэлл Роберт (1725 — 1795) — английский зоотехник и агроном-селекционер.
Янг Артур (1741 — 1820)—английский агроном, из давал журнал «Анналы агрокультуры» (1784—1808).
Королева Каролина (1768 —1821) — супруга короля Георга IV (1762—1830).
Георг II (1683 —1760) — король Великобритании и Ирландии (1727 —1760).
С. 310
Дэниел Сэмюел (1562—1619) — английский поэт эпохи Возрождения, автор сонетов (сборник «Делия»), придворных театрализованных представлений (т.н. «маски»), трагедий («Клеопатра», 1594; «Филот», 1605) и большой эпической поэмы «Гражданская война» (1595).
С. 314
Лорд Гордон Адам (1726 —1801) — английский военный деятель, участник колониальных войн — сражений на Ямайке и на территории североамериканских владений Франции.
Кастис Джон Парк (1753 — ?) — сын жены Джорджа Вашингтона Элеоноры Вашингтон от первого брака. В битве при Йорктауне был адъютантом отчима.
Эддис Уильям — английский государственный служащий из управления по делам колоний. В1769 г. прибыл в Мэриленд в качестве секретаря губернатора колонии. В 1777 г. в связи с боевыми действиями в Северной Америке был вынужден вернуться в метрополию.
С. 316
Крокетт Дейви (1786 — 1836) — американский землепроходец, политический деятель — конгрессмен в 1827 — 1835 гт., писатель-юморист, автор «Пове
459
сти о жизни Дэвида Крокетта» (1834), ♦Отчета о путешествии полковника Крокетта на Север, а оттуда—на Восток» (1834), ♦Подвигов и приключений полковника Крокетта в Техасе» (1836).
С. 317
Крэпп Джордж Филипп (1872 —1934) — американский филолог-лингвист, автор монографии ♦Английский язык в Америке» (1925).
..после отмены в 1685году Нантского эдикта. —Речь идет о постановлении, изданном французским королем Генрихом IV в 1598 г. в городе Нанте и поэтому получившем название ♦Нантский эдикт». Этот указ определял права и обязанности французских гугенотов. В 1685 г. Людовик XIV официально объявил, что этот эдикт отменен, так как он не имеет смысла, поскольку большинство французских протестантов якобы вновь обращено в католичество.
С 318
Стивенсон Мэри — никаких биографических сведений о ней не обнаружено.
Юм Дэвид (1711 —1776) — английский философ и историк.
С. 319
В этом письме было ничтожно мало того, чего бы не мог написать сам доктор Джонсон. — Т.е. оно было написано ♦по всем правилам», в полном соответствии с существовавшими тогда языковыми нормами и вкусами. Имя доктора Сэмюела Джонсона в английском языке является синонимом требовательного критика и строгого стилиста.
Лодж Генри Кэбот (1850 — 1924) — американский историк, государственный деятель, сенатор США (1893 — 1924), редактор журнала ♦Норт америкэн ревью».
С. 320
Менкен Генри Луис (1880 — 1956) — американский литературный критик, журналист, издатель. В данном случае речь идет о его лингвистической работе ♦Американское словоупотребление и лексика: американский язык» (1919).
С. 321
Такой период в Англии начался с эпохи королевы Елизаветы и закончился правлением Георга II. —Т.е. охватывал время с 1558 по 1760 г.
..при королеве Анне и ее преемнике. —Т.е в первой четверти XVIII в., поскольку королева Анна (1665 —1714) правила в 1702 —1714 гг., а ♦ее преемник» Георг I был королем Великобритании и Ирландии в 1714 —1727 гг.
Гаррик Дэвид (1717 —1779) — английский актер-трагик, режиссер, реформировавший сценическое искусство Британии и всей Западной Европы, драматург.
Чосер Джеффри (ок. 1340 — 1400) — английский поэт, государственный деятель, дипломат.
460
Холл Бэзил (1788 —1844) — английский морской офицер, литератор. По Северной Америке путешествовал в 1827 —1828 гг., опубликовал 3-томную книгу, в которой подверг резкой критике обычаи и нравы населения США.
С. 322
Пайлс Томас (1674 — 1756) — английский религиозный деятель, духовник короля Георга П.
Адамс Джон Куинси (1767 —1848) — американский политический и государственный деятель, дипломат. 6-й президент США (1825 —1829).
С. 324
Эти «лингвистические эмили посты»... — Имеется в виду американская писательница Эмили Пост (1873 —1960), специализировавшаяся в своих книгах и радиопередачах на вопросах этикета, манер, правил хорошего тона, ставшая в этих областях своего рода законодательницей мод.
С. 325
Гарт Фрэнсис Брет (1836 —1902) — американский писатель, один из создателей жанра «вестерна» в литературе США.
С. 327
...таких величин, как Уитмен, Марк Твен и Хоуэлле. — Д.Бурстин дает обойму имен классиков американской литературы, представляющих в ней, так сказать, «плебейскую» художественную традицию — сознательно антикниж-ную, антиэлитарную поэтику.
С. 329
Уоттс Айзек (1674 —1748) — английский священник и педагог. Один из самых популярных писателей своего времени, автор гимнов, учебных пособий и научных работ по религии и истории.
Эттербери Фрэнсис (1662 —1732)—английский политический и религиозный деятель, епископ Рочестерский, литератор, ученый.
Сэлмен Натаниел (1675 — 1742) — английский историк, занимавшийся преимущественно изучением эпохи римского завоевания и колонизации Британии.
С. 331
Купер Джеймс Фенимор (1789 — 1851) — американский писатель-романист, публицист, общественный деятель.
С. 335
Брайденбо Карл (род. 1903) — американский историк, один из ведущих специалистов по истории Северной Америки колониального периода.
С. 337
Гарвард Джон (1607 — 1638) — массачусетский священник, один из основателей колледжа, названного впоследствии в его честь. Пожертвовал половину
461
состояния (720 фунтов стерлингов) и 320 книг из своей библиотеки в фонд данного учебного заведения.
Дантон Джон (1659 —1733) — английский издатель и книготорговец, друг Даниеля Дефо.
С. 338
Нил Дэниел (1648 — 1742) — английский священник, пастор независимой лондонской конгрегации, историк протестантизма. Автор 2-томной «Истории Новой Англии» (1719 —1720), «Сообщения о противооспенной прививке в Новой Англии» (1722), а также «Истории пуритан с начала Реформации в 1517 г. до революции 1688 г.» (4 тома выходили в 1732 —1738 гг.).
Ашер Джон (1648 — 1726) — сын книготорговца Эзекии Ашера, унаследовавший дело отца, политический и государственный деятель Новой Англии: вице-губернатор Нью-Гэмпшира (1692 —1697; 1702 —1726), казначей Массачусетса.
С. 339
Перри Майкл (? —1700) — бостонский книготорговец.
Библиотека Бодли в Оксфорде — крупнейшая из университетских библиотек мира, основанная в 1602 г. и насчитывающая свыше 3 млн. наименований книг.
С. 340
Джи Джошуа (1698 —1748) — бостонский священник, пастор Старой северной церкви, которую он унаследовал после смерти в 1723 г. Коттона Мэзера. С 1717 по 1723 г. работал в Гарвардском колледже.
«Татлер» и «Спектейтор»—журналы, издававшиеся в 1709 —1712 гг. Джозефом Аддисоном и Ричардом Стилем.
С. 341
«Новоанглийский букварь» — речь идет о знаменитом учебнике английского языка для детей и начинающих, изданном впервые в конце 1680-х гг. Бенджамином Хэррисом—бостонским типографом.
С. 342
...рифмованный алфавит от «Адама» до «Якова»... — Речь идет об ориентации составителей на библейские, преимущественно ветхозаветные имена в качестве начального этапа религиозного обучения, которая постепенно вытеснялась светской тенденцией употреблять понятные детям, общедоступные бытовые слова.
С. 344
Тейлор Джон (1753 —1824)—американский юрист, политический и государственный деятель, публицист, политолог.
Пейтон сэр Томас — о ком идет речь, не установлено, так как английский поэт Томас Пейтон (1595 — 1626) сэром не был, а среди дворян Пейтонов имя Томас не зарегистрировано.
462
Брюс Филип Александр (1856 —1933) — американский историк, особое внимание уделявший изучению Виргинии XVII — XIX вв.
С. 345
Бейли Джэкоб (1731 —1808) — американский священник, литератор.
С. 348
Нелсон Уильям (1711 —1772) — виргинский землевладелец, коммерсант, государственный деятель колониального периода (член Губернаторского совета в 1744—1772 гг.).
Граб-стрит — название в XVIII в. лондонской улицы, на которой снимали жилье бедные писатели и начинающие журналисты. В1830 г. была переименована в улицу Мильтона.
С. 349
Лорд Честерфилд — имеется в виду Филип Дормер Стэнхоуп, 4-й граф Честер-фил дский (1694 — 1773) — английский государственный деятель, дипломат, литератор.
Босуэлл Джеймс (1740 —1795) — английский юрист, литератор, друг и биограф Сэмюела Джонсона, член возглавлявшегося последним клуба, к которому принадлежали Бёрк, Гаррик, Рейнолдс, Голдсмит, Гиббон и другие деятели английской науки и искусства.
Голдсмит Оливер (1730 —1774) — английский публицист, писатель, автор ряда комедий и романа «Уэкфилдский священник» (1766).
С. 351
Миллер Генри (1751 — 1824) — американский юрист, видный военный деятель. На рубеже XVIII — XIX вв. занимался также предпринимательством и коммерцией.
Белл Роберт (1732 —1784) — американский издатель и книжный торговец, основатель известного книжного аукциона в Филадельфии.
С. 353
...«сервисных» клубов, таких, как Ротари и Киуэнис. — Речь идет о международных клубных ассоциациях, основанных на профессионально-деловых связях и преследующих преимущественно культурно-благотворительные цели. Клуб Ротари был основан в Чикаго юристом Полем Перси Хэррисом в 1905 г. Название клуба (буквально — «ротационный») восходит к первоначальной практике проведения сборов и заседаний по очереди—по кругу, в домах всех членов клуба. Клуб Киуэнис был организован в Детройте в 1915 г. и в 1920-е гг. так же, как Ротари, получил уже статус международной клубной ассоциации.
С. 354
Годфри Томас (1704 — 1749) — филадельфийский ремесленник, приятель Б.Франклина.
...драйденовский перевод Вергилия.... — Речь идет об английском переводе «Энеиды», выполненном поэтом Джоном Драйденом и впервые опубликованном в начале 1690-х гг.
463
Душе Джэкоб (1737—1798) — филадельфийский священник. Учился в английском Кембридже (1758 — 1759). Во время Войны за независимость сначала активно поддерживал патриотов, но к 1777 г. отчаялся в победе и стал призывать к капитуляции перед армией Великобритании. Был объявлен предателем, бежал в метрополию.
С. 355
Уэллс Роберт — об этом чар лстонском книготорговце известно лишь то, что он был отцом Уильяма Чарлза Уэллса—знаменитого американского врача, родившегося в 1757 г.
С. 356
Стиль сэр Ричард <1672 —1729) — ирландский публицист, драматург, журналист и издатель; сотрудничал в журналах своего друга и коллеги Джозефа Аддисона (см. с. 267/
Стрэен Уильям (1715 —1785) — лондонский типограф, издатель и книготорговец, поддерживавший коллегиально-дружеские отношения со своими авторами-компаньонами, среди которых были Дэвид Юм, Бенджамин Франклин, Сэмюел Джонсон, Адам Смит, Эдвард Гиббон, Уильям Блэк-стон и др.
С. 357
Челлини Бенвенуто (1500 — 1571) — итальянский скульптор и ювелир эпохи позднего Возрождения.
Томсон Джеймс (1700 — 1748) — английский поэт-сентименталист. В данном случае речь идет о самой известной его поэме «Времена года», публиковавшейся частями с 1726 по 1730 г.
С. 360
Звездная палата—Королевский совет, в который с XV в. начали включать отдельных представителей системы правосудия, и поэтому он сам стал постепенно принимать на себя функции высшей судебной инстанции страны. Название восходит к тем древним временам, когда совет собирался в Вестминстере, в том зале, потолок которого был украшен изображениями золотых звезд. В 1641 г. решением парламента Звездная палата была распущена, а ее деятельность запрещена.
С. 361
Брэдфорд Уильям (1663 —1752)—пенсильванский типограф и издатель. В Северную Америку прибыл в 1685 г.
С. 362
Паркс Уильям (1698 —1750) — мэрилендский издатель и типограф. В колонию прибыл в 1726 г. В тексте, по-видимому, опечатка: бумажную фабрику Паркс основал не позднее 1743 г.
Флит Томас (1685 —1758)—массачусетский типограф и издатель. В колонию прибыл в 1712 г.
464
С. 363
Дулиттл Айзек—никаких биографических сведений об этом типографе из Нью-Хейвена, создавшем первый американский печатный станок, не имеется.
С. 365
Ван Дорен Карл (1885—1950)—американский историк, литературовед, издатель.
Теннент Джон (Y1W — oil 1760) — американский врач колониального периода. Автор ряда медицинских, полемических и биографических сочинений. Упомянутая книга была опубликована им в Англии в 1720-е гг. (2-е издание—в 1724 г.), т.е. еще до его переезда в Северную Америку в 1725 г.
Эдвардс Джонатан Q1Q3 — Y15Z) — американский теолог, философ-детерминист. Автор известного труда «Свобода воли» (1754).
С. 367
Джонстон Джеймс — биографические сведения об этом типографе из Джорджии не разысканы.
С. 368
Холл Дэвид (1714 —1772) — английский типограф, приглашенный В.Франкли-ном в Филадельфию в 1743 г., в 1748 г. стал его компаньоном.
С. 369
Миллер Сэмюел — биографические сведения о нем не обнаружены.
С. 370
Томас Исайя (1750 —1831) — массачусетский издатель, сумевший обеспечить функционирование патриотических печатных органов во время Войны за независимость. Основатель и первый президент американского Антикварного общества (1812). Автор 2-томной «Истории американской печати» (1810).
Робеспьер Максимилиан Мари Изидор (1758—1794) — государственный деятель периода Великой французской революции, политический лидер якобинцев.
Граф де Мирабо Оноре Габриель Рикетти (1749 — 1791) — политический и государственный деятель периода Великой французской революции, пытавшийся установить во Франции режим конституционной монархии английского образца.
С. 371
Мотт Фрэнк Лютер (1886 — 1964) — американский журналист, литературовед, историк. Специализировался в области истории печати США.
С. 374
Колмен Бенджамин (1673 — 1747) — массачусетский священник, глава движения либеральных пресвитериан в Новой Англии, выступавших против крайностей бостонского кальвинистского конгрегационализма.
С. 375
Грин Бартоломью (1666 — 1719) — американский типограф и издатель, главный печатник колонии Массачусетского залива в течение сорока лет.
465
Беркли сэр Уильям (1608 —1677) — английский государственный служащий, управляющий по делам Канады, губернатор Виргинии (1642 — 1652; 1660 — 1677).
С. 376
Зенгер Джон Питер (1697 — 1746) — нью-йоркский печатник, работал учеником у Уильяма Брэ дфорда в 1711 —1719 гг.
С. 377
Гейн Хью (1727 —1807) — нью-йоркский печатник. В Северную Америку эмигрировал в 1745 г. Был учеником Джеймса Паркера (1745 — 1752). В 1752 г. организовал собственное издательство и книжный магазин.
Губернатор Клинтон—речь идет об английском военном и государственном деятеле Джордже Клинтоне, губернаторе колонии Нью-Йорк в 1743—1753 гг.
Паркер Джеймс (ок. 1714 — 1770) — американский типограф, издатель, журналист.
С. 381
Кэмпбелл Джон (1653 —1728) — английский журналист, литератор, эмигрировавший в Массачусетс в 1695 г. В 1702 — 1718 гг. был почтмейстером Бостона.
Хаск Эллис (ок. 1700 — 1755) — американский журналист и государственный деятель колониального периода: почтмейстер Бостона (1734 — 1755), член Губернаторского совета (1733 —1755).
С. 383
Холт Джон (1721 — 1784) — американский типограф, издатель, журналист. Долгое время сотрудничал с Джеймсом Паркером.
...известие о бостонском чаепитии... — Речь идет о знаменитом нападении американских колонистов в декабре 1773 г. на торговые корабли, стоявшие в бостонской гавани. Возмущенные увеличением налогов на ввозимый чай, колонисты, переодетые в индейские костюмы, ночью пробрались на корабли и выбросили находившиеся в них ящики с чаем за борт.
С. 386
Нация минитменов — т.е. «вооруженных граждан». Во время Войны за независимость «минитменами» («теми, кто вооружается быстро, за минуту») стали называть ополченцев или милиционеров колоний,* большинство из которых были фермеры, почти не расстававшиеся со своими винтовками даже у себя дома.
Доддридж Джозеф (1769 —1826)—пенсильванский священник-методист, врач (учился у Бенджамина Раша) и историк. Автор ряда работ по медицине, пчеловодству, истории.
...в 1697 году, когда еще тянулась война Франции с Аугсбургской лигой... — Имеется в виду оборонительный союз, заключенный императором Леопольдом I с различными немецкими государствами, а также с Испанией и Швецией (1686) и направленный против военной экспансии Франции.
466
Присоединение к этой лиге Англии и Нидерландов в 1689 г. привело к созданию так называемого «Великого альянса».
С. 388
Гроций Гуго де Гроот (1583 —1645) — голландский юрист, дипломат, ученый. Его книга «О праве войны и мира» (1625) считается первым авторитетным европейским документом, определяющим юридические нормы поведения индивидуумов и народов в период войны.
Ваттель Эмерих де (1714 —1767) — швейцарский философ, юрист, дипломат. Большую часть жизни находился на государственной службе при саксонском дворе. Автор известной книги «Право народов» (1758).
С. 389
Кастер Джордж Армстронг (1839 —1876) — американский военный деятель, участник Гражданской войны (1861 —1865), которую он закончил в чине генерал-майора. Погиб во время летней кампании против индейцев в 1876 г.
С. 390
«Непобедимая армада»—так испанский король Филипп П назвал свою огромную флотилию, собранную для доставки десанта к английским берегам и потерпевшую сокрушительное поражение в результате атак британских кораблей в штормовую погоду.
...истребления гугенотов испанцами, случившегося в форте Кэролайн во Флориде. —Речь идет о форте в устье реки Св. Иоанна, основанном в 1564 г. французскими гугенотами под командованием Рене де Лодоньера. 21 сентября 1565 г. испанские корабли под предводительством Педро Менедеса де Авилеса атаковали форт, истребив практически всех его защитников.
Латур Жорж де (1593 —1652) — французский живописец.
С. 396
...свое отношение к майору Роберту Беверли и к самому губернатору. — Речь идет о майоре Роберте Беверли-старшем, т.е. об отце историка Роберта Бе-верли-младшего (см. с. 245), и о сэре Эдмунде Эймосе, который был губернатором Виргинии в 1697 г.
Стэндиш Майлс (1584 —1656) — английский военнослужащий, сочувствовавший протестантам и поэтому нанятый Плимутской компанией сопровождать колонистов общины Робинсона на корабле «Мэйфлауэр» в 1620 г. Всю оставшуюся жизнь провел в Плимутской колонии, занимая там различные административные должности.
С. 397
...средневекового Указа о вооружении (1181)... — Имеется в виду закон, принятый в Англии и устанавливавший права наследников на оружие завещателя.
С. 399
Брайан Уильям Дженнингс (1860 —1928) — американский политический и государственный деятель.
«Война короля Филиппа» — вооруженные действия в 1675 — 1676 гг. в Новой Англии против союза индейских племен, возглавлявшихся вождем Метако-
467
мом, прозванного в среде белых колонистов за свою свирепость «королем Филиппом» по аналогии с испанским королем Филиппом П.
С. 402
Харди сэр Чарлз (Y1Q5 —1781) — английский военный и государственный деятель. Вице-адмирал британского флота в Атлантическом океане (1740 — 1750), губернатор Нью-Йорка в 1755 —1757 гг.
С. 403
Лорд Лоудон — речь идет о Джоне Кэмпбелле, 4-м графе Лоудонском (1705 — 1782) — английском военном деятеле, главнокомандующем британским войсковым соединением в Северной Америке, генерал-губернаторе Виргинии в 1756 —1757 гг.
С. 405
..хак позднее в войне 1812 года... — Имеется в виду англо-американская война 1812—1814 гг.
С. 408
Уинслоу Джон (1703 —1774) — новоанглийский военный и политический деятель, командующий милицией колонии Массачусетс, депутат Ассамблеи в 1750—1760-е гг.
С. 409
Джонсон сэр Уильям (1715 —1774) — английский военный и политический деятель. Член Губернаторского совета Нью-Йорка (1750 —1774). Дворянское звание получил в 1755, а чин генерала—в 1772 г.
Лорд Галифакс — речь идет об английском государственном деятеле Чарлзе Монтегю, графе Галифаксе (1661 —1715), министре финансов в английском правительстве на рубеже XVII — XVIII вв., основателе Английского банка (1694).
С. 410
Герцог Камберлендский — речь идет об Уильяме Огастасе, герцоге Камберлендском (1721 —1765) — третьем сыне короля Георга П, главнокомандующем английской армией в 1740 — 1750-е гг. вплоть до его смещения в 1757 г.
С. 411
Де Калб Иоганн (1721 —1780) — американский военачальник периода Войны за независимость, известный в Америке под именем «барон Де Калб». В Новый Свет прибыл в 1768 г. в составе французской миссии и по приплытии французского корпуса сражался под командованием Лафайетта.
С. 412
Лорд Норт — речь идет об английском государственном деятеле, премьер-министре Великобритании в 1770 —1783 гг. Фредерике Норте, 2-м графе Гилфордском, 8-м бароне Норте (1732—1792). Современники обычно называли его просто «лордом Нортом».
468
Герри Элбридж (1744 —1814) — американский государственный деятель, соратник Сэмюела Адамса во время Войны за независимость. Делегат Континентального конгресса (1776 — 1785), депутат конституционного конвента (1787). Вице-президент в администрации Джеймса Мэдисона (1812—1814).
С. 413
Монтгомери Ричард (ок. 1736 —1775) — профессиональный английский военнослужащий, участник англо-французских войн на территории Северной Америки. В1772 г. эмигрировал в колонию Нью-Йорк и в 1775 г. в чине генерала вступил в континентальную армию. Погиб во время штурма Квебека.
...сражение под Кэмденом... — Имеется в виду чувствительное поражение, понесенное американскими войсками генерала Горацио Гейтса от британской армии под командованием Чарлза Корнуоллиса 16 августа 1780 г. у населенного пункта Кэмден.
Морган Дэниел (1736 —1802) — профессиональный американский военнослужащий, участник англо-французских войн в Северной Америке. Генерал континентальной армии. 17 января 1781 г. разгромил армию английского генерала Банастра Тарлтона под Каупенсом в Южной Каролине.
...когда Грин отступал перед армией Корнуоллиса...—Речь идет о Натаниеле Грине (1742 —1786) — американском генерале, командующем так называемой «южной армией», которая действовала на территории Северной и Южной Каролин.
Стивенс Эдвард (1745 — 1820) — американский военный деятель. Участник Войны за независимость. Воевал в армии Г.Гейтса бригадным генералом, командующим виргинской милицией.
С. 414
...до Беннингтонского сражения 16 августа 1777года...—Речь идет о сражении 14 —16 августа 1777 г., в результате которого войсковое соединение американской армии под командованием Джона Старка и Сета Уорнера не только отбило город Беннингтон, но и серьезно потрепало корпус гессенцев.
Салливан Джон (1740 — 1795) — американский военный и политический деятель. Генерал континентальной армии с 1775 г., командовал корпусом в Канаде, обеспечив его отход из этой провинции. Участник многих сражений Войны за независимость. Делегат Континентального конгресса (1780 — 1785).
Хотя у Гилфорд-Корт-Хаус 15 марта 1781 года... —Под натиском войск Корнуоллиса «южная армия» американцев понесла в этом сражении ощутимые потери и была вынуждена отступить.
С. 415
...англичане после Йорктауна так быстро сдались. — Не достигнув поставленной цели своей «каролинской кампанией», генерал Корнуоллис двинул армию на юг, чтобы соединиться с дислоцированными в Виргинии британскими войсками. В августе 1781 г., однако, он был окружен под Йорктауном и 19 октября был вынужден капитулировать перед превосходящими силами противника.
469
С. 416
Для американцев идеалом военного был не Цезарь, а Цинциннат... — Т.е. не профессиональный, всегда готовый, как Юлий Цезарь, воевать полководец, а землепашец,который за оружие берется лишь в случае самой крайней необходимости. Древнеримский патриций Луций Квинкций Цинциннат (V в. до н.э.) по просьбе сограждан принимал на себя должность диктатора во время войн римлян против эквов и сабинов (458 г. до н.э.) и подавления восстания плебеев (439 г. до н.э.). По окончании боевых действий, однако, он тотчас же слагал с себя диктаторские полномочия и возвращался к мирным занятиям в своем имении.
С. 417
Начиная с самого Вашингтона, в американской истории снова и снова — особенно после упадка ^виргинской династии*—на высише государств венные посты приходили люди, обязанные этим военной славе. — Речь идет о тех генералах, которые становились президентами США после окончания войн, а также о представителях штата Виргиния, которые сменяли друг друга на посту президента страны, начиная с Томаса Джефферсона (1801 —1809) и кончая Джеймсом Монро (1817 —1825).
Гаррисон Уильям Генри (1773 — 1841) — американский военный деятель, командовавший армией в сражениях против индейцев (1800 —1813) и против англичан (1812 —1814), 9-й президент США (1840—1841).
Тейлор Закари (Y1M —1850) — американский военный деятель, командовал армией в войне против Мексики (1846 — 1848). 12-й президент США (1849 — 1850).
Грант Улисс Симпсон (1822 — 1885) — американский военный деятель, герой Гражданской войны (1861 — 1865), главнокомандующий армией федералистов (1864 —1867). 18-й президент США (1868 —1876).
Рузвельт Теодор (1858 —1919)—25-й президент США (1900—1908), воевал на Кубе (1898 —1899).
Эйзенхауэр Дуайт Дэвид (1890—1964)—американский государственный и военный деятель, пятизвездный генерал, главнокомандующий союзными войсками антигитлеровской коалиции в Северной Африке (1939 — 1943) и в Европе (1944 — 1945). Главнокомандующий вооруженными силами стран НАТО (1950 —1953). 33-й президент США (1953 —1961).
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Адамс Генри 203,276
Адамс Джон 146,187,231,237,293,322, 374,412
Адамс Джон Куинси 323
Аддисон Джозеф 267, 318, 321, 329,
354,356
Аквинский Фома 202
Аматис Николас 118
Анна Стюарт 69,321
Аристотель 346
Армистеды 150,186
Ашер Джон 338,339
Бакнер Джон 375
Баньян Джон 99
Бартон Бенджамин Смит 247,248
Бартрам Джон 196, 197, 201, 203, 248, 249
Бартрам Уильям 201
Бассет Джон 129
Батлер Джозеф 172,206
Беверли 150
Беверли Роберт 245,246,303,396
Бейкуэлл Роберт 301
Бейли Джэкоб 345
Бекер Карл 182
Белл Роберт 351 — 353
Белнеп Джереми 194
Беркли Джордж 96,100,172
Беркли Уильям 375,395
Беркли Эдмунд 156
Бернард Фрэнсис 285
Бёрд Мария Уиллинг 255
Бёрд Уильям 123, 128, 130, 135, 151, 195,196,201,223,226,254,255,269, 345,350,352
Бёрд Уильям-второй 156,255 БёрдУильям-третий 141,255 Бёрды 128,131 — 133,136
Бёрк Эдмунд 99,148,239,349
Бишоп Джордж 49
Блэкстон Уильям 36, 207, 238 — 241, 348
Блэнд Ричард 140,149
Блэнды 137
Блэр Джеймс 160 —162,173
Блэр Джон 171
Бойлстон Зэбдиел 264,271
Бойль Роберт 199,260,395
Бомонт Уильям 280,281
Бонд Томас 274,278
Босуэлл Джеймс 349
Боуэн Лоренс 246
Брайан Уильям Дженнингс 399
Брайденбо Карл 335
Браун Густав 270
Браун Джон 279
Браун Уильям 255,256
Брей Джеймс 142
Брей Томас 100,347
Бренд Уильям 51,53,56
Брент Джордж 168
Брэддок Эдвард 73,151,407
Брэ детрит 402
Брэдфорд Уильям (1590 — 1657) 8, 95,193
Брэдфорд Уильям (1663 —1752) 361, 365,376,380
Брэдфорд Эндрю 376,380
Брэкстон Картер 141
Брэкстоны 150
Брэктон Генри 240
Брэттл Томас 284
471
Брэтуэйт Ричард 124,154,234
Брюс Филип Александр 344
Брюстер Уильям 271
Букет Генри 196
Бун Дэниел 203
Бурвелл Льюис 141
Бурвелл Ребекка 137
Бурвеллы 136,150
Бургаве Германн 248,256
Бучер Джонатан 165,314
Бэкон Мэтью 238
Бэкон Натаниел 127,162,389,395
Бэкон Фрэнсис 186,188
Бэрнэби Эндрю 160,161,189,299,300, 350
Бюффон Жорж Луи Леклерк 198
Вайнер Чарлз 238
Ван Дорен Карл 365
Ваттель Эмерих де 388
Вашингтон Джордж 124,134,136,138, 144 —146,149 —152,164,167,172, 175,179,187,196,219,255,266,283, 302, 347, 361, 385, 393, 405, 410 — 413,415,416
Вашингтоны 150
Вебер Макс 230
Вергилий Марон Публий 354
Во Дороти 49
Вольтер 284,293
Вуд Джеймс 145
Вуд Уильям 201
Вудмейсон Чарлз 166,196
Вудхаус Уильям 351
Вулмен Джон 46,56,87
Вэйн Хэрри 13
Галифакс лорд (Чарлз Монтегю) 409
Галлей Эдмунд 207
Гамильтон Александр (1712 — 1756) 273
Гамильтон Александр (1757— 1804) 146
Гамильтон Эндрю 56
Гарвард Джон 337,339
Гарден Александр 249
Гаррик Дэвид 321,349
Гаррисон Бенджамин 145
Гаррисон Уильям Генри 417
Гаррисоны 128,136
Гарт Фрэнсис Брет 325
Гейн Хью 377
Генри Патрик 140, 141, 145, 149, 161, 165,169,170,172
Генри Уильям 408
Генрих УШ 267
Георг 169,72,89,263
Георг П 301,321
Георг Ш184,301
Герри Элбридж 412
Гиббон Эдвард 187, 188, 206, 207, 321, 349
Гиббонс Сара 49
Гитлер Адольф 187
Годдард Мэри Кэтрин 383
Годдард Уильям 383,384
Годфри Томас 354
Голд Дэниел 51
Голдсмит Оливер 349
Гомер 271,283
Гордон Адам 314
Грант Улисс Симпсон 417
Гридли Иеремия 231
Грин Бартоломью 375
Грин Натаниел 413,414
Грин Уильям 171
Гроновиус Фридрих Йоханн 197
Гроций Гуго де Гроот 388,389
ГруНеемия260
Грэнвилл лорд (Джон Картерет) 81
Гукин Чарлз 64
Гуч Уильям 128,169,410
Дадли Джон 238
Дадли Томас 13
Дайер Мэри 52,53,56
Далтон 41
Данстер Генри 208,212,340
Дантон Джеймс 196
Дантон Джон 337,339
Дарвин Чарлз 199
Дебувери Эдвард 110
Девонширский герцог (Спенсер Комптон Кавендиш) 135
472
Дейвис Сэмюел 168,170
Де Калб Иоганн 411
Декарт Рене 186,188
Дефо Даниель 206,354,386
Джеймс Уильям 183
Дженкинс 69
Дженнер Эдвард 266
Джефферсон Питер 196
Джефферсон Томас 87, 124, 134 — 137,139,142,143,146,148,149,172, 176, 178, 179, 186, 188, 193, 194, 199 — 201, 223, 237, 240 — 243, 255, 256, 278, 283, 284, 286. 288, 291, 292» 297, 307, 344, 345, 357, 360,366,370.376
Джи Джошуа 340
Джонс Кэдуоледер 396
Джонс Руфус 54
Джонсон Сэмюел 95,99,319, 321,324, 333,349
Джонсон Уильям 409
Джонсон Эдвард 31
Джонстон Джеймс 367
Джосселин Джон 200
Джоунс Хью 133,154,160,161,166,172, 173,181,185,258,313,322,347
Джэксон Ричард 191
Джэксон Эндрю 154,243,417
Диггсы 128
Диксон 393
Диксон Иеремия 196,287
Динвидди Роберт 151
Доддридж Джозеф 386,389,390,392,406
Долеус (Доле Этьенн) 262
Донн Джон 19
Дофине Дюран де 135
Драйден Джон 354
Дрейк Фрэнсис 94
Дуайт Тимоти 174,224,358,360,394
Дугласс Уильям 238,263 — 265,272 — 274,279
Дулиттл Айзек 363
Дунс Скот (Иоанн Дунс Скот) 202
Душе Джэкоб 354,359
Дьюсбери Уильям 48
Дэви Хамфри 294
Дэндриджи 150
Дэниел Сэмюел 310
Дюфе Гийом 296
Елизавета! (Тюдор) 206,321
Зенгер Джон Питер 376
Ирвинг Вашингтон 357
Йейтсы 137,150
Каллен Уильям 256,279
Калм Петер 197,199,302,303
Кальвин Жан 13,183,203
Камберлендский герцог (Уильям Огастас) 410
Камине Джон 238
КамюзЖак118
Карл 132
Карл П 46.106,208
Каролина (супруга Георга П) 118
Каролина (супруга Георга IV) 301
Карр Питер 178
Картер Роберт 155,156,313,345,347
Картеры 128,132,133,136.137,150,345
Кастер Джордж Армстронг 389
Кастис Джон Парк 314
Кастисы 136
Каулен д Элис 51
Кейтсби Марк 197,199,201,247
Килпатрик Джеймс 265
Киннерсли Эбенезер 295
Кирсли Джон 279
Кит Джордж 88
Кит Уильям 64
КларкУ. 193
Кларк Джон 274
Кларк Дж. Китсон 216
Кларки 274
Клейтон Джон 133,197,248,346
Клинтон Джордж 377
Клэп Томас 215
Кок Кристофер 345
Колден Кэдуоледер Дэвид 197, 248, 249,293,409
Коллин Николас 248
Коллинсон Питер 196,295 — 297
Колмен Бенджамин 374,375
Кондорсе Мари Жан Антуан де 186,188
473
Корнуоллис Чарлз 413—415
Кортес Эрнандо 49
Костон Томас 112,113
Коттон Джон 17,20,27,31,33,44
Коттон Сэмюел 339
Коук Эдвард 41,207,237,238,240
Коул Джозия 49
Кревкёр Мишель Гийом Жан де 109, 174,225,228,395
Крокетт Дейви 316
Кромвель Оливер 14,95,98,99
Крэпп Джордж Филипп 317,328,331
Куорри Роберт 136
Купер Джеймс Фенимор 331,357
Кэд Джек 233
Кэдуоледер Томас 279
Кэмпбелл Джон 381
Кэри 131
Кэри Арчибальд 141
Кэслон Уильям 364
Ладвеллы 131,136
Лайнинг Джон 279,298
Латур Жорж де 390
Лейбниц Готтфрид Вильгельм 186,293
Ленин Владимир Ильич 187
Леон Луи Понс де 49
Лечфорд Томас 37 — 40,43,45
Ли 128,133,136,137,345
Ли Ричард-второй 156
Ли Ричард Генри 140,141
Ливермор Сэмюел 238
Ливингстон Уильям 282
Линкольн Авраам 231,240
Линней Карл 197,248,249
Литтлтон Саути 41,345
Ллойд Дэвид 58,61
Ллойд Томас 67
Логан Джеймс 58, 62, 66, 79, 284, 345, 350,354,355
Лод Уильям 183
Лодж Генри Кэбот 319
Локк Джон 123,152
Ломб Томас 106
Лоудон лорд (Джон Кэмпбелл) 403, 405,407,408,410
Льюис Меривезер 193
Макдоуэлл Эфраим 280,281
Маккарен Патрик А. 15
Макклёрг Джеймс 270
Маколей (Томас Бэбингтон) 155
Мальтус Томас 206
Манны 137
Манфорд Роберт 146,148
Маркс Карл 203
Мартин Бенджамин 284
Маршалл Джон 145
Маццей Филип 167
Мейсон Джереми 238
Мейсон Джордж 164
Мейсон Чарлз 196,287
Менкен Генри Луис 320,327
Метцгер 211
Мид Уильям 162
Миллер Генри 351
Миллер Морис Смит 241
Миллер Перри 20
Миллер Сэмюел 369
Мильтон Джон 14,16,99,340
Мирабо Оноре Габриель Рикетти 370
Митчелл Джон 249
Мишель Франсуа Луи 132,258
Монро Джеймс 136,179
Монтгомери Ричард 413
Монтгомери Роберт 97,103
Монтегю Мэри Уортли 263
Монтескьё Шарль Луи 152
Морган Джеймс 23,24
Морган Джон 247,266,275,276
Морган Дэниел 413,414
Морганьи Джованни Баттиста 251
Морисон Сэмюел Элиот 208
Моррис Гувернер 146
Моррис Роберт Хантер 75,77
Морс Джедидиа 194
Мотт Фрэнк Лютер 371
Муди Джошуа 23,24
Мур Фрэнсис 11,237
Муссолини Бенито 187
Мушенбрук Петер ван 282,297
Мэдисон Джеймс 149, 164, 172, 179,
219,292
474
Мэзер Инкриз 23,208,374
Мэзер Коттон 11, 23, 24, 27, 223, 253, 259 — 264, 271, 273, 338, 339, 345, 350,353,389
Мэзер Ричард 28
Мэзеры 374
Наполеон Бонапарт 187
Нелсон Уильям 348
Нелсоны 128,137
Николас Роберт Картер 141
Николсон Фрэнсис 126,128,130
Нил Дэниел 338
Нолле Жан Антуан 298
Норрис Айзек 89
Норт Фредерик 412
Норти Эдвард 162
Нортон Джон 15,26
Нортон Хамфри 49
Ньютон Исаак 189,199,202,207,284 — 287,289,292,293
Овертон Сэмюел 144
Овидий 334
Оглторп Джеймс 96,97,99 —103,110, 113 —115,117,120,121
Одюбон Джон Джеймс 201
Пайлс Томас 322
Парацельс Филип Аврелий 261
Паркер Джеймс 377,383
Паркс Уильям 362,375,378,380
Пейджи 136,137,150
Пейтон Томас 344
Пембертон Израель 76,77,80,81,82
Пендлтон Эдмунд 124,140,141,165,167
Пенн Уильям 46,56 — 61,64,66,79,85, 86,90,91,349,350
Перкинс Уильям 19,21
Перри Майкл 339
Пикеринг Джон 312,319,320,358
Пинкни Чарлз Коутсворт 219
Плезанте Джон 168
Плиний 346
Плутарх 346
Поп Александр 95,99,340,357
Поттер Саки 137
Поузи Джон 150
Принс Томас 300
Пристли Джозеф 206,293
Пьюри Жан Пьер 115
Пэрди 140
Рабле Франсуа 277
Рамсей Дэвид 257,331
Раш Бенджамин 250,279,308,333
Редман Джон 275
Рейналь Гийом Тома Франсуа 283
Рейнолдс Джошуа 99,349
Реккит Уильям 89
Риттенхаус Дэвид 283,284,286 — 292
Робеспьер Максимилиан Мари Изи-дор370
Робинсон Джон 140—142,149
Робинсон Уильям 51,52
Роли Уолтер 94
Рузвельт Теодор 417
Рузвельт Франклин Делано 187
Руссо Жан Жак 152,192
Рэндолф Джон 237
Рэндолф Пейтон 140,149
Рэндолф Эдвард 128
Рэндолфы 128,132
Саймондс Сэмюел 253
Салливан Джон 414
Саутвик Джозия 54
Сигерист Генри Эрнст 277
Сиденхем Томас 252,253,261,262
Синг Филип 295
Скотт Пейшенс 52
Слоун Ганс 197
Слоутер Генри 401
Смит Адам 10
Смит Джон 193
Смит Джон Фердинанд Д. 147
Смит Уильям 287,288,290,291,358
Сократ 188
Спенсеры 131
Спотсвуд Александр 134,136,162
Стайлс Эзра 213,215,242
Стартин Чарлз 351
Стафтон Уильям 238
Стеггсы 131
475
Стивенс Эдвард 413
Стивенсон Джордж 75
Стивенсон Мармадьюк 52
Стивенсон Мэри 318
Стиль Ричард 356
Стори Джозеф 358
Стори Томас 168
Стоукс Джон 243
Стрэен Уильям 356,357
Стэндиш Майлс 396
Стэнтон Дэниел 78
Стюарт Карл 66
Сьюолл Сэмюел 209,223,238
Сэлмен Натаниел 329
Сэндис Джордж 125,334
Тадескунг73,76
Тайлер Джон 143
Талл Джетро 301,307
Таунсенд Ричард 58
Тауншенд Чарлз 301,361
Твен Марк (Сэмюел Клеменс) 327
Тейзвеллы 150
Тейлор Джереми 19
Тейлор Джон (/ 753— 1824)344
Тейлор Джон (квакер-миссионер) 53
Тейлор Закари 417
ТеннетДжон 365
Терстон Томас 49
Токвиль Алексис де 5
Толле Фредерик 56,88
Томас Джордж 70
Томас Исайя 370
Томпсон Адам 273
Томсон Джеймс 357
Томсон Чарлз 200
Тони Ричард Генри 230
Трамбулл Джон 217
Трумэн Гарри 187
Тэчер Томас 252,271
Уайт Гилберт 199
Уайтфилд Джордж 170,172,351
Уизерспун Джон 312,316,319,323
Уилрайт Джон 15
Уилсон Александр 201
Уилсон Кристофер 81,82,87
Уильямс Джон 194
Уильямс Роджер 13,16
Уинслоу Джон 408
Уинслоу Эдвард 271
Уинтроп Джон И, 13,15,16, 32,33,95, 193,253,271,300
Уинтроп Джон-младший 284
Уинтроп Джон-четвертый 284 — 286
Уит Джордж 223,243
Уитмен Уолт 327
Уолпол Горас 124
Уолпол Роберт 95,98,109
Уорд Натаниел 15,33
Уормли 128,135,136,150,345
Уормли Ральф-второй 156
Уотерхаус Бенджамин 266
Уоттс Айзек 329
Уэбстер Ноа 239, 309, 310, 319 — 323, 325,328 — 331,341,342
Уэлс Роберт 355
Уэртенбейкер Томас Джефферсон 125,128
Уэсли Джон 196
Уэсли Чарлз 196
Филдинг Генри 108
Фитцью 128
Фитцью Уильям 156,168,345
Флемминг Уильям 137
Флит Томас 362
Фозергилл Джон 80,81,87,88
Фозергилл Сэмюел 88,90
Фокс Джордж 46,48,56,58,65,68
Фокье Фрэнсис 141
Фонтенель Бернал ле Бовье де 188
Форбс Александр 165
Франклин Бенджамин 71, 72, 75, 79, 81,82.86, 90,109, 181,186, 188 — 191, 203, 229, 255, 256, 259, 260, 264, 278, 279, 282 — 284, 286, 292 — 300, 310, 318, 319, 325, 329, 342, 344, 349, 352 — 357, 360, 361, 364, 365, 367 — 369, 378, 380, 382 — 384
Франклин Джеймс 264
Фридрих II293
Фримэн Дуглас 151
476
Фуллер Сэмюел 271
Фэрфекс Джордж Уильям 164
Хайты 151
Хант Джон 81,82,87
Хантер 393
Харди Чарлз 402
Хартвелл 160
Хаск Эллис 381
Хатчинсон Томас 237,258,338
Хатчинсон Энн 13,16,372
Хейс Джонатан 64
Хиггинсон Фрэнсис 12,21,201
Холдер Кристофер 50,51
Холл Бэзил 321,322
Холл Дэвид 368
Холливелл Ричард 61
Холмс Оливер Уэнделл-младший 175, 188
Холмс Оливер Уэнделл-старший 253, 277
Холт Джон 383,384
Хопкинсон Томас 295
Хопкинсон Фрэнсис 295
Хоудли Бенджамин 172
Хоуэлле Уильям Дин 327
Хофстедтер211
Хоффман Фридрих 256
Хукер Томас 20
Хэрриот Томас 246
Цезарь Гай Юлий 102,416
Цинциннат416
Чайлд Роберт 13,34,35,189,372
Челлини Бенвенуто 357
Черчмен Джон 92
Честерфилд лорд (Филип Дормер
Стэнхоуп)349
Чилтон Джон 160,345
Чокли Томас 89,196
Чосер Джеффри 321
Чью 131
Чэпмен Натаниел 278
Чэтем лорд (Уильям Питт) 293
Чэттин Джеймс 351
Шастеллю Франсуа Жан де 198, 220, 255,271
Шекспир Уильям 283,321,340
Шерлок Томас 157,158
Шифф Уильям 223
Шталь Георг Эрнст 256
Эбелинг Кристоф Дэниел 194
Эгмонт граф (Джон Персиваль) 94, 98 — 100, 109,110,112,120,121
Эдвардс Джонатан 13,365
Эддингтон Айзек 209
Эддис Уильям 314
Эйзенхауэр Дуайт Дейвид 187,417
Эйлстри Ричард 156
Эймс Уильям 13,15
Элиот Джерид 8,204,304,306,307
Элиот Джон 271,366,395
Эллис Клемент 156
Эндикотт 52,53
Эндрюс Ланселот 19
Эппы 150
Эттербери Фрэнсис 329
Эффенди Ибрагим 195
Юм Дэвид 95,318
Яков 1131
Яков II168
Янг Артур 301,302
СОДЕРЖАНИЕ
Неведомый берег. Перевод Н.Пальцева .........................
КНИГА ПЕРВАЯ. ОЗАРЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ..........................
Часть первая. Град на Холме. Пуритане Массачусетского залива.
Перевод Н.Пальцева.......................................
1. Как ортодоксальность сделала пуритан практичными ........
2. Проповедь как институт американской жизни ...............
3. Поиск новоанглийского пути...............................
4. Пуританский консерватизм.................................
5. Как пуританам удалось избежать искушения Утопией ........
Часть вторая. Плантации духа. Квакеры Пенсильвании. Перевод
Н.Пальцева...............................................
6. В поисках тернового венца................................
7. Испытания властью: присяга ..............................
8. Испытания властью: пацифизм..............................
9. Как квакеры просчитались в оценке индейцев ..............
10. Уход от власти ..........................................
11. Проклятие перфекционизма ................................
Часть третья. Жертвы филантропии. Поселенцы Джорджии. Пере-
вод Н.Пальцева ..........................................
12. Альтруизм негероической эпохи............................
13. Лондонский проект Утопии в Джорджии......................
14. Благотворительная колония................................
15. Кончина колонии всеобщего благоденствия..................
16. Опасности альтруизма.....................................
Часть четвертая. Основатели традиций. Виргинцы. Перевод
Н.Пальцева...............................................
17. Английские джентльмены б американском стиле .............
18. От деревенского сквайра до плантатора-капиталиста........
19. Правительство джентри....................................
20. Республика соседей......................................
21. «Практическое благочестие»: епископальная церковь без епископов
22. «Практическое благочестие»: веротерпимость без теории...
23. Граждане Виргинии.......................................
478
КНИГА ВТОРАЯ. ВОЗЗРЕНИЯ И ПОРЯДКИ........................... 181
Часть пятая. Рамки мышления американца. Перевод Е.Потяркина 182
24. Требуется: философия неожиданного....................... 182
25. Призыв к самоочевидному ................................ 185
26. Знание приходит естественным путем.....................
27. Естественнонаучные приоритеты .........................
Часть шестая. Просвещение и общество. Перевод Г. Дрожжиной .
28. Общество идет в университеты............................
29. Высшее образование вместо высокой учености..............
30. Идеал цельного человека.................................
Часть седьмая. Просвещенные расстаются со своей монополией.
Перевод Е.Потяркина.....................................
31. Размывание граней между профессиями.....................
32. Юрист без узкой специализации...........................
33. Слияние права и политики................................
Часть восьмая. Медицина в Новом Свете. Перевод Н.Бубновой ..
34. Естественное излечение и простейшие природные средства..
35. В центре внимания — община..............................
36. Практикующий врач.......................................
37. Обучаясь на опыте.......................................
Часть девятая. Пределы американской науки. Перевод Г. Дрожжиной ........................................................
38. Науку в народ: астрономия для всех......................
39. Наивная проницательность и искусные устройства: электричество ..
40. Сельское хозяйство глубинки ...........................
КНИГА ТРЕТЬЯ.ЯЗЫКИ ПЕЧАТНОЕ СЛОВО...........................
Часть десятая. Новое единообразие. Перевод Г.Дрожжиной......
41. Американское произношение..............................
42. В поисках стандарта.....................................
43. Культура по книгам: фетишизация правописания............
Часть одиннадцатая. Культура без столицы. Перевод (^Корсунского ...................................................
44. «Лучи, исходящие из центра»............................
45. Бостонские «религиозные и полезные книги»...............
46. Книги по хозяйству и домоводству для проживающих на плантациях
47. Путь рынка: Филадельфия...................................
48. Поэзия без поэтов......................................
Часть двенадцатая. Консервативная пресса. Перевод СКорсун-ского ......................................................
49. Упадок книги ...........................................
50. Расцвет газеты .........................................
m gggg gggg
479
51. Почему колониальная печатная продукция была консервативной ... 371
52. «Общественный печатник»................................ 379
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. ВОЙНАМ ДИПЛОМАТИЯ......................... 385
Часть тринадцатая. Нация минитменов. Перевод ИБазилевой 386 53. Оборонительная война и наивная дипломатия.............. 386
54. Колониальное ополчение и легенда о готовности.......... 394
55. Местное самоуправление и колониальный «изоляционизм».. 400
56. Непрофессиональный солдат ............................. 406
Дэниел Бурстин и американская история. ВЛ1естаков ......... 418
Комментарии. В, Олейник ................................... 424
Указатель имен............................................. 471
ДЭНИЕЛ БУРСТИН Американцы: Колониальный опыт
Редакторы Е.И. СОЛДАТКИНА и Л.В. САВЧЕНКО
Художник В. А. К О Р О Л Ь К О В
Художественный редактор В. А. П У 3 АН К О В Технический редактор Е. В. ЛЕВИН А
ИБ18348
Издание подготовлено на микроЭВМ с помощью программы «Вентура паблишер».
Фотоофсет. Подписано в печать 27.04.93.
Формат 84X108 Бумага офсетная. Печать офсетная. Условн.печ.л.23,4. Усллр.отт. 23,4. Уч.-изд.л. 28,72. Тираж 25000 экз. (1-ый завод 10000 экз.). Заказ №382. С101.
Изд.№ 47001.
A/О Издательская группа «Прогресс» 119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.
Отпечатано с оригинал-макета на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации.
143200, Можайск, ул. Мира,93.