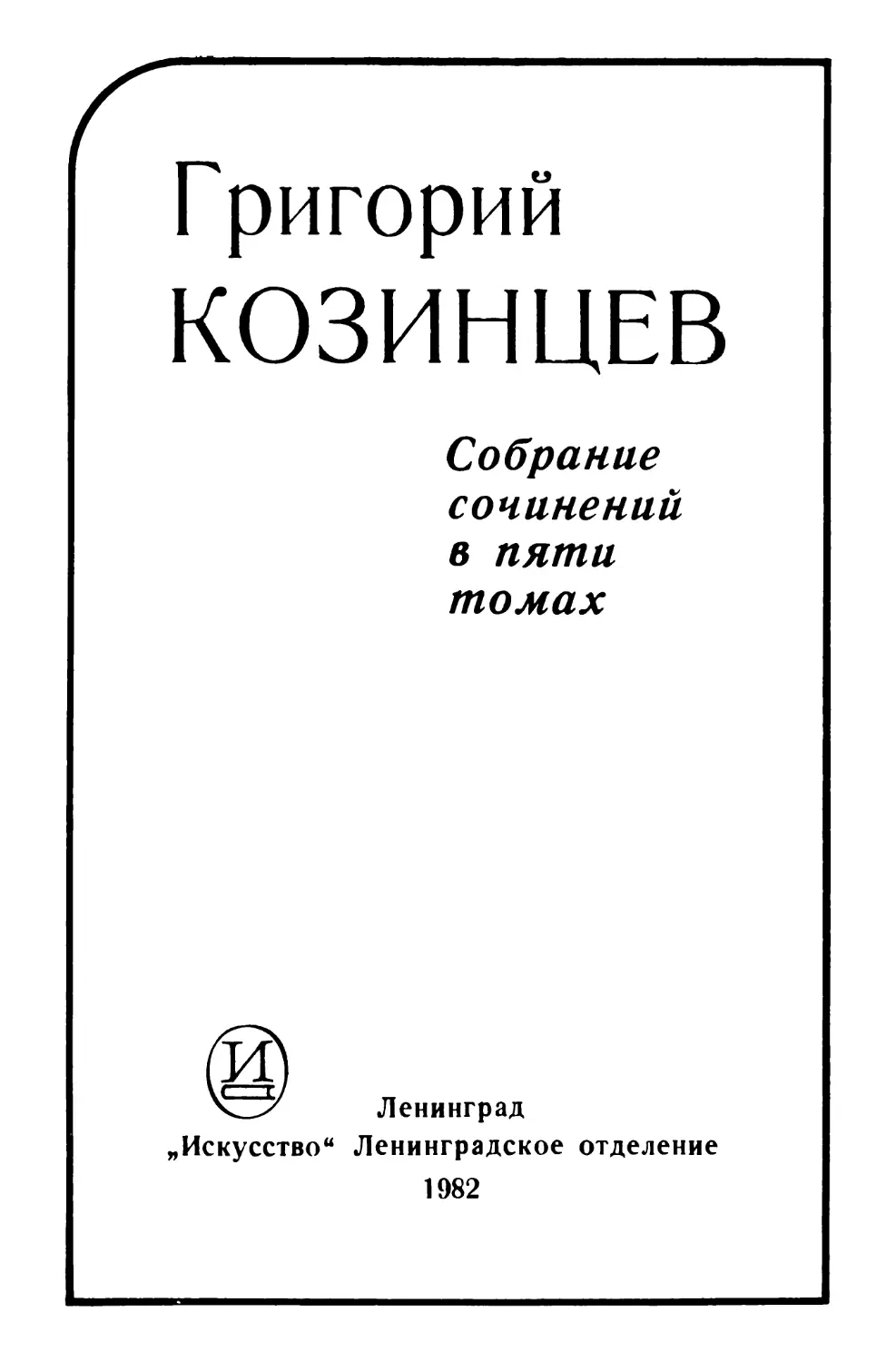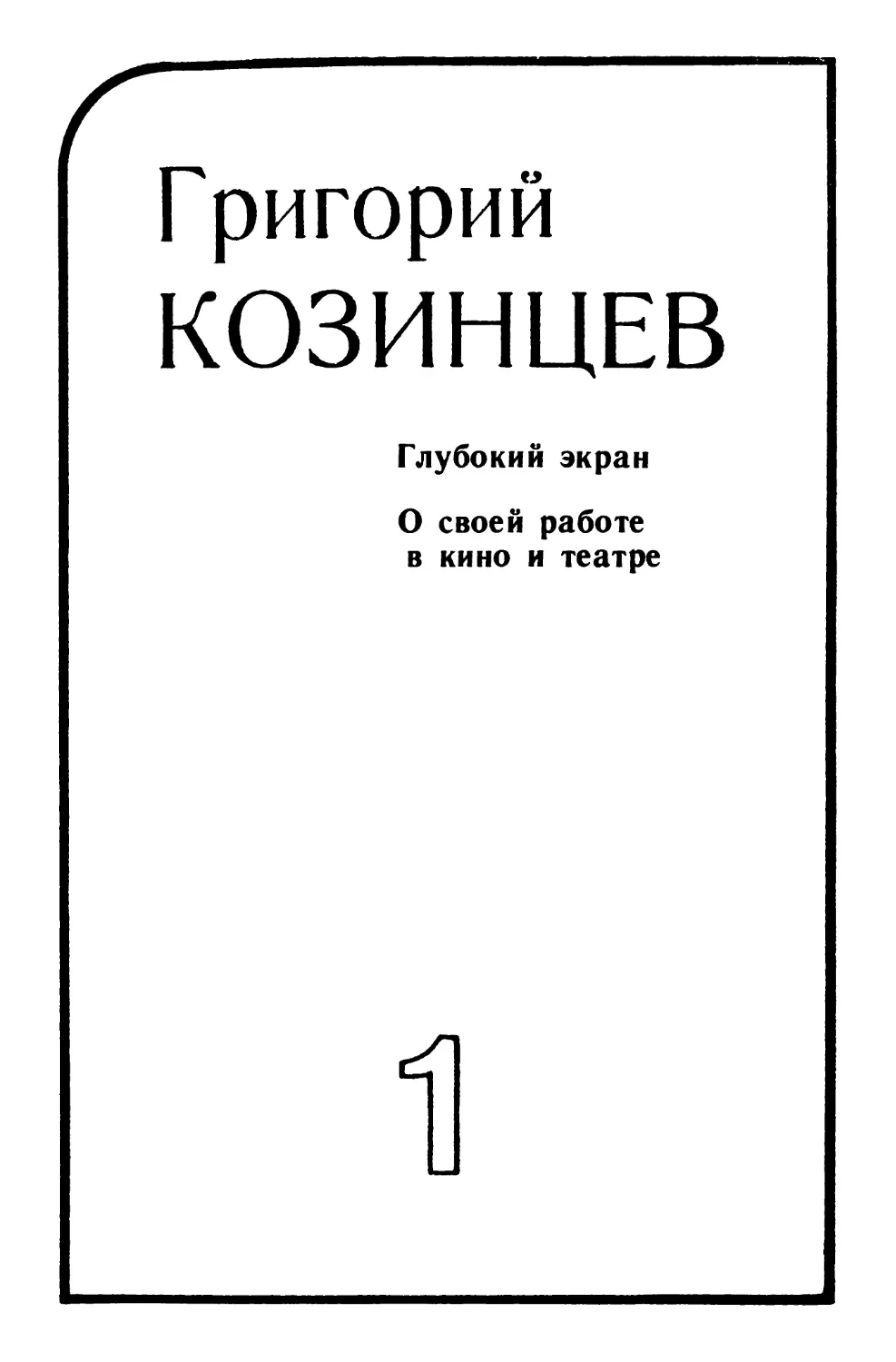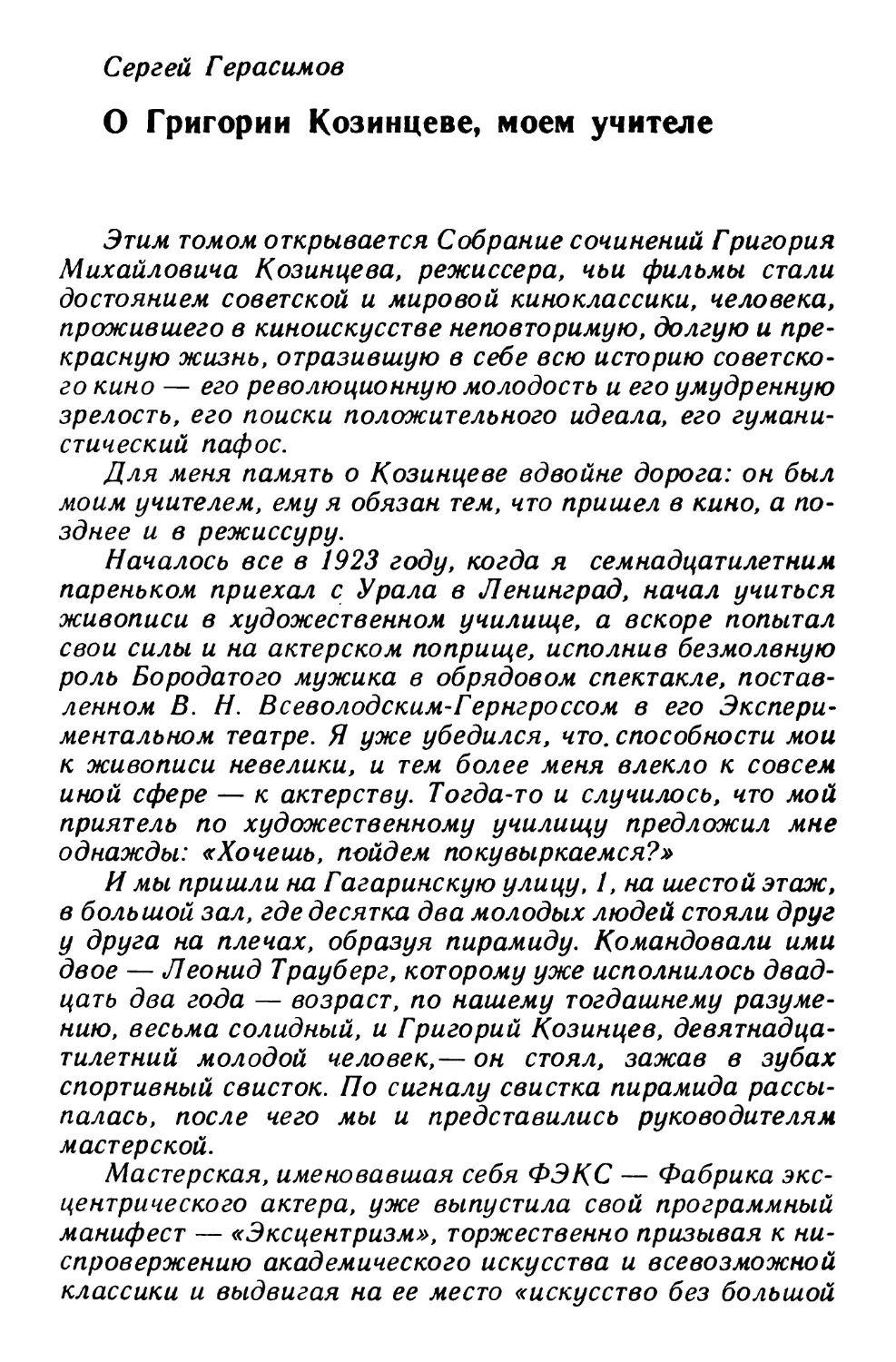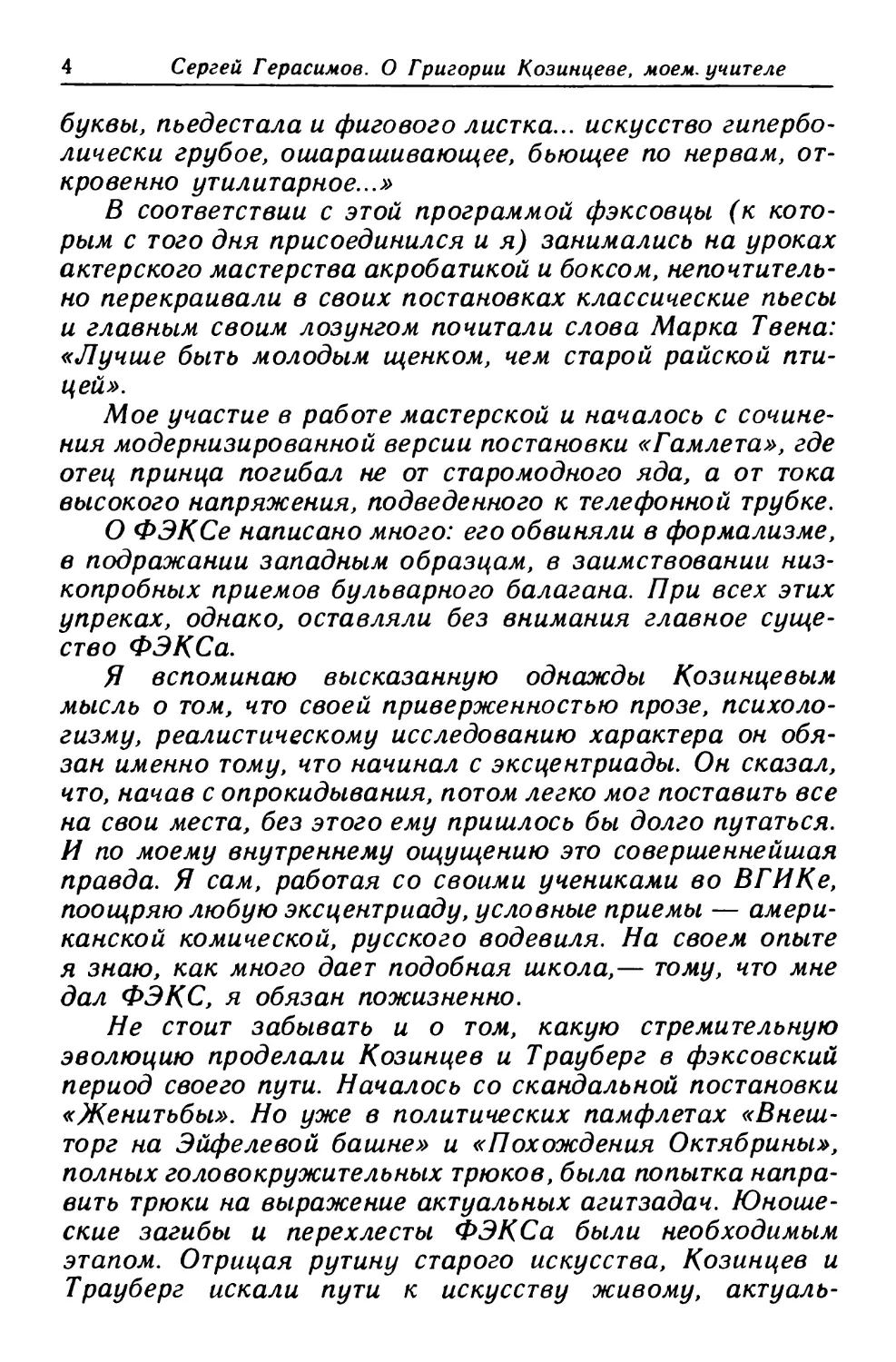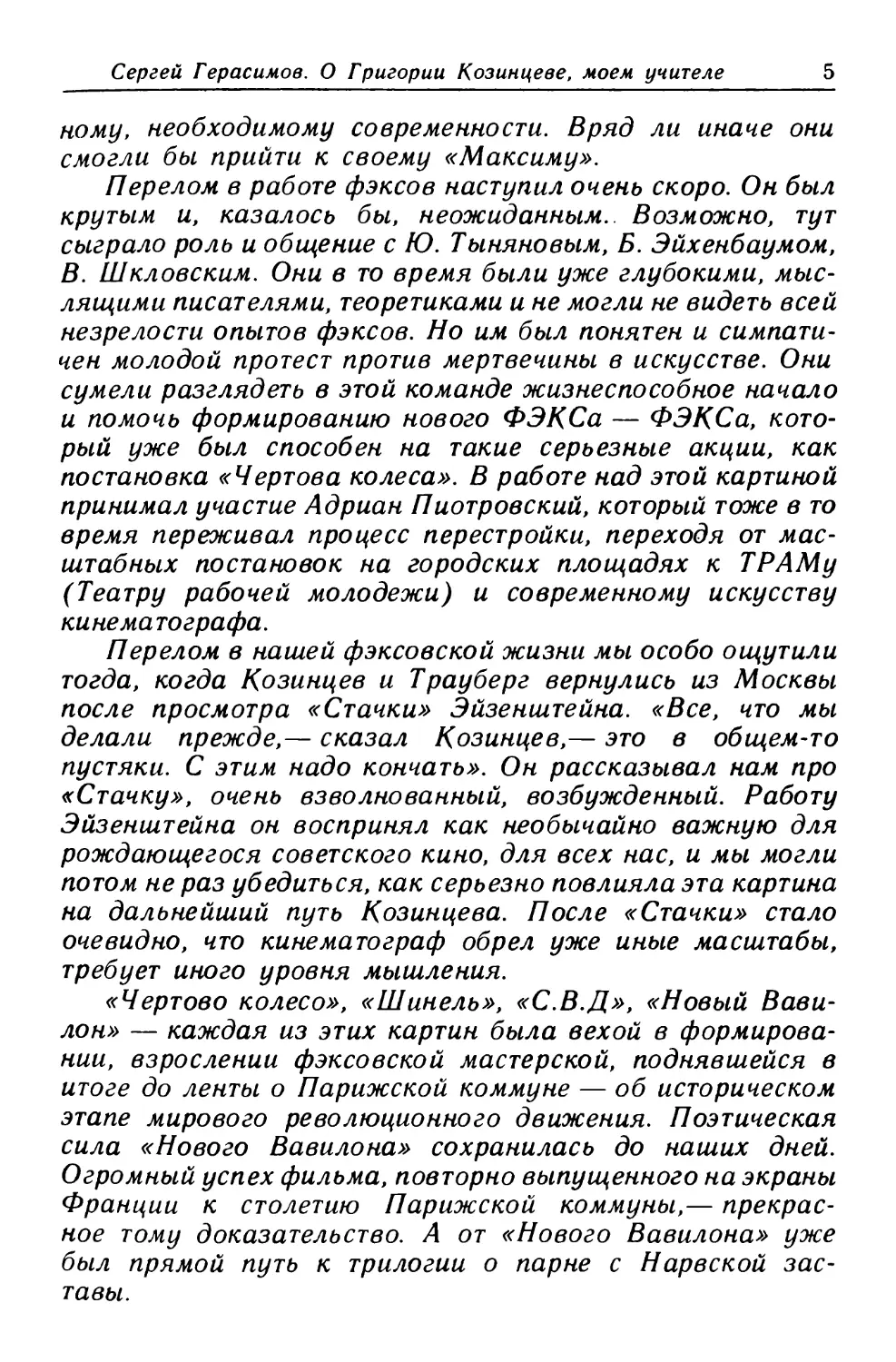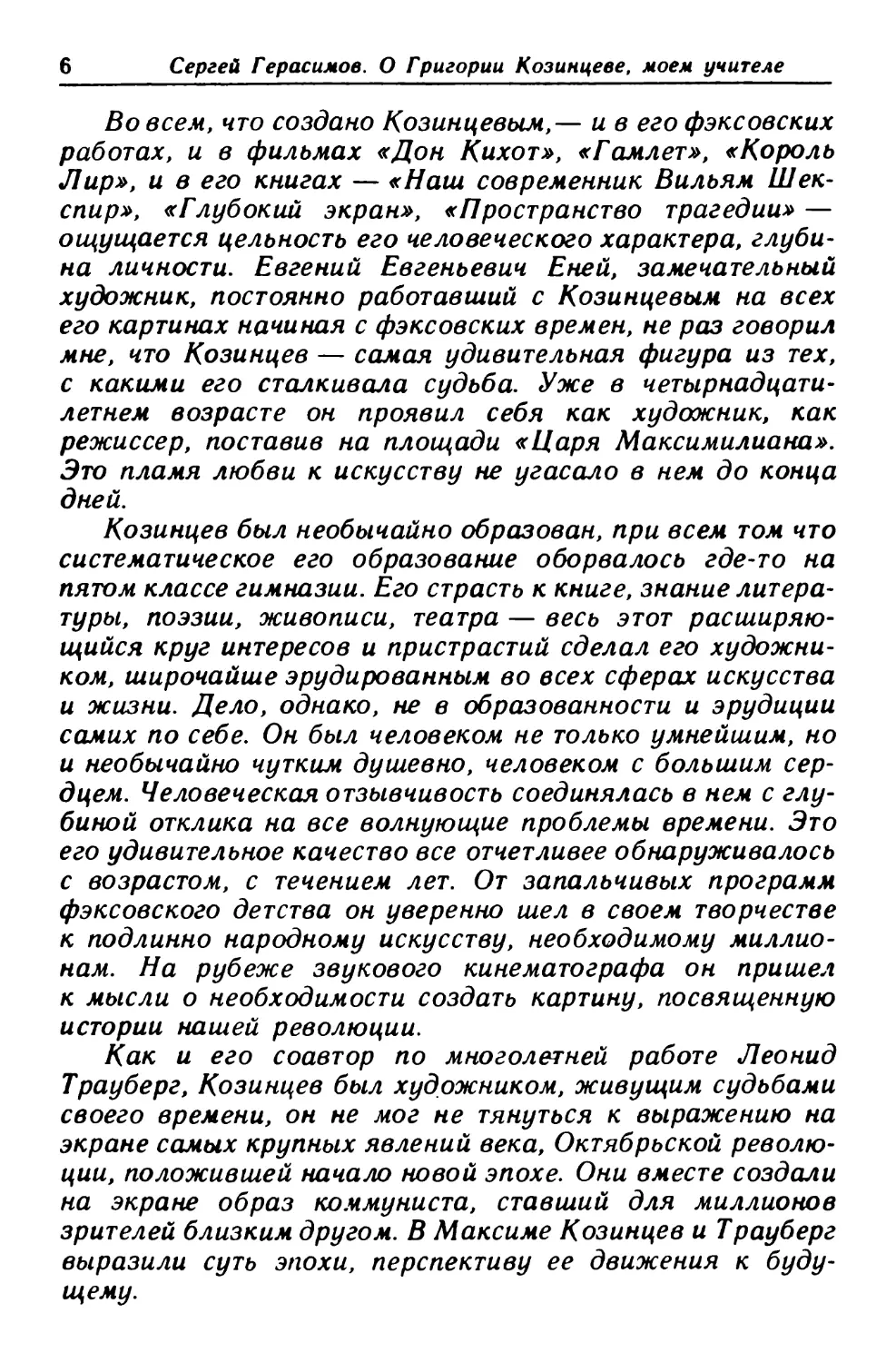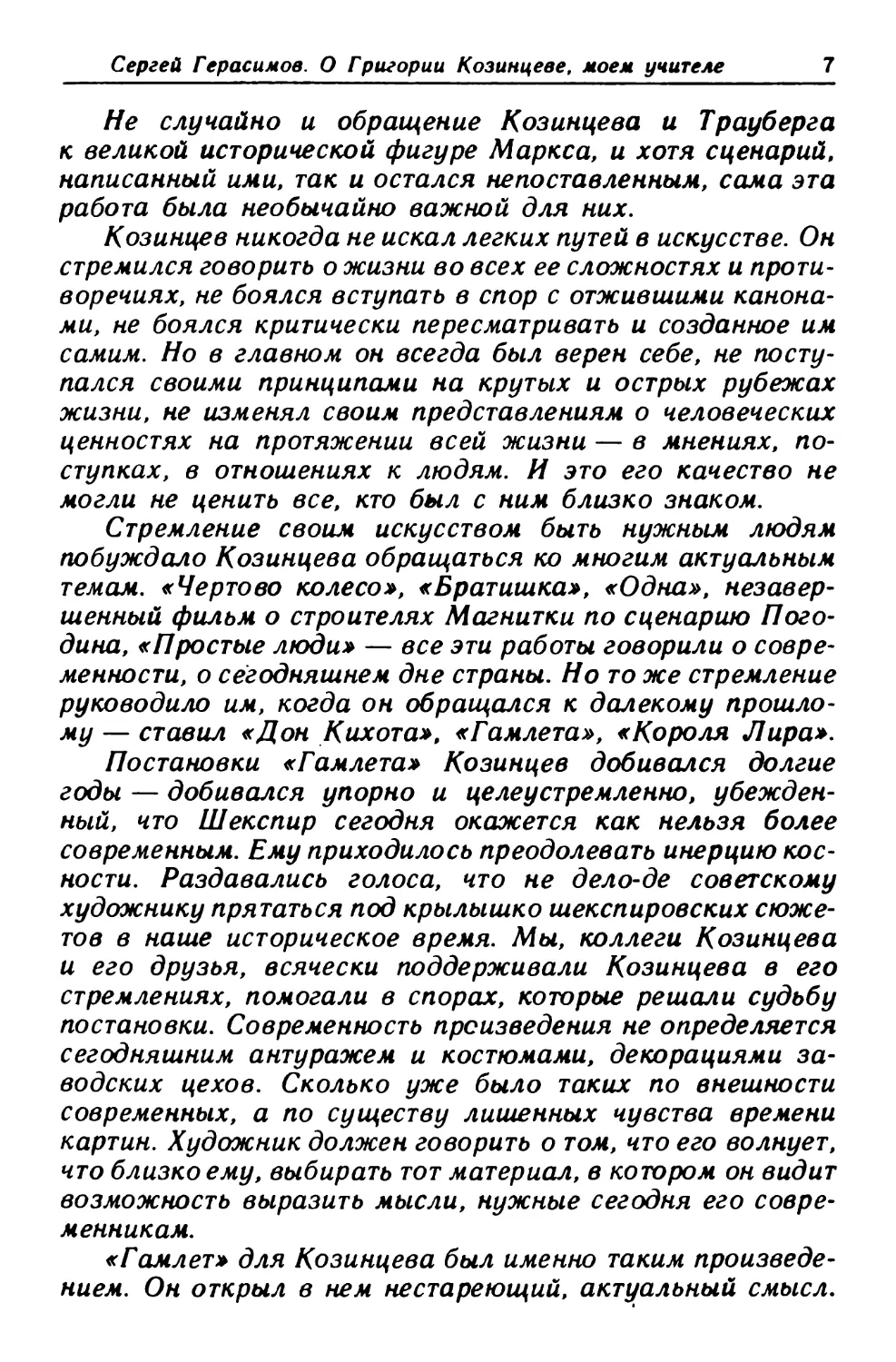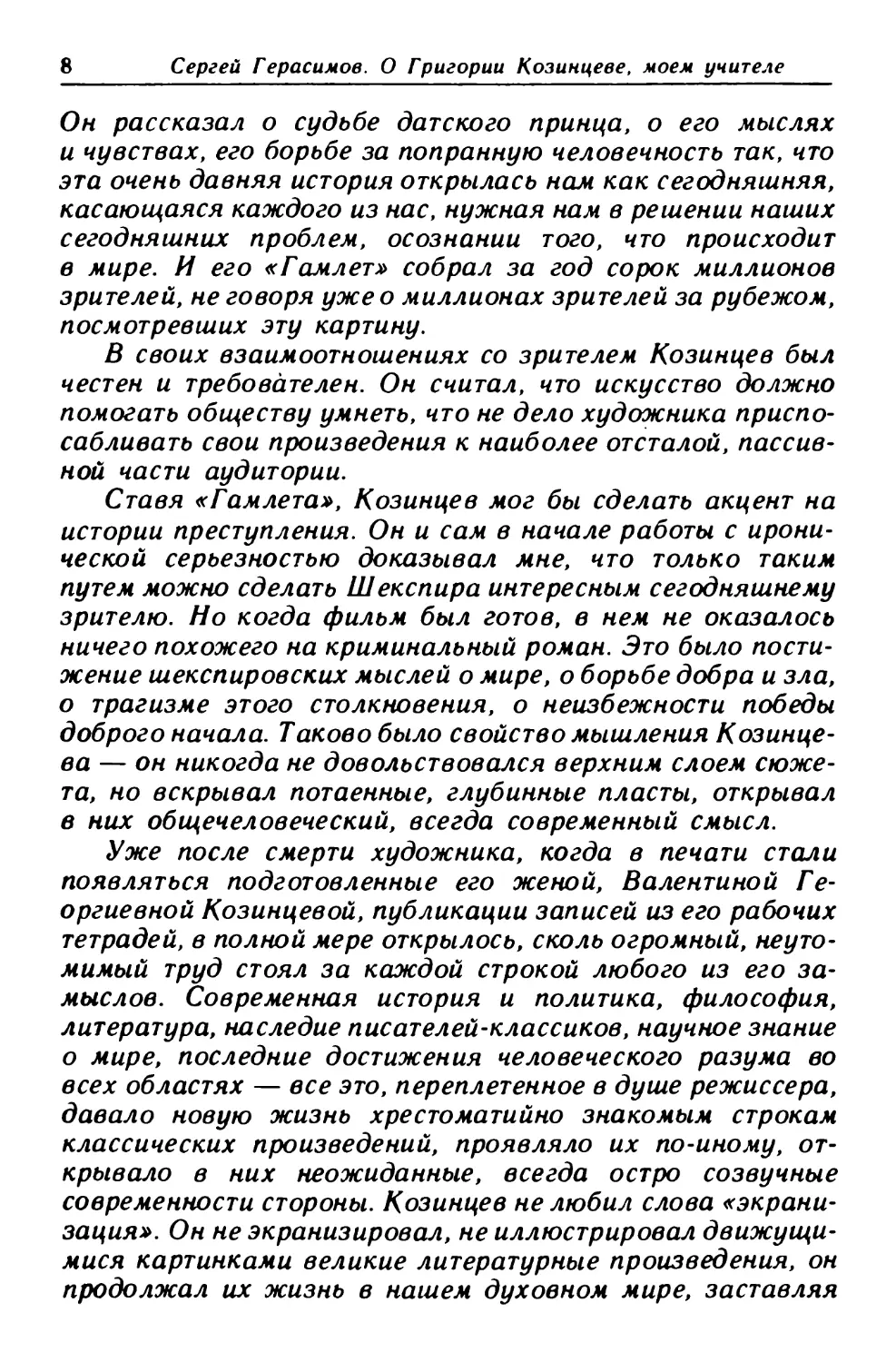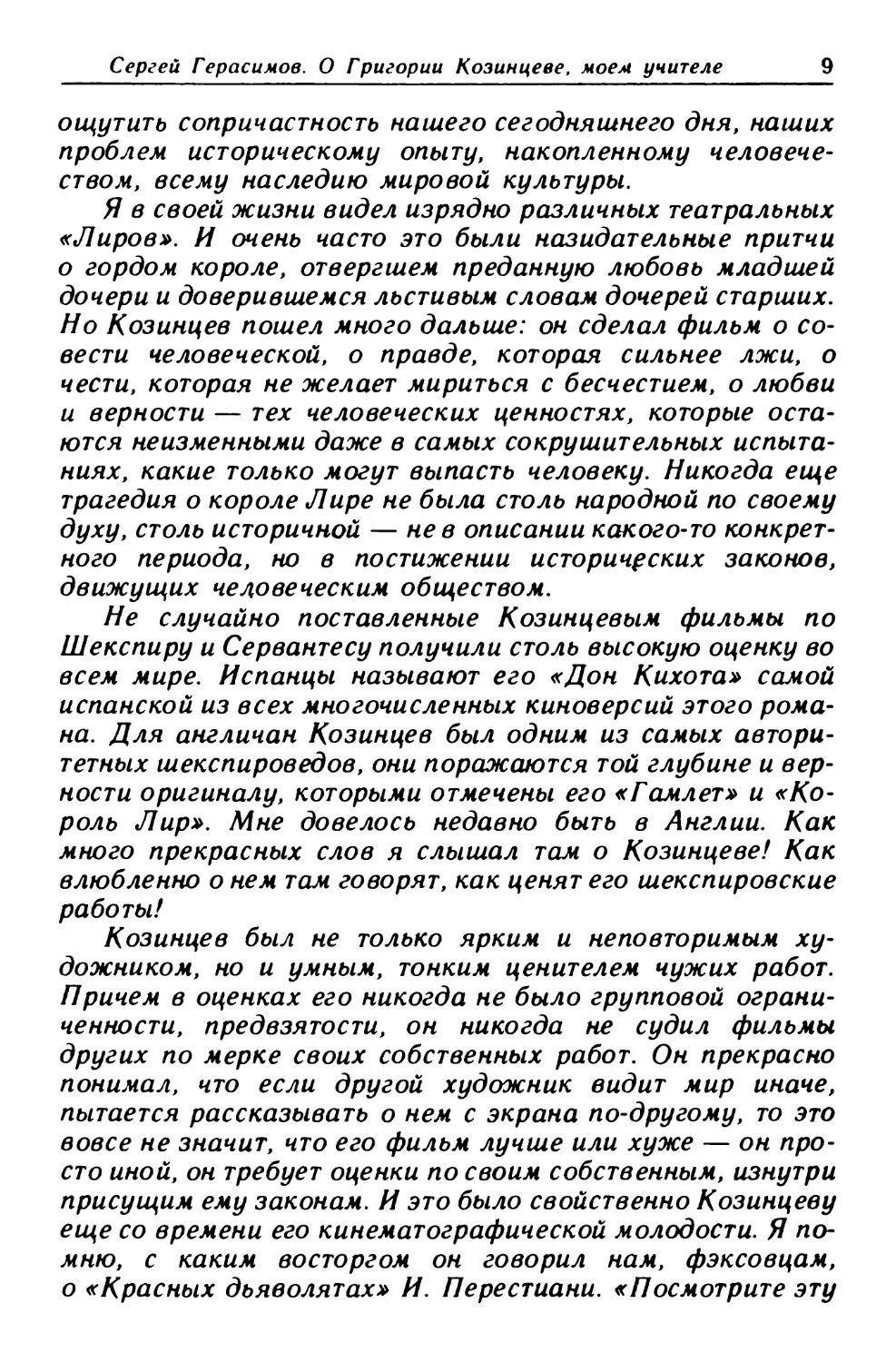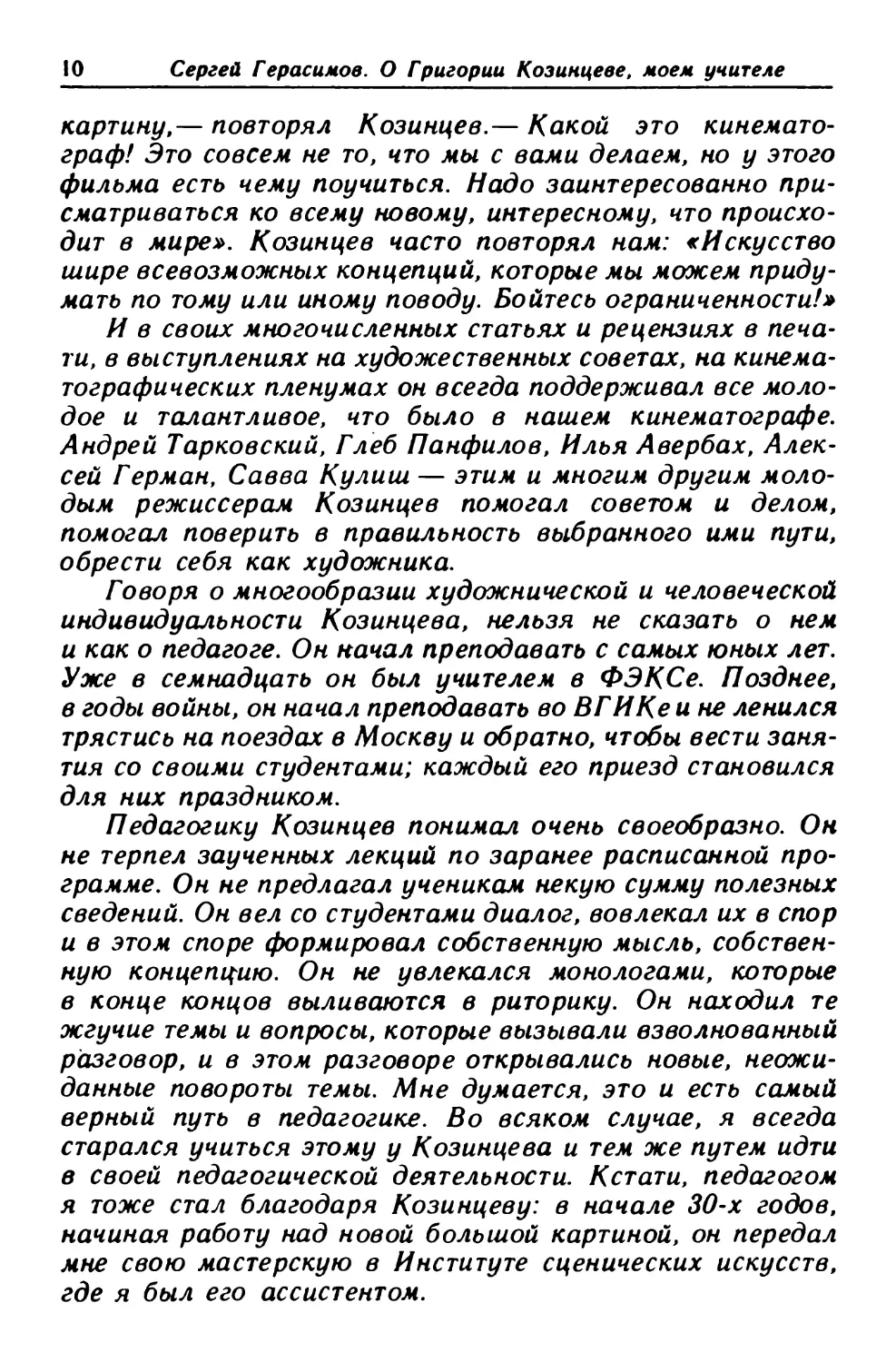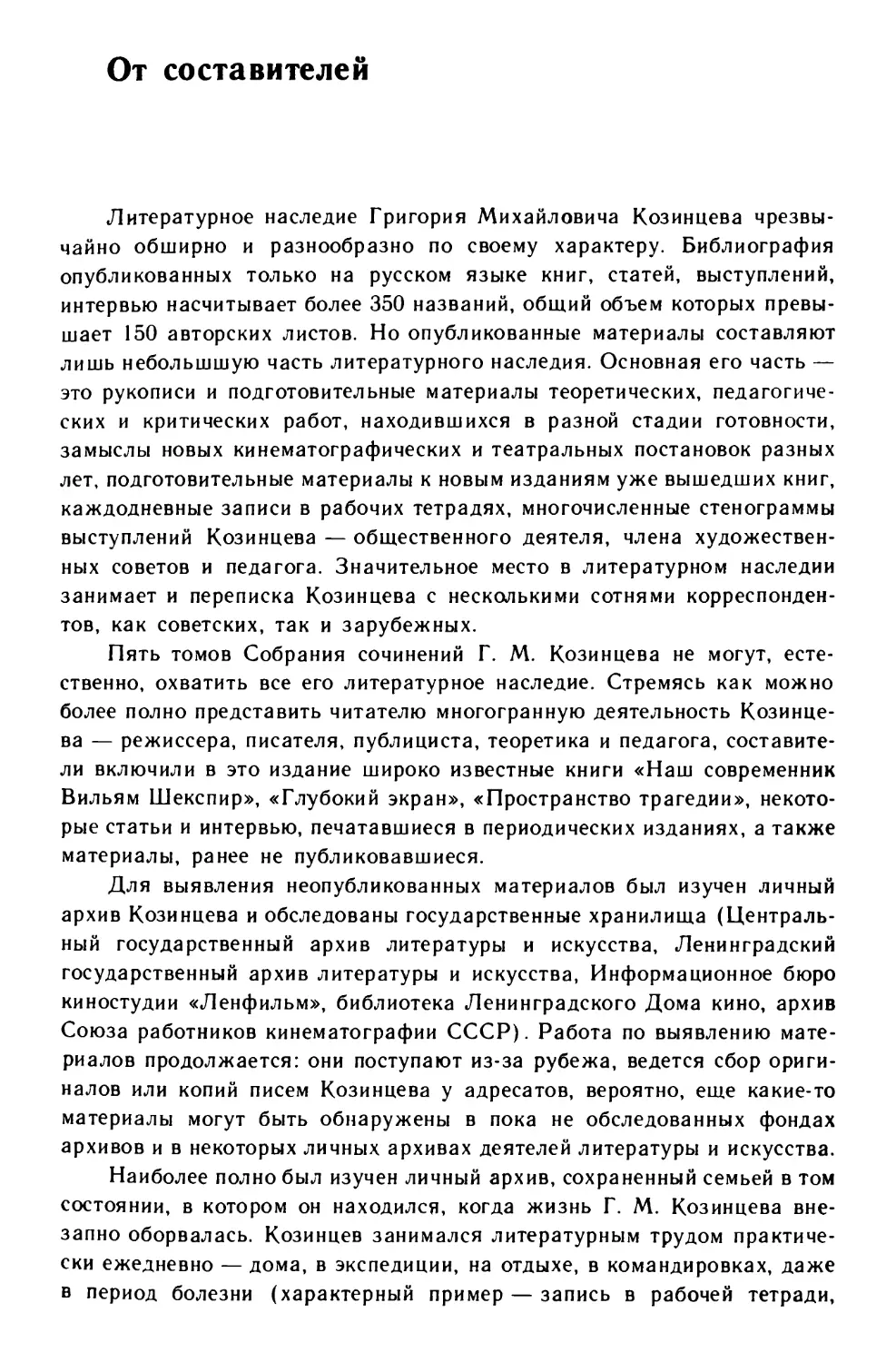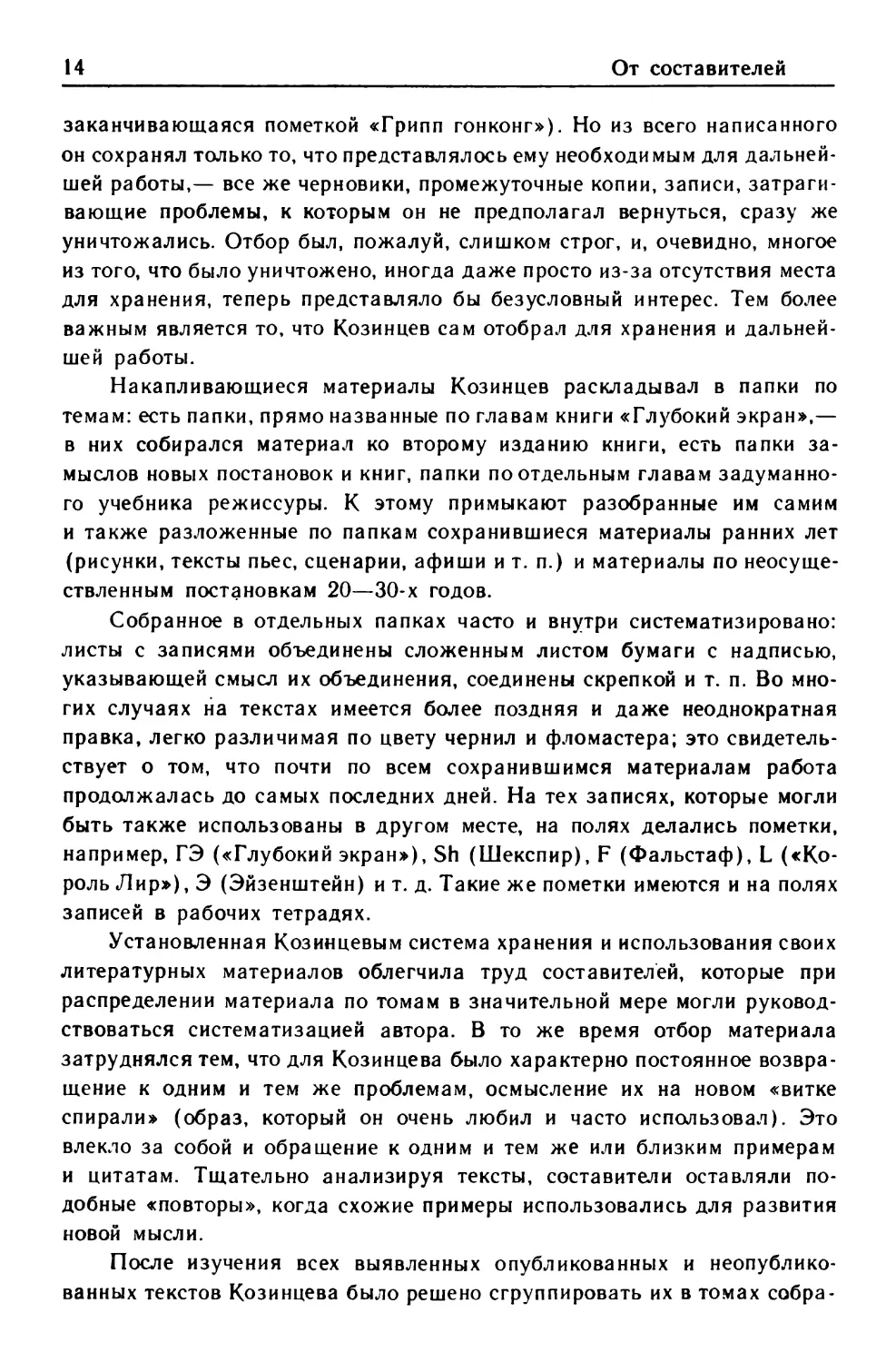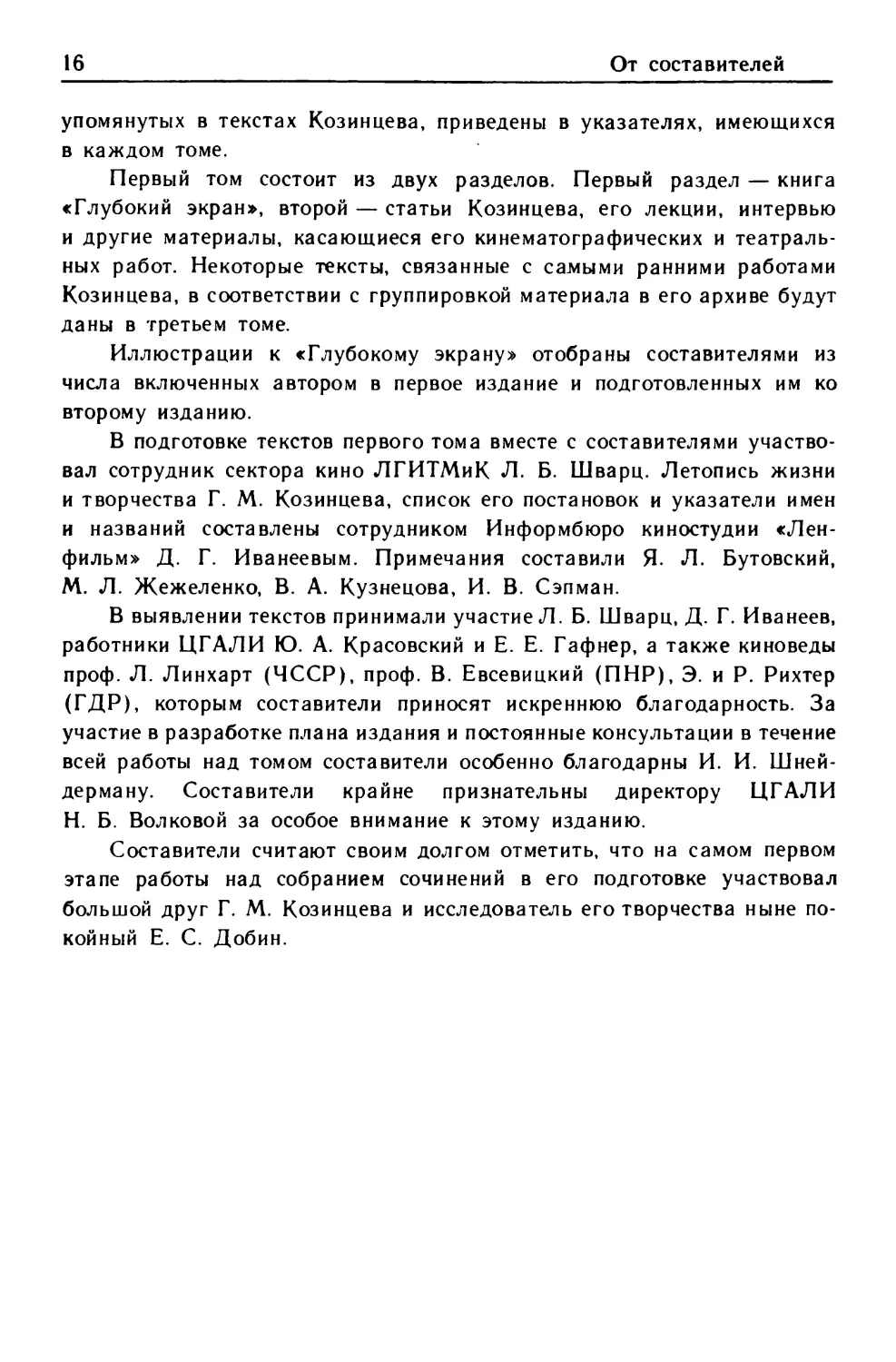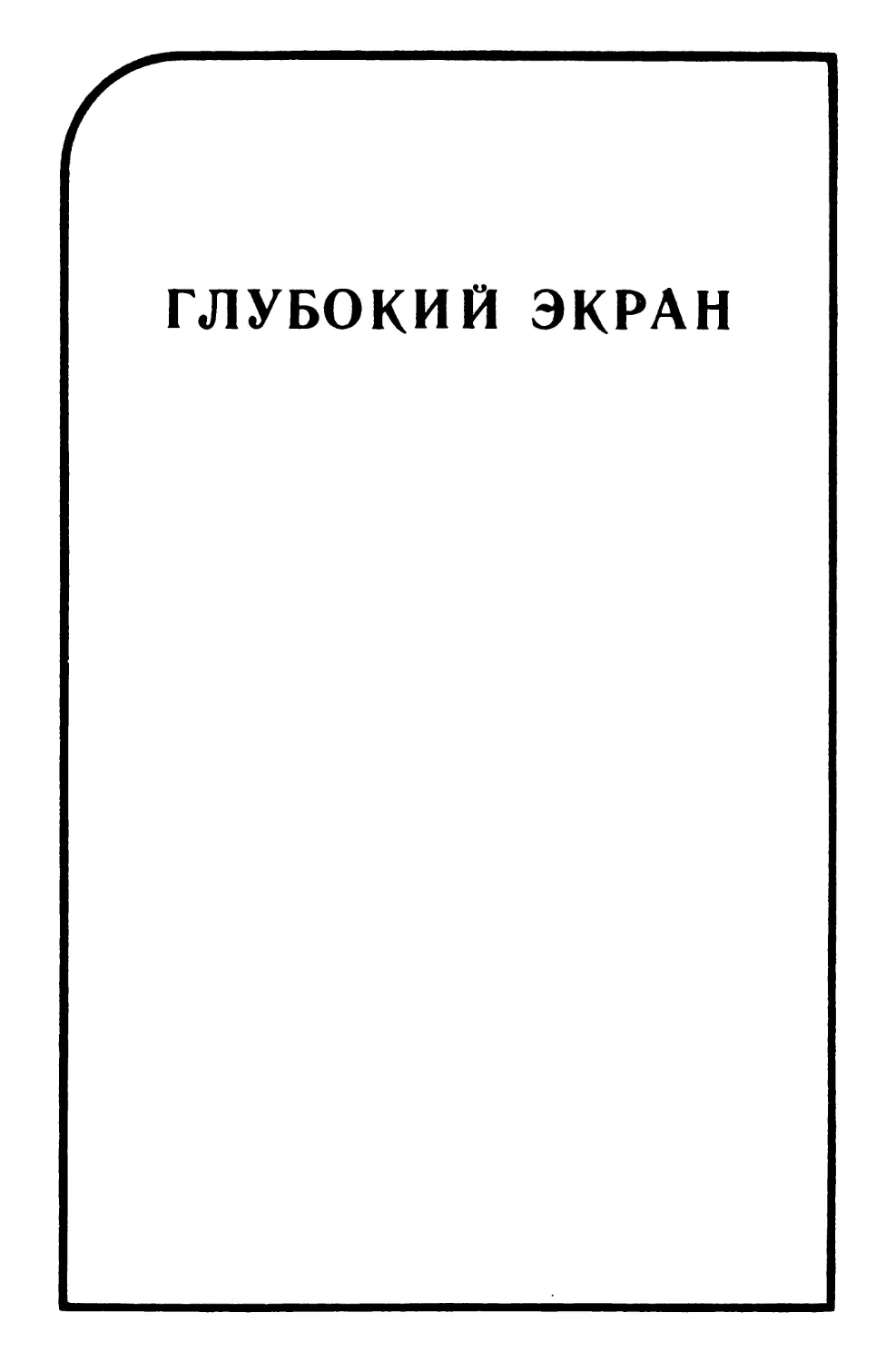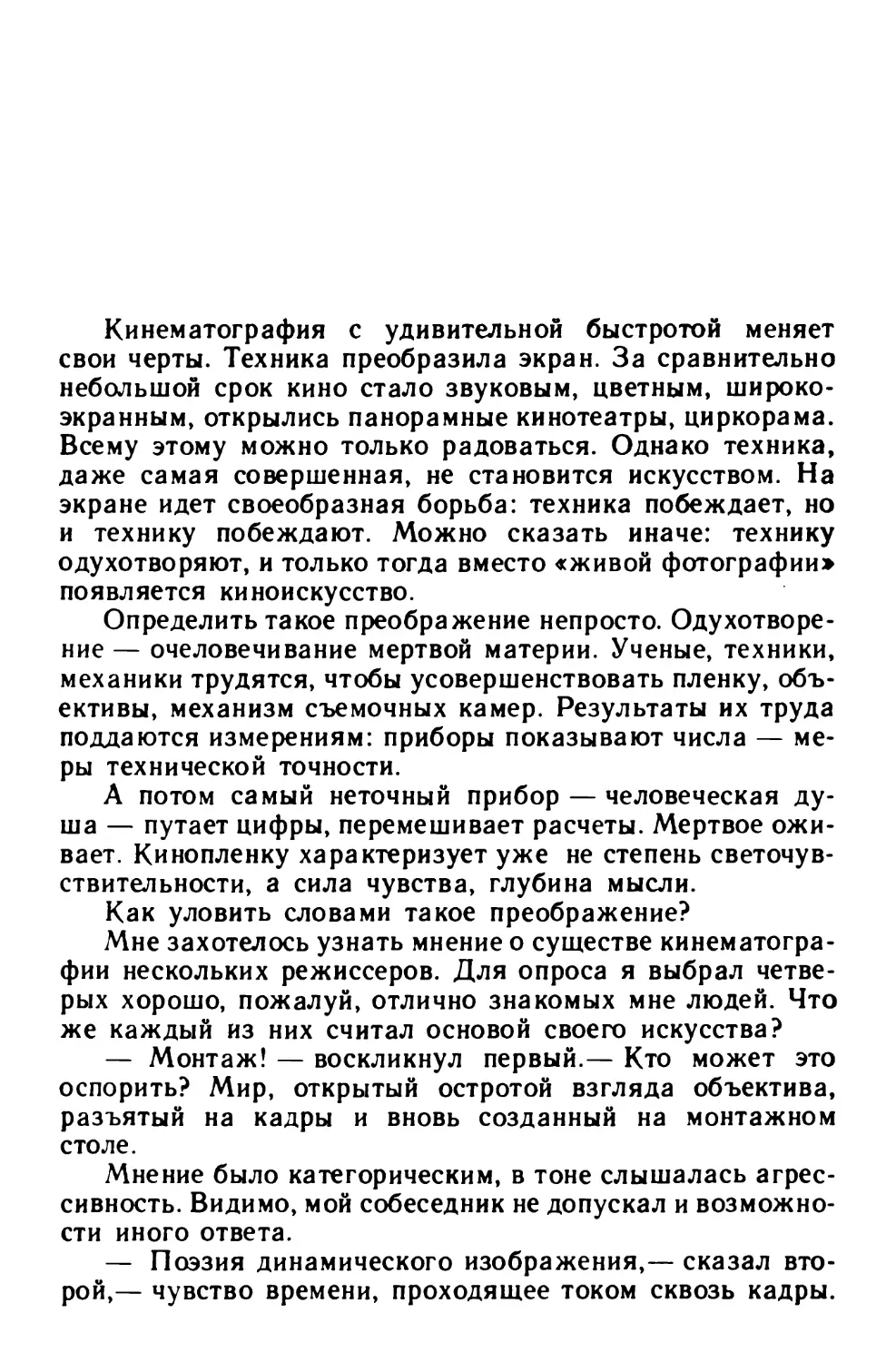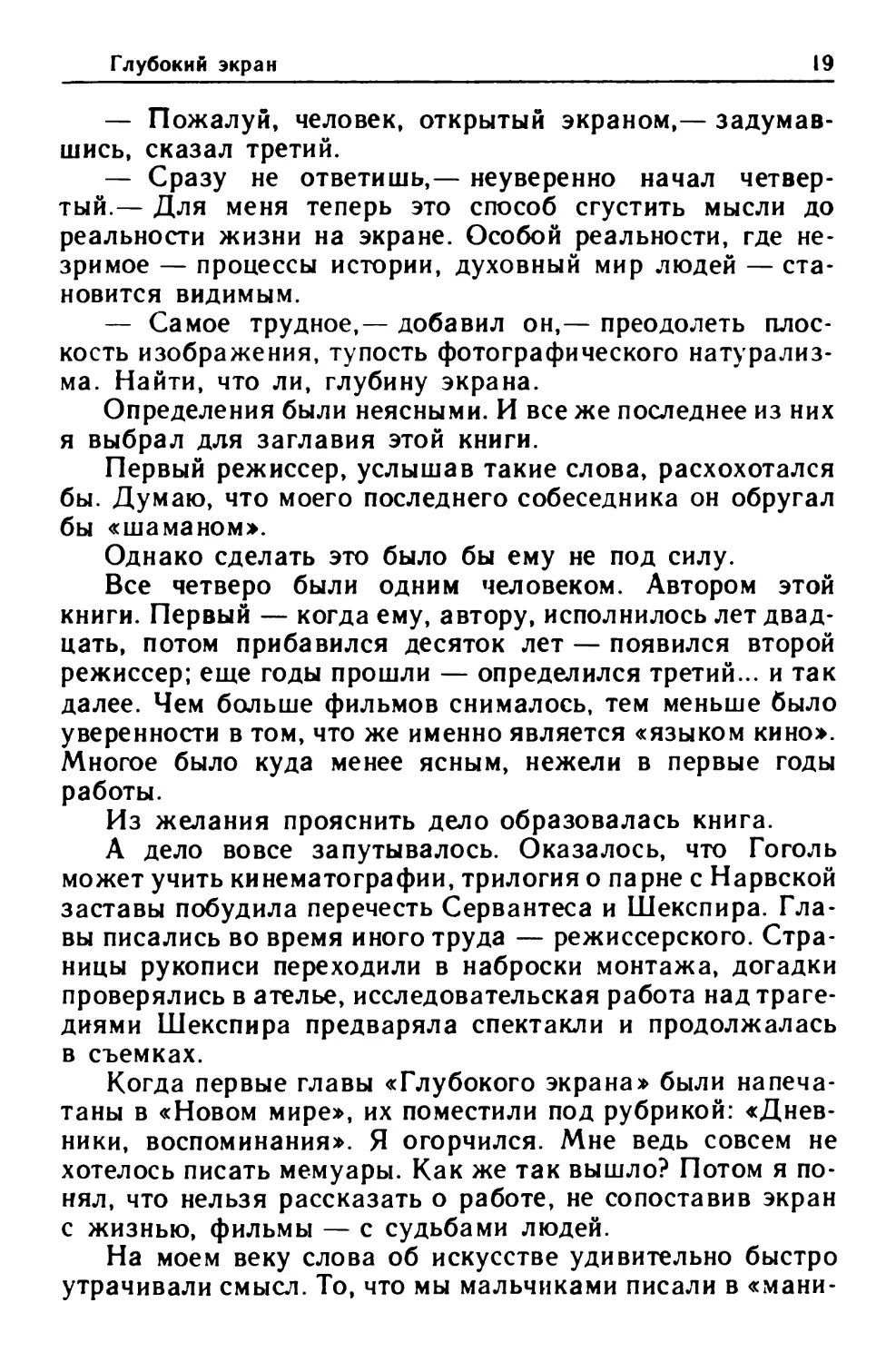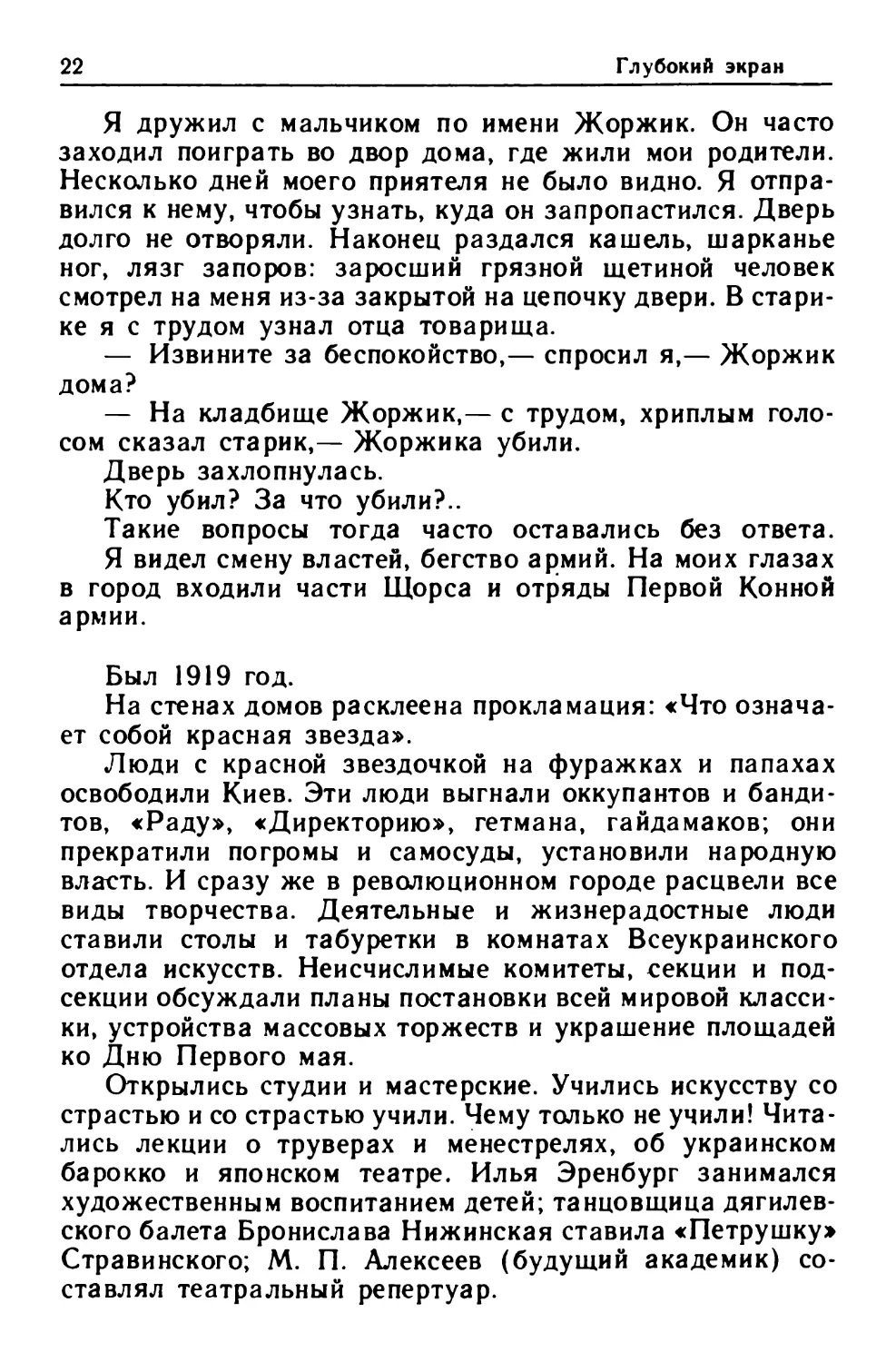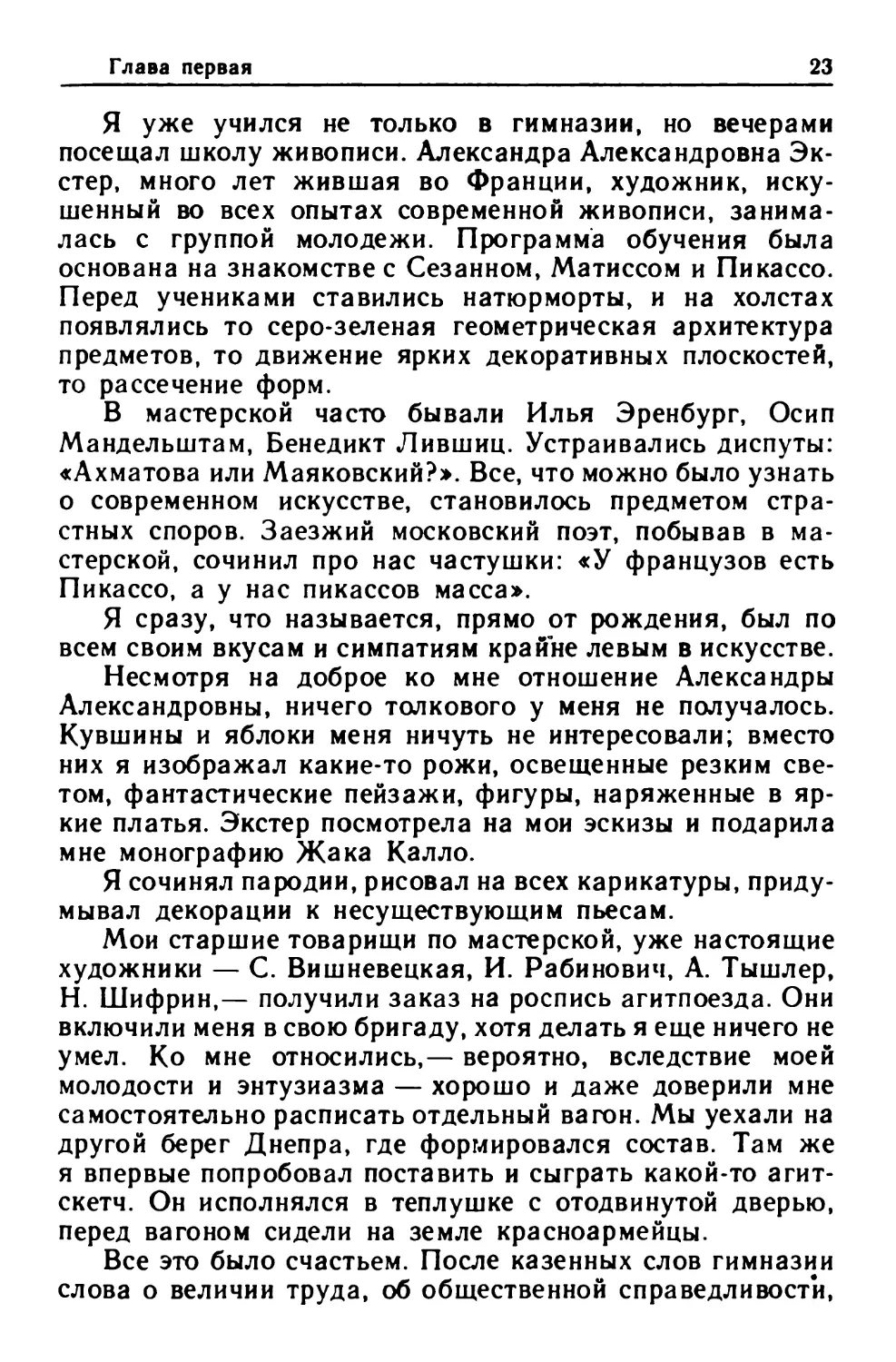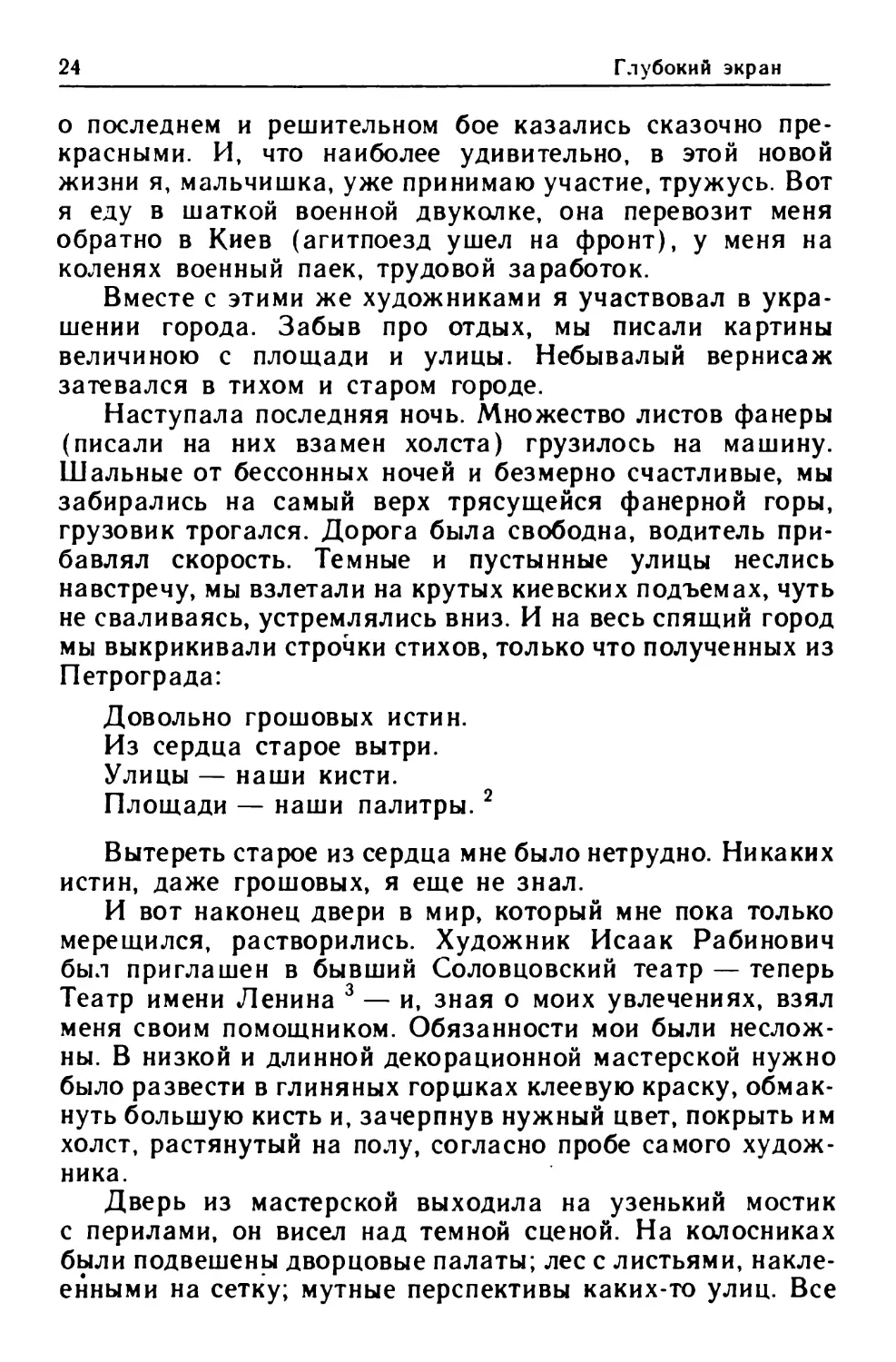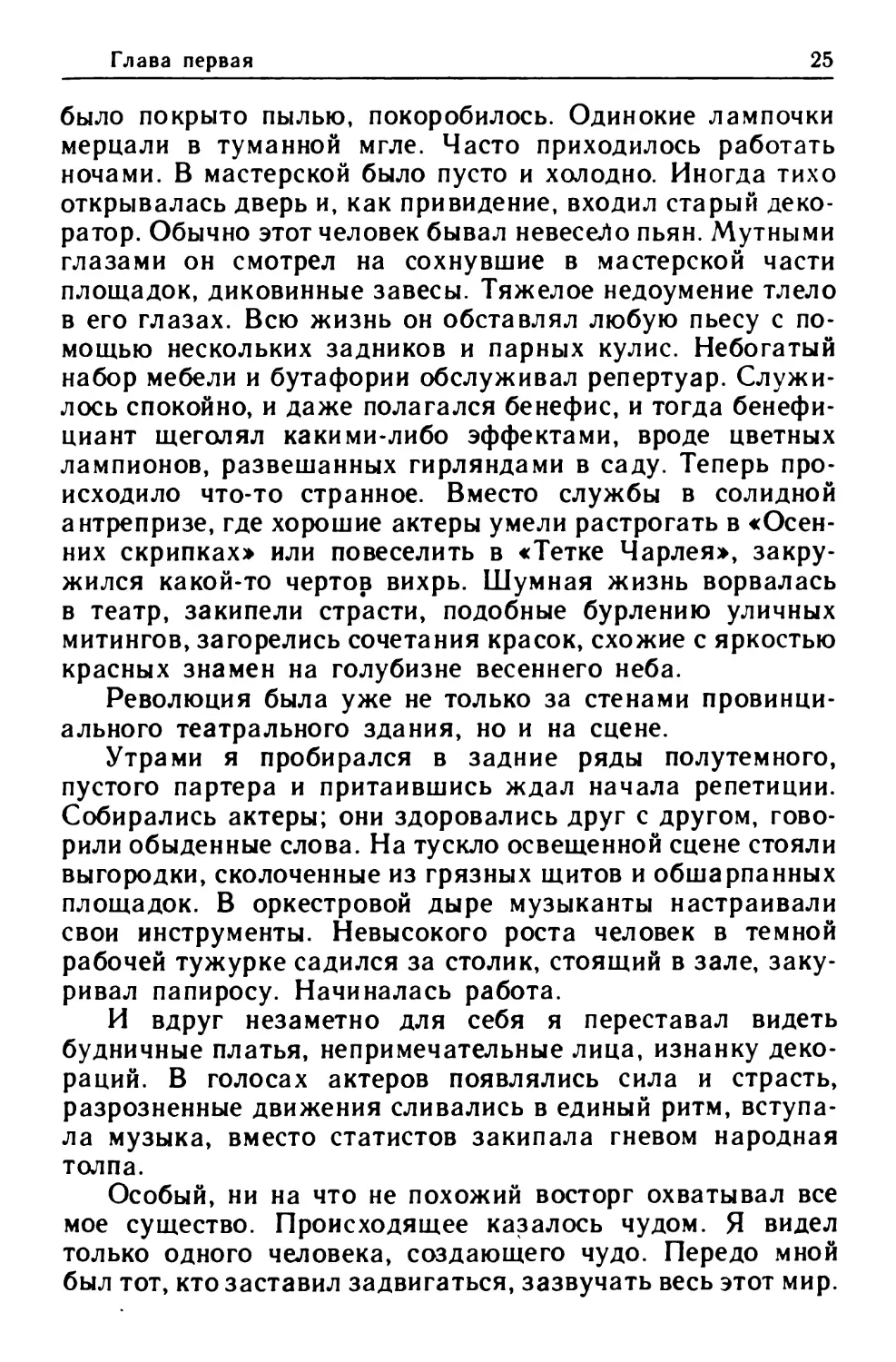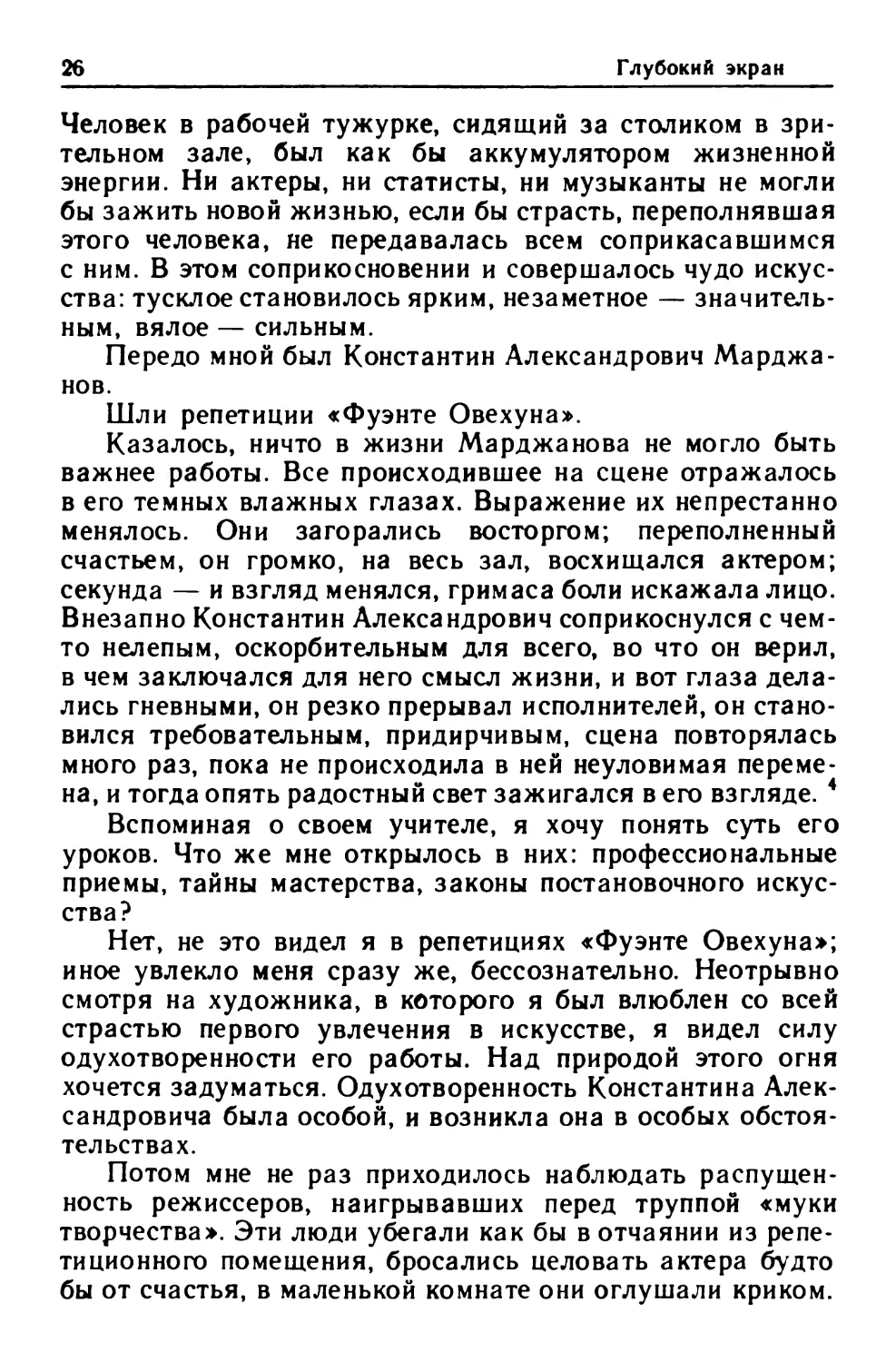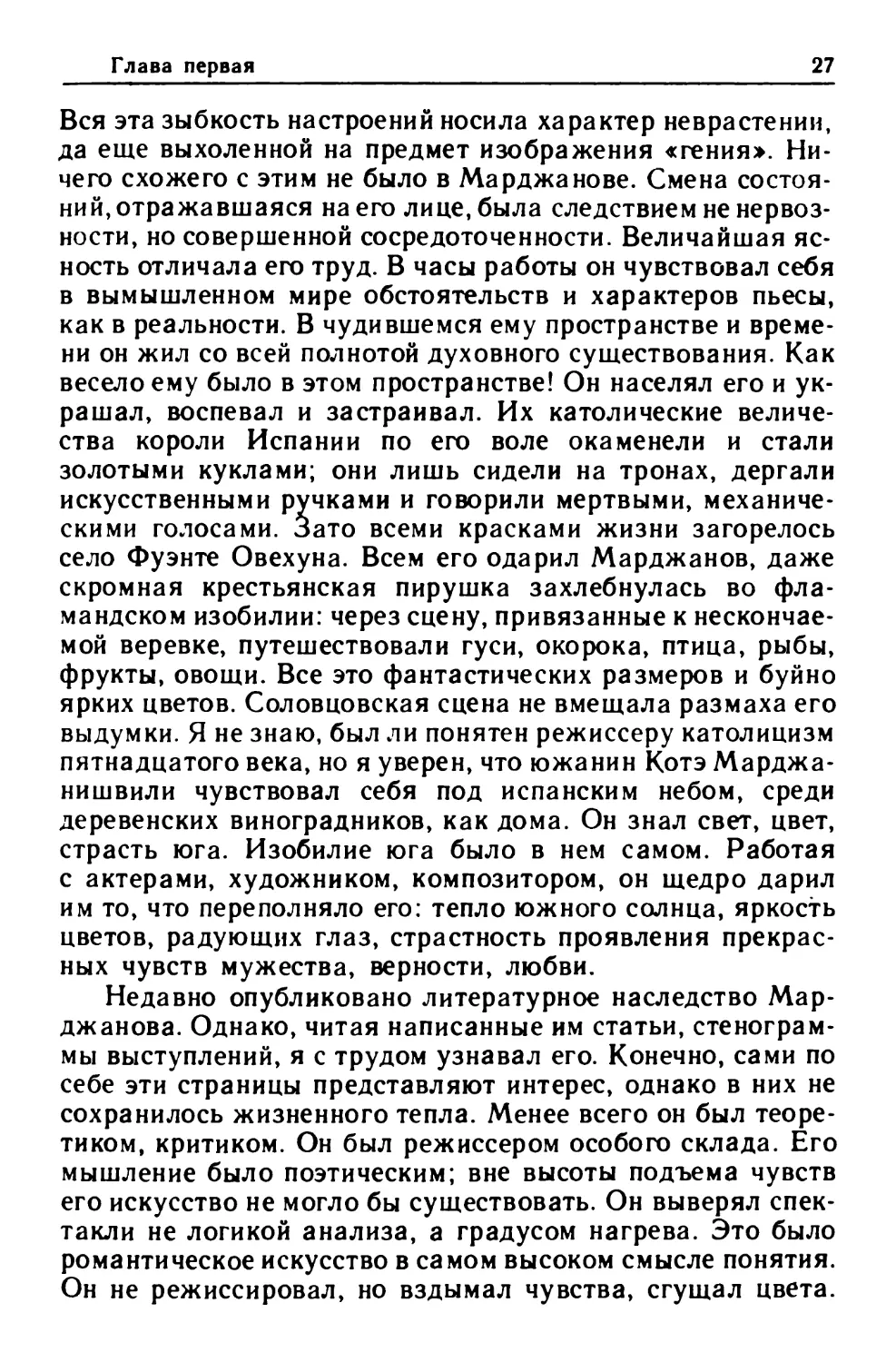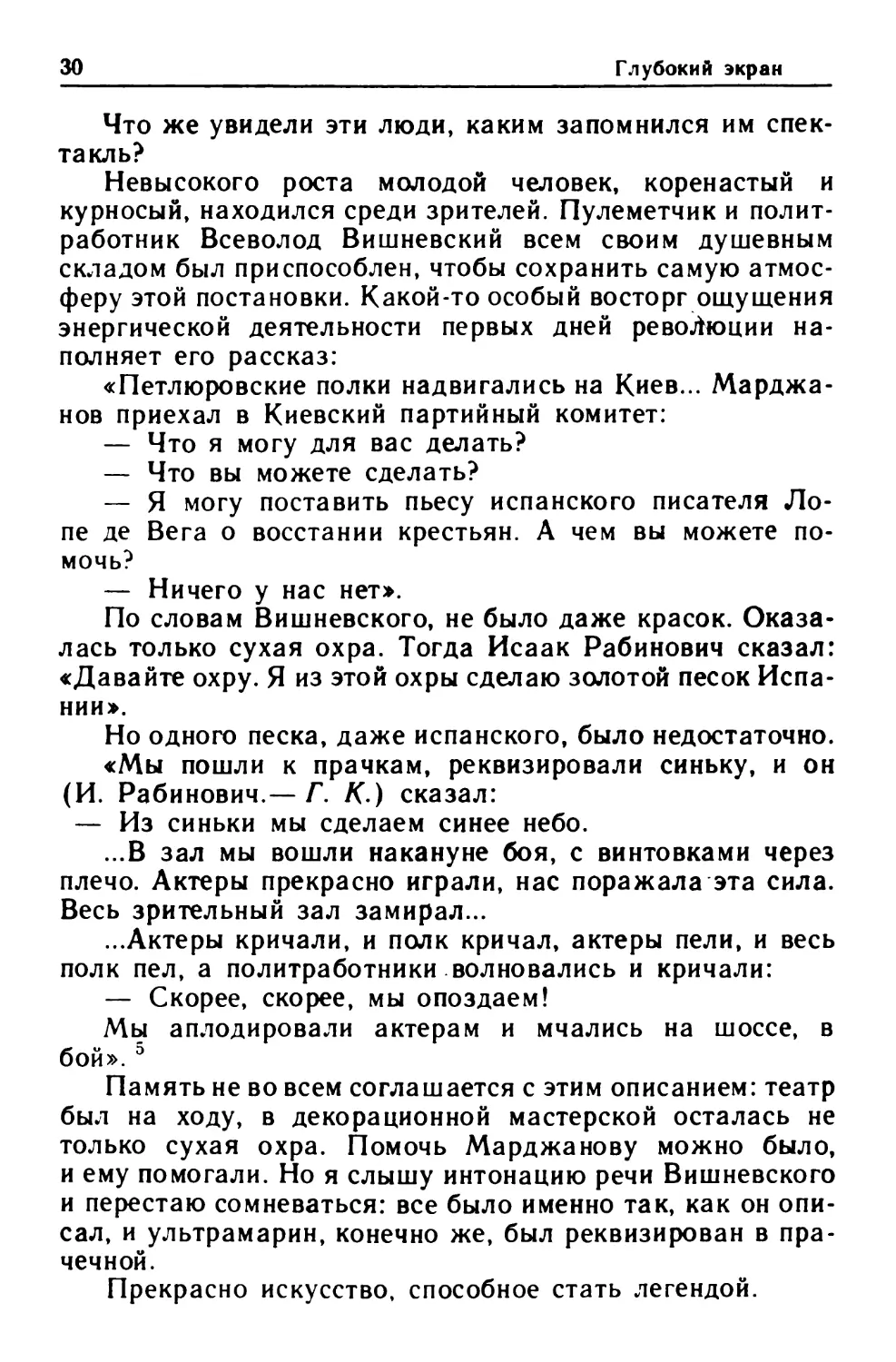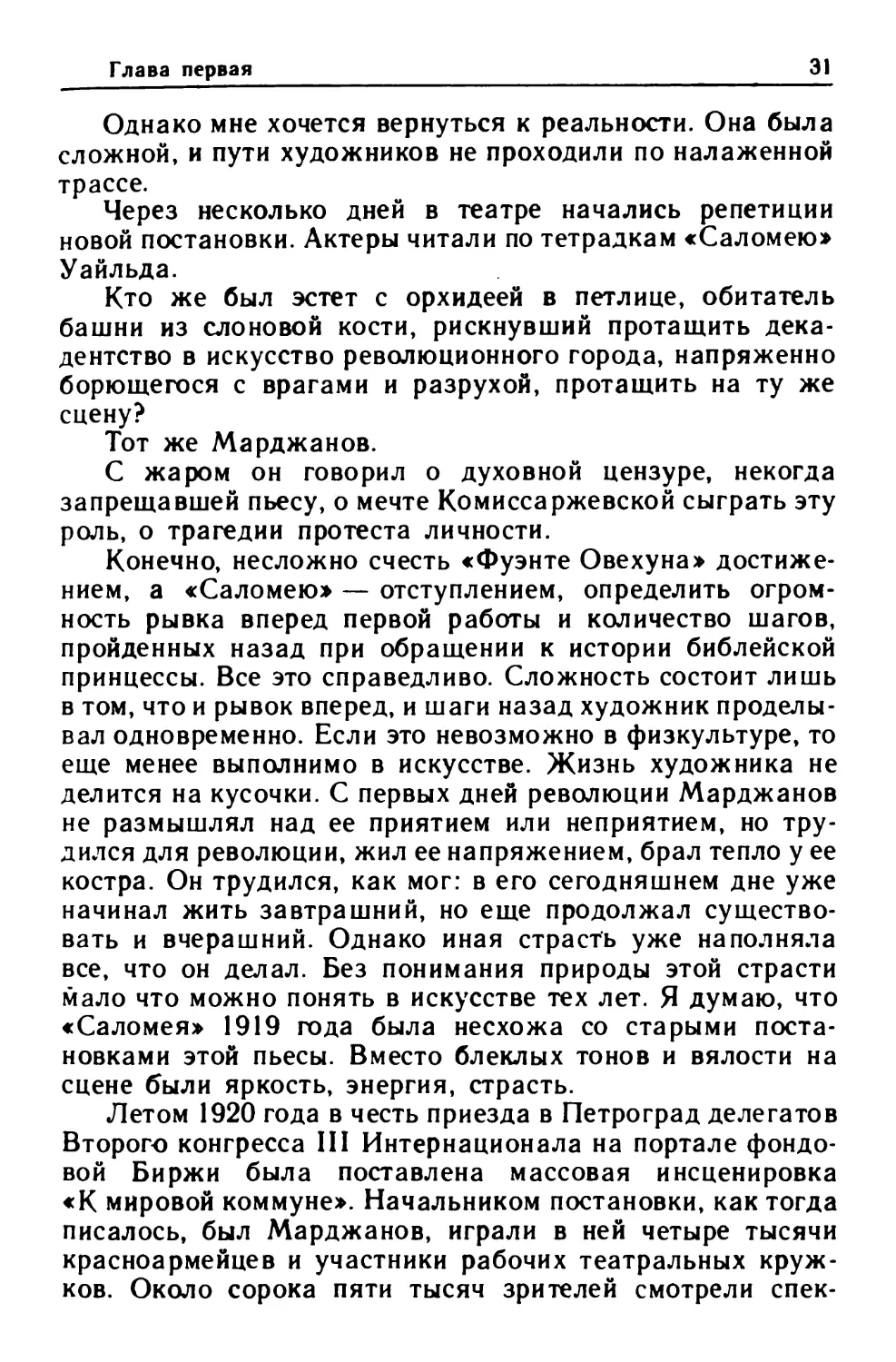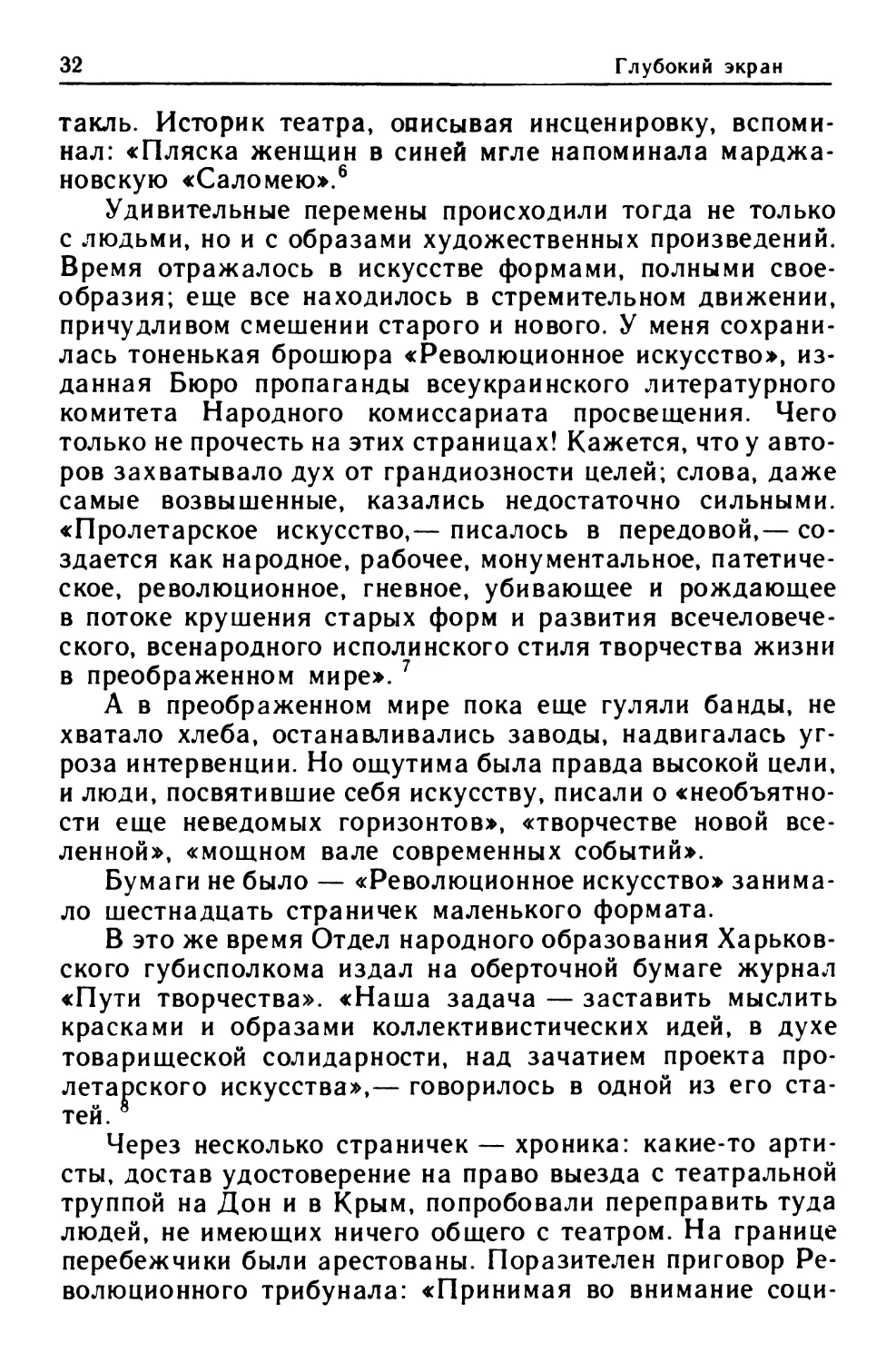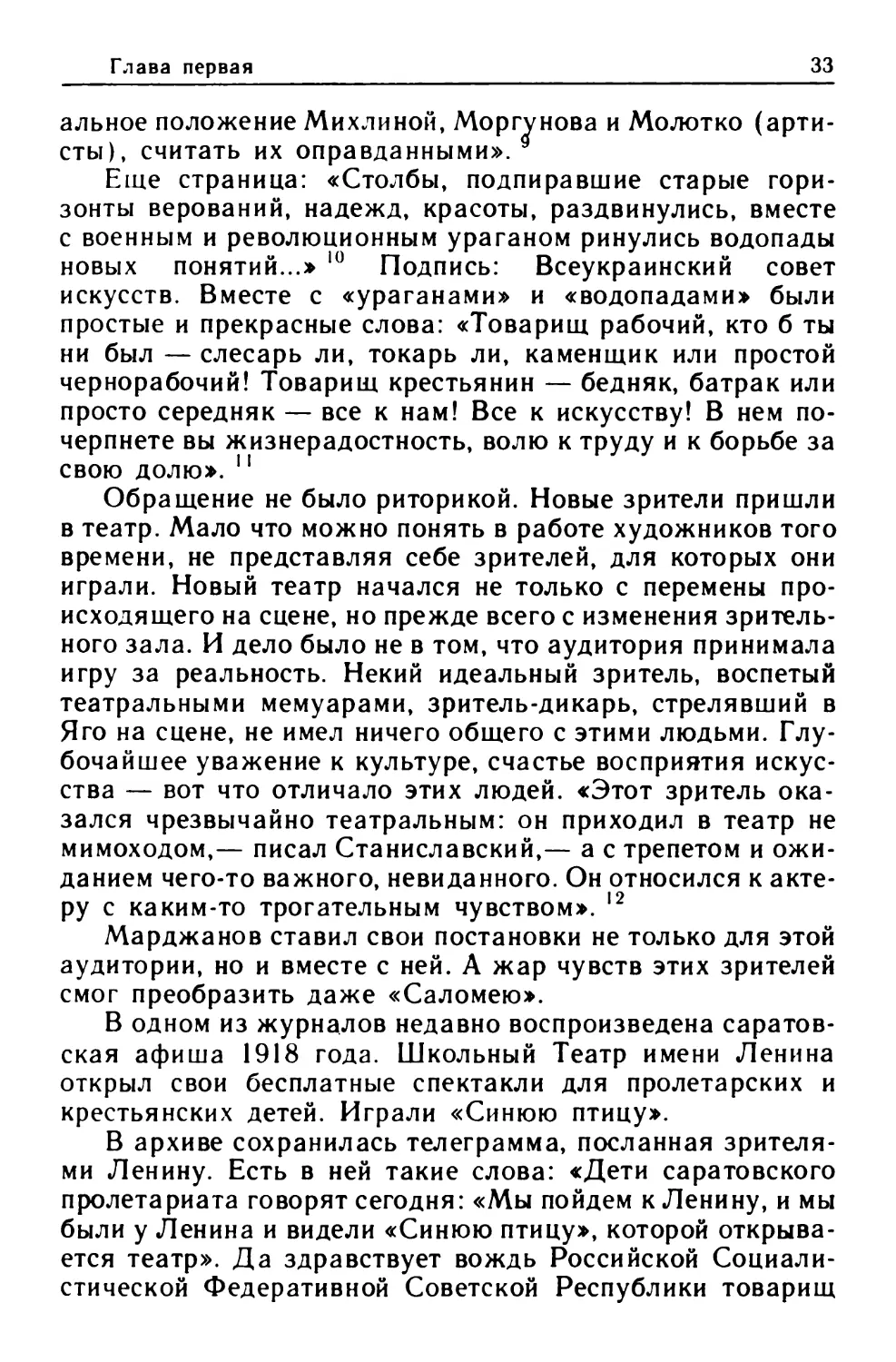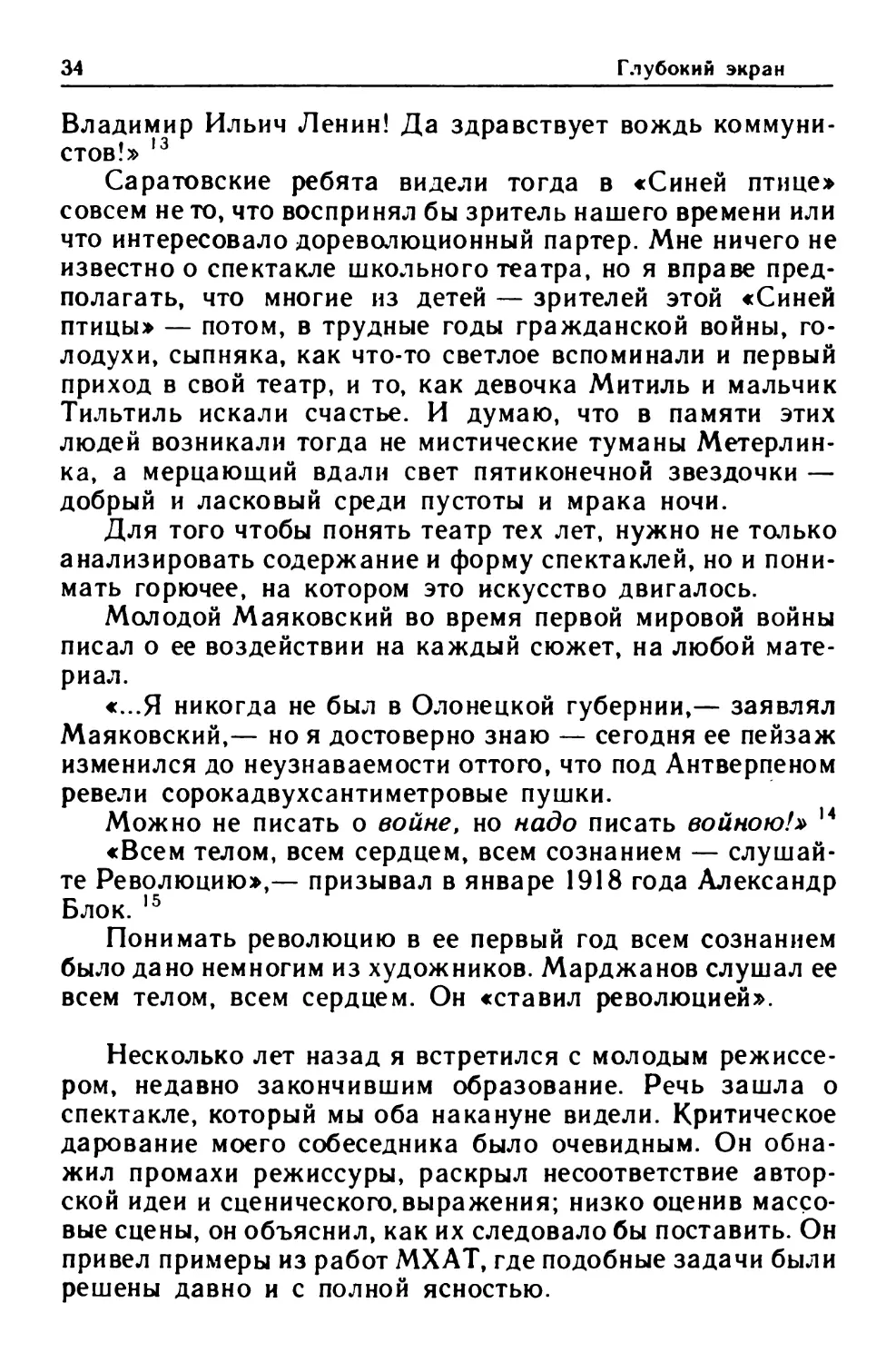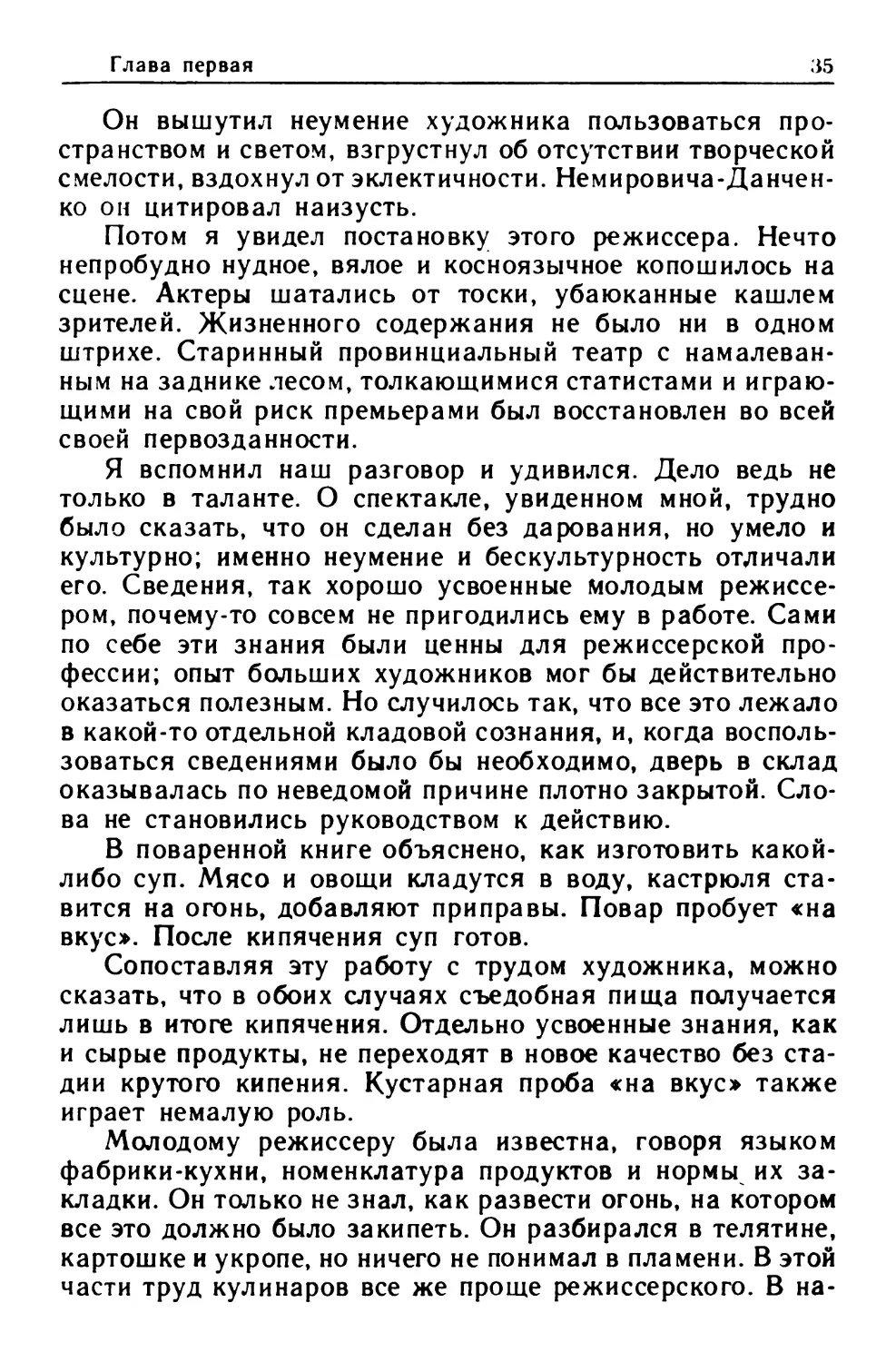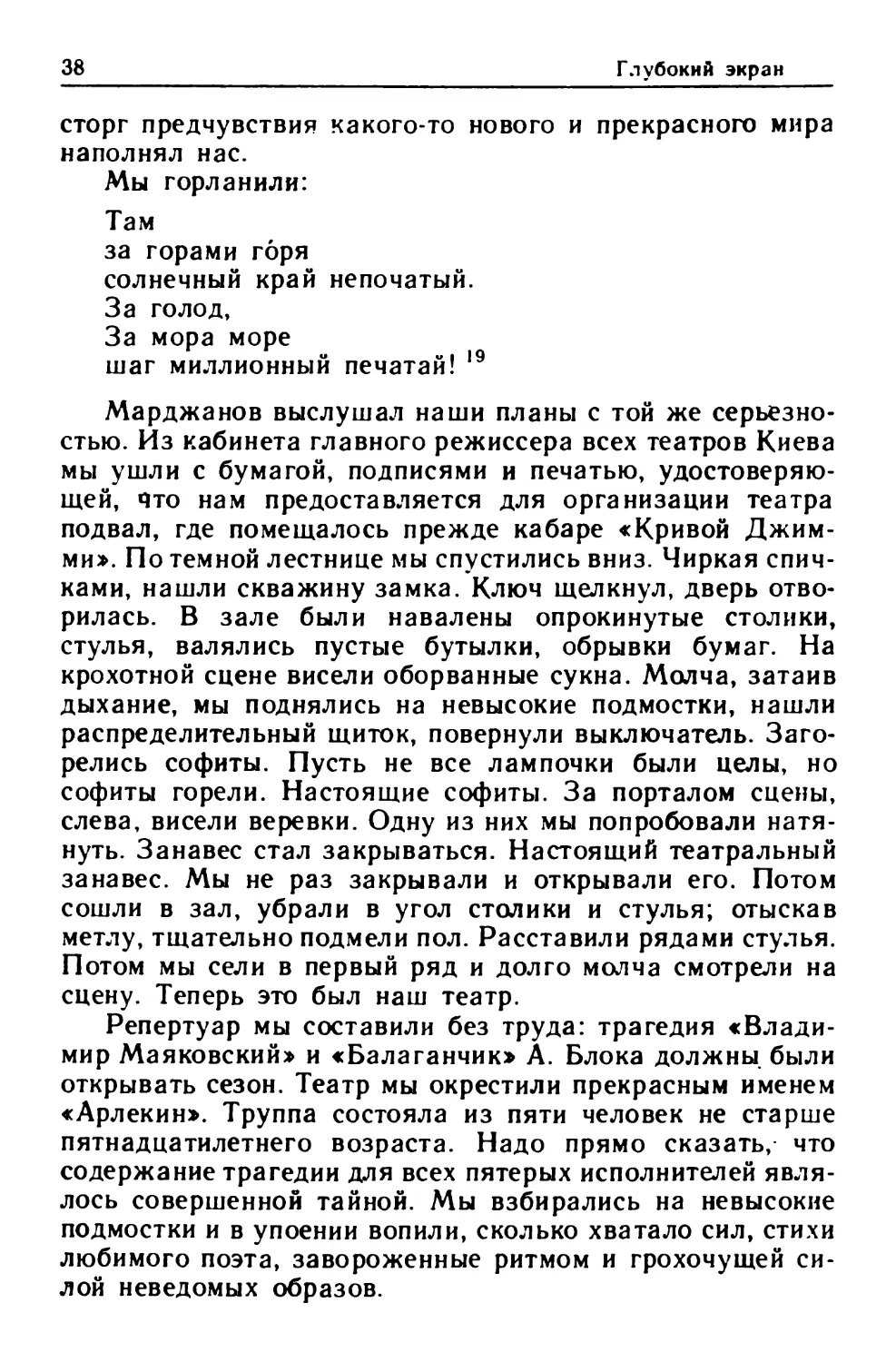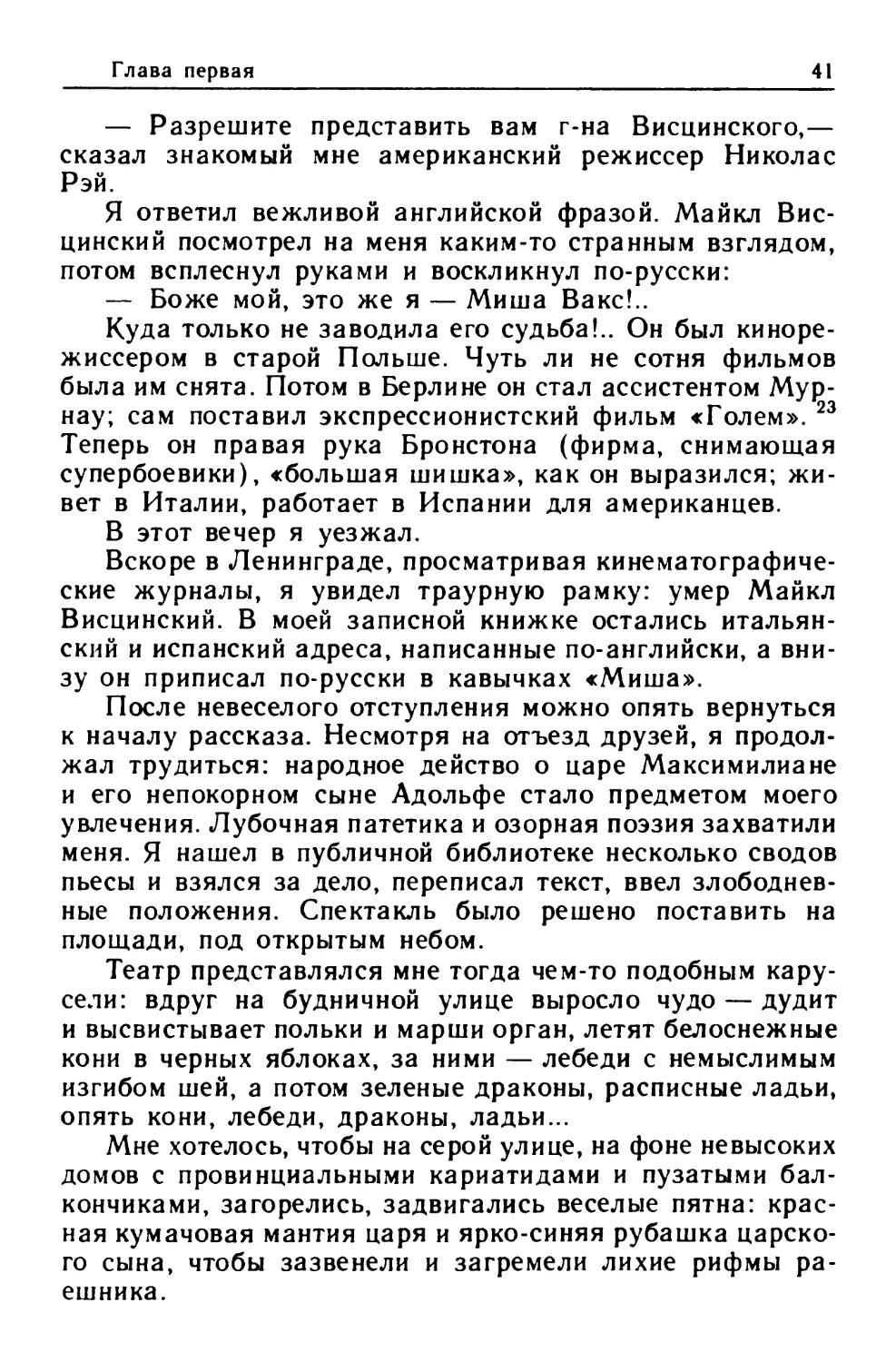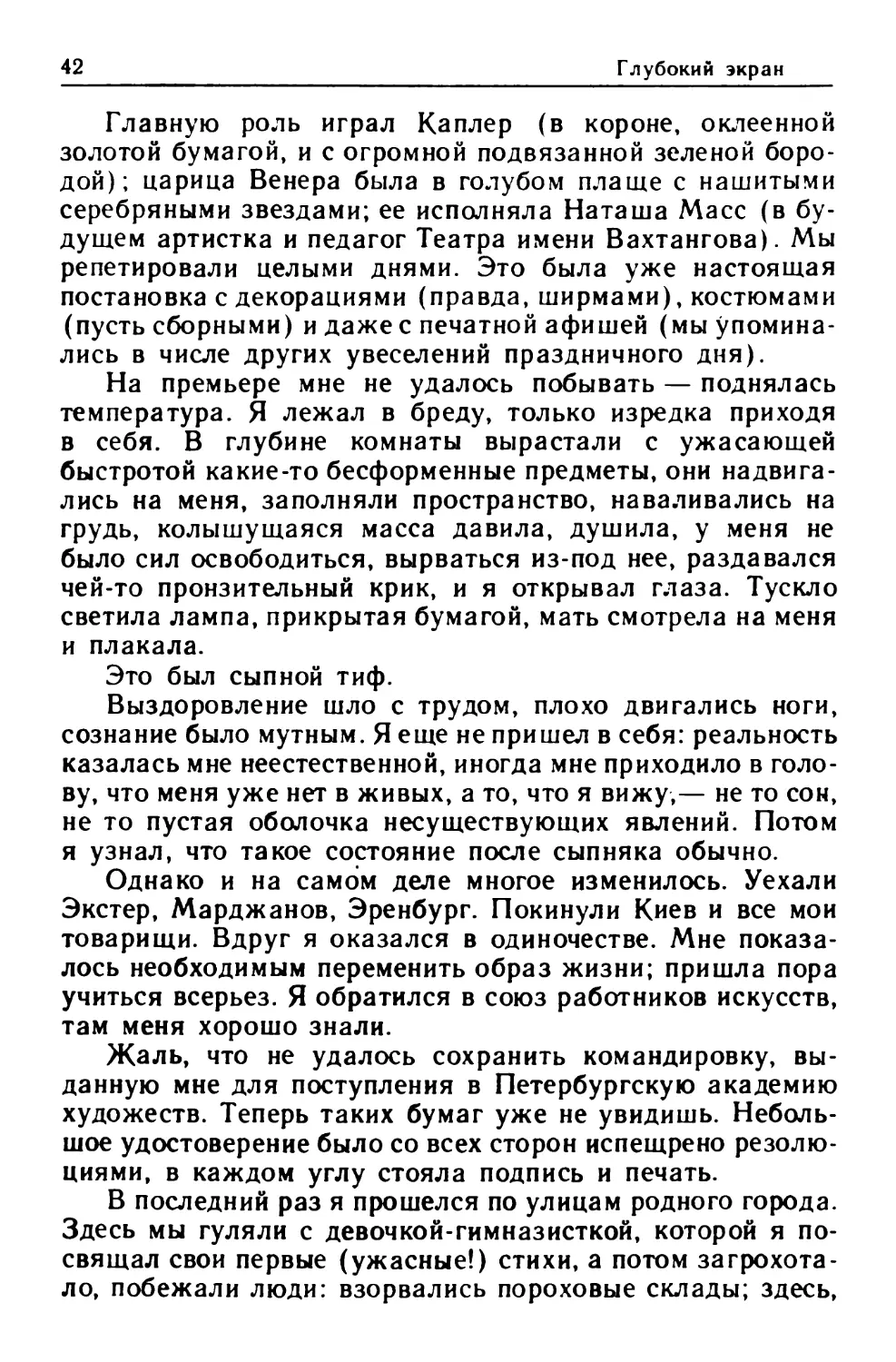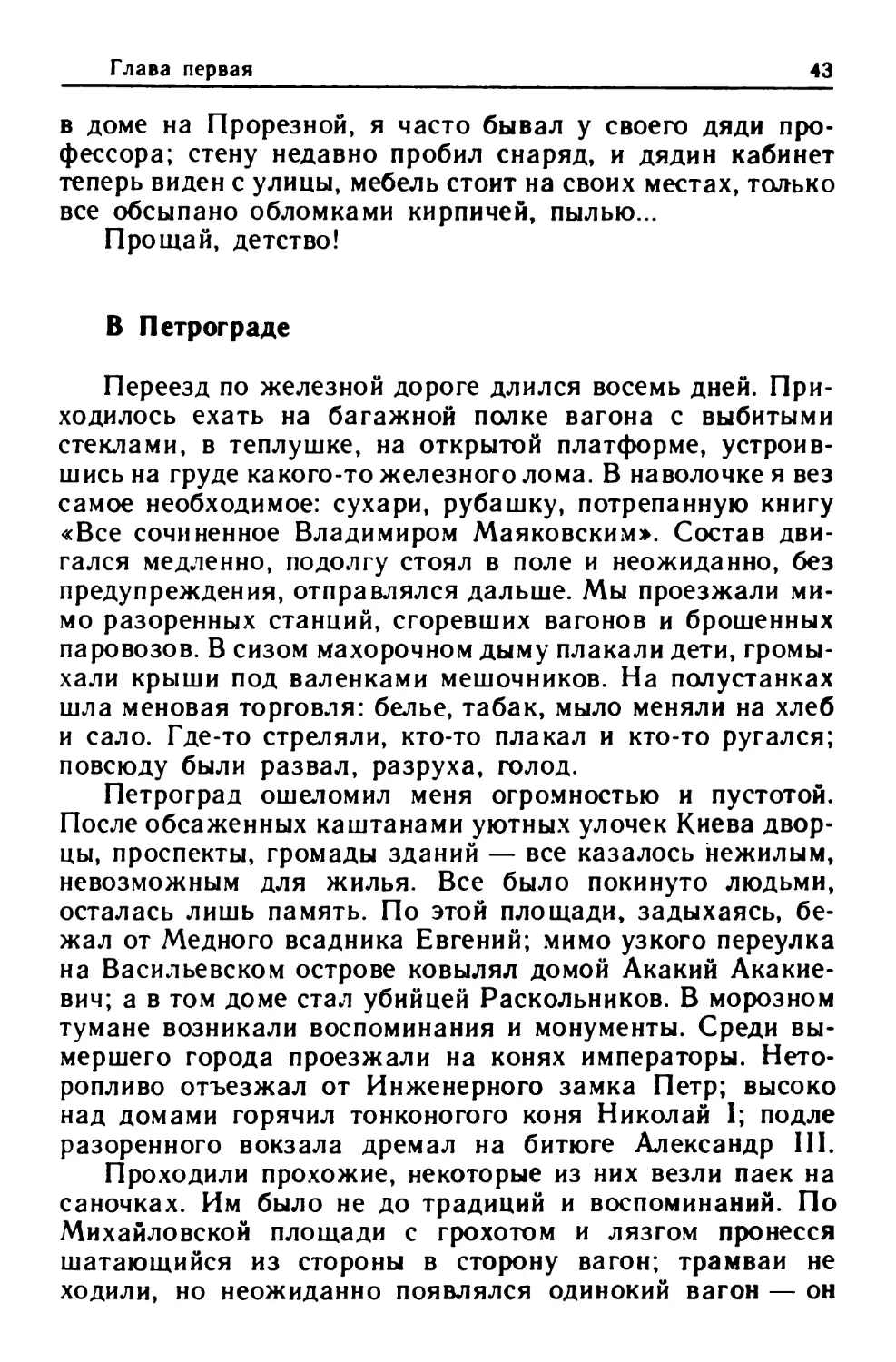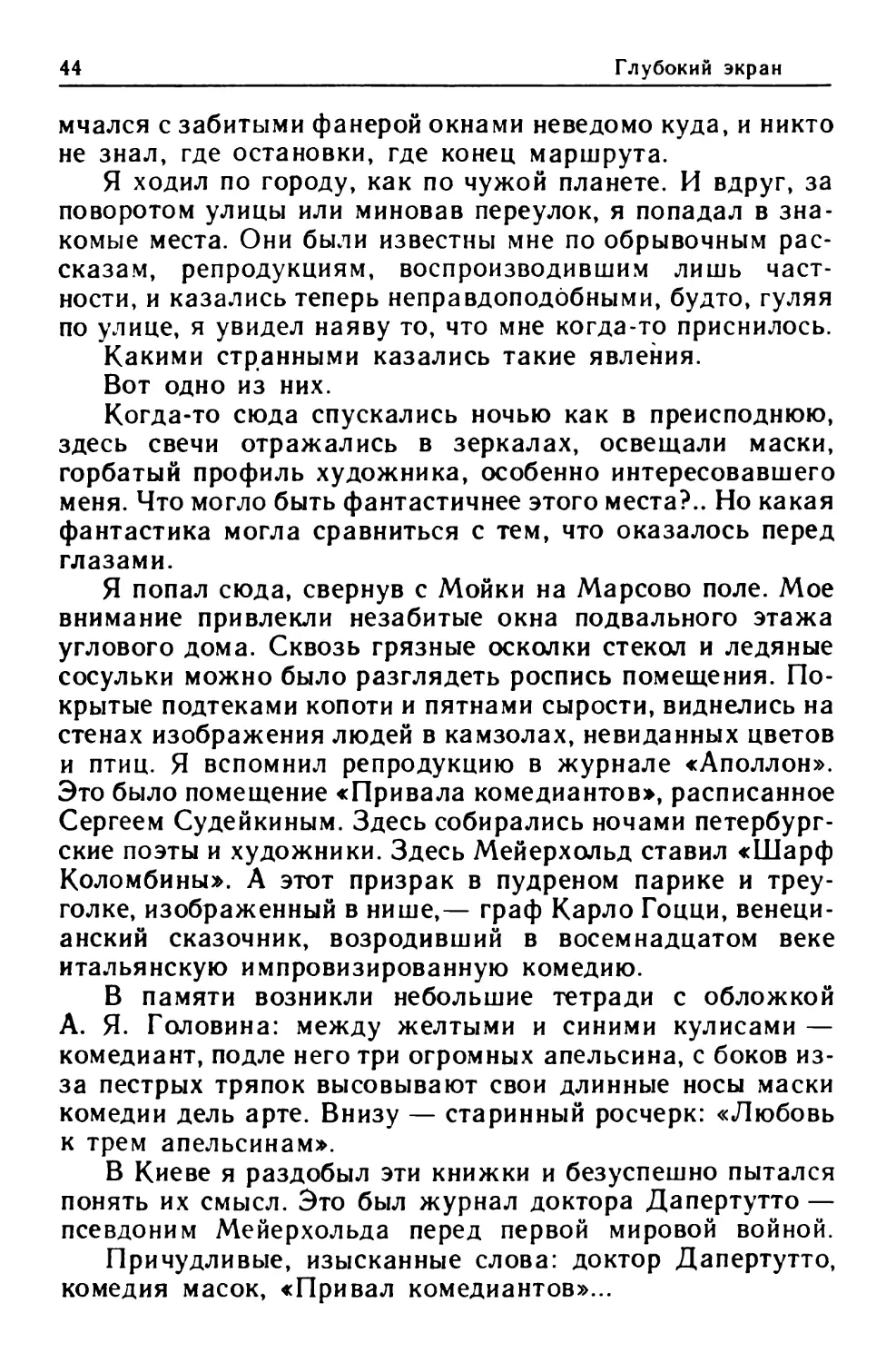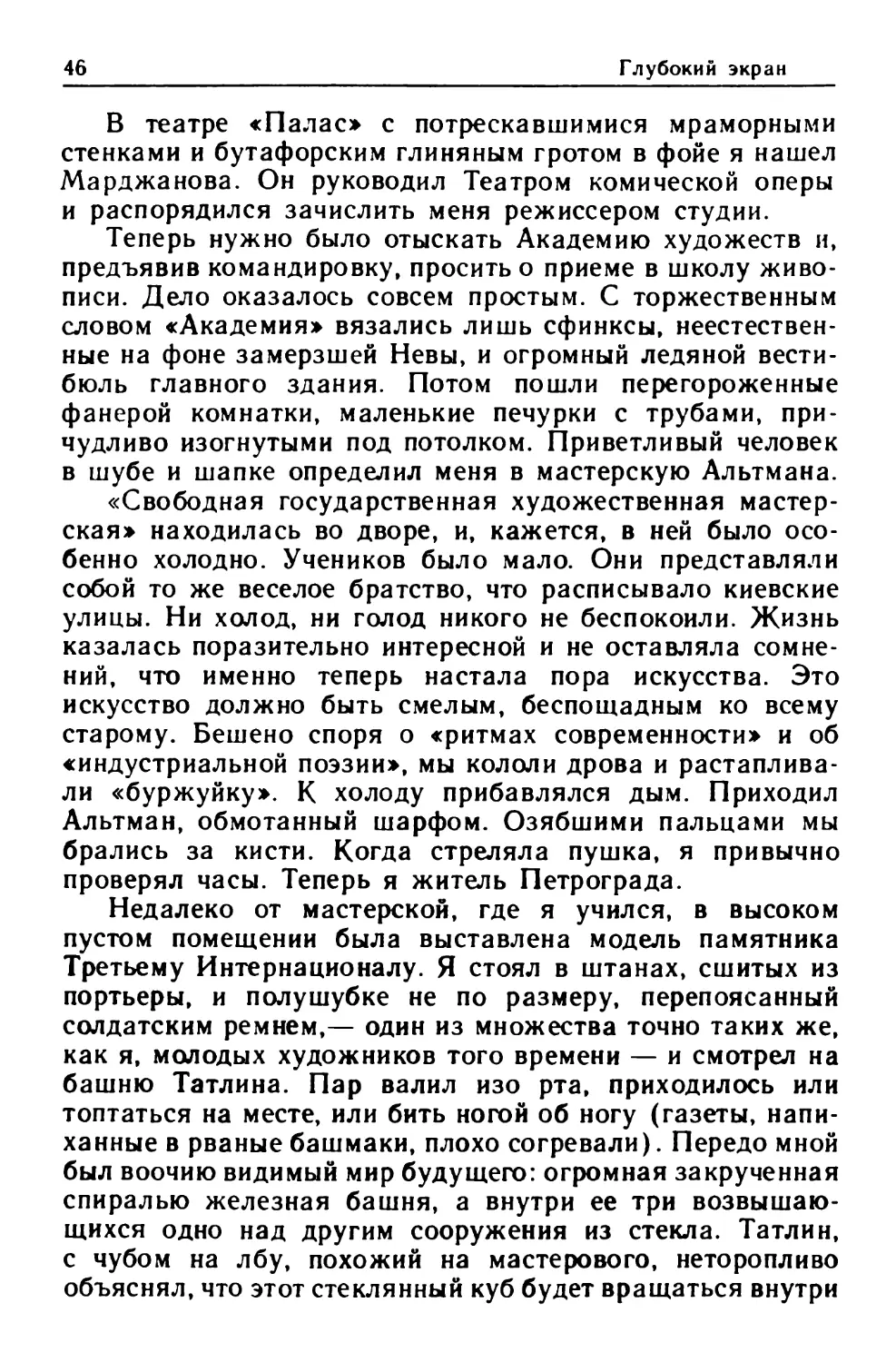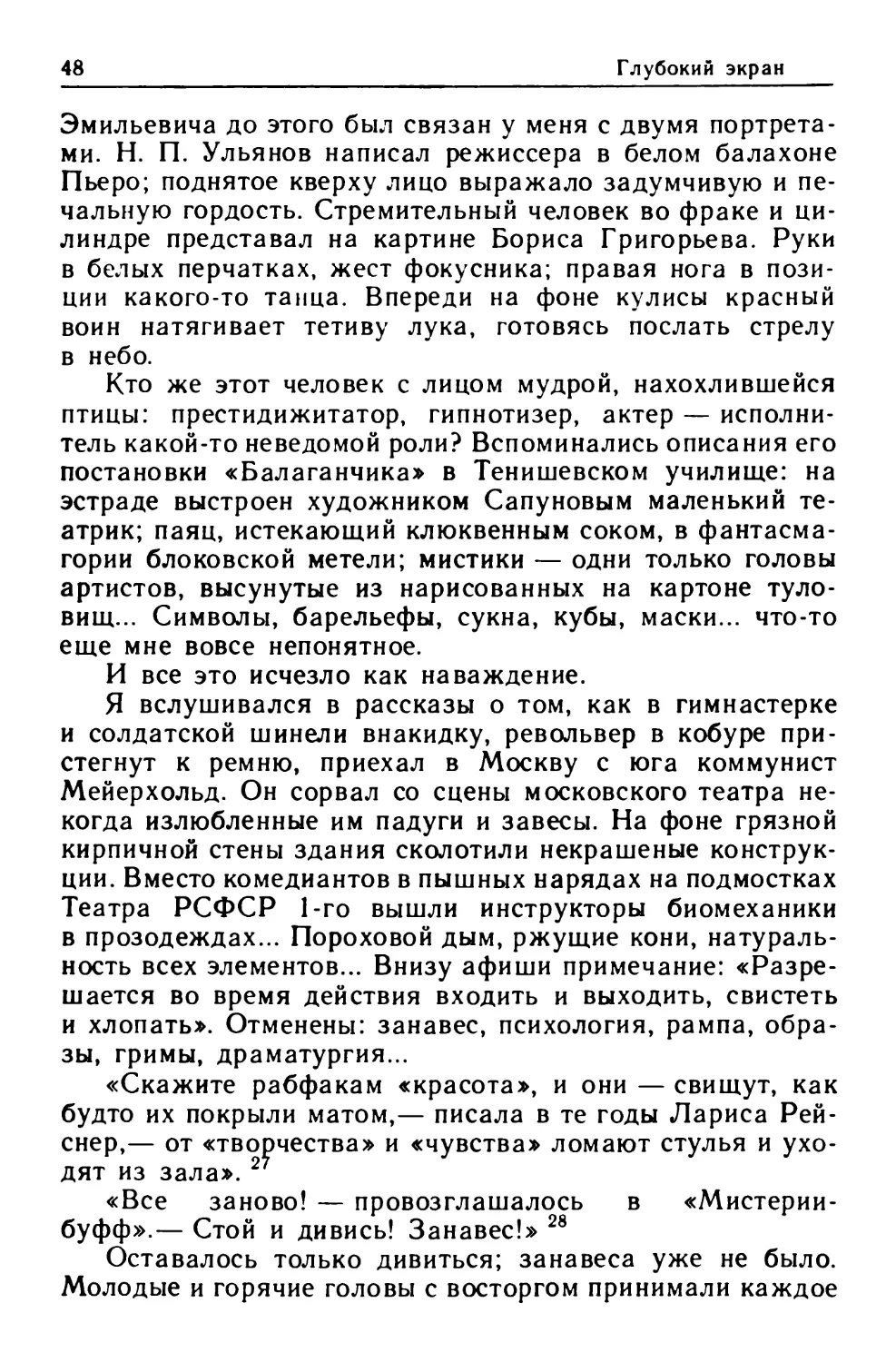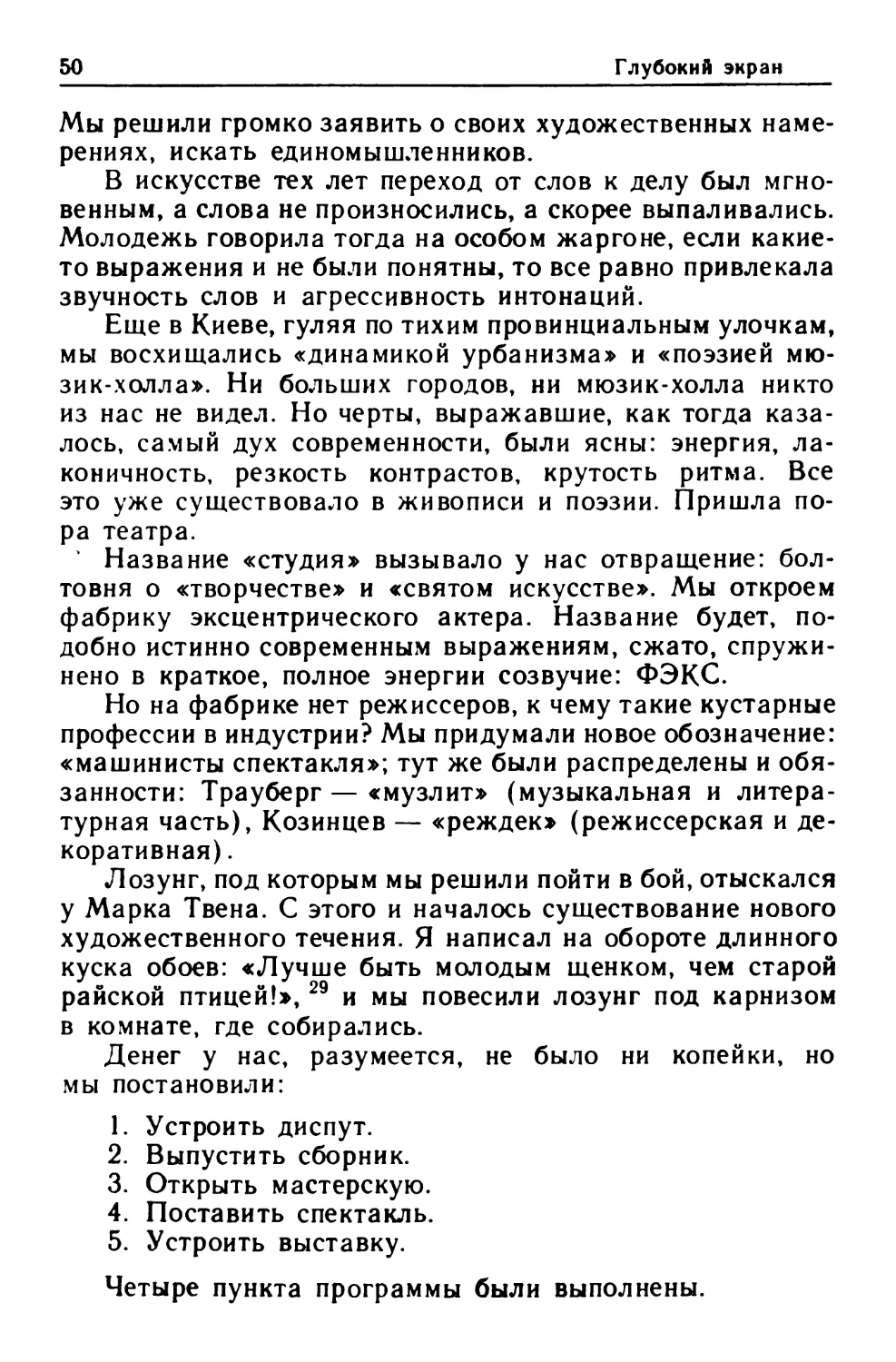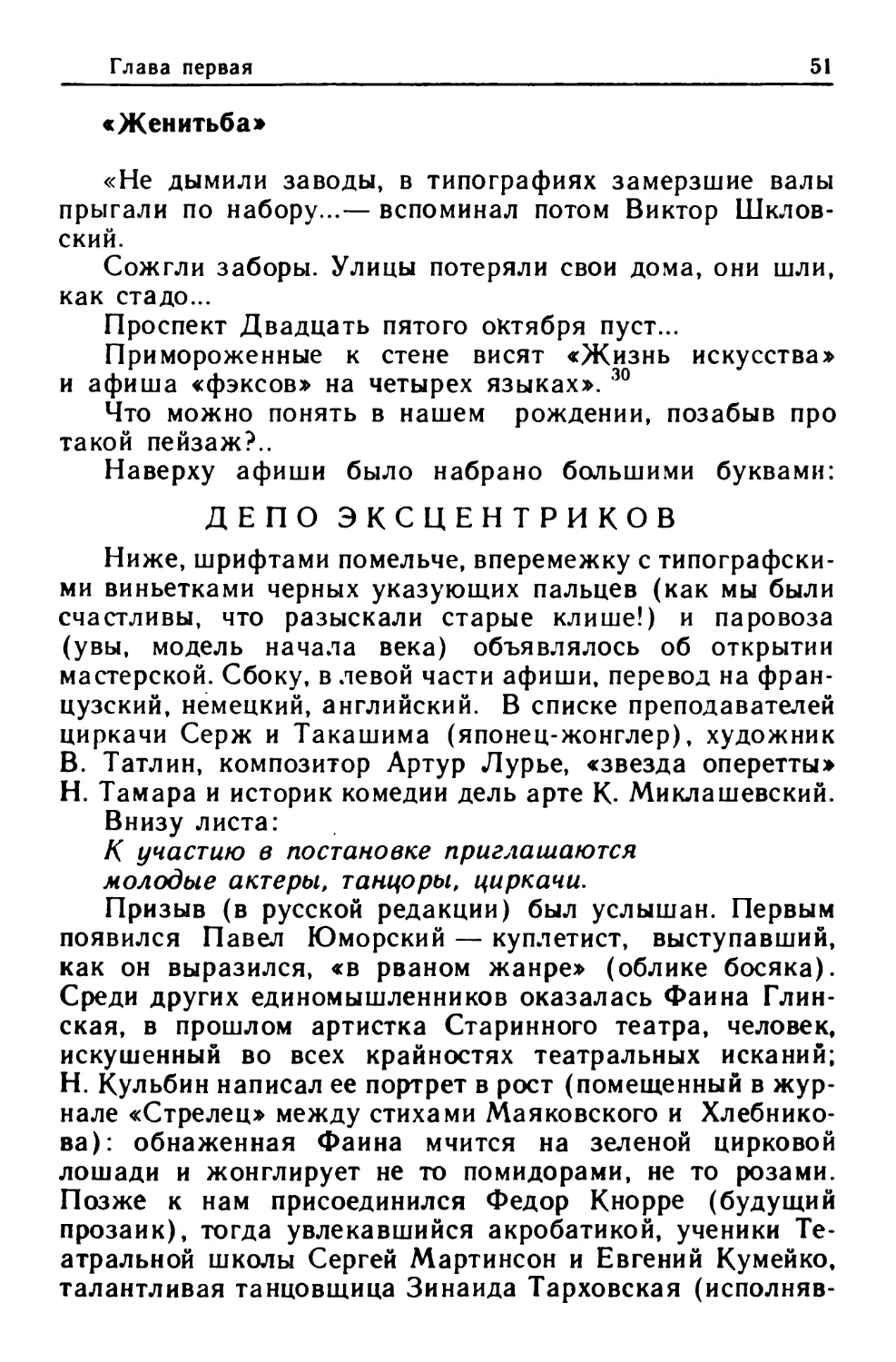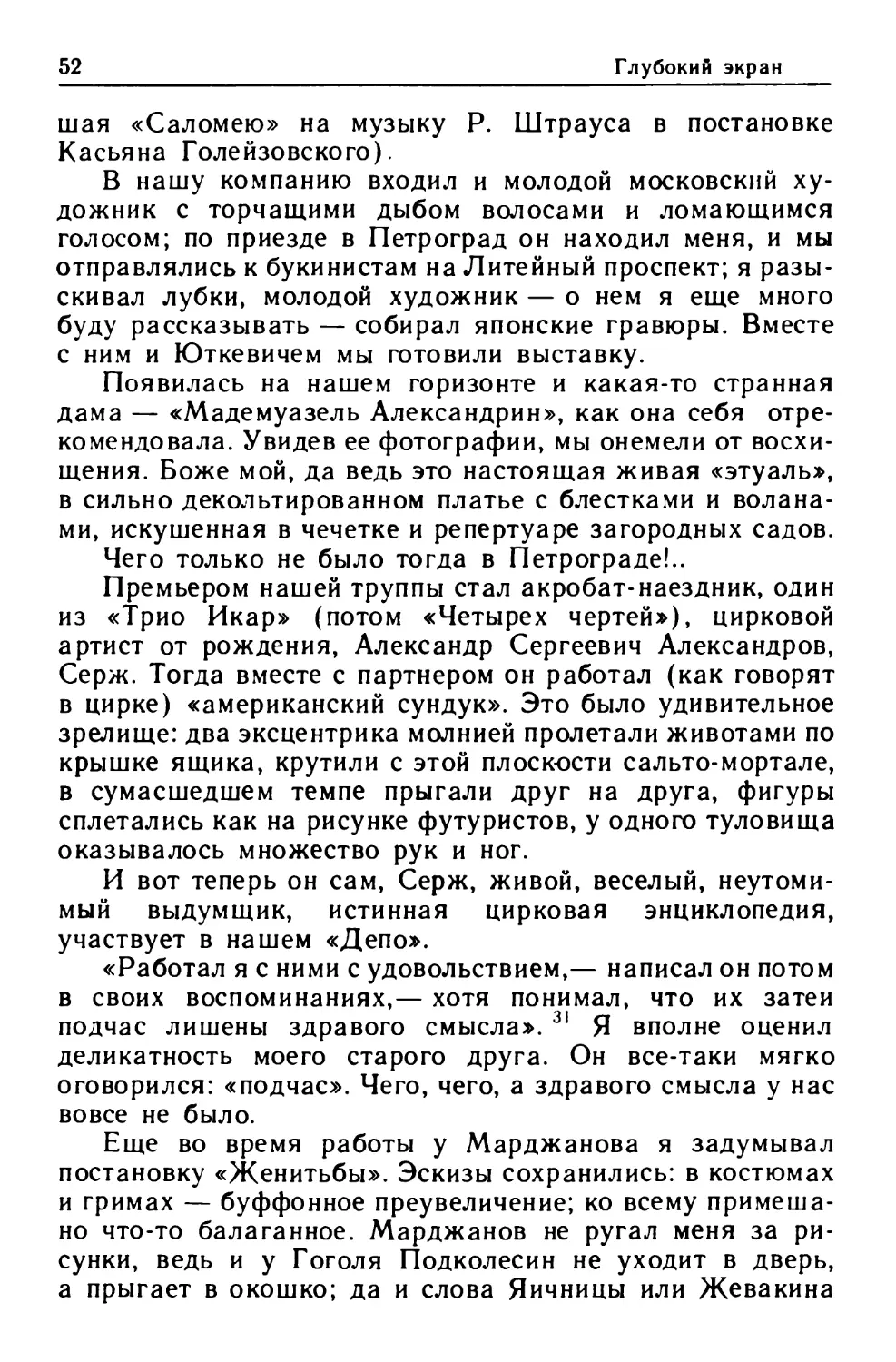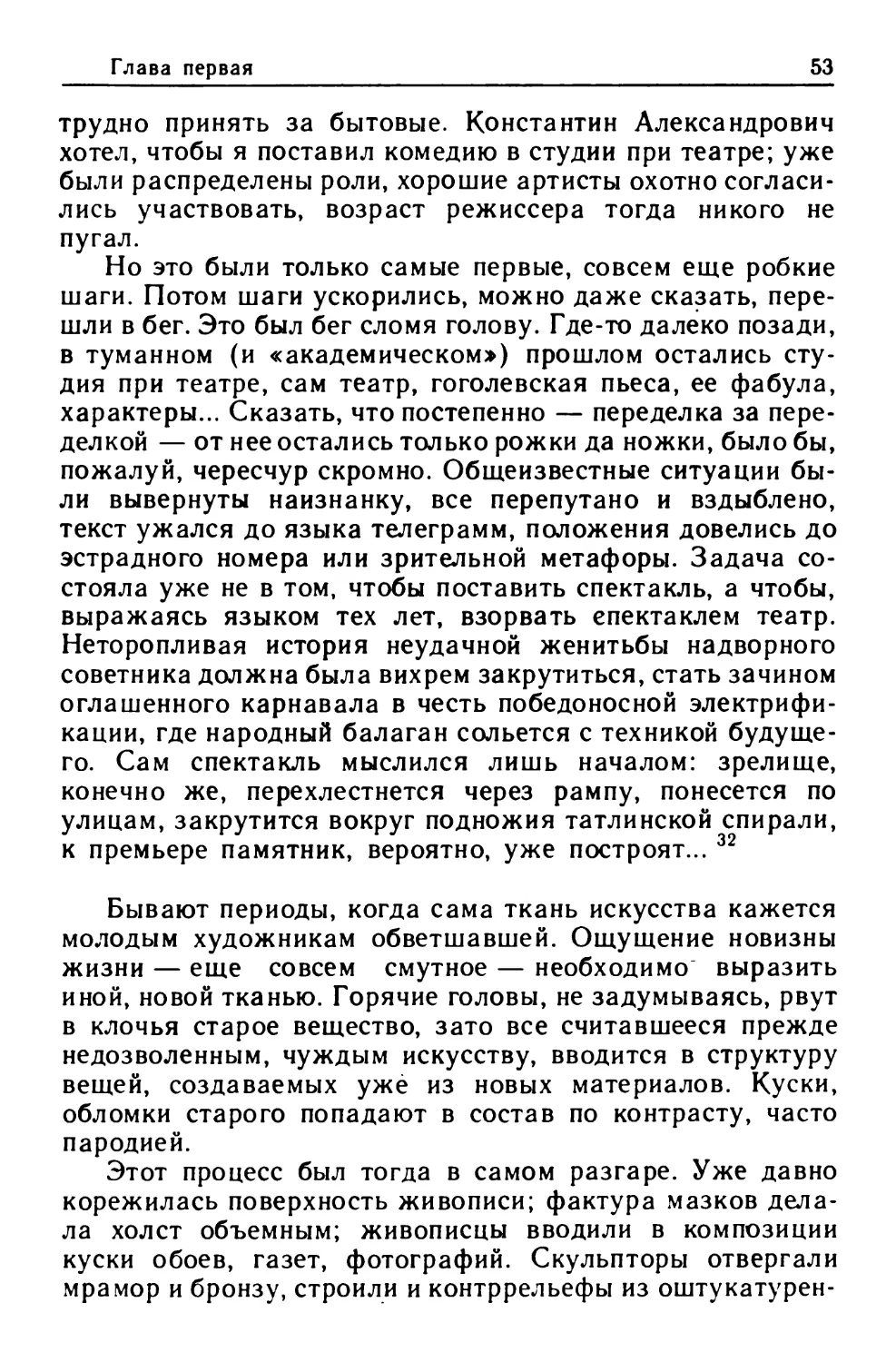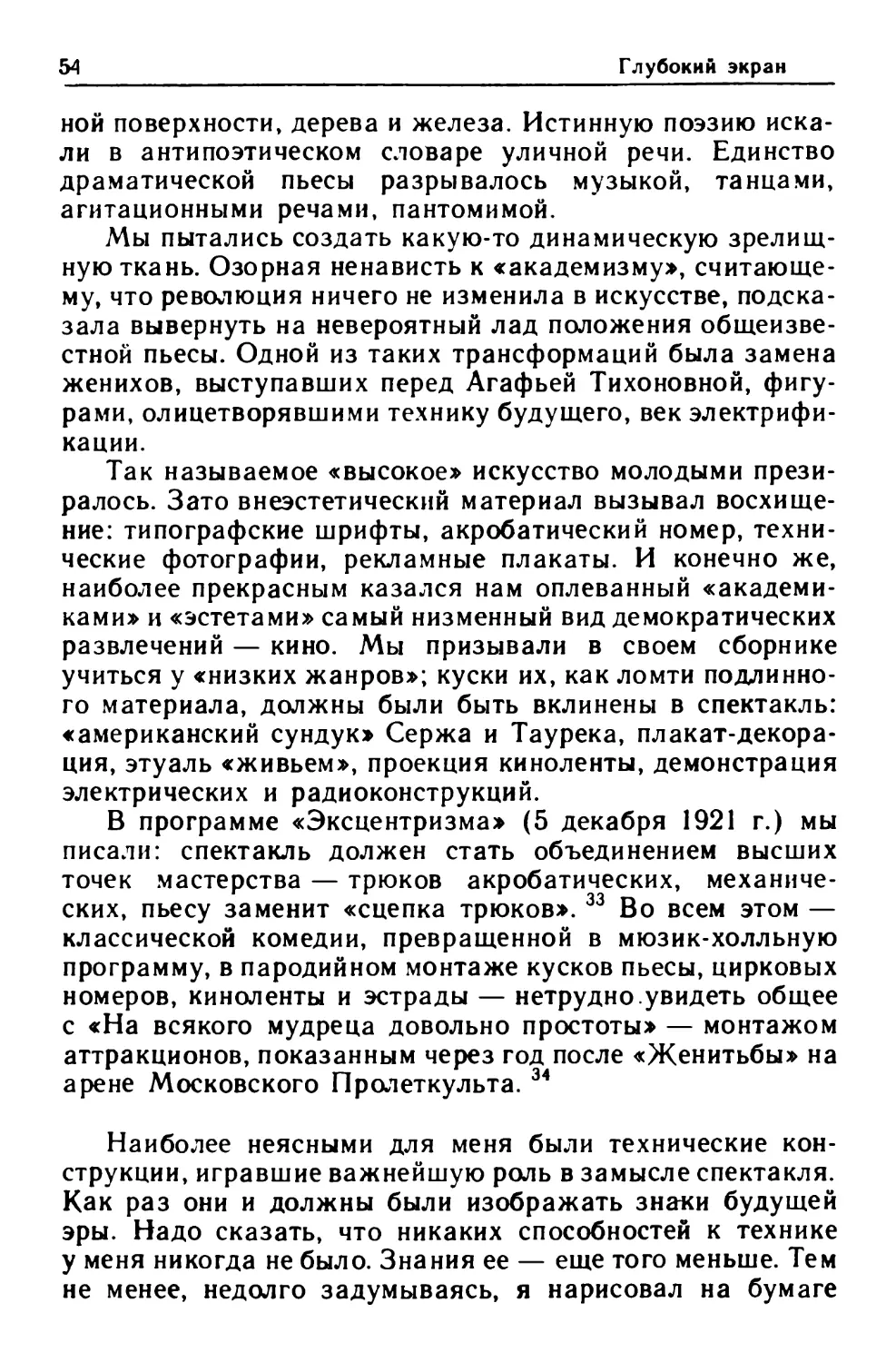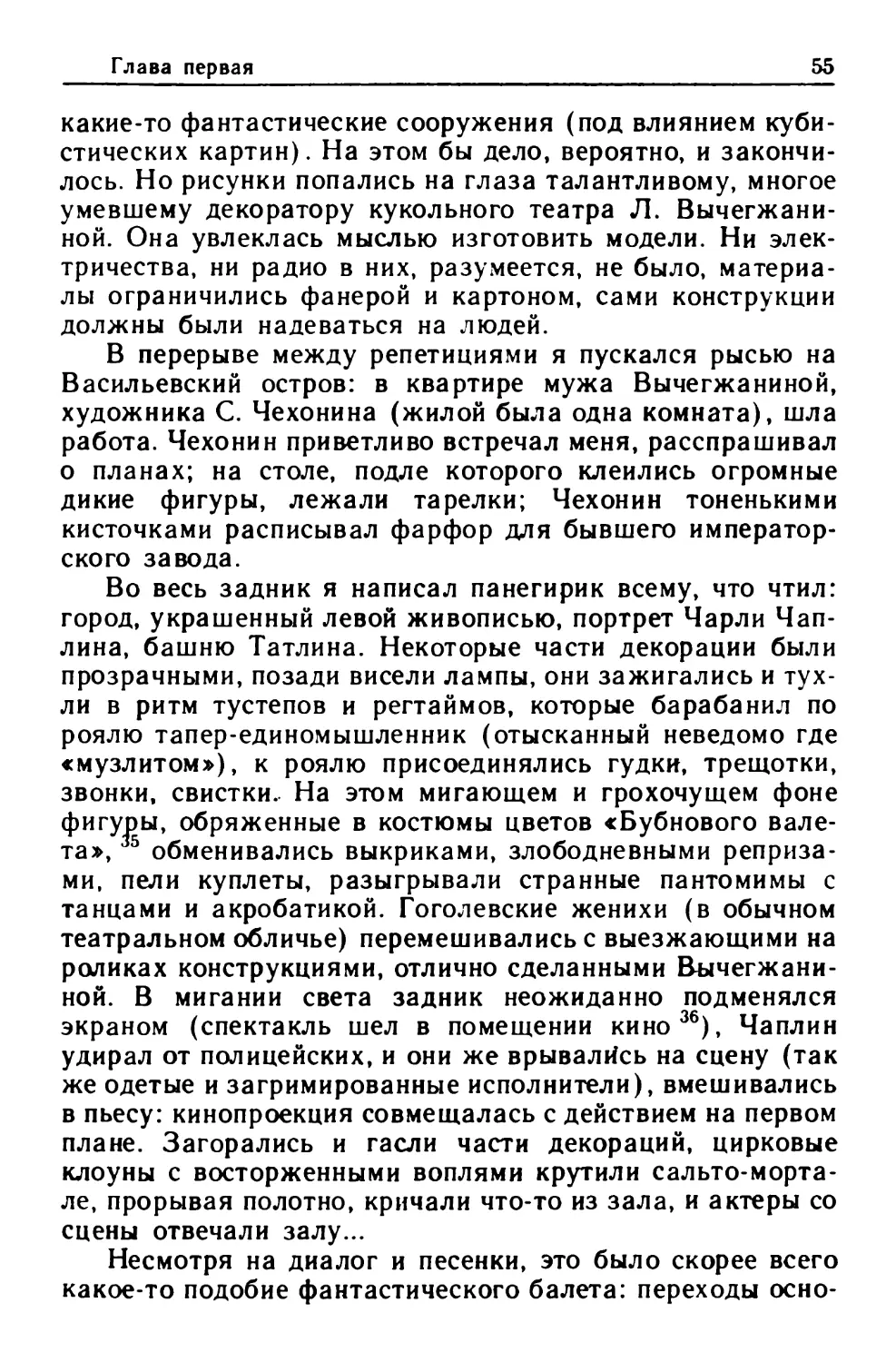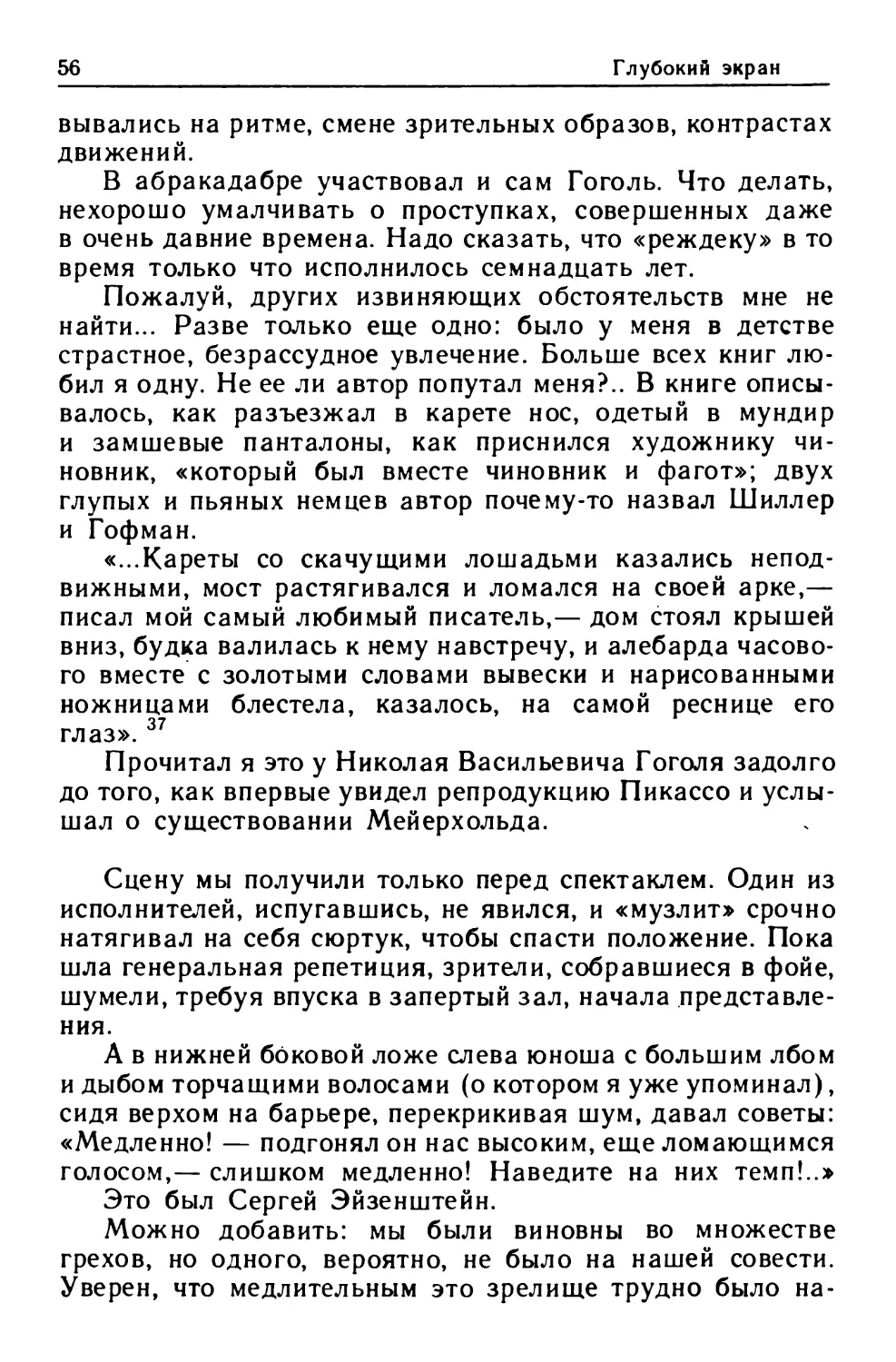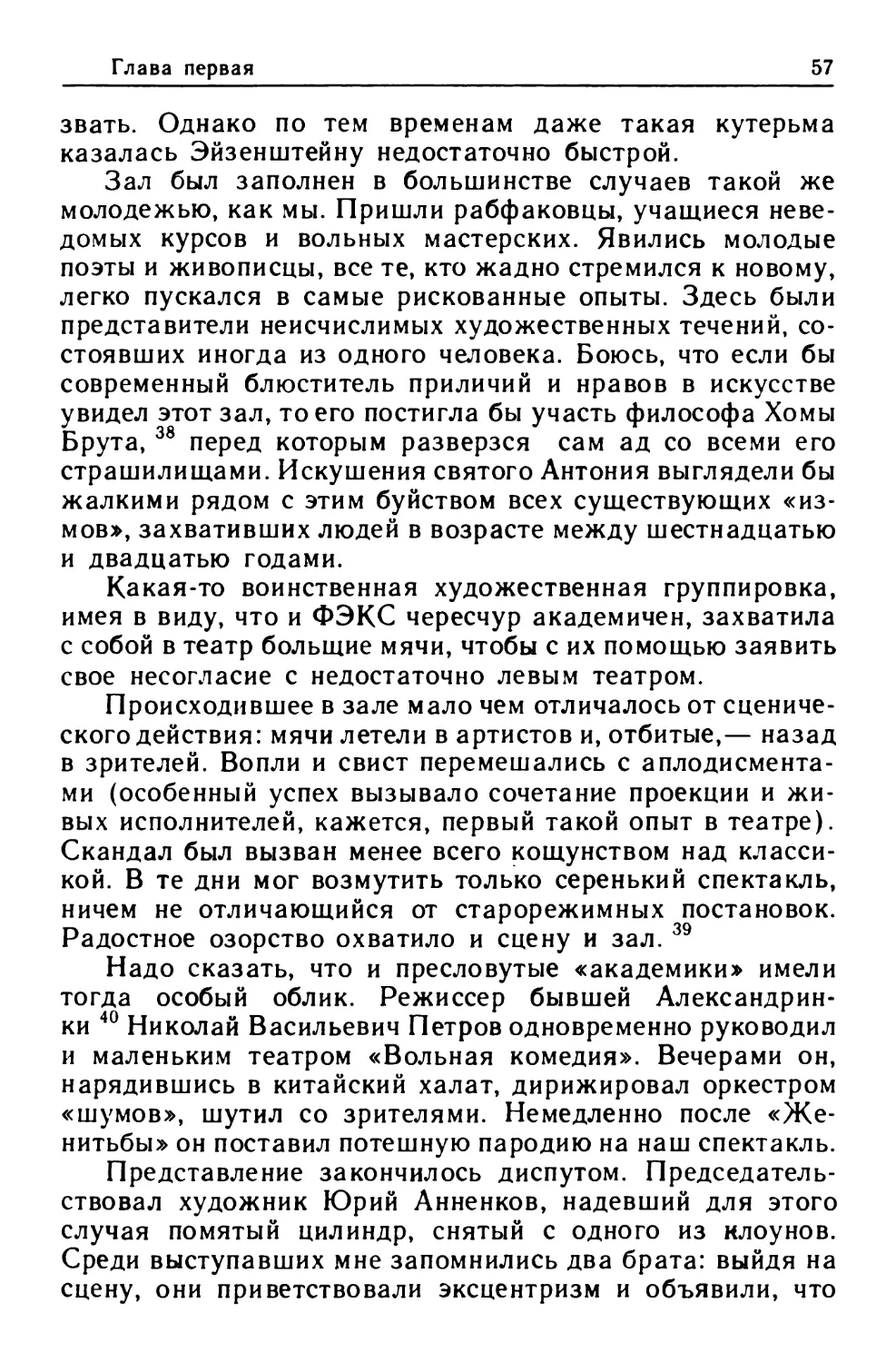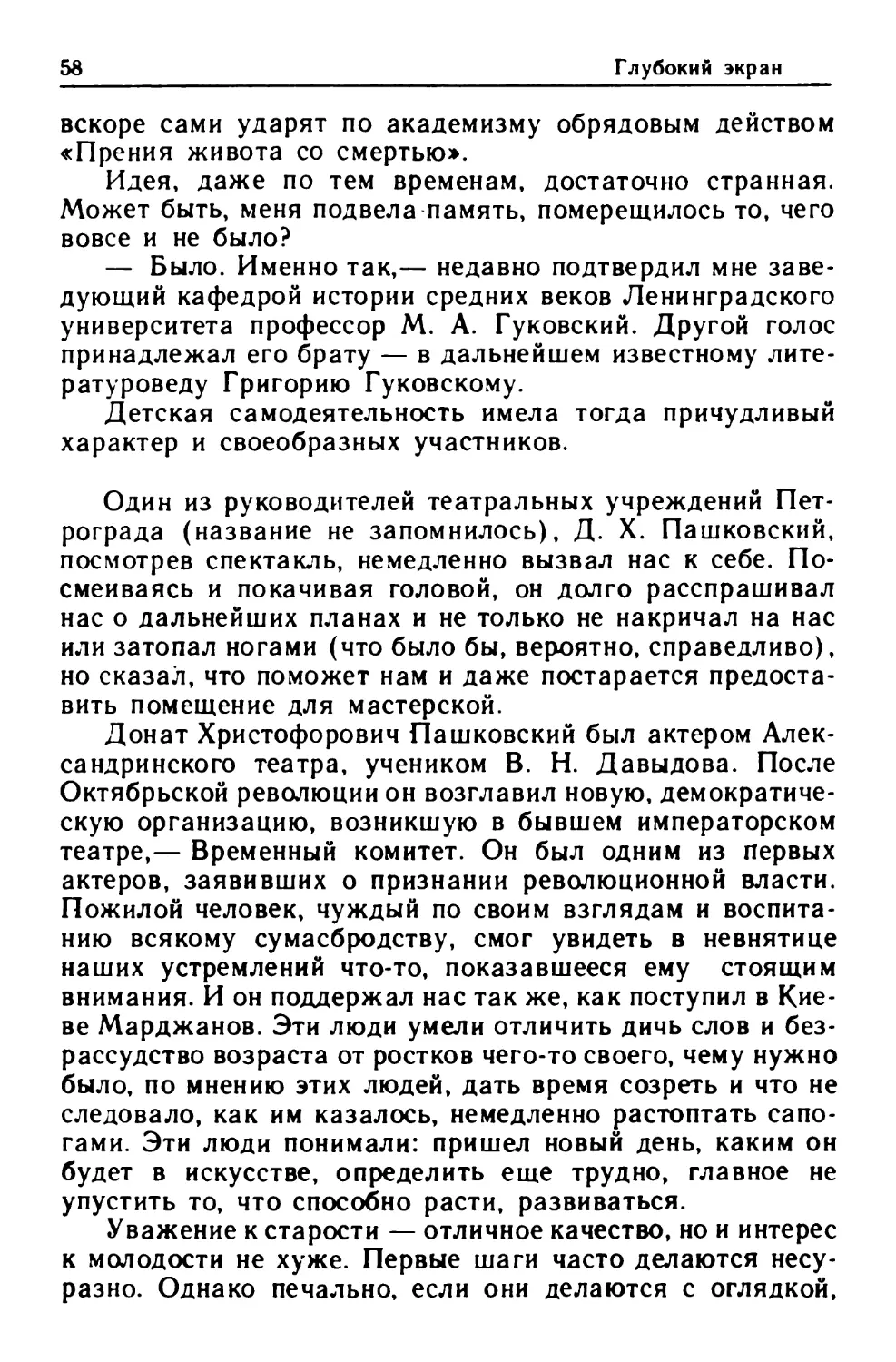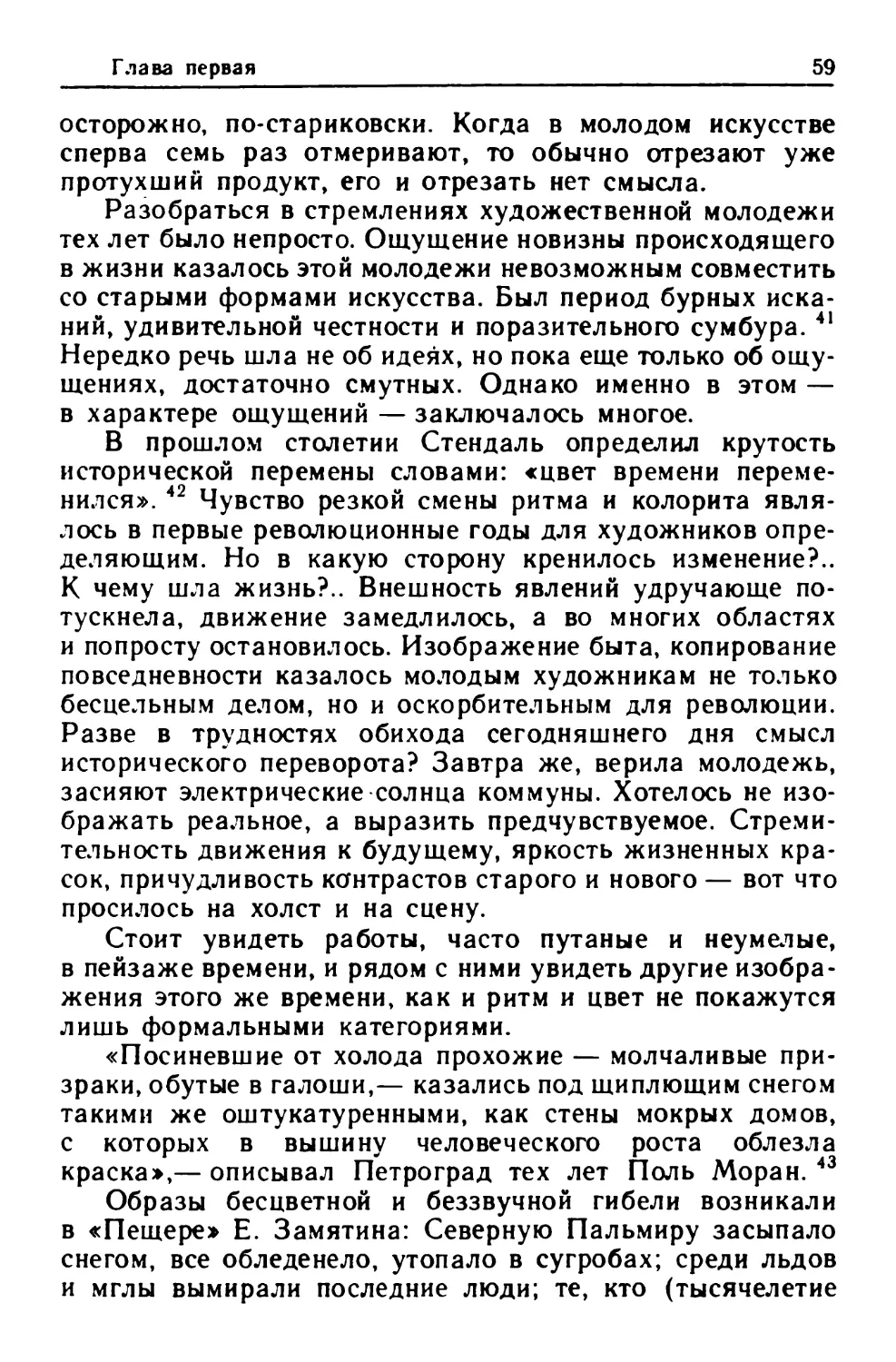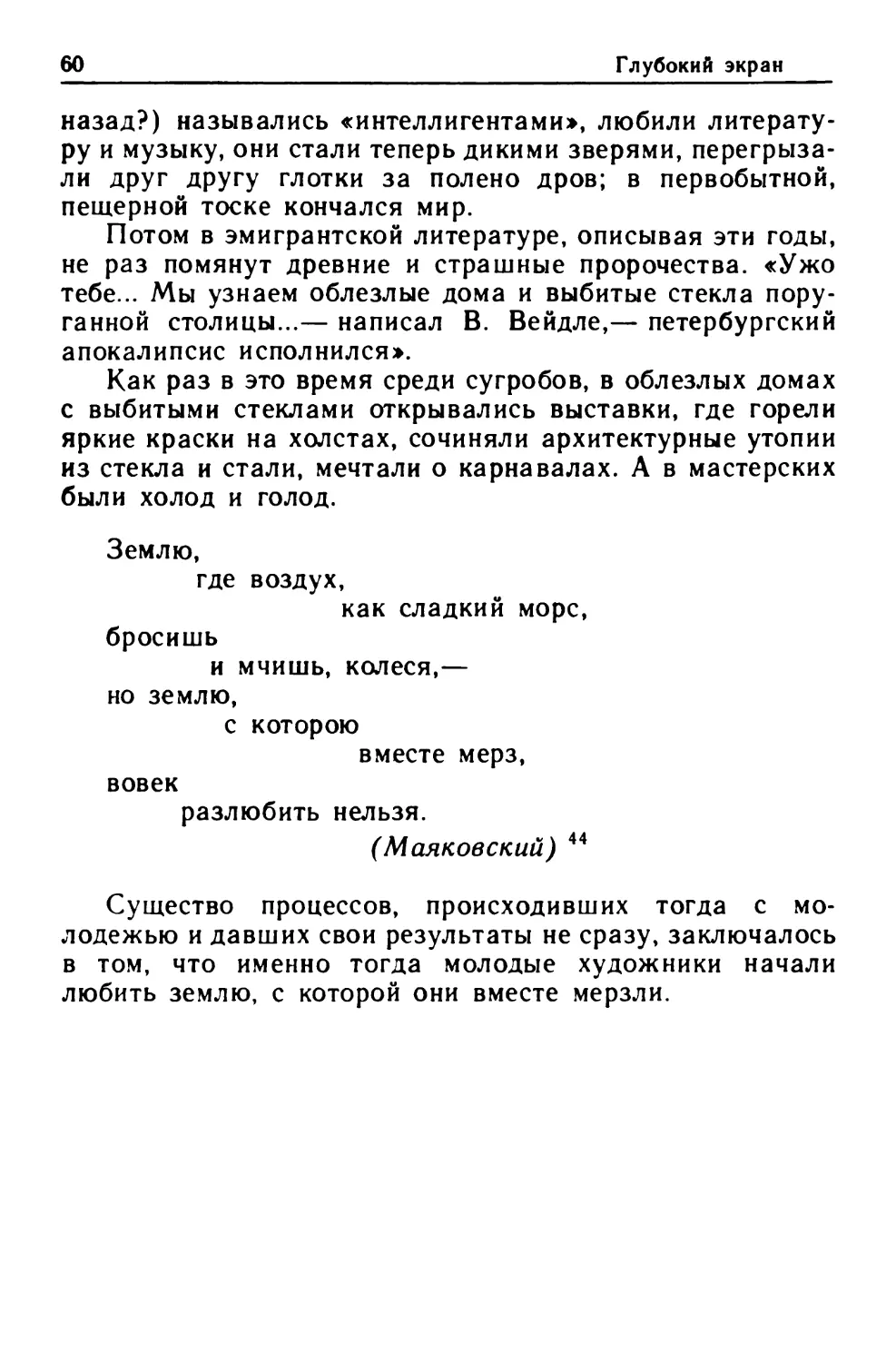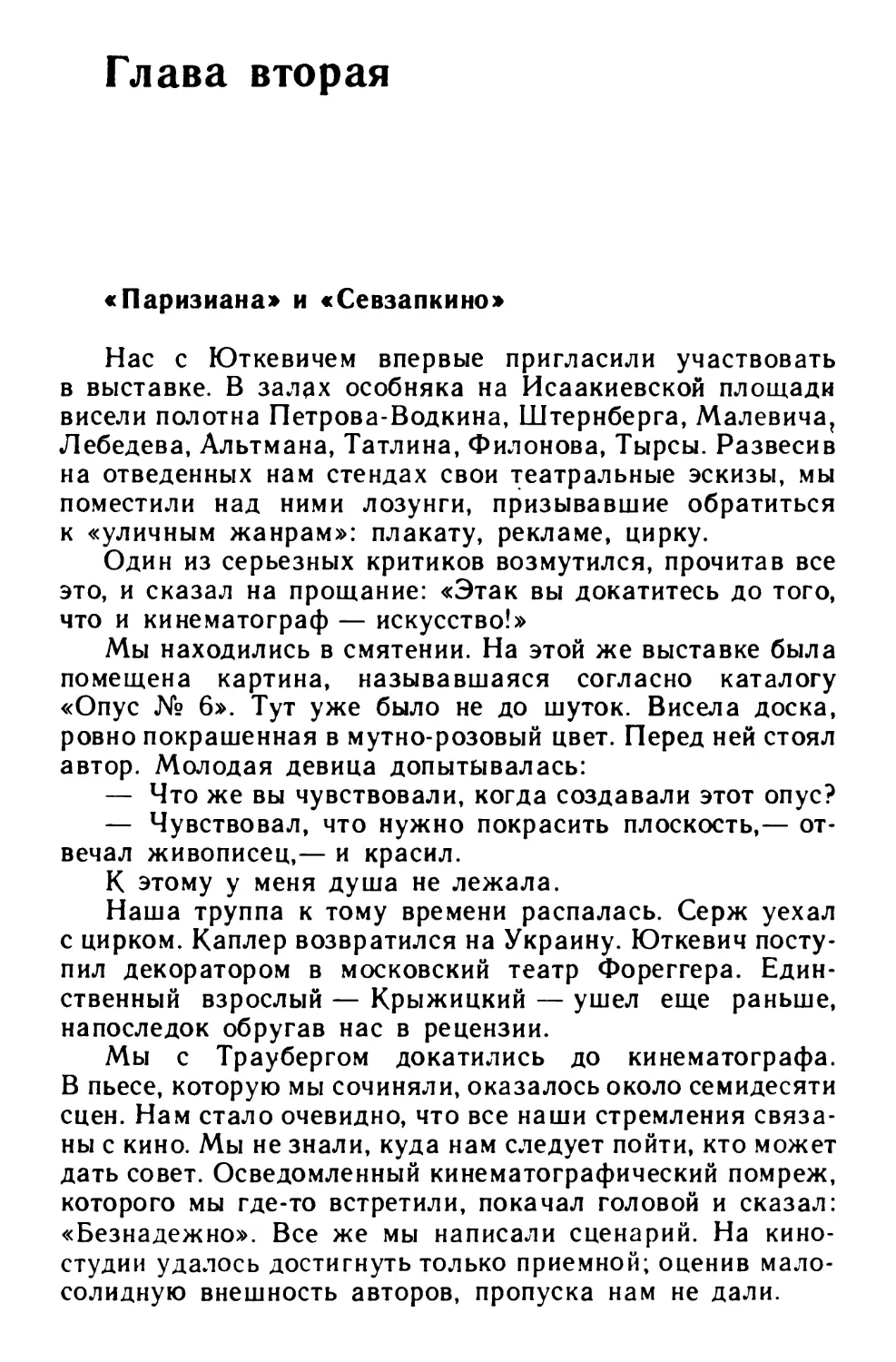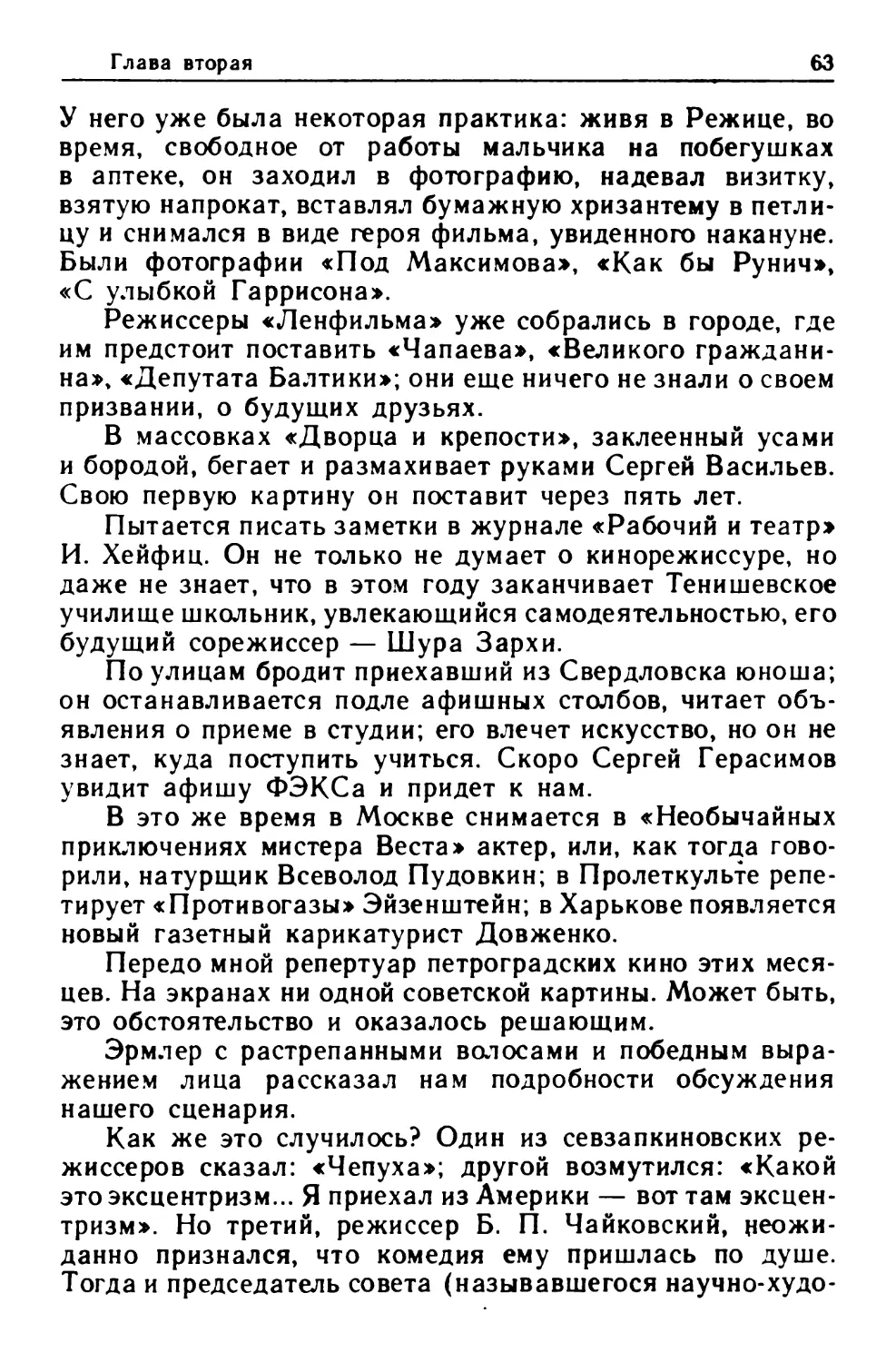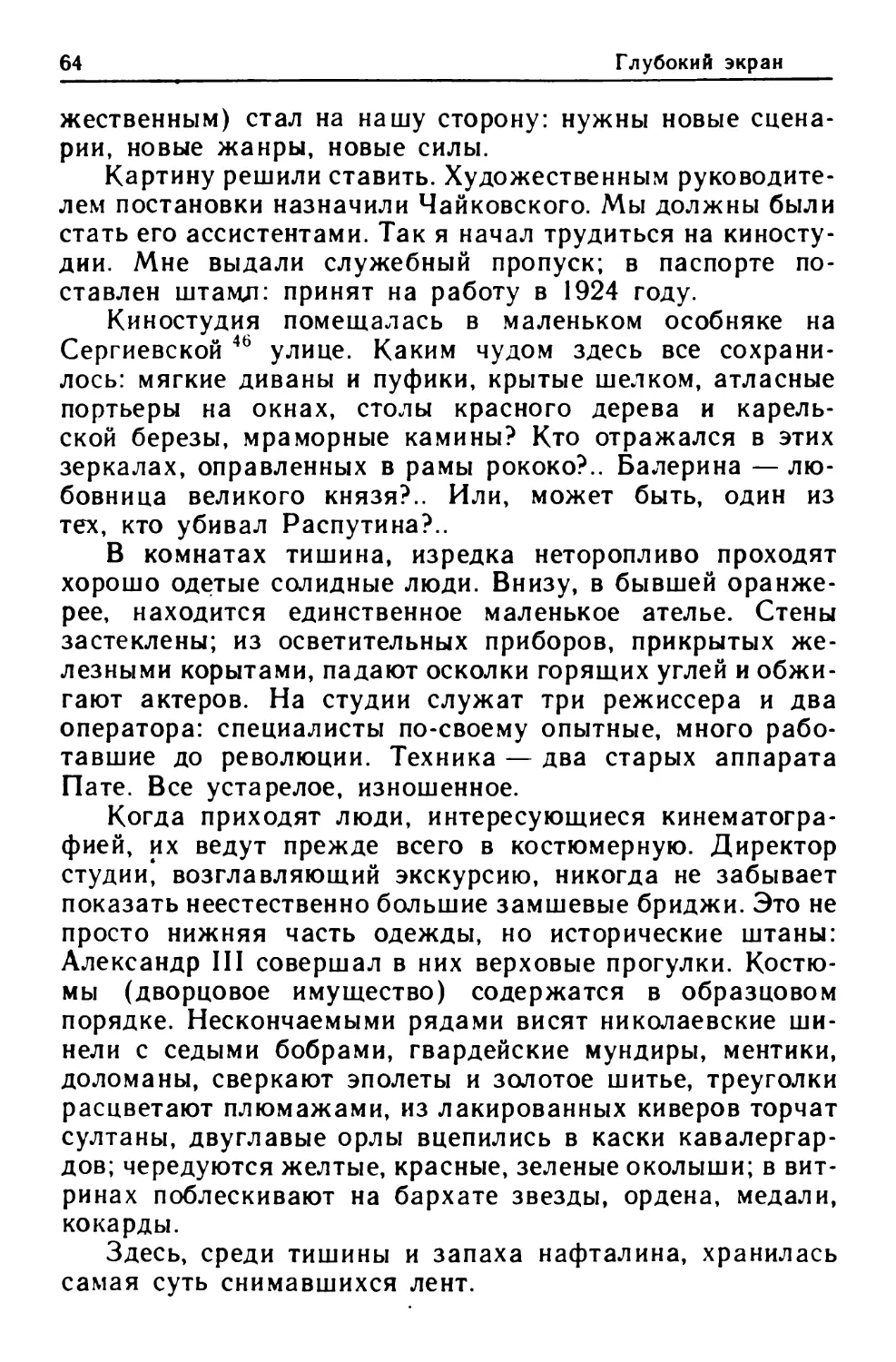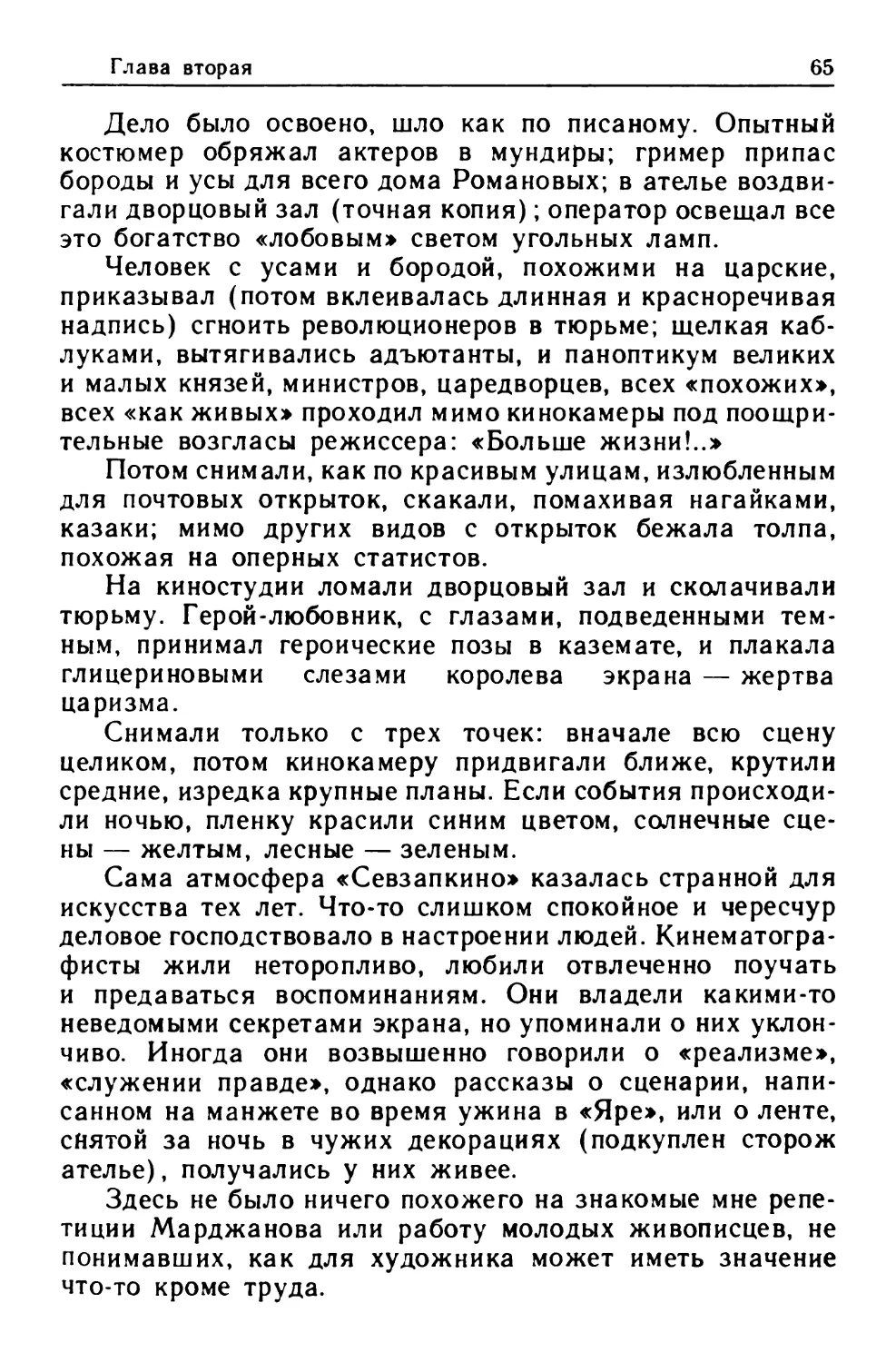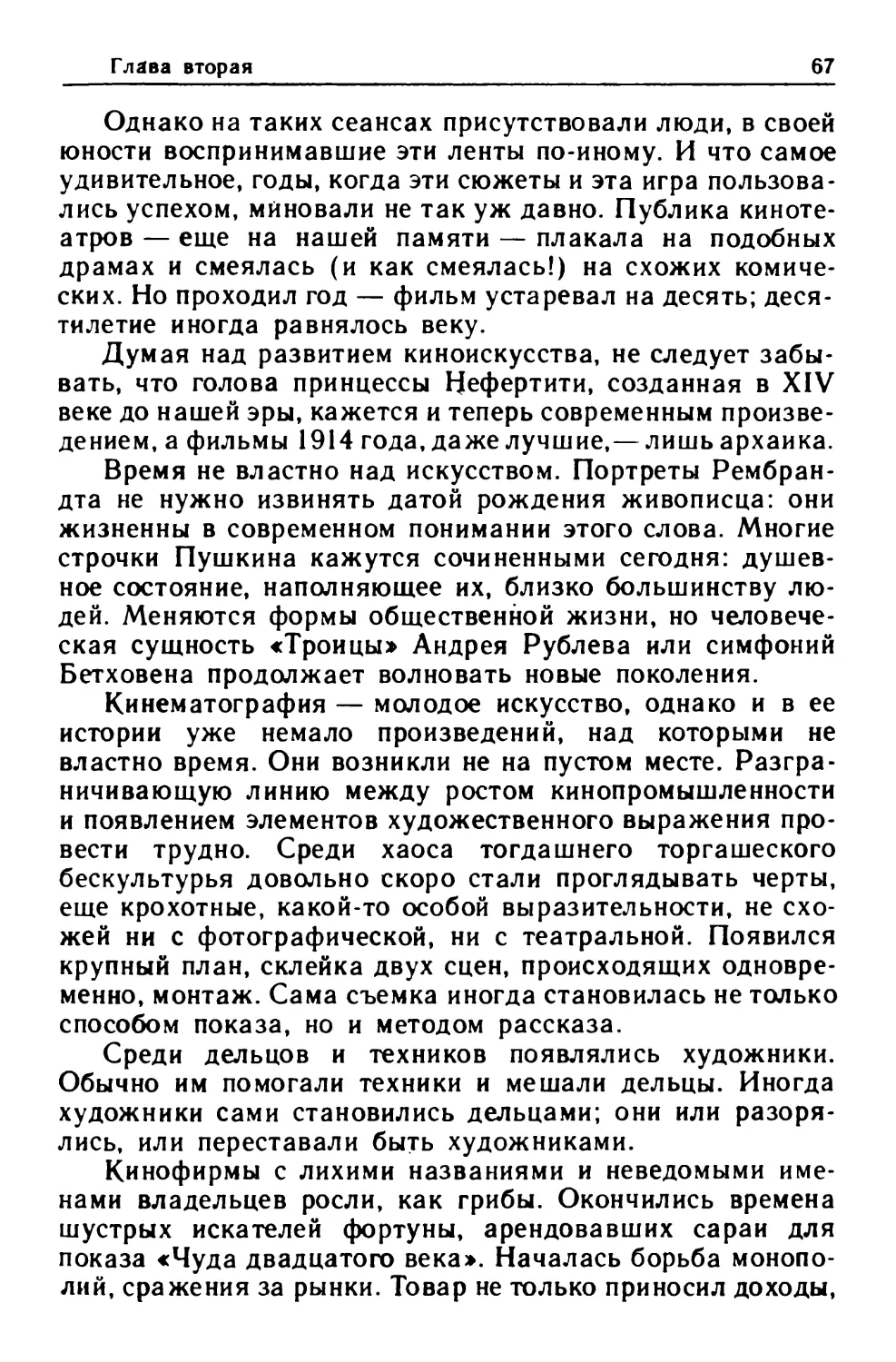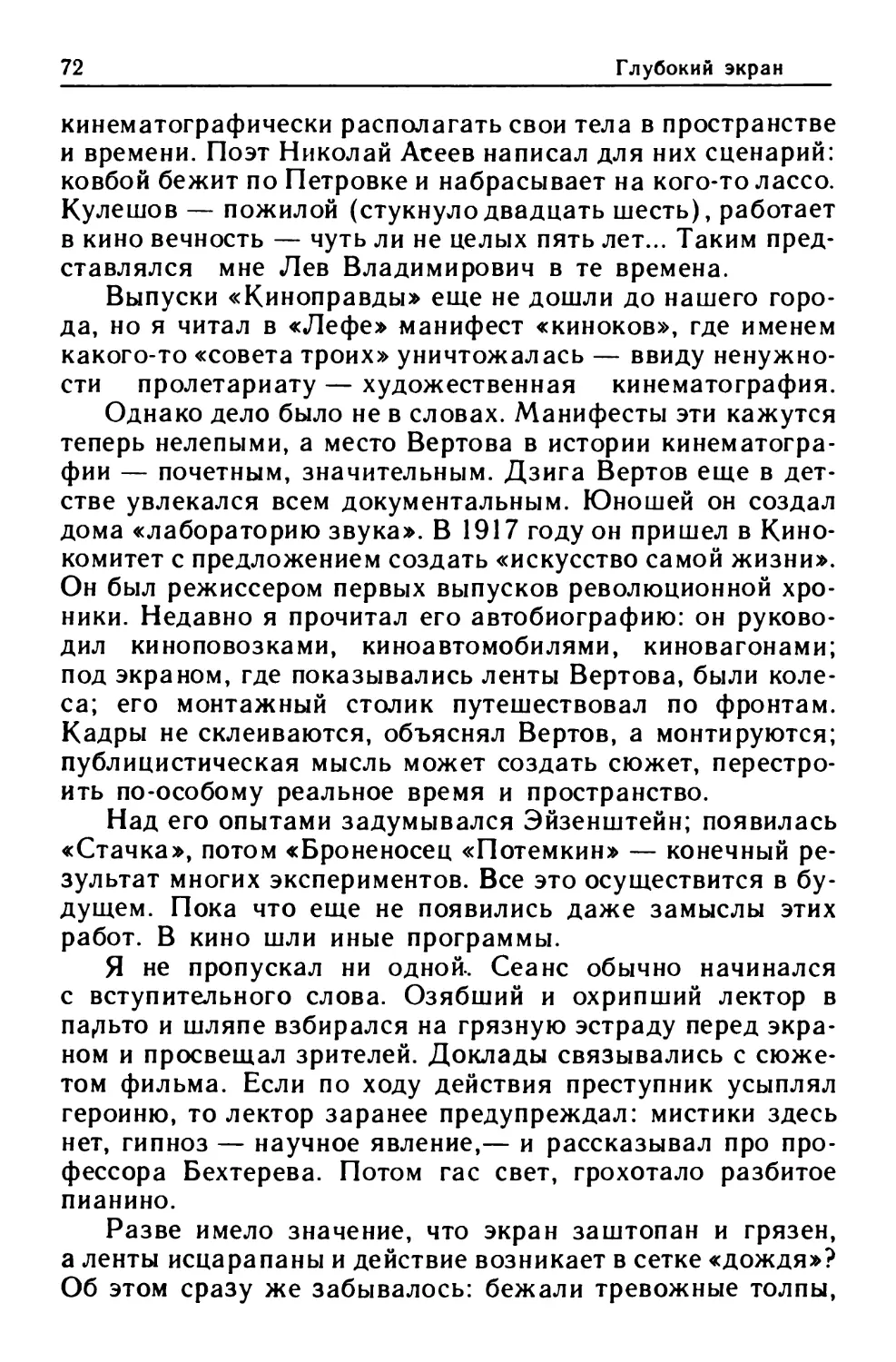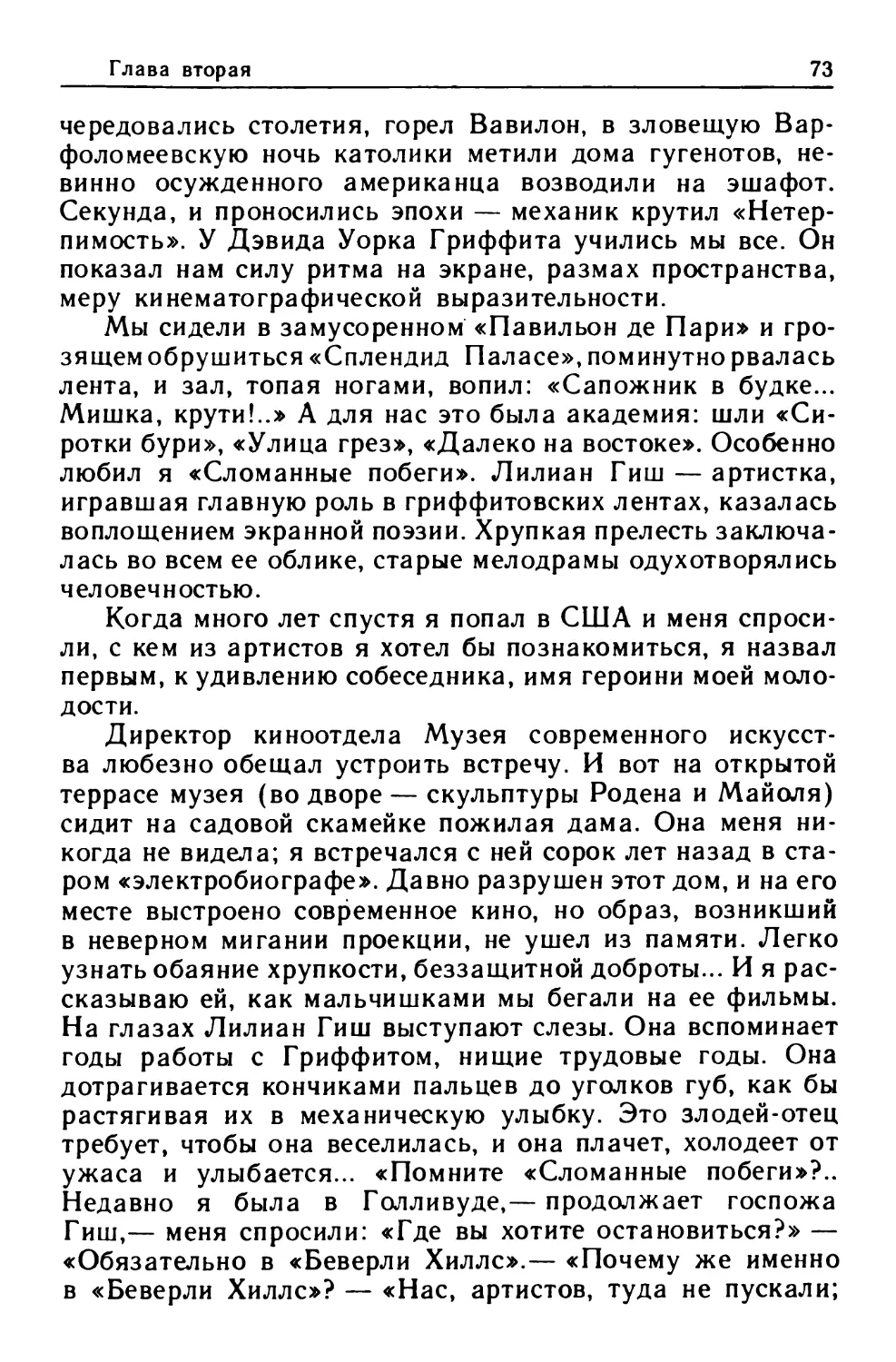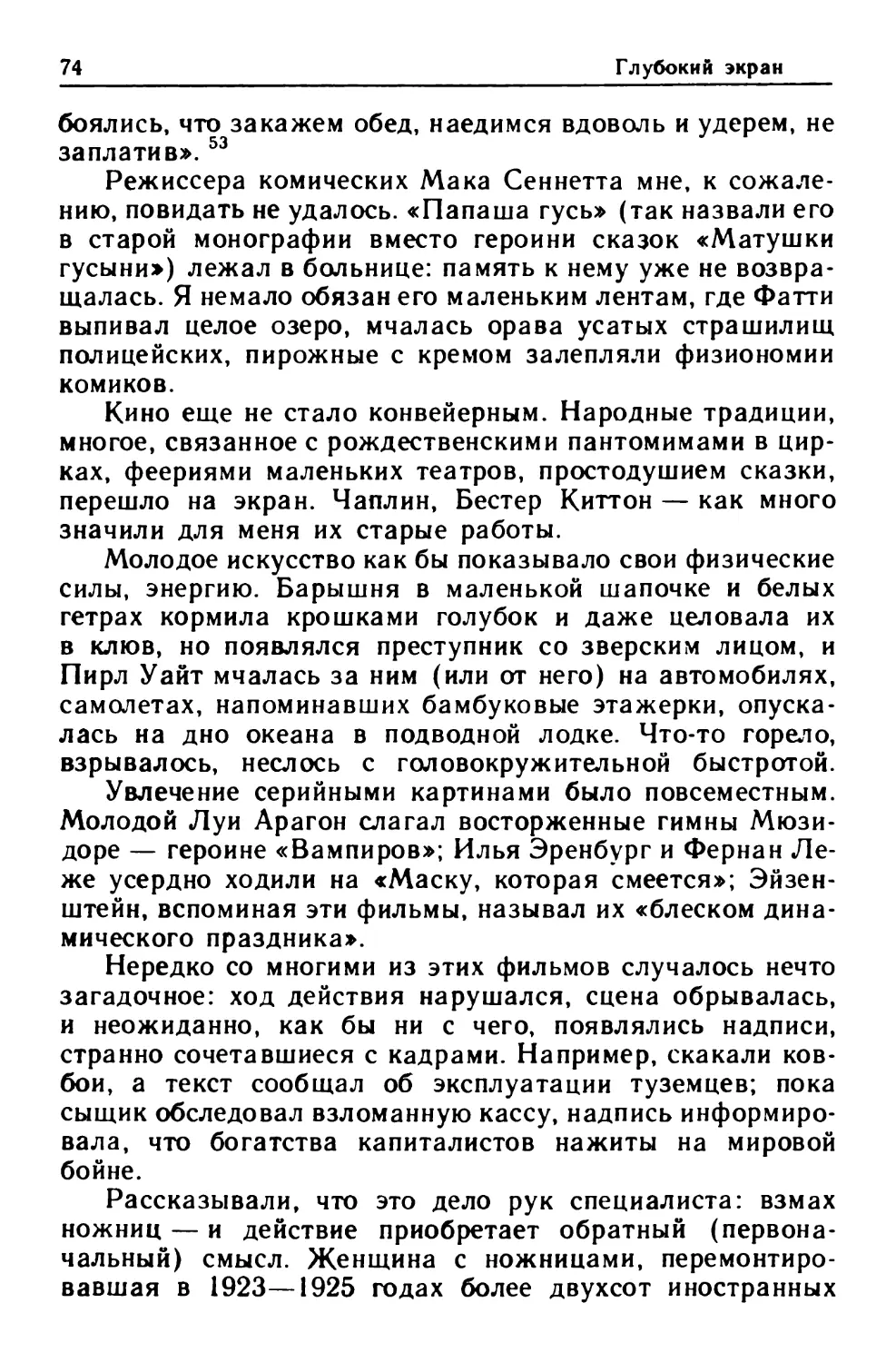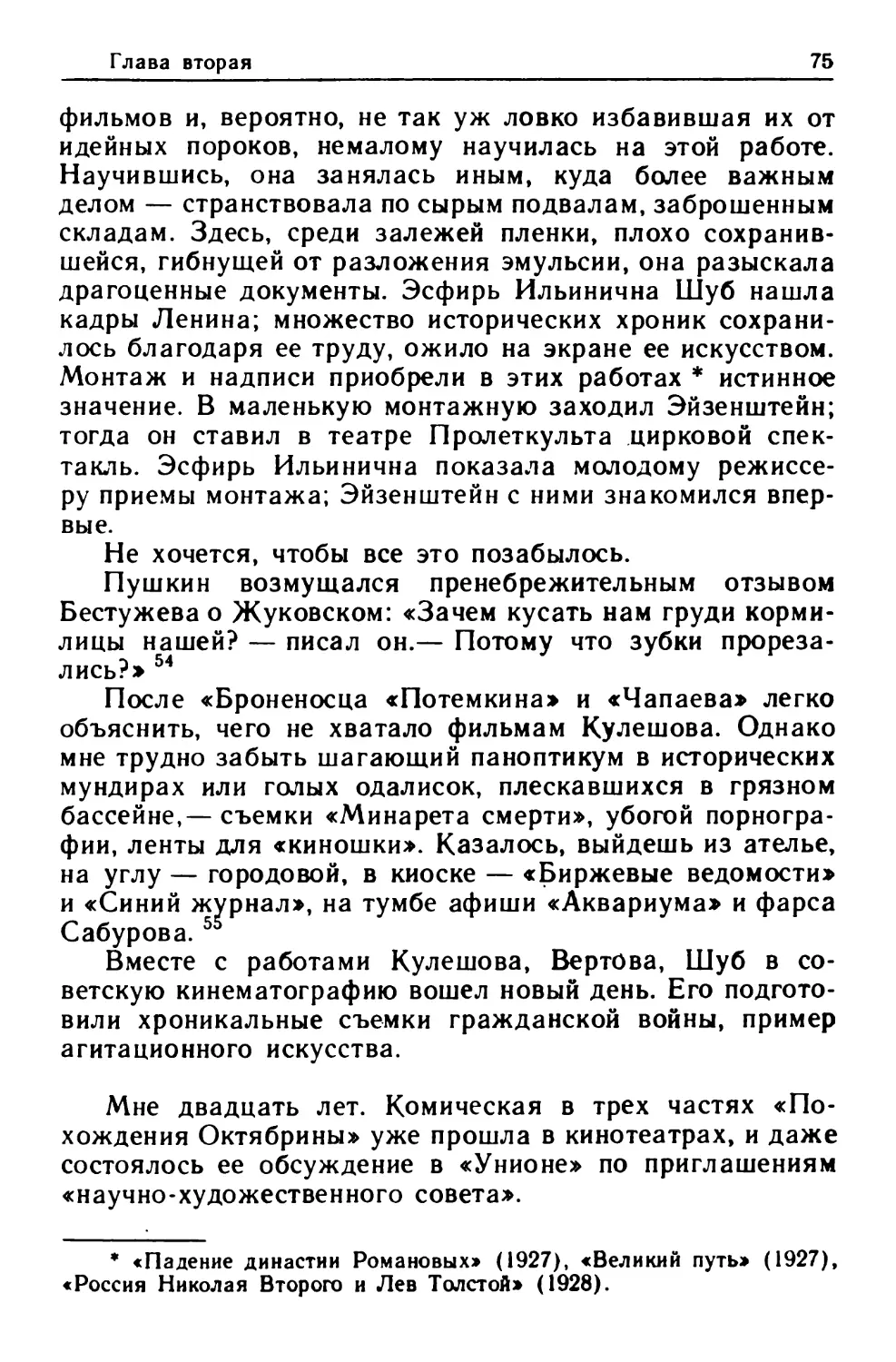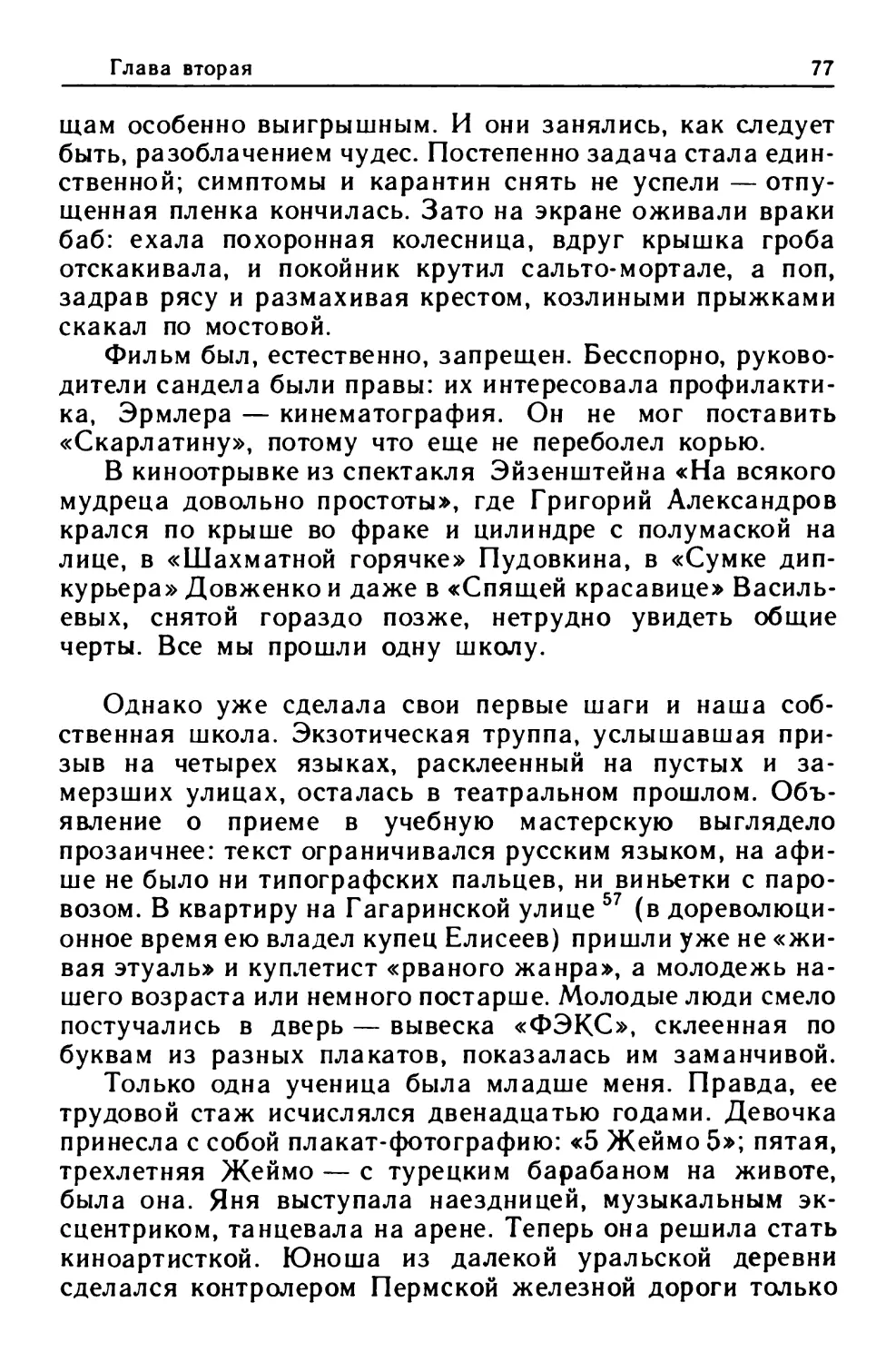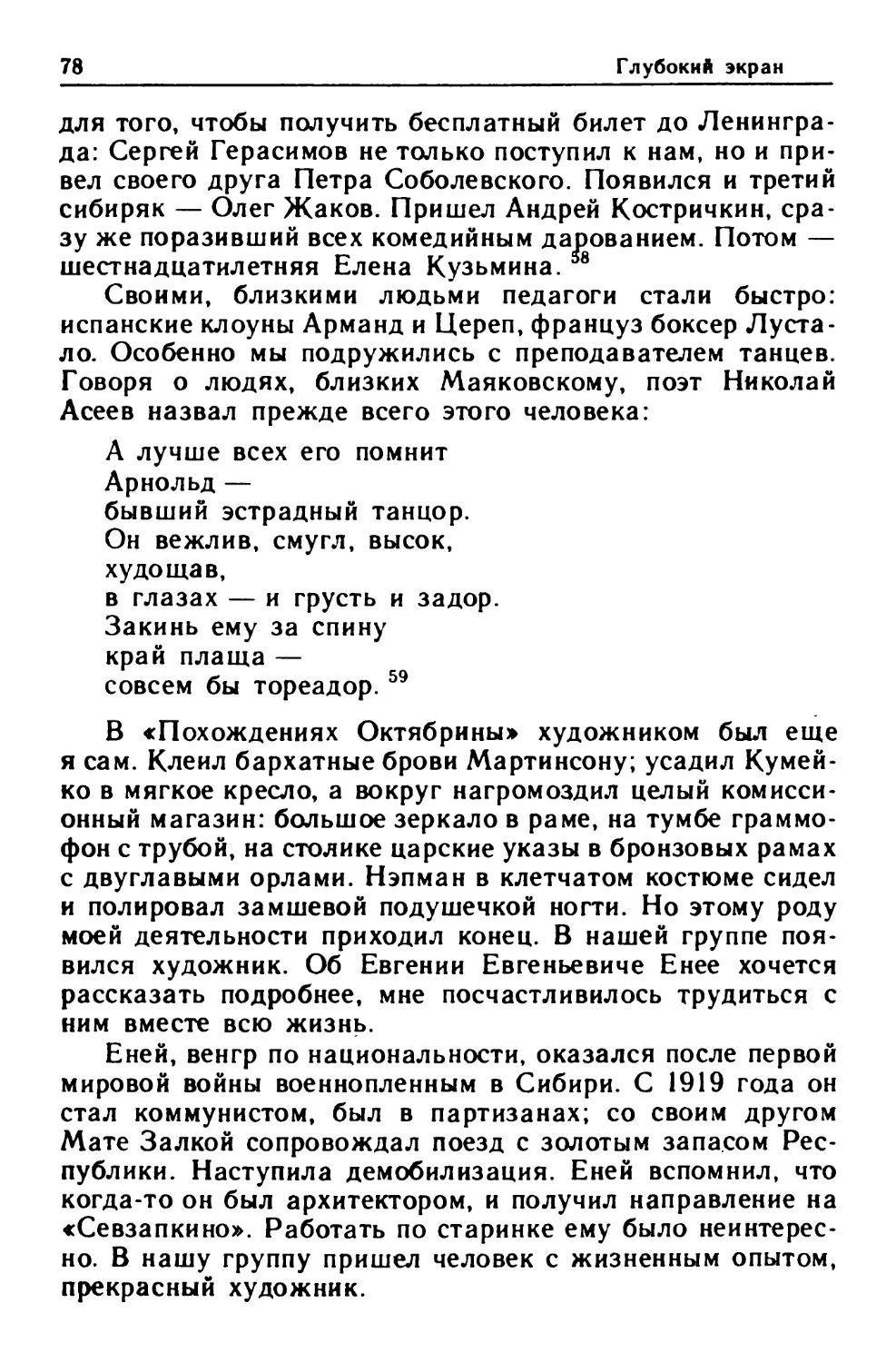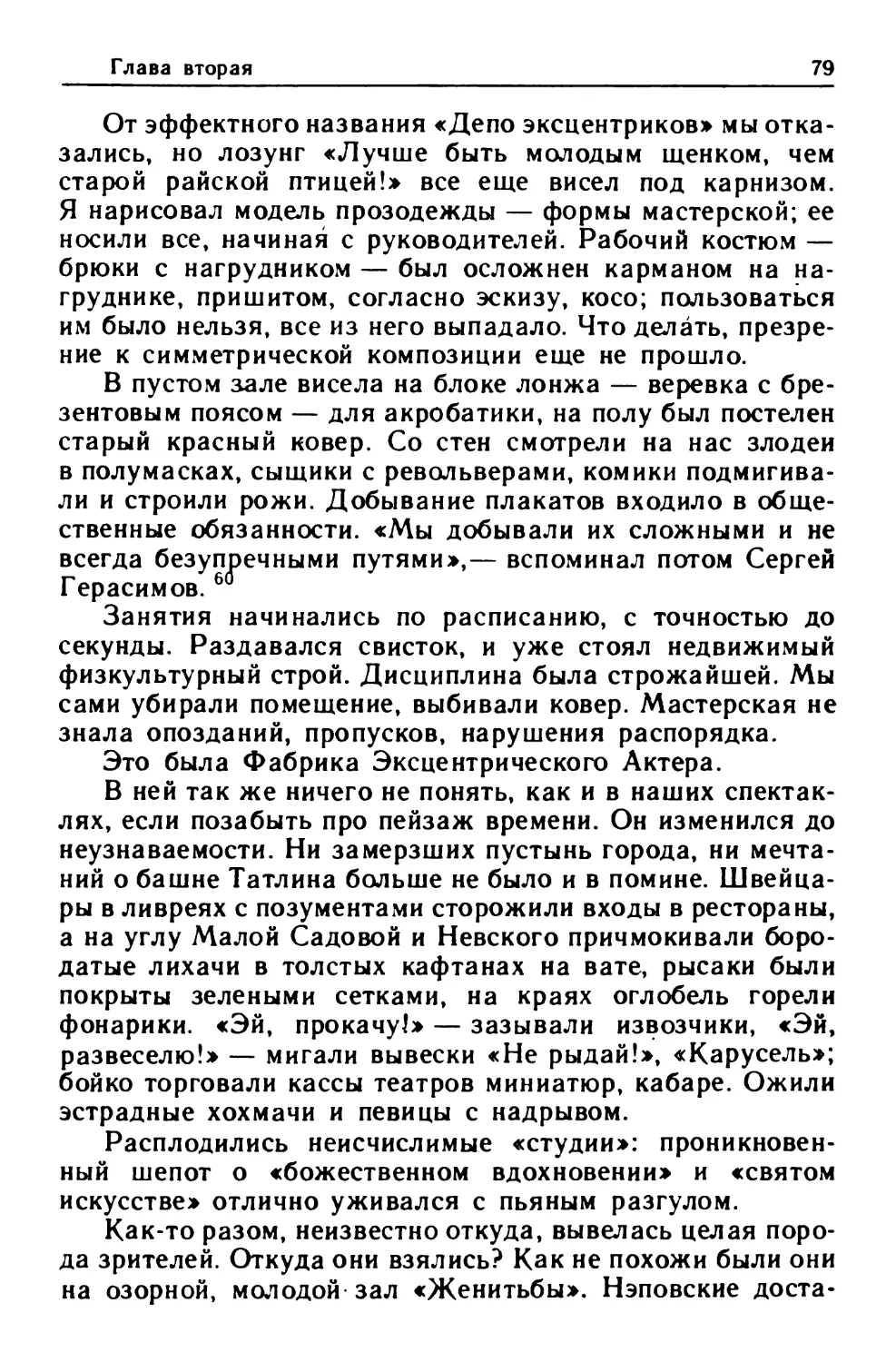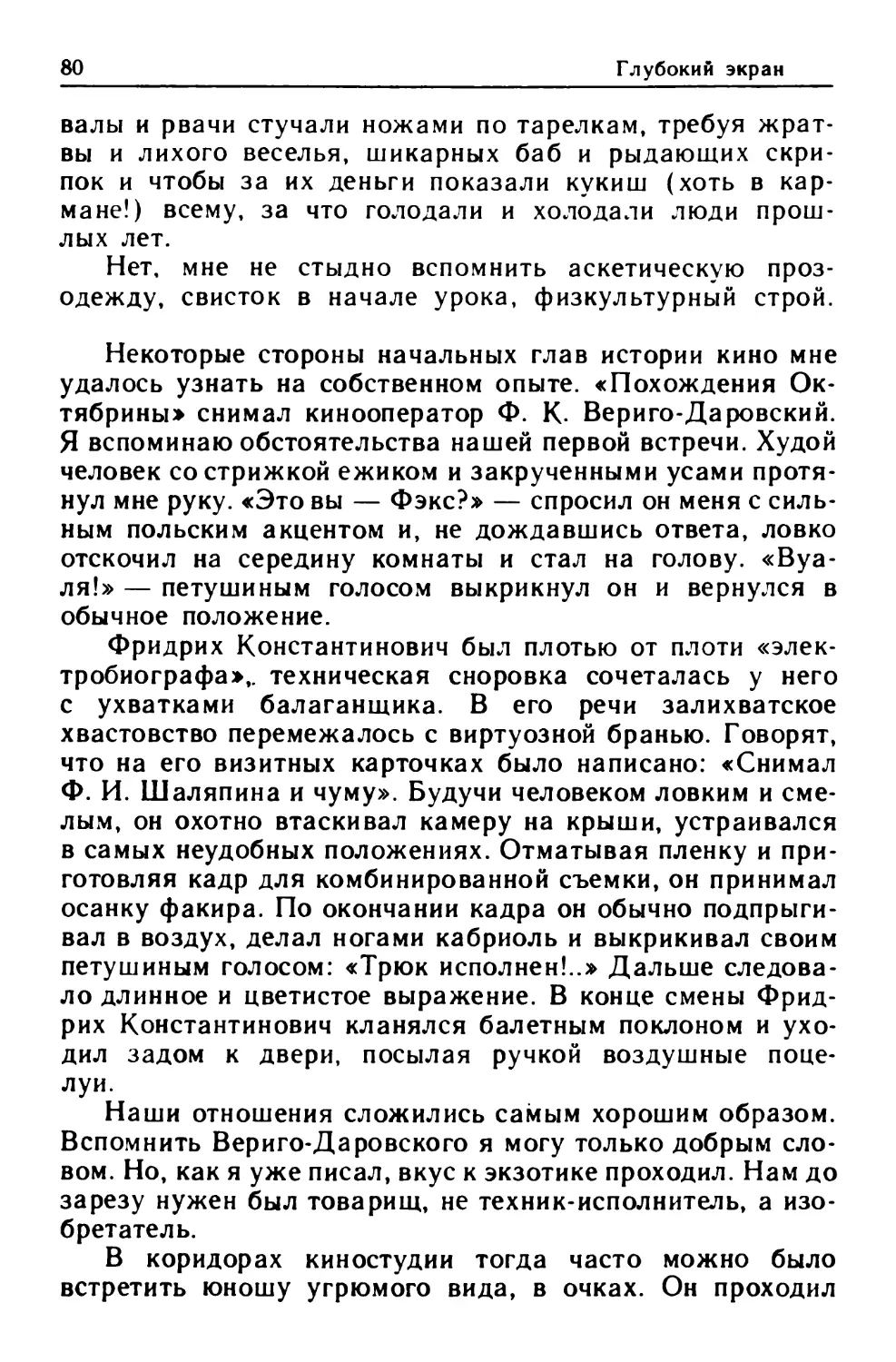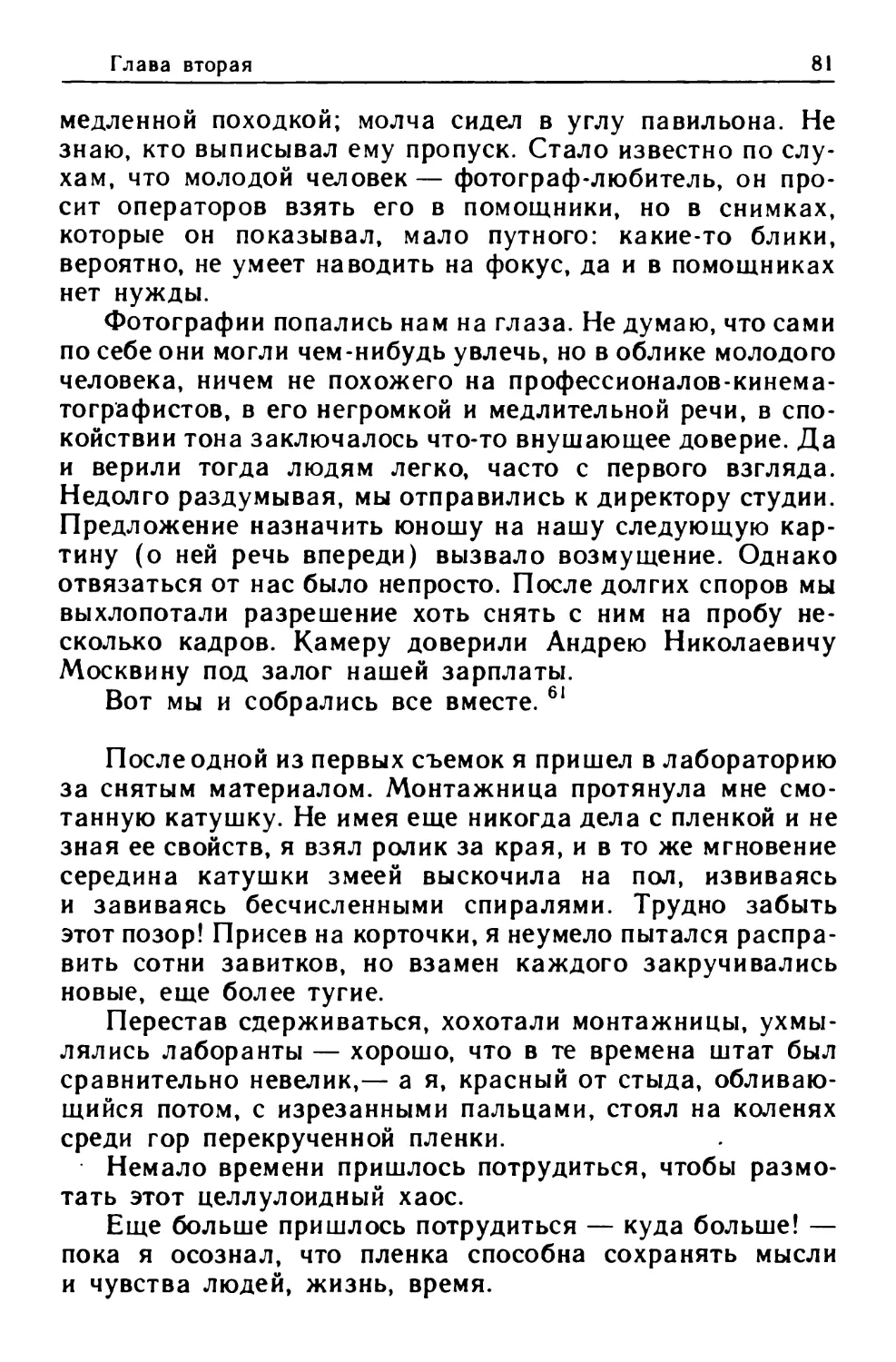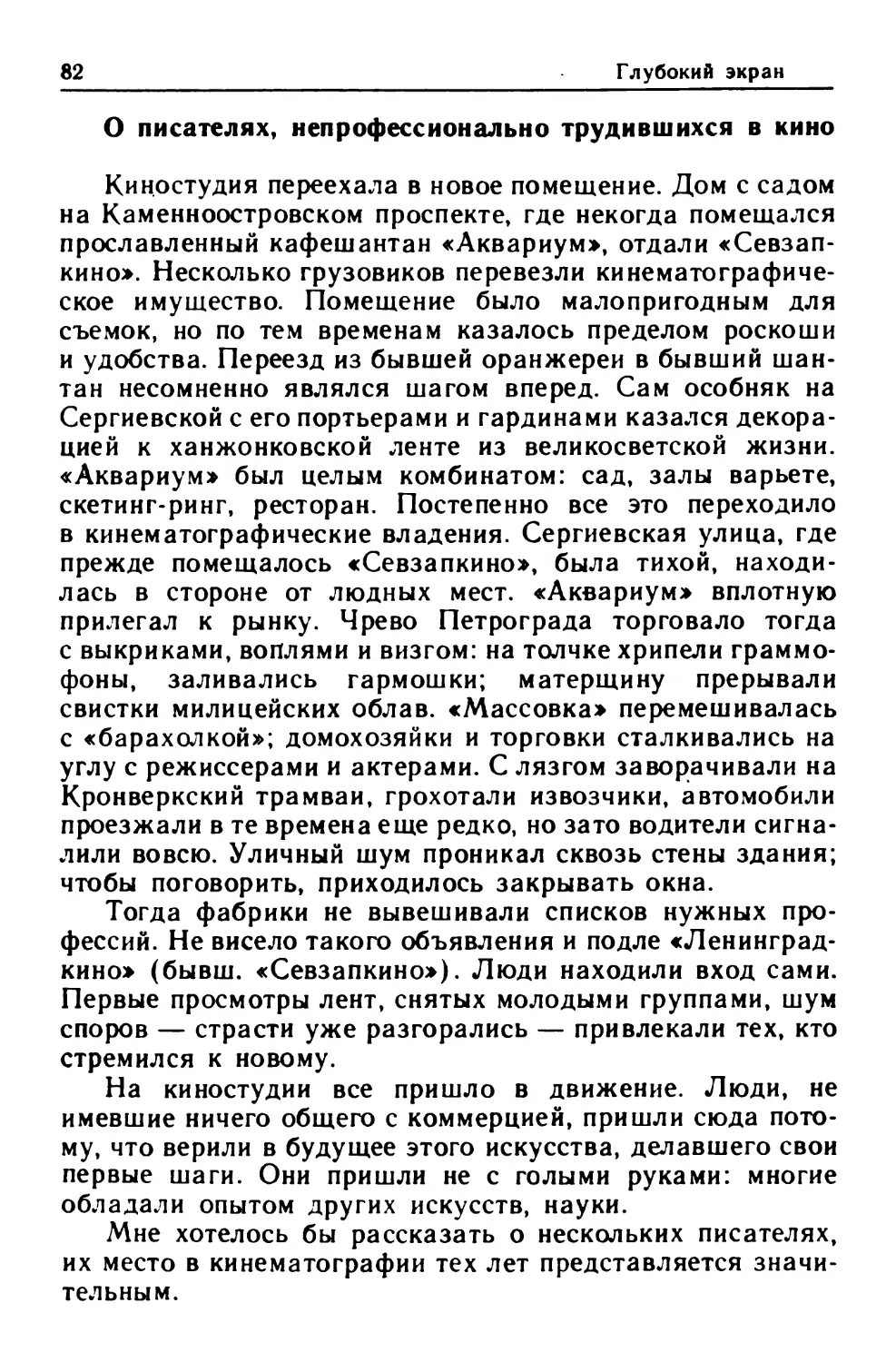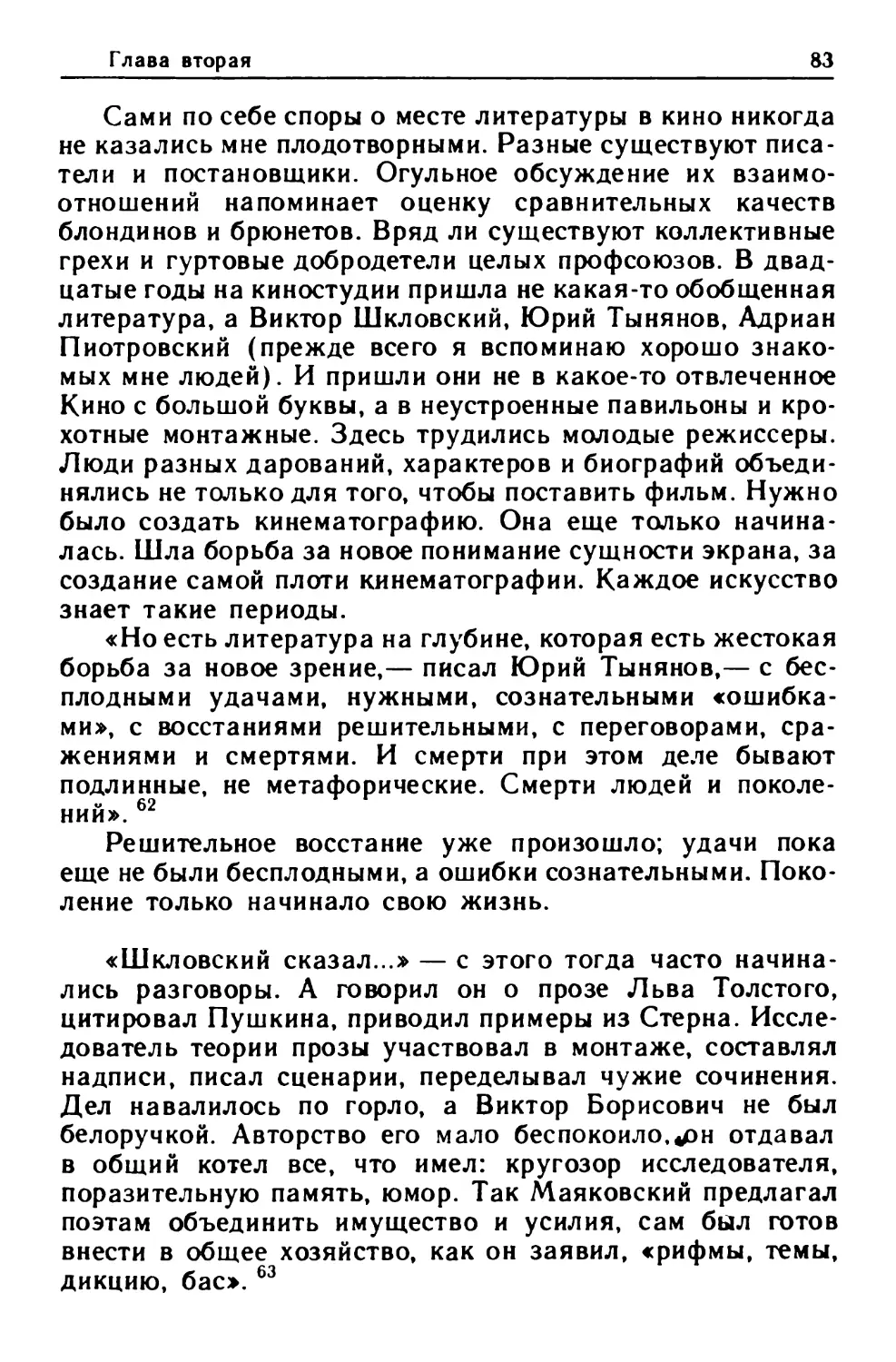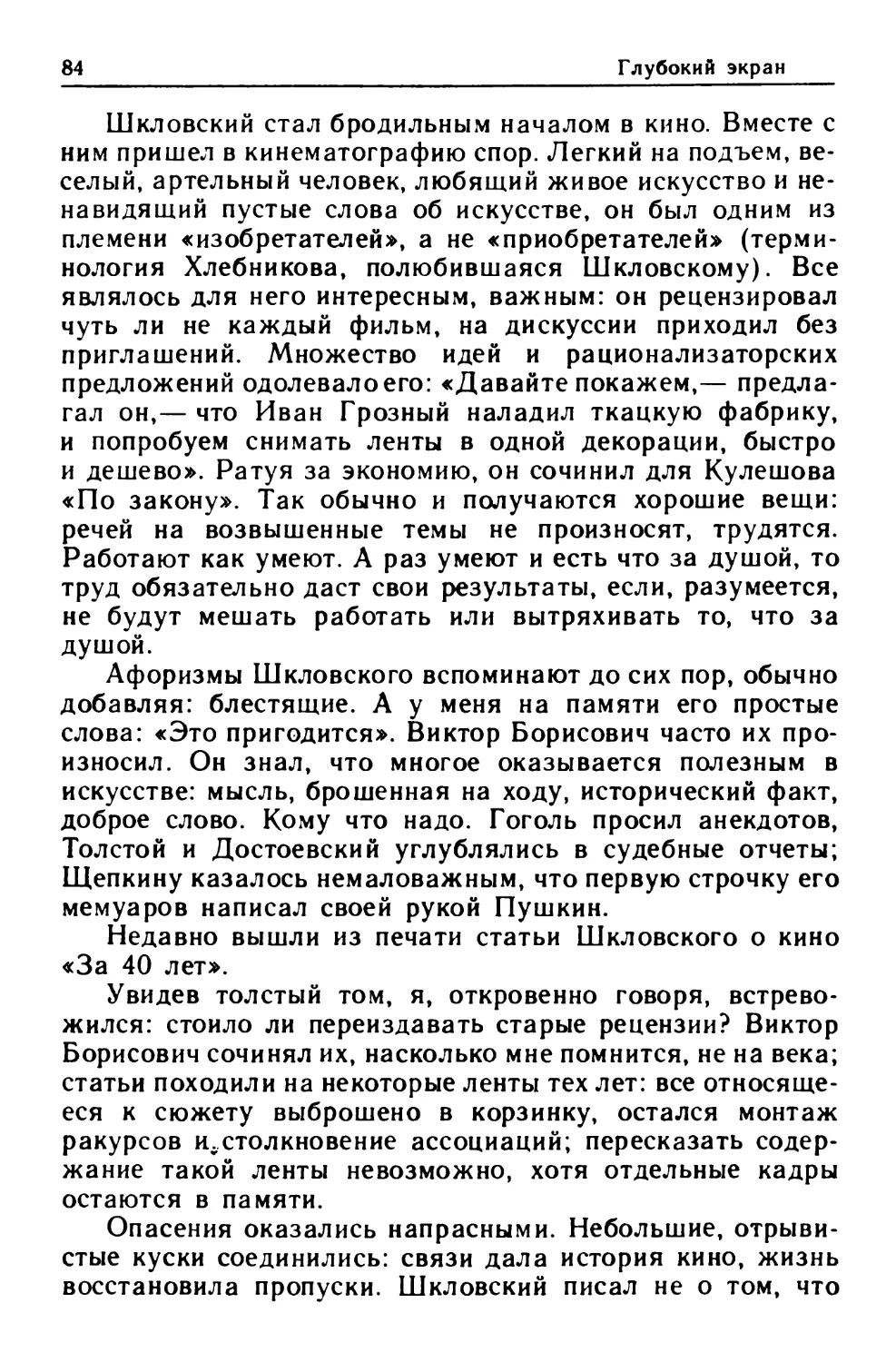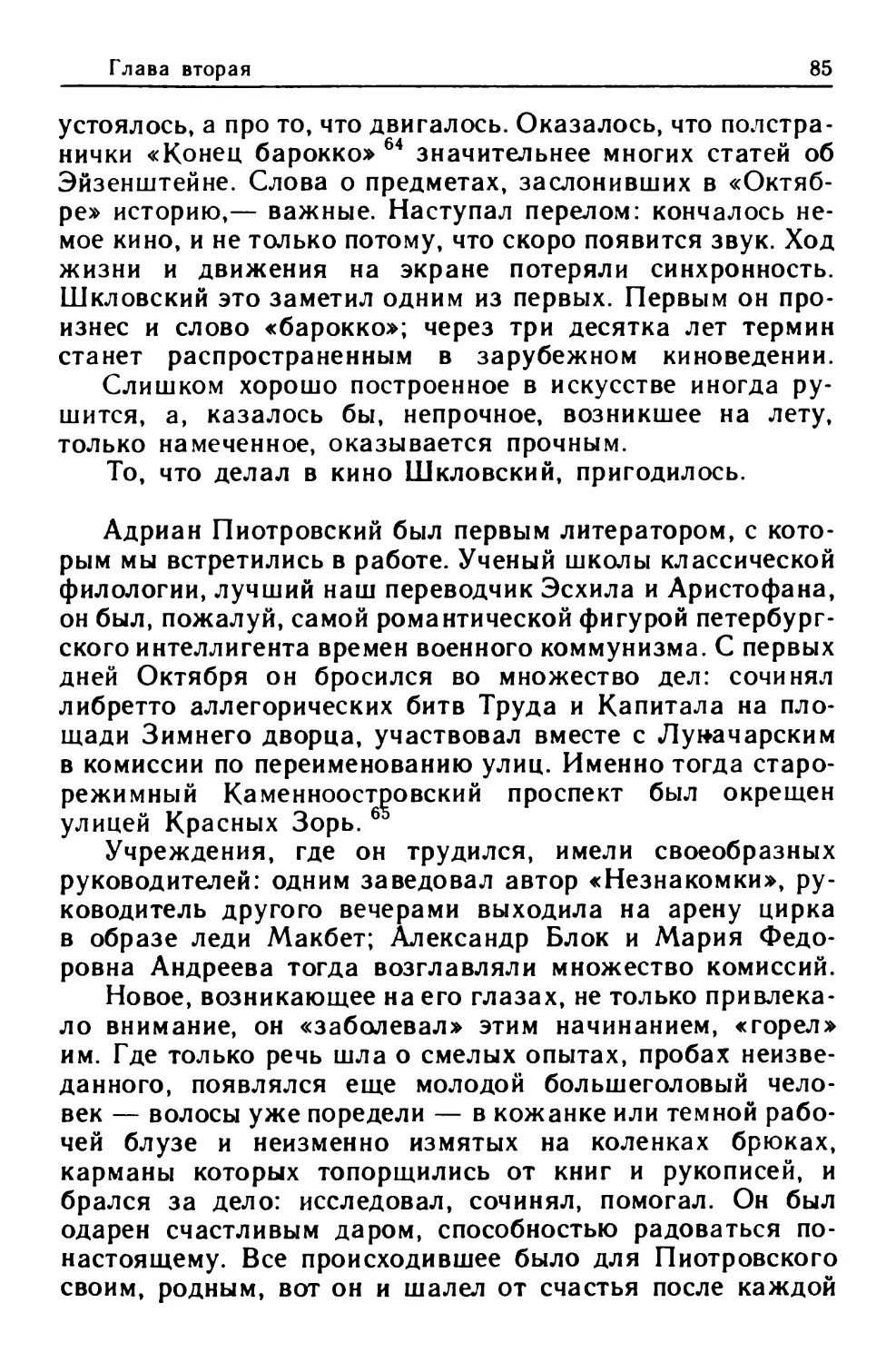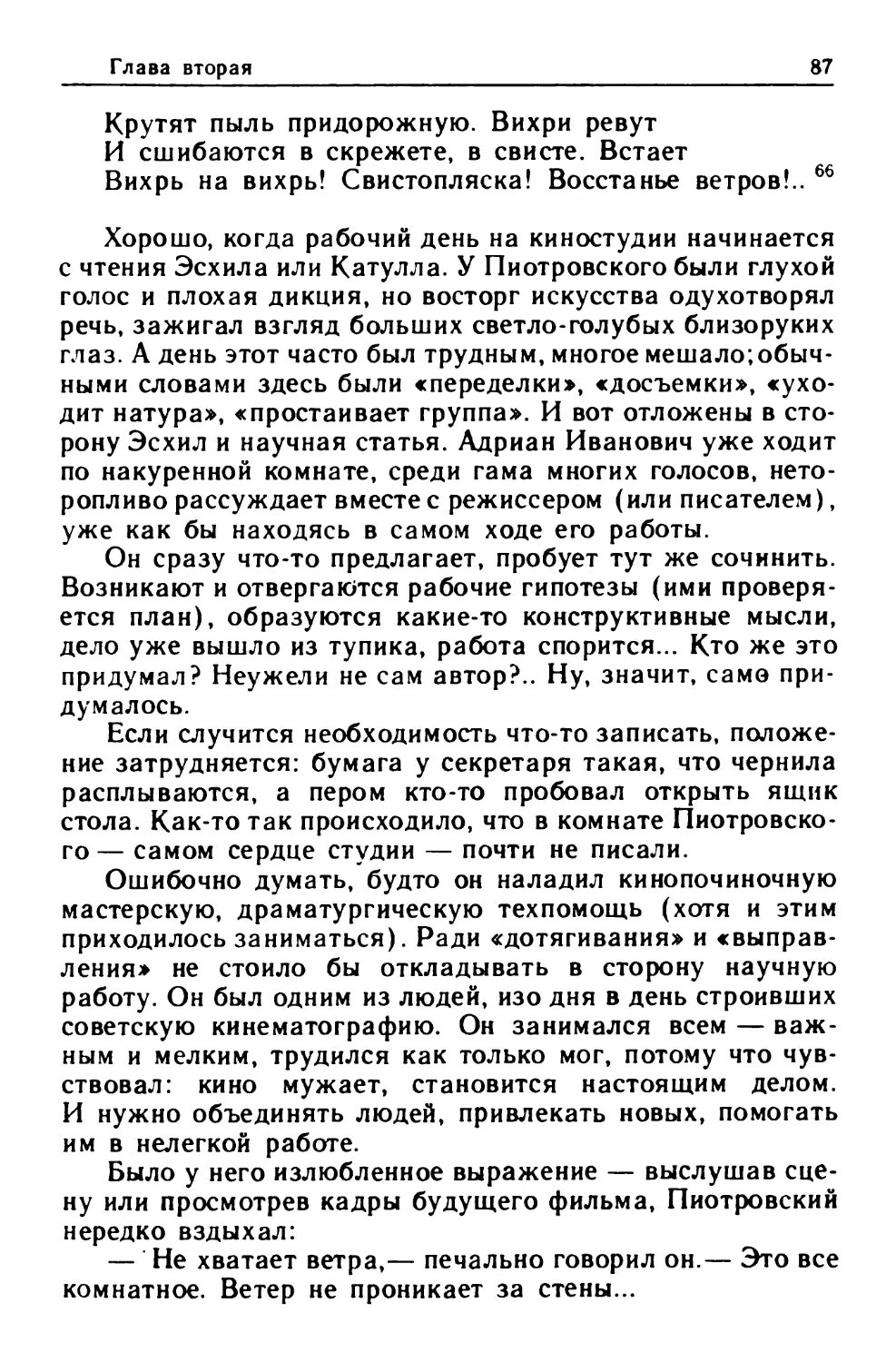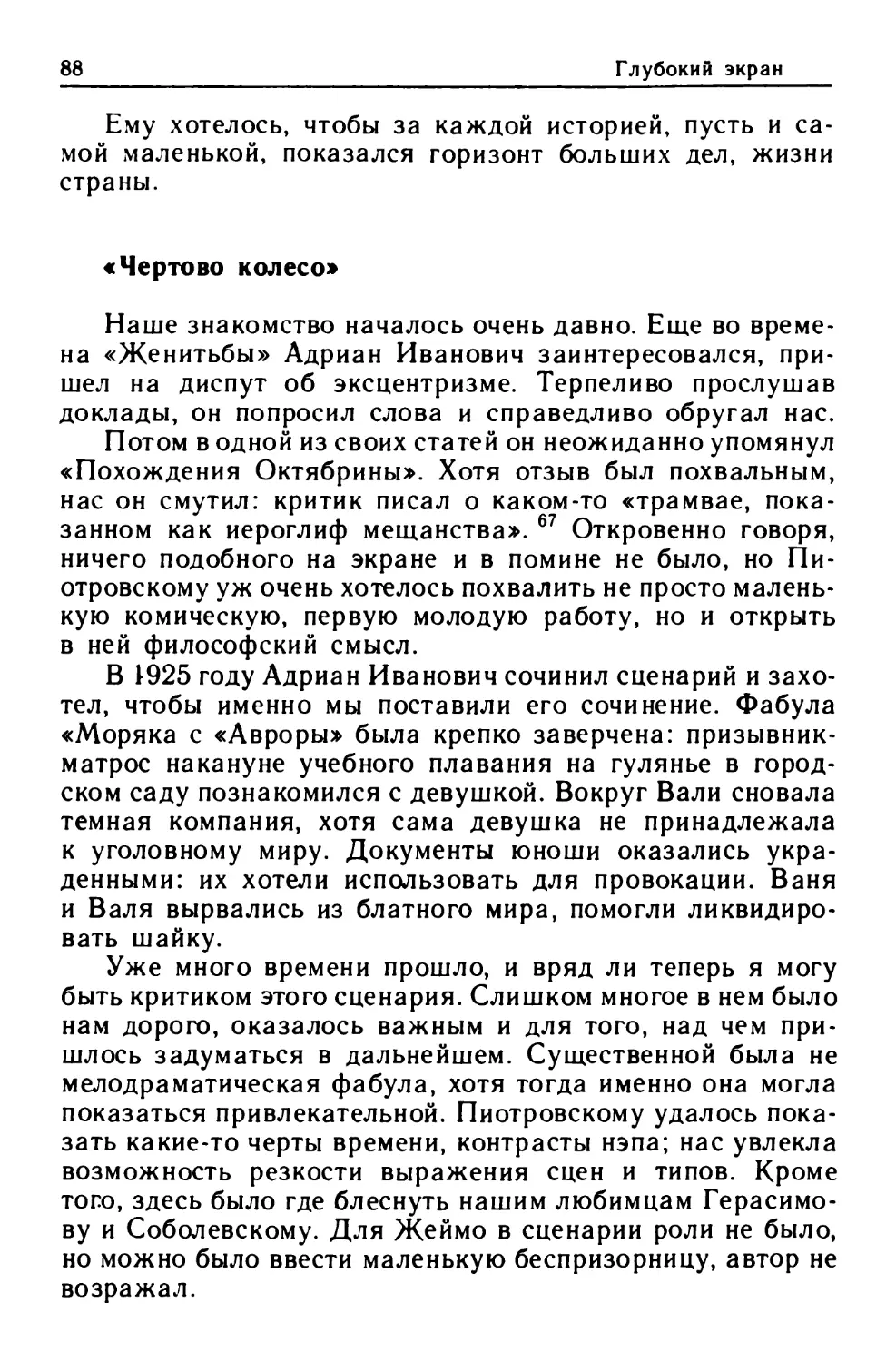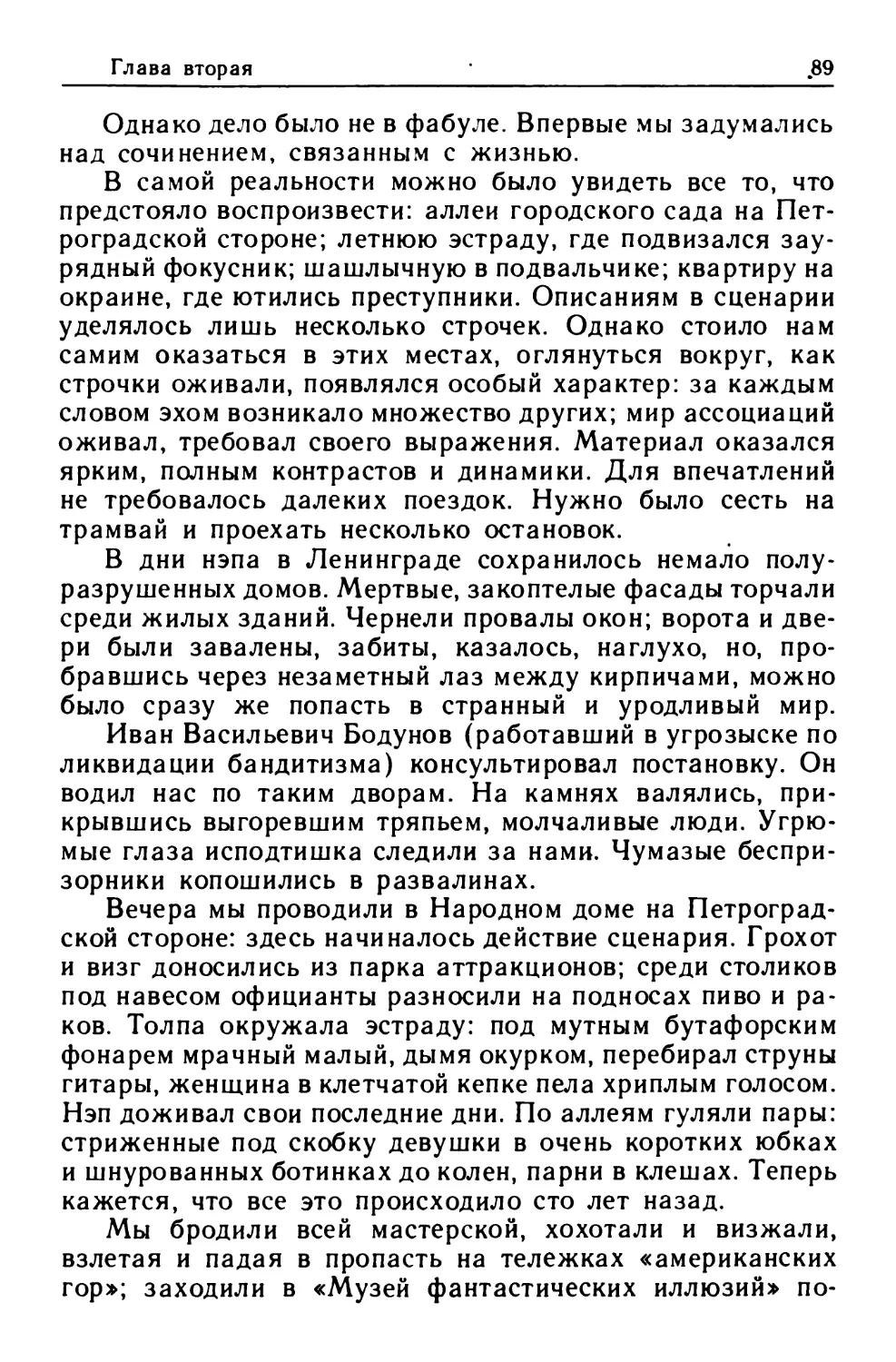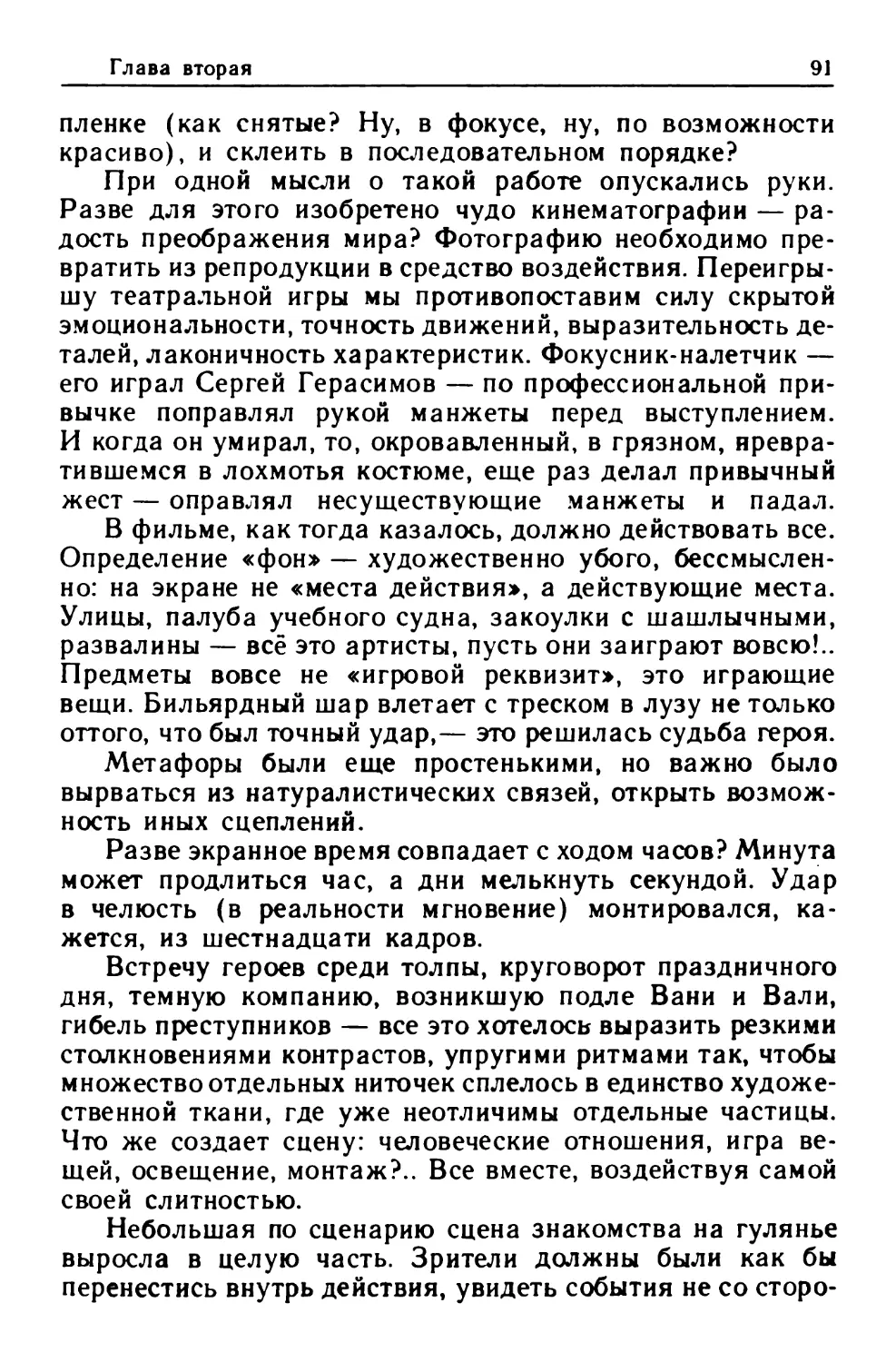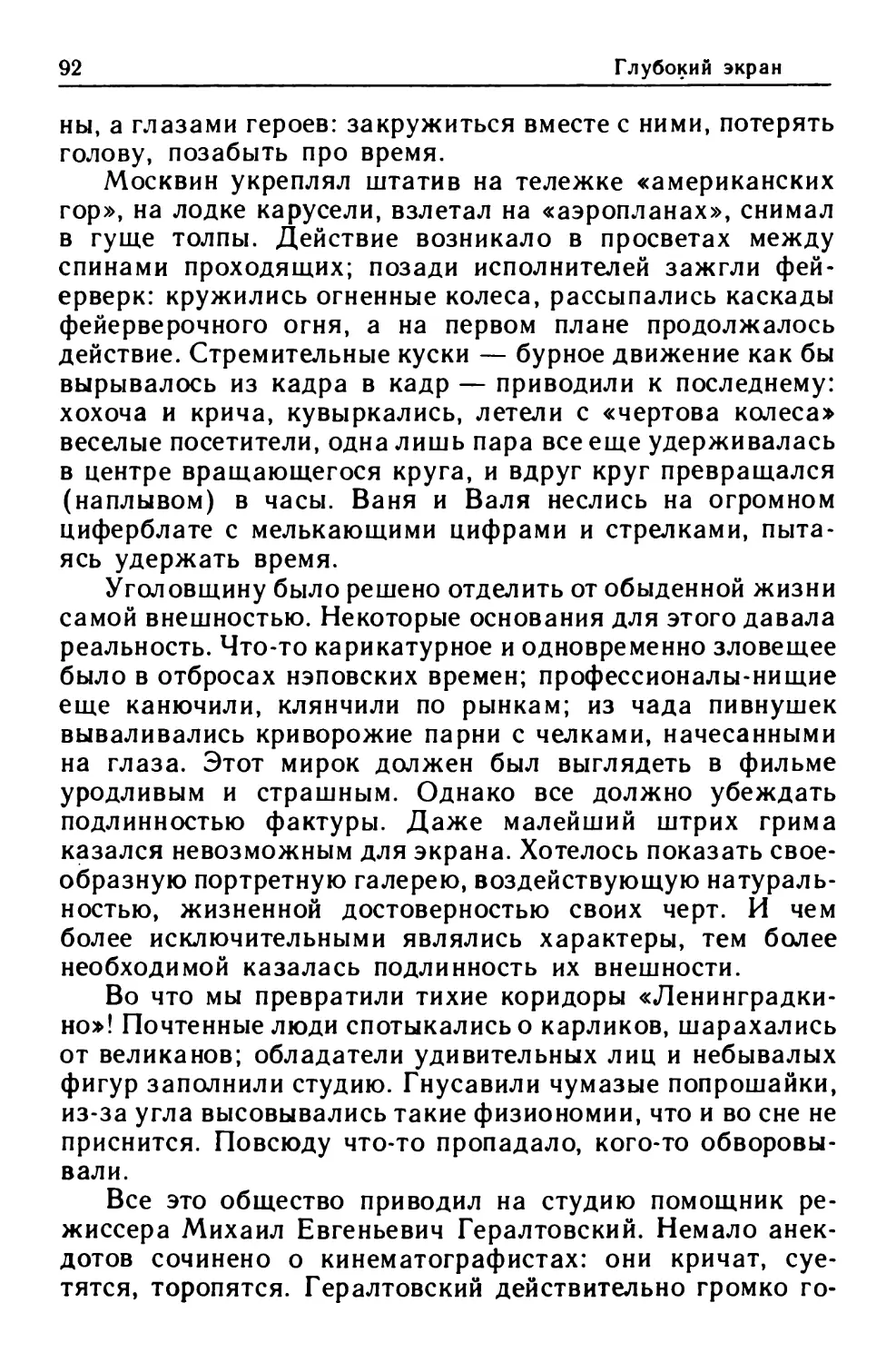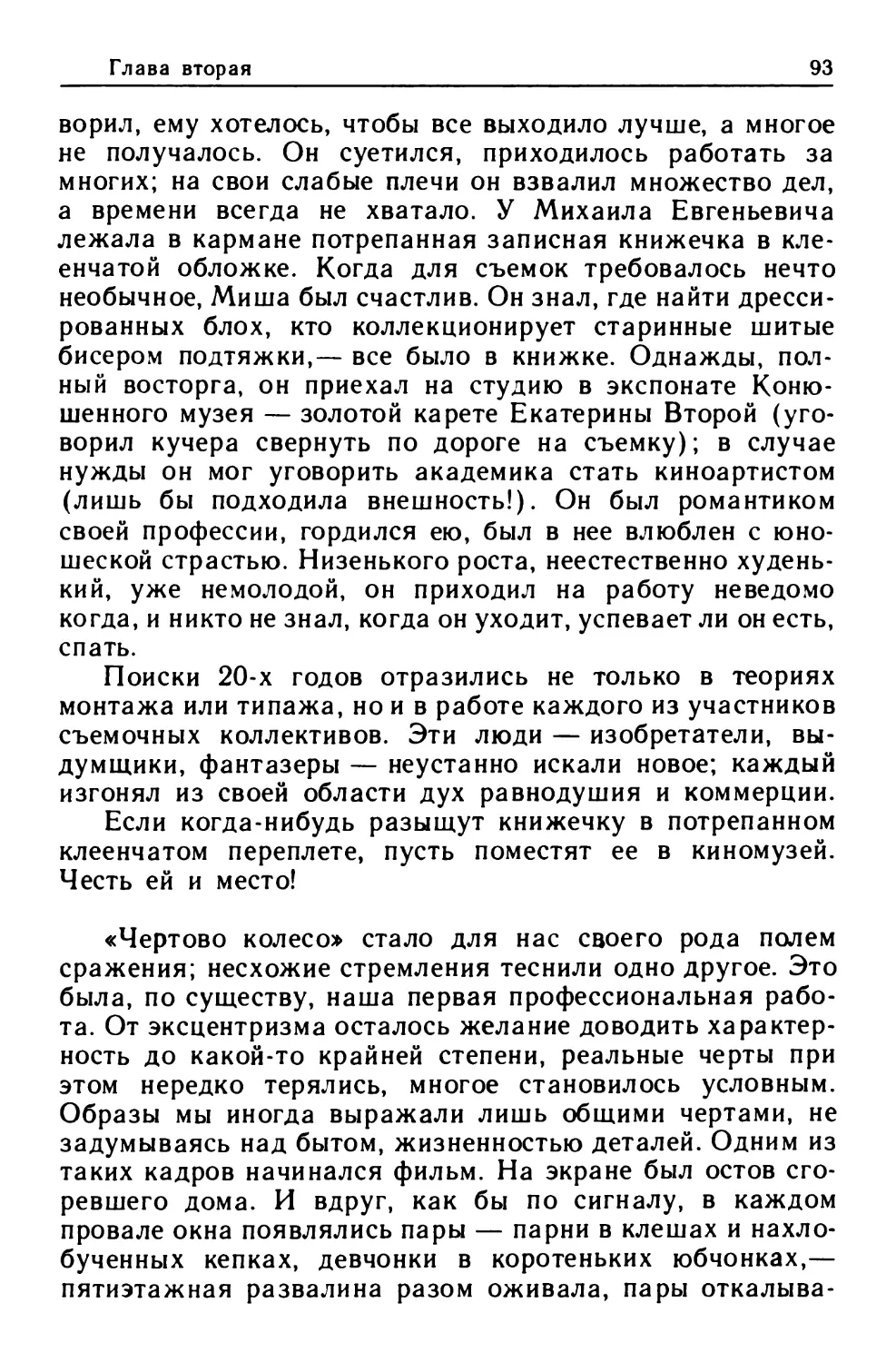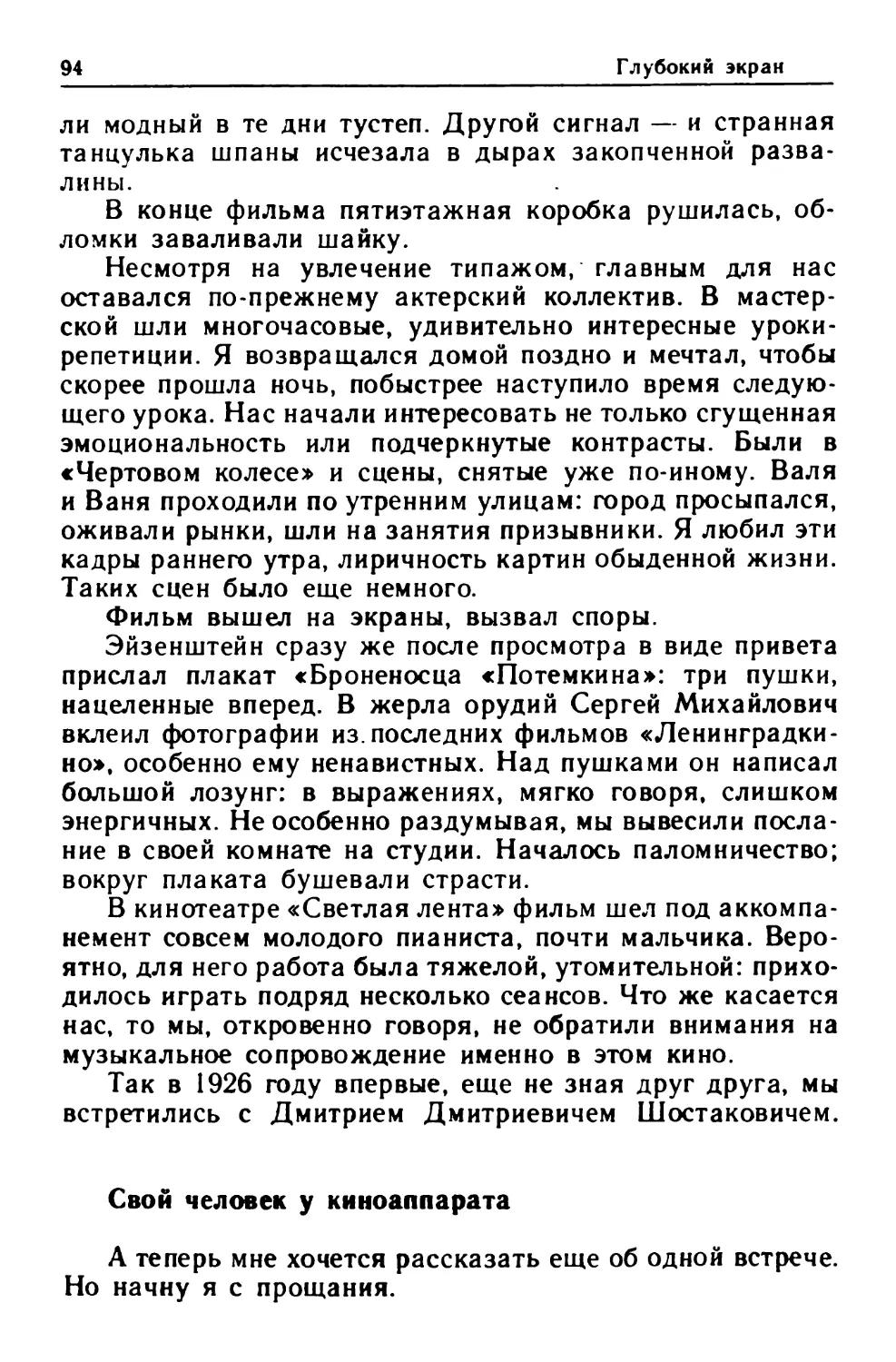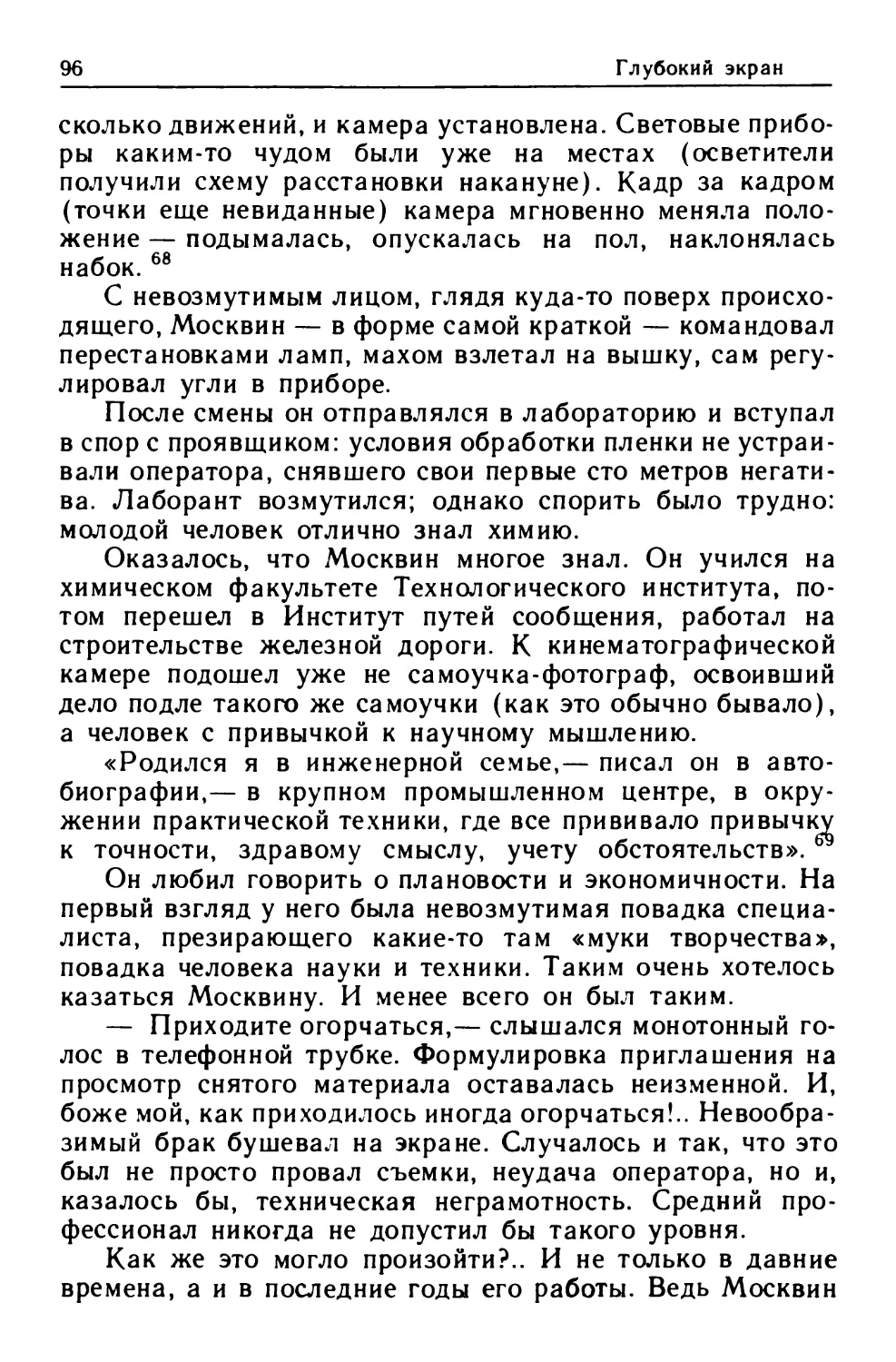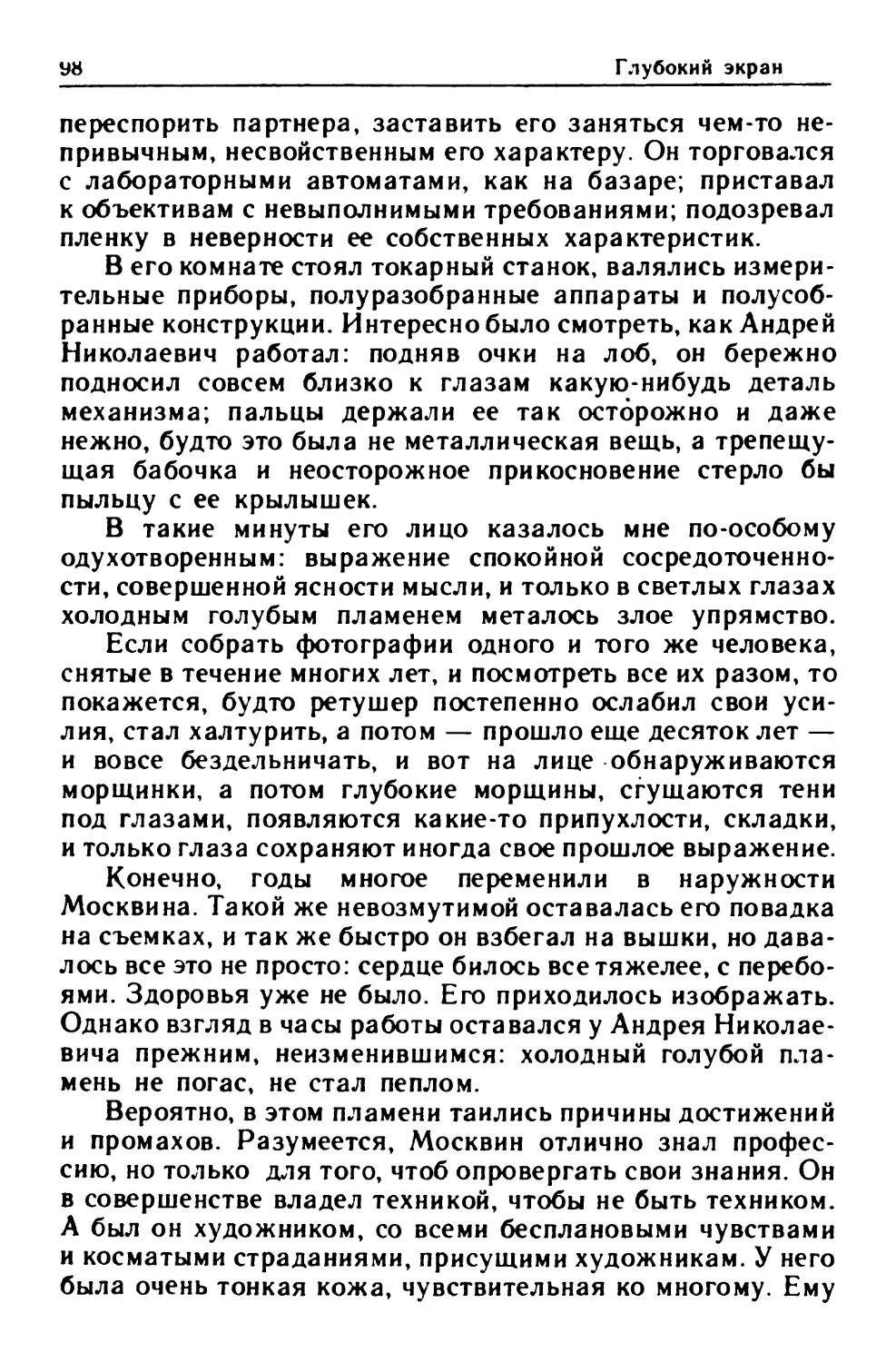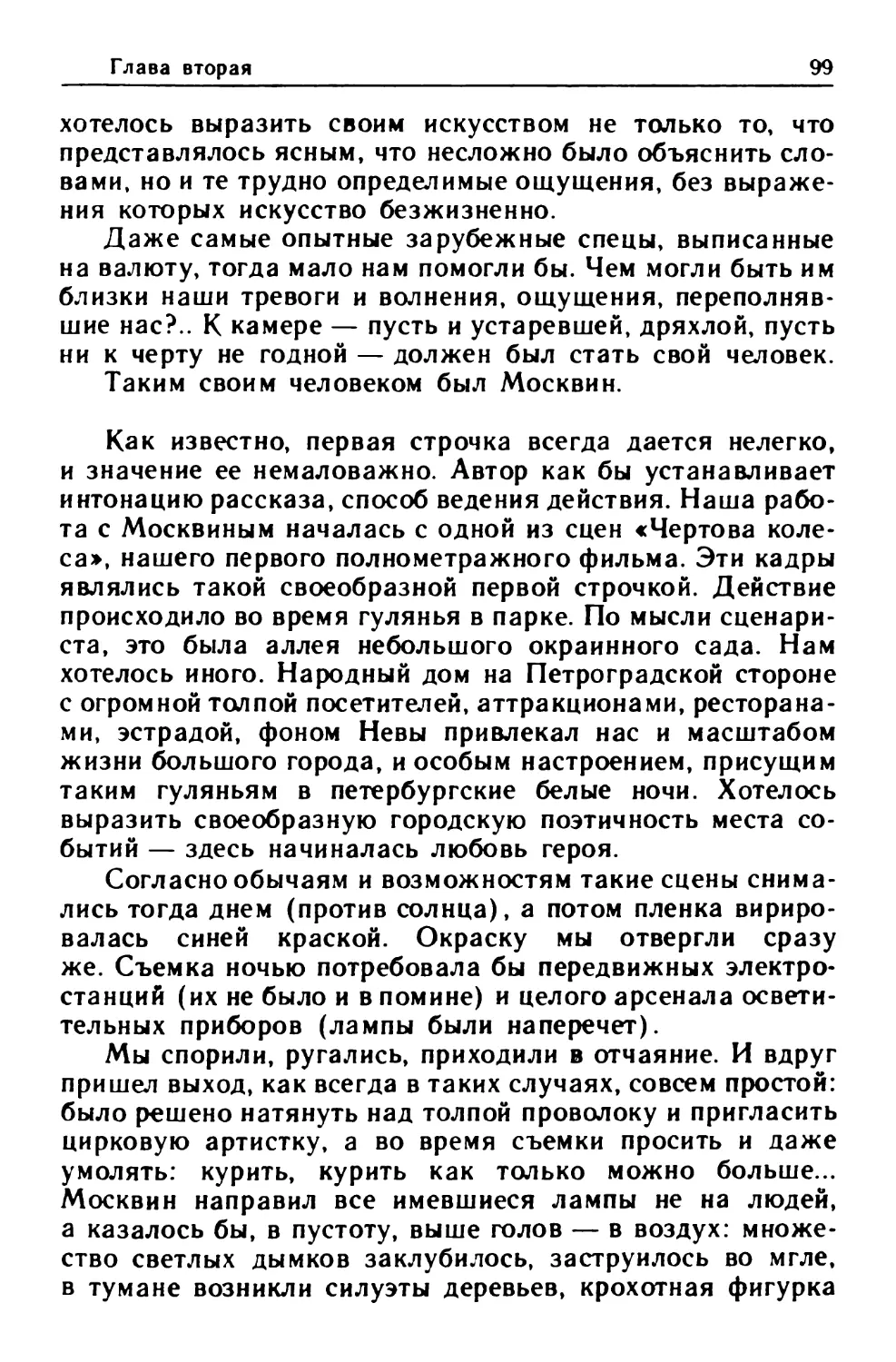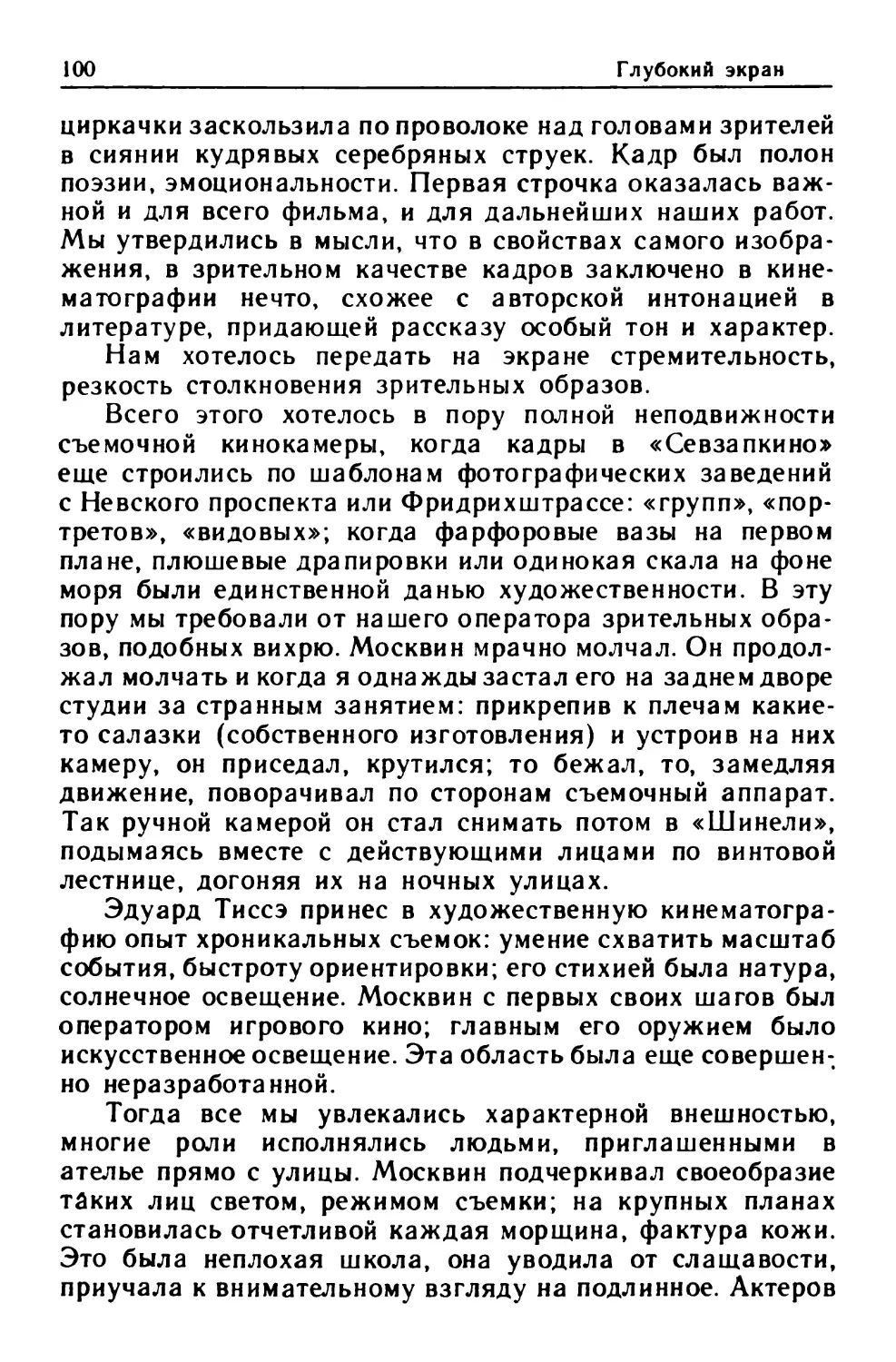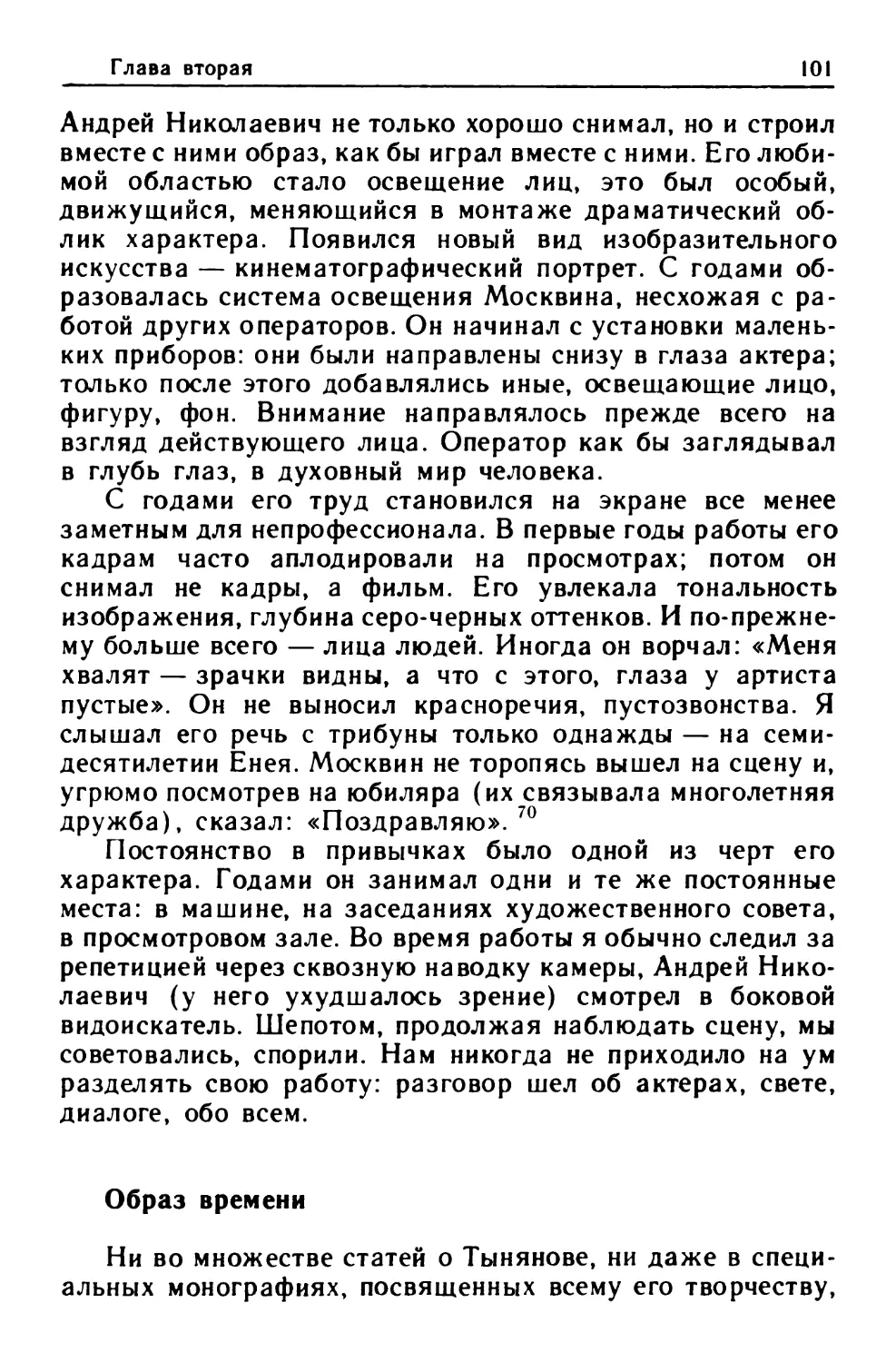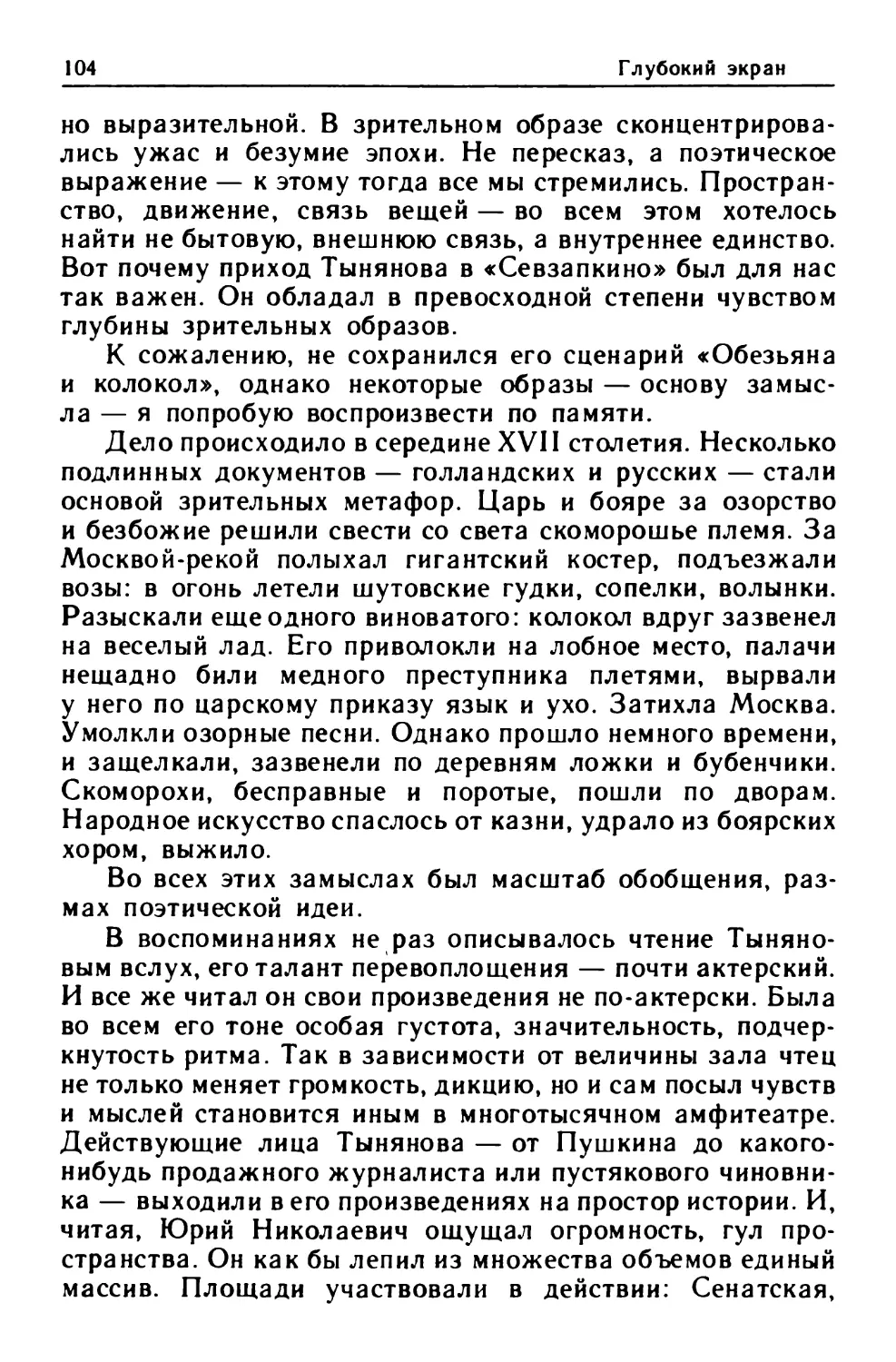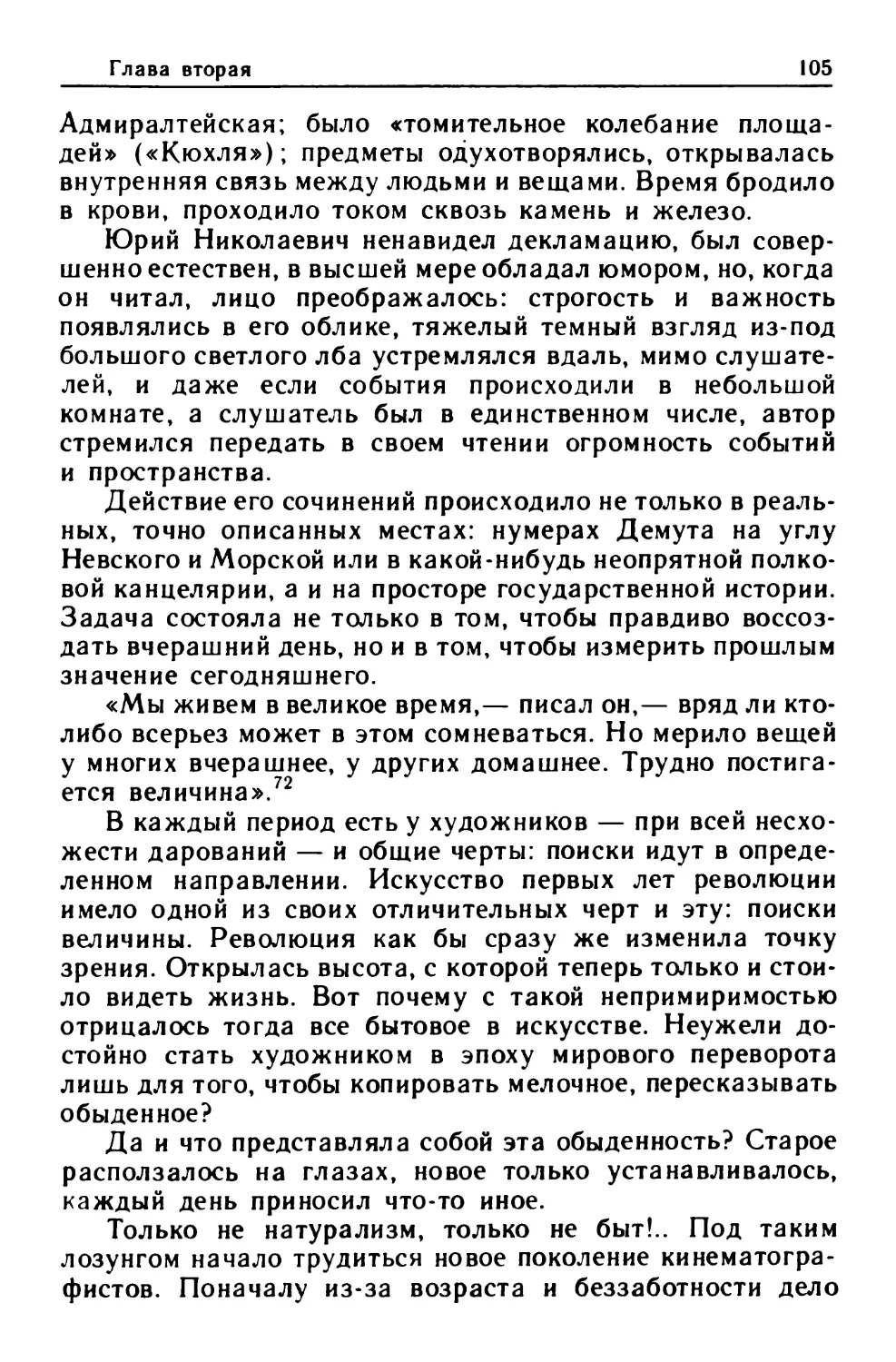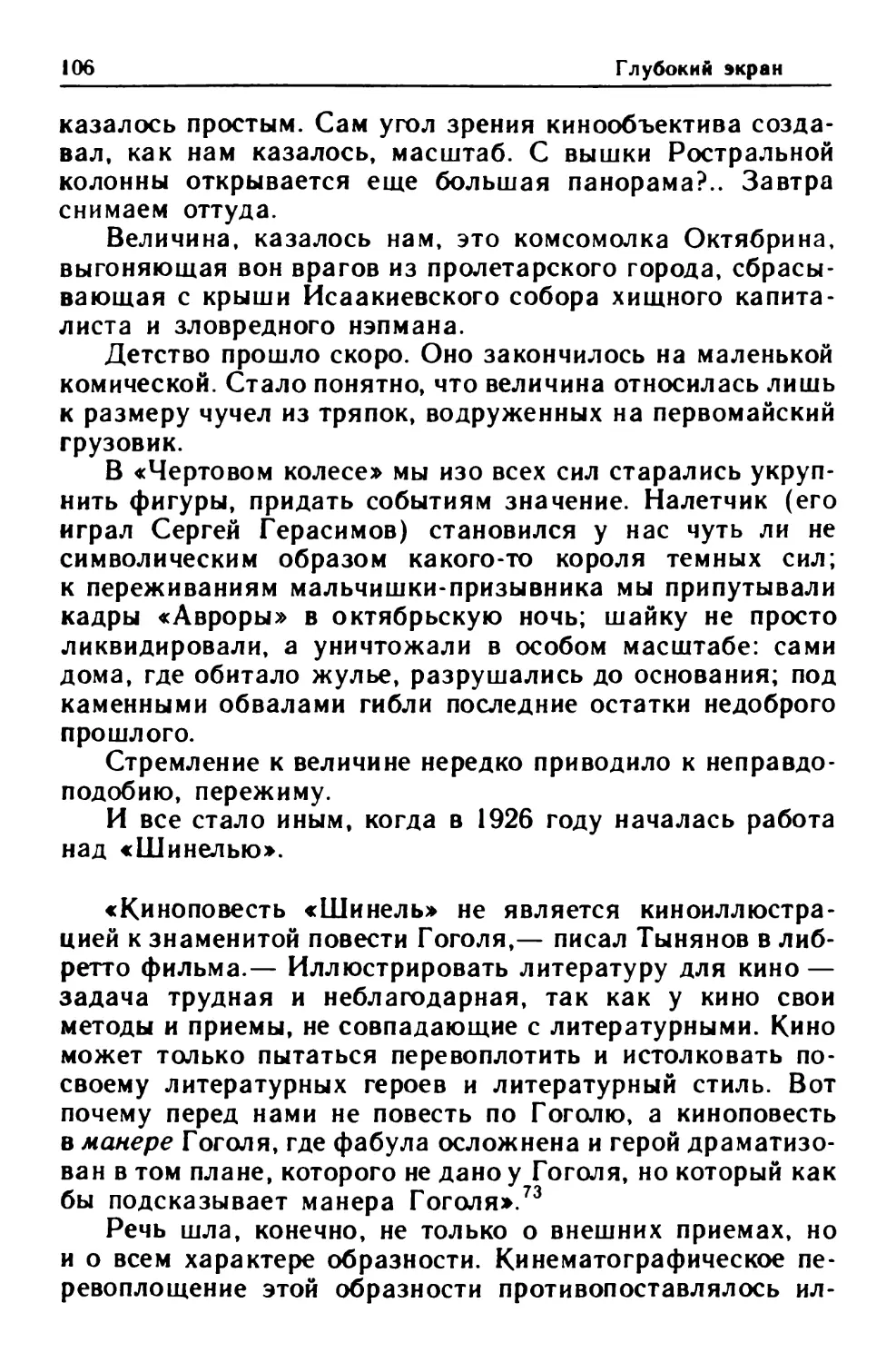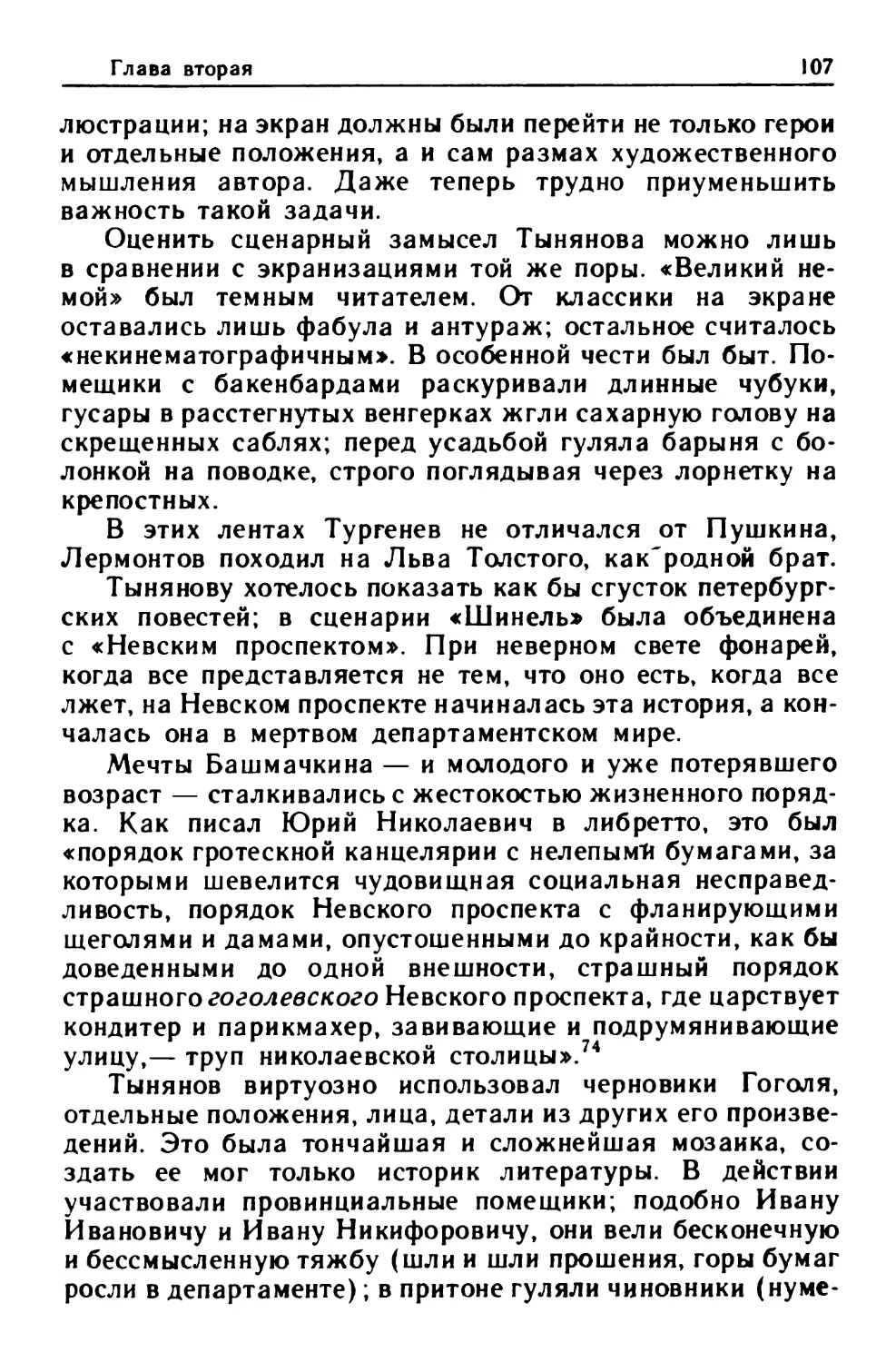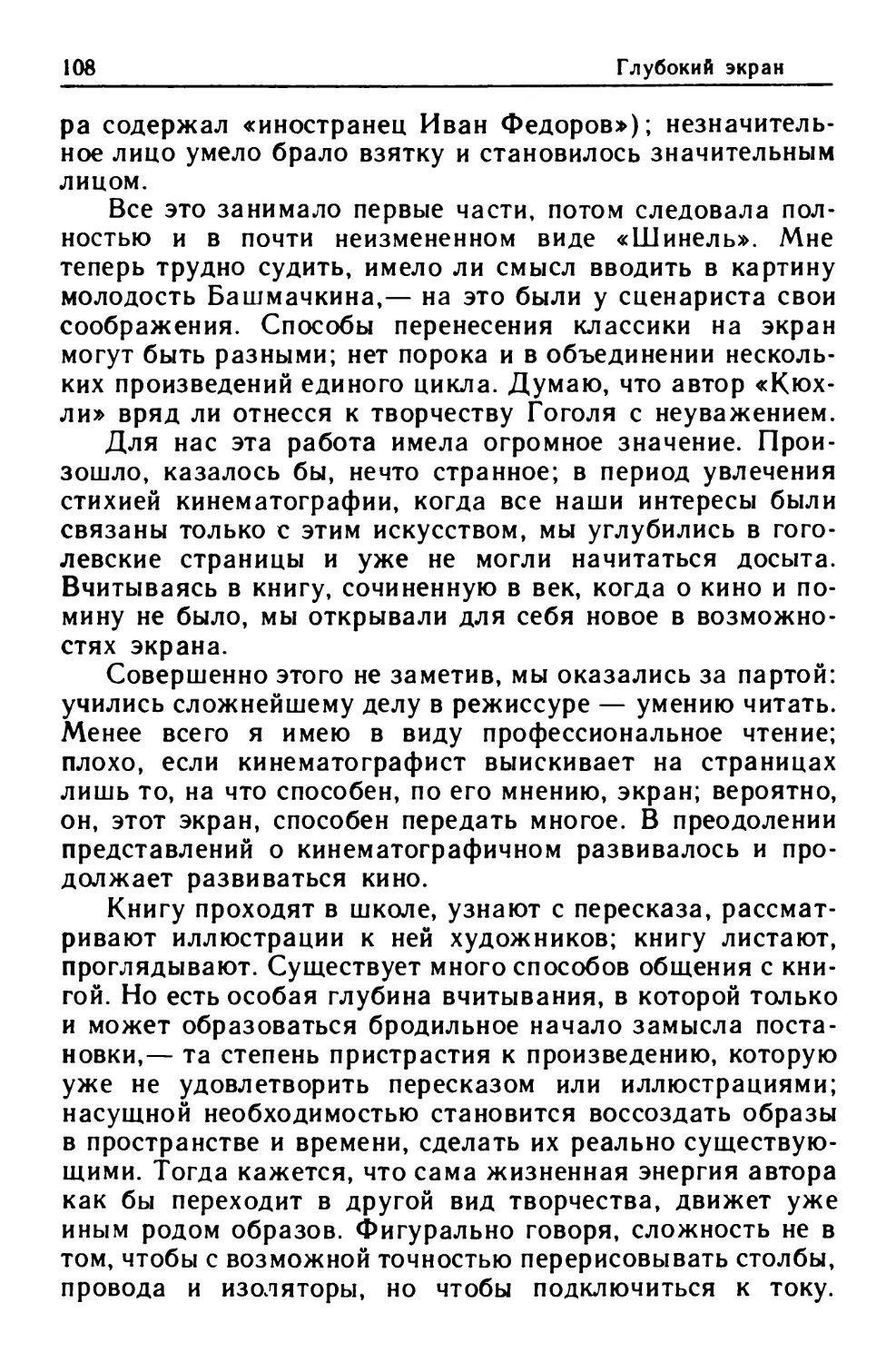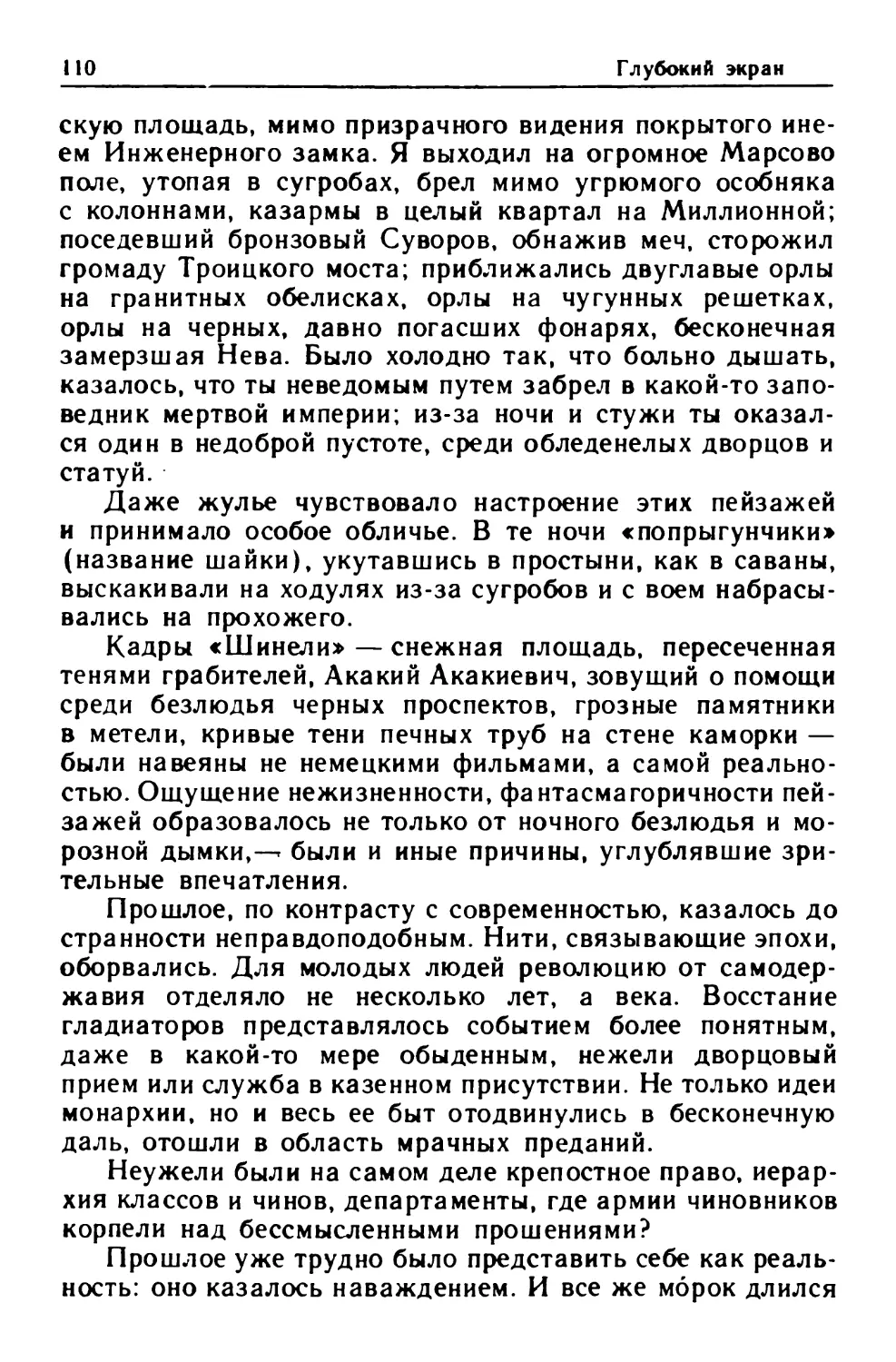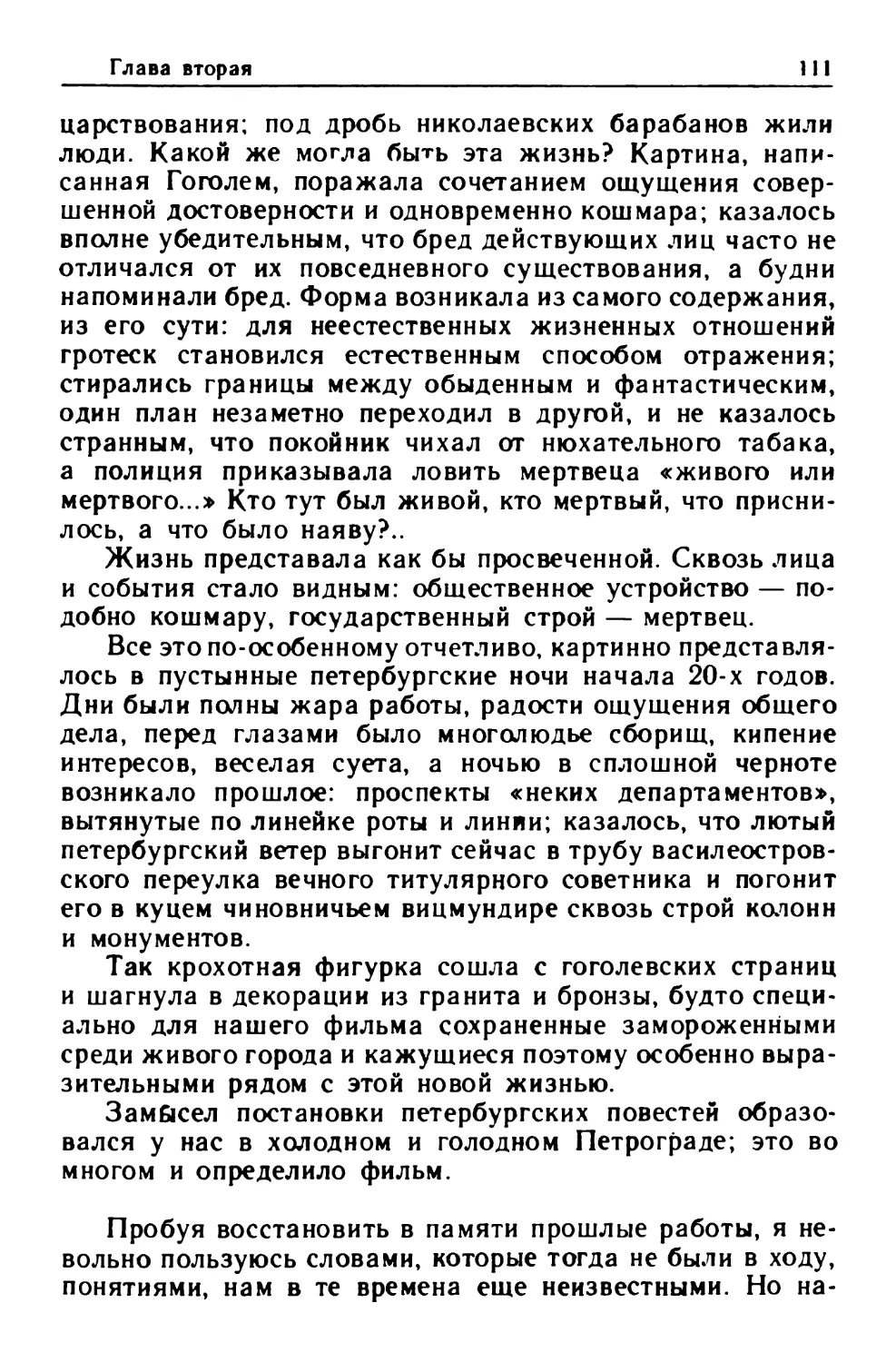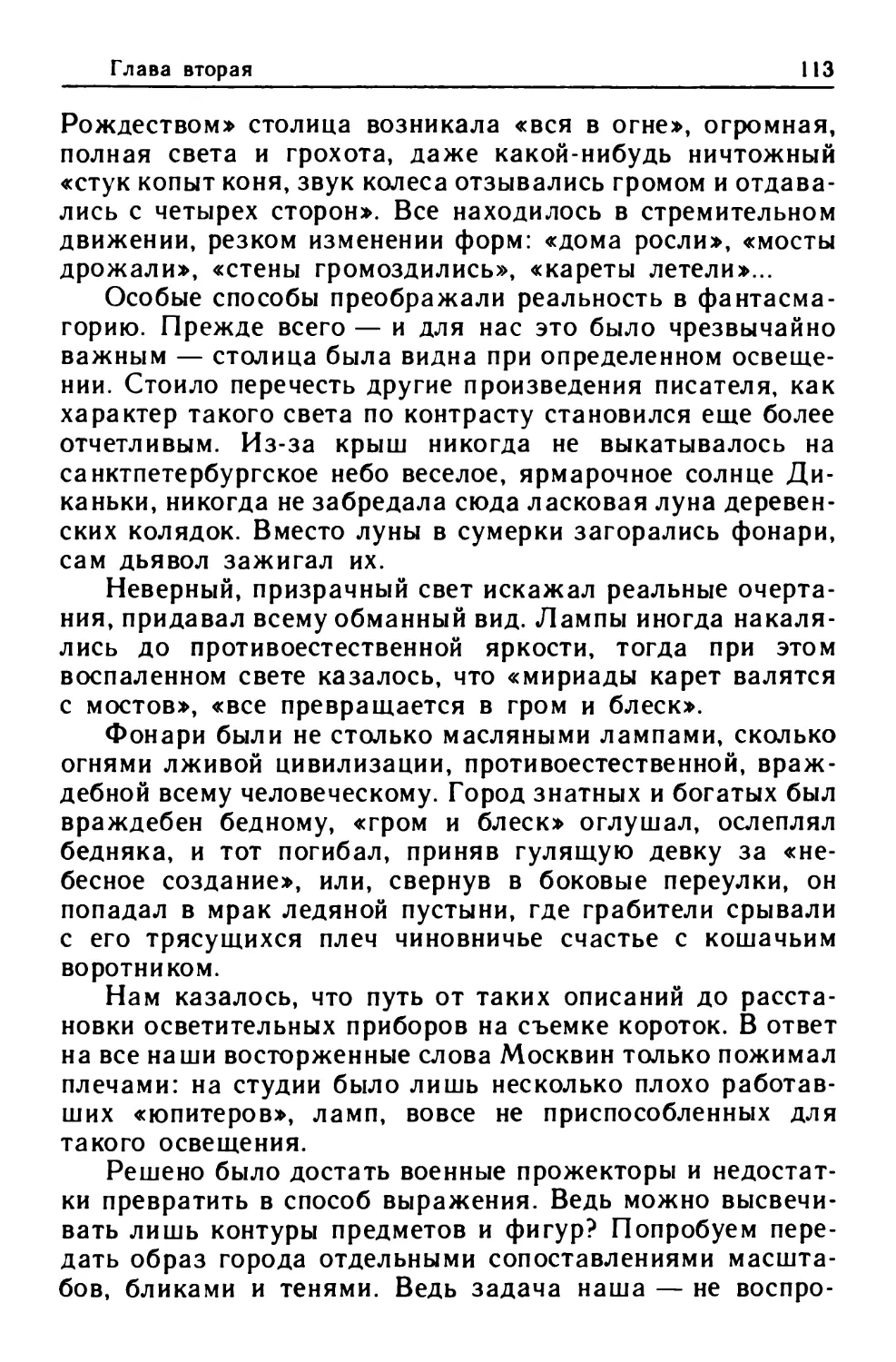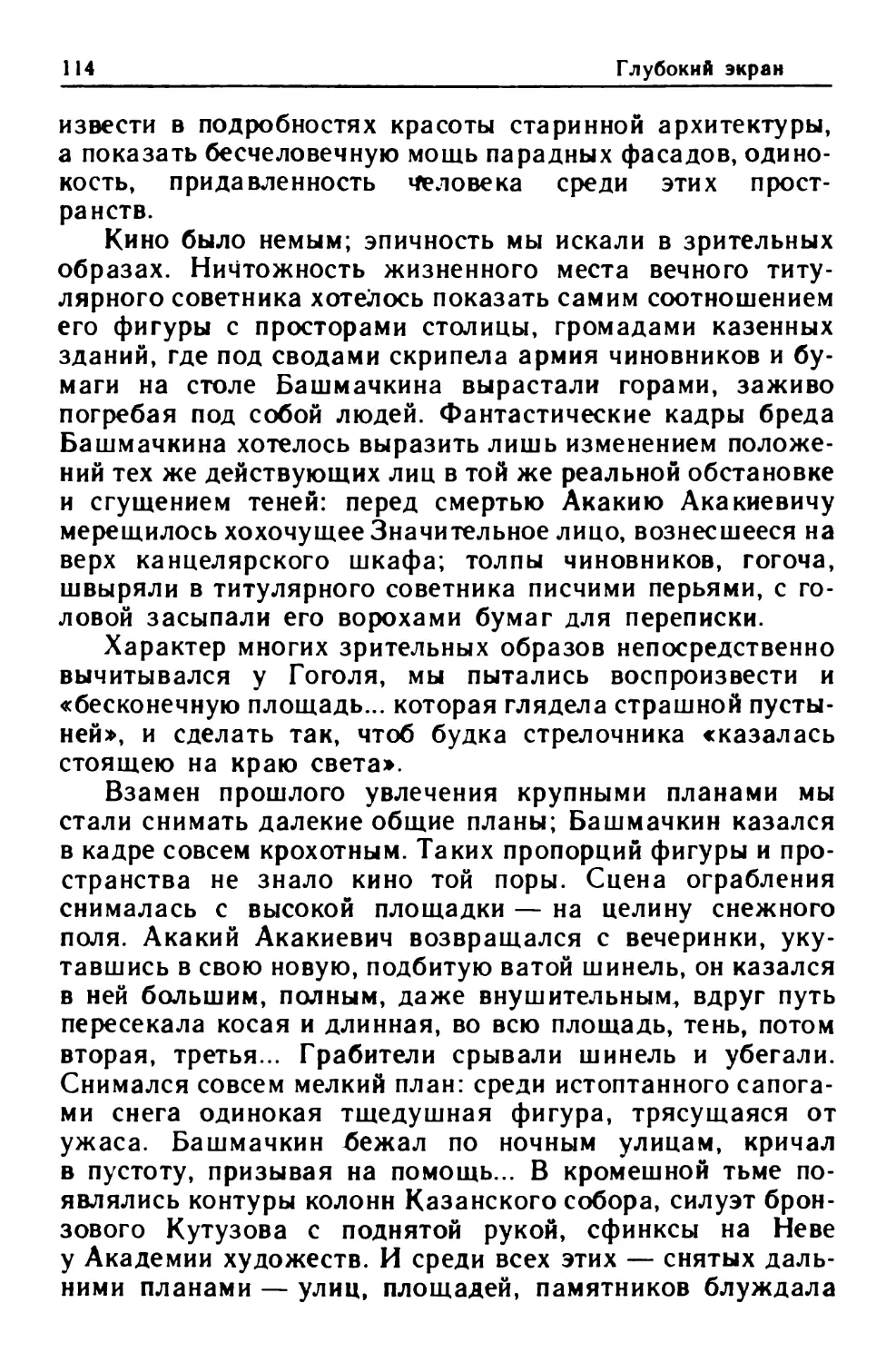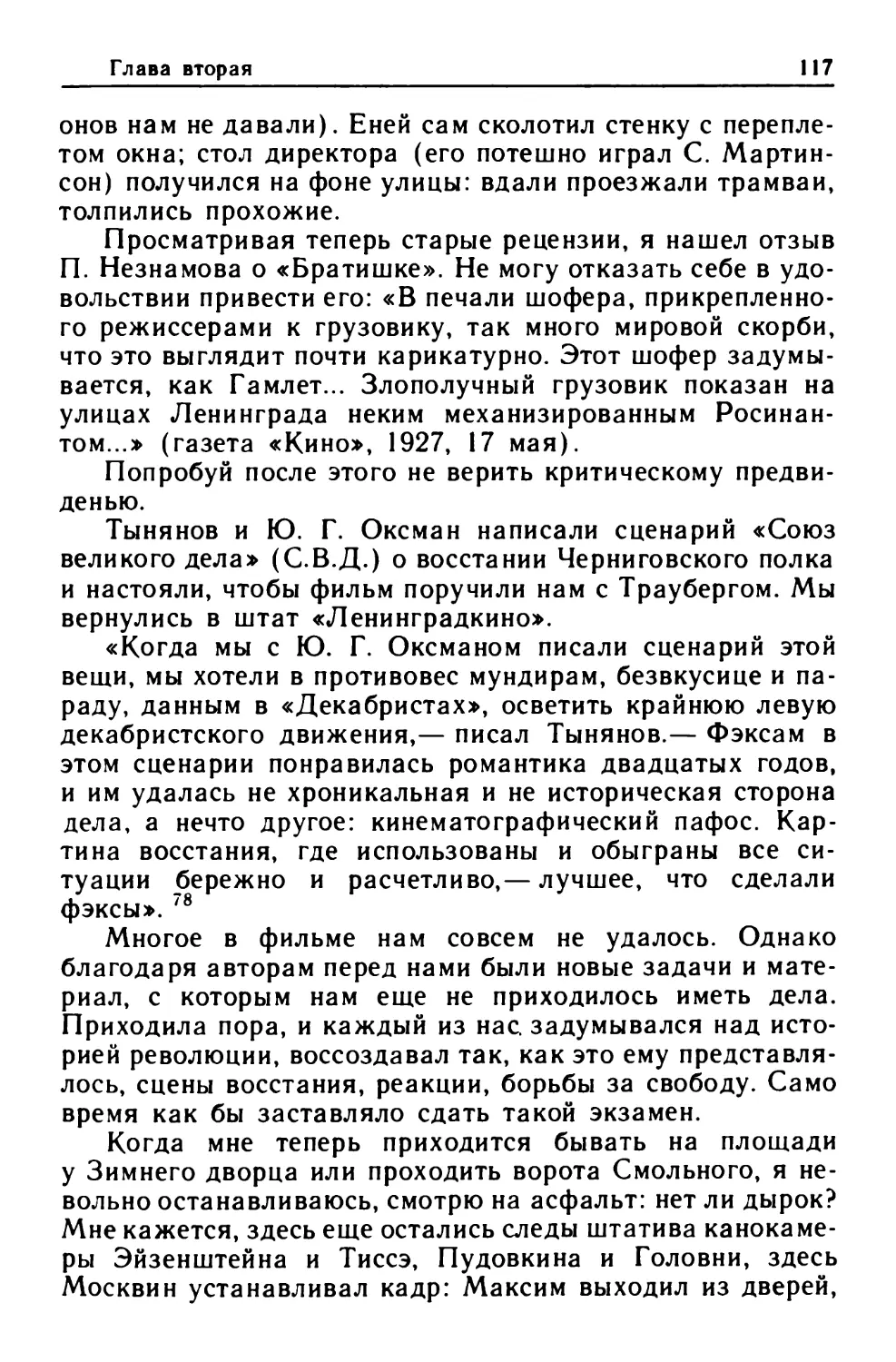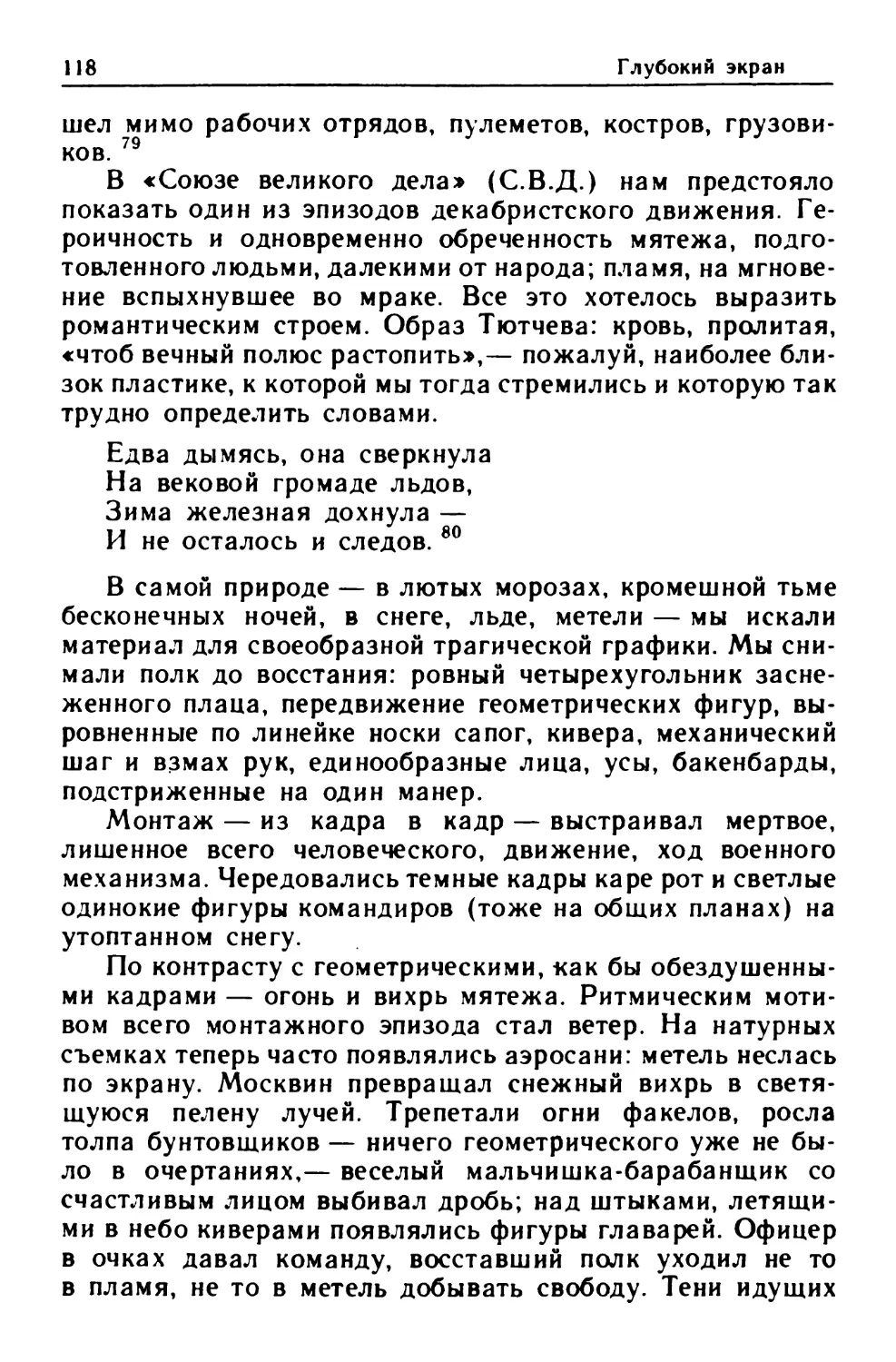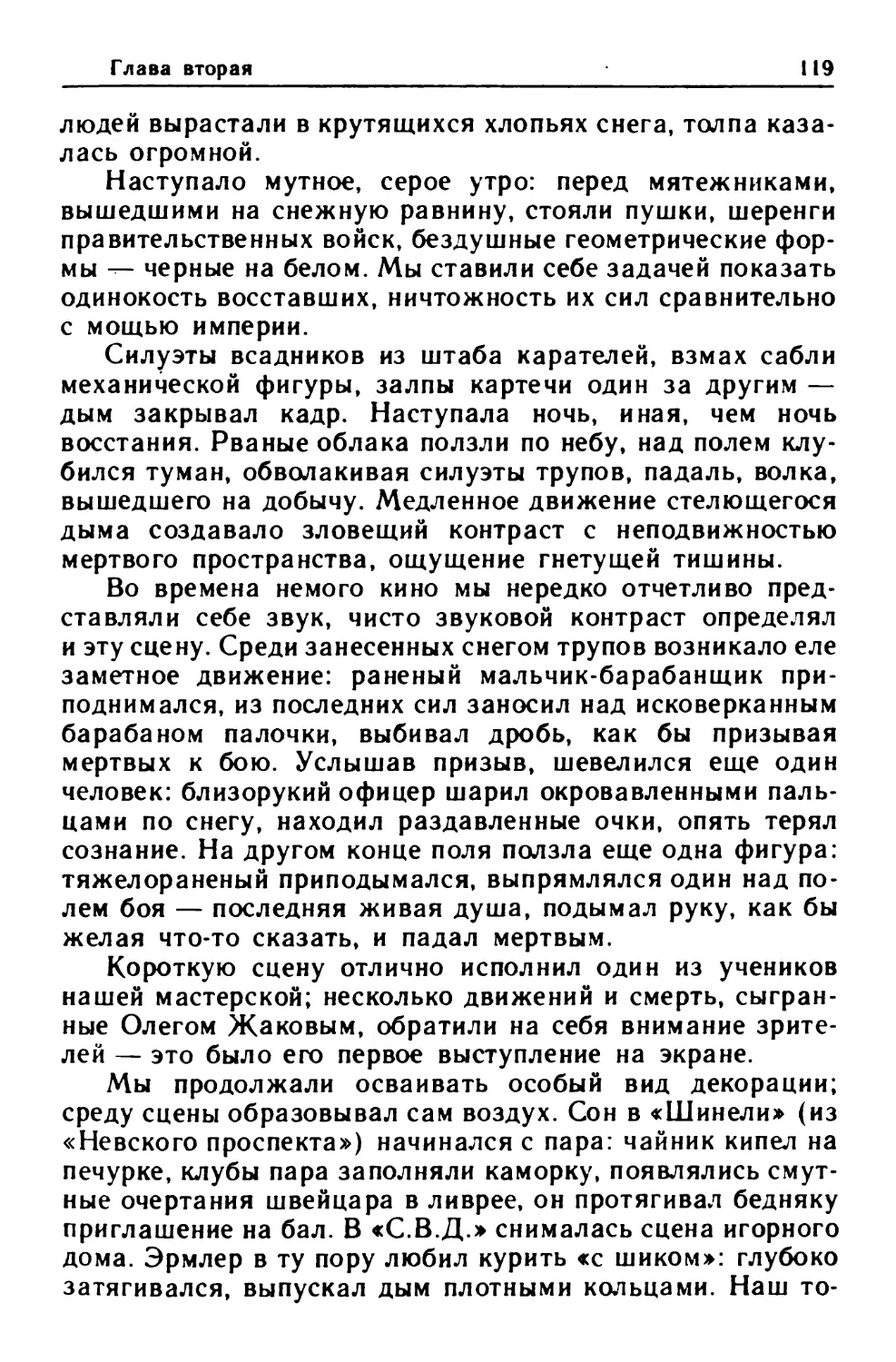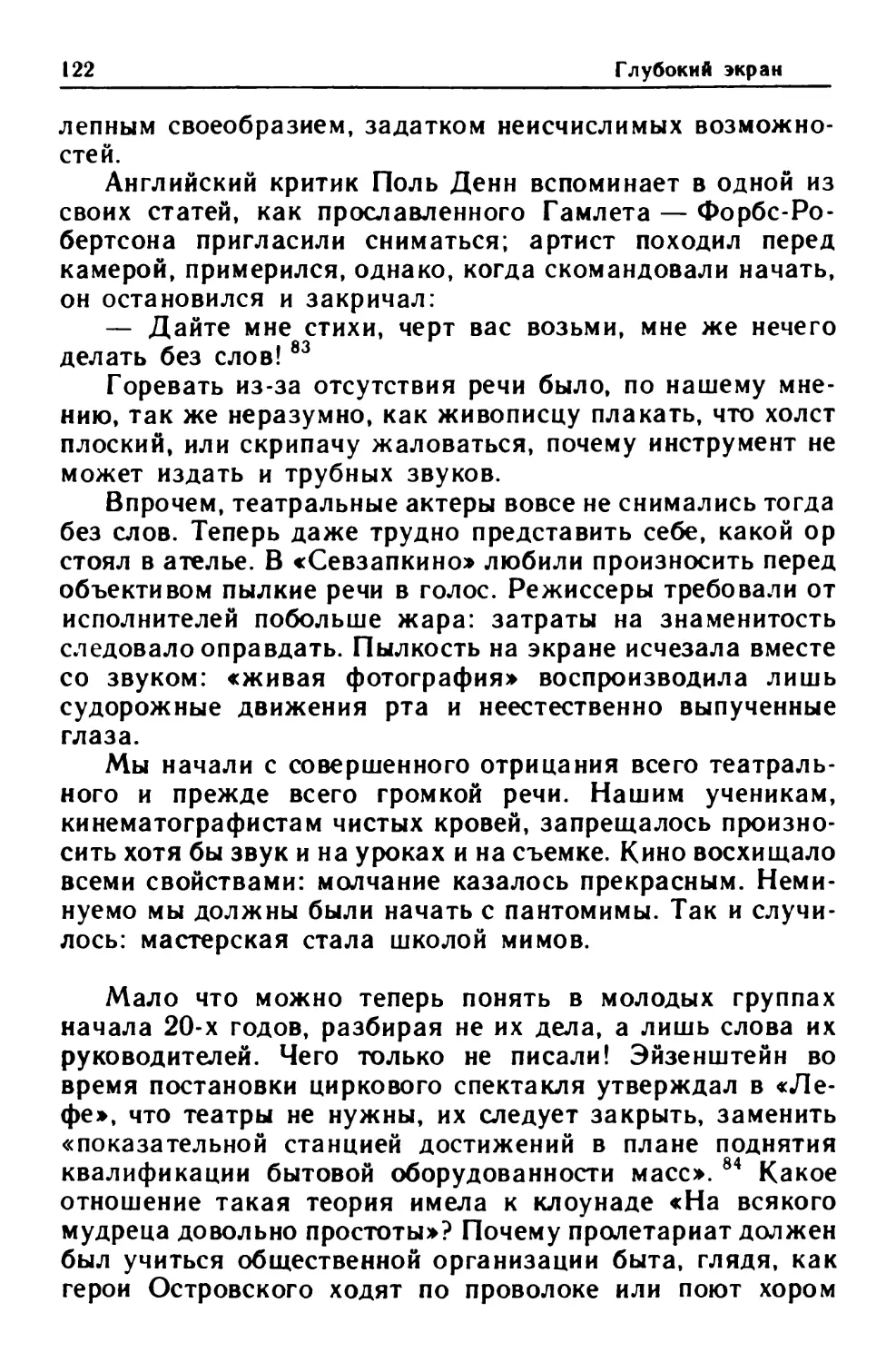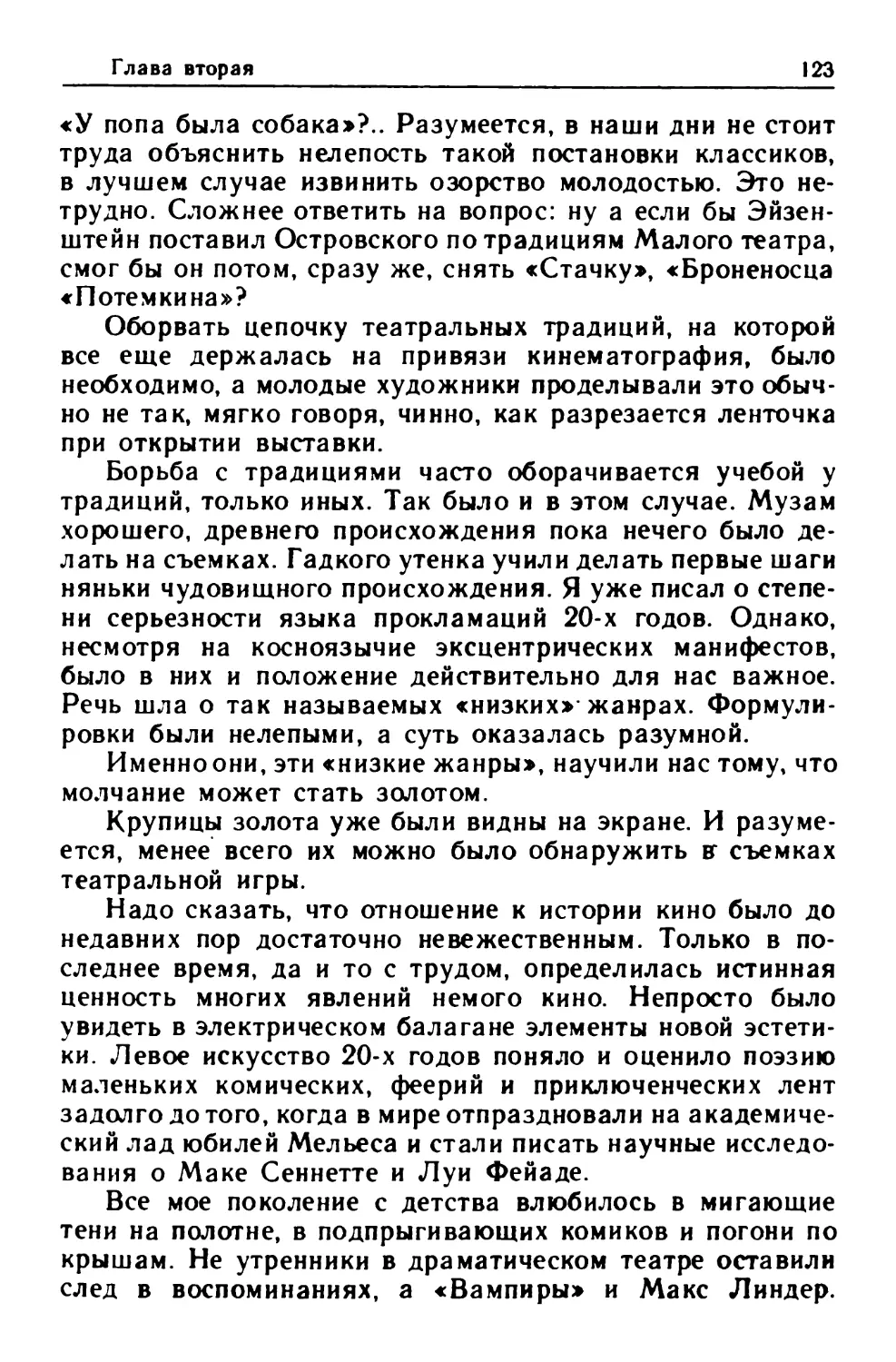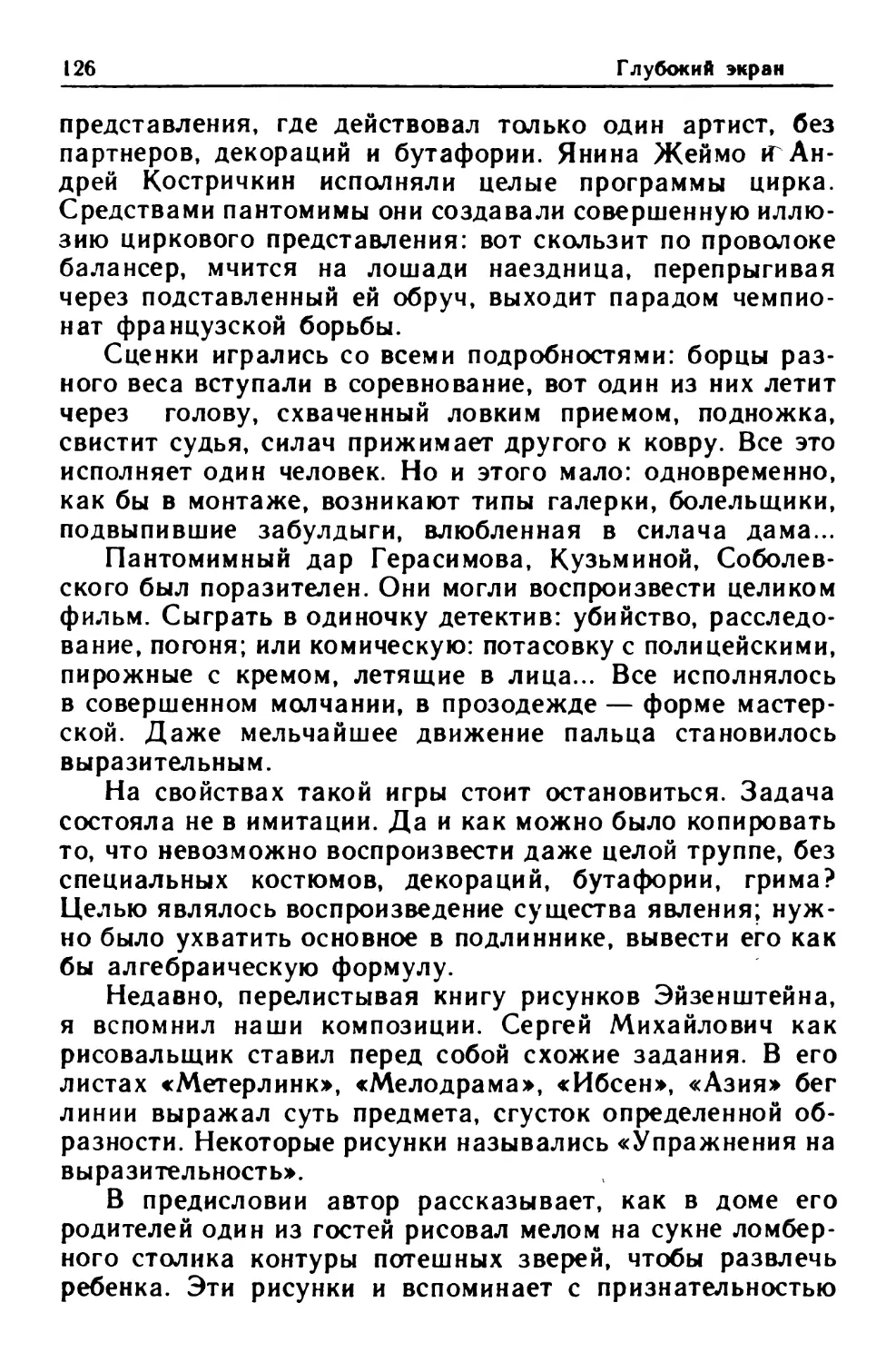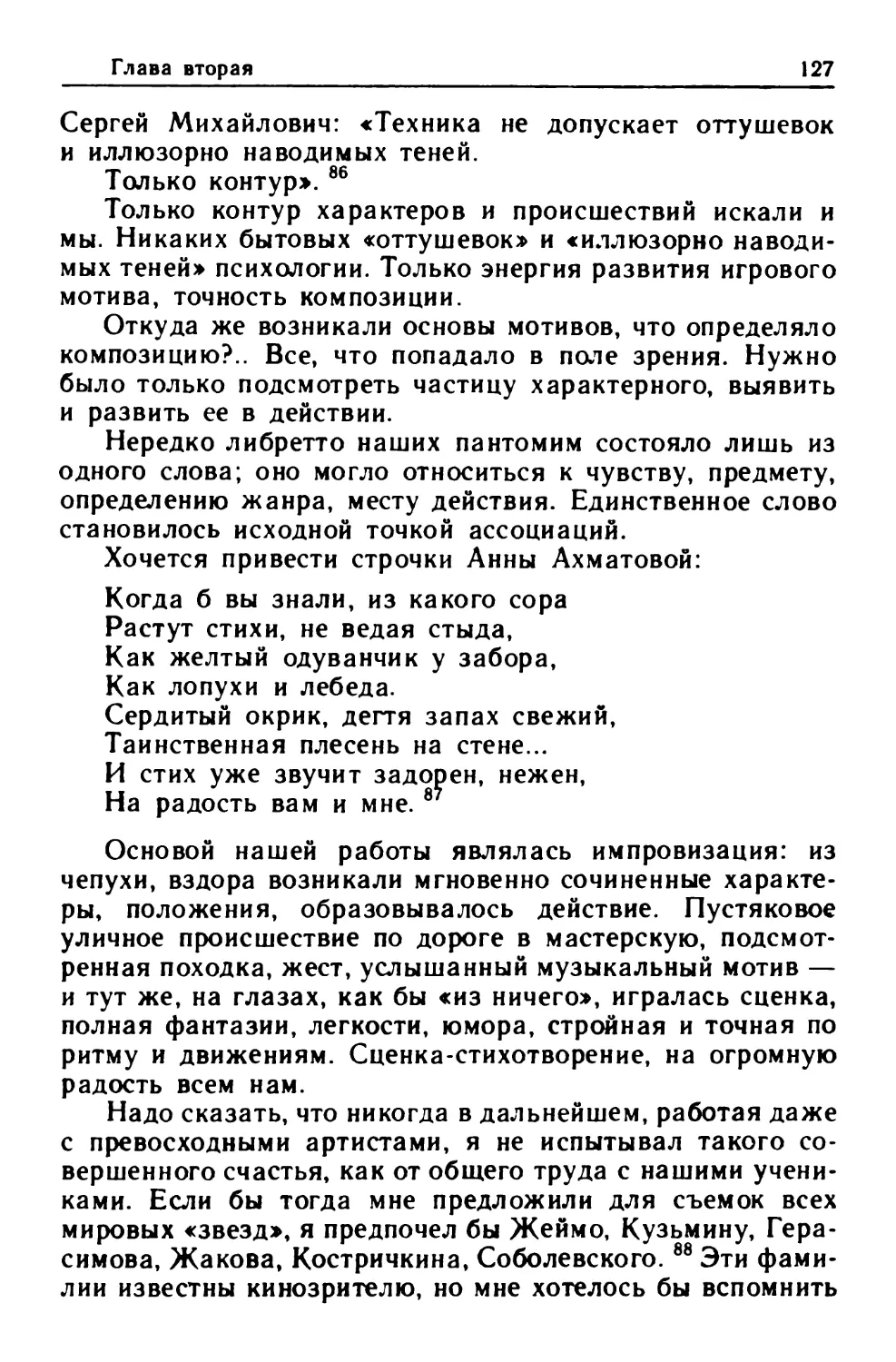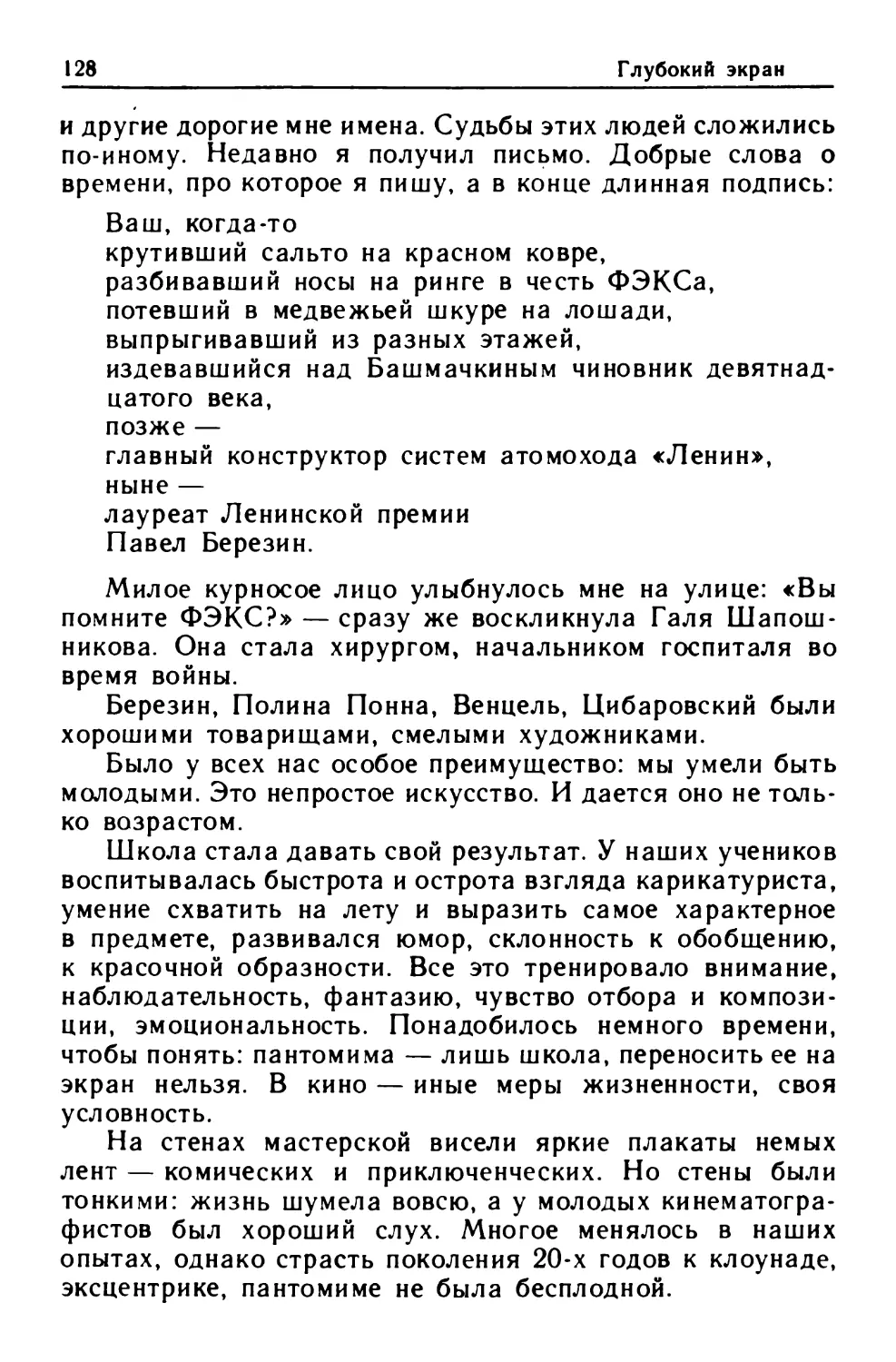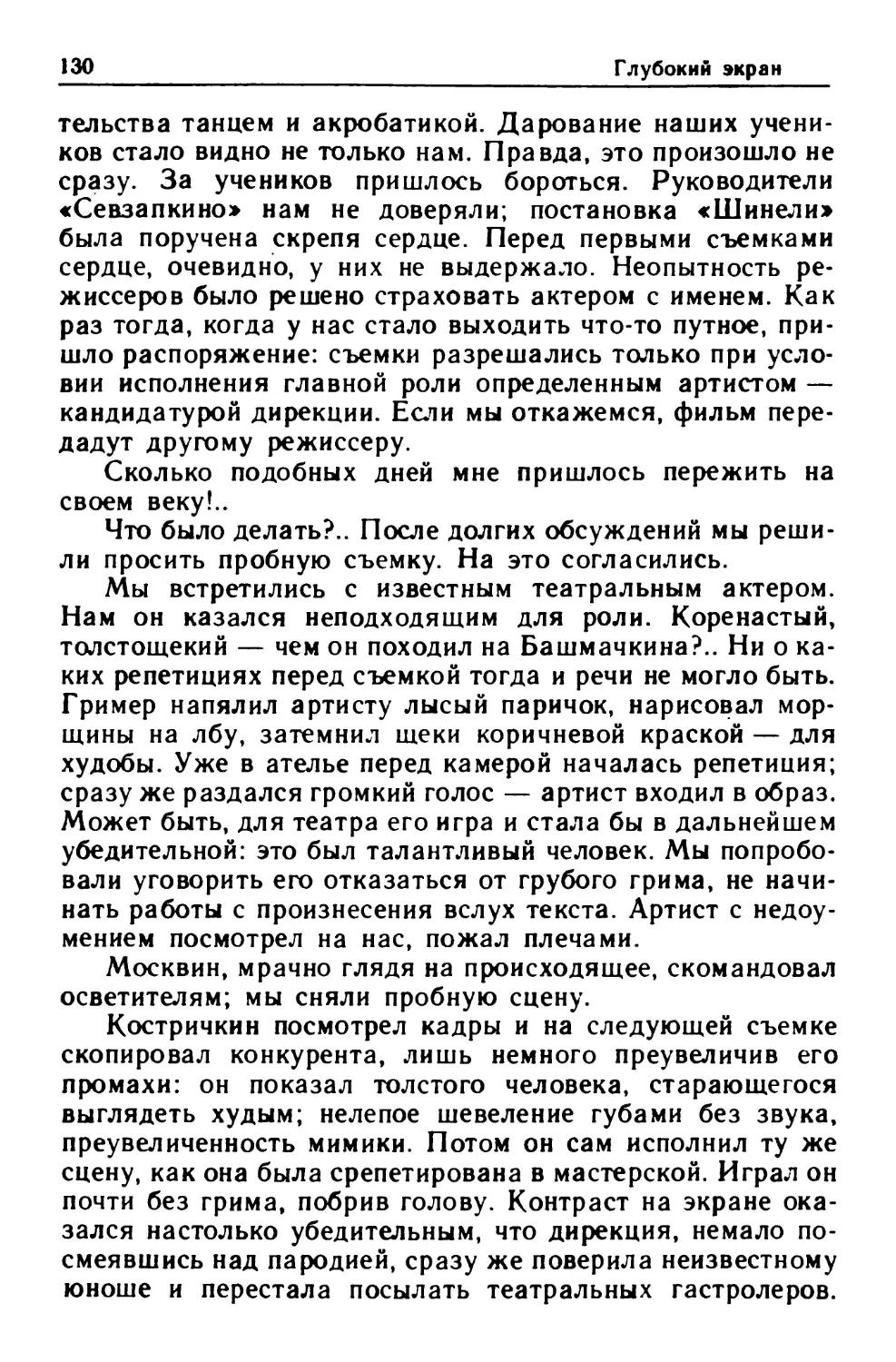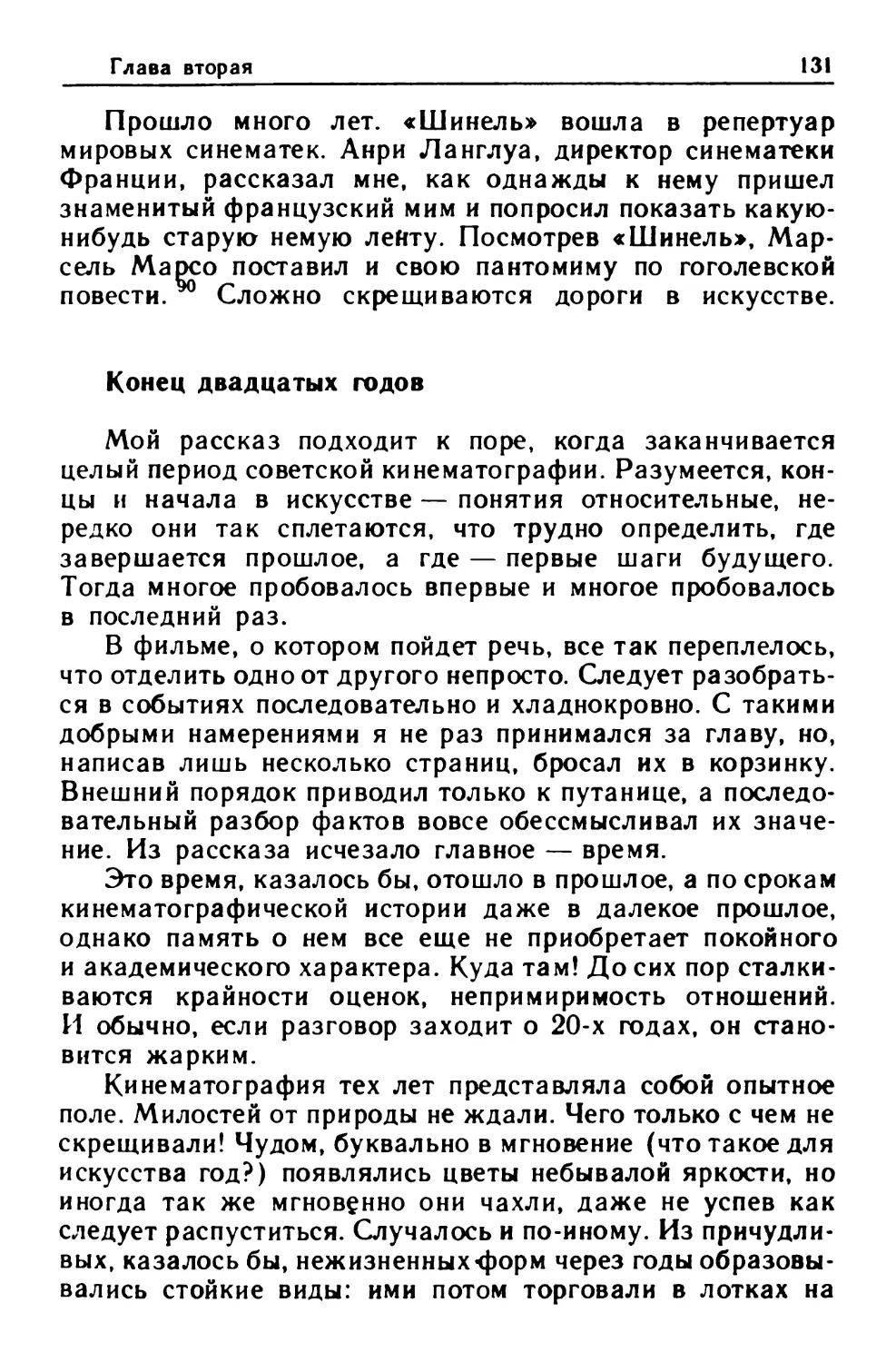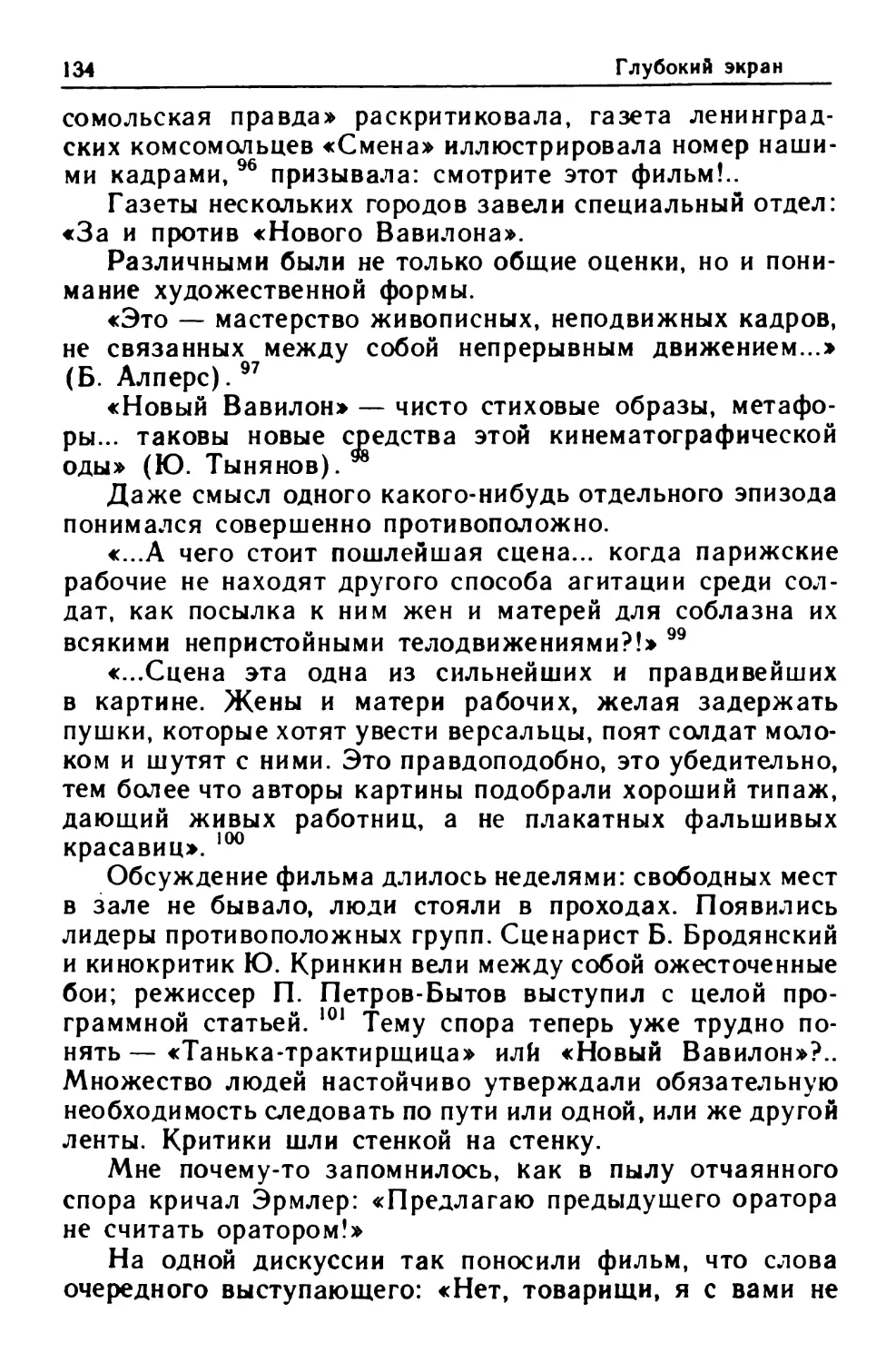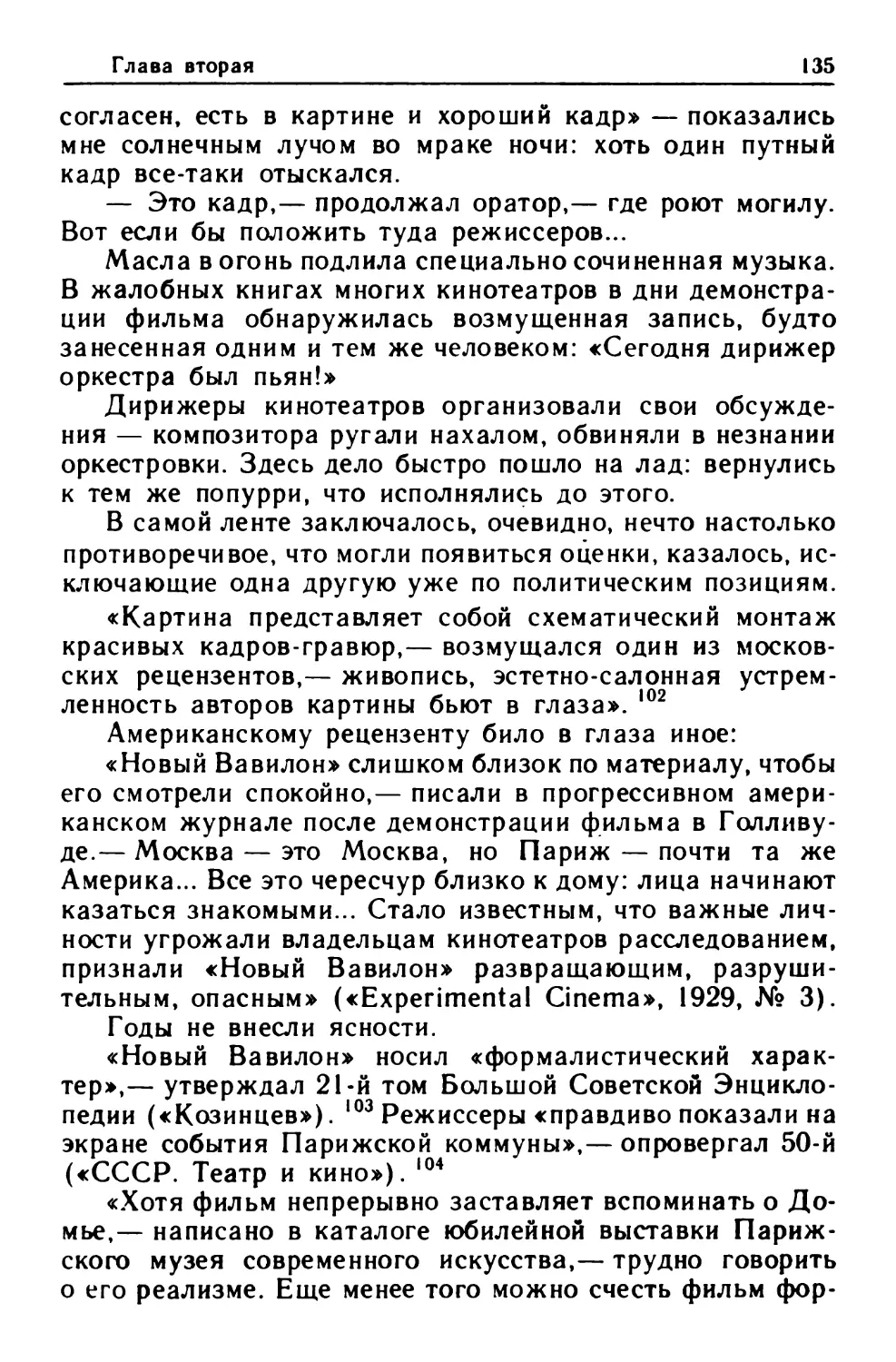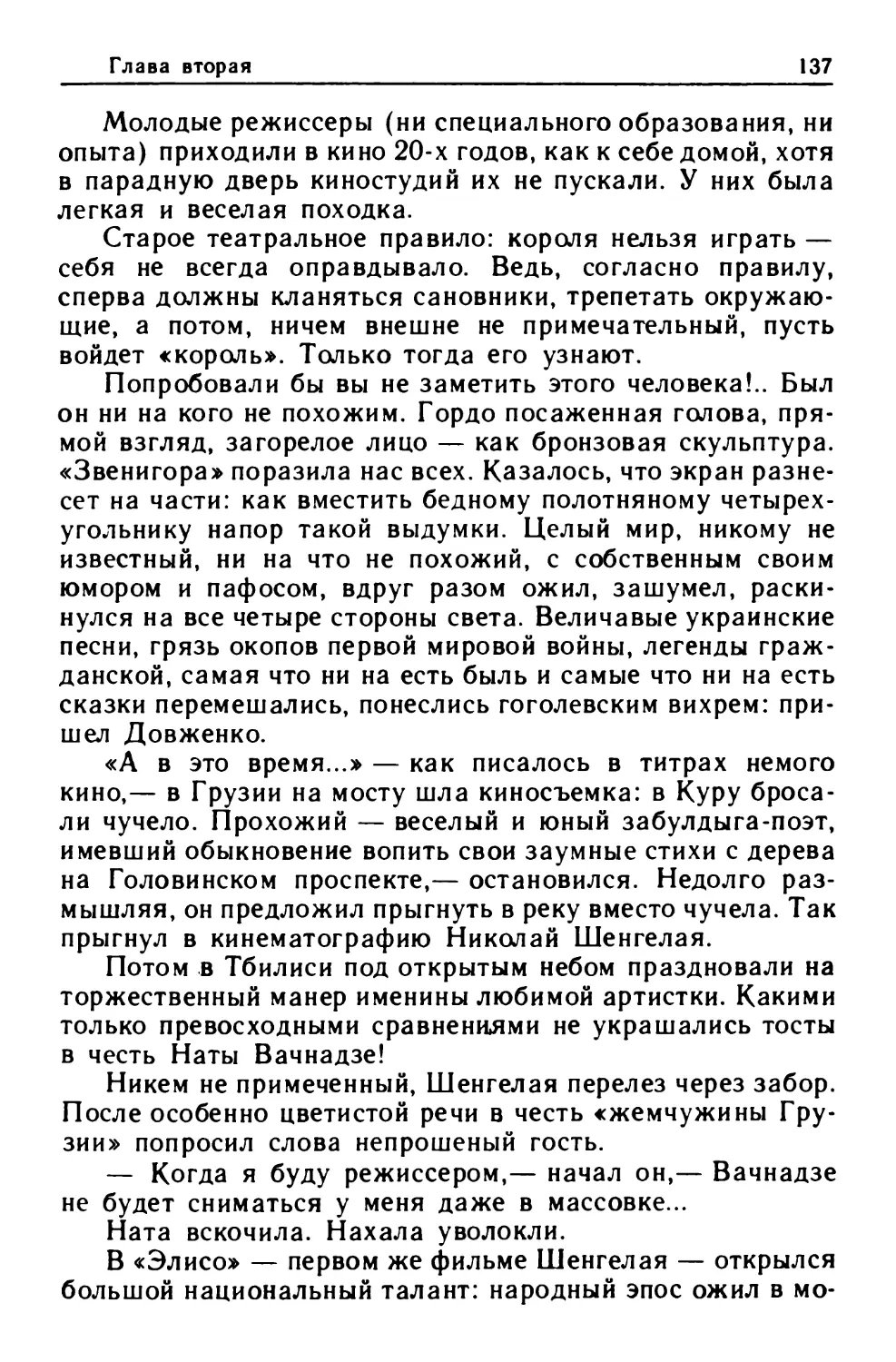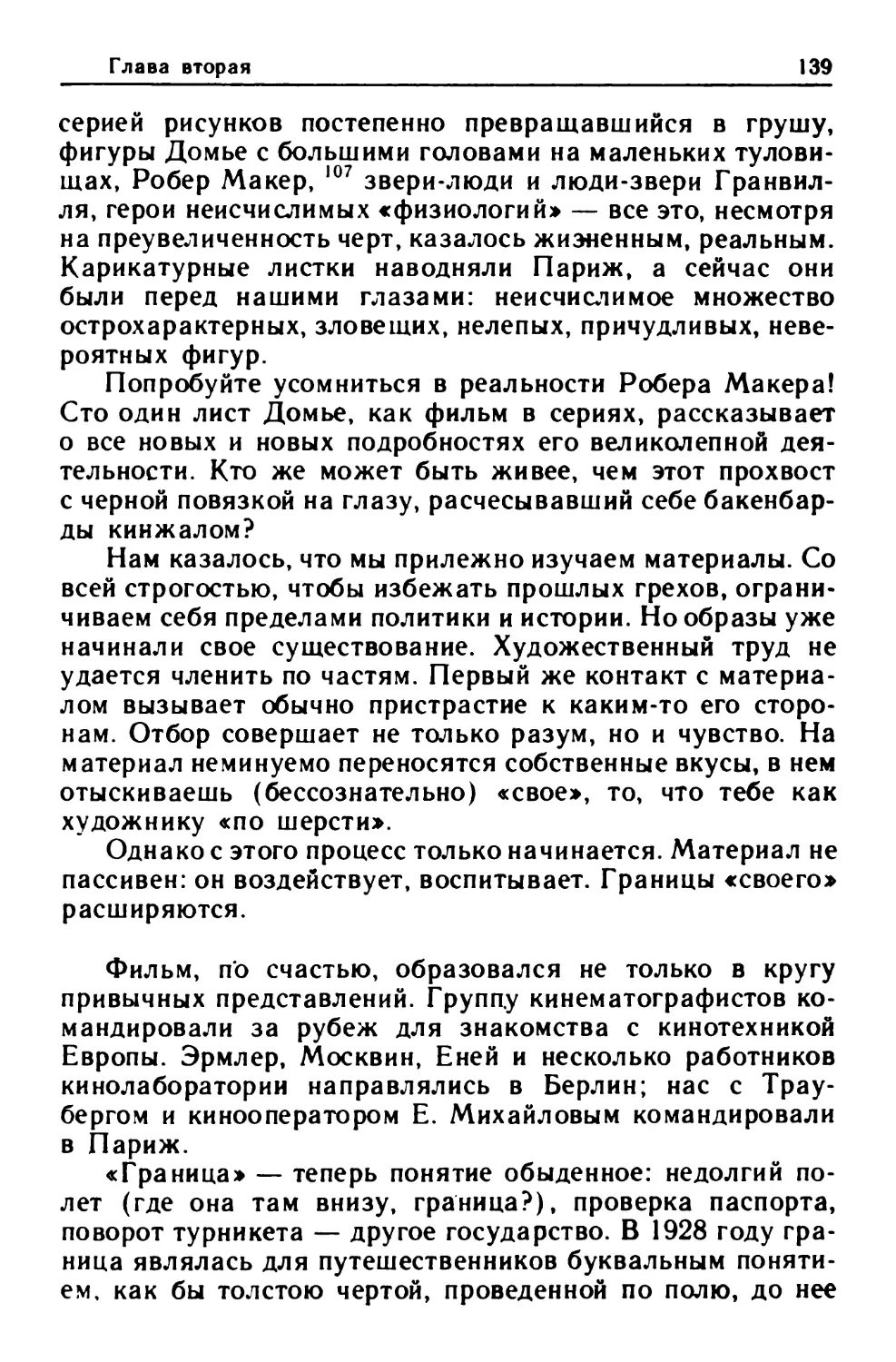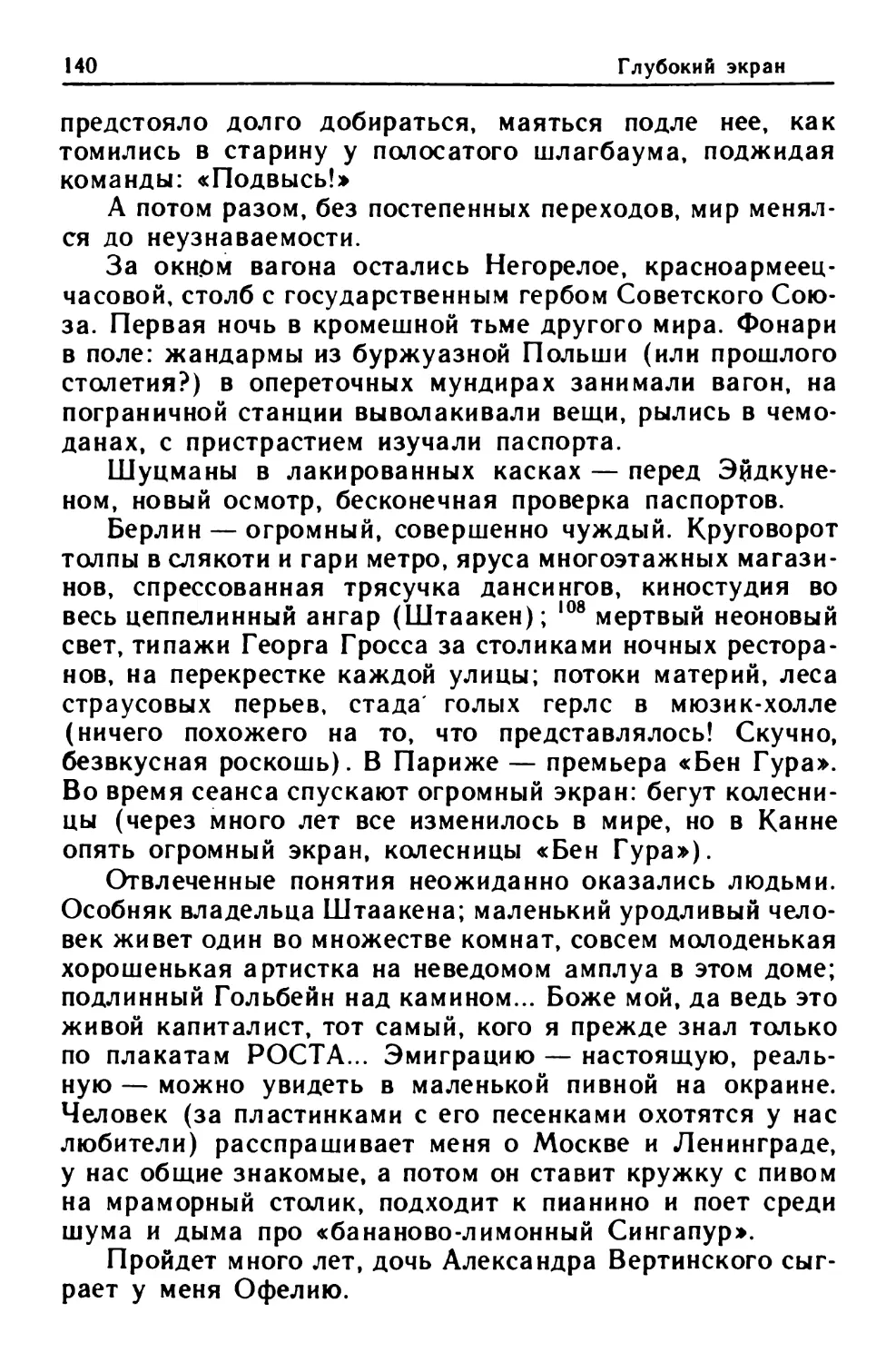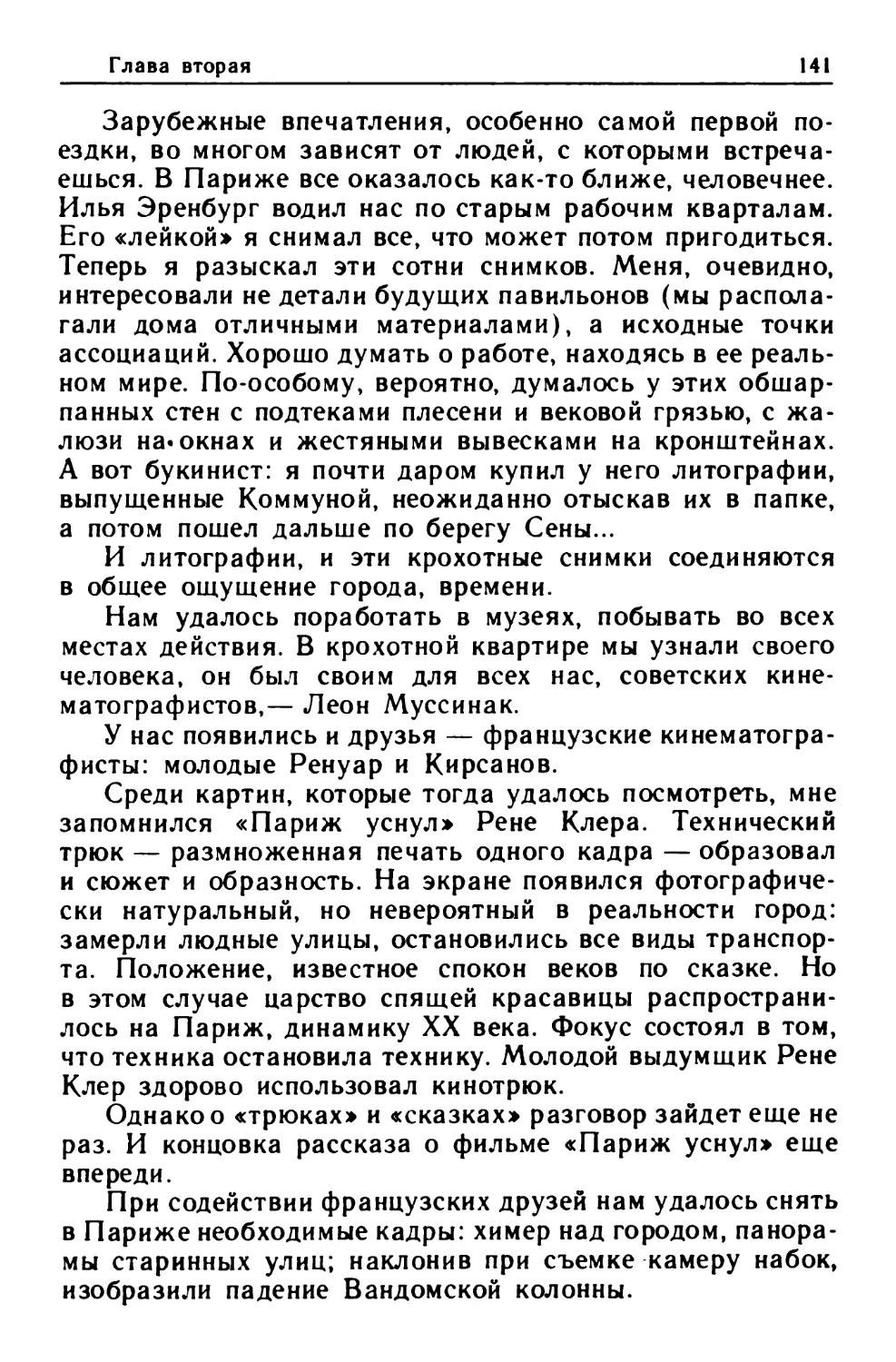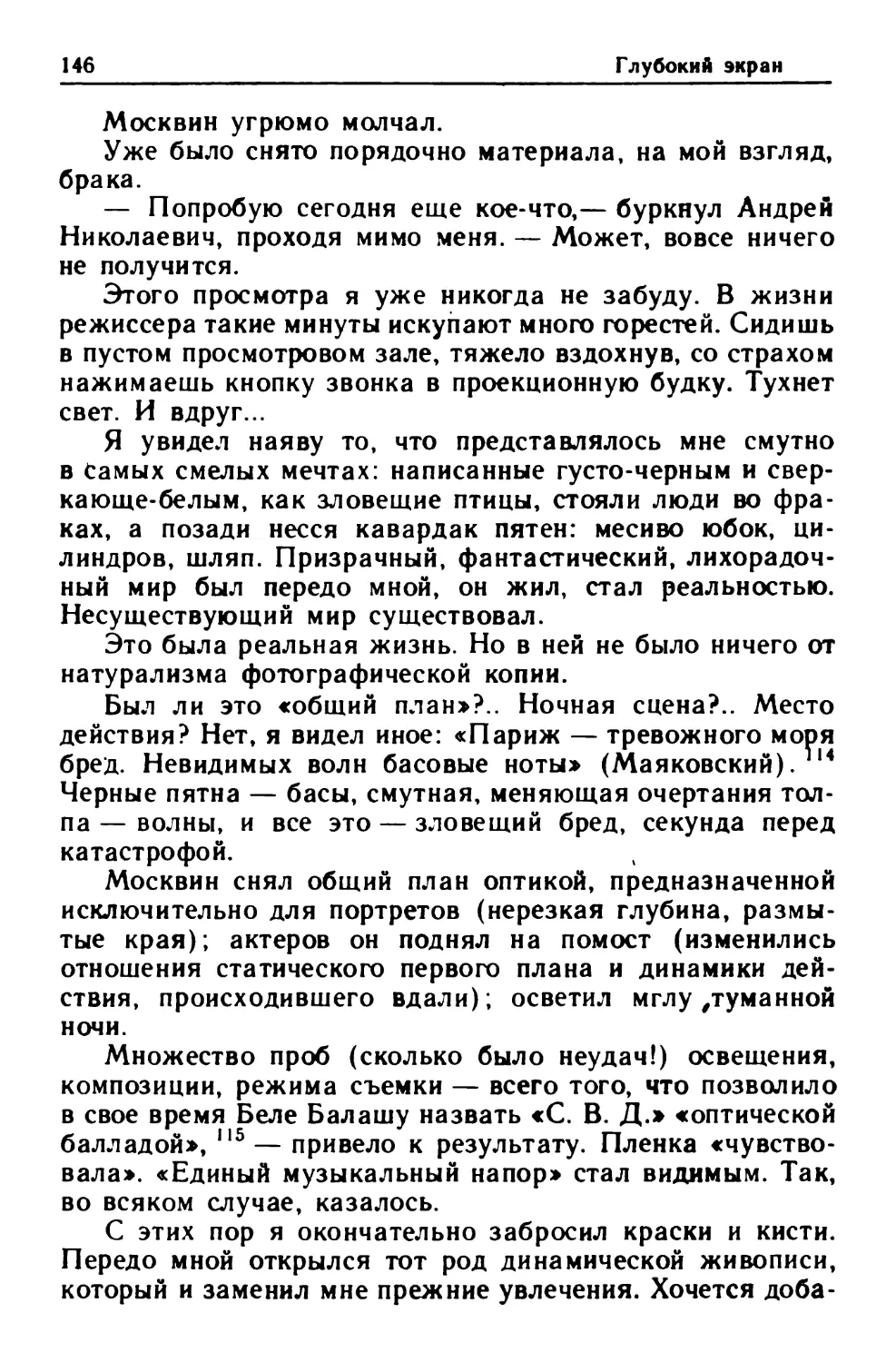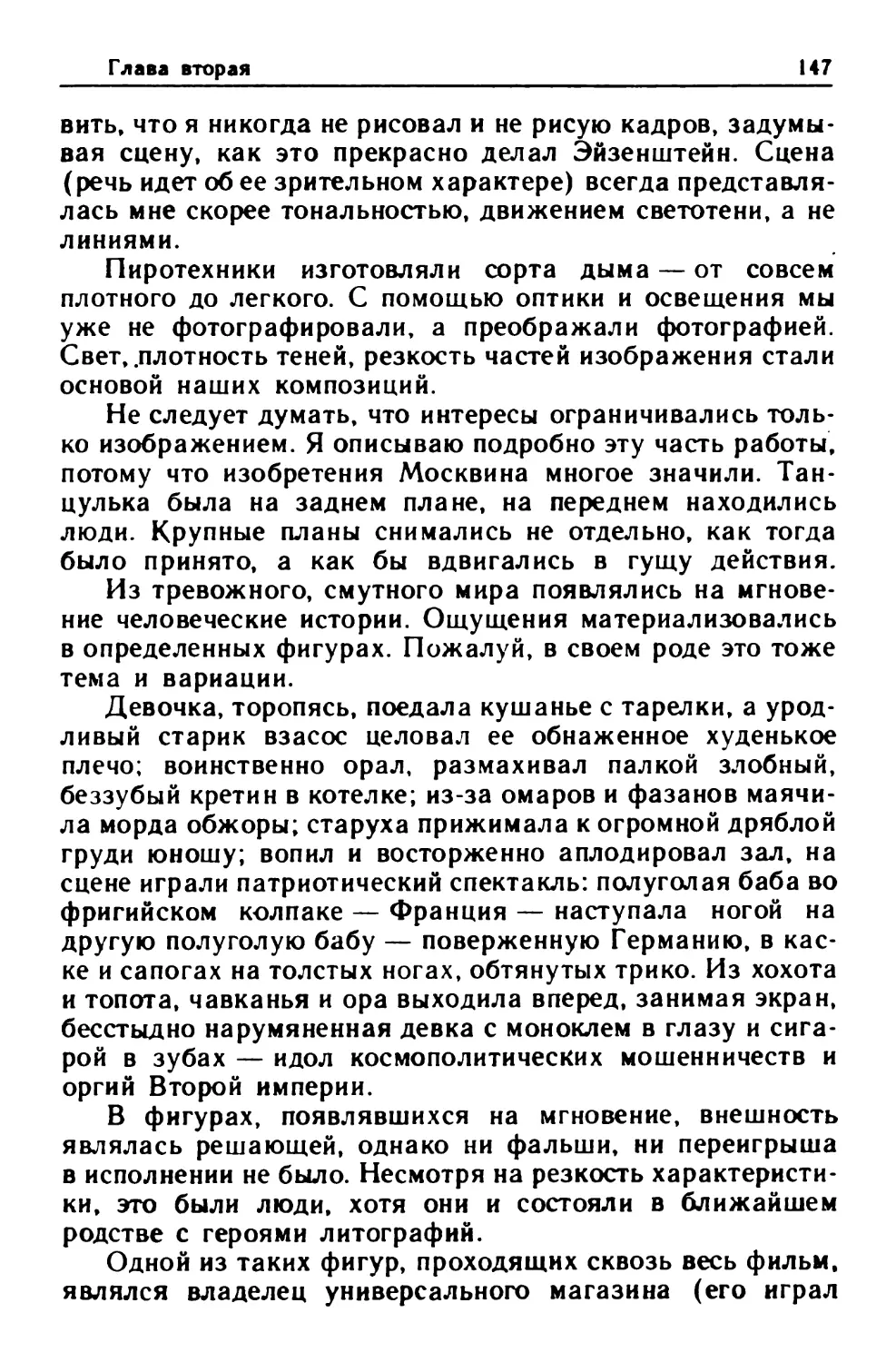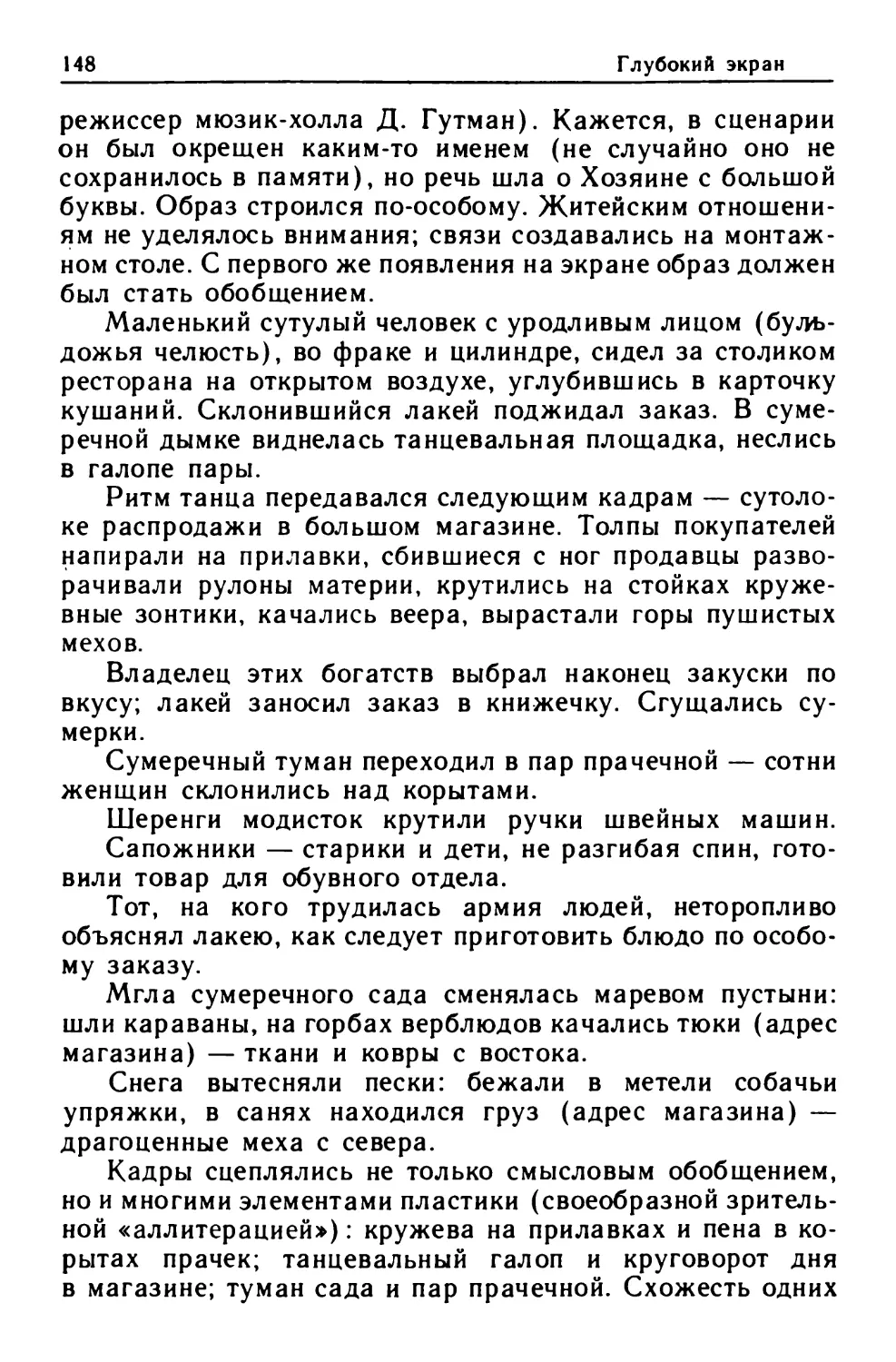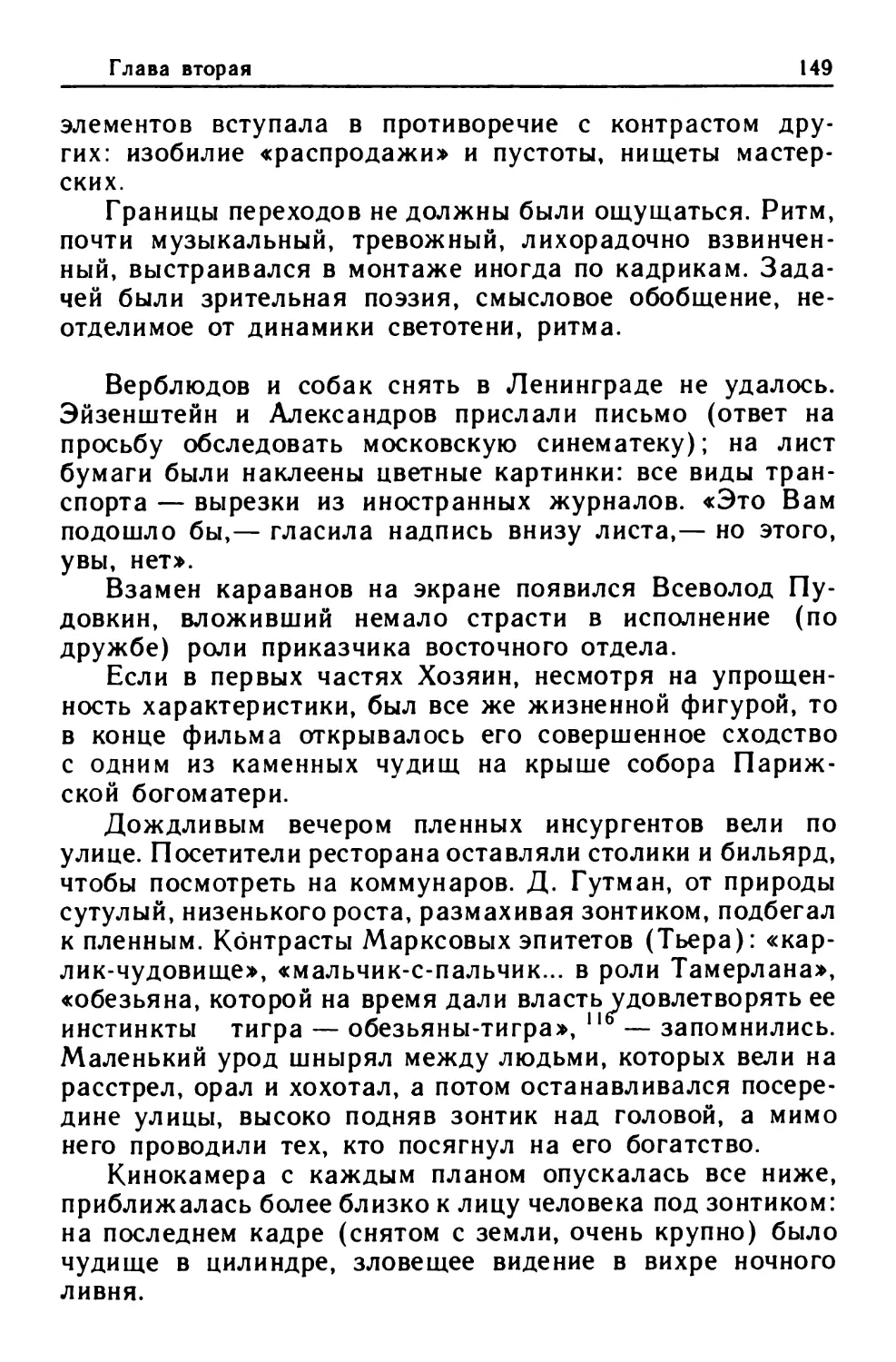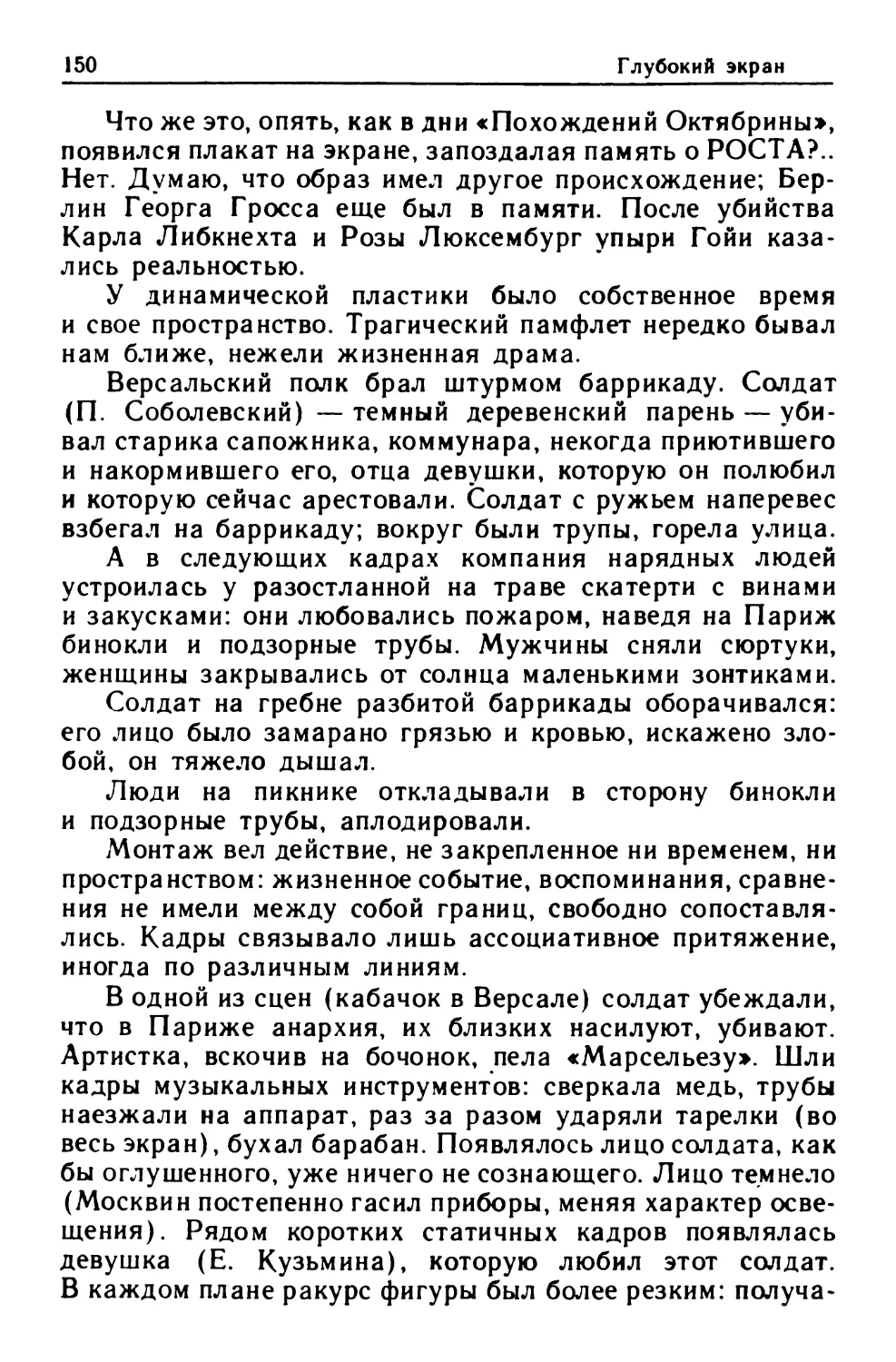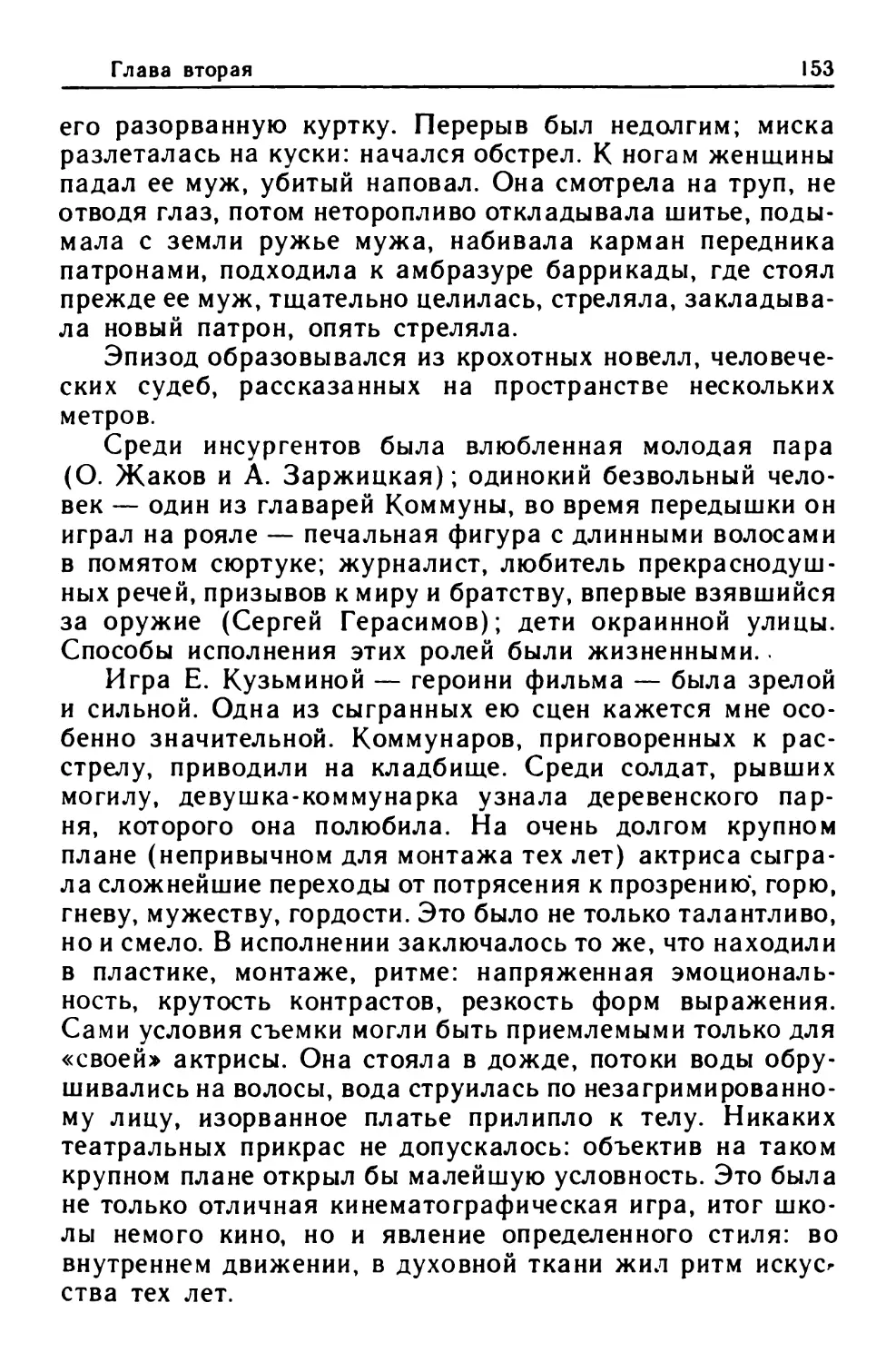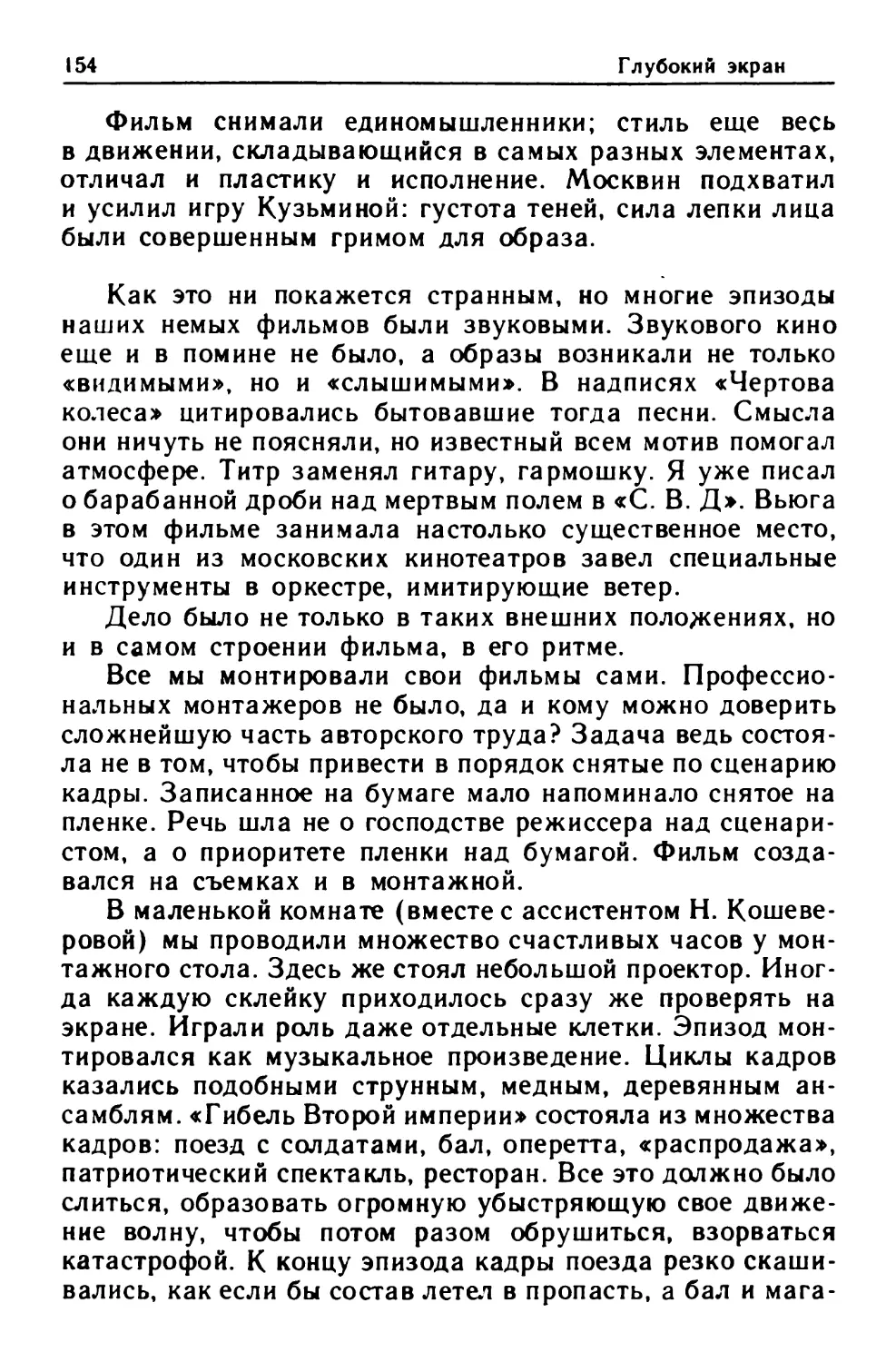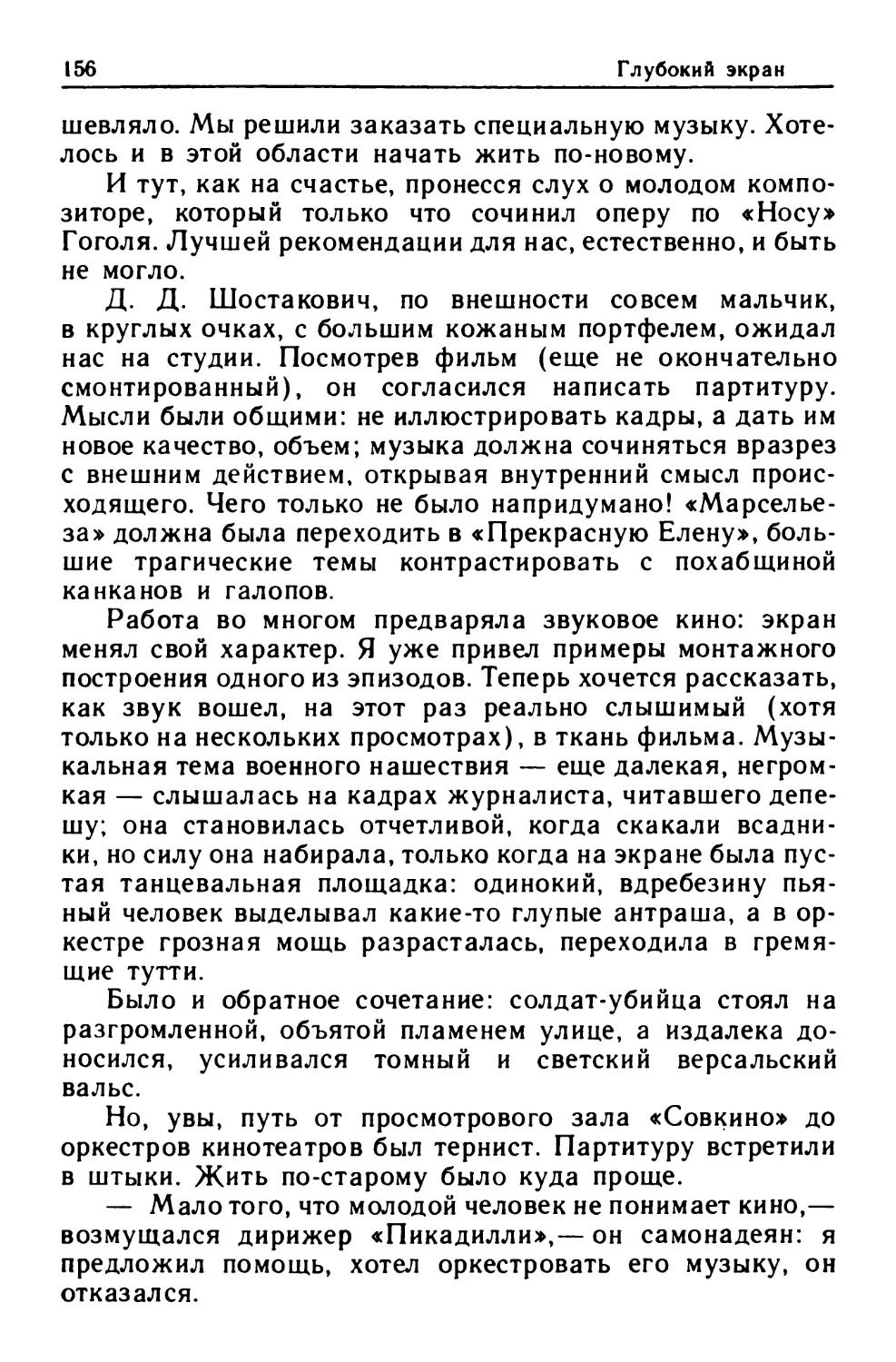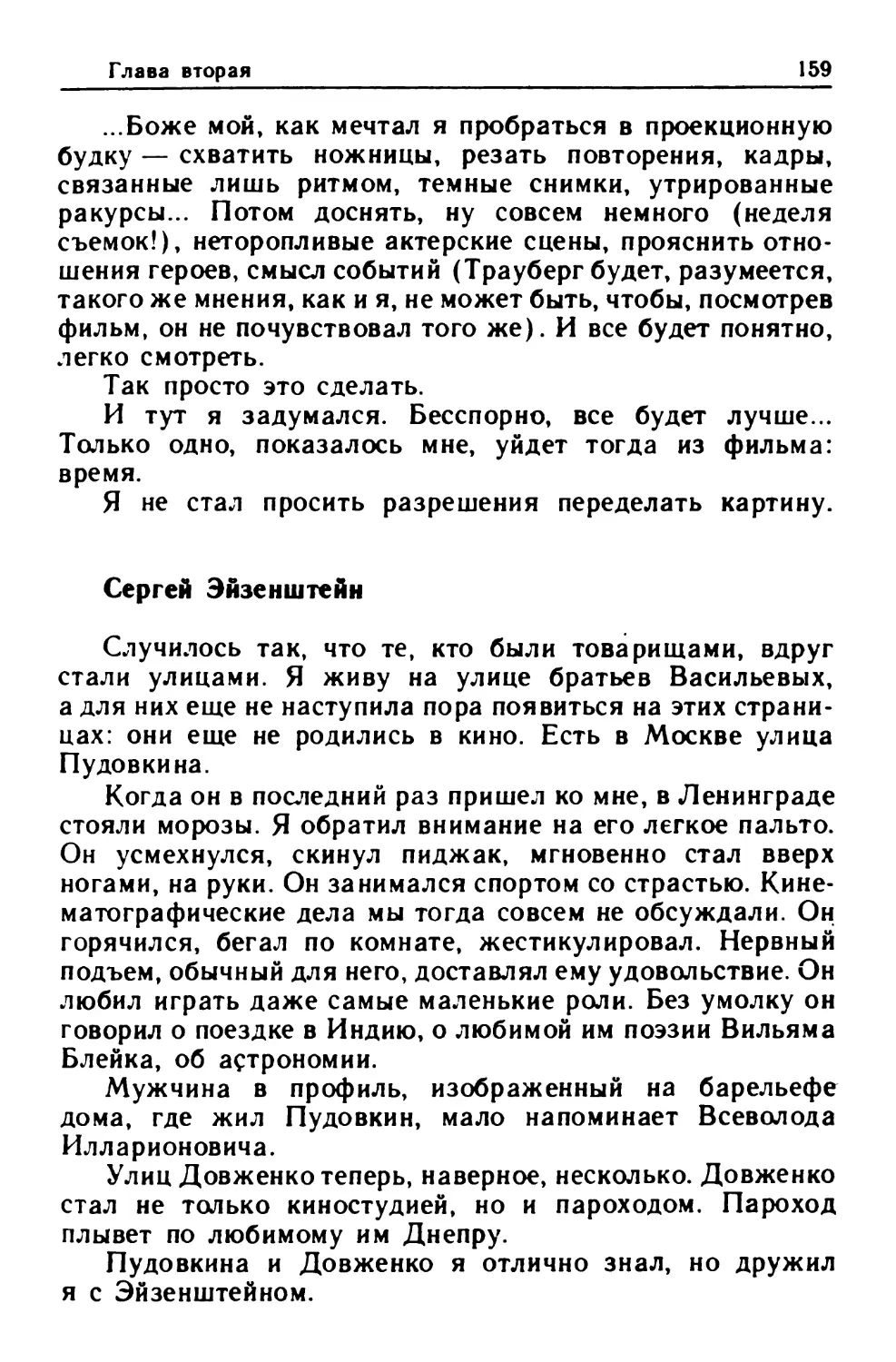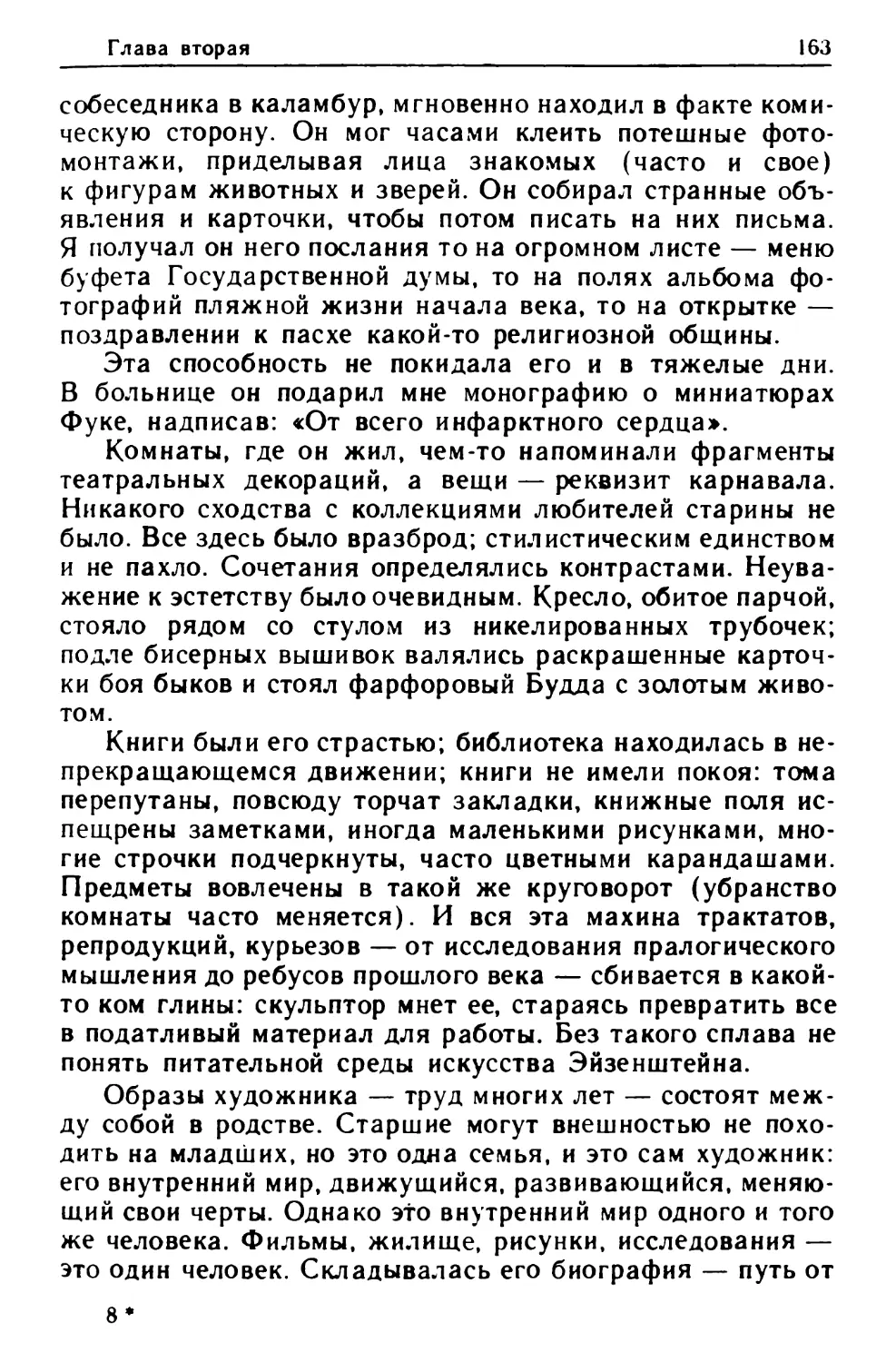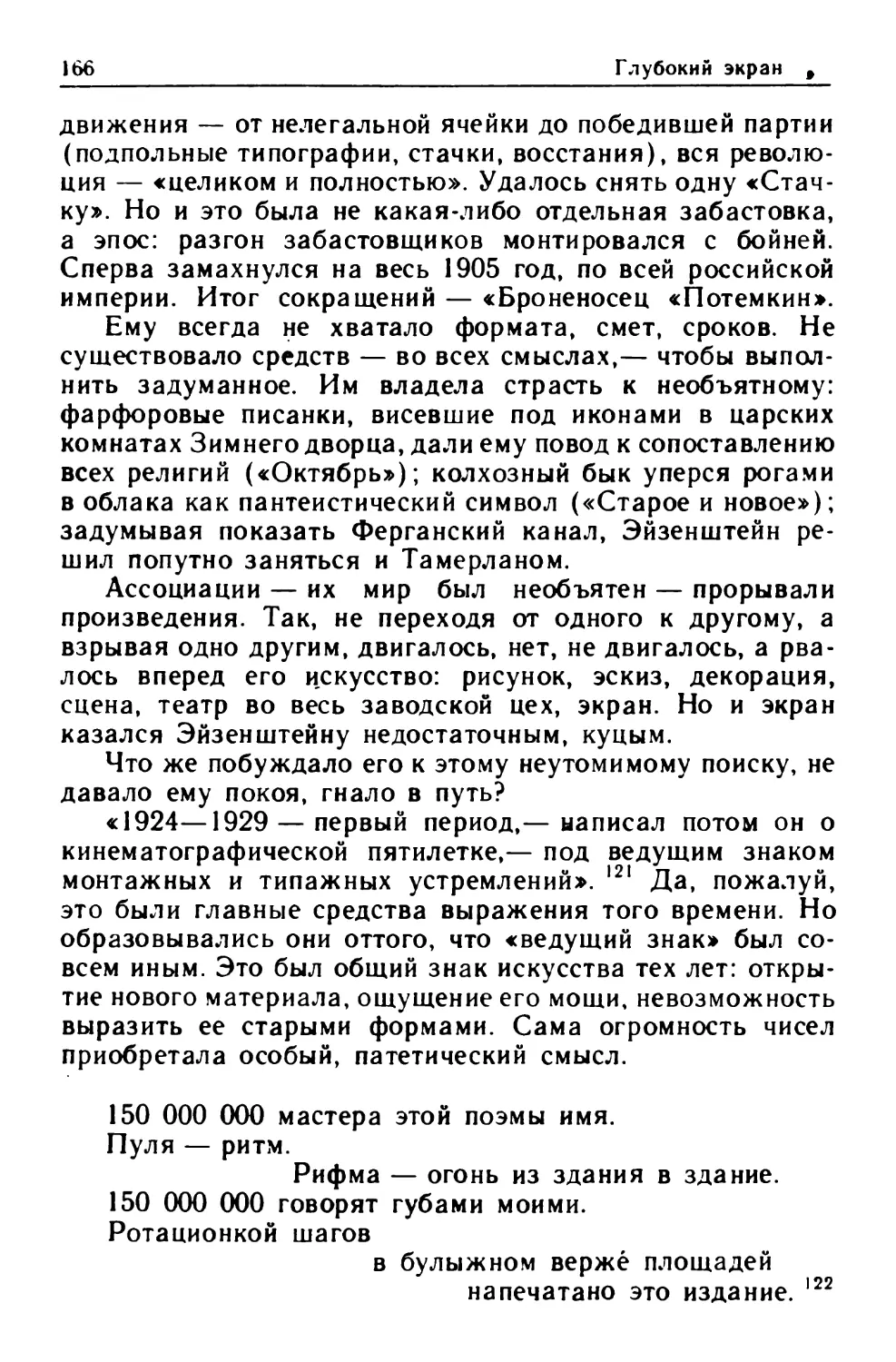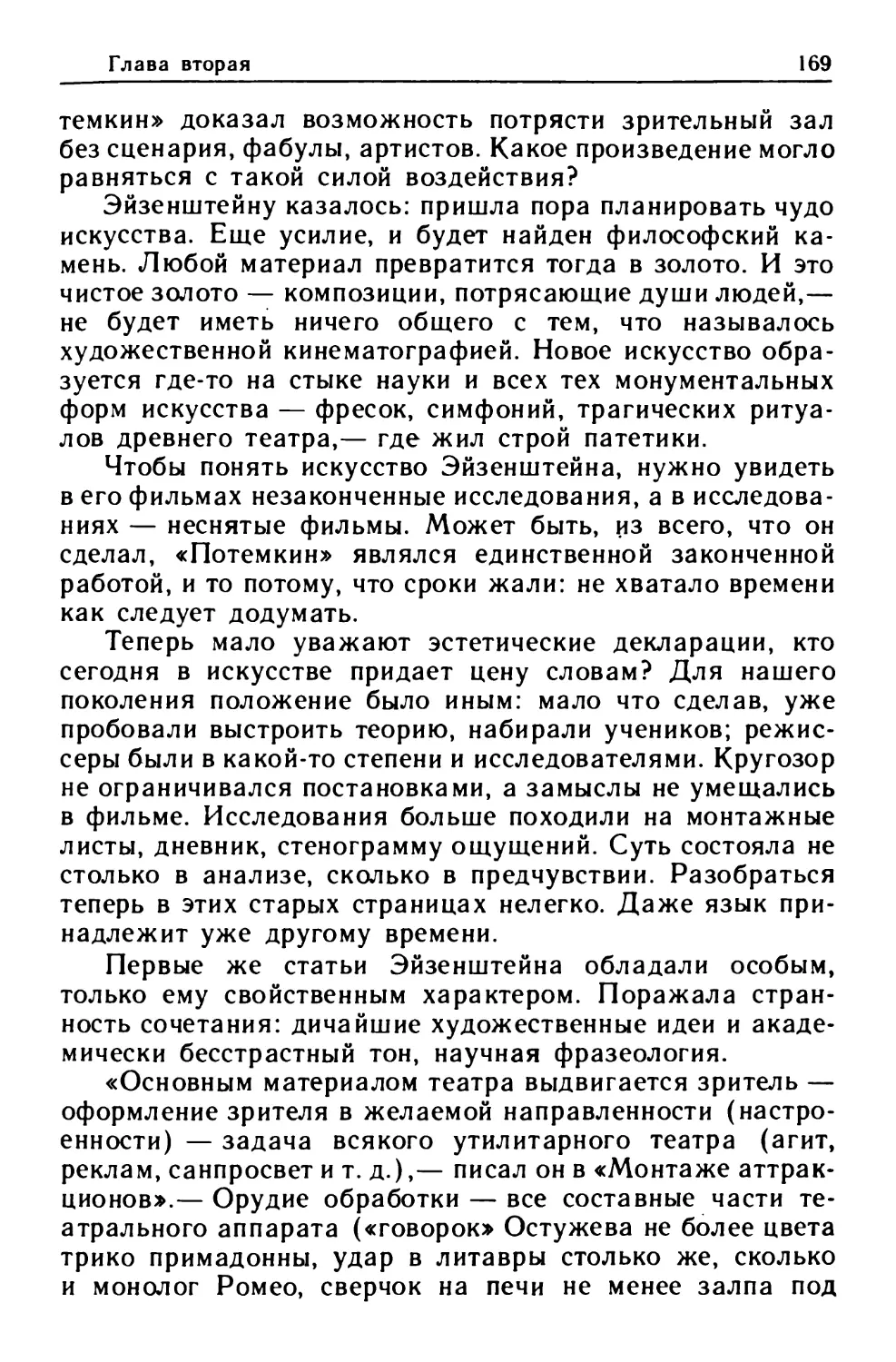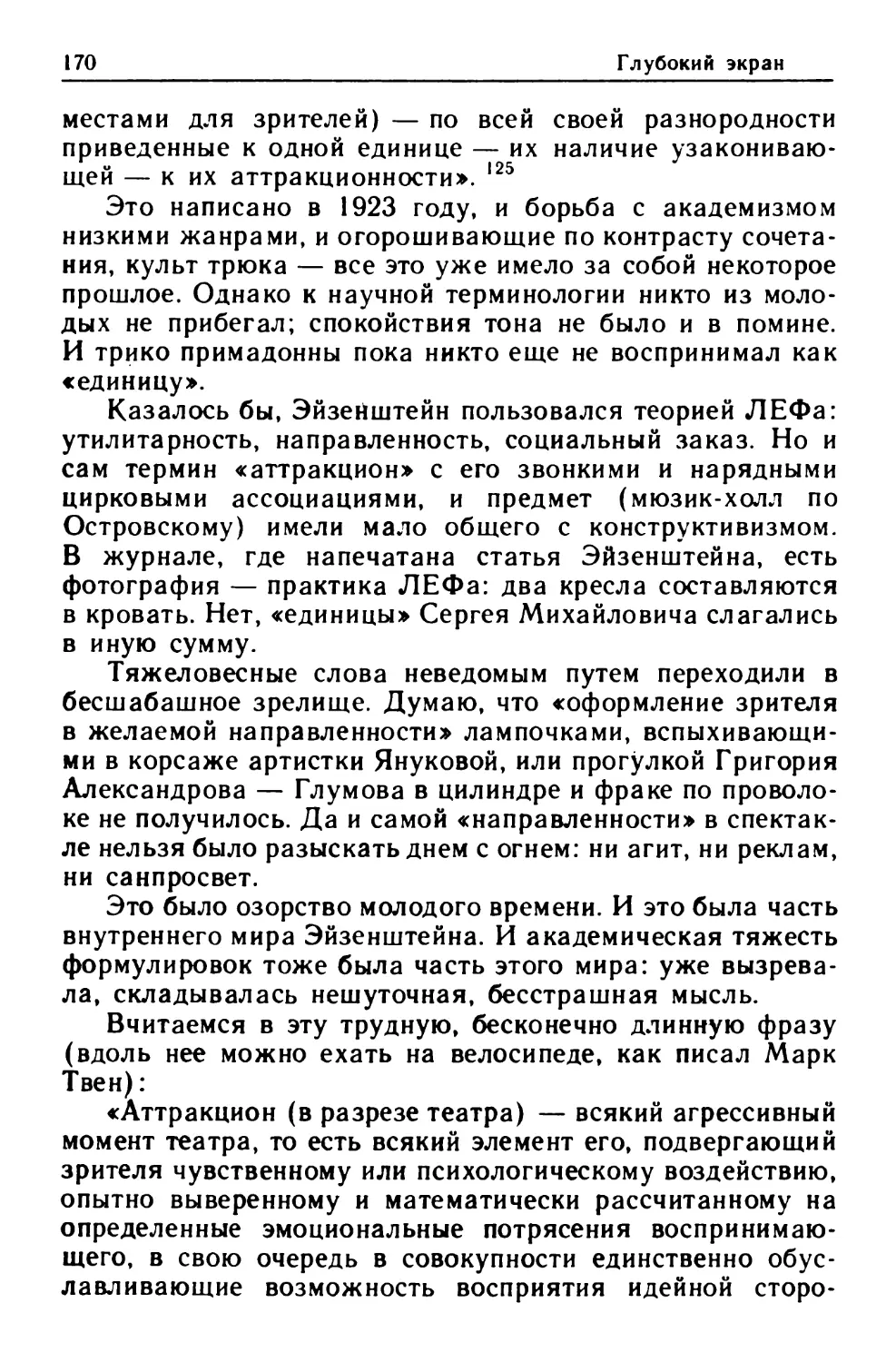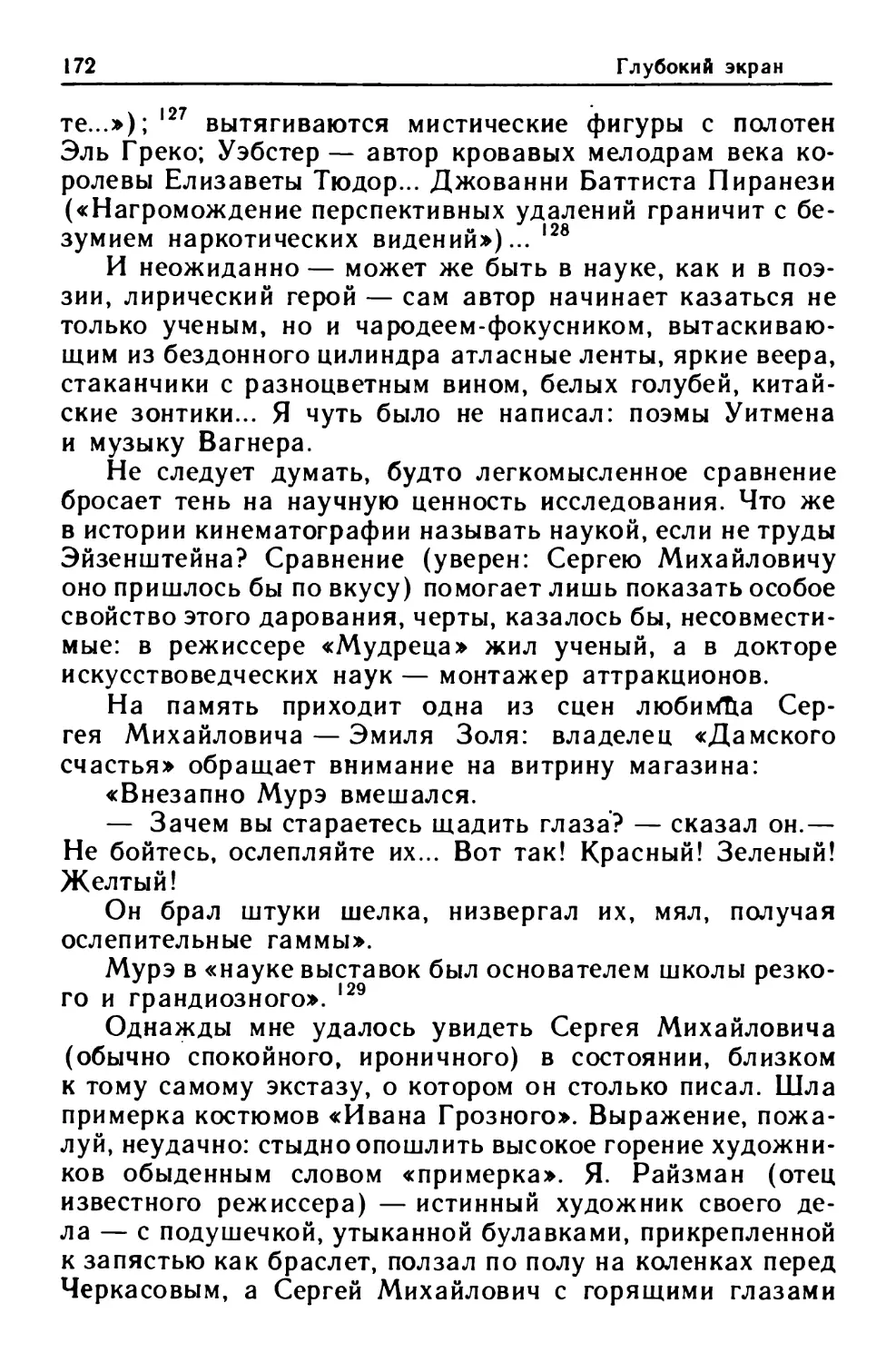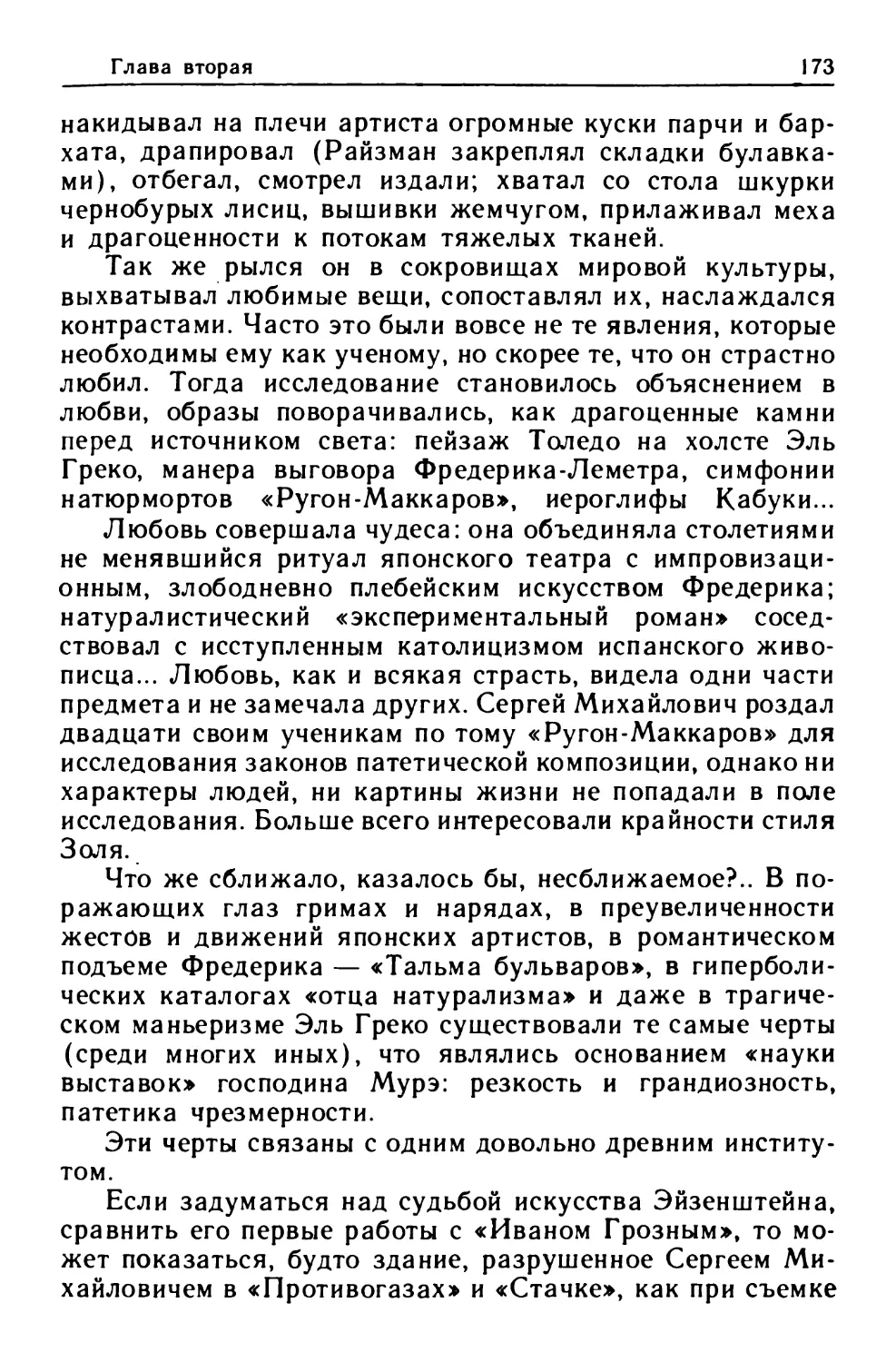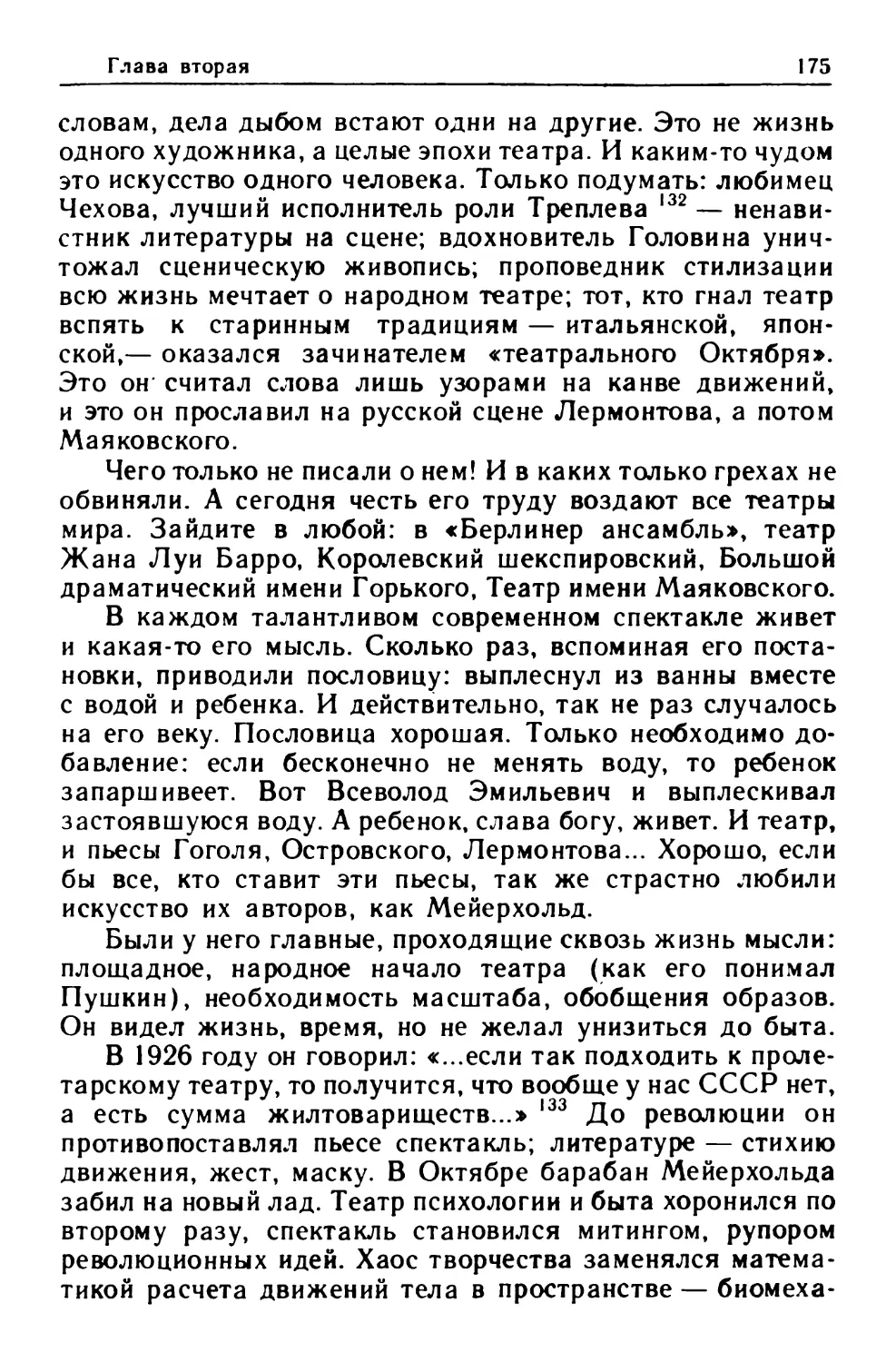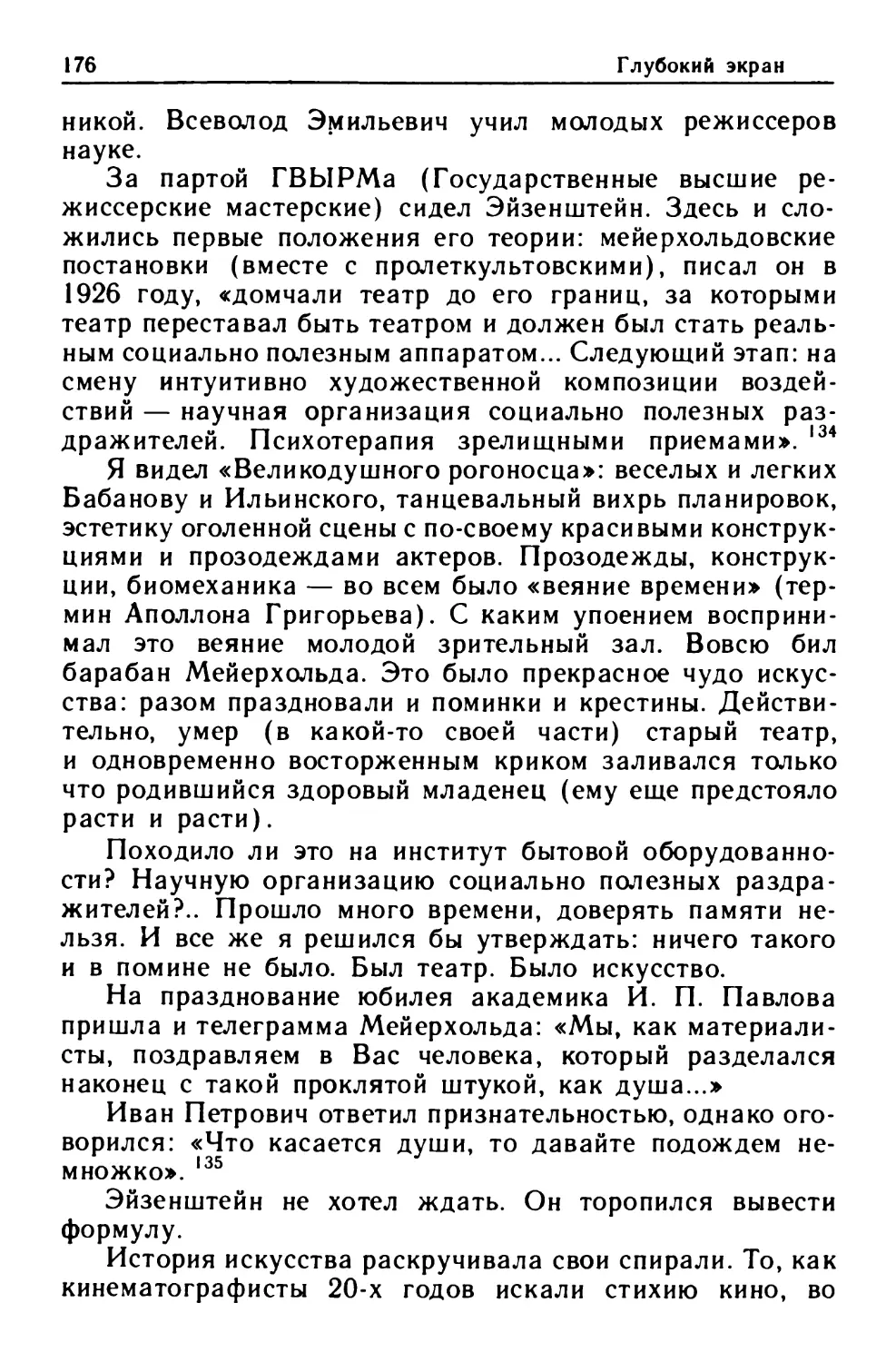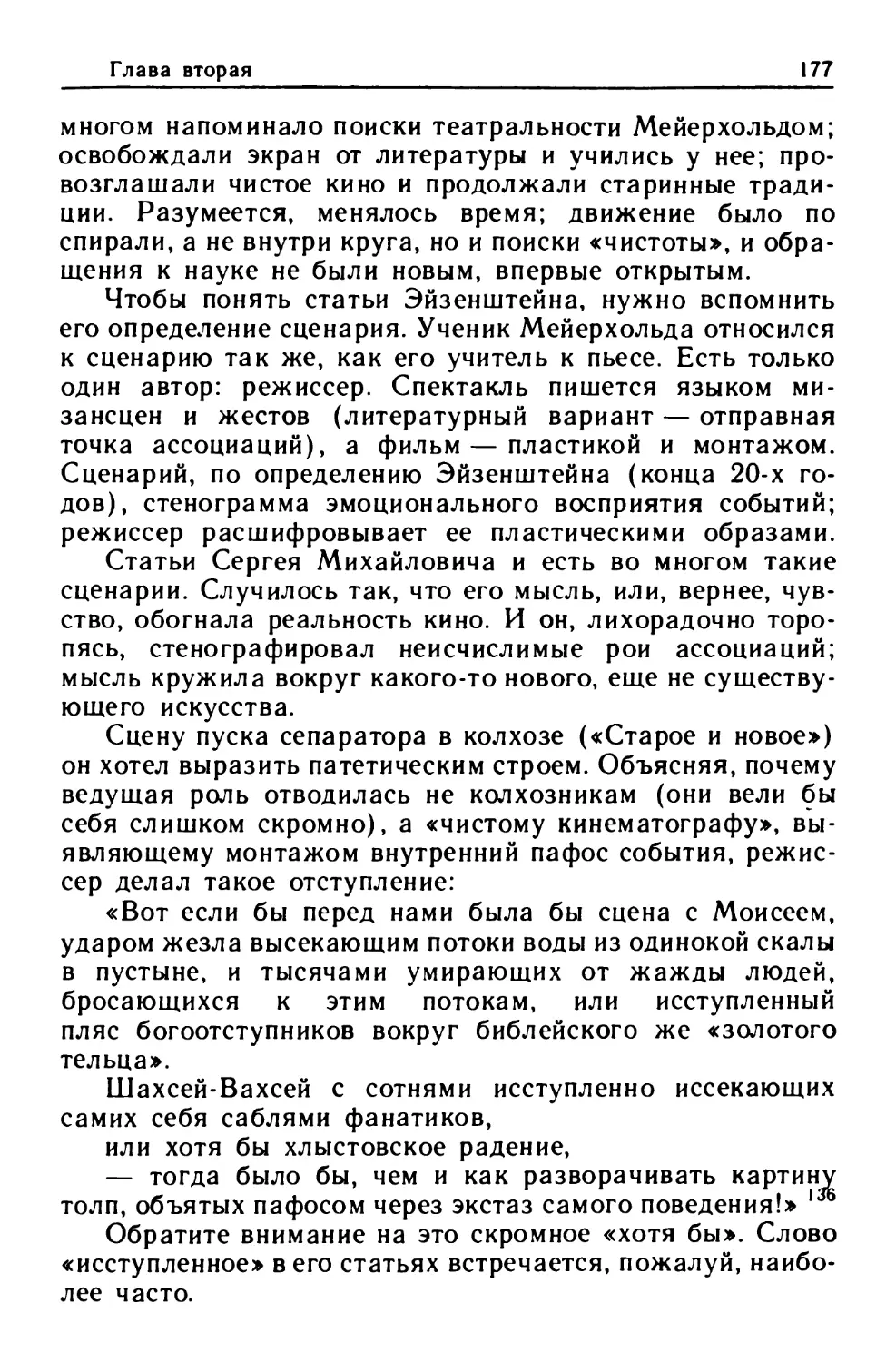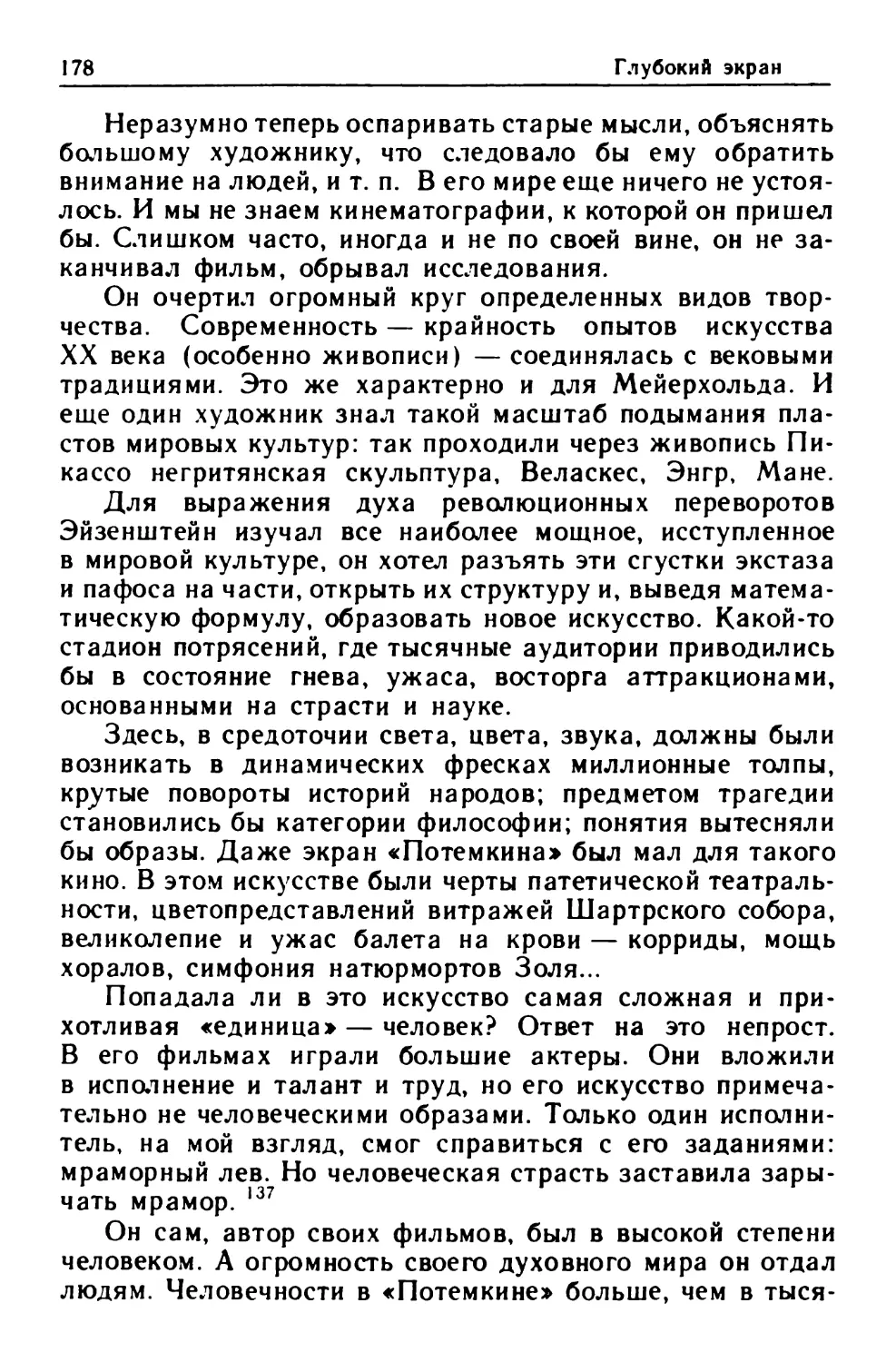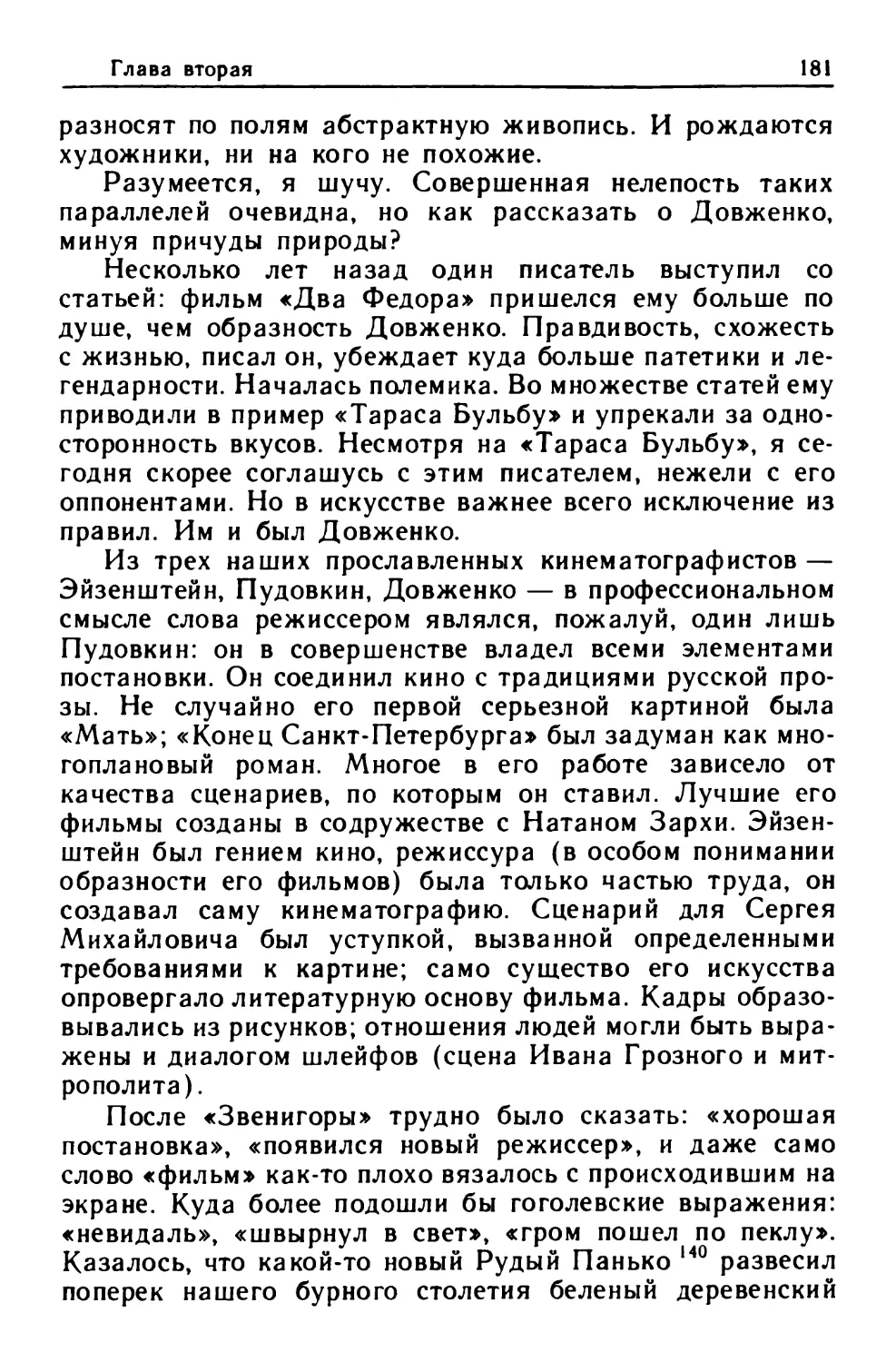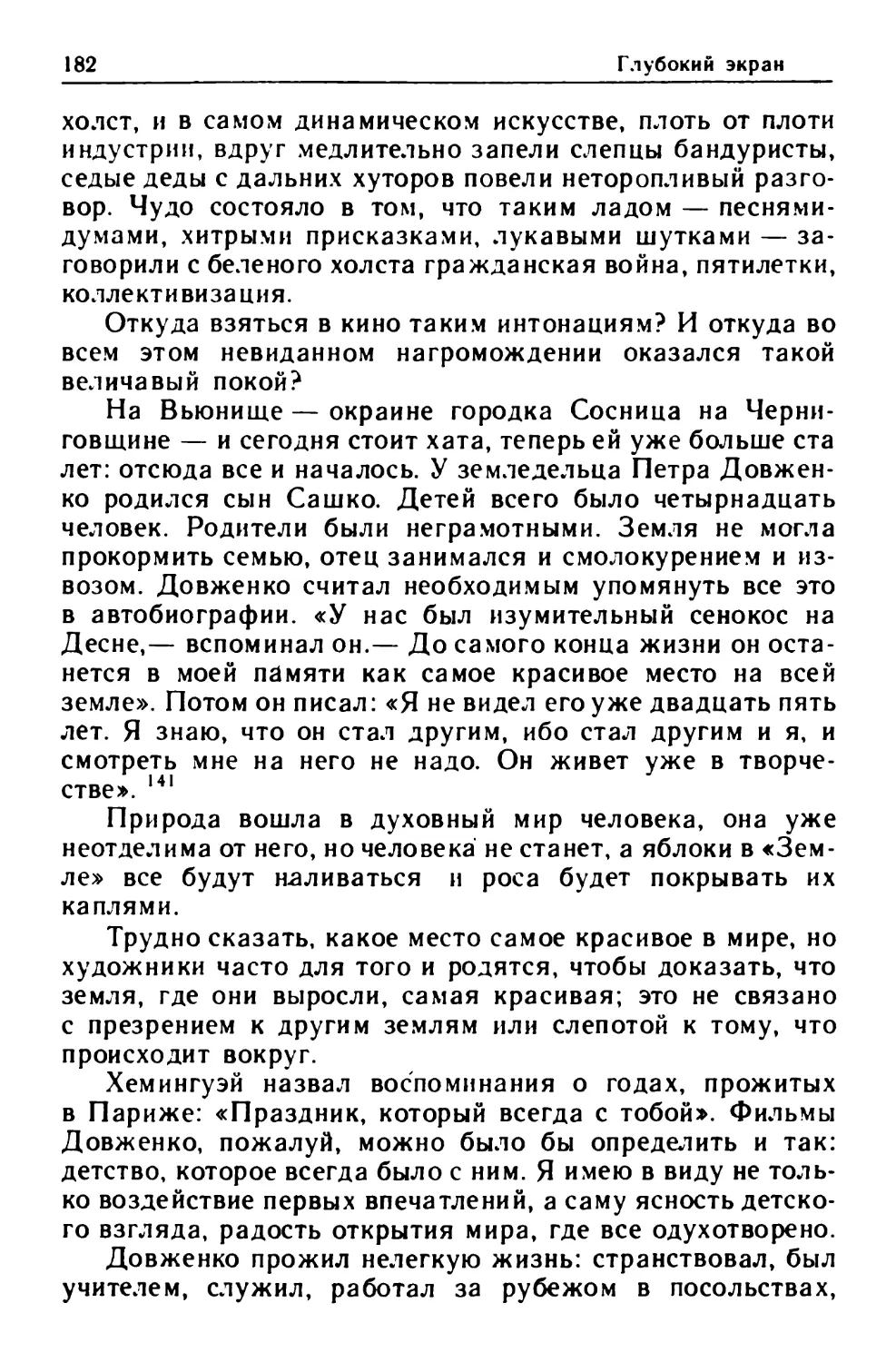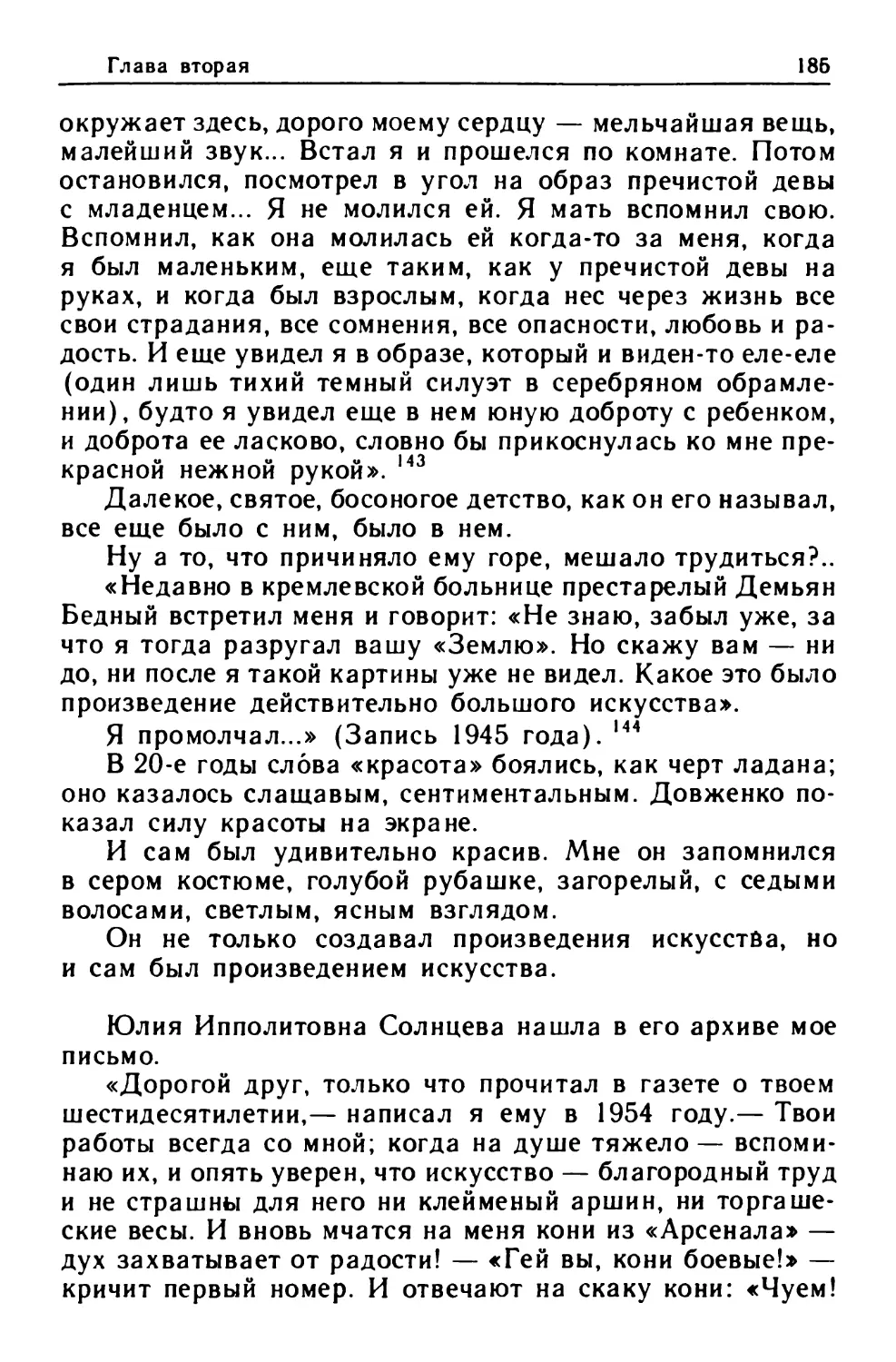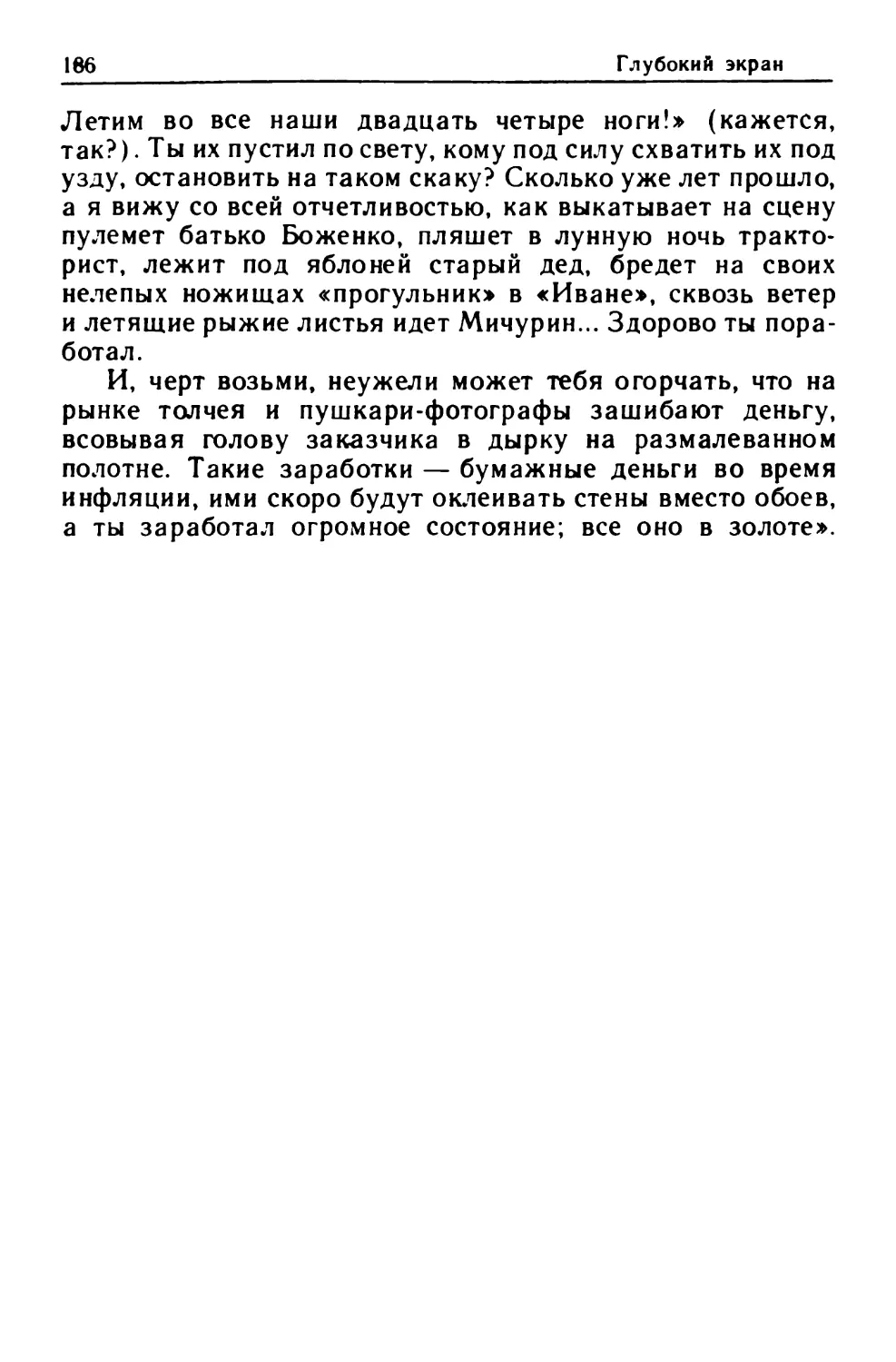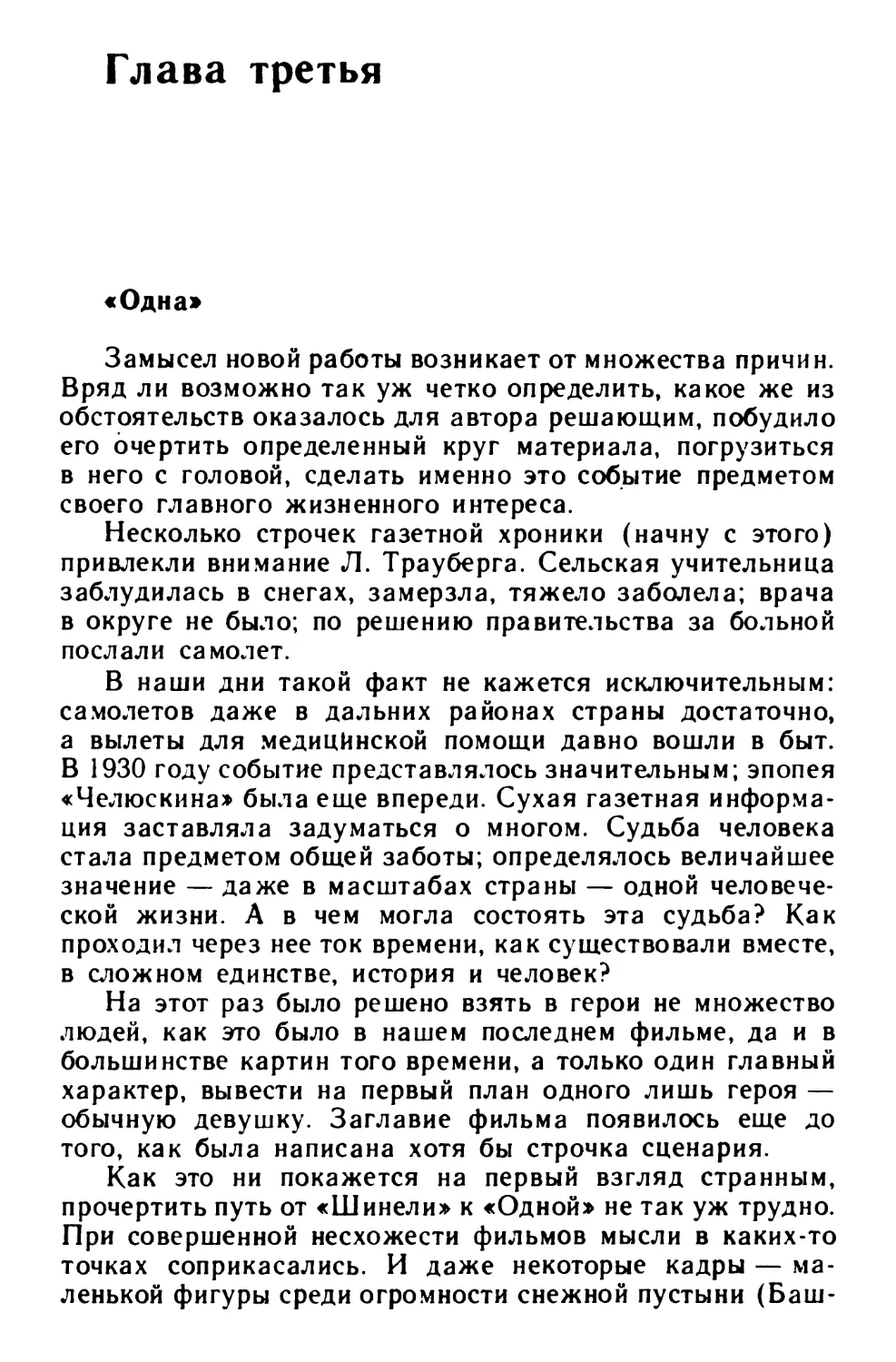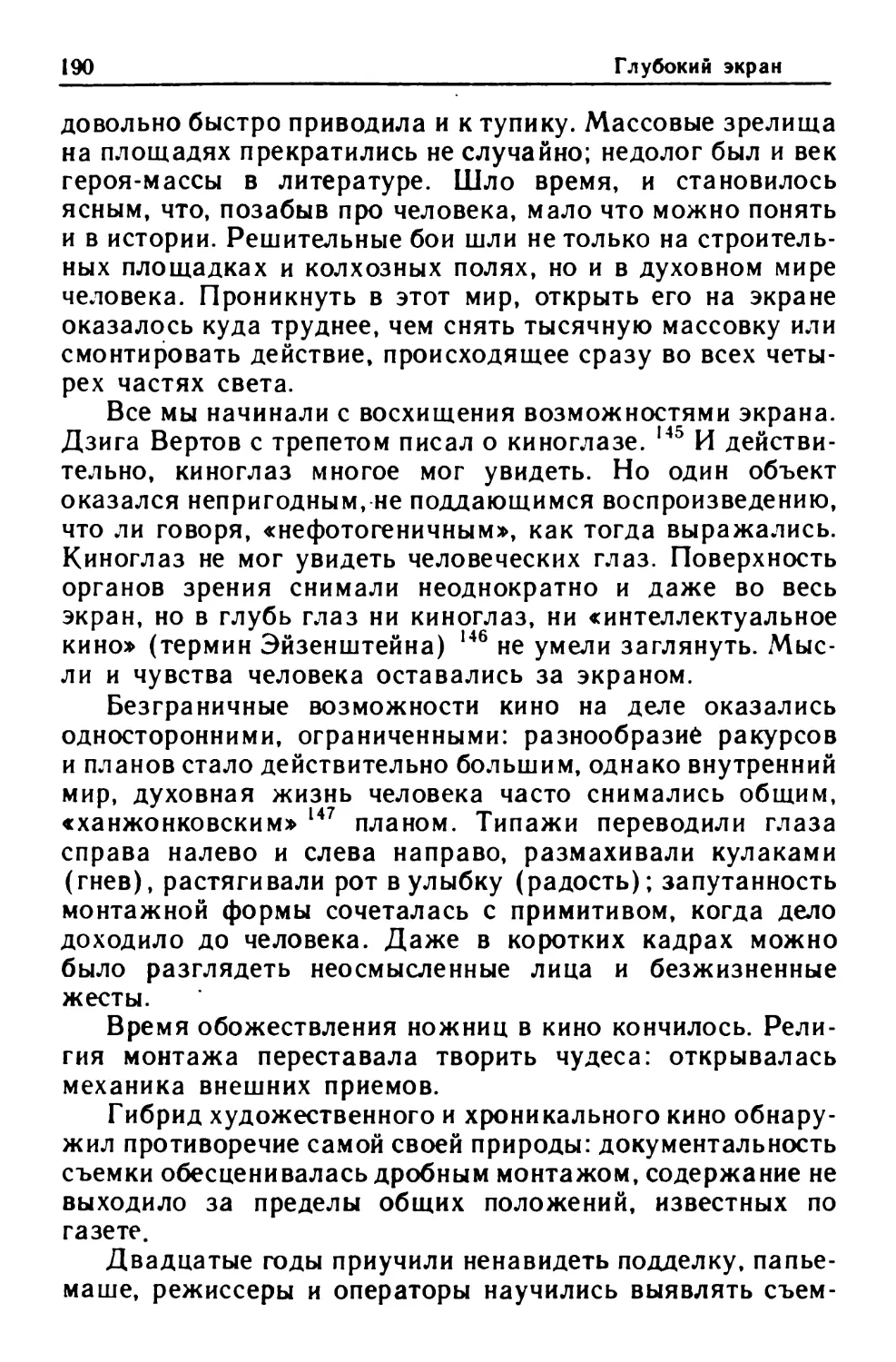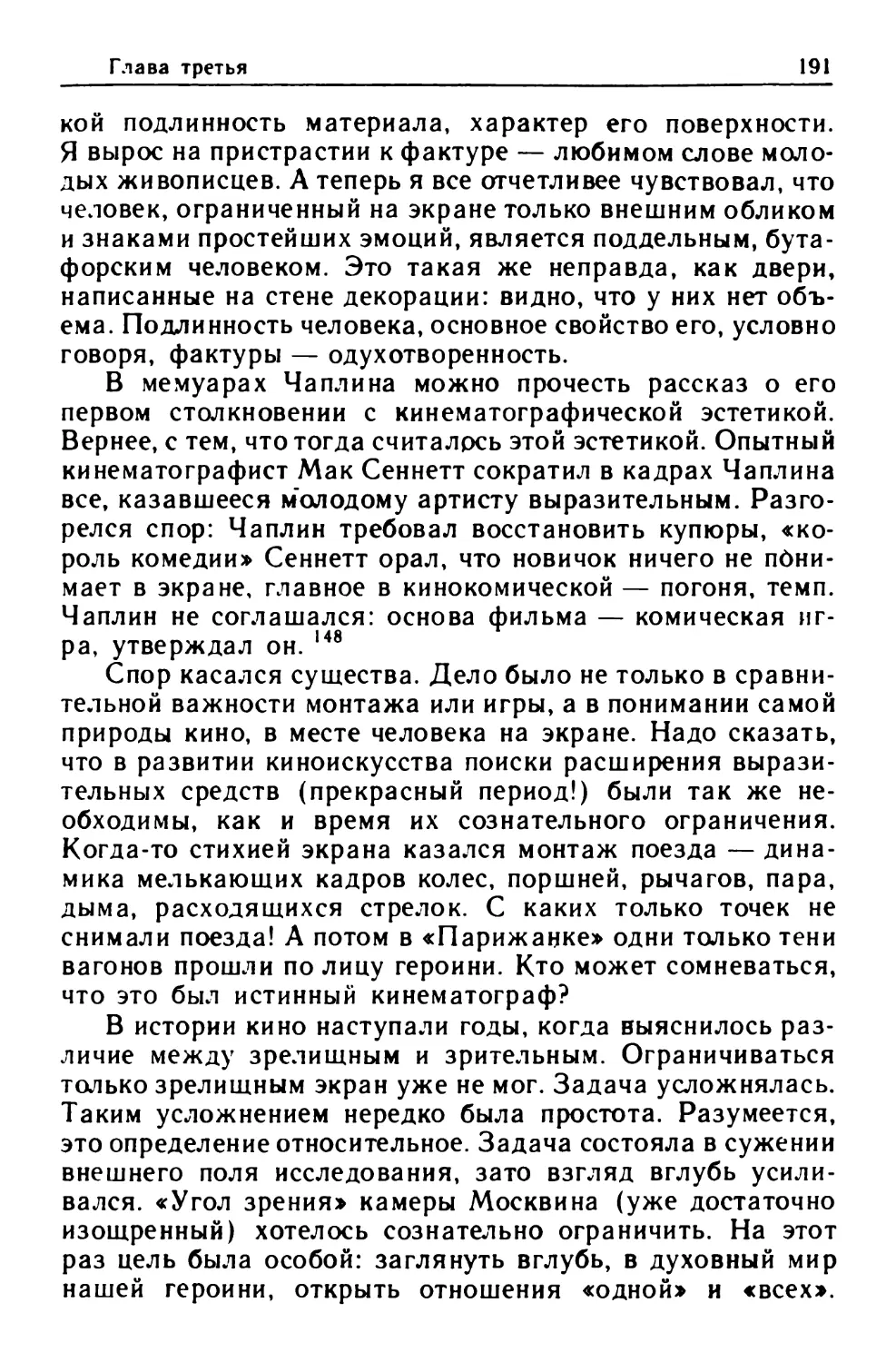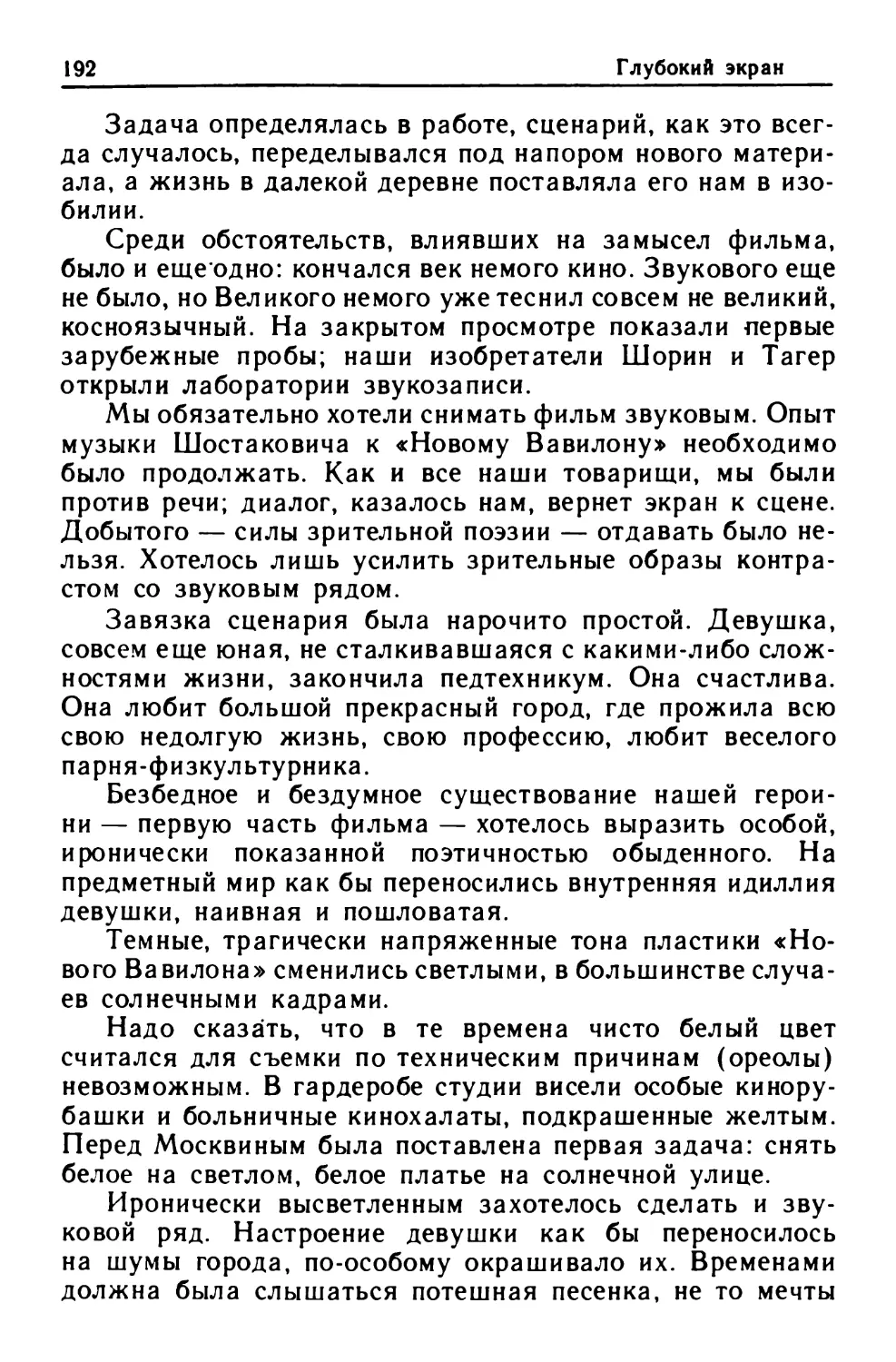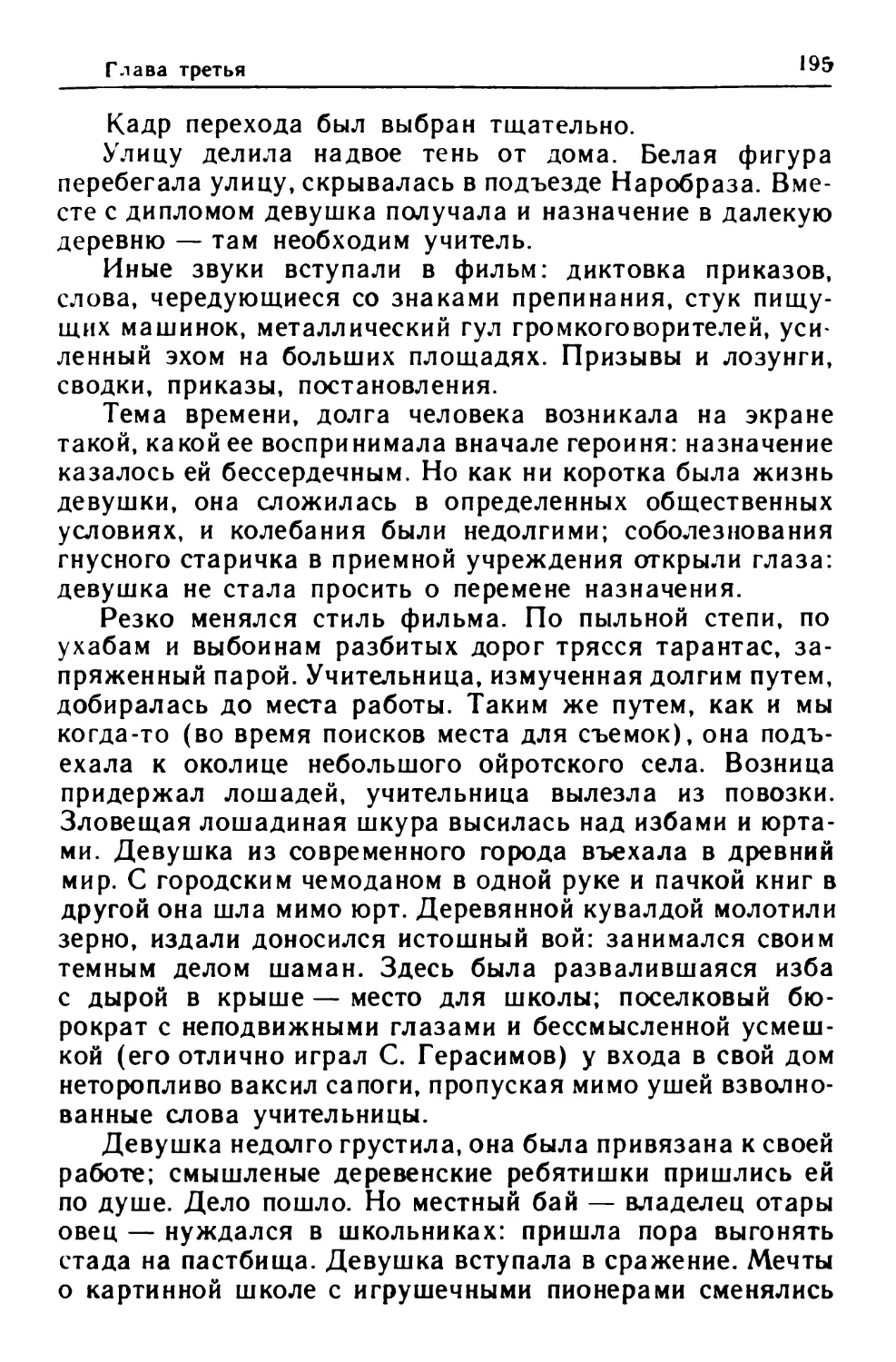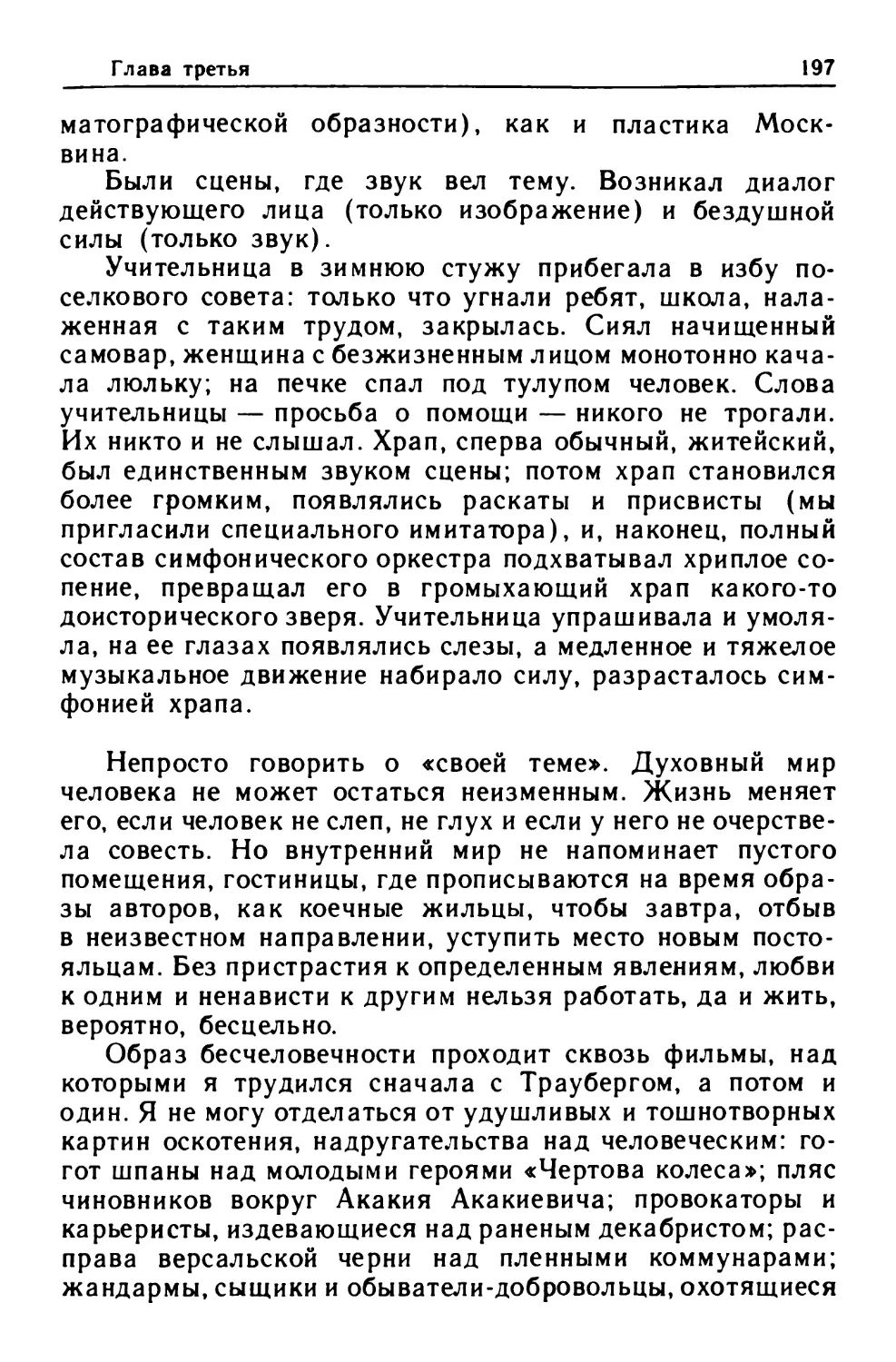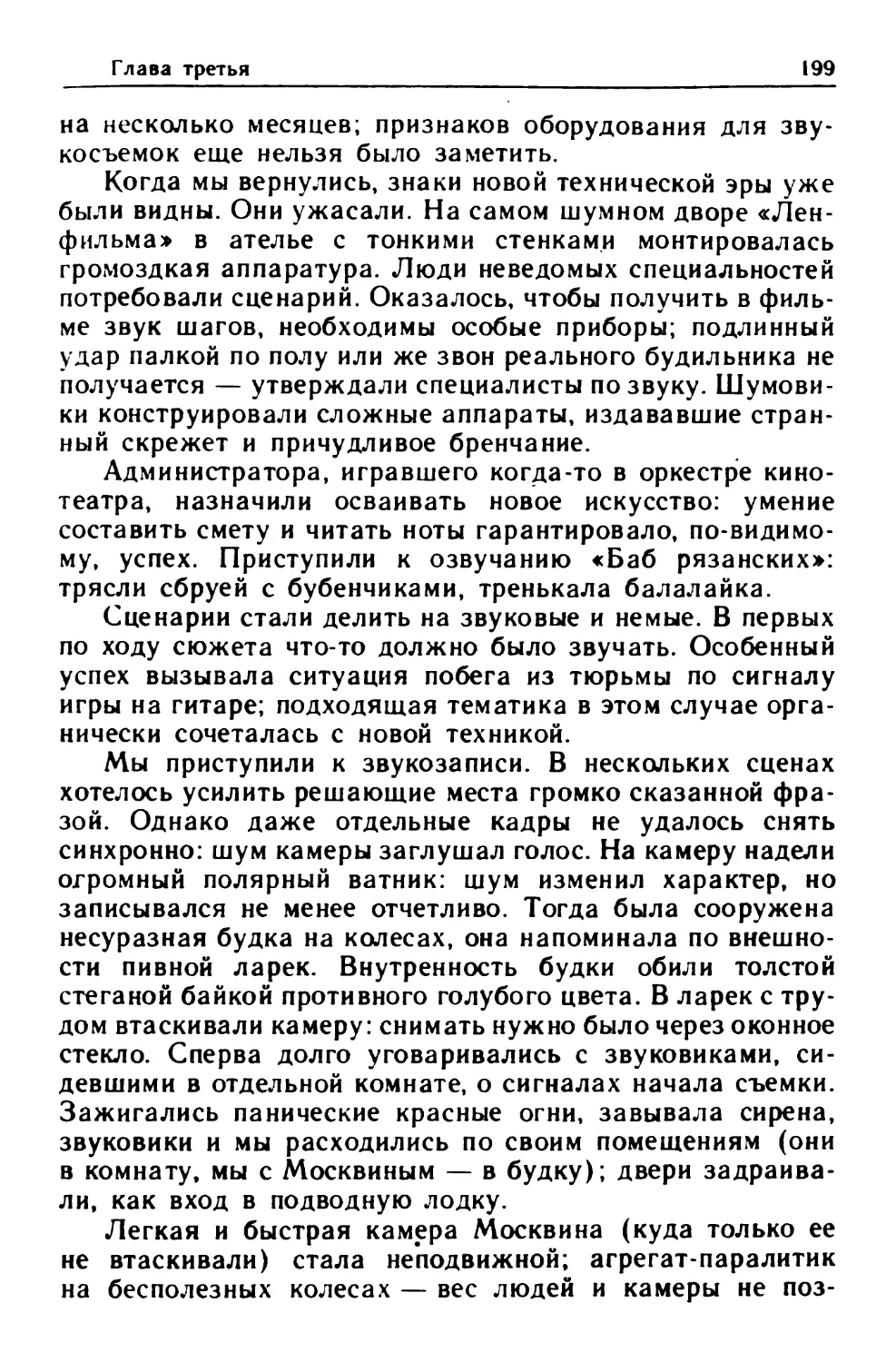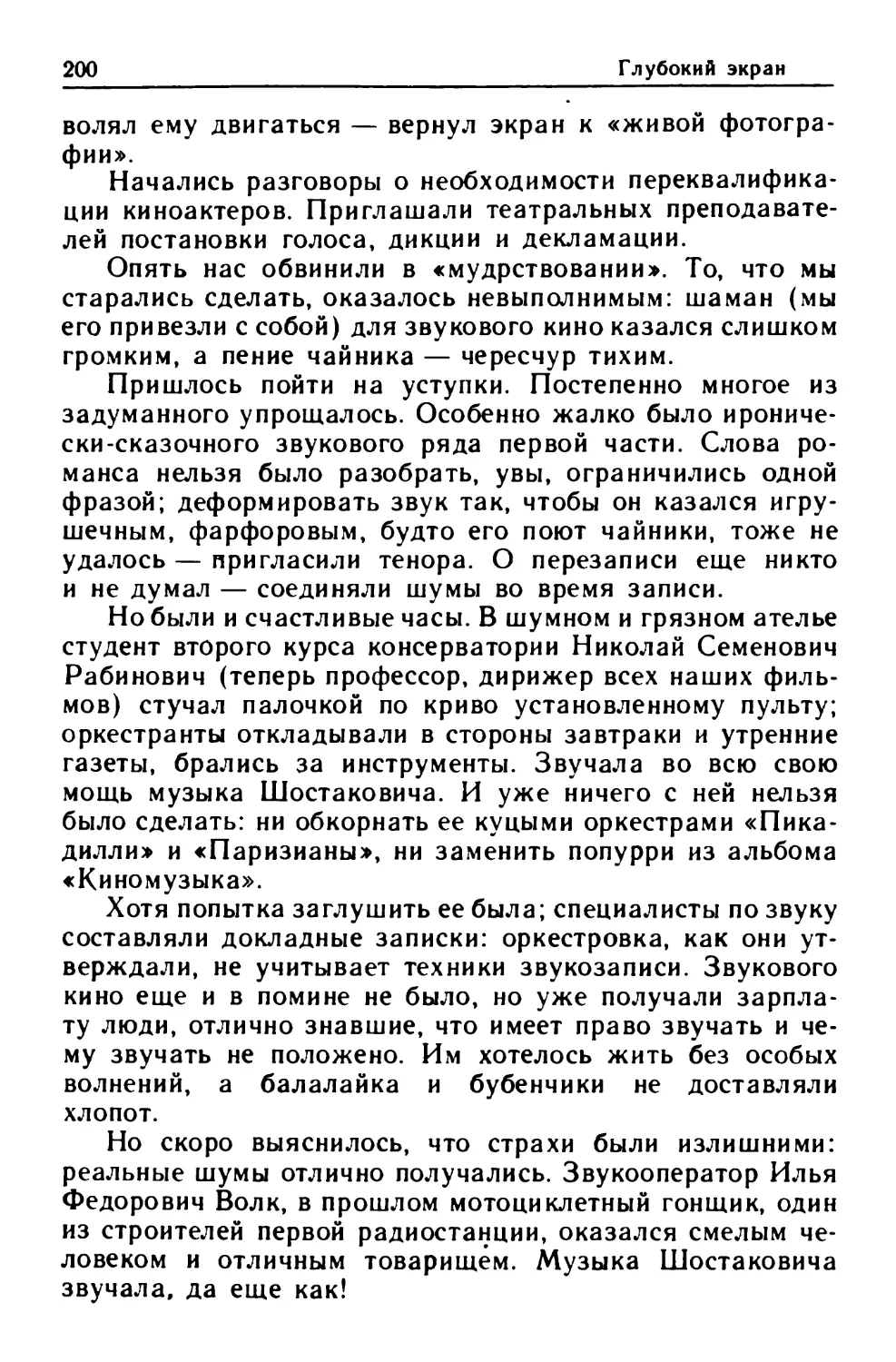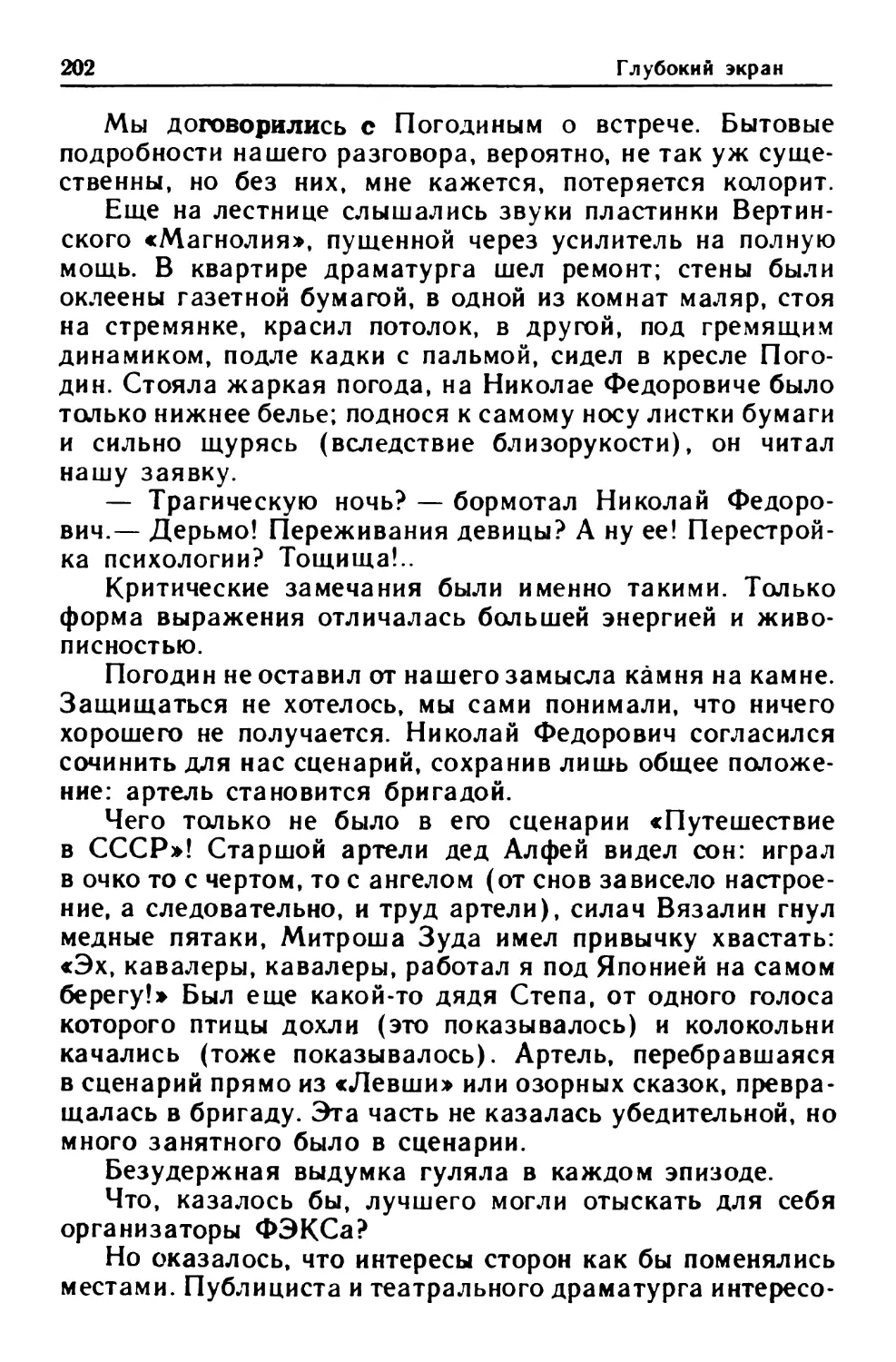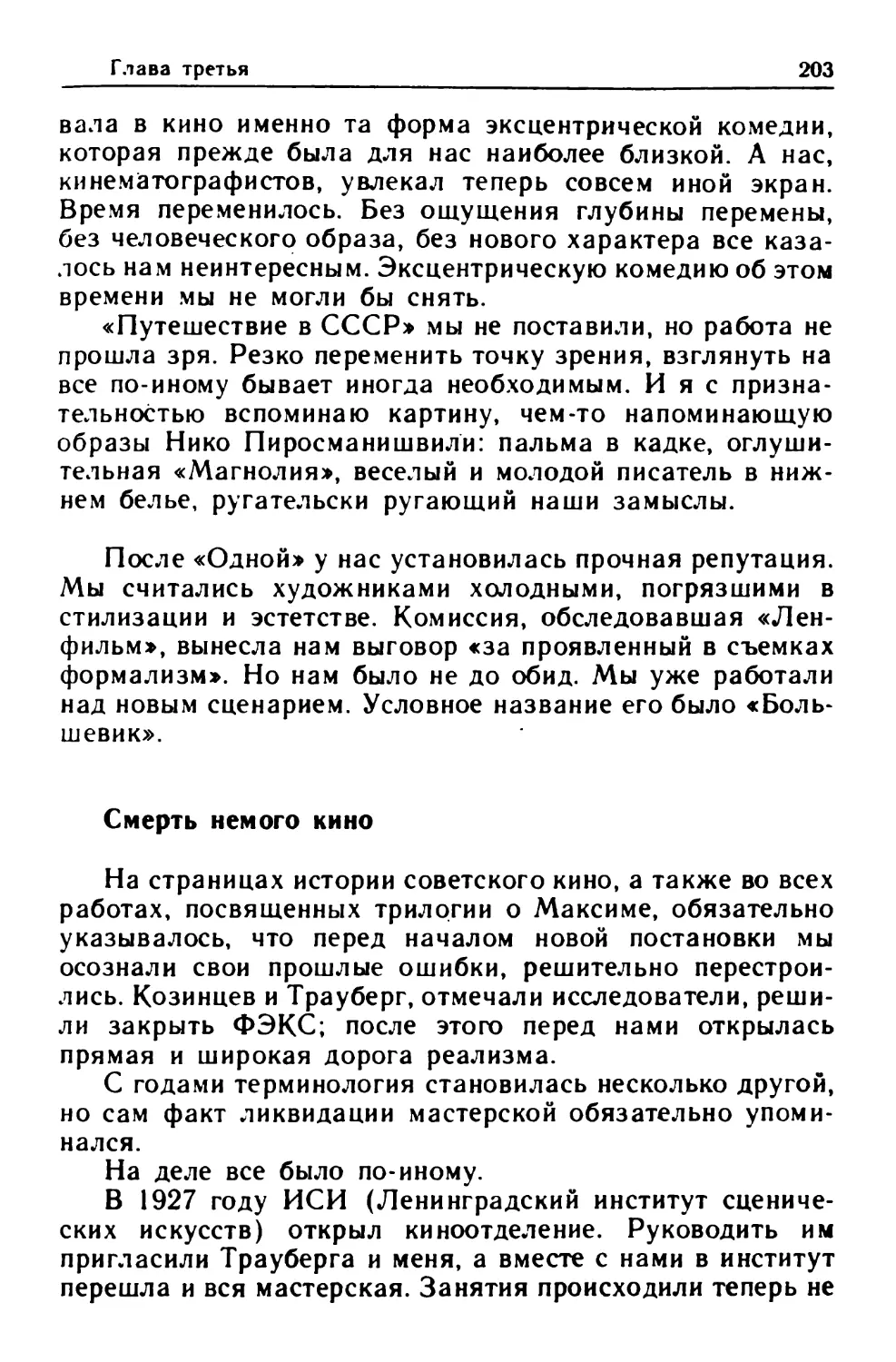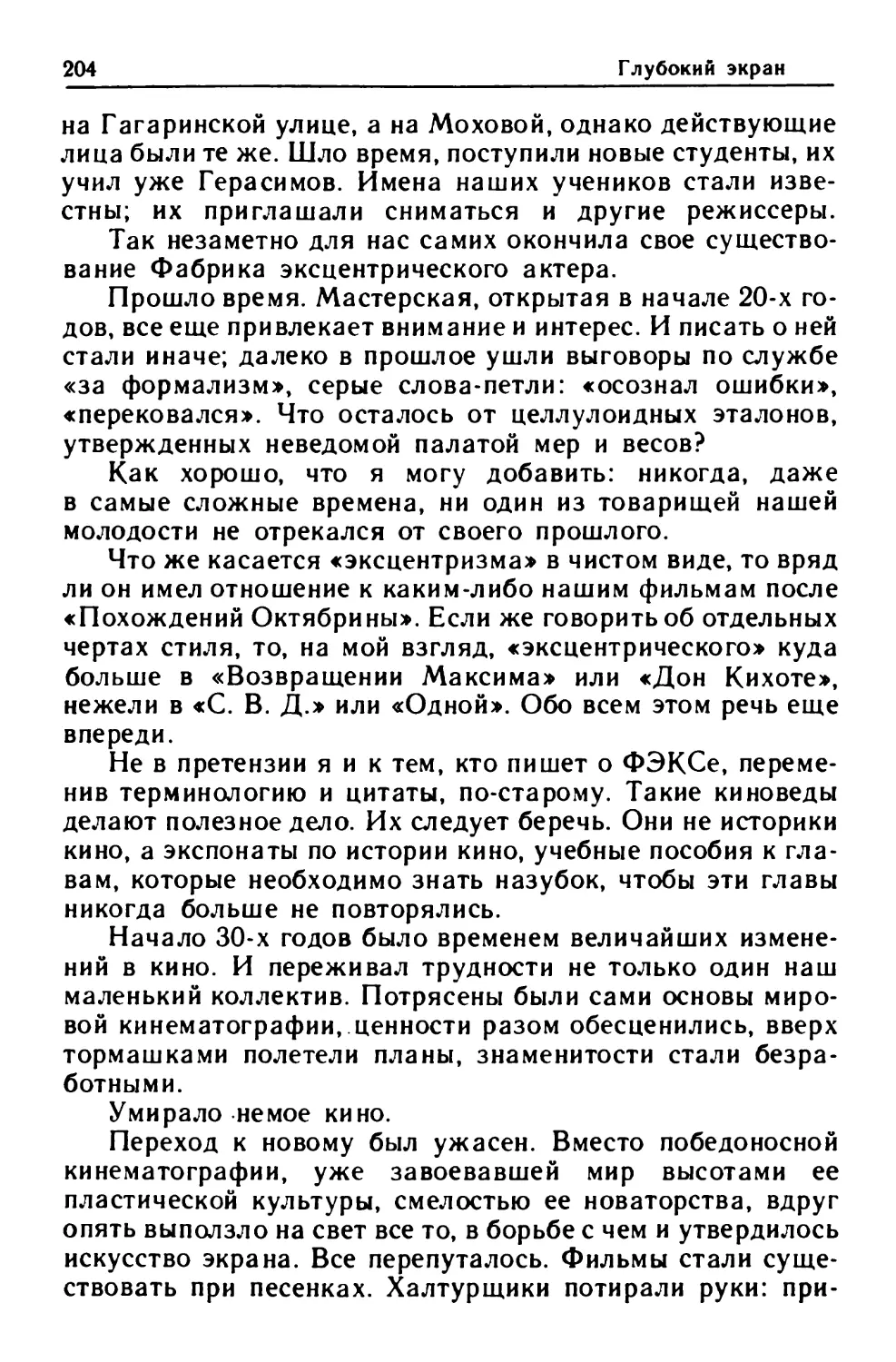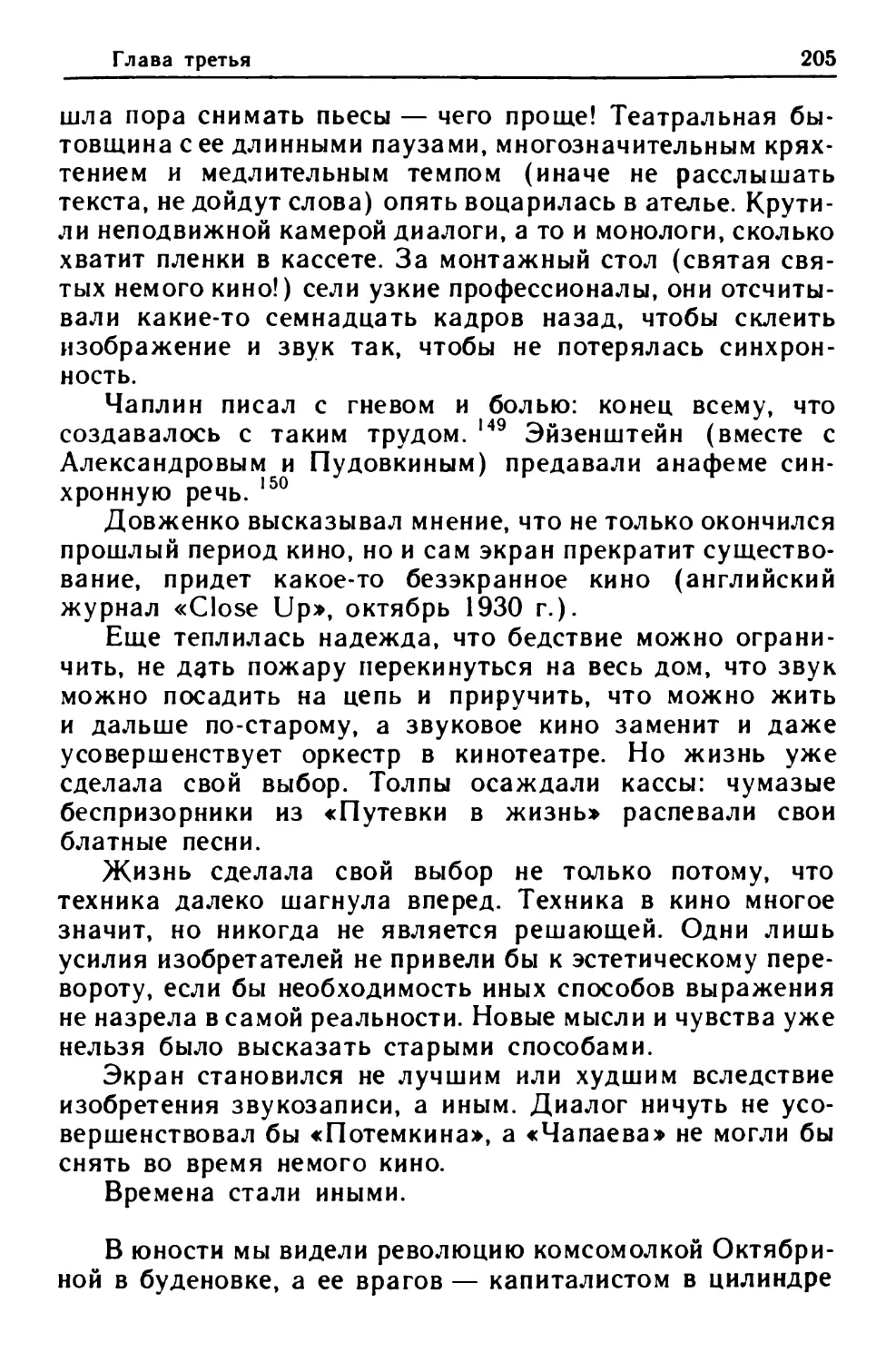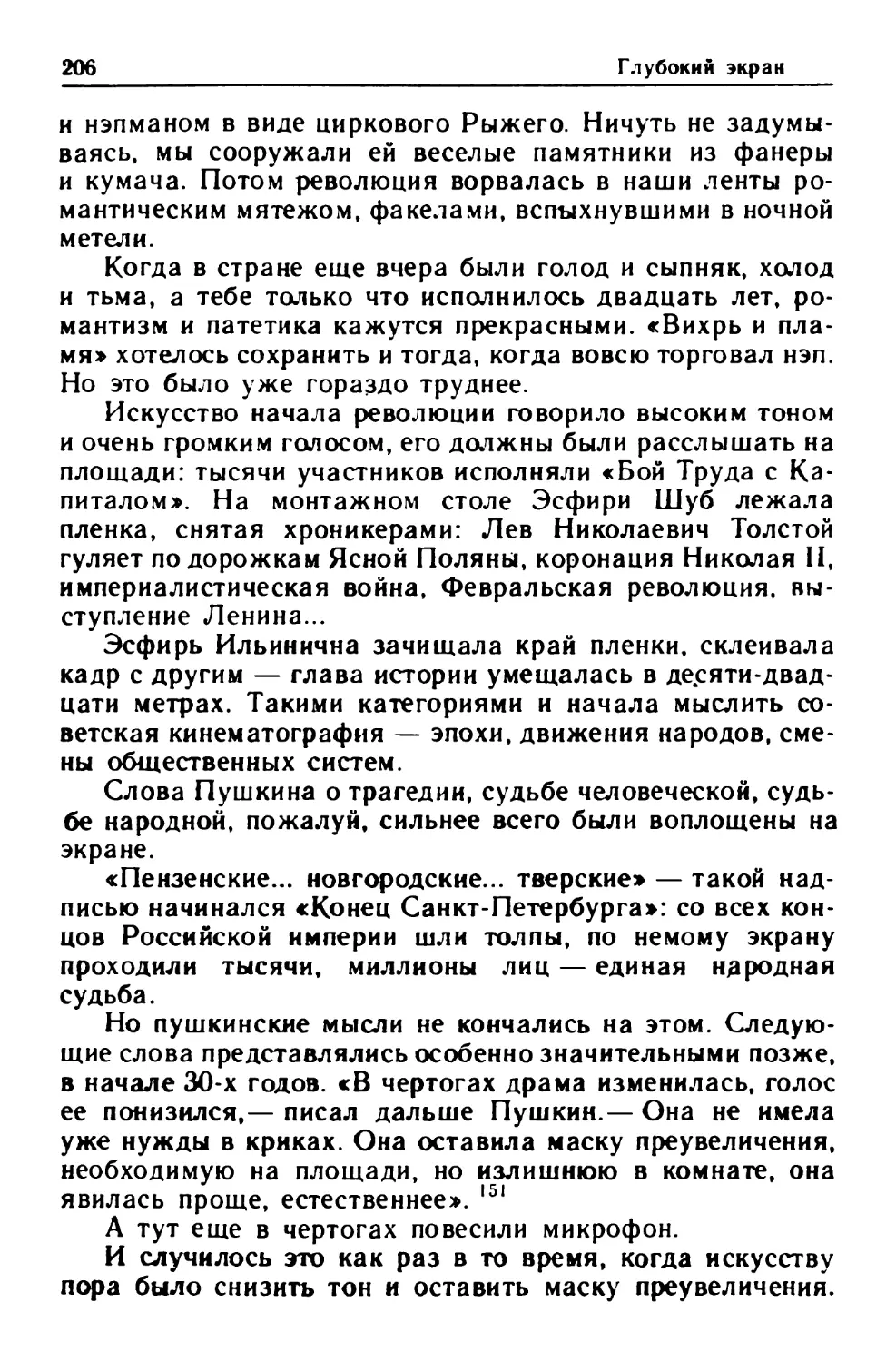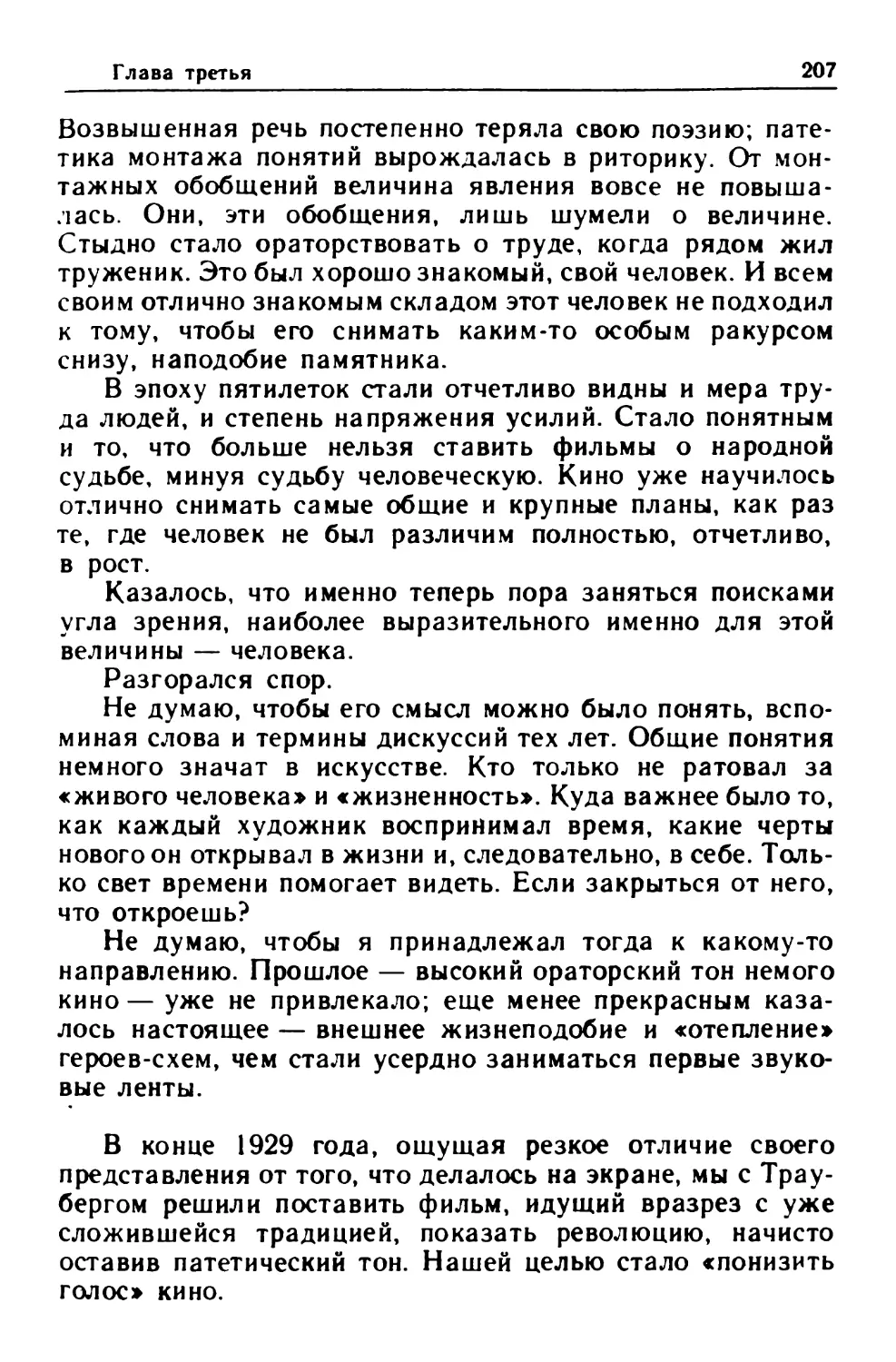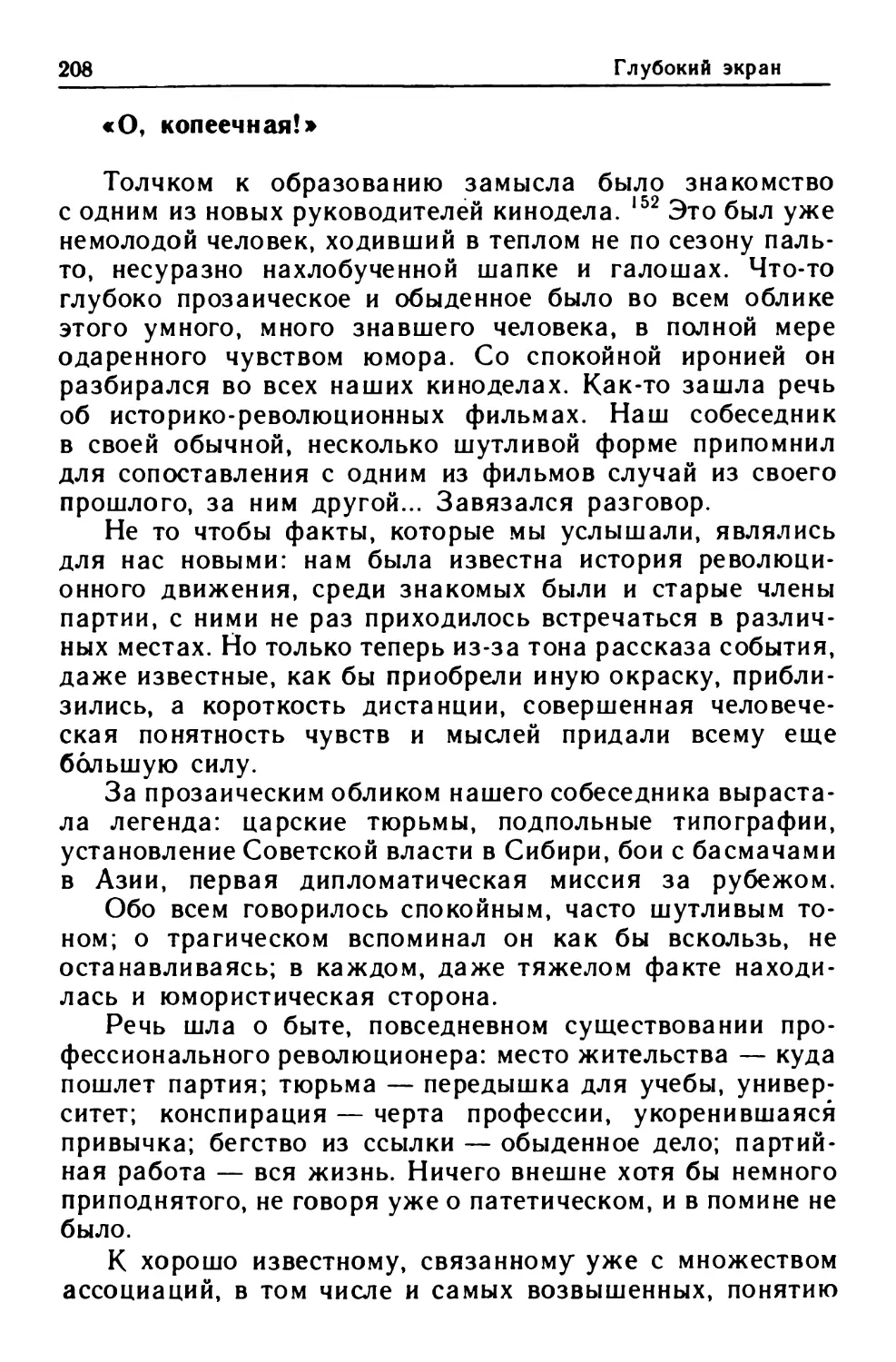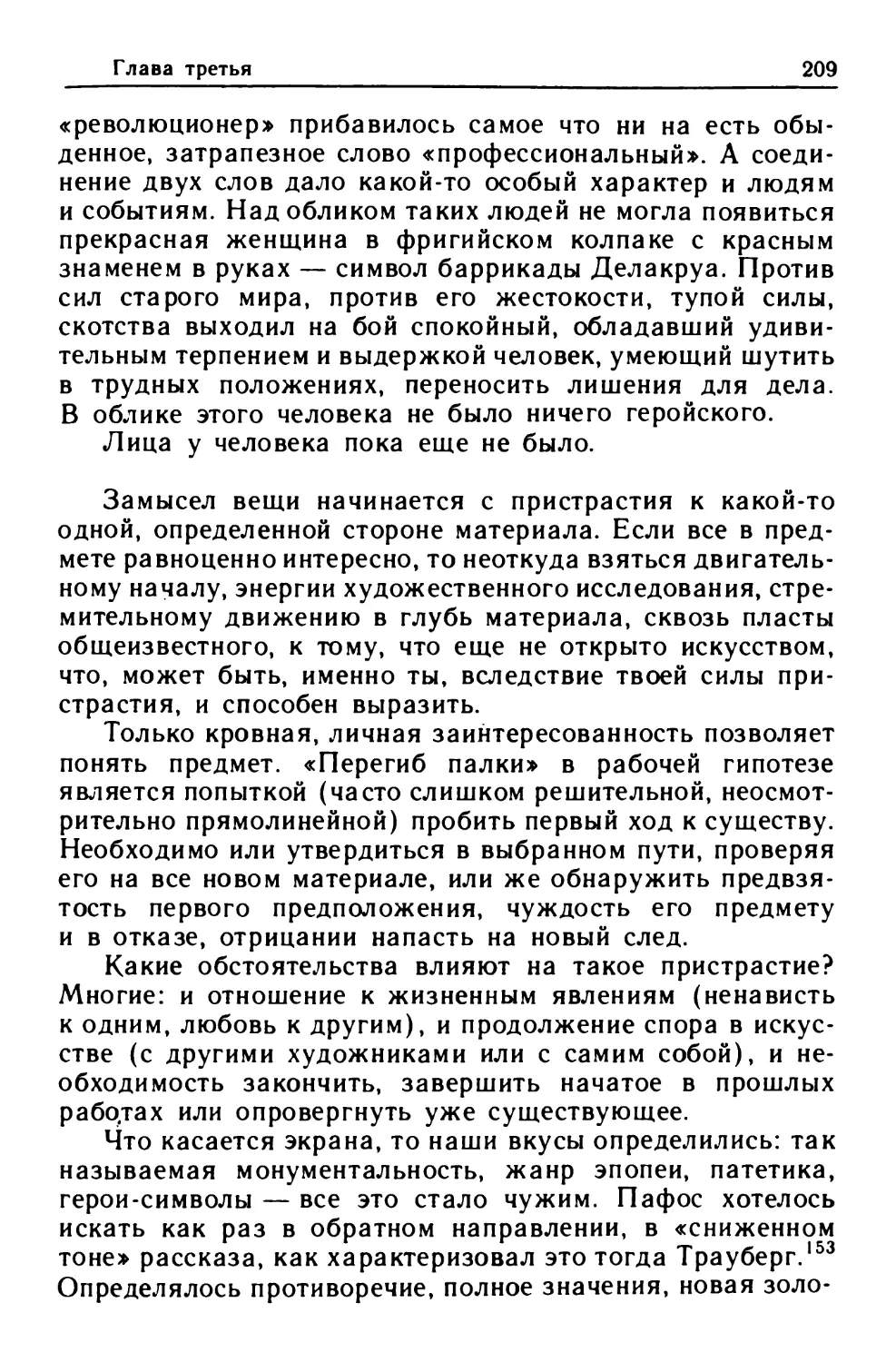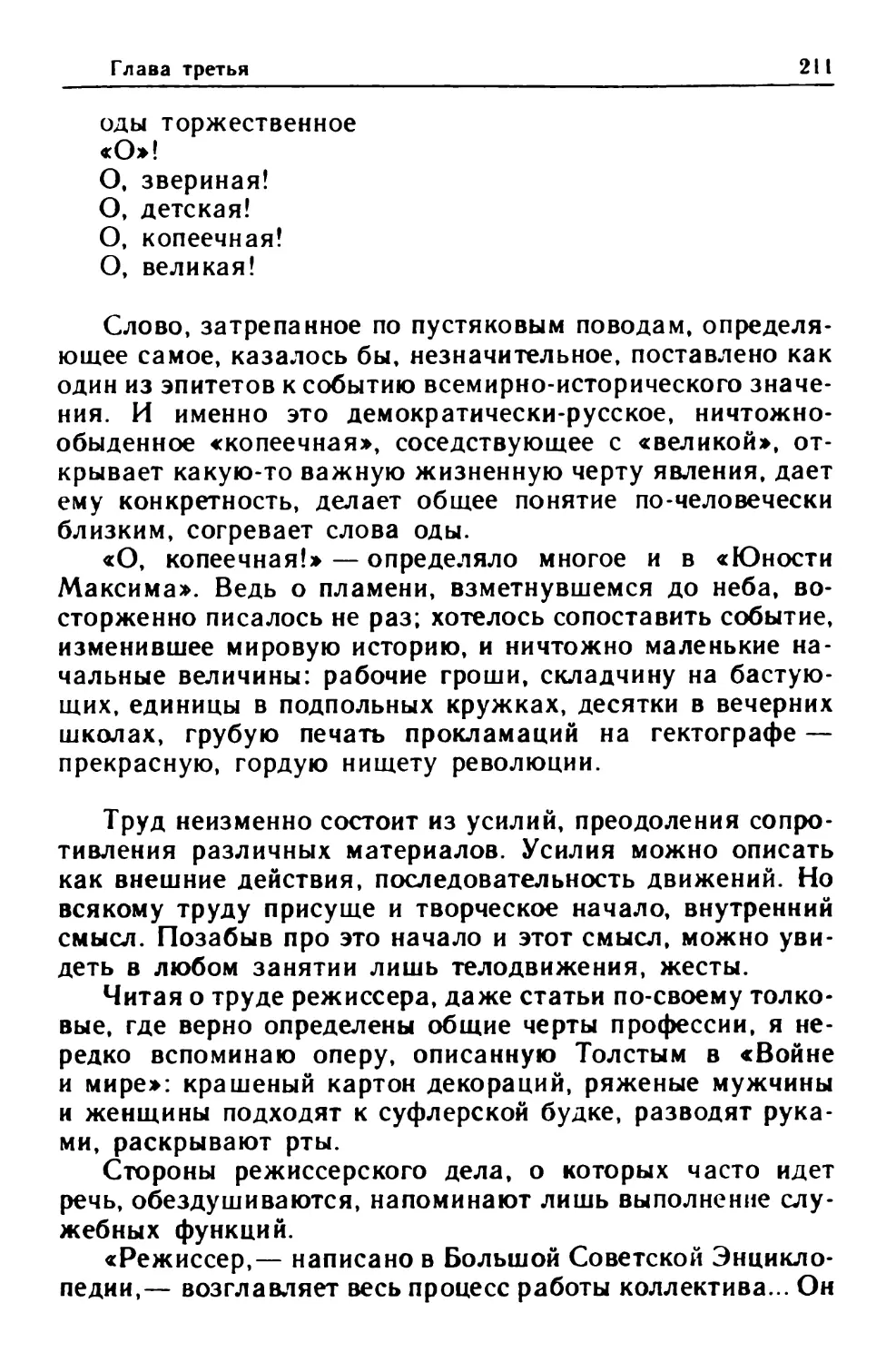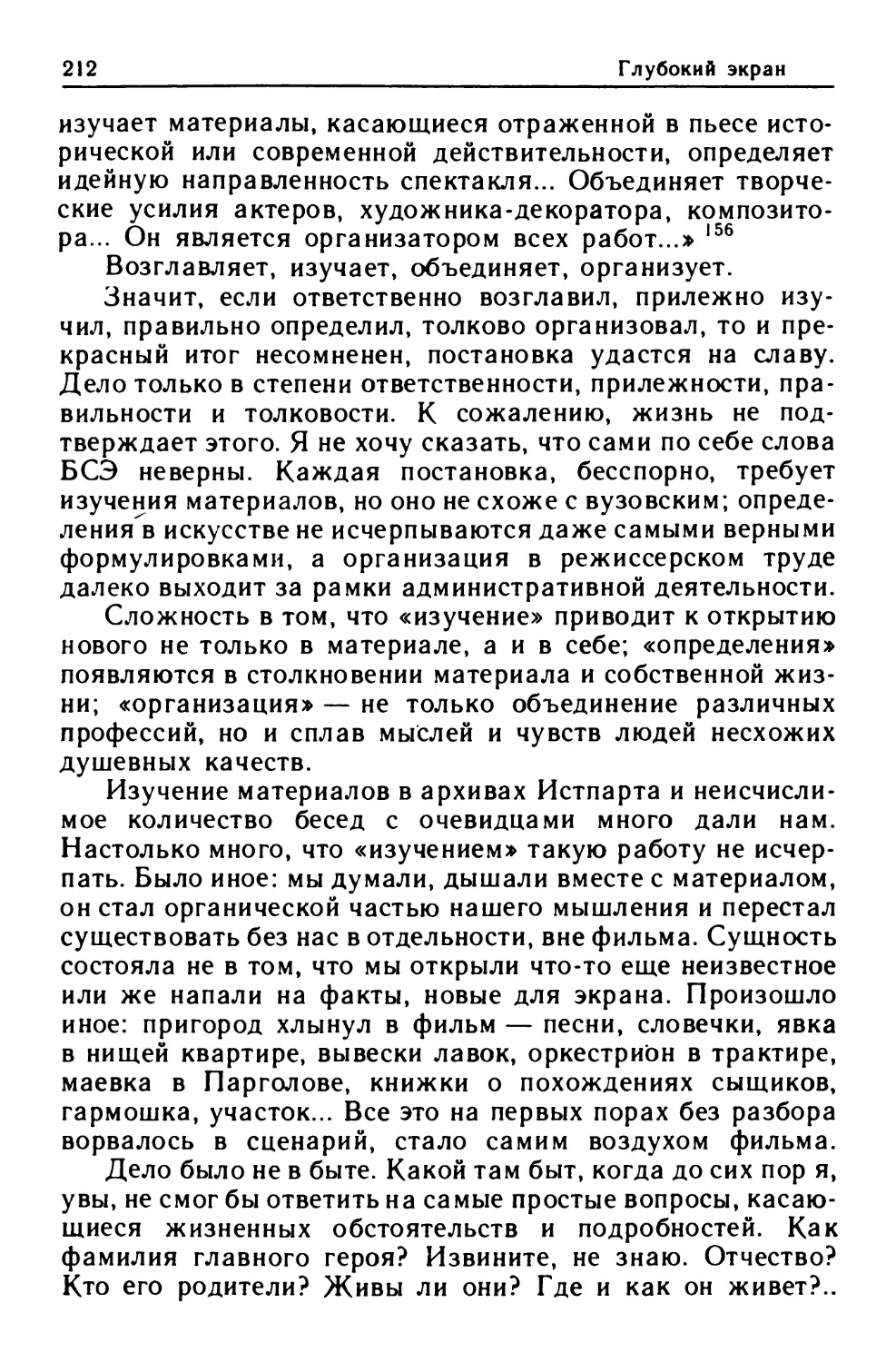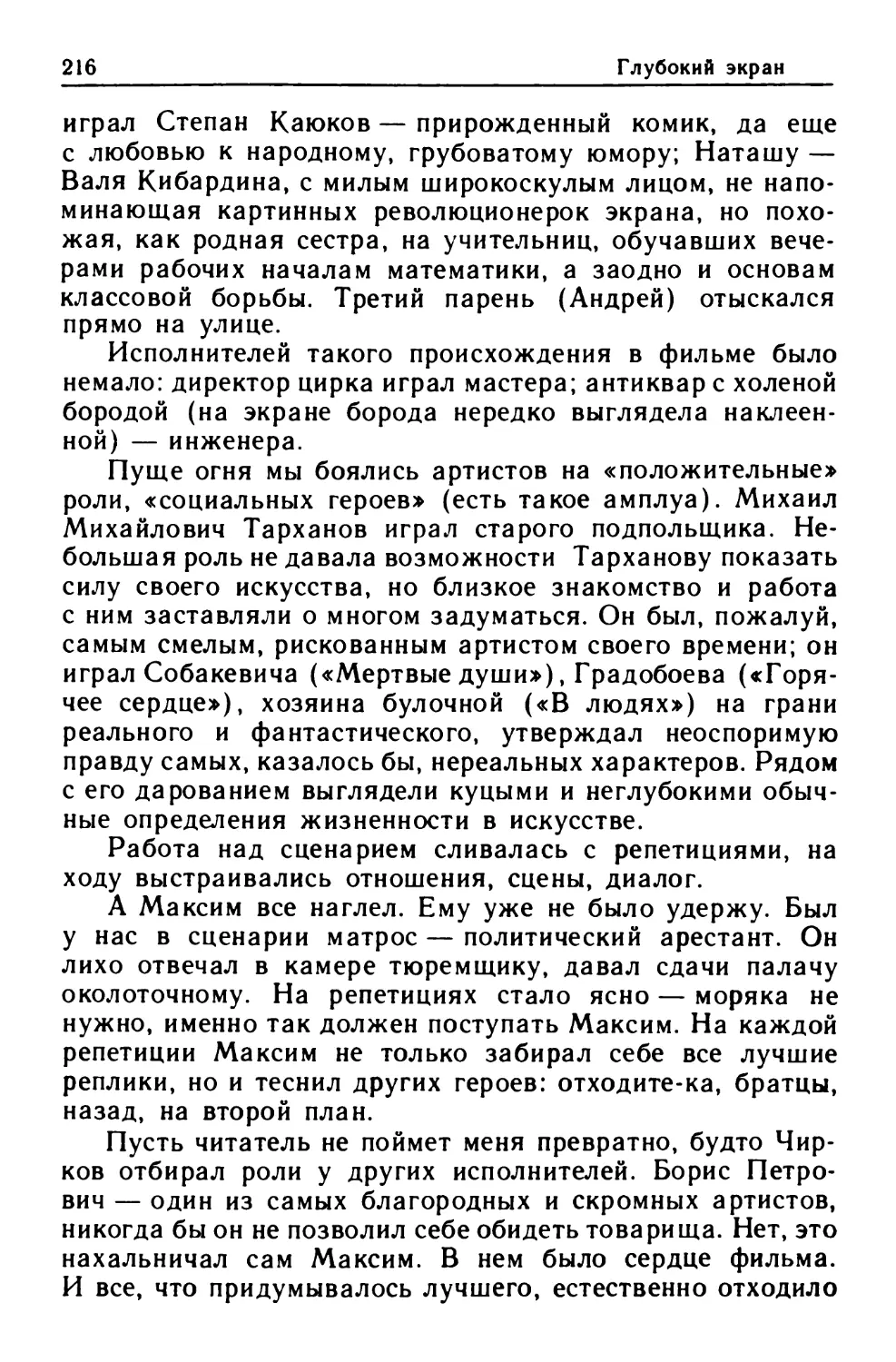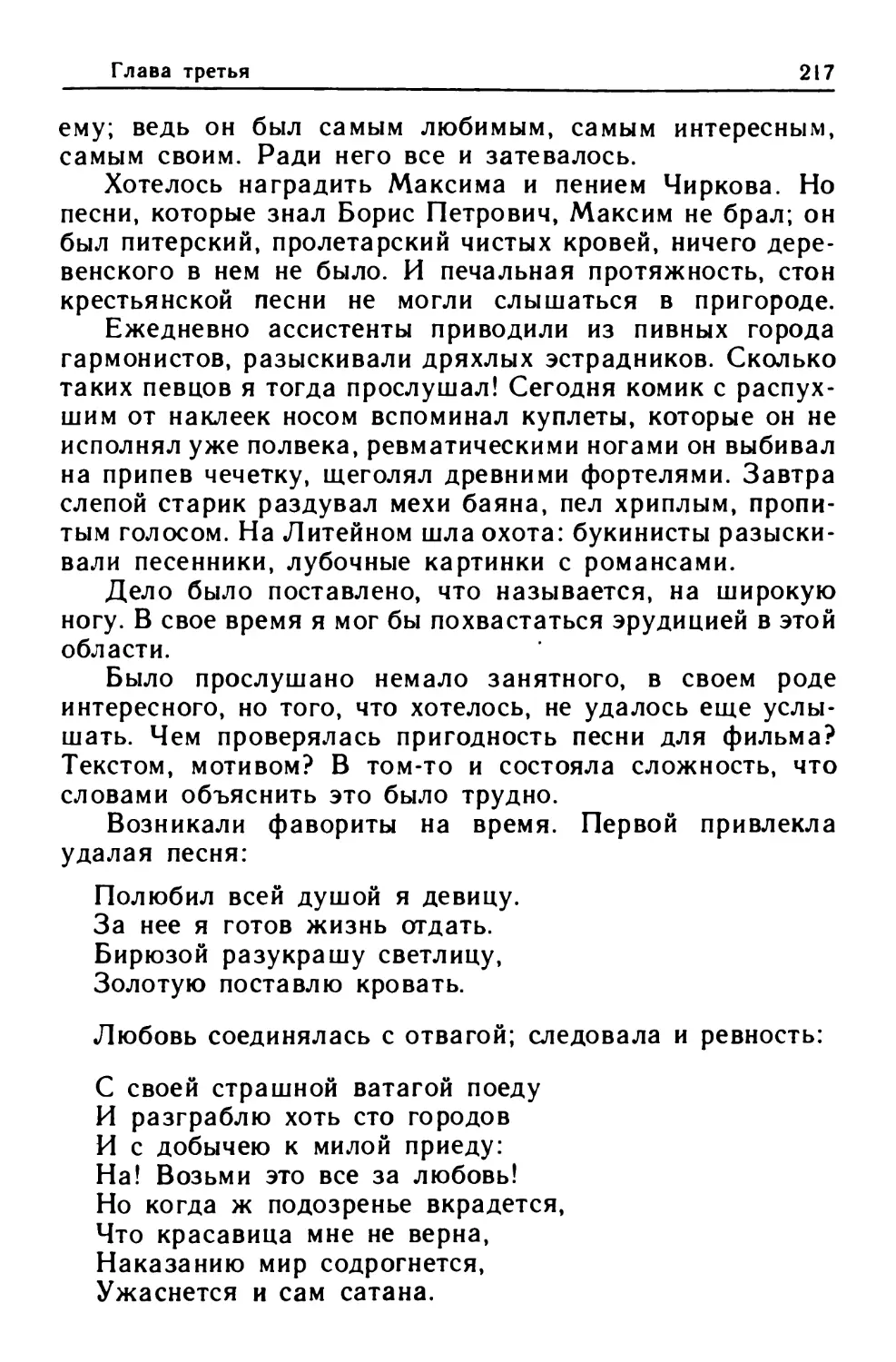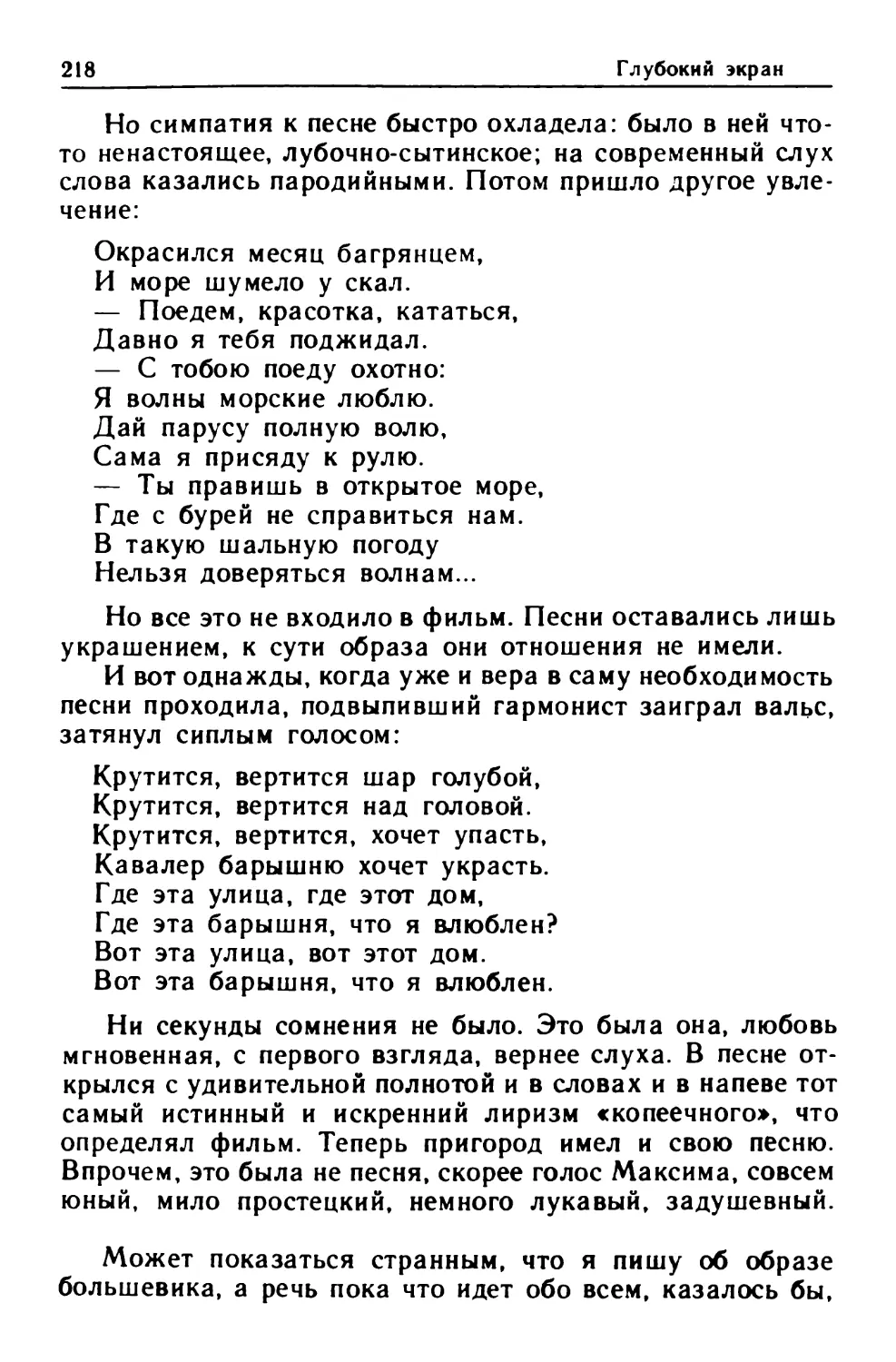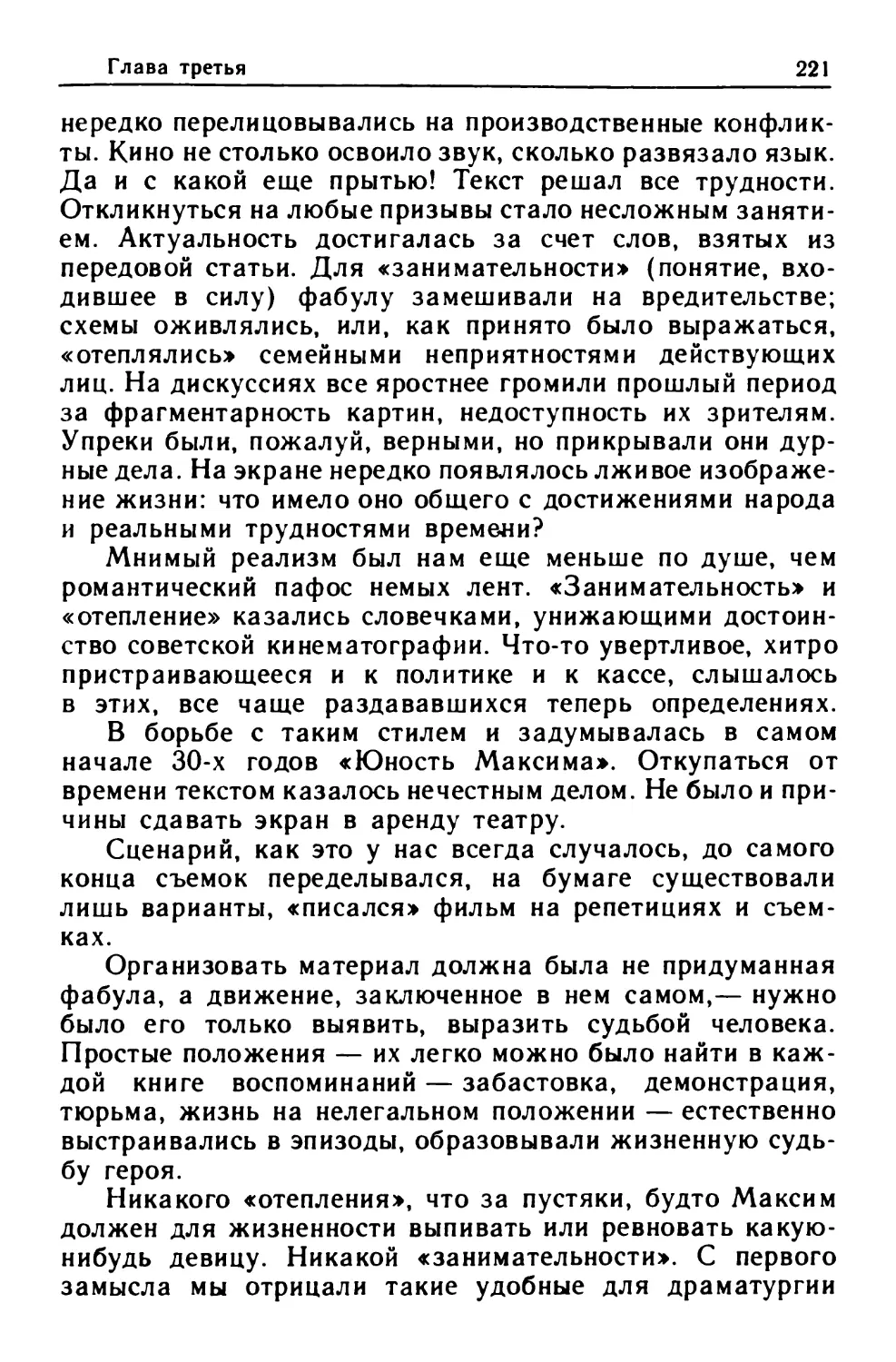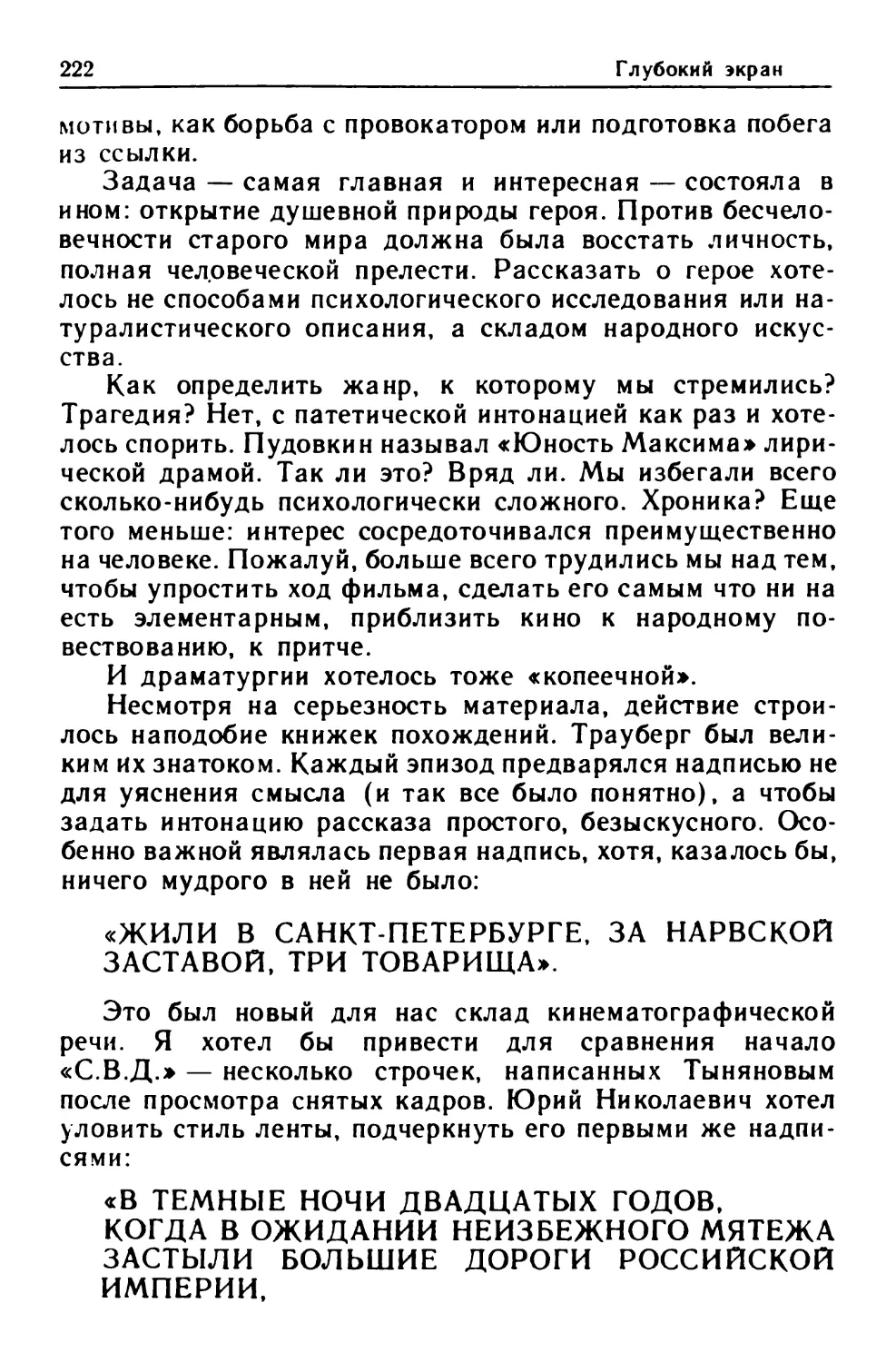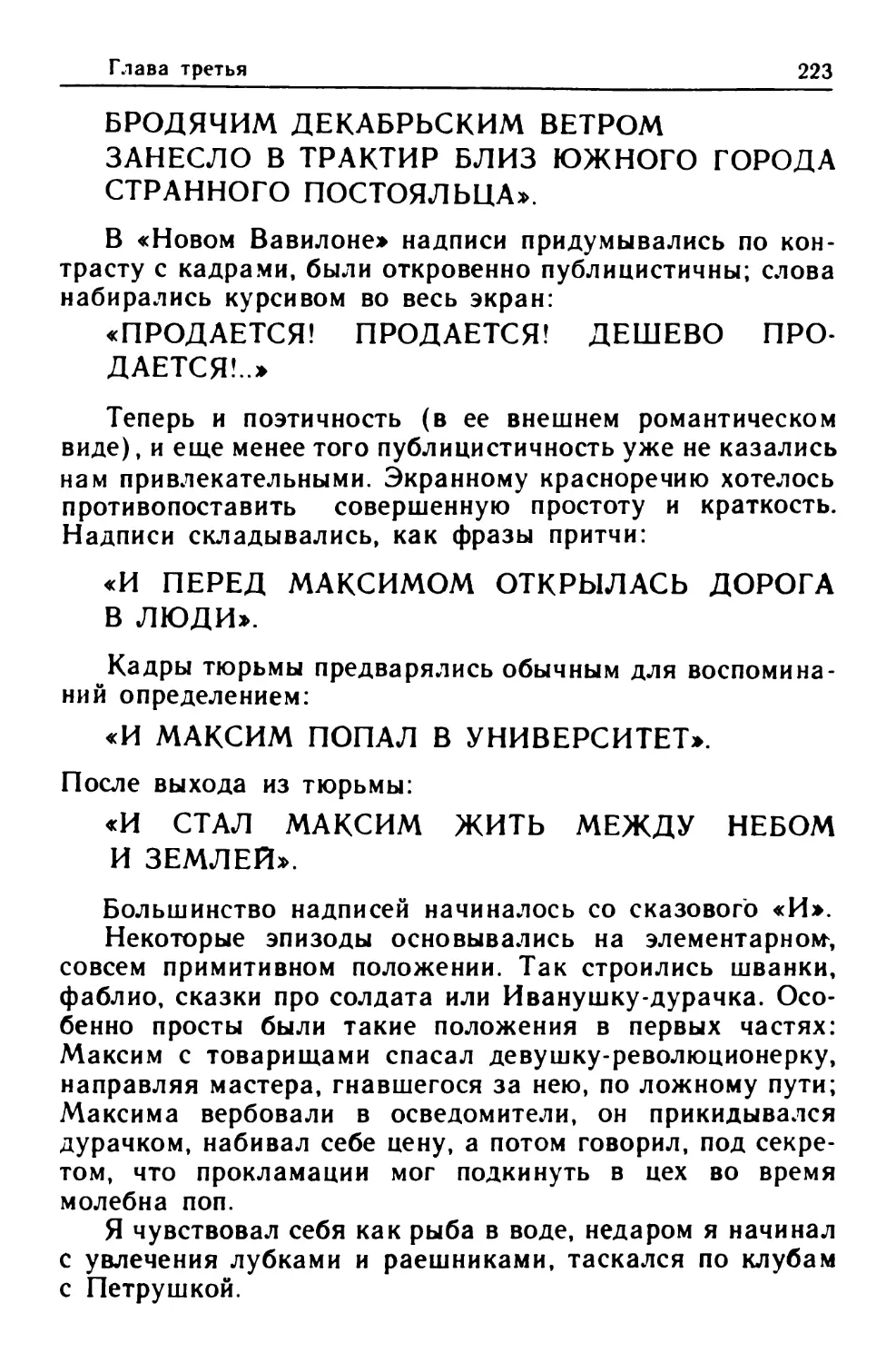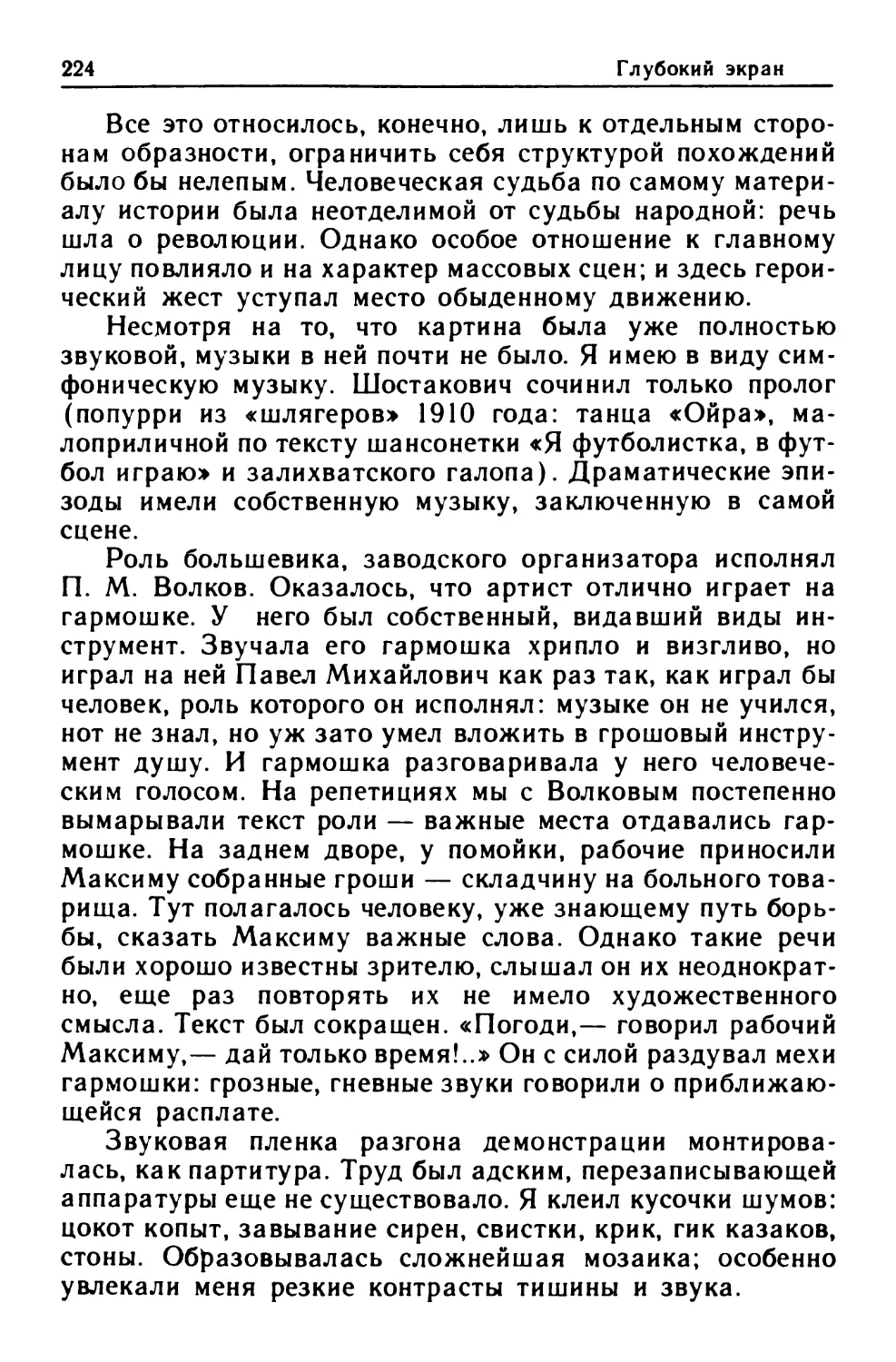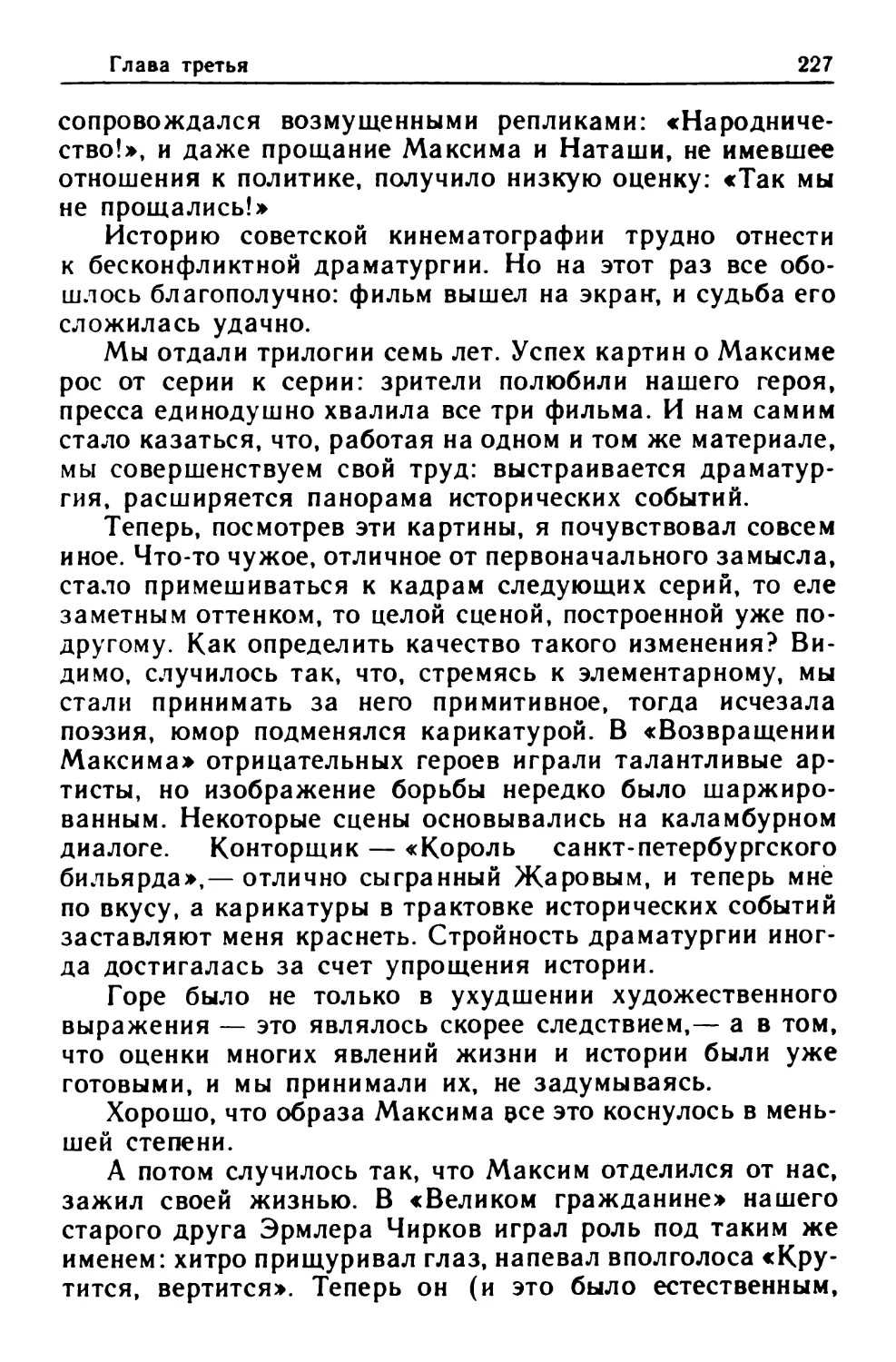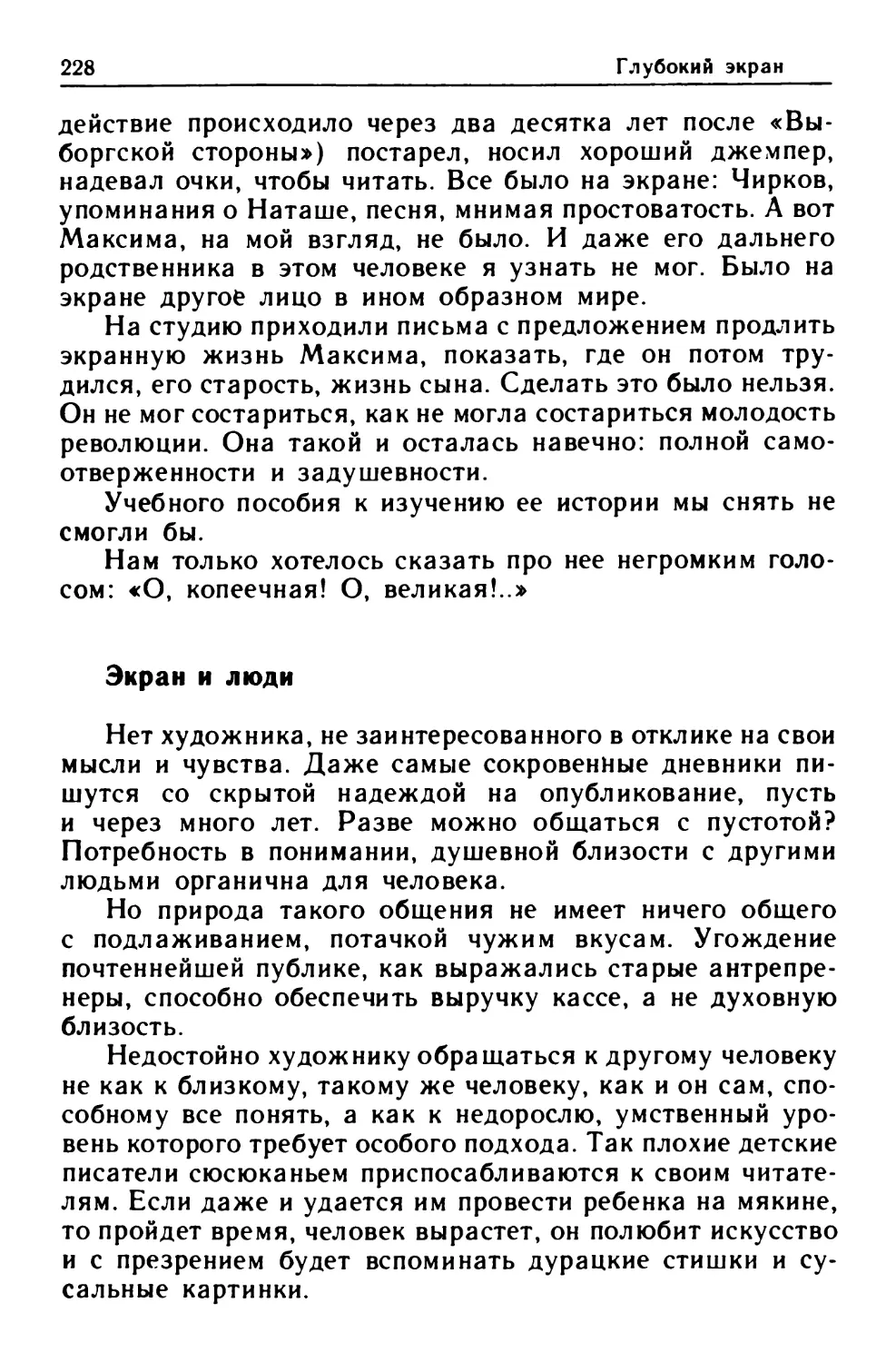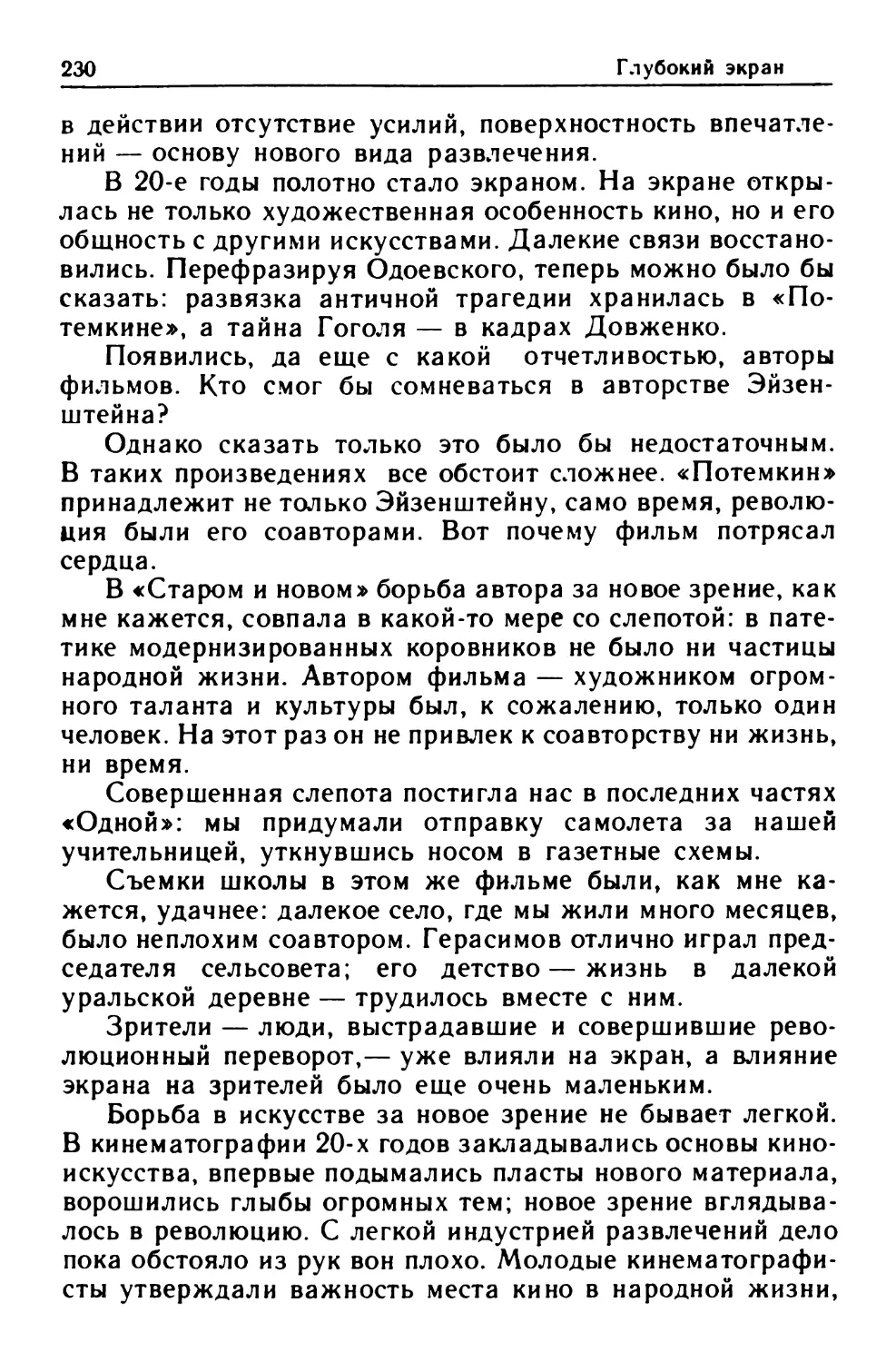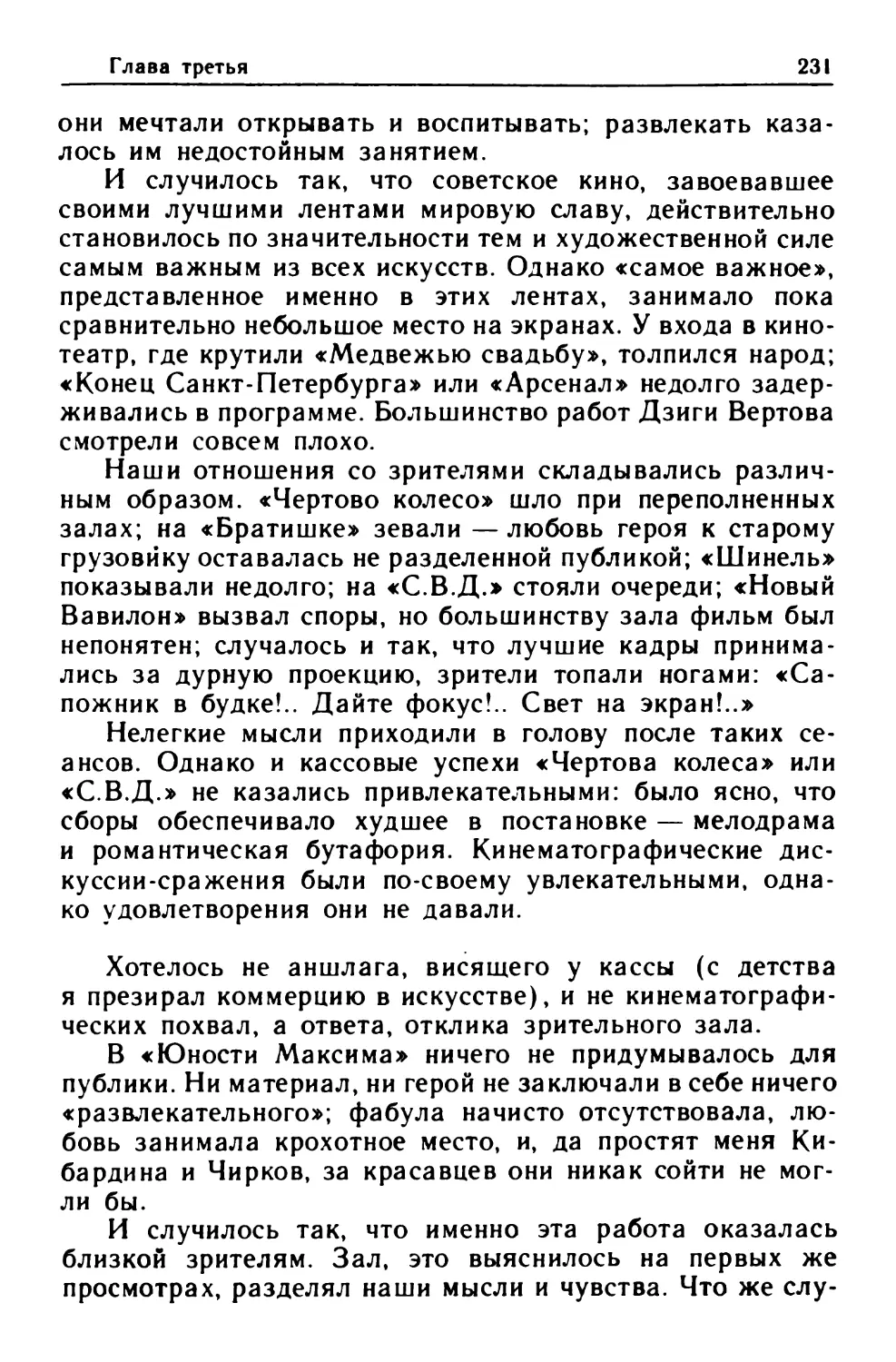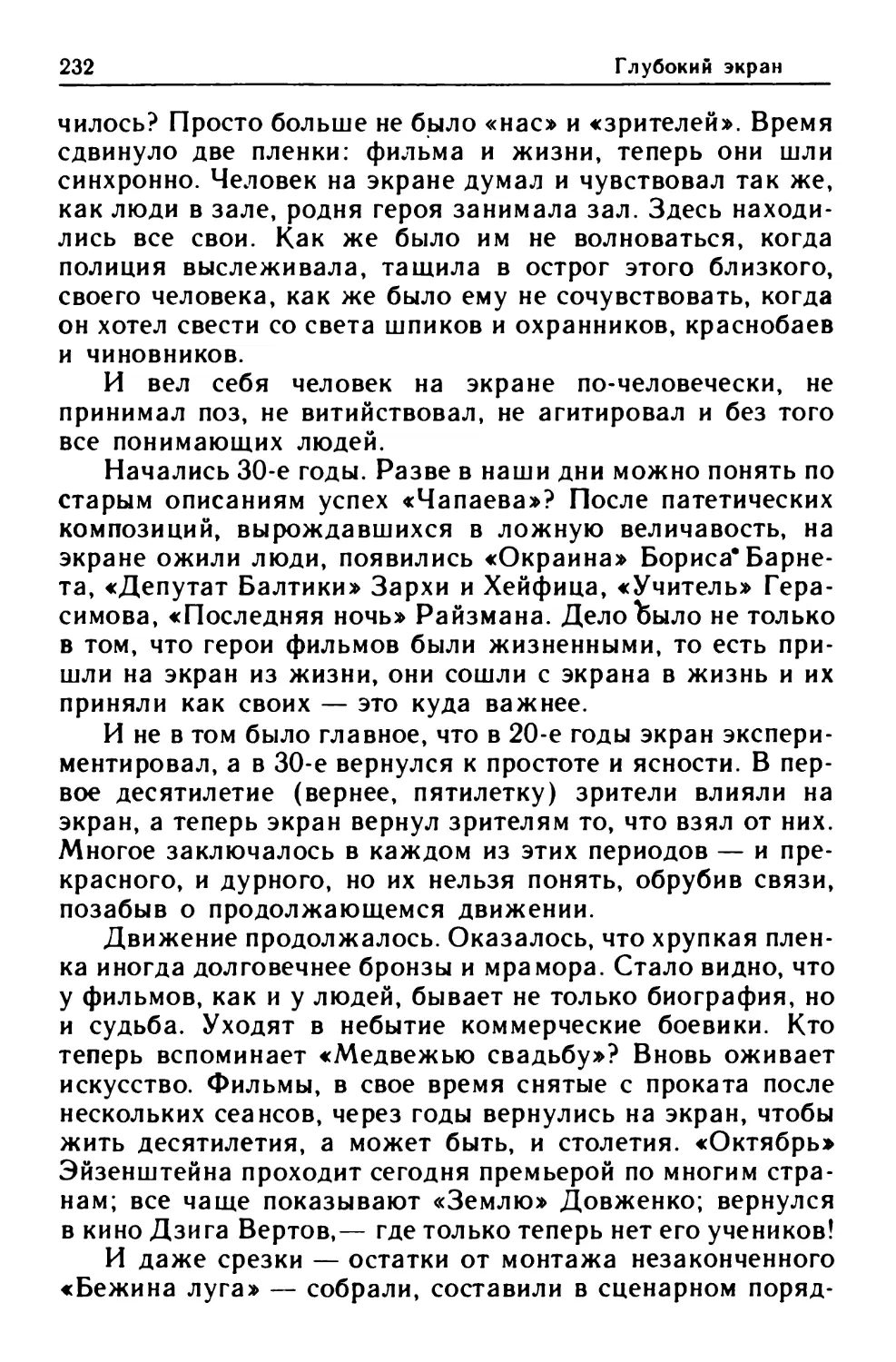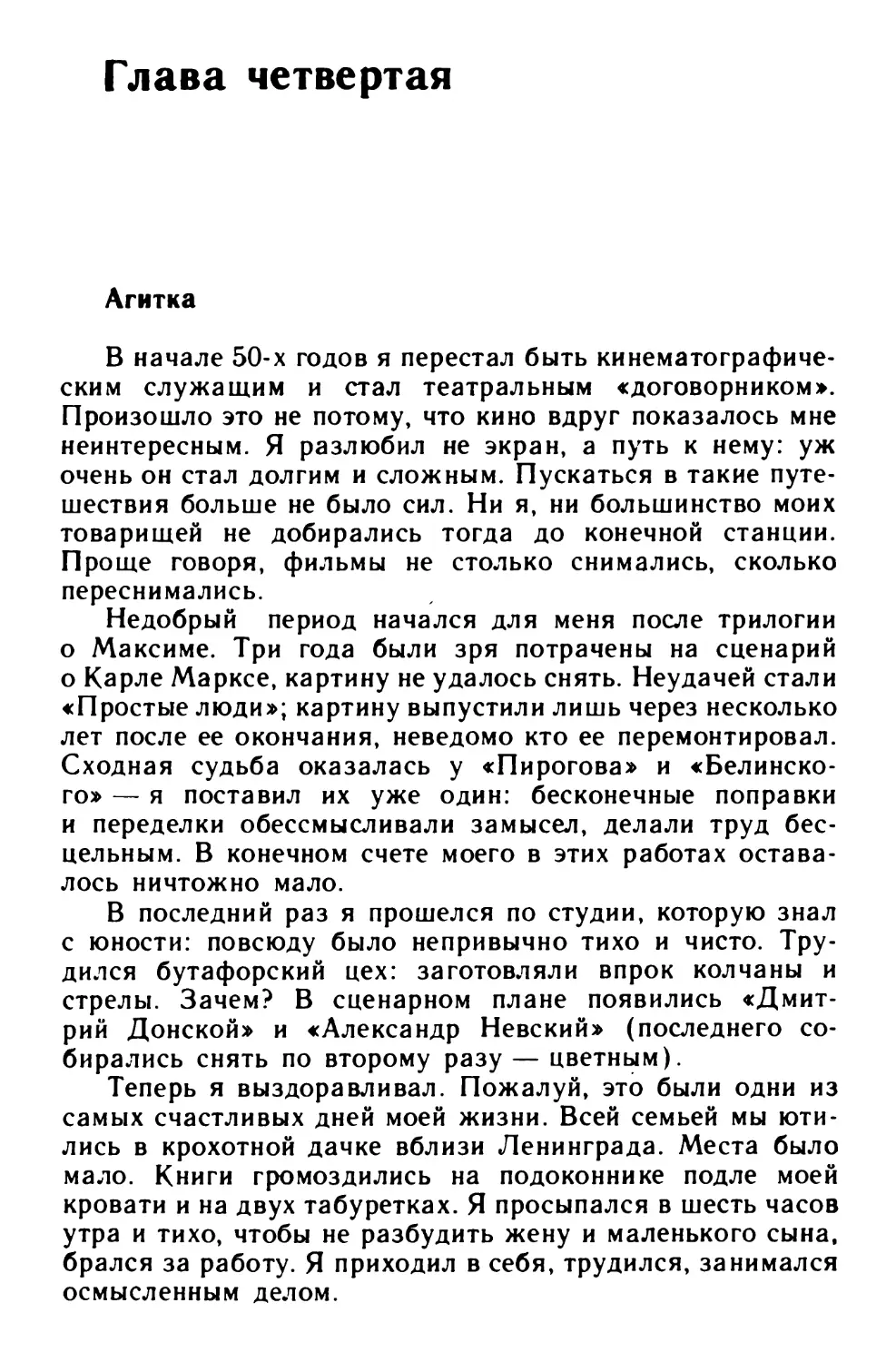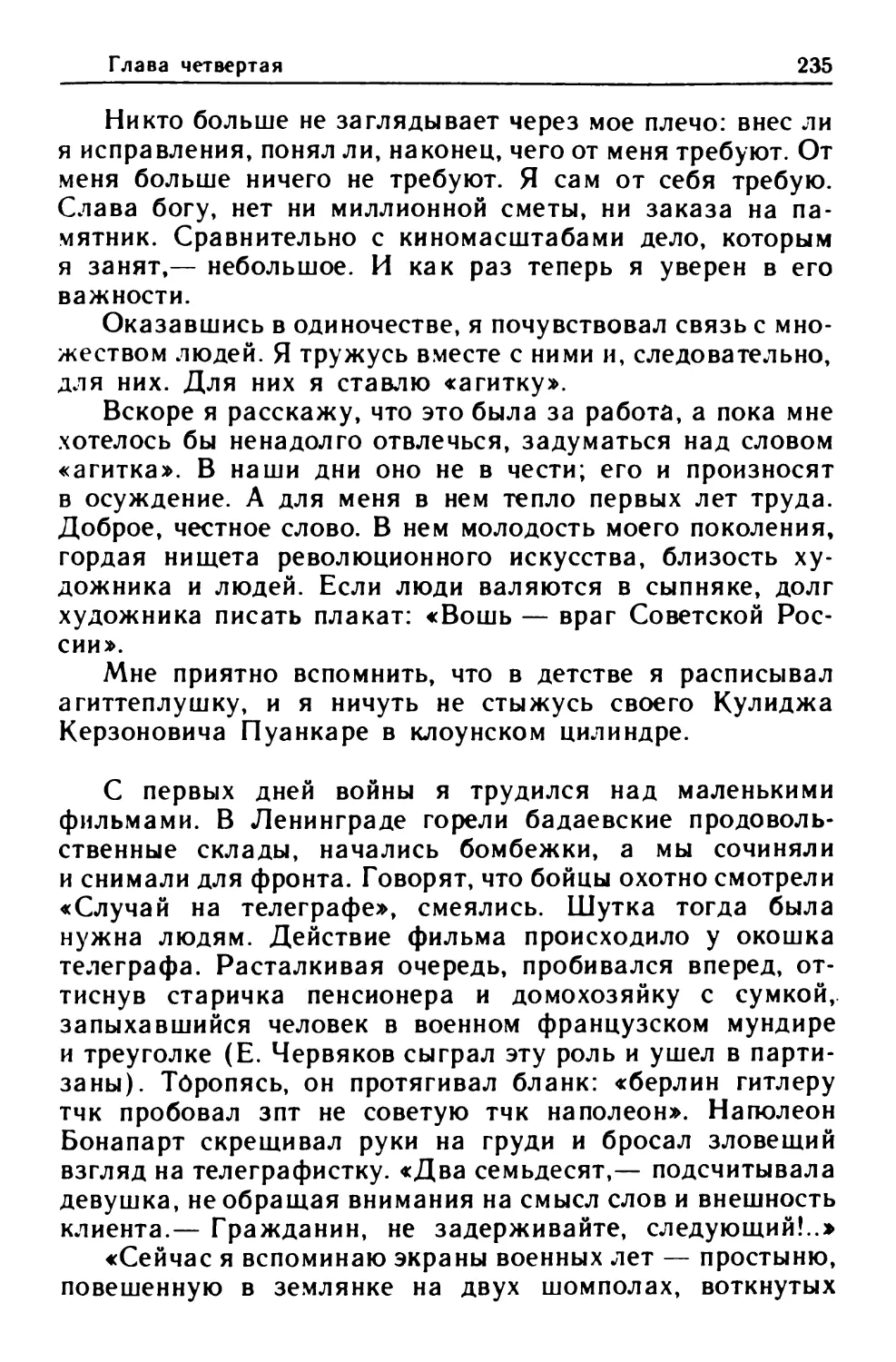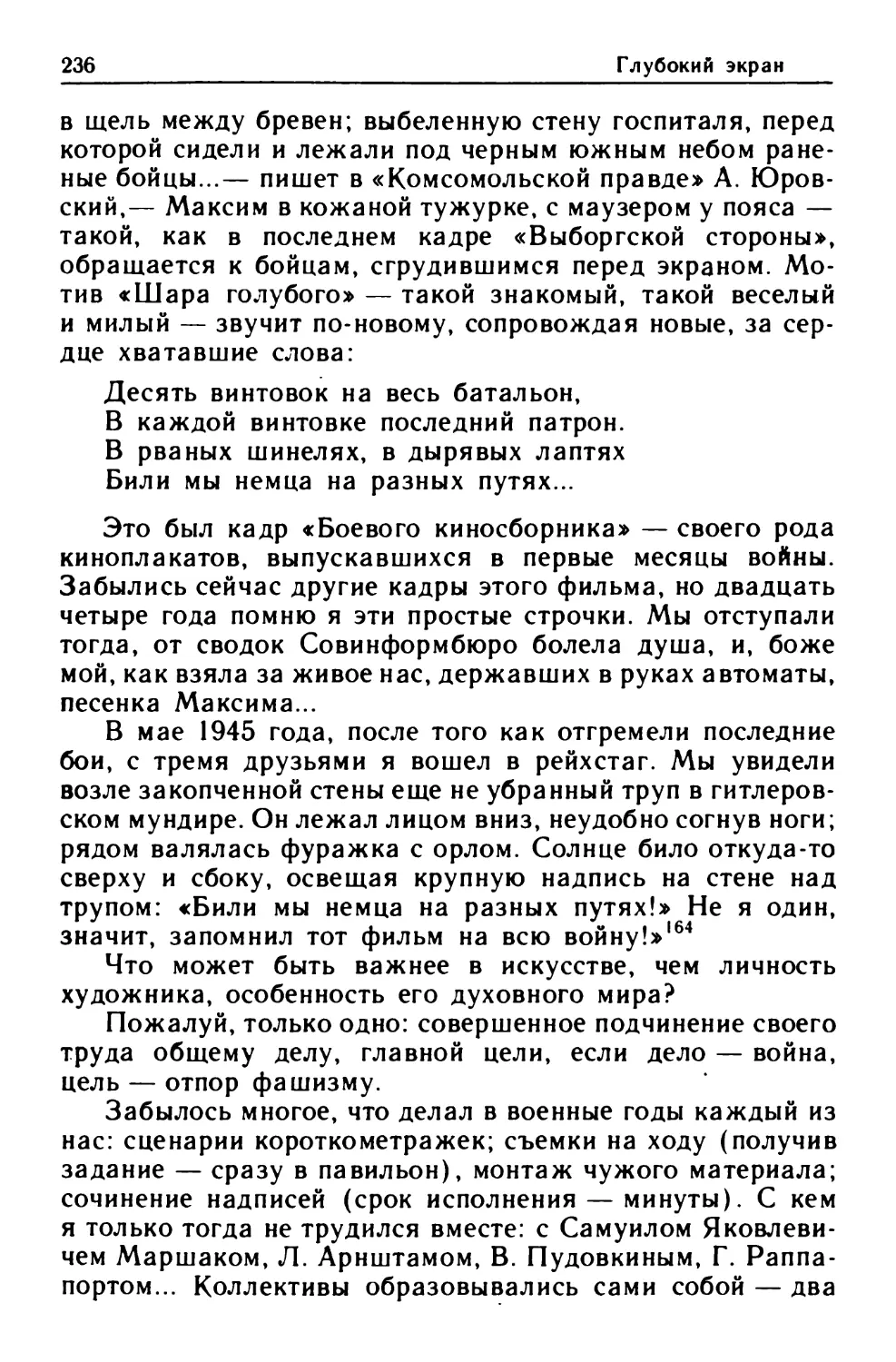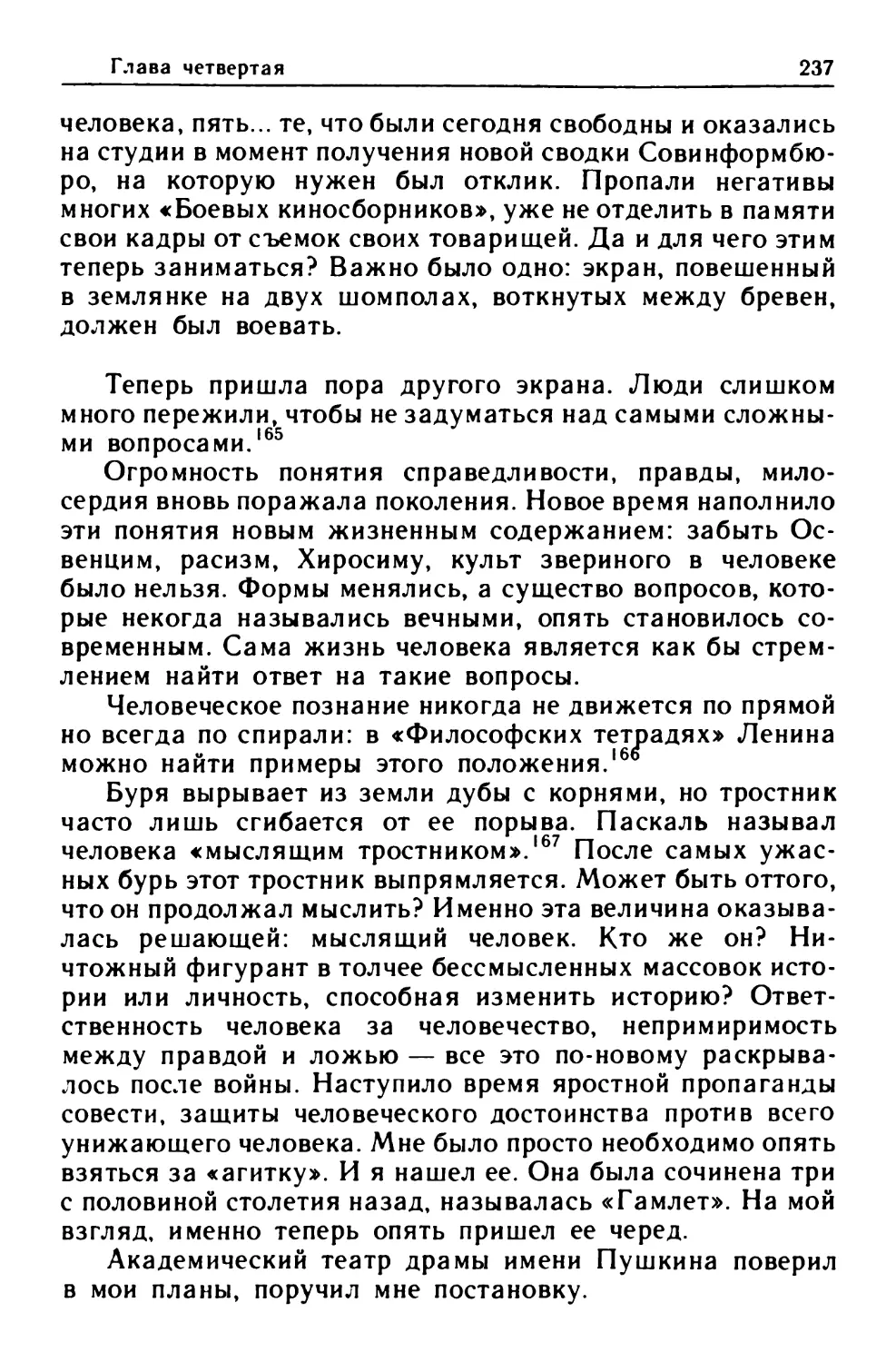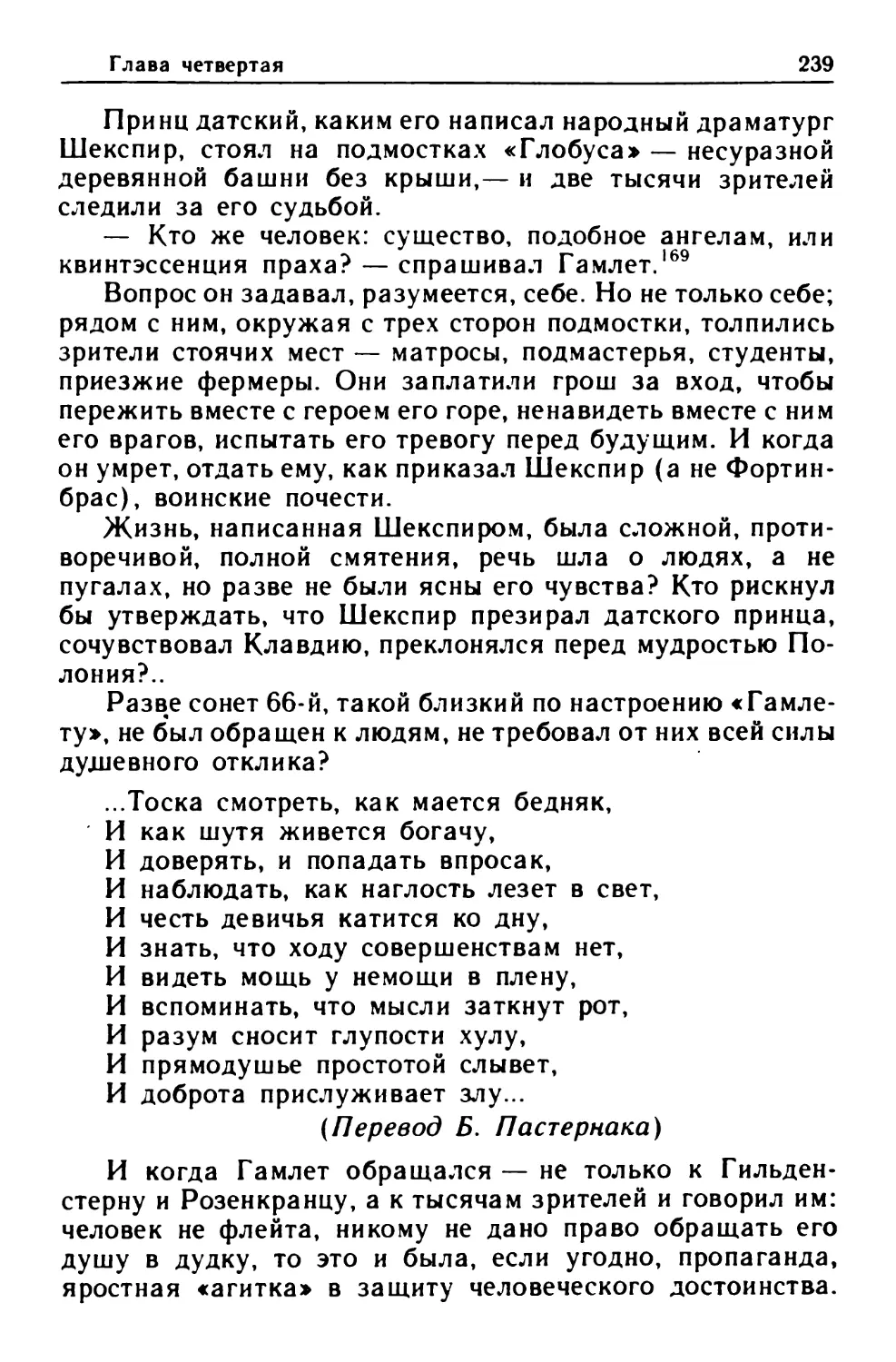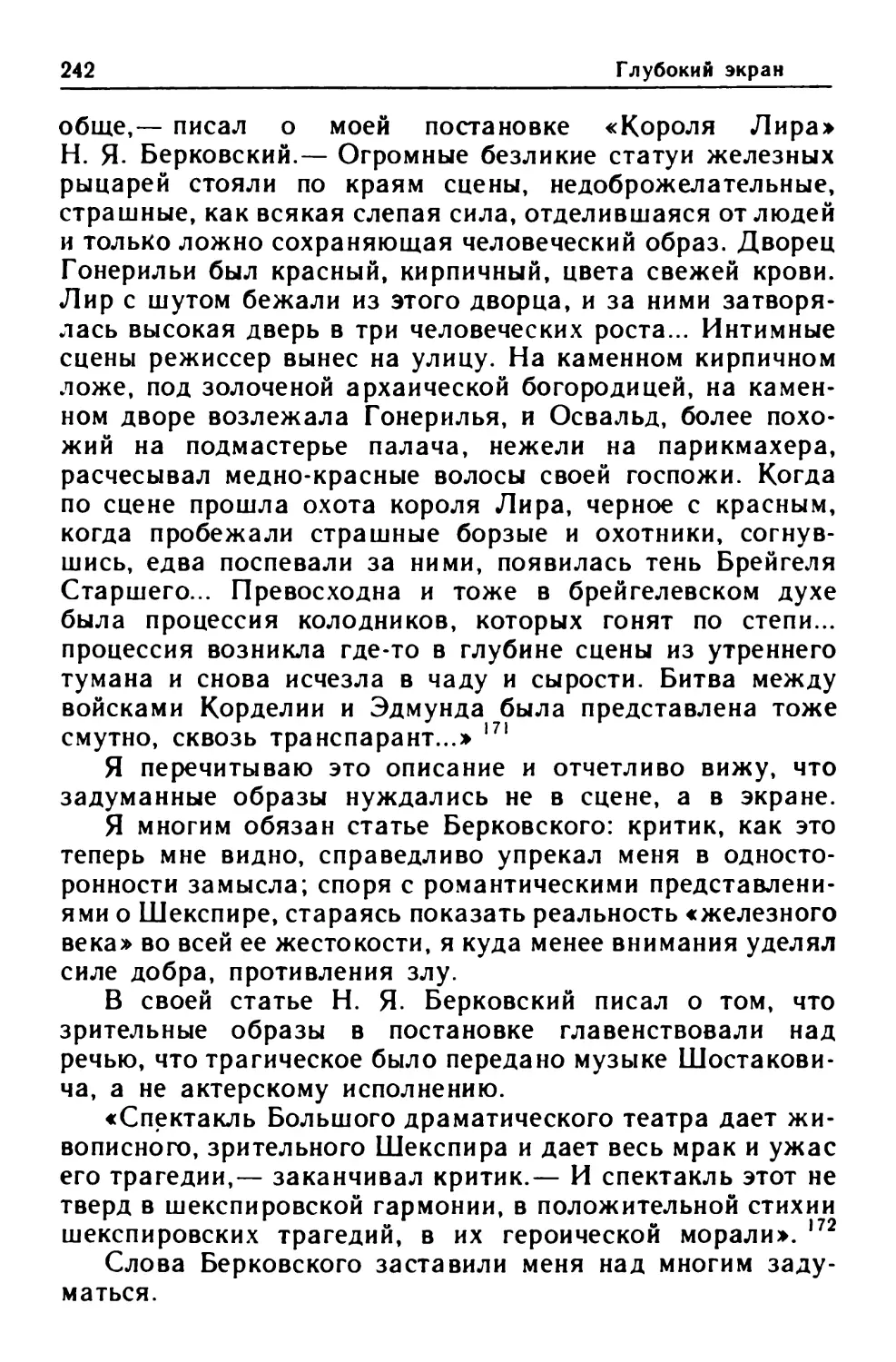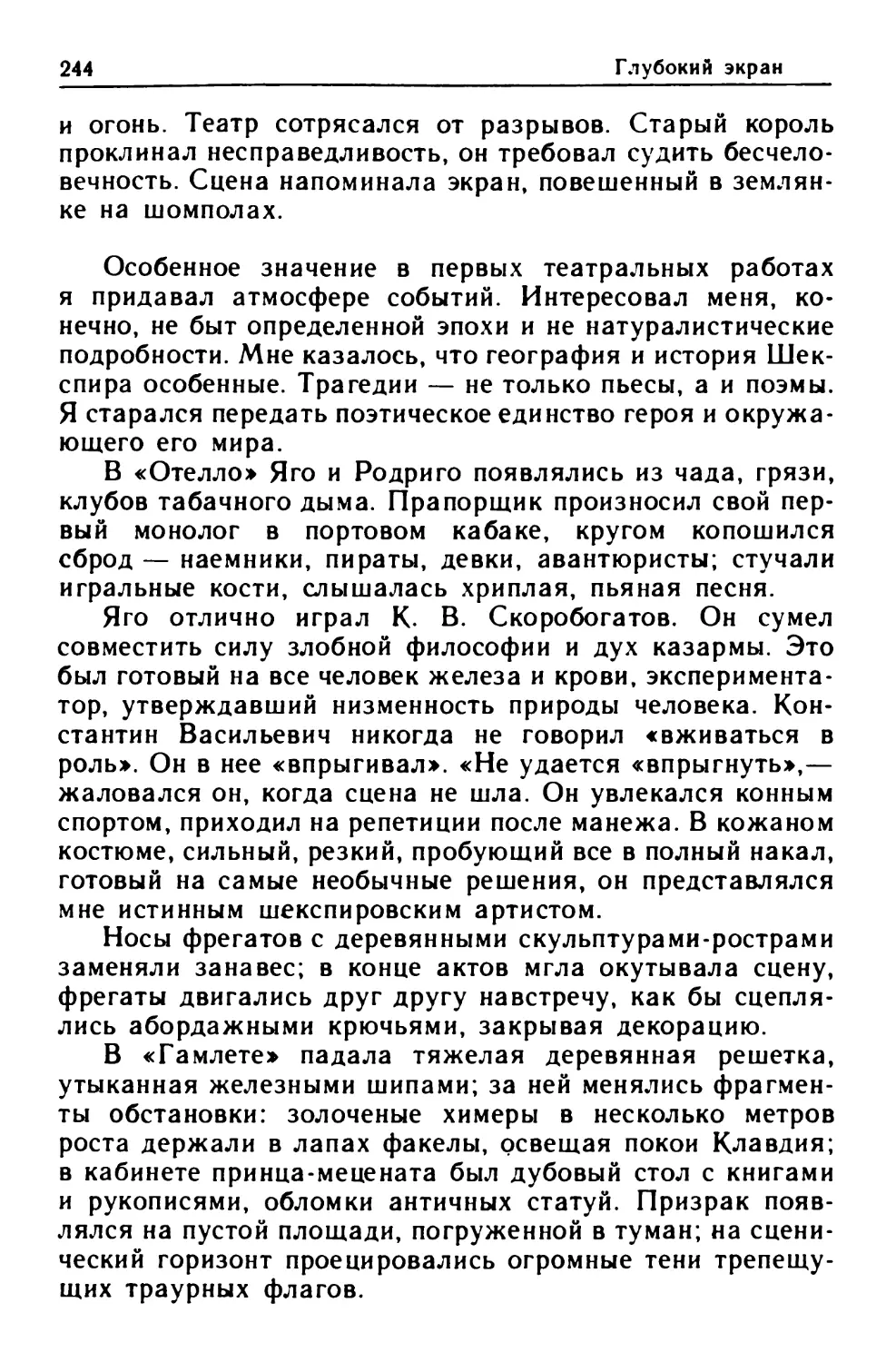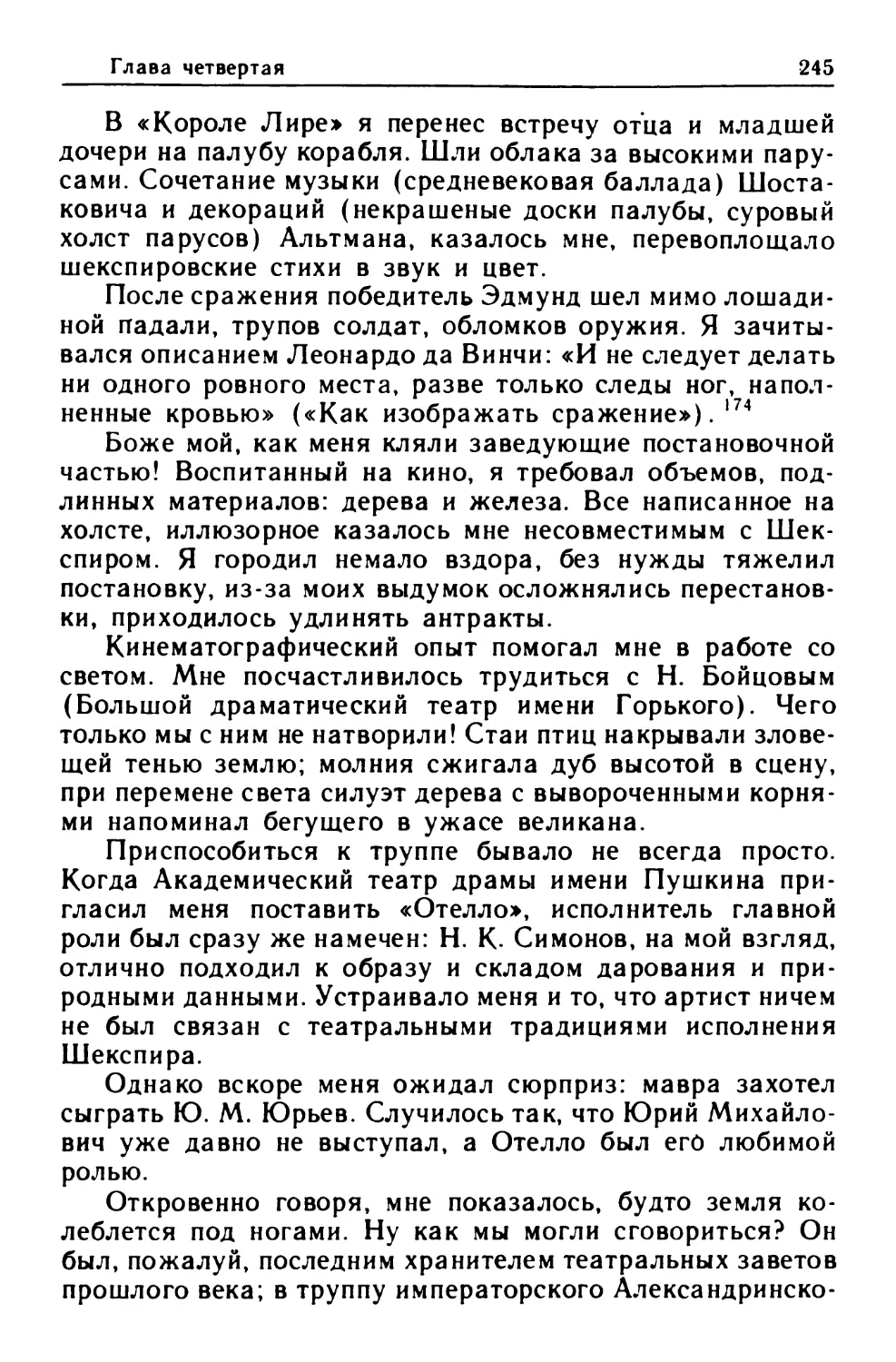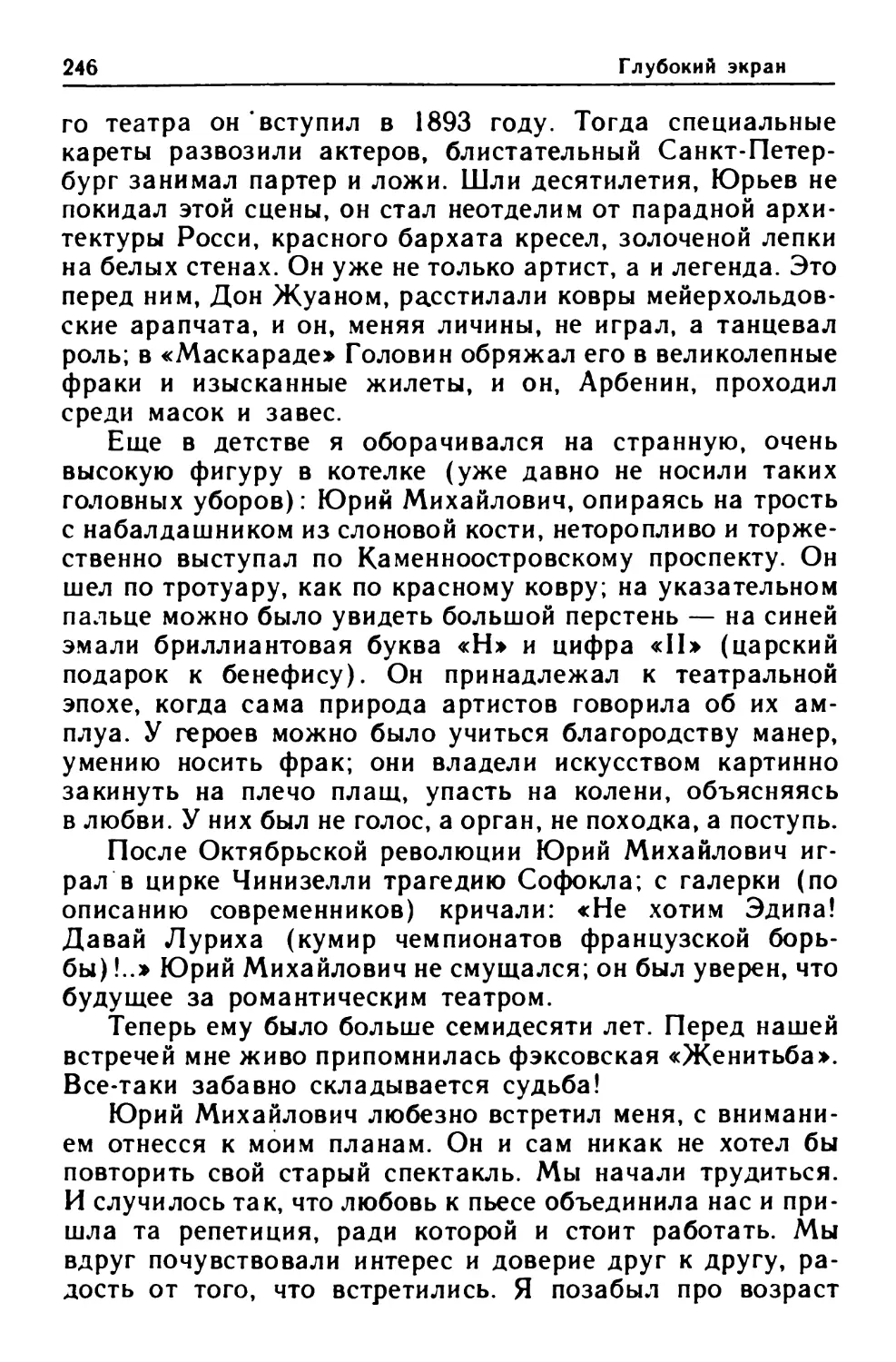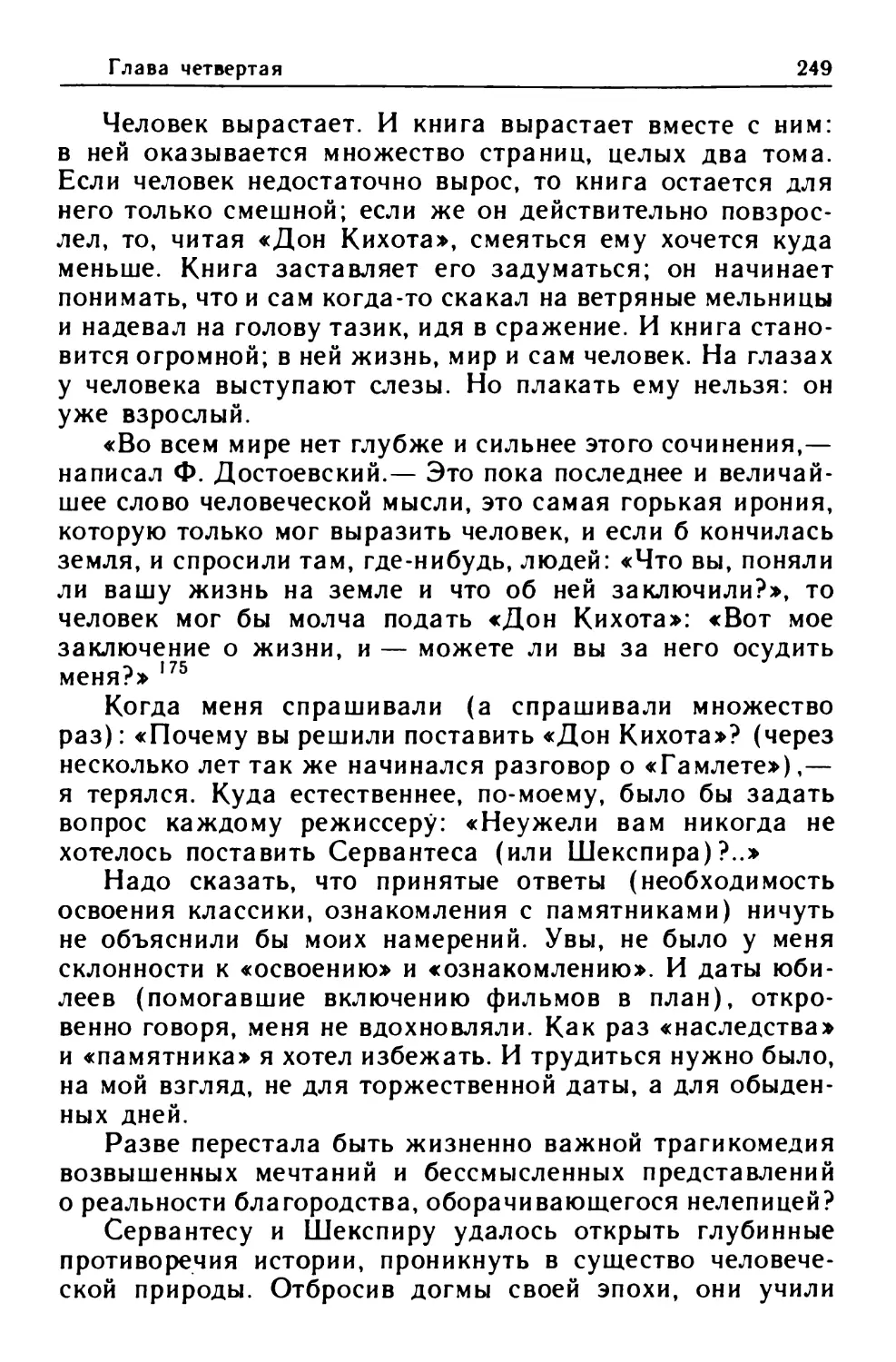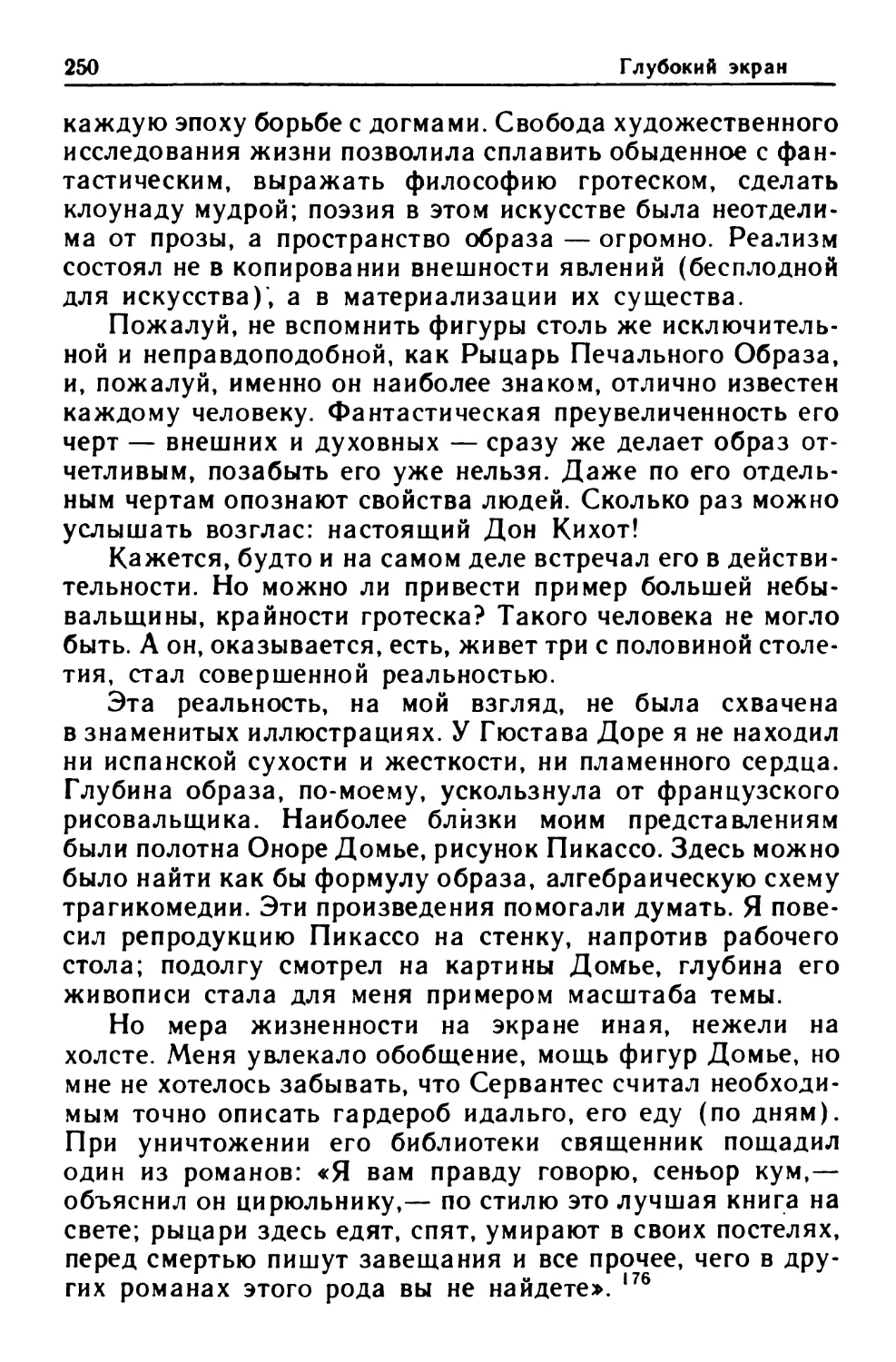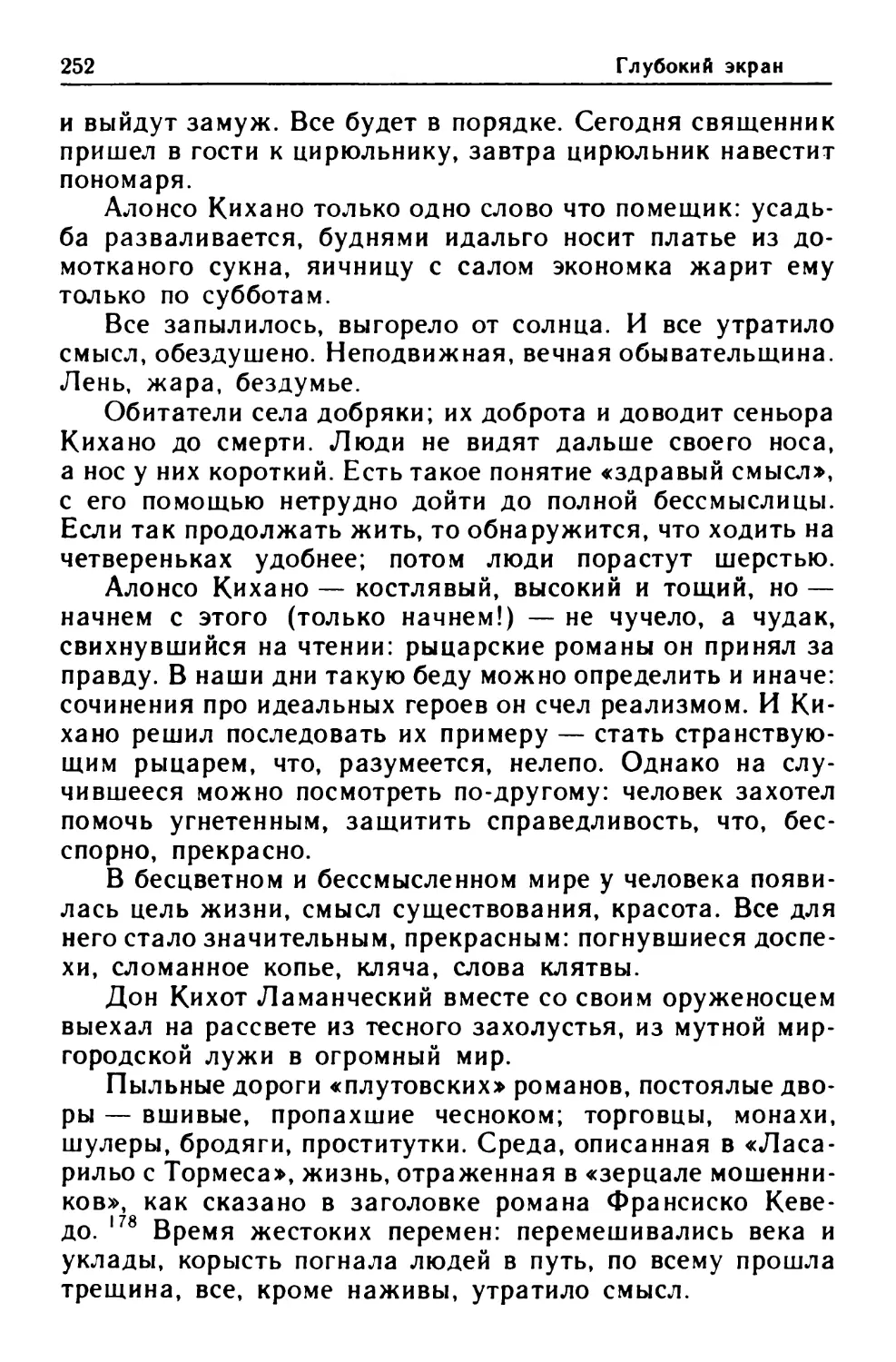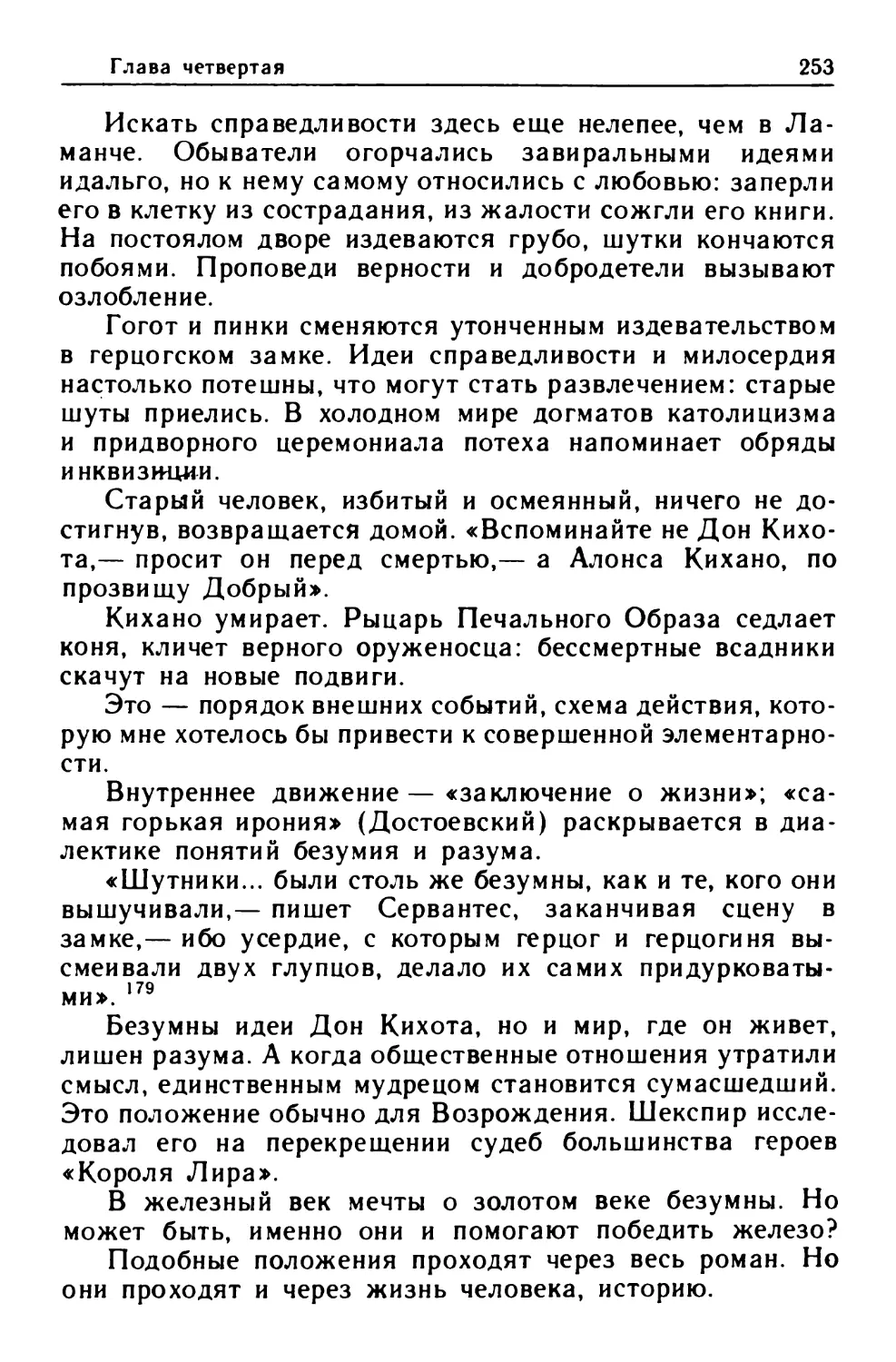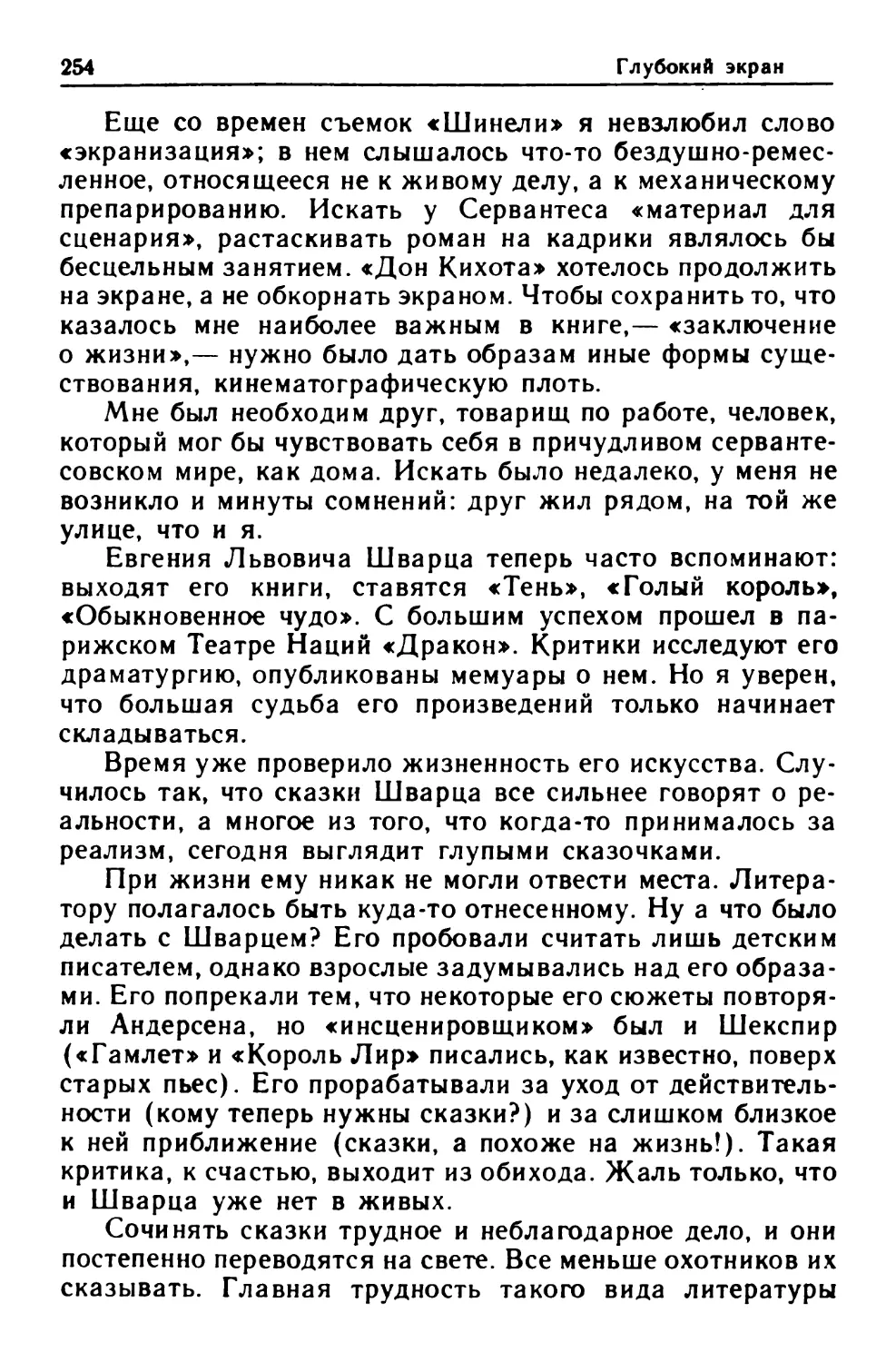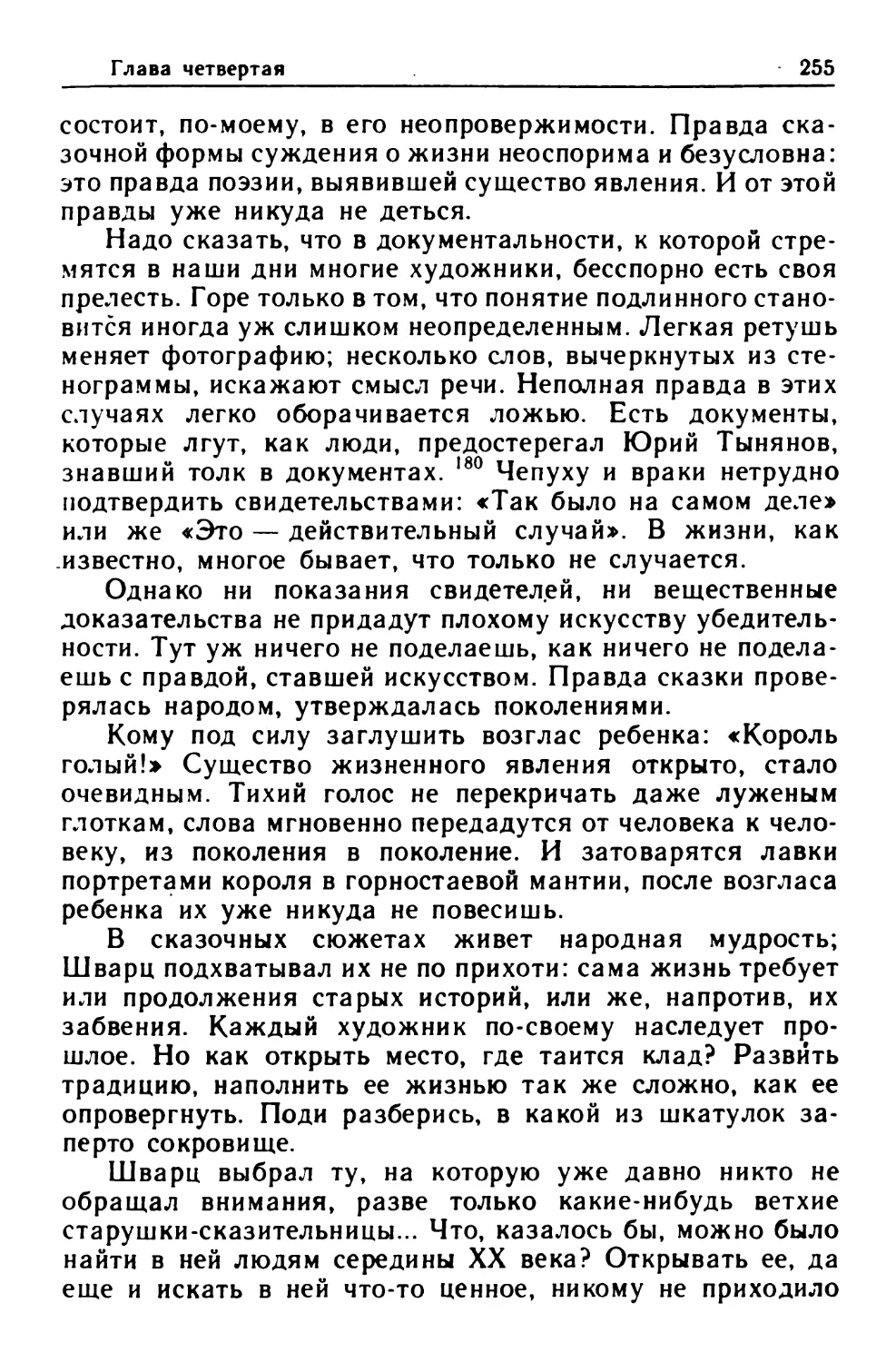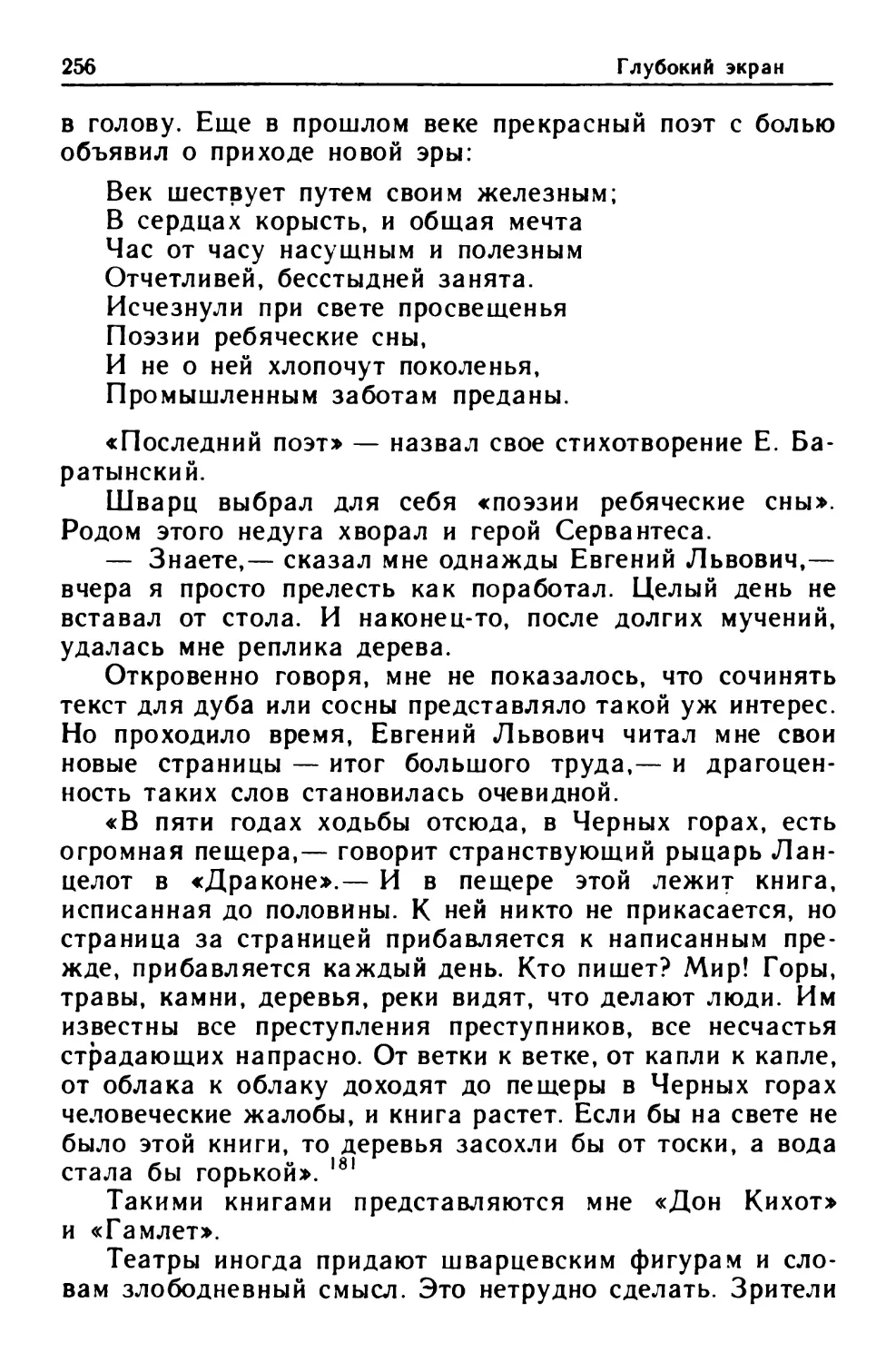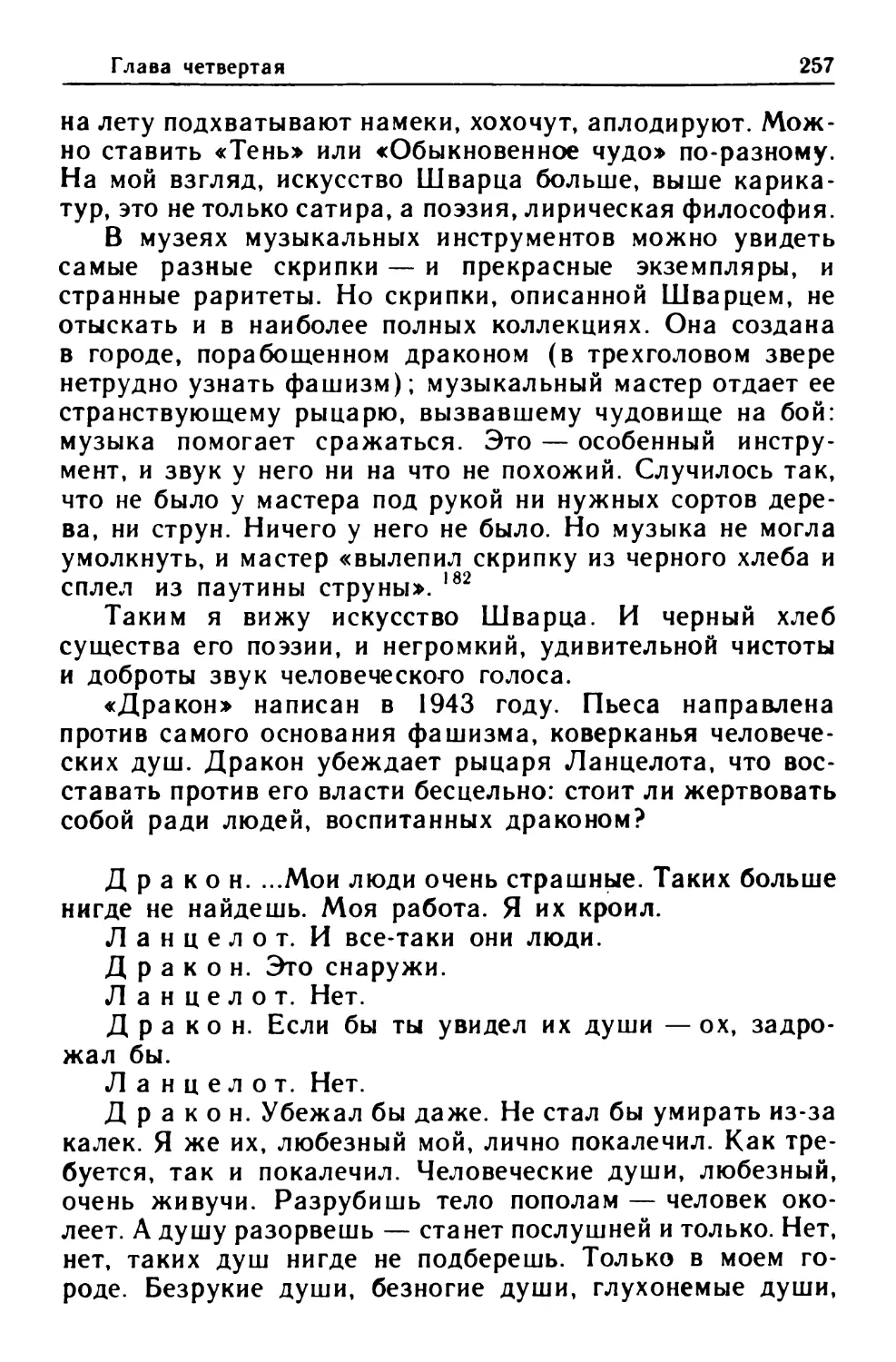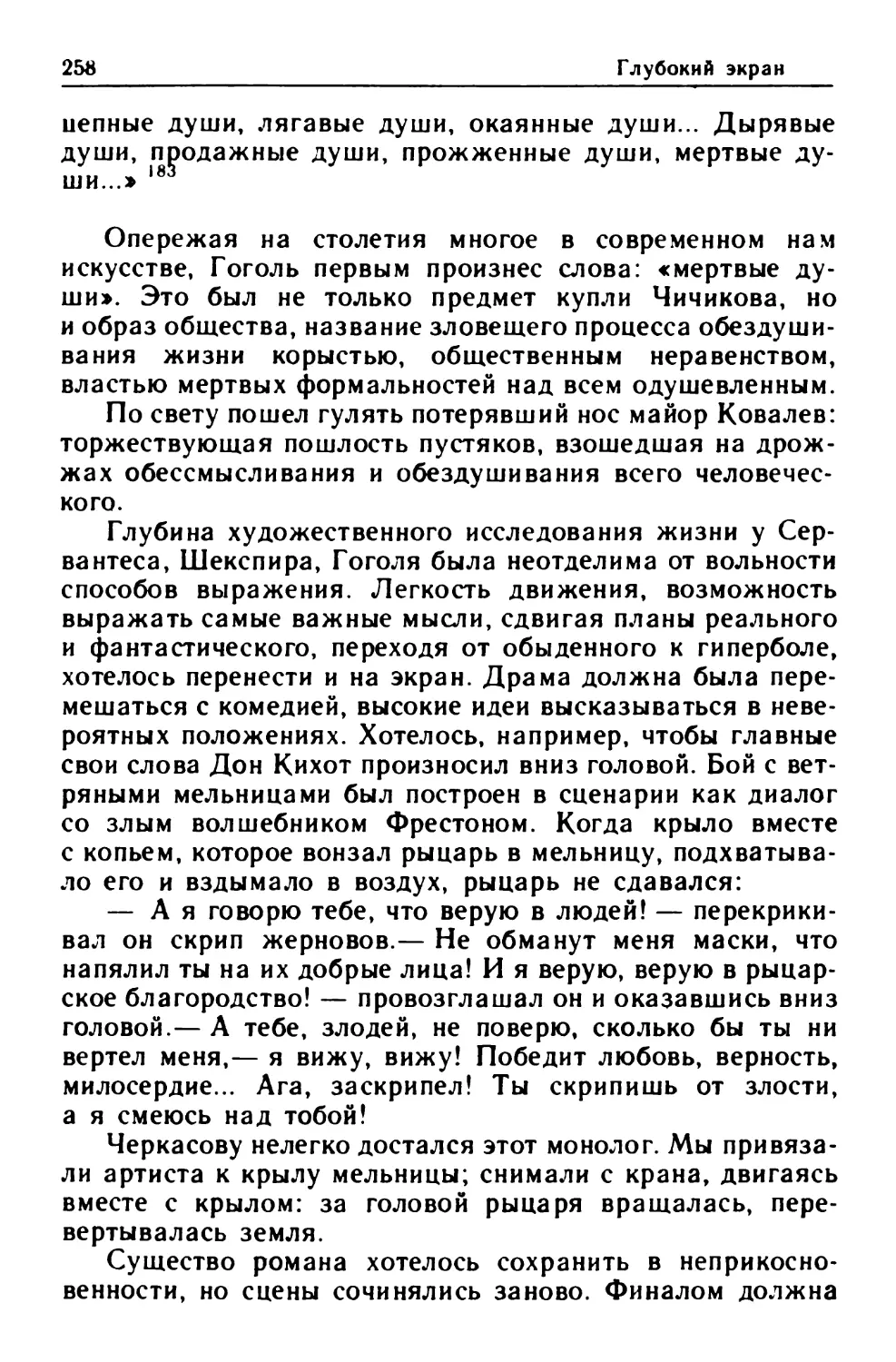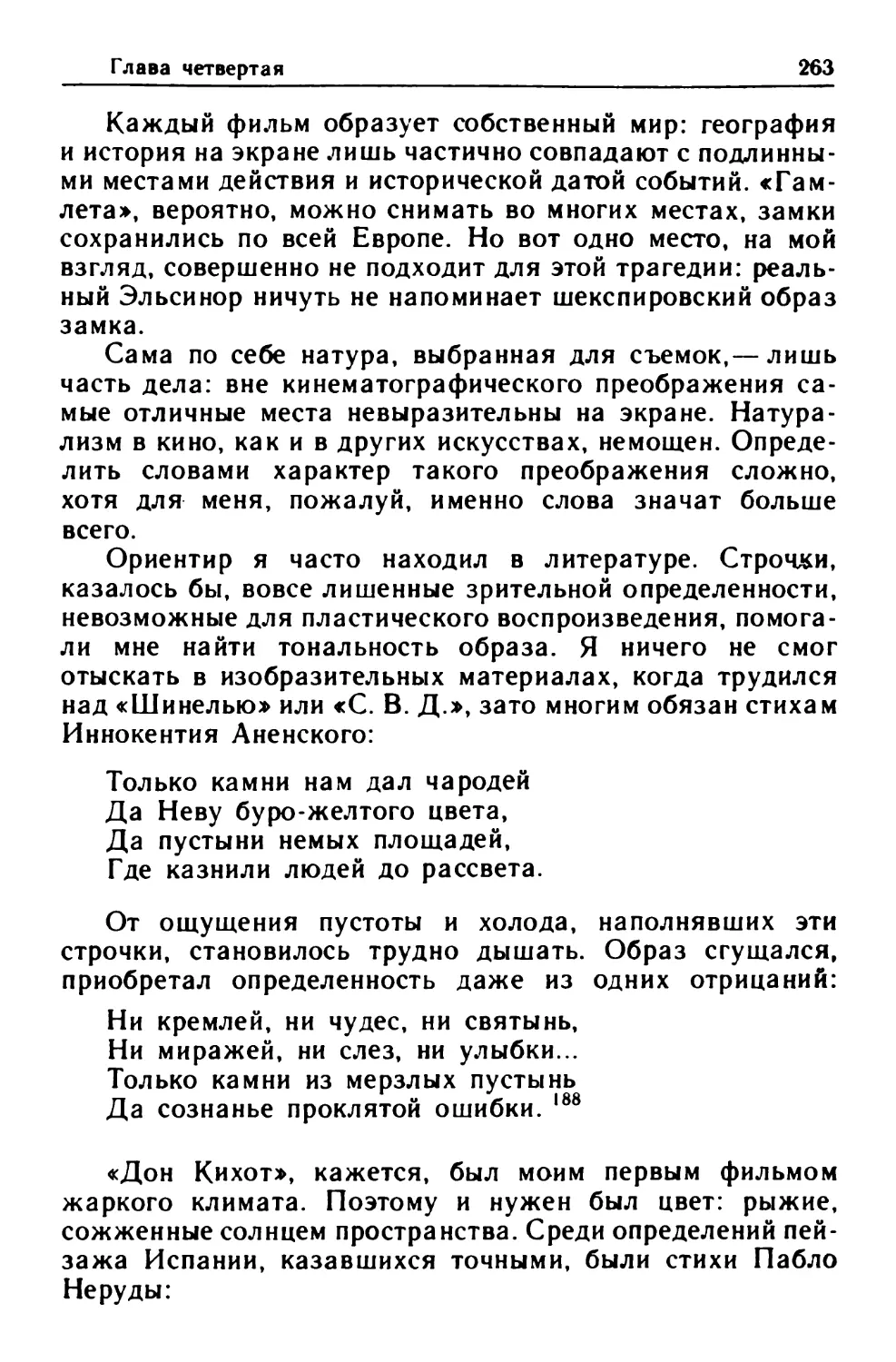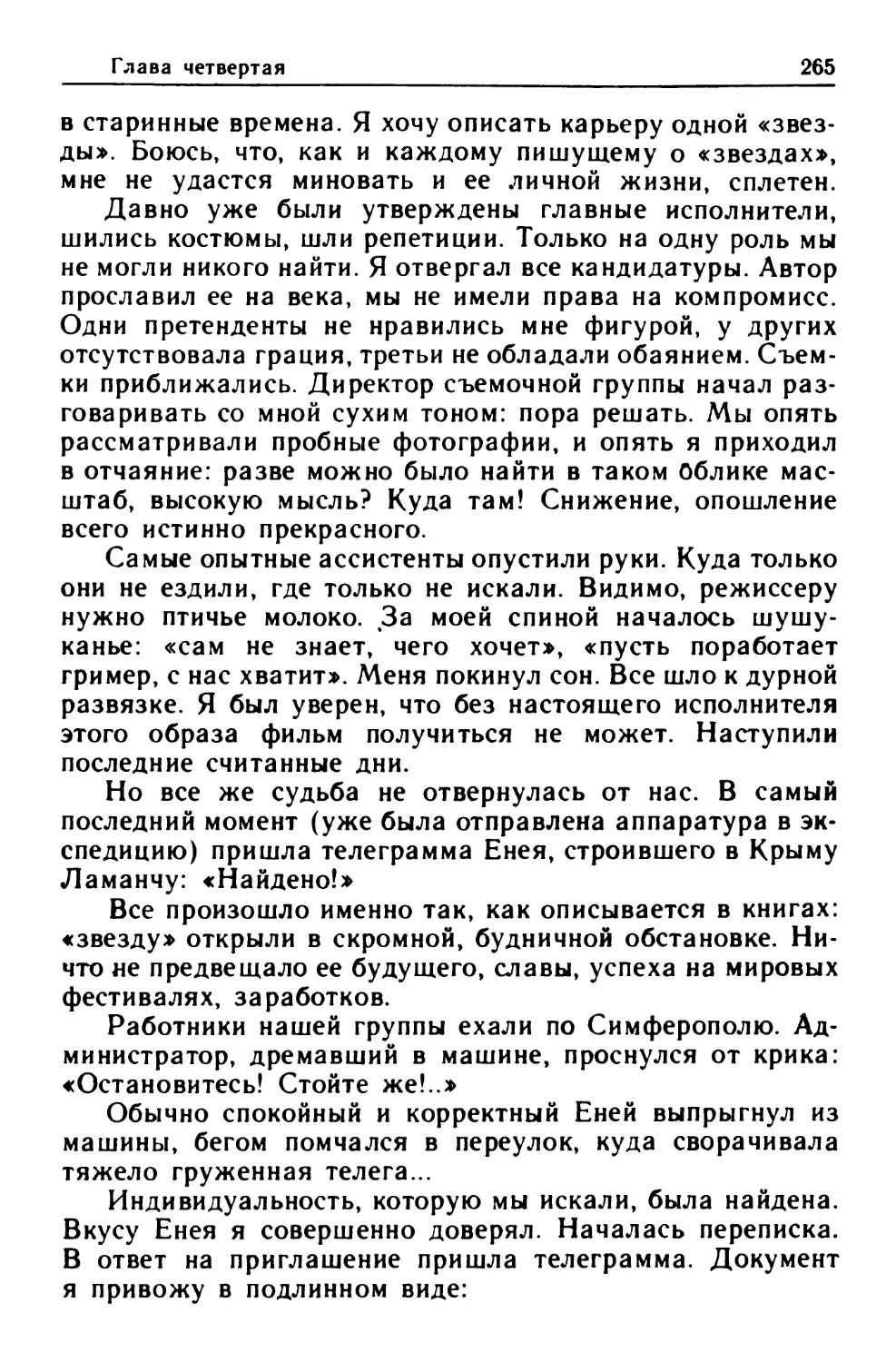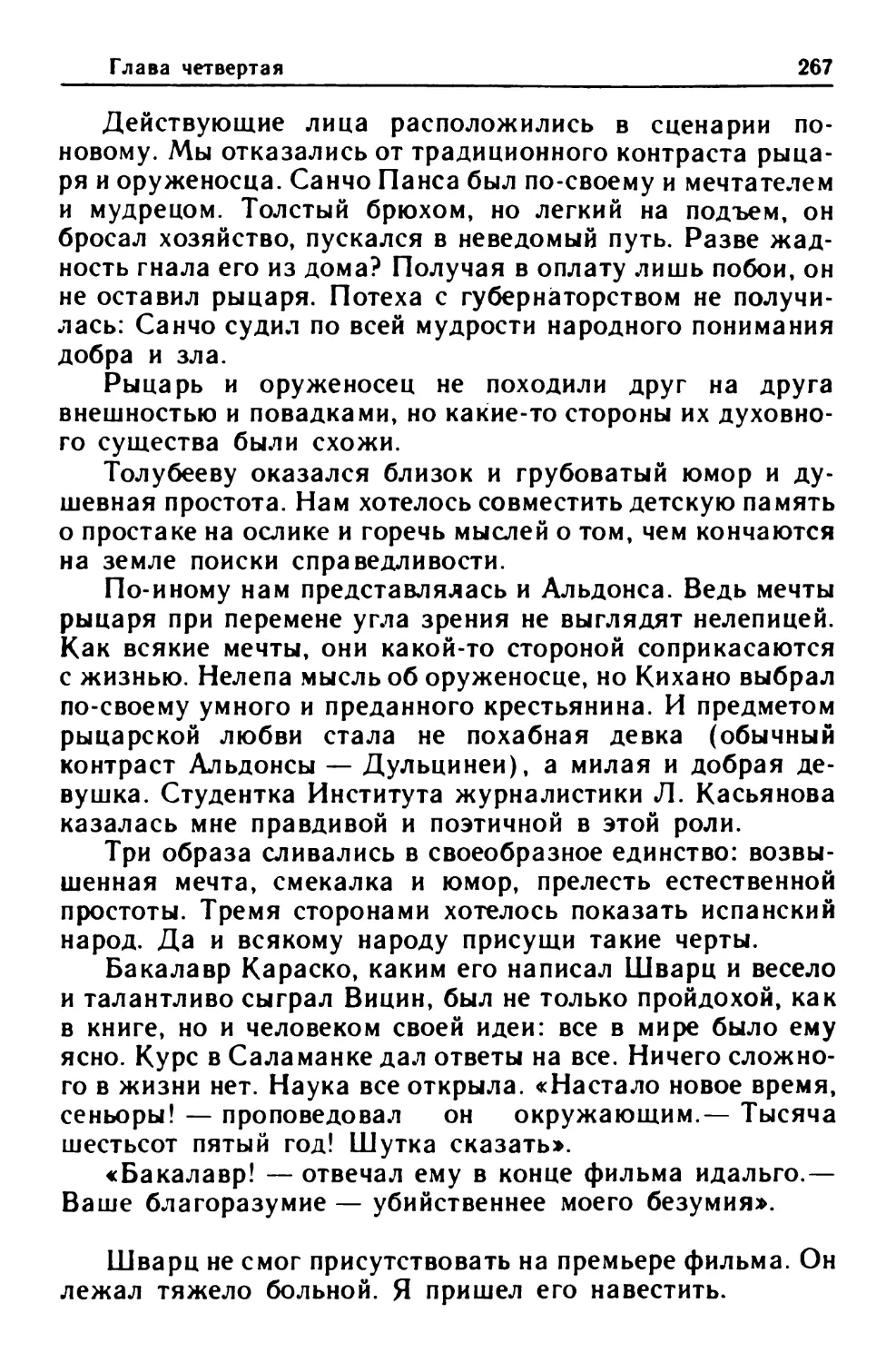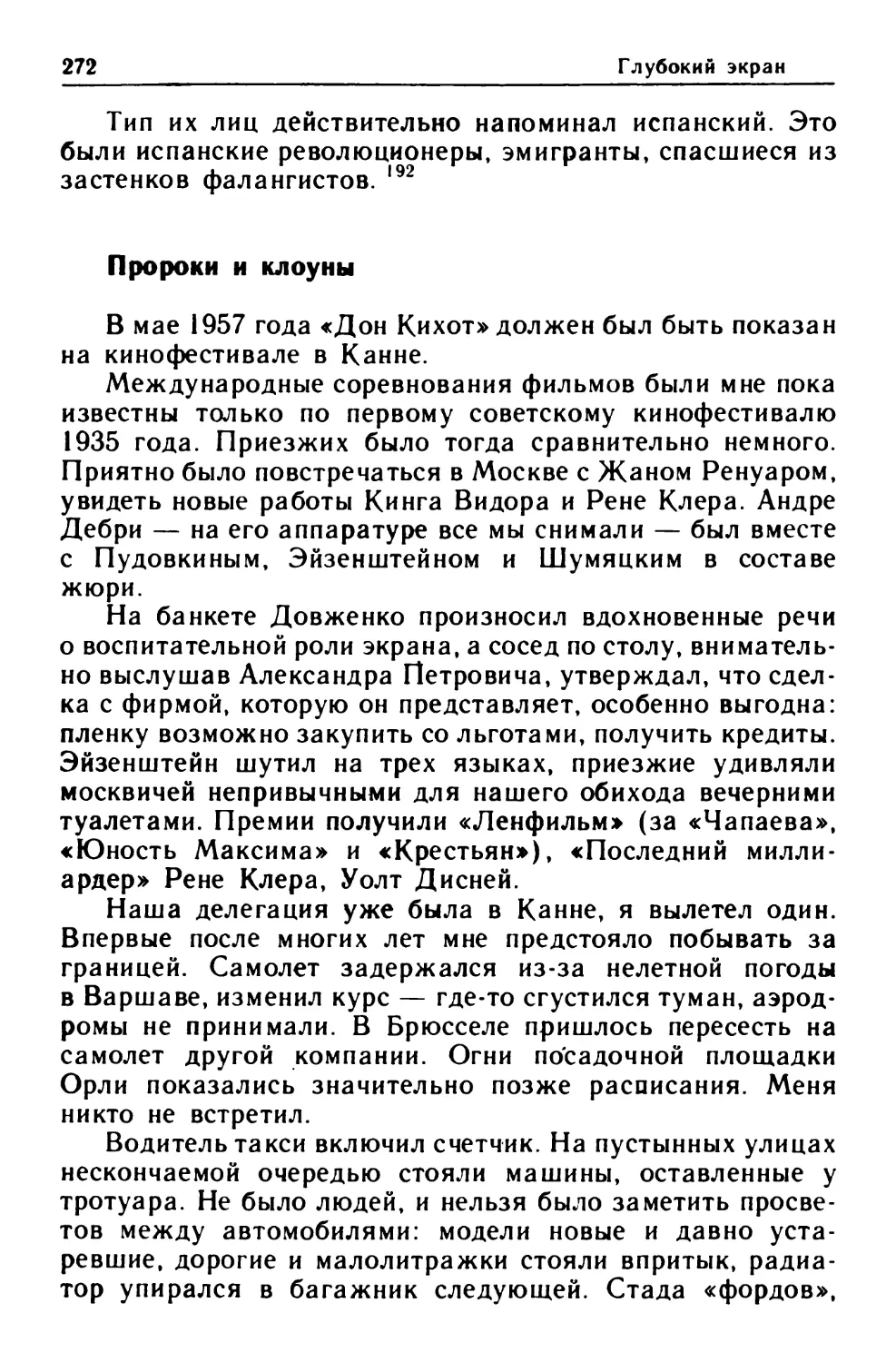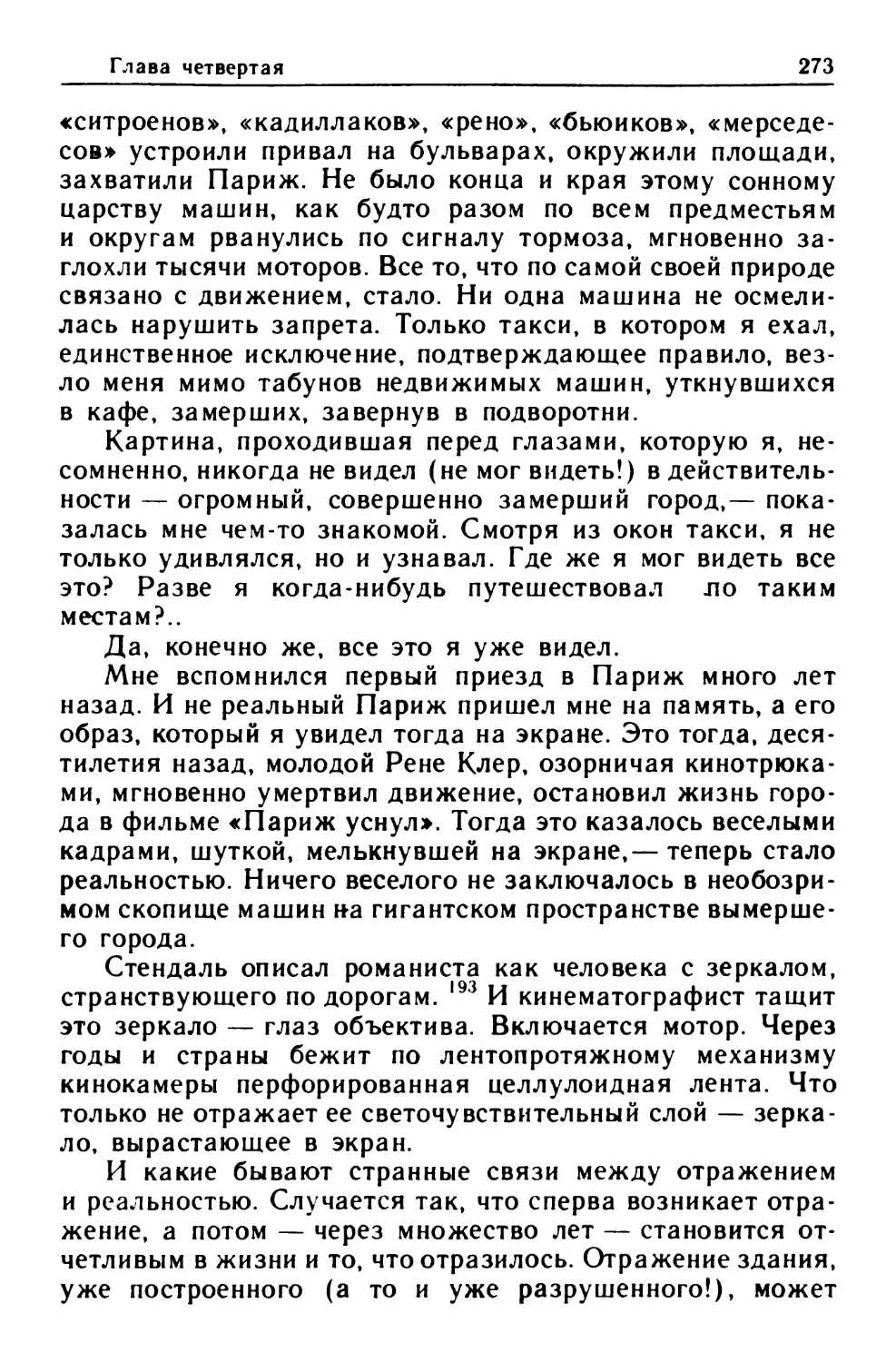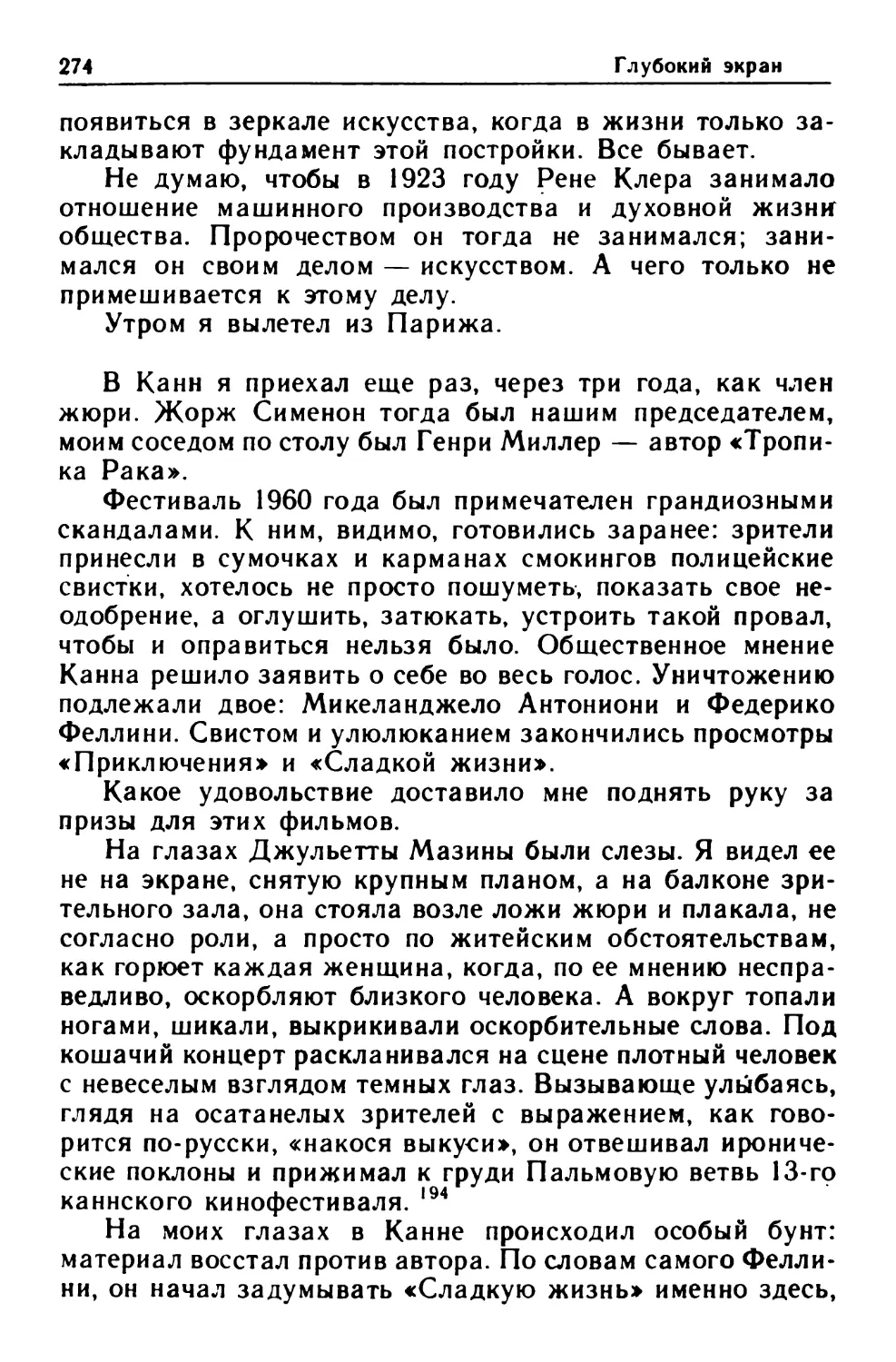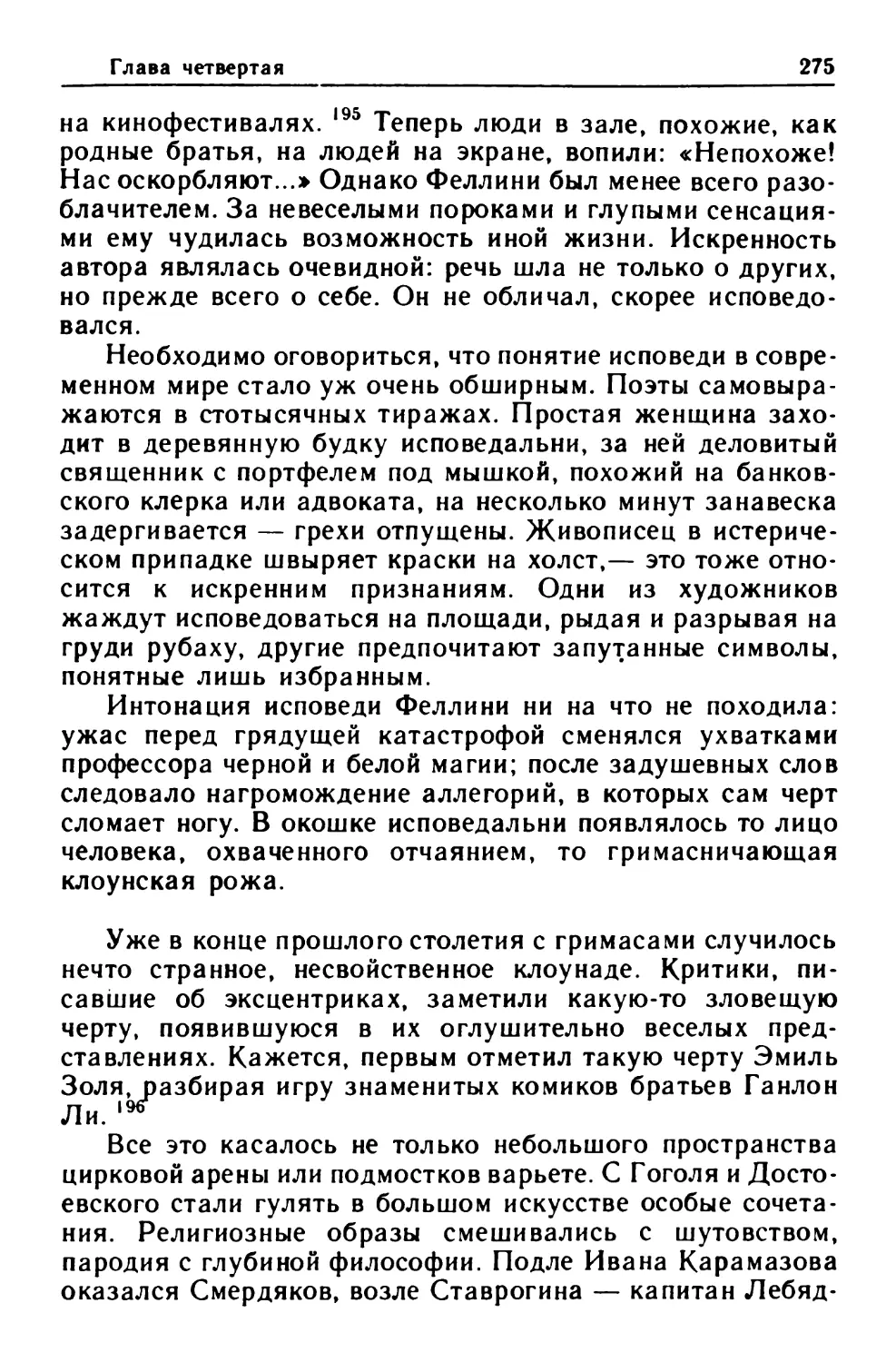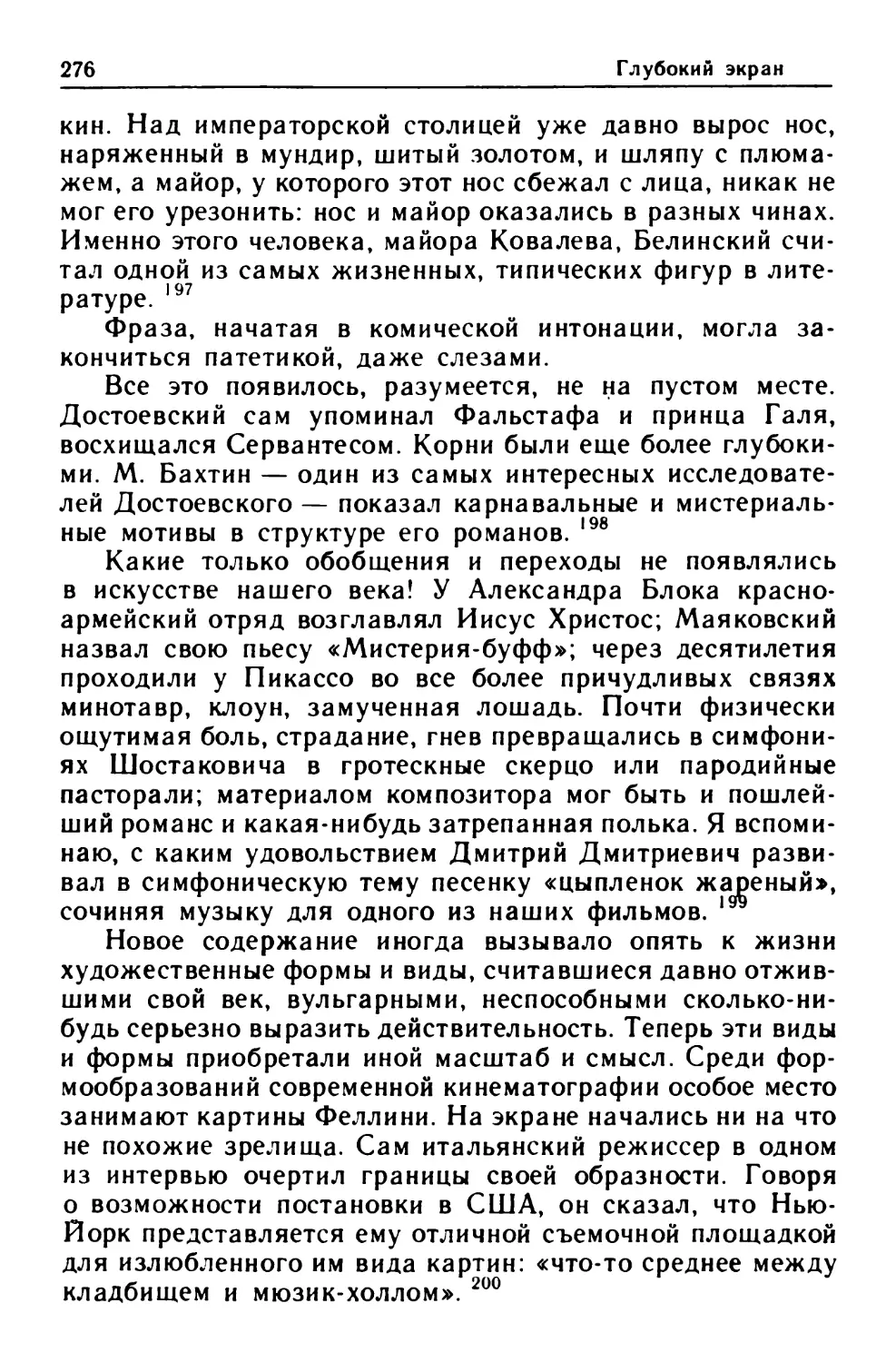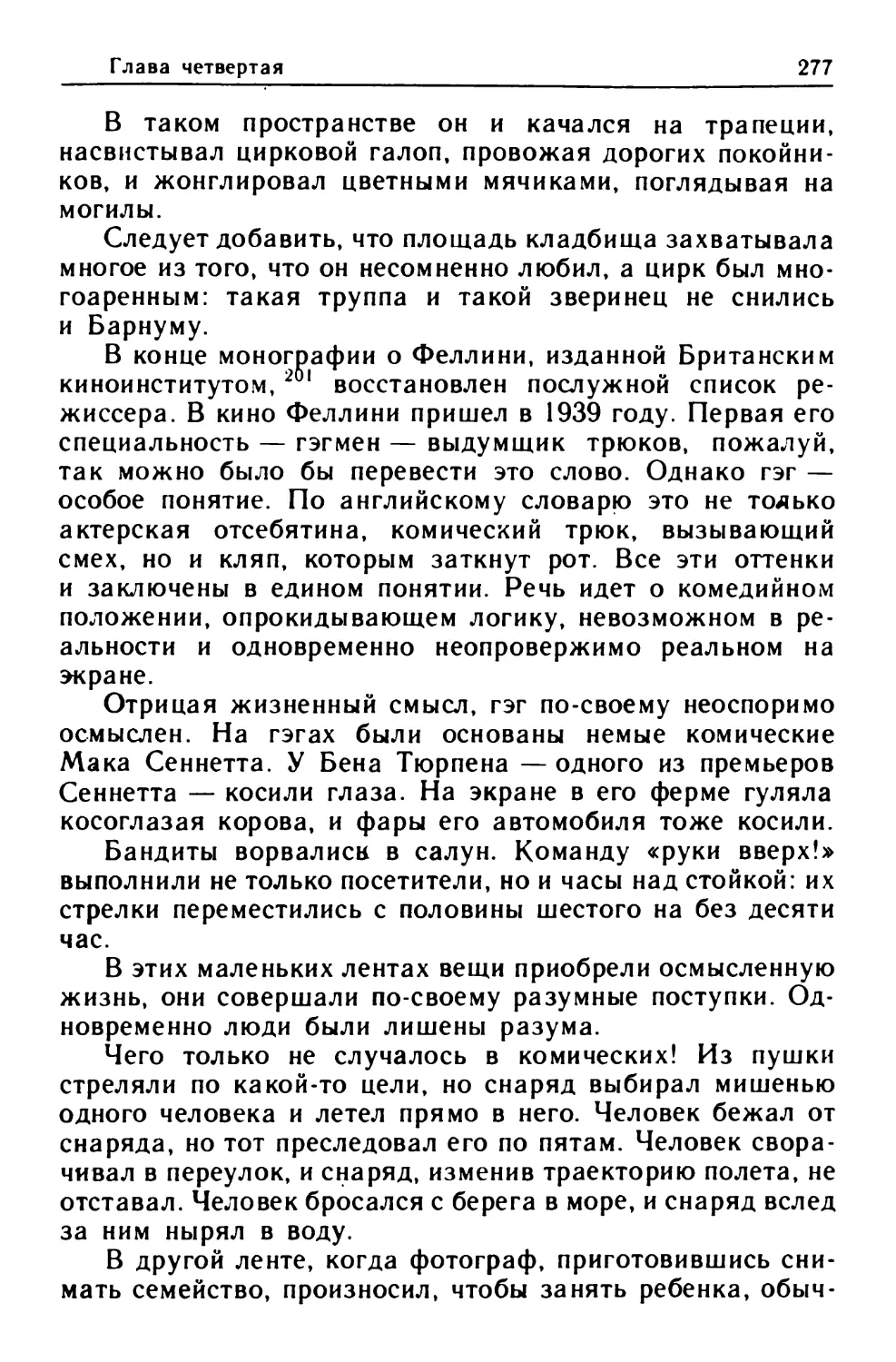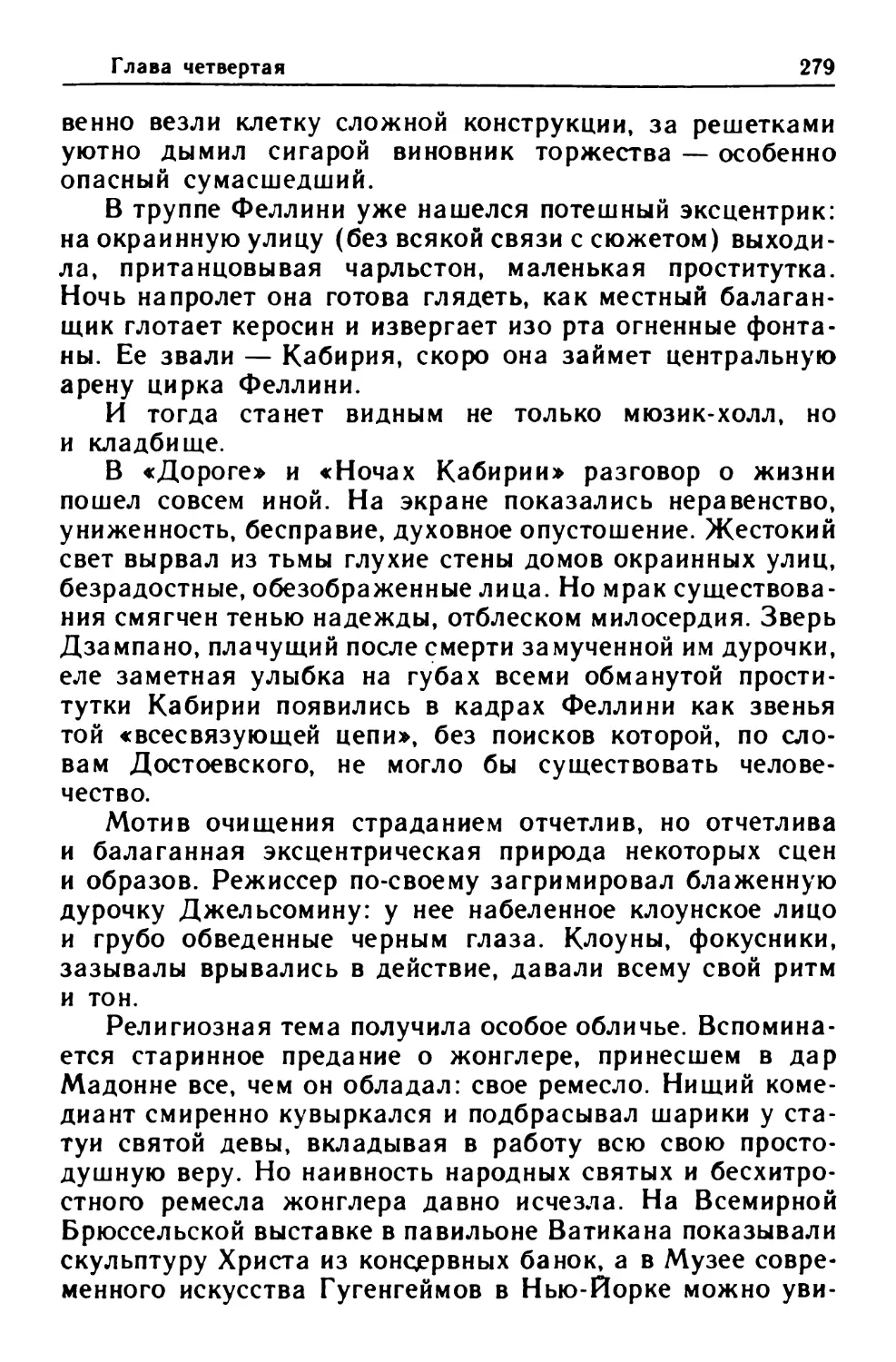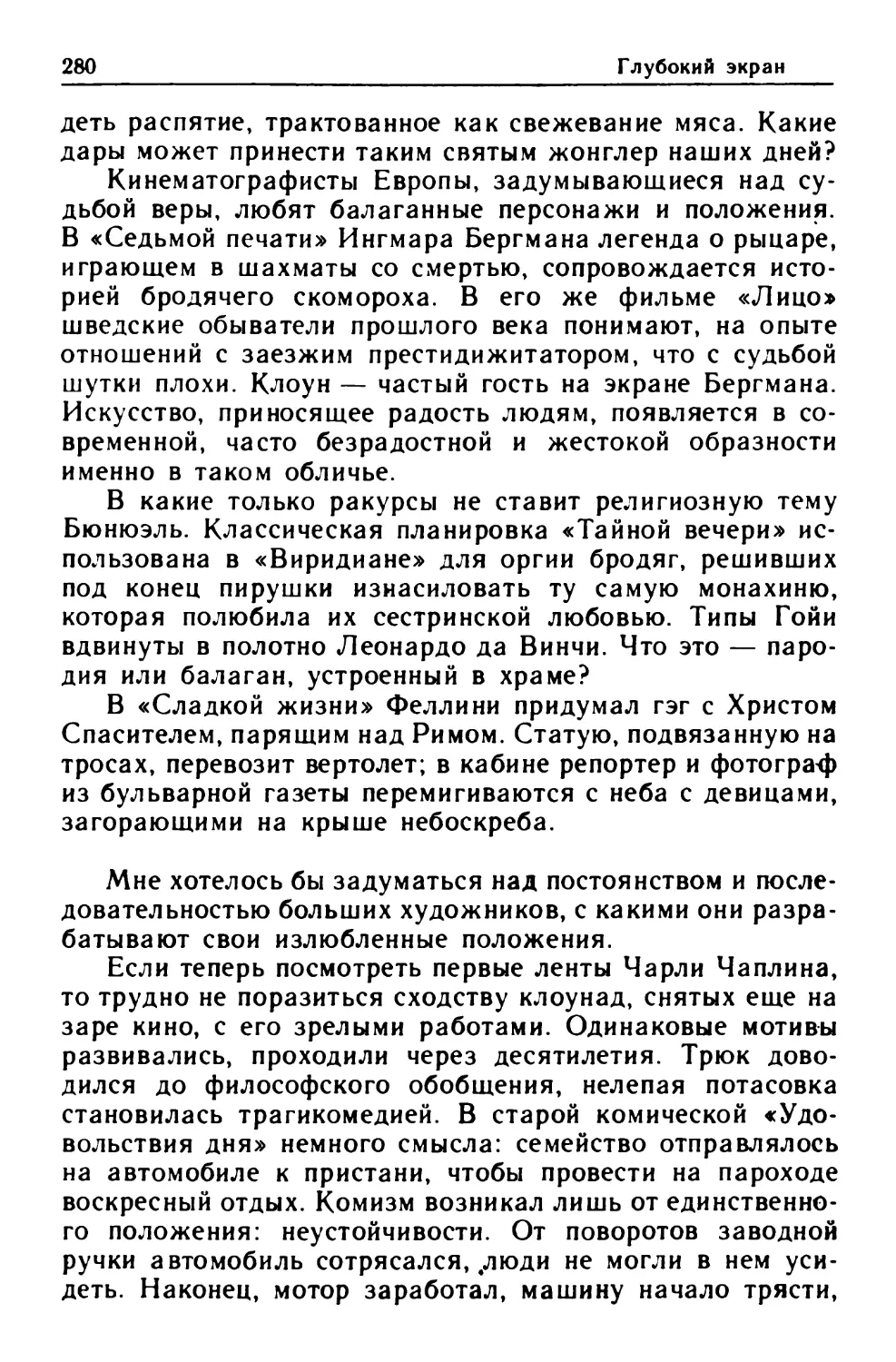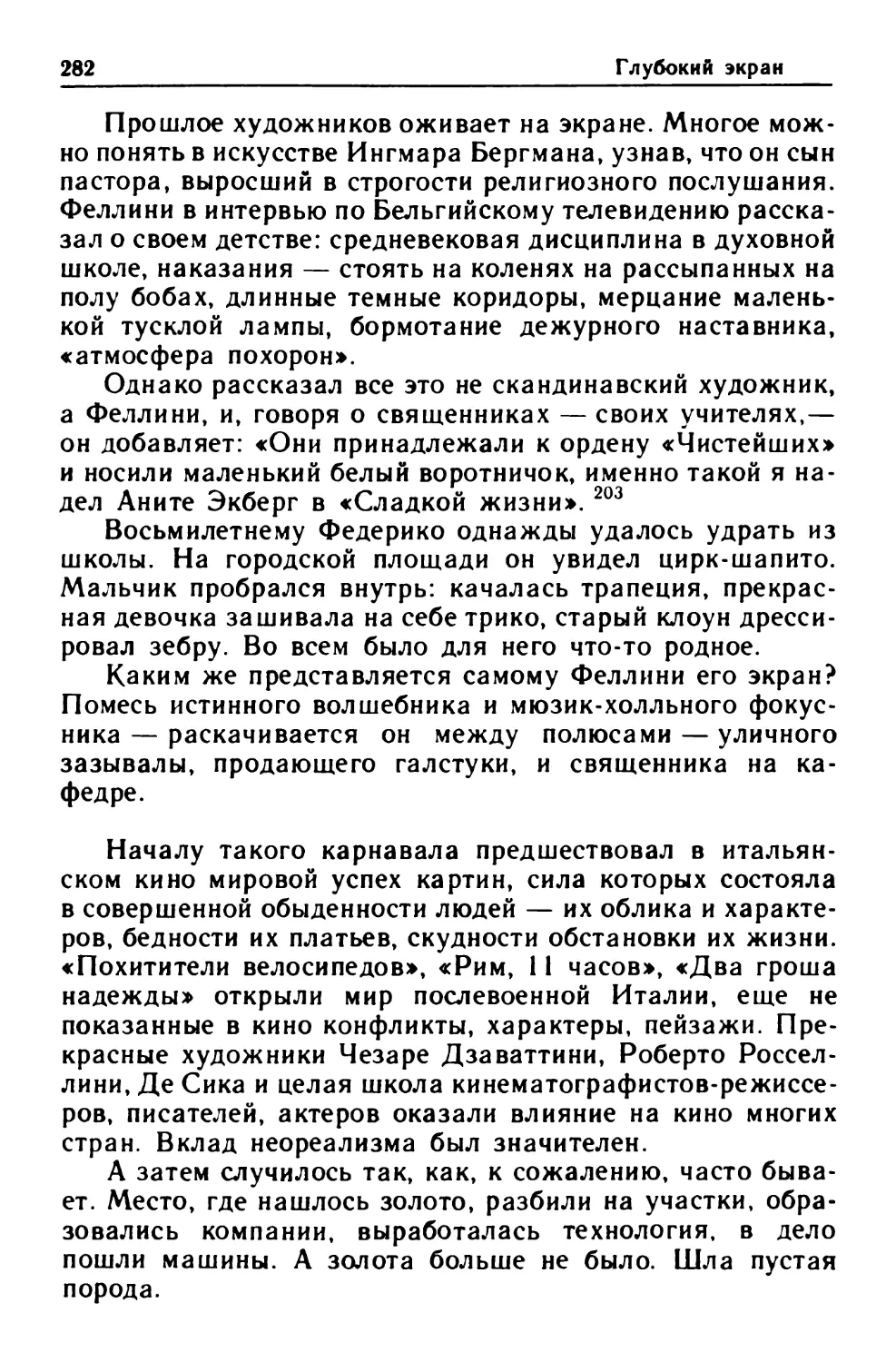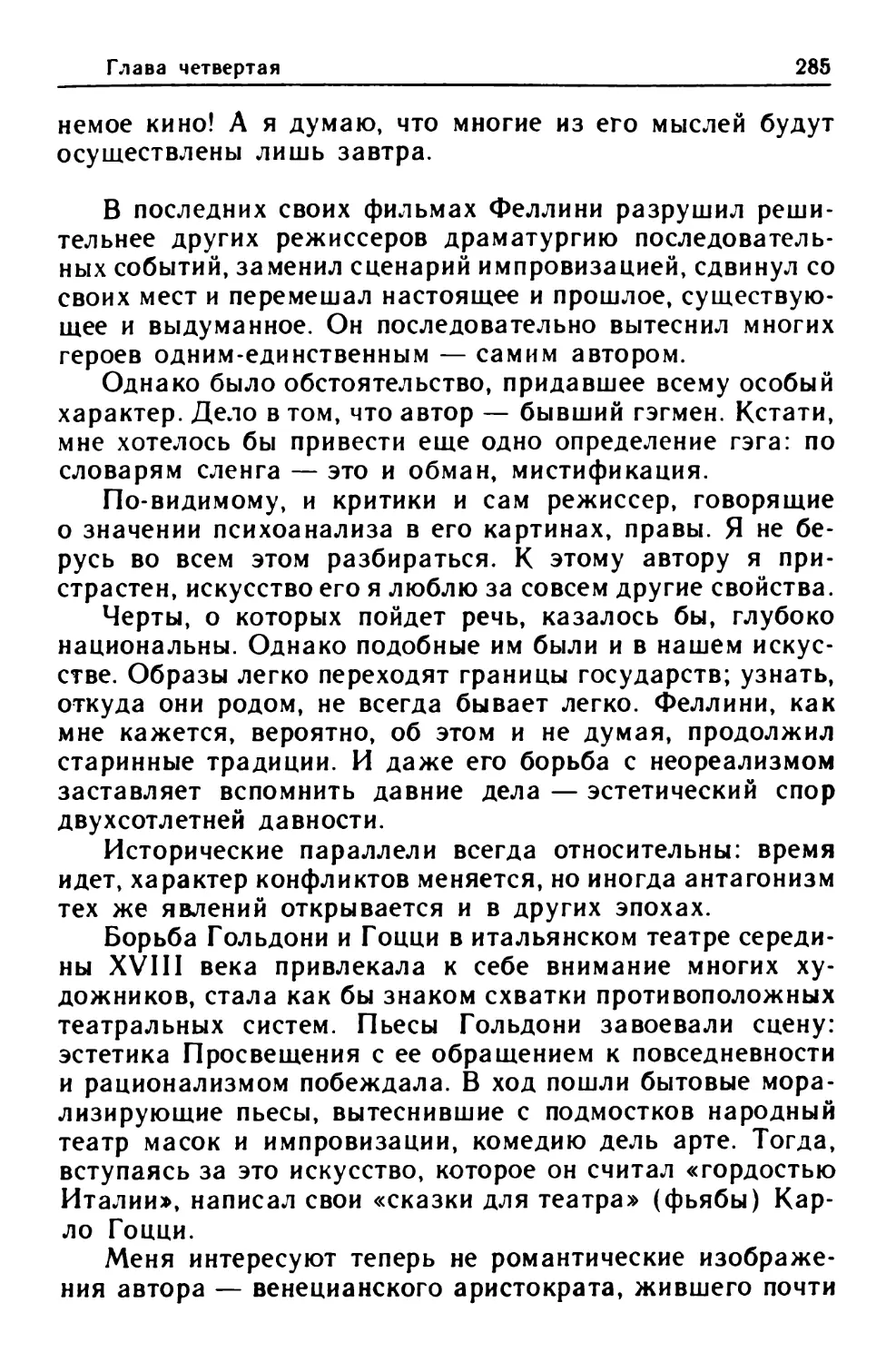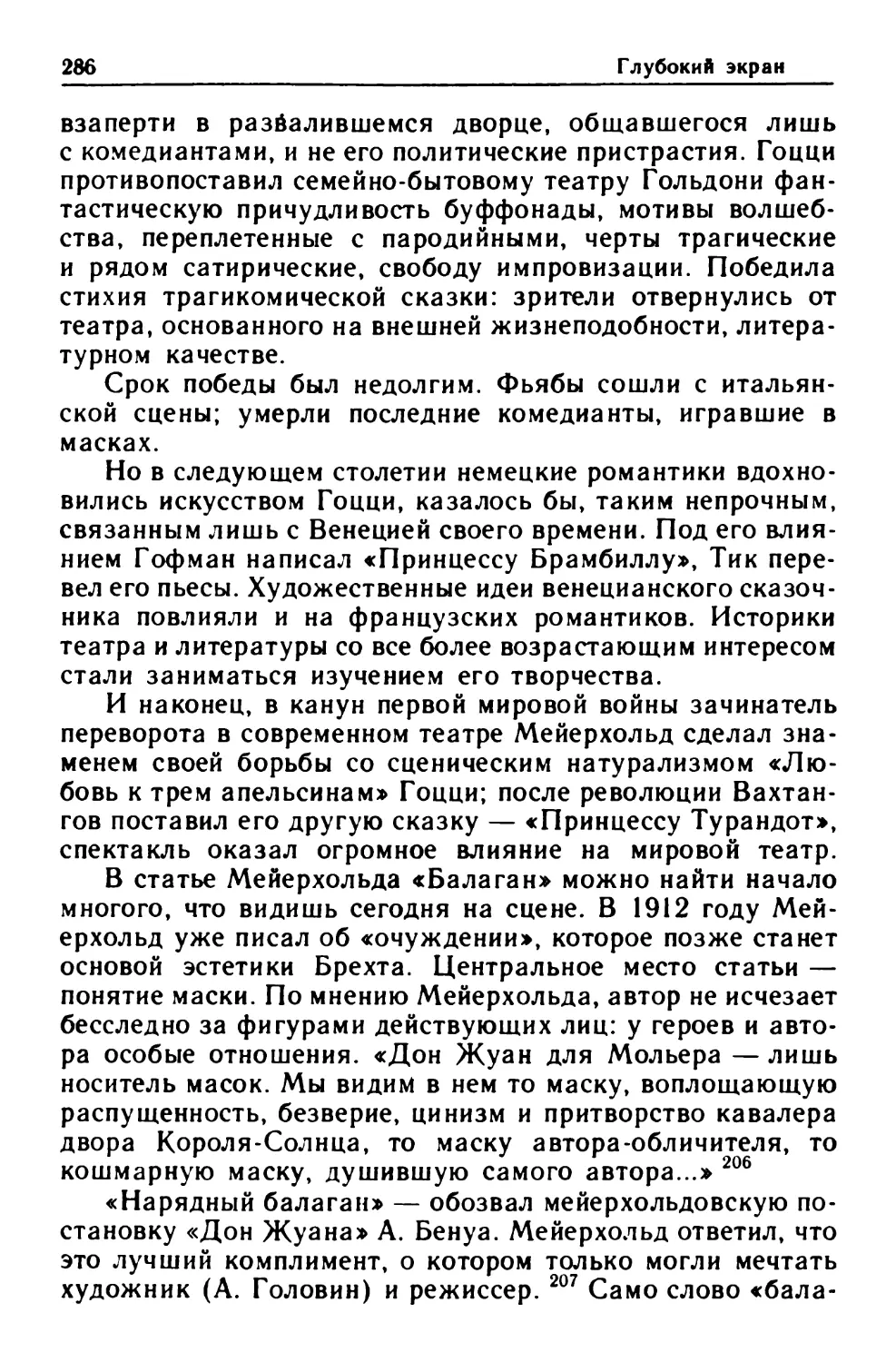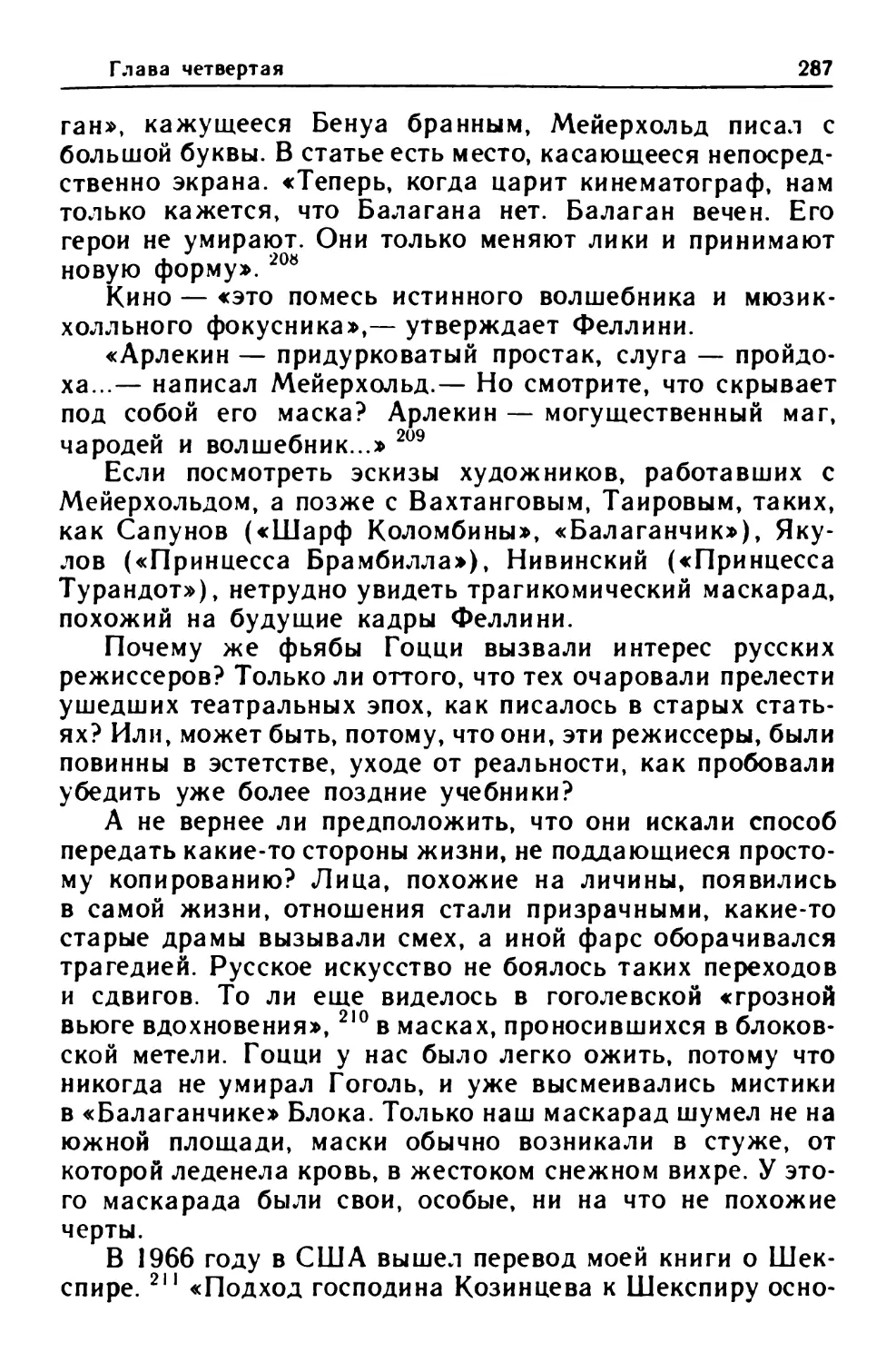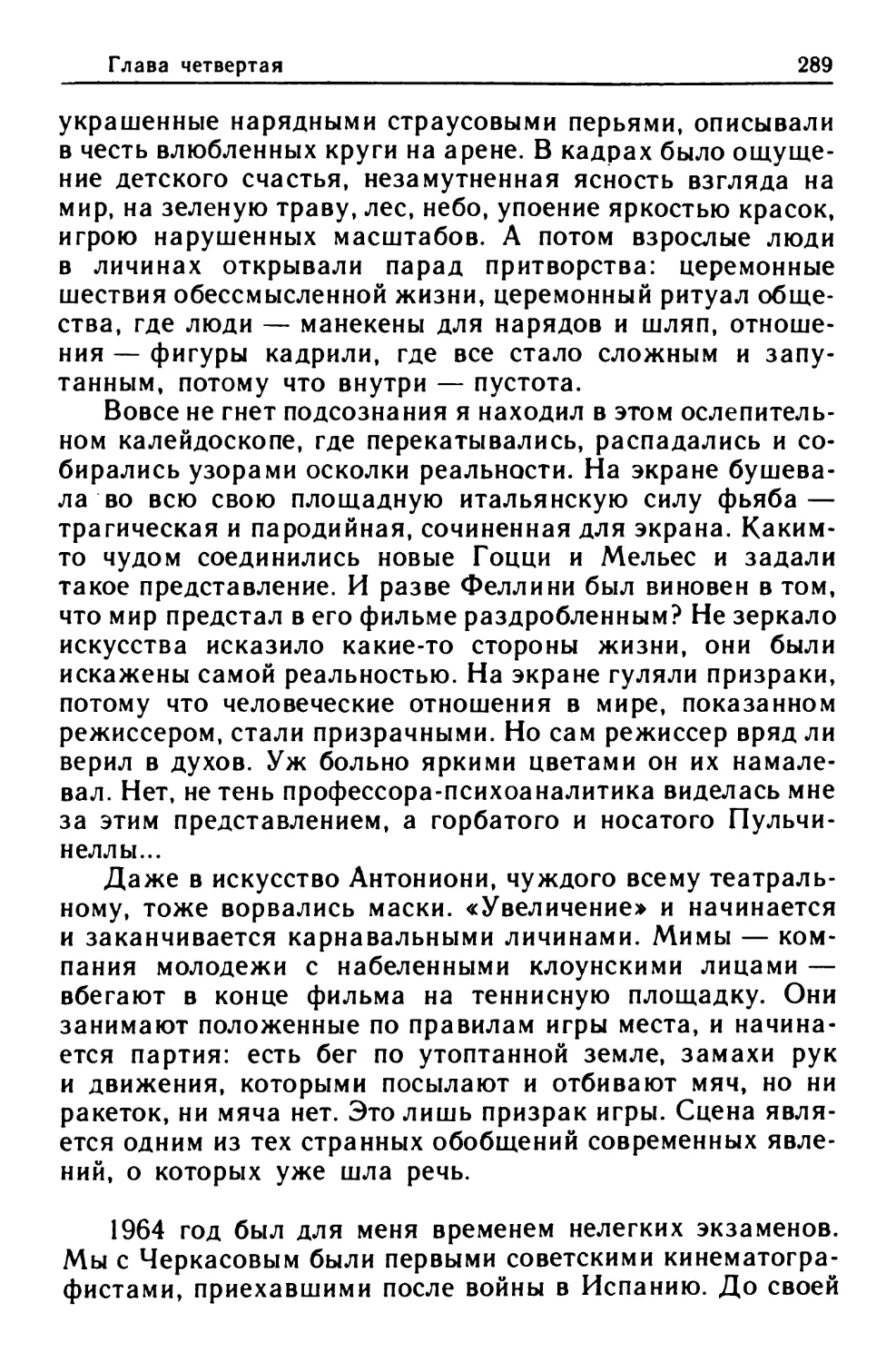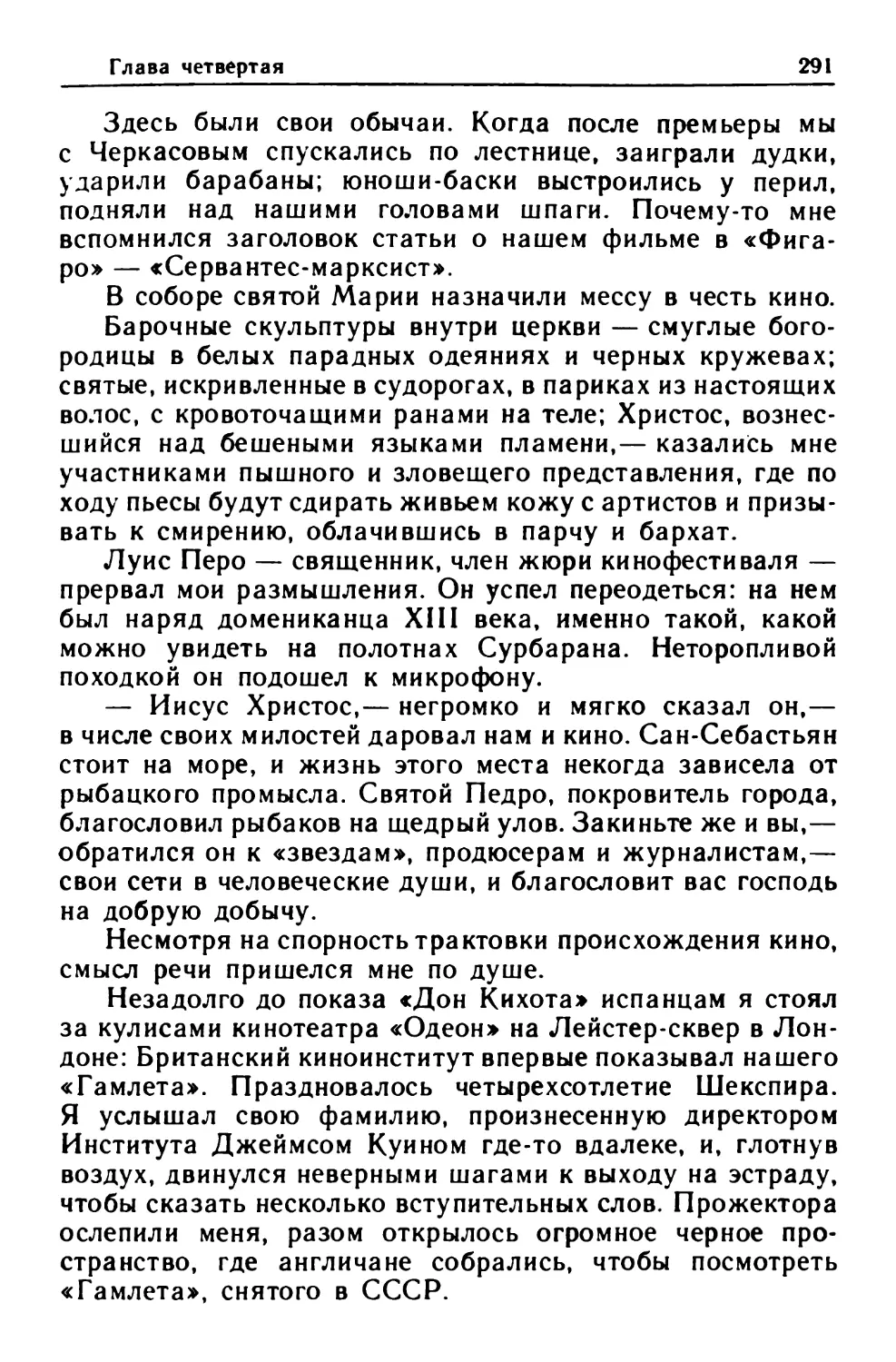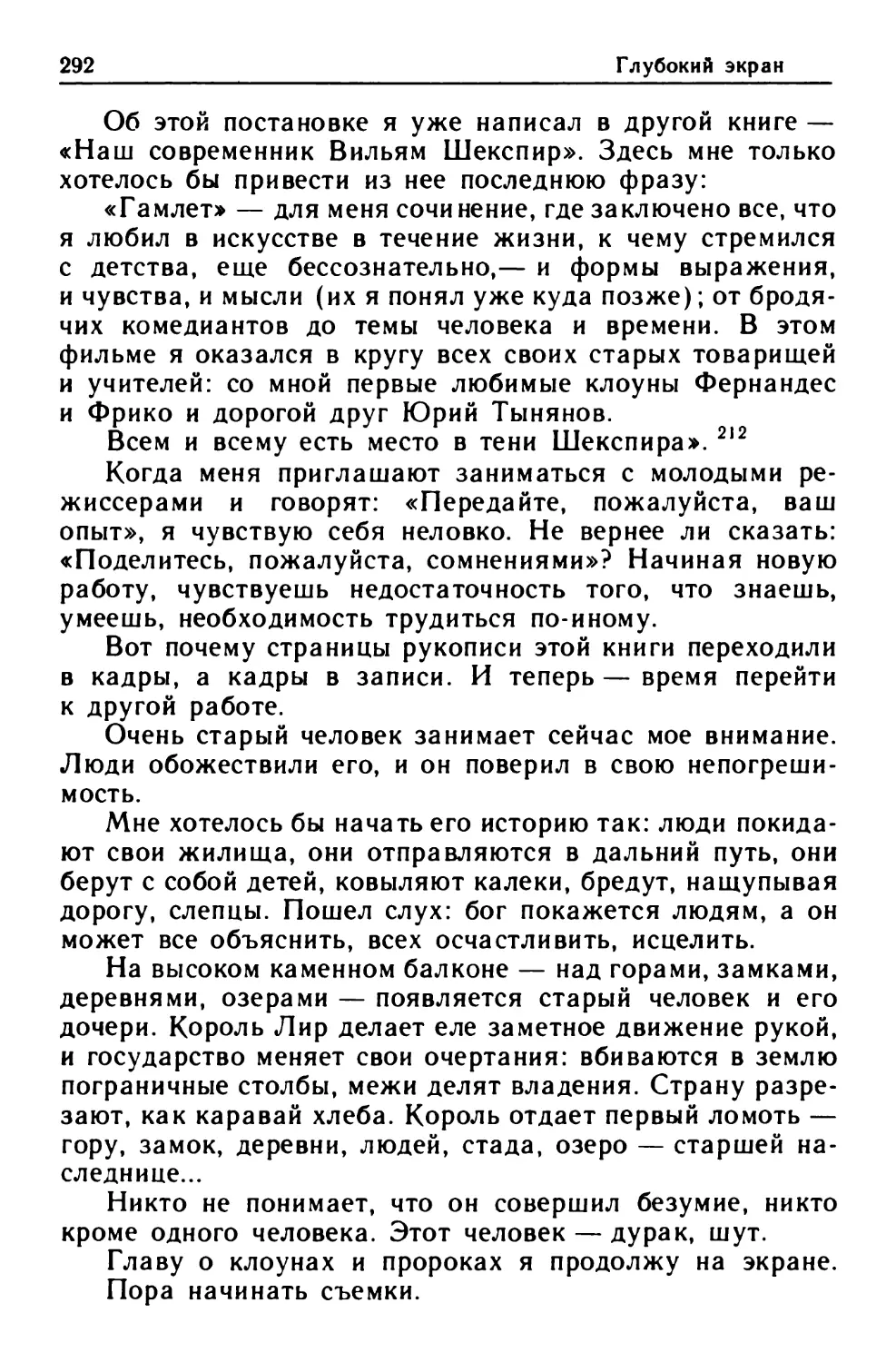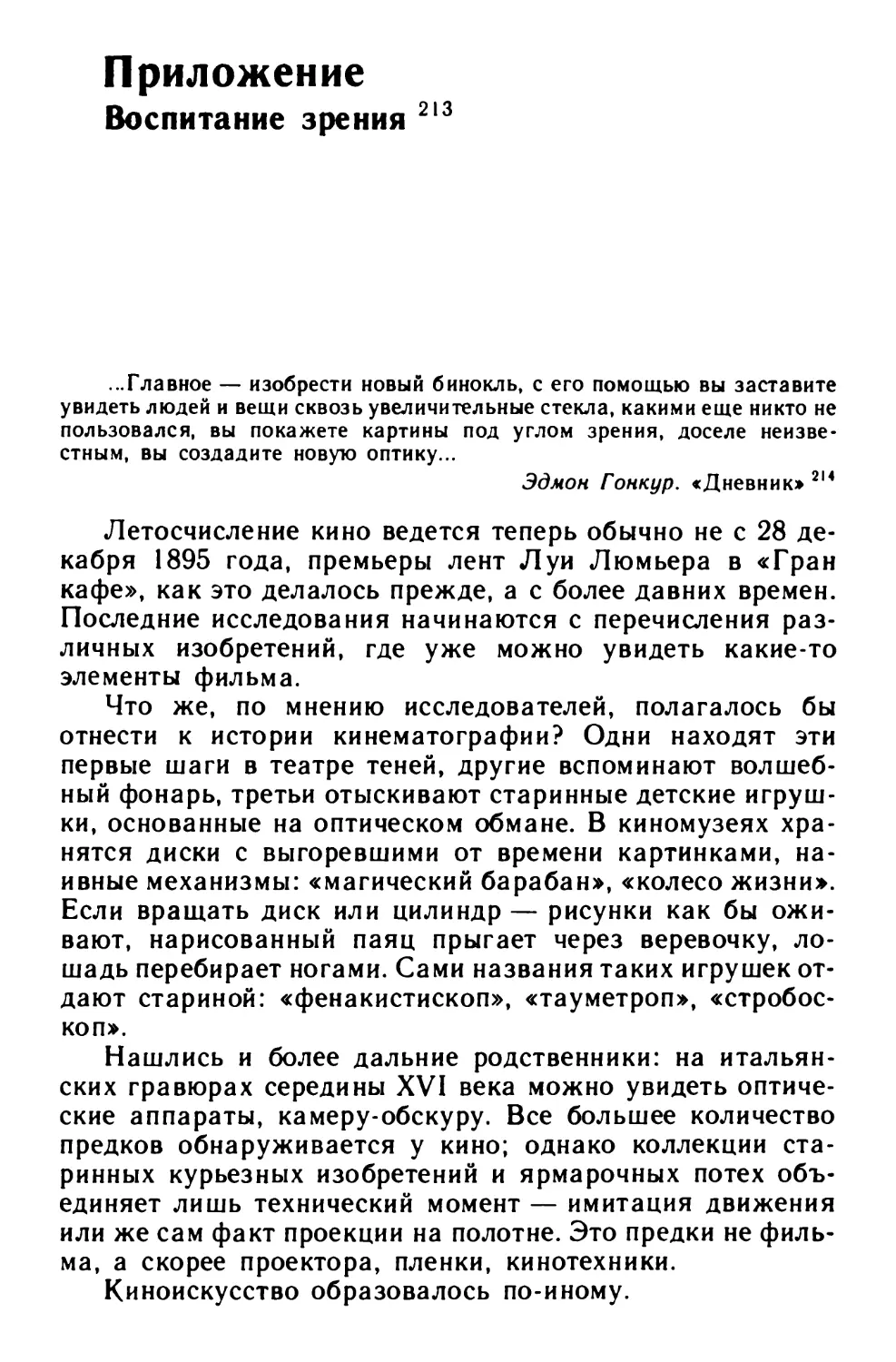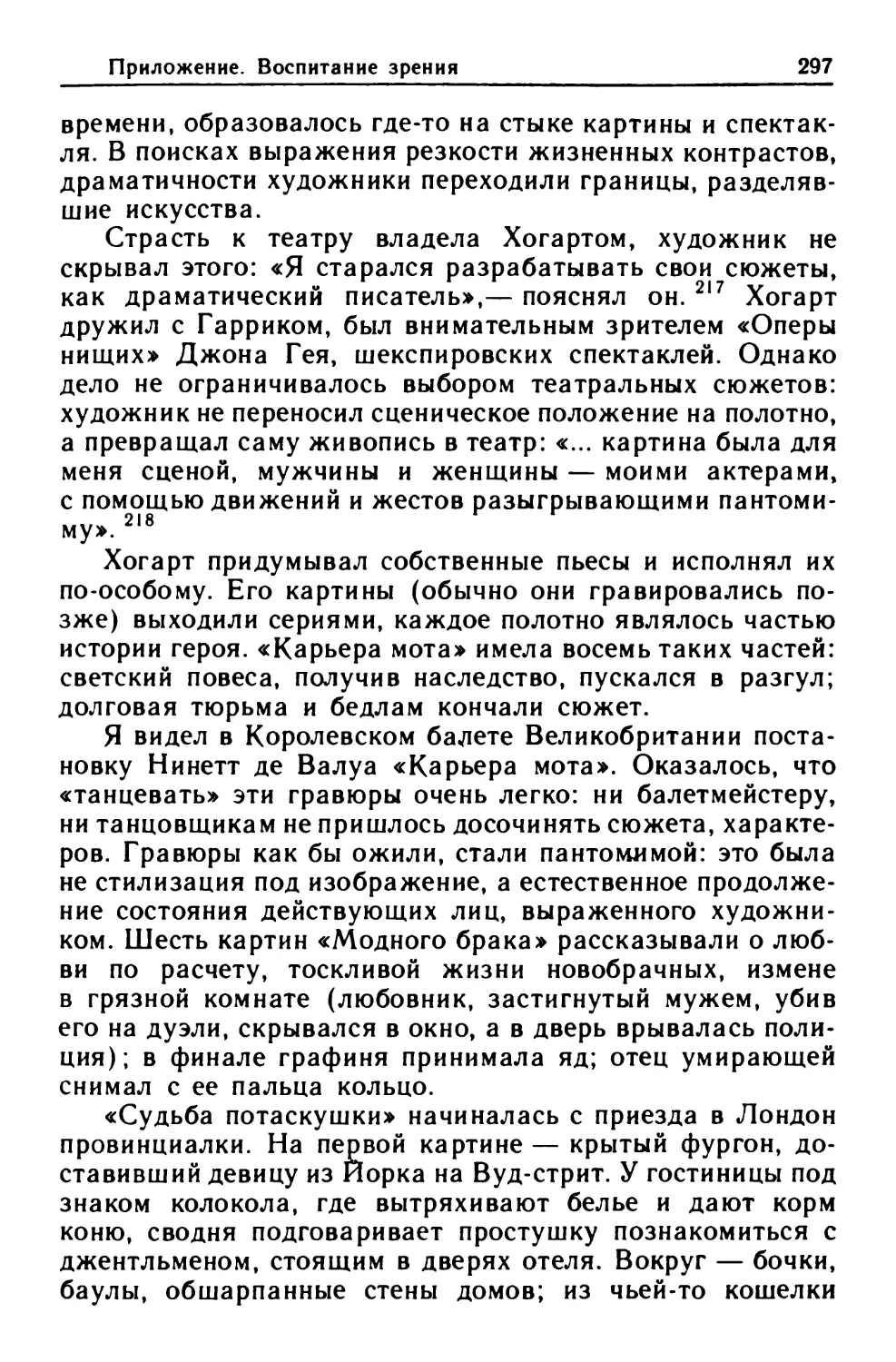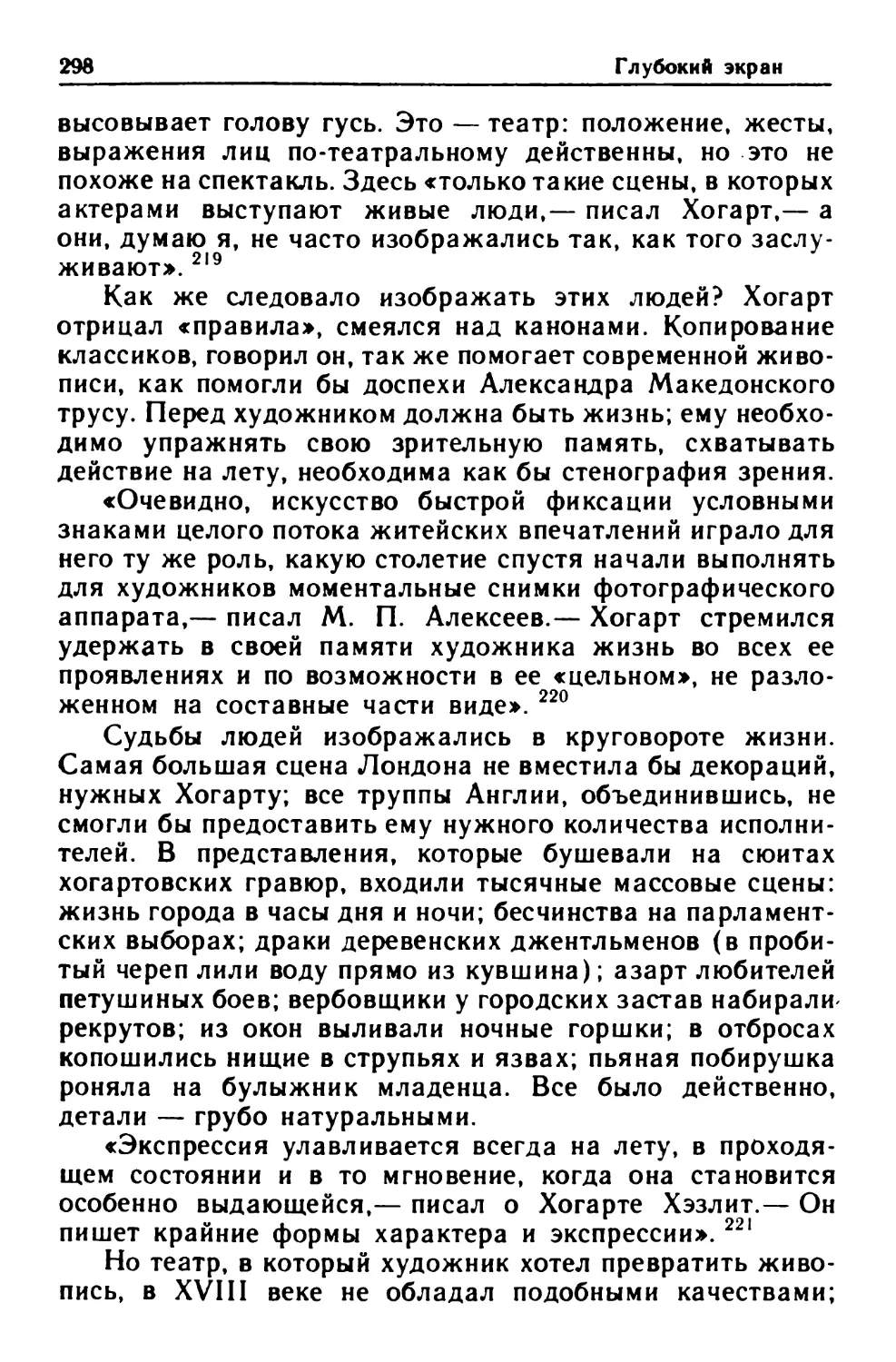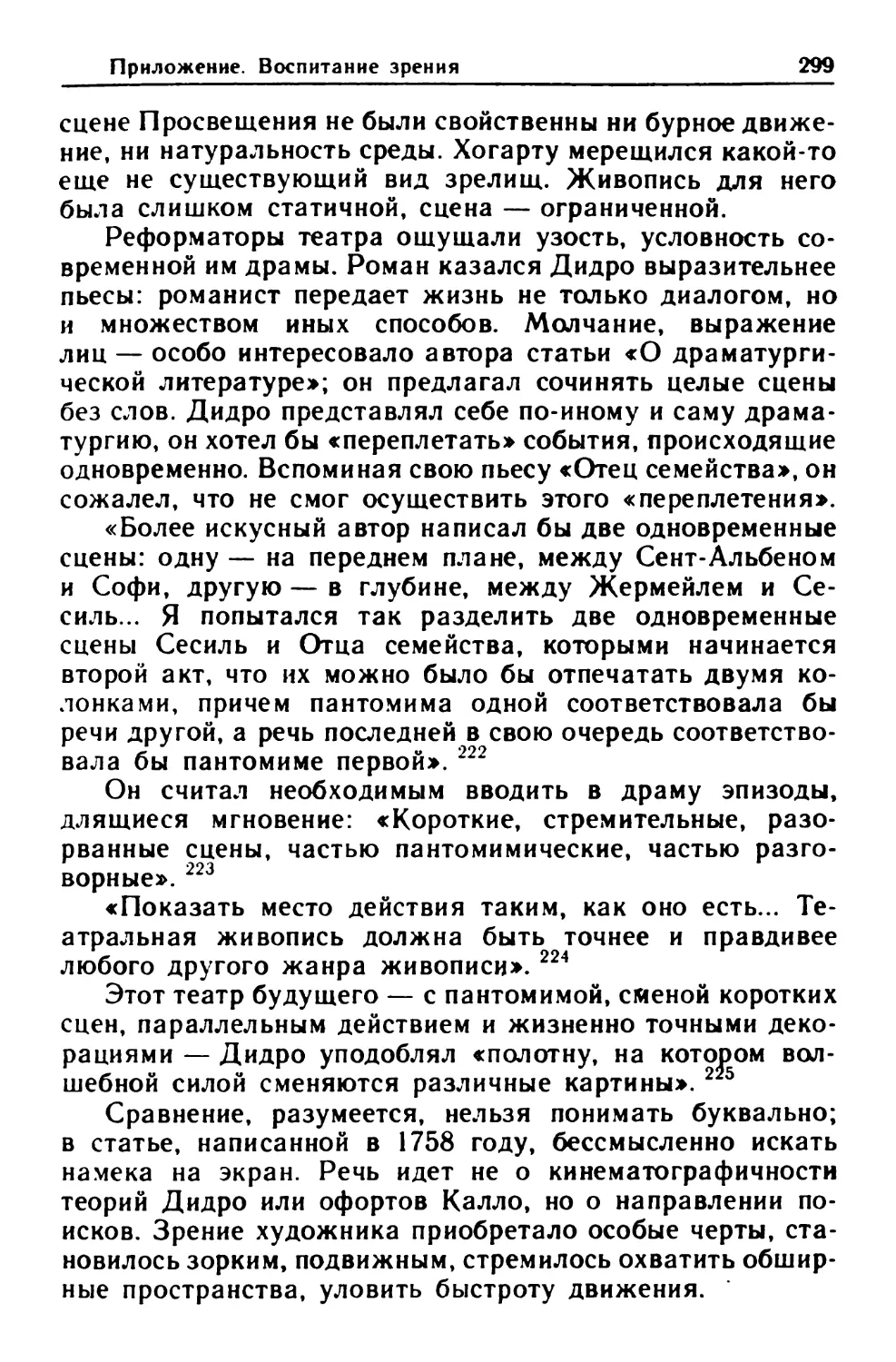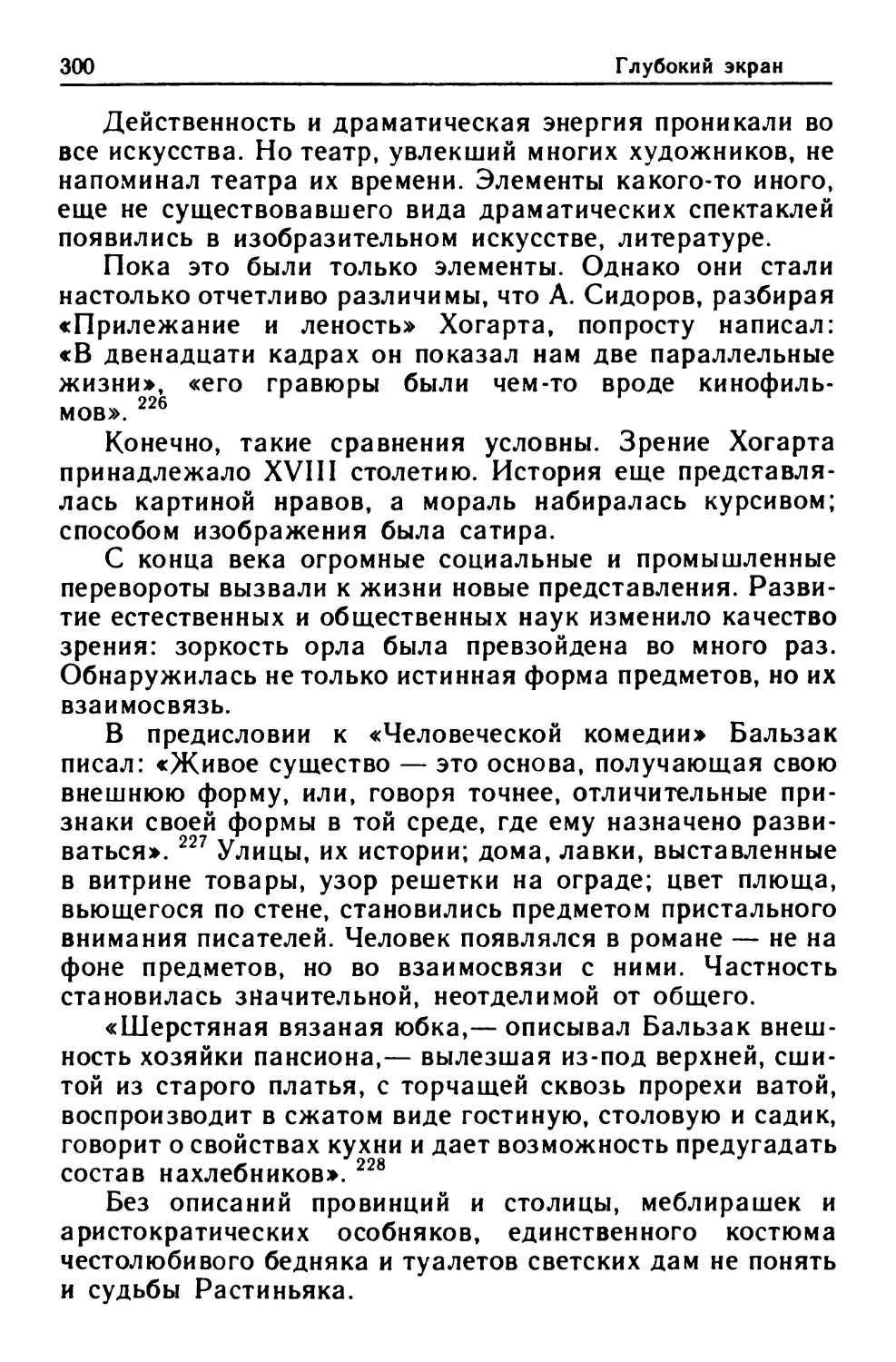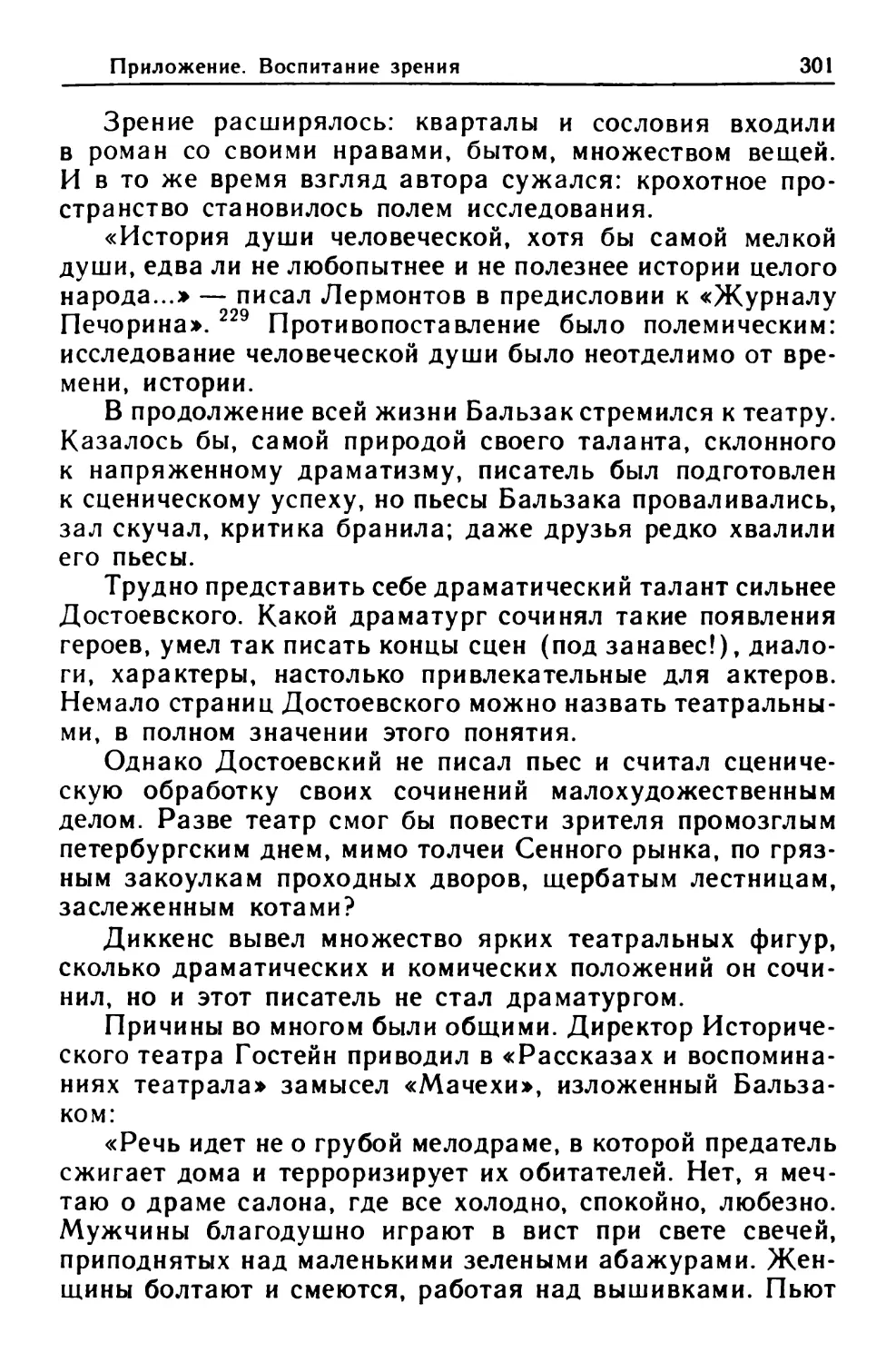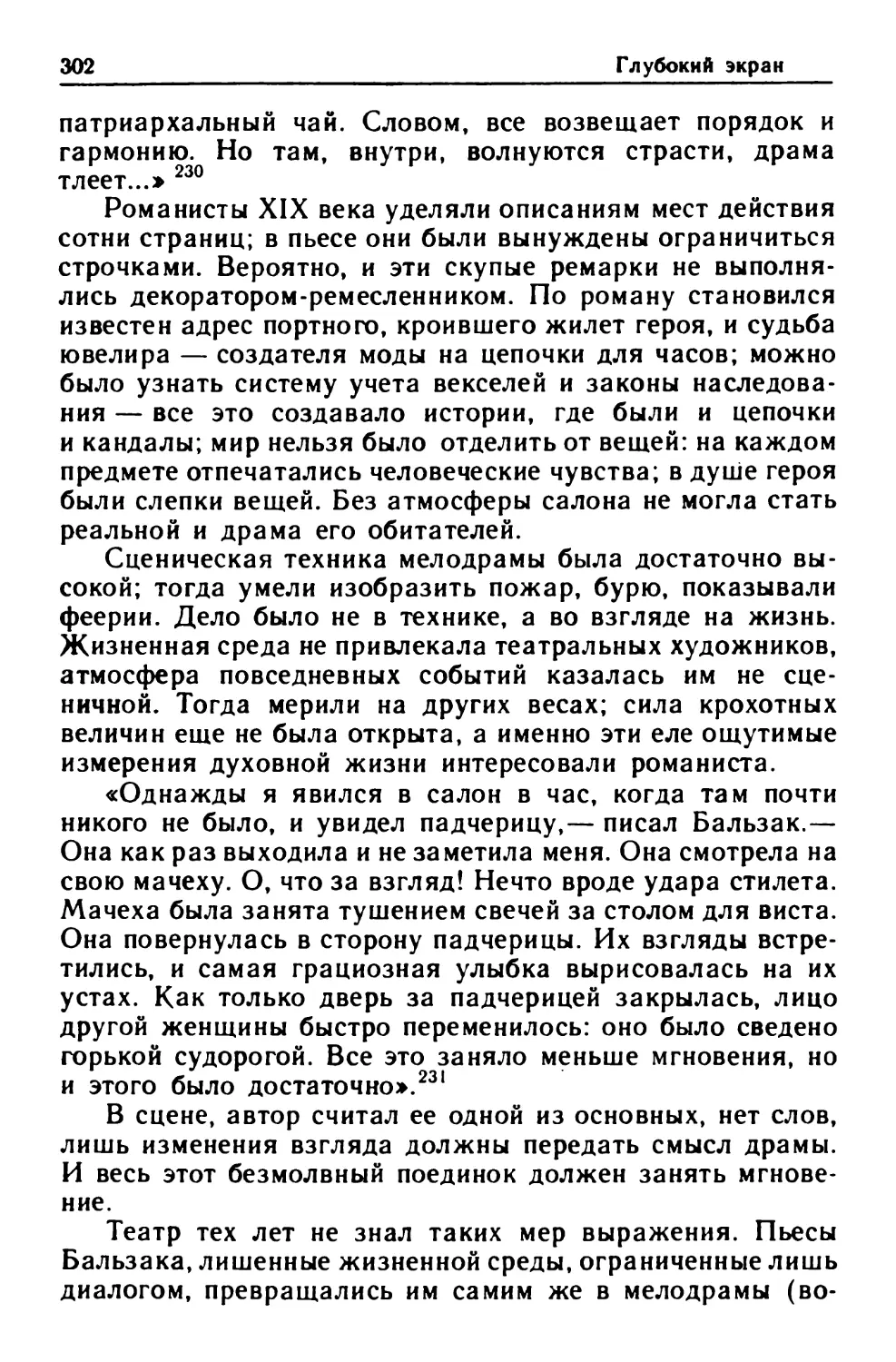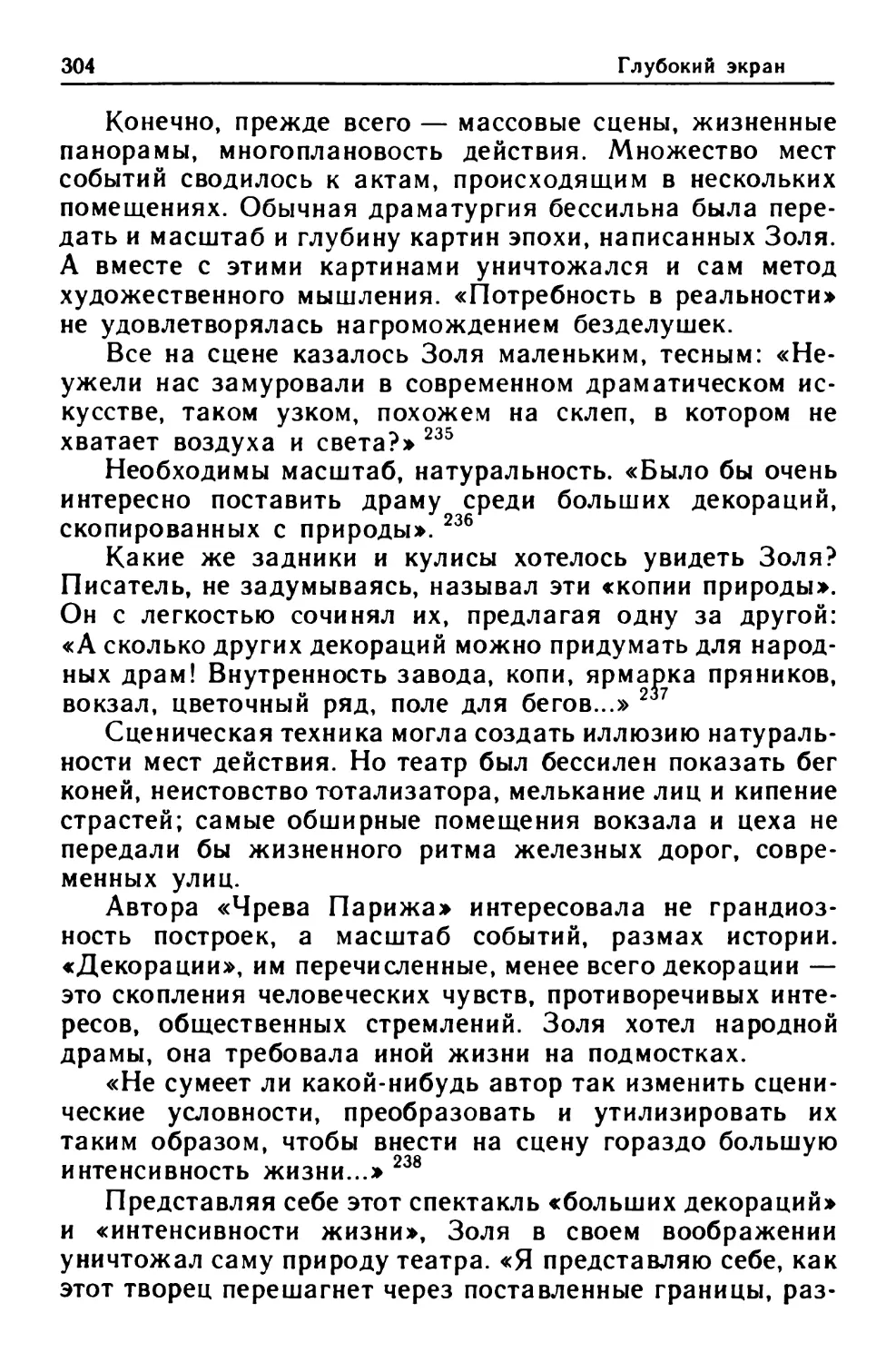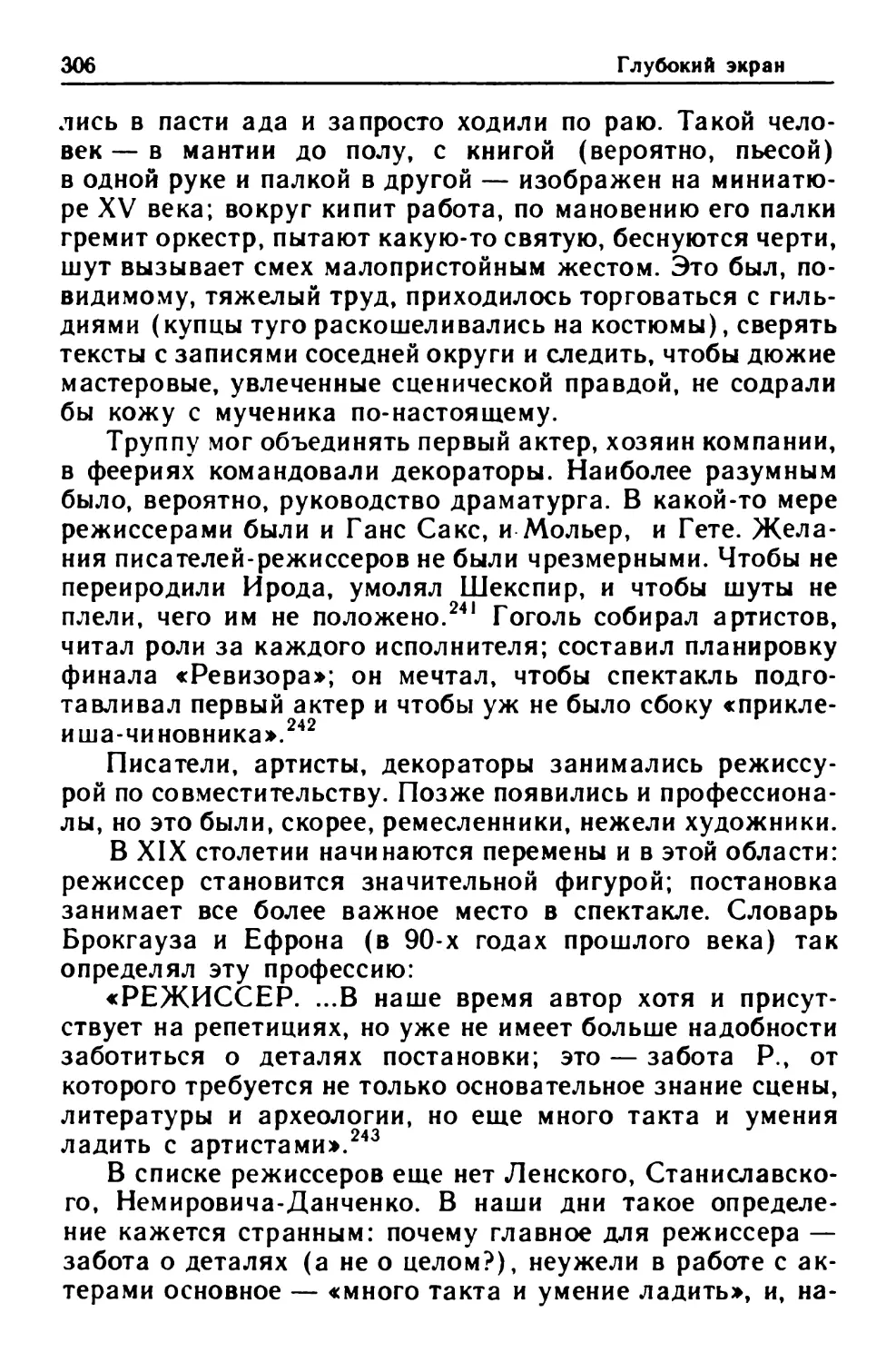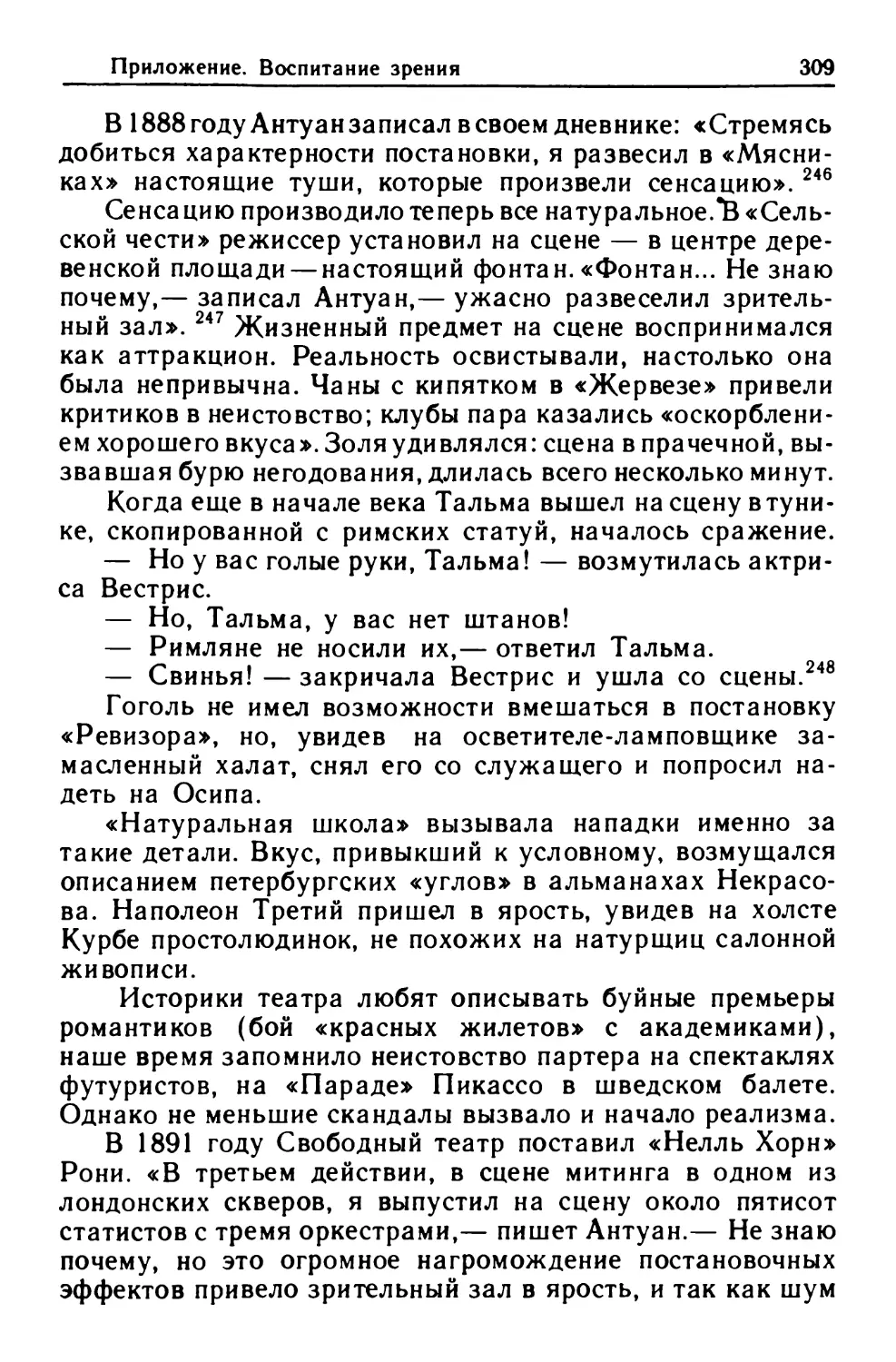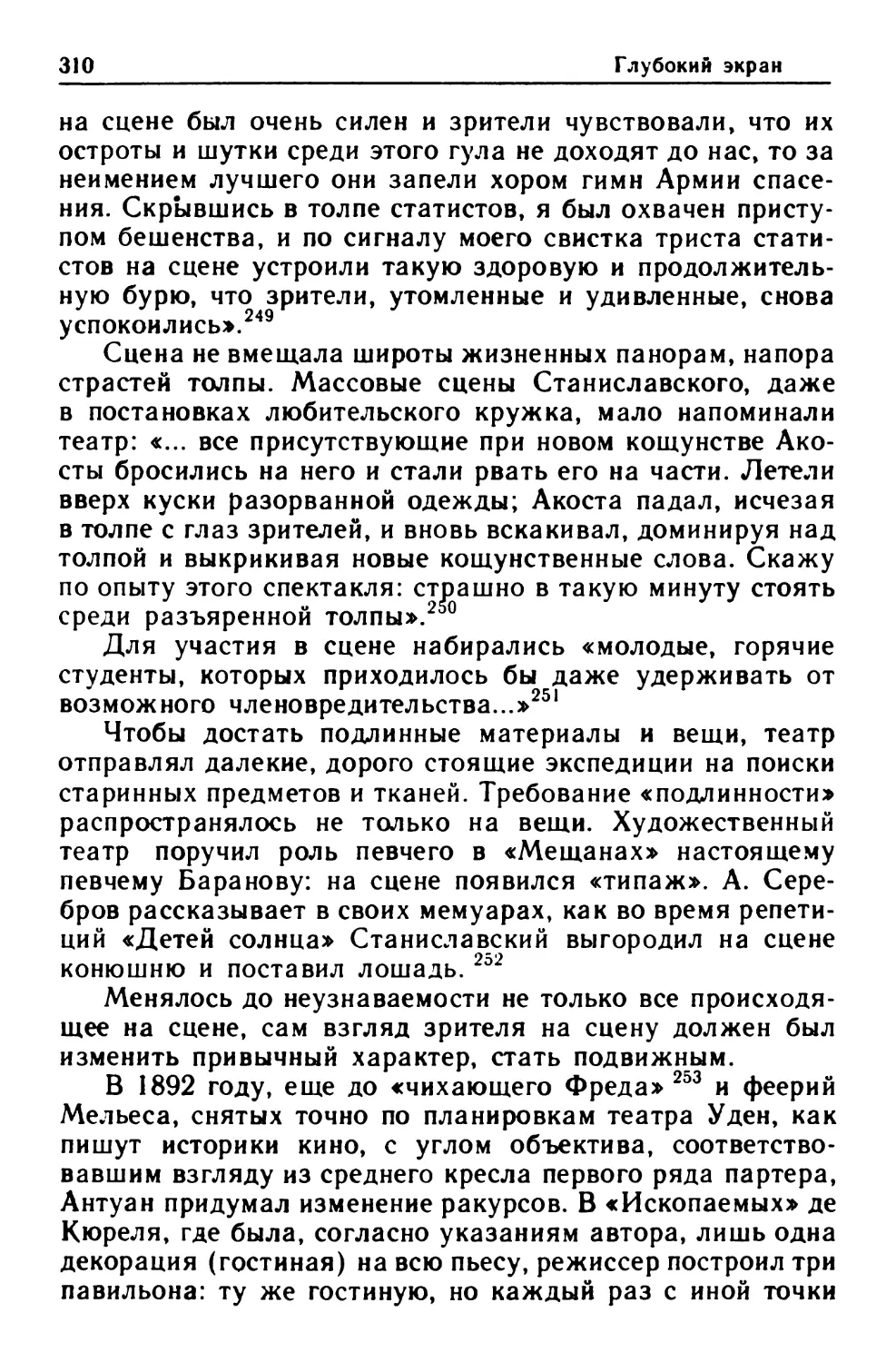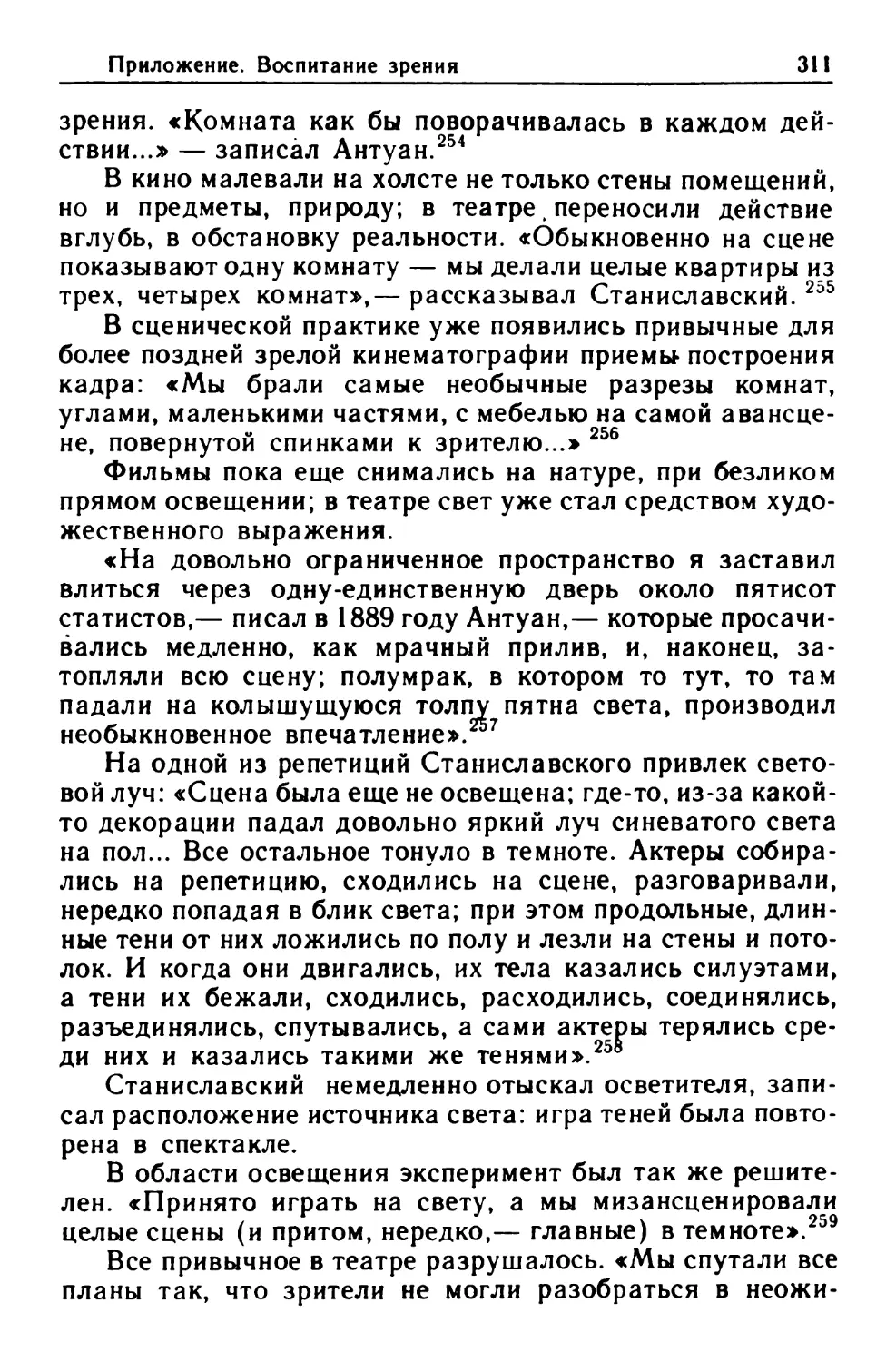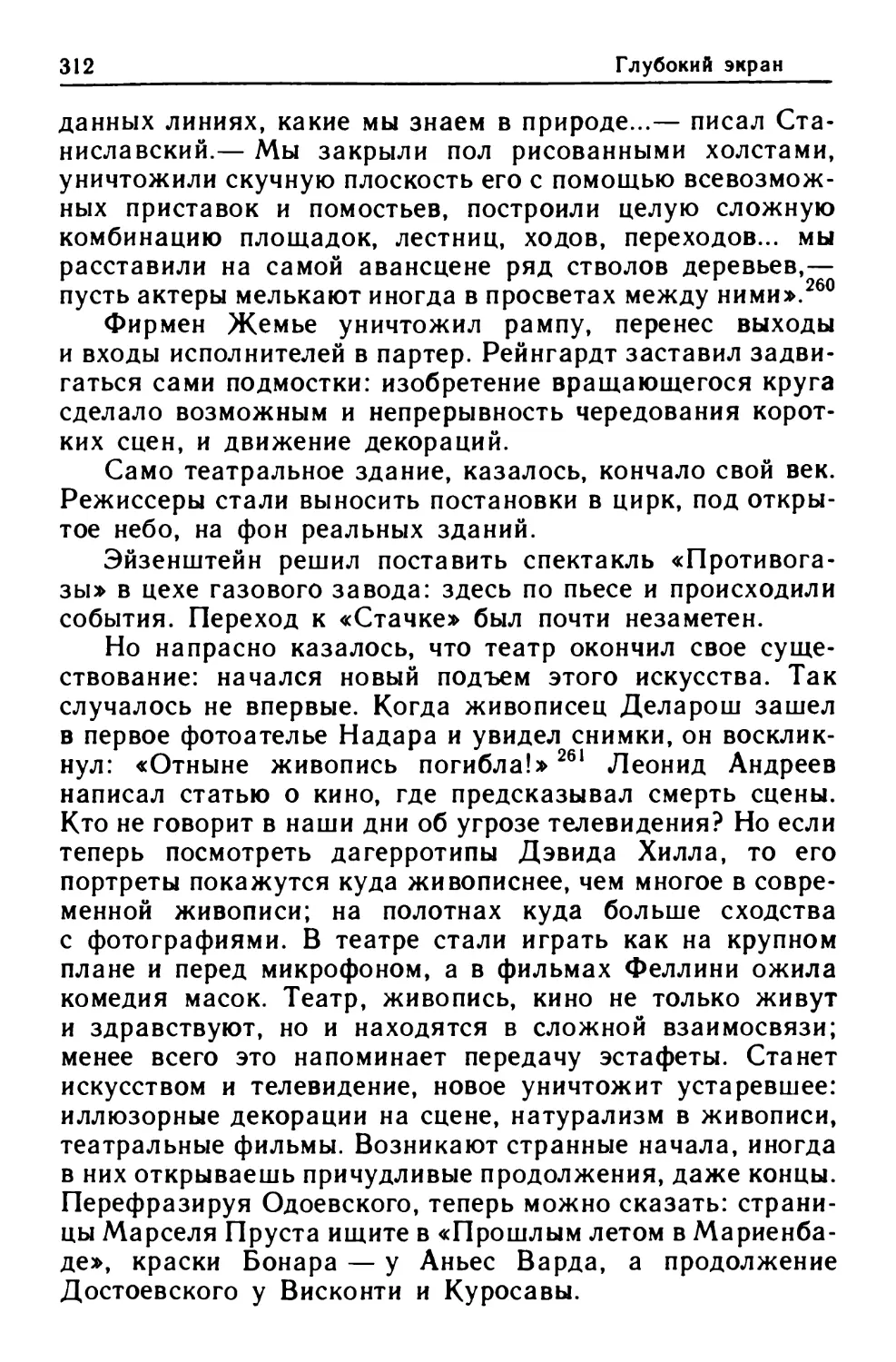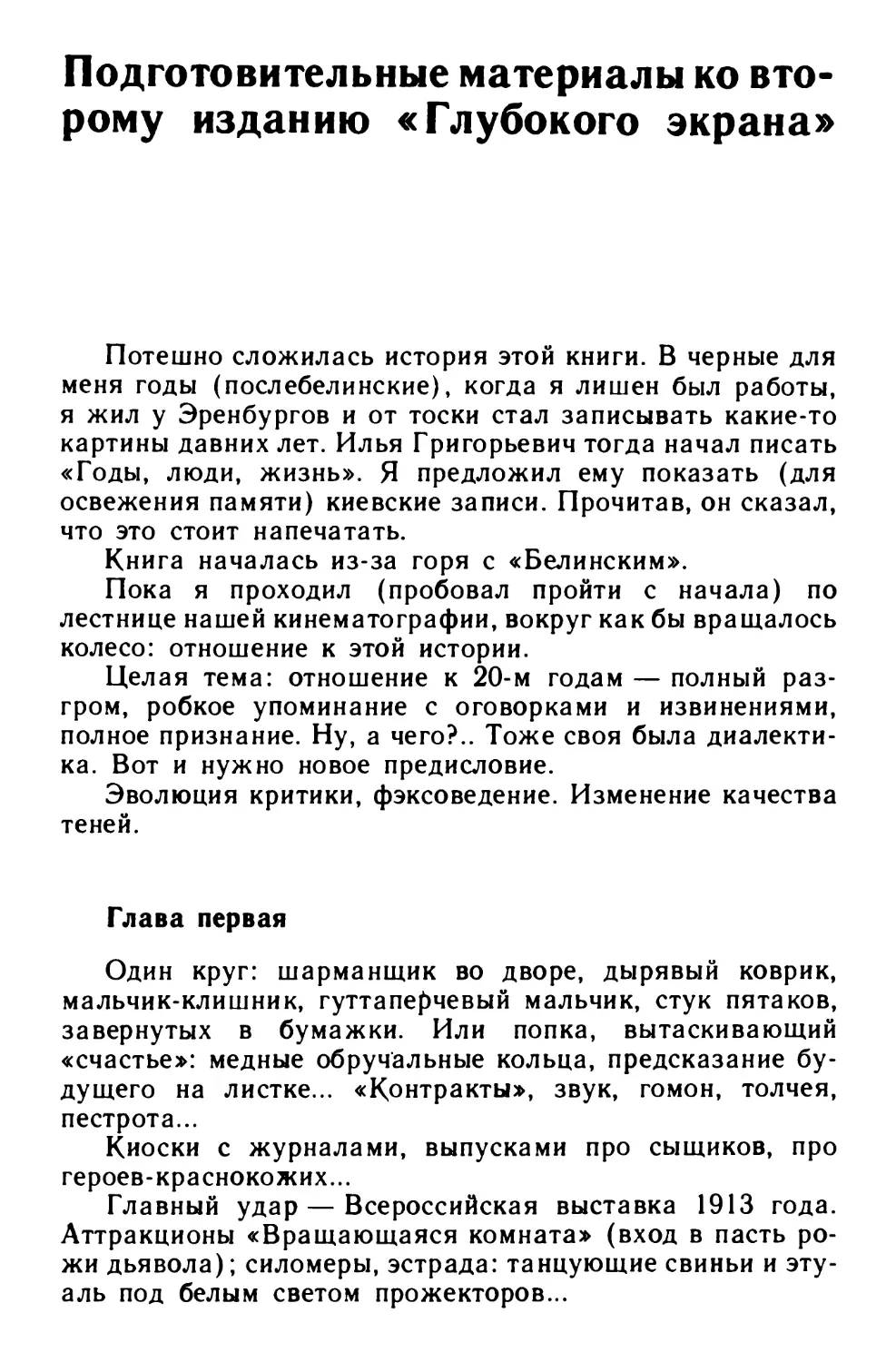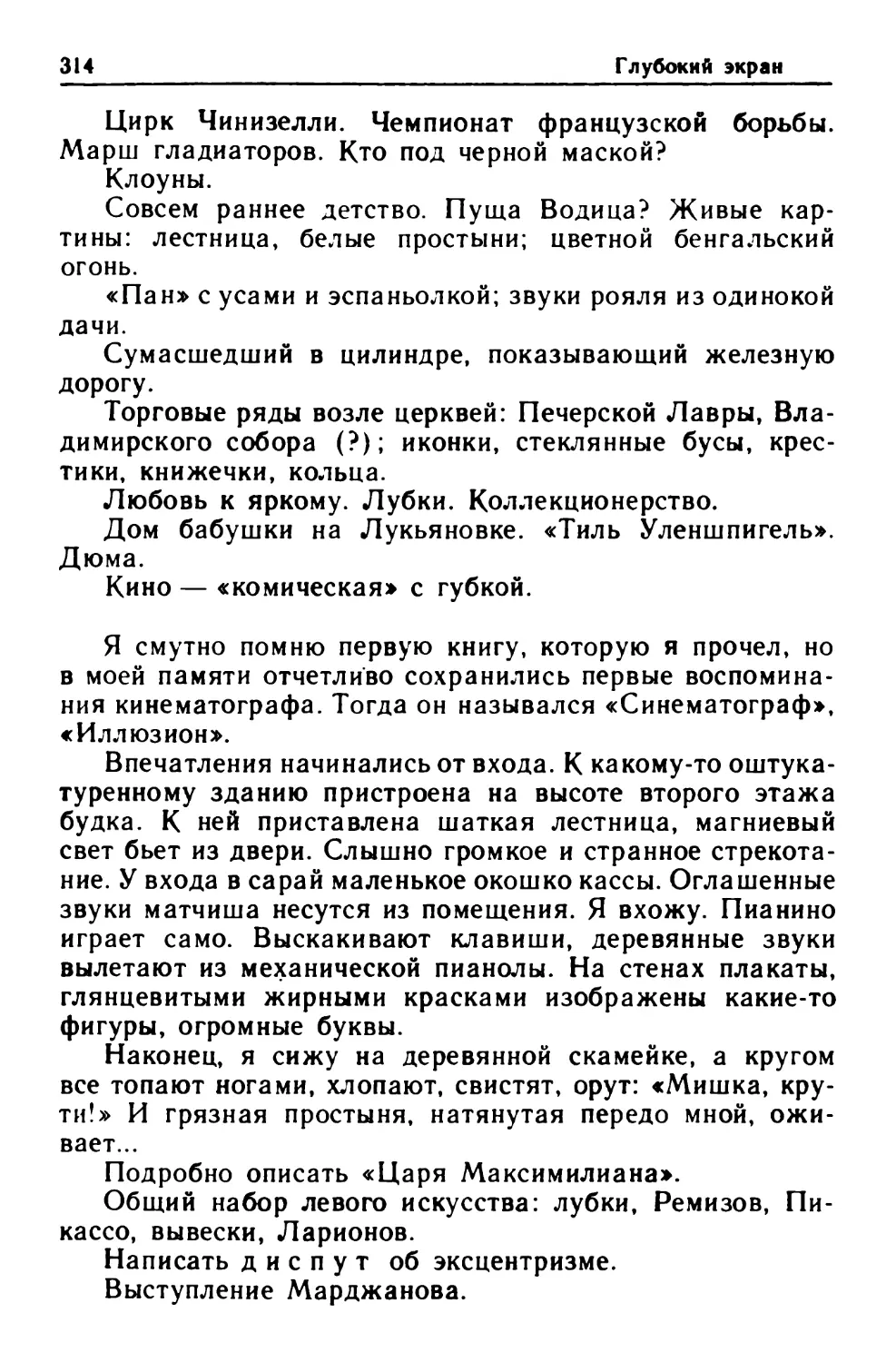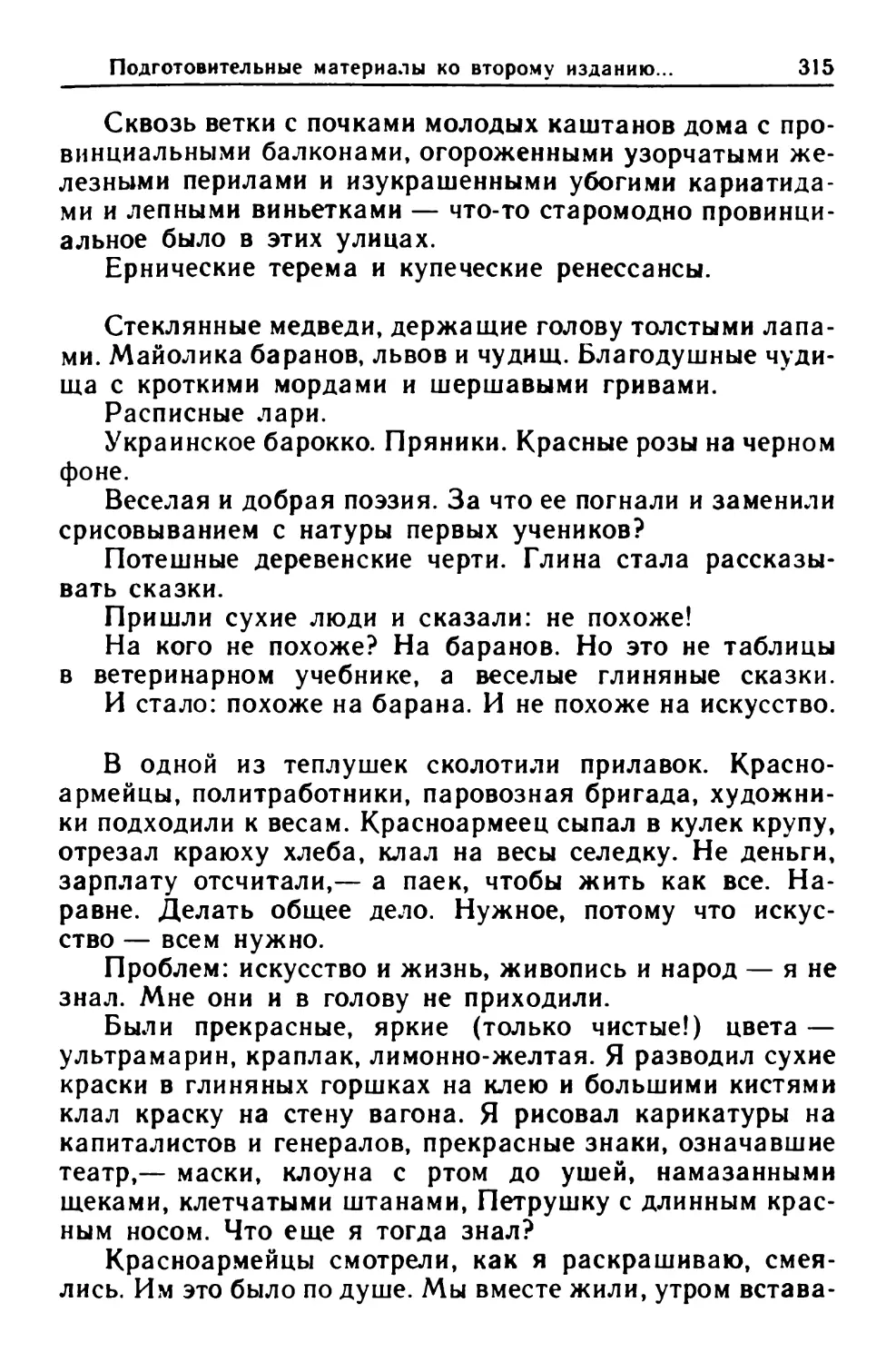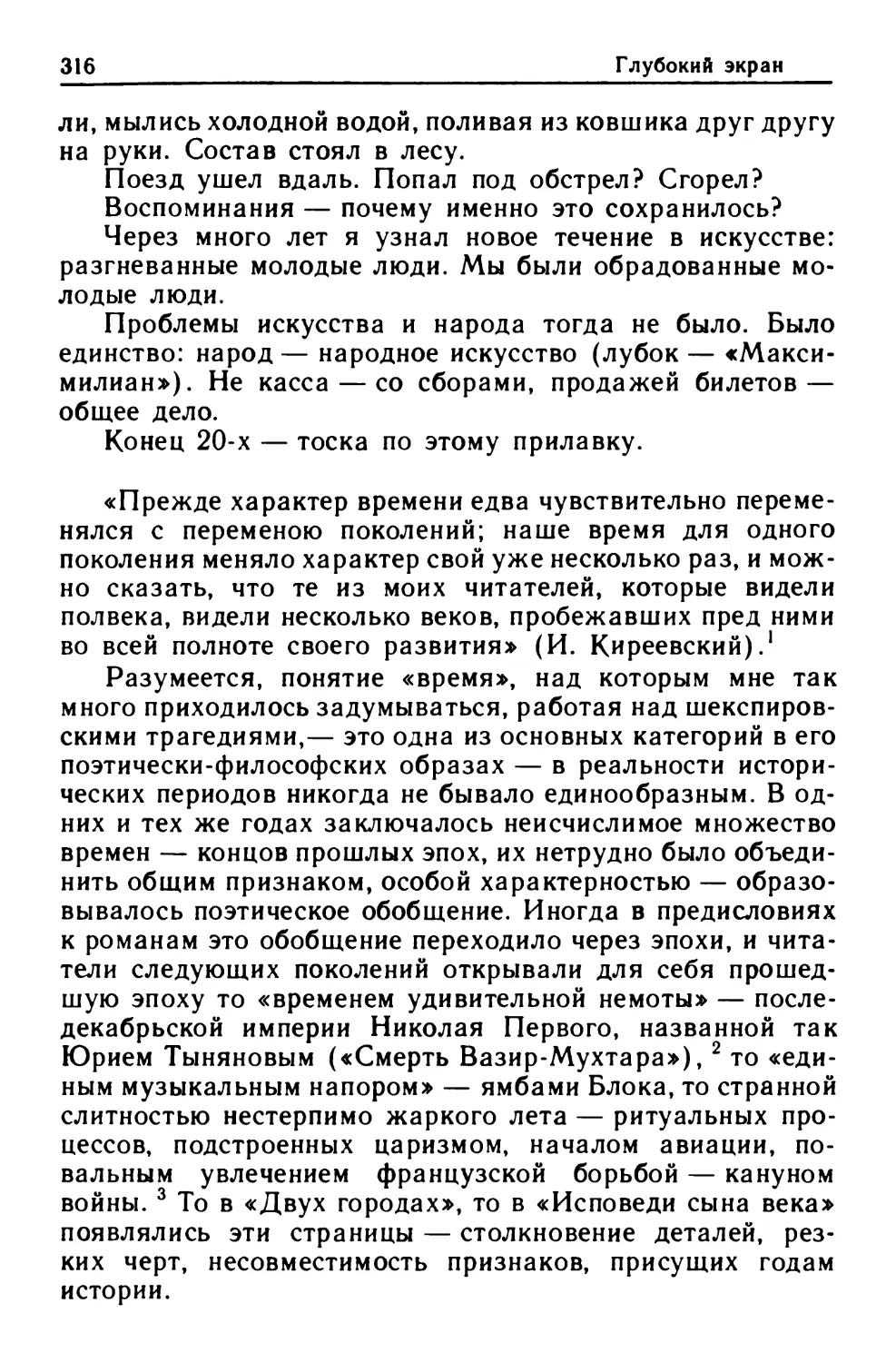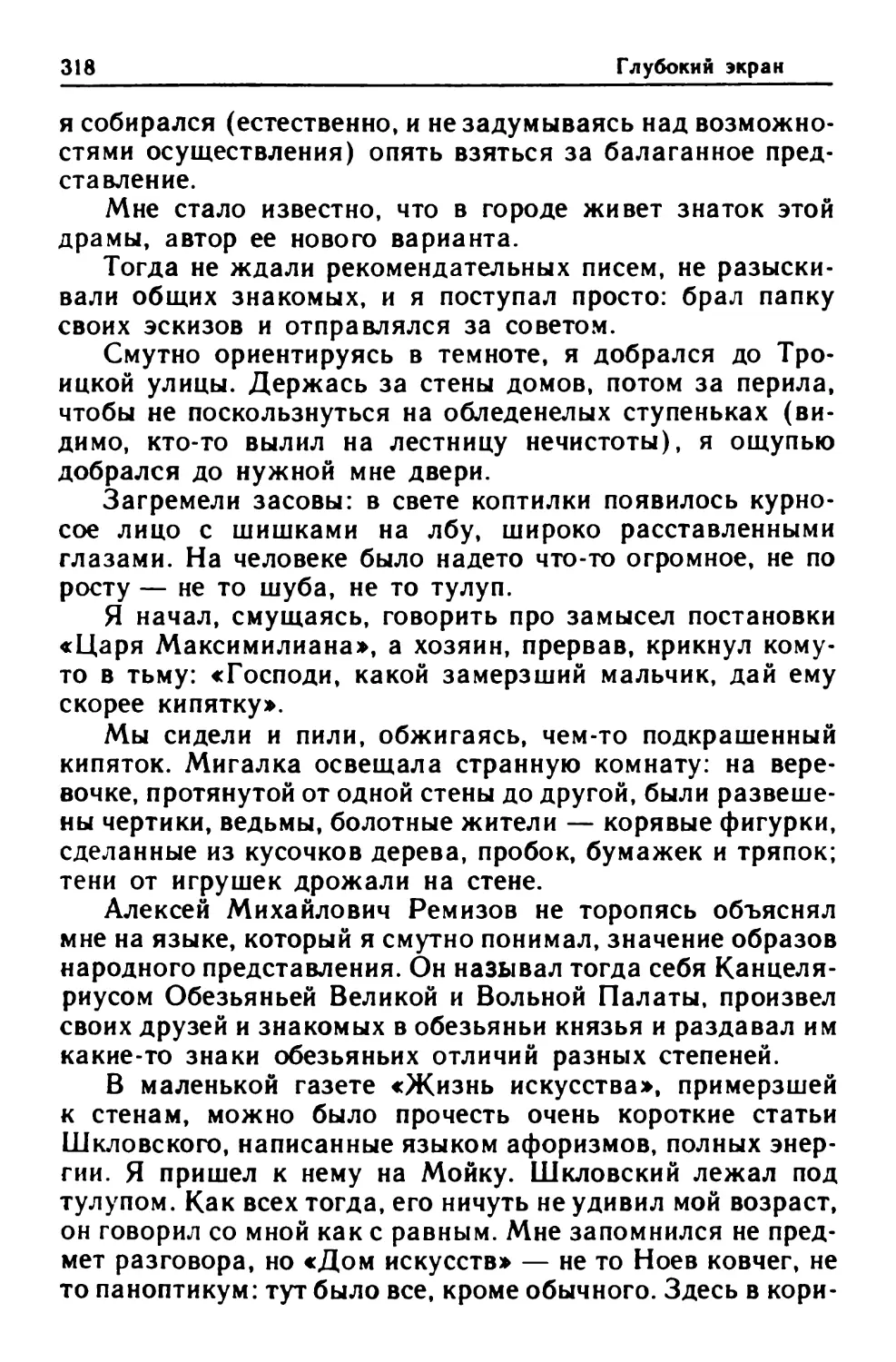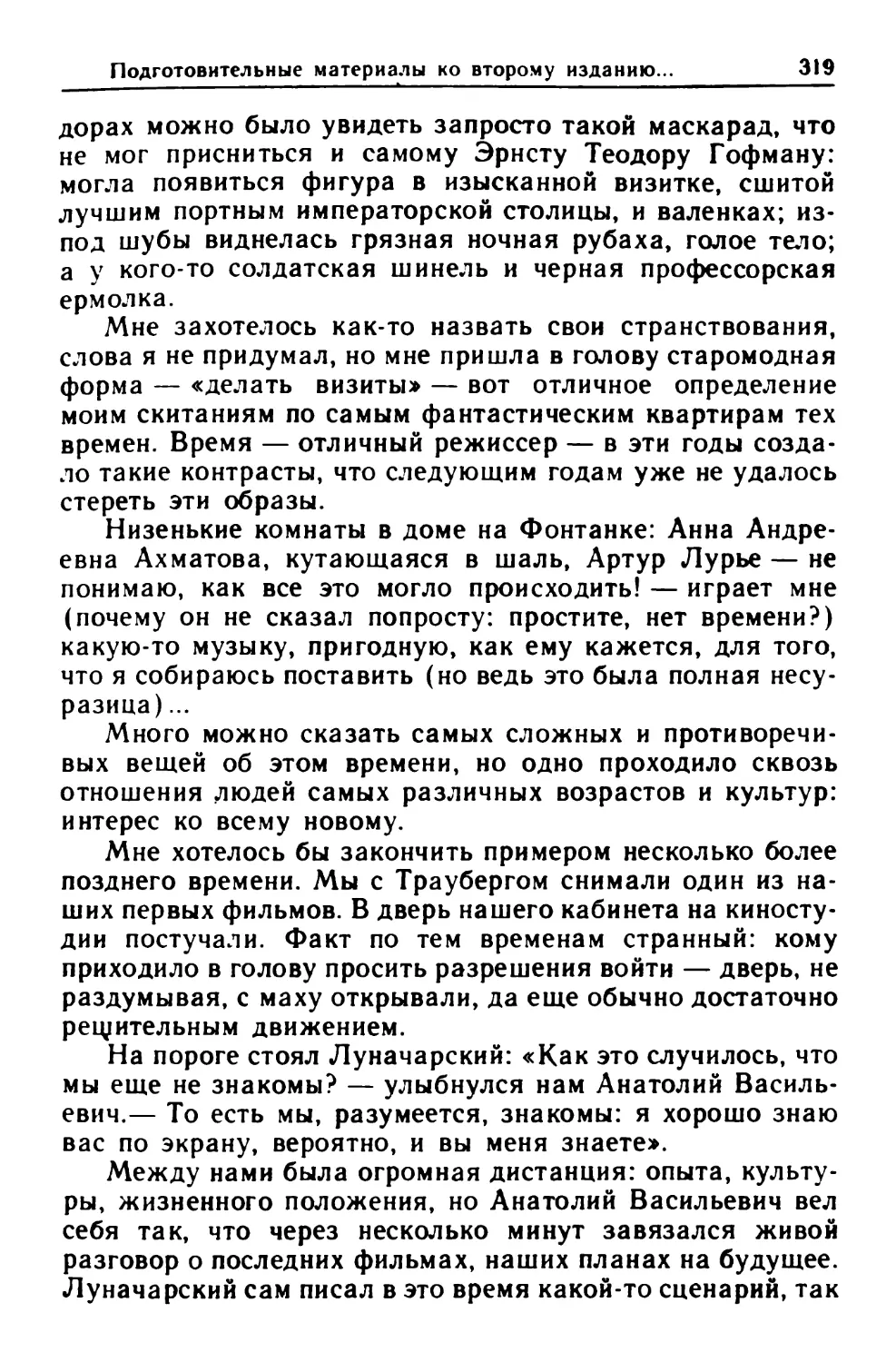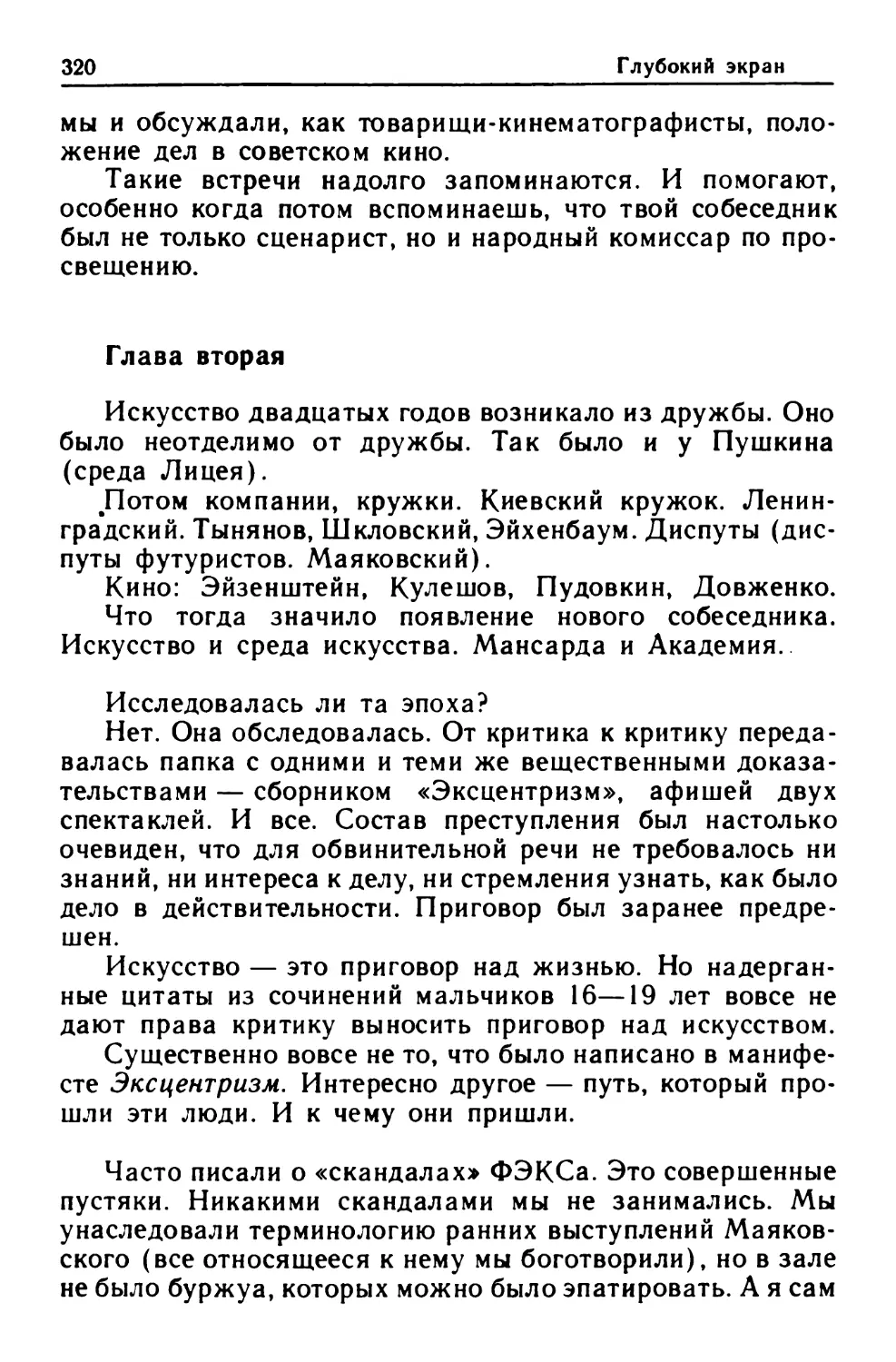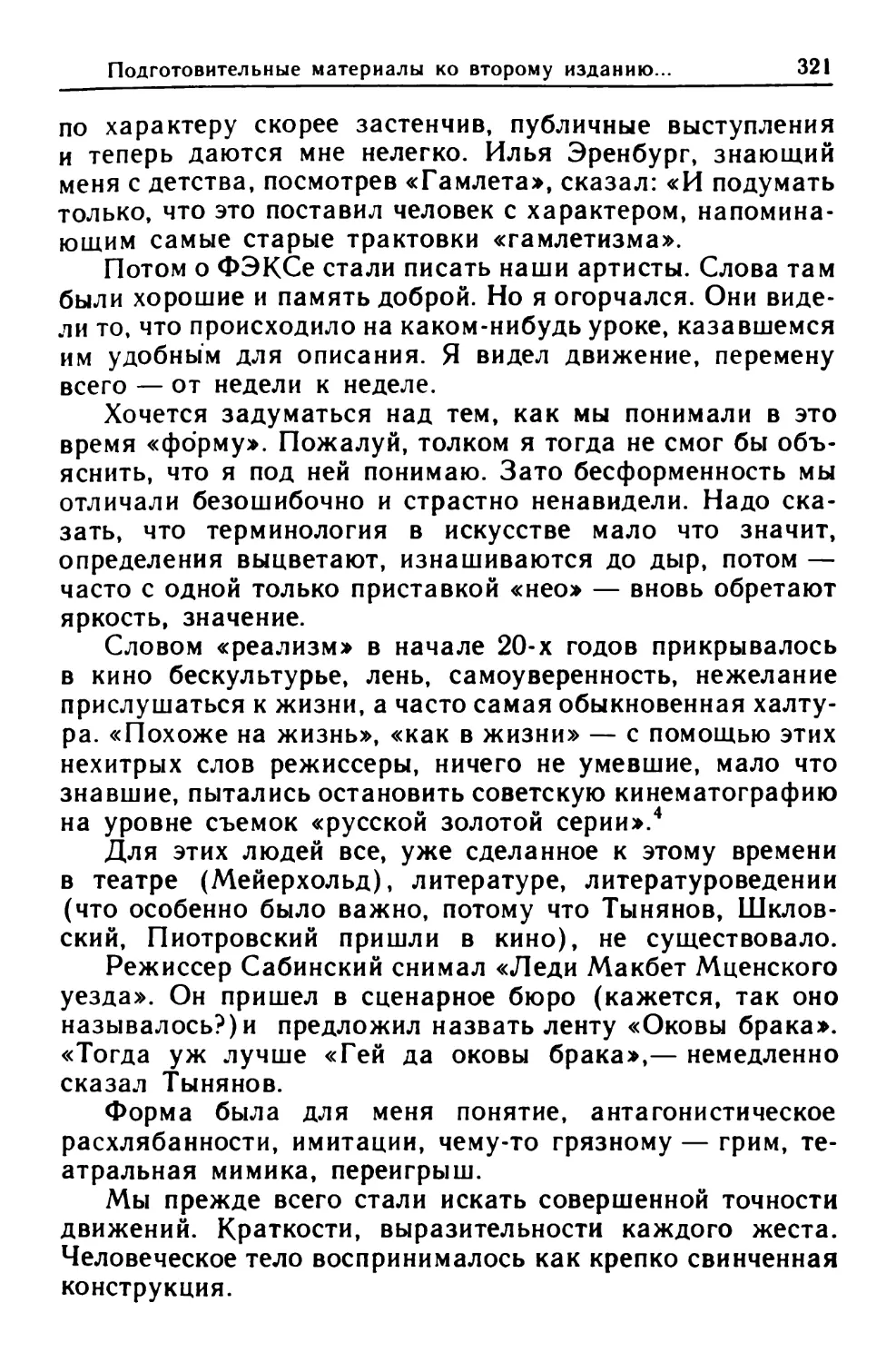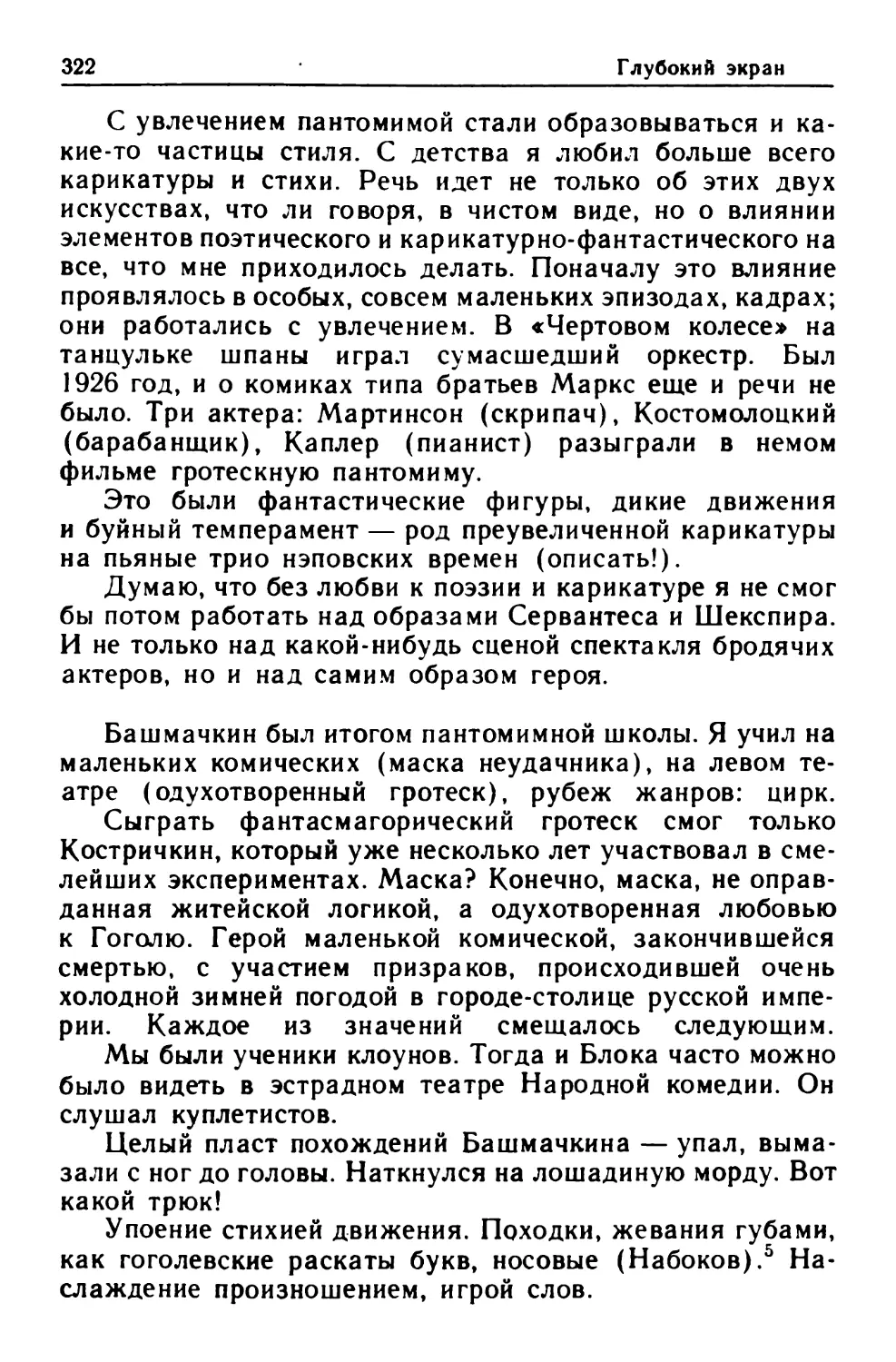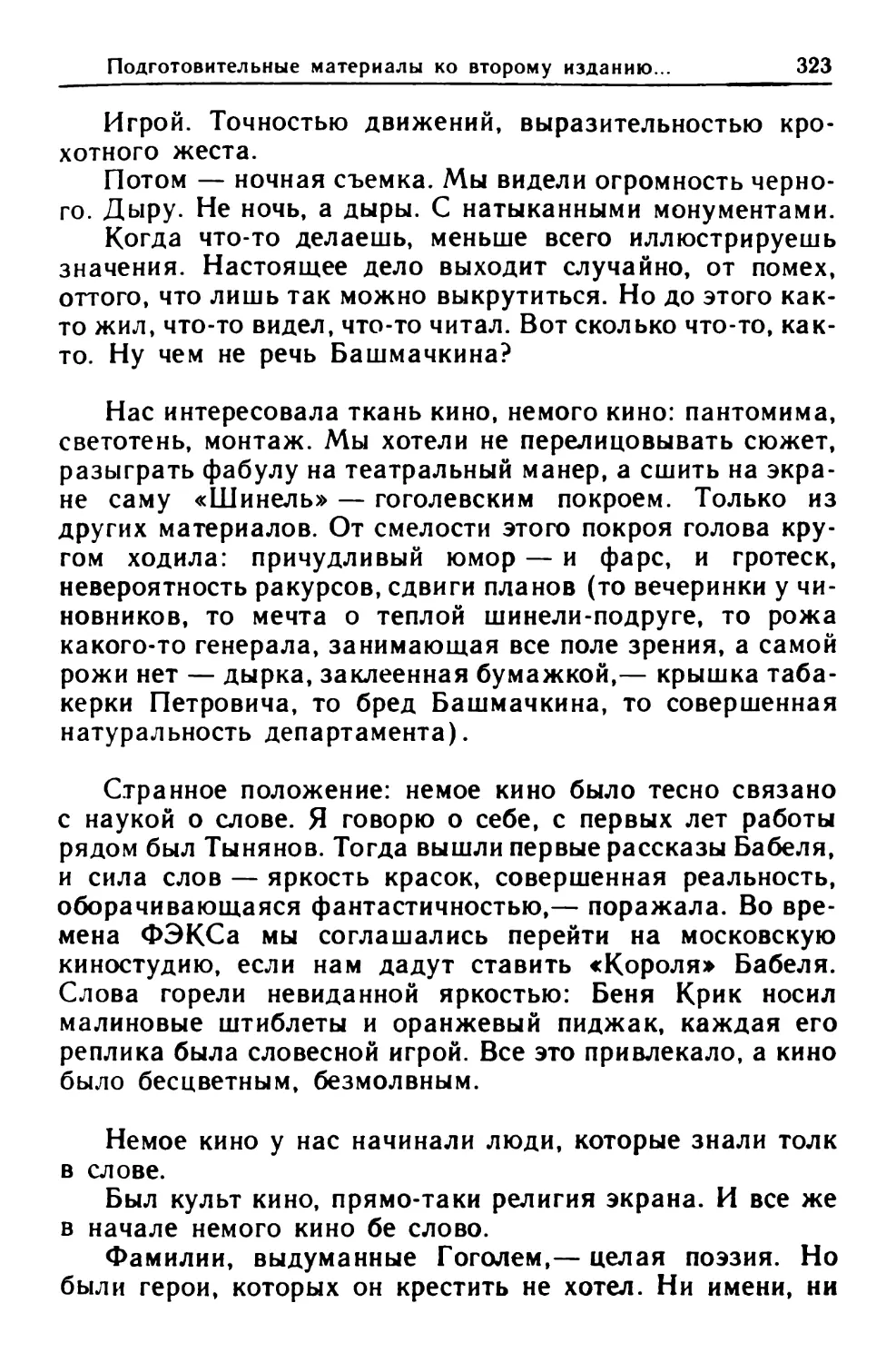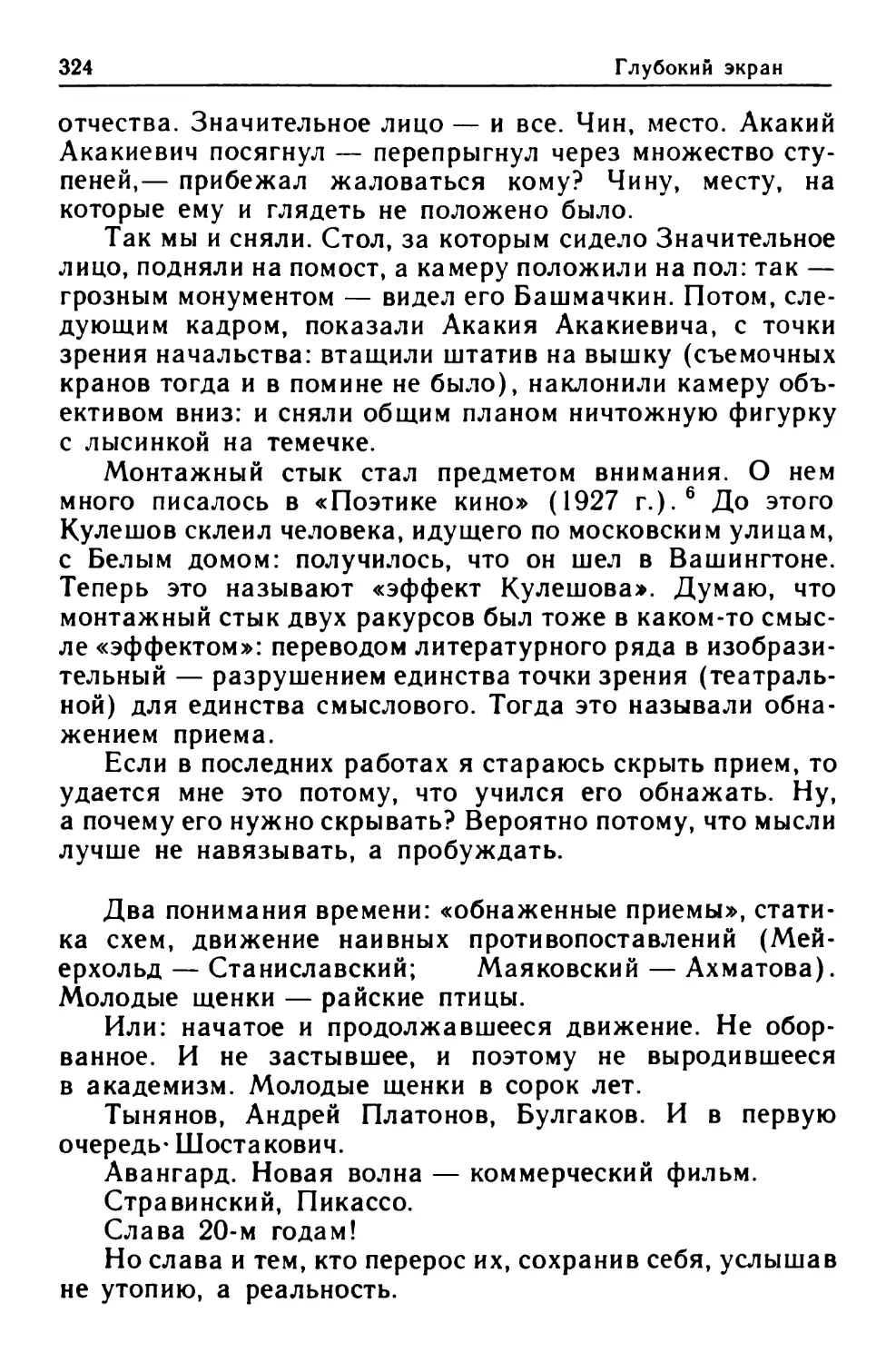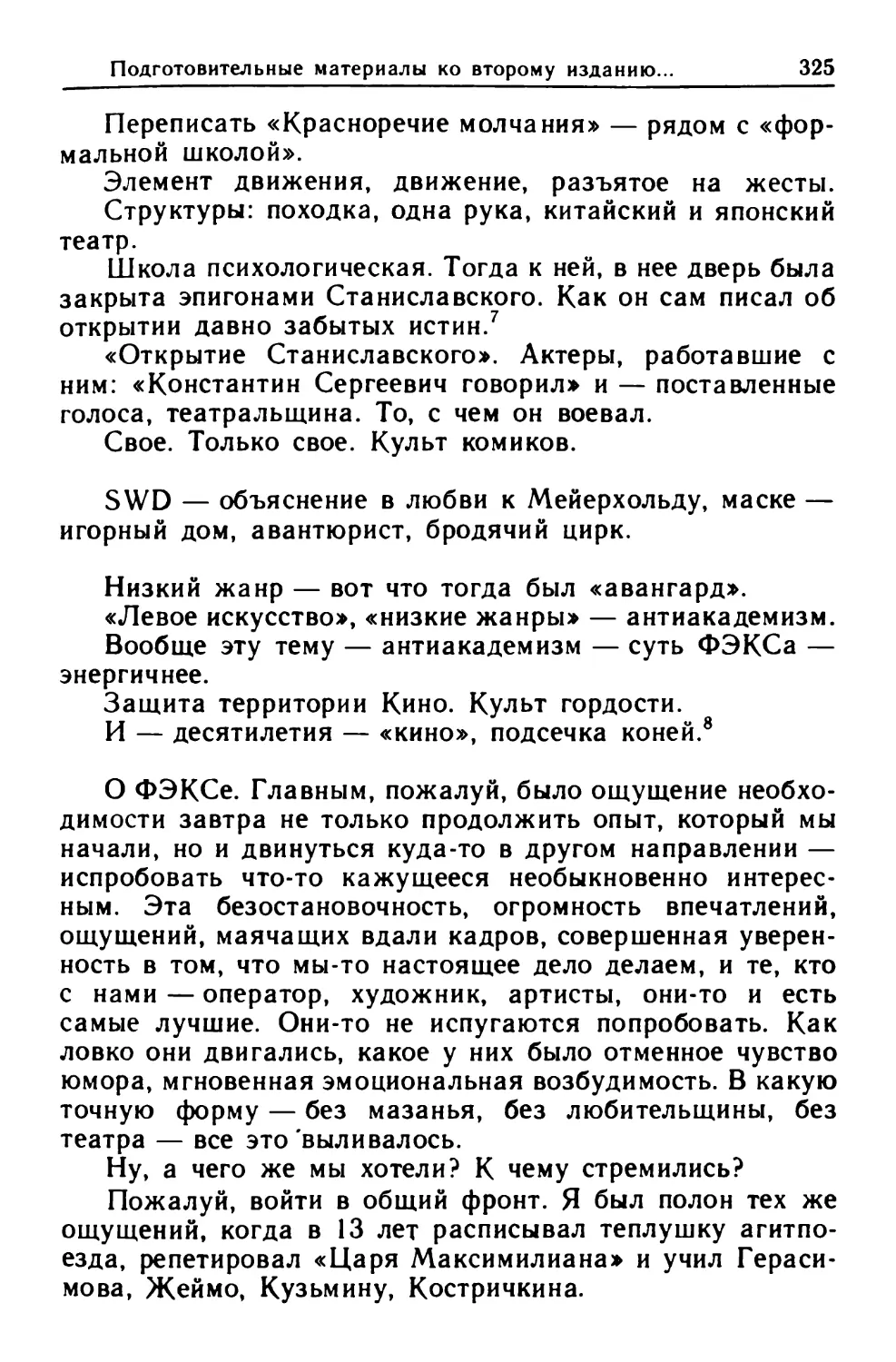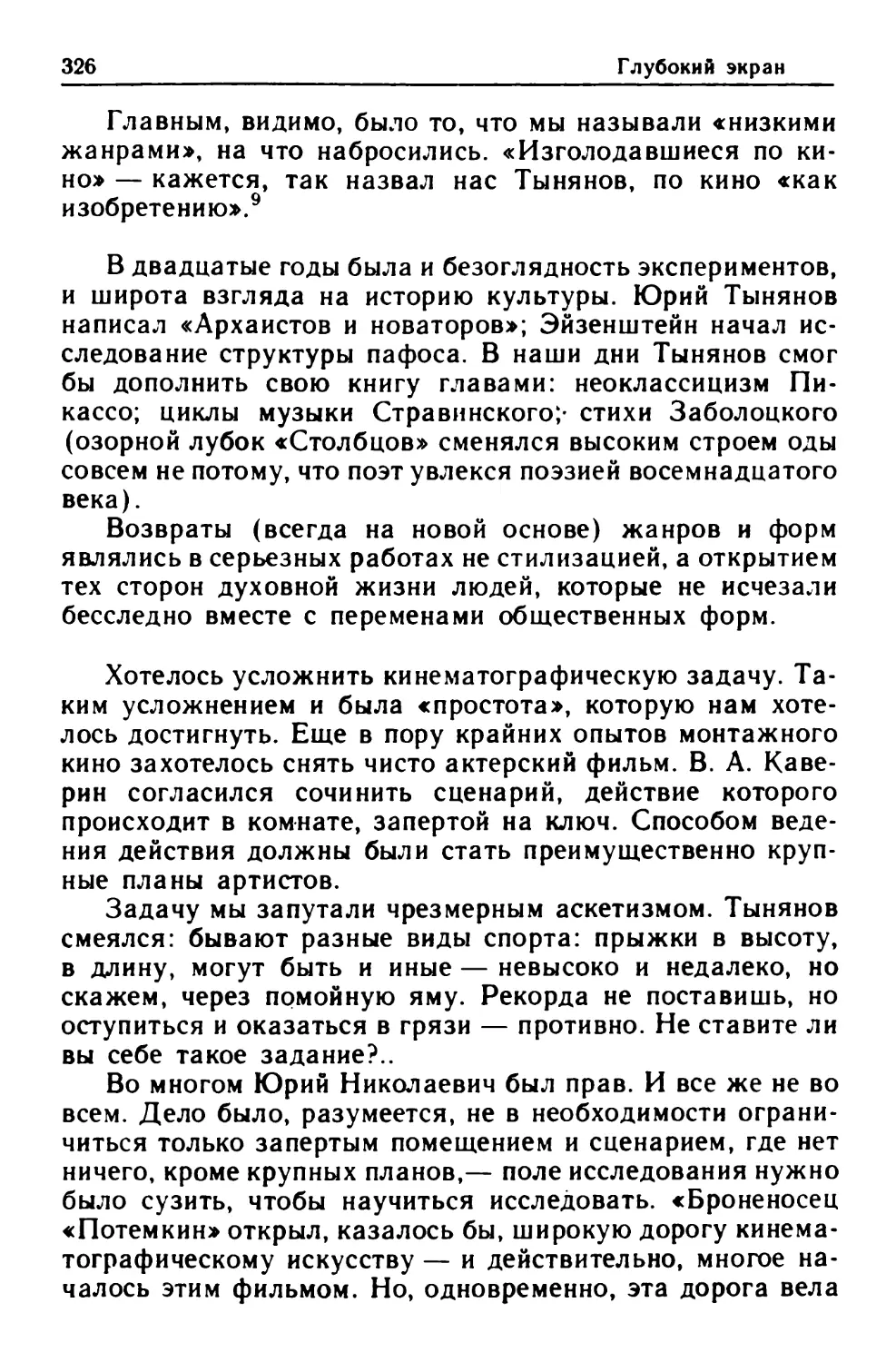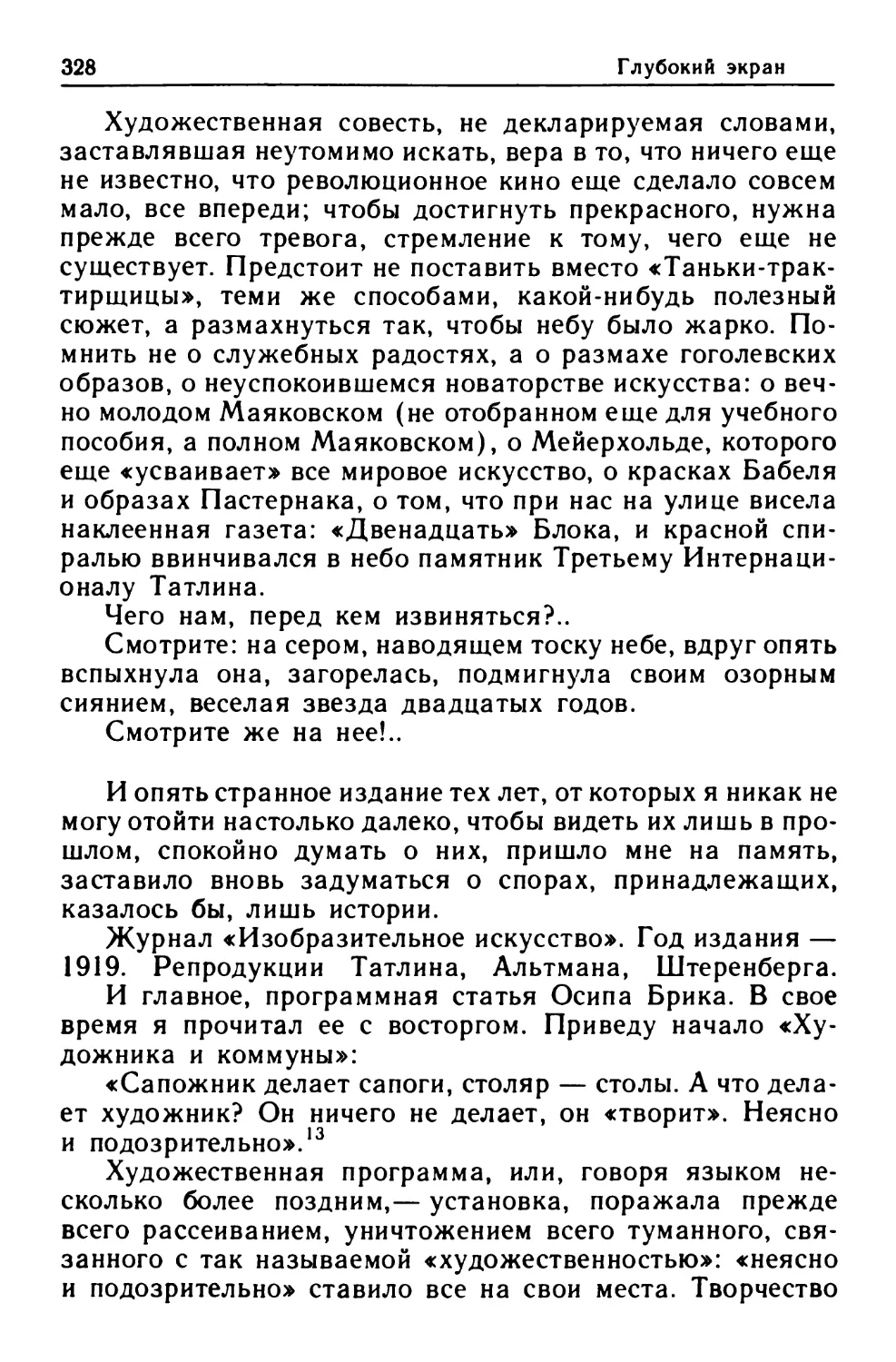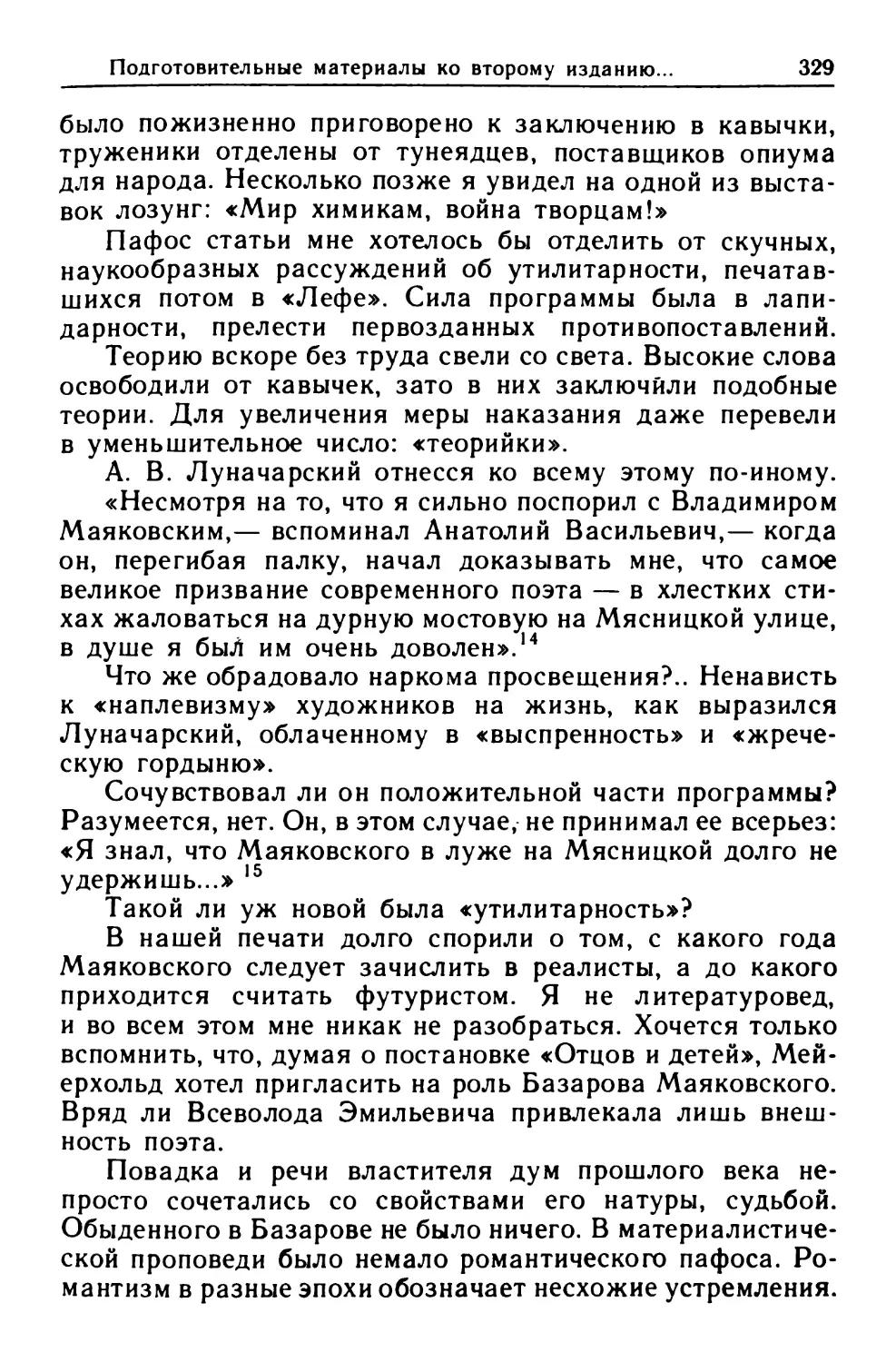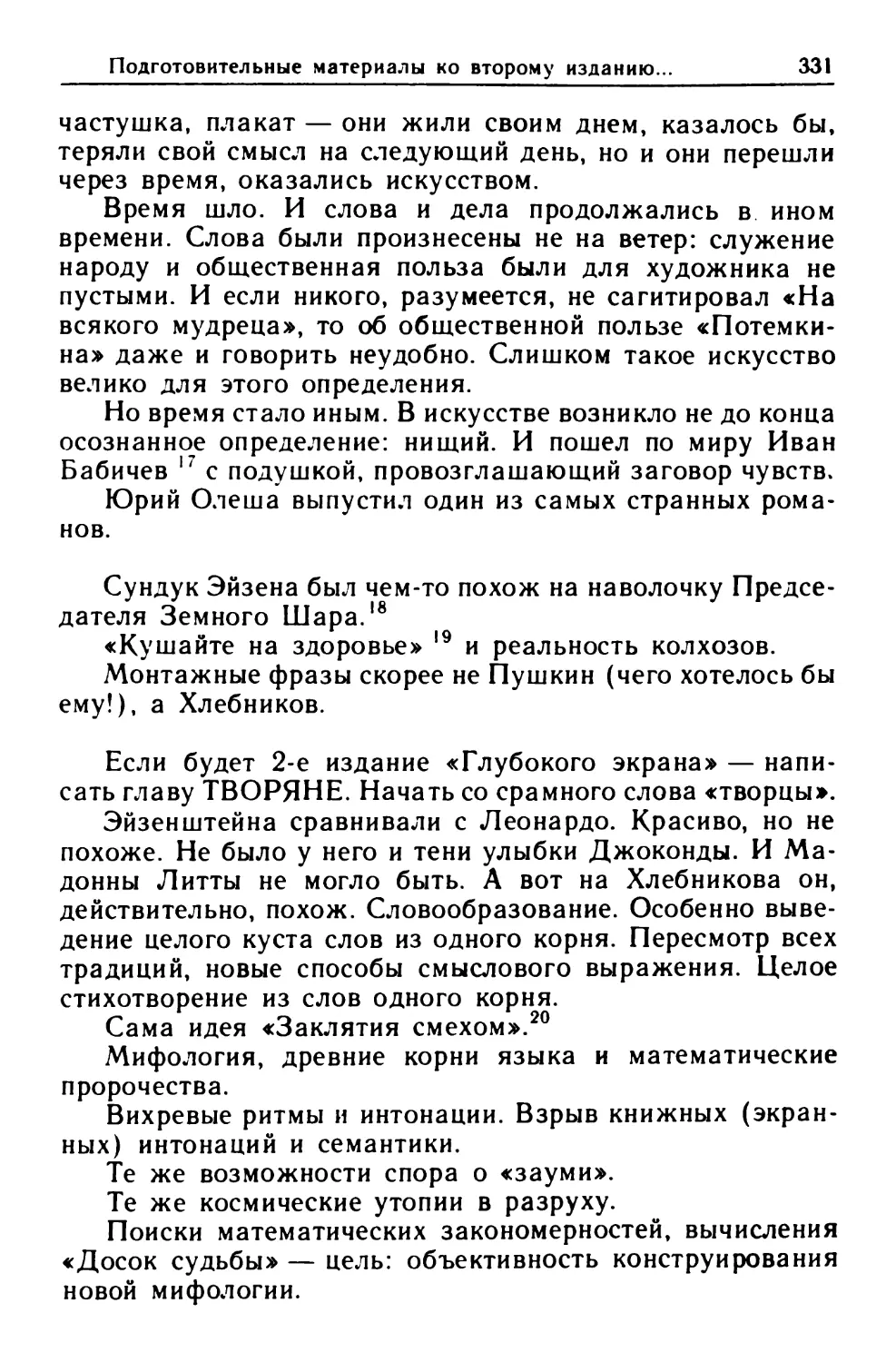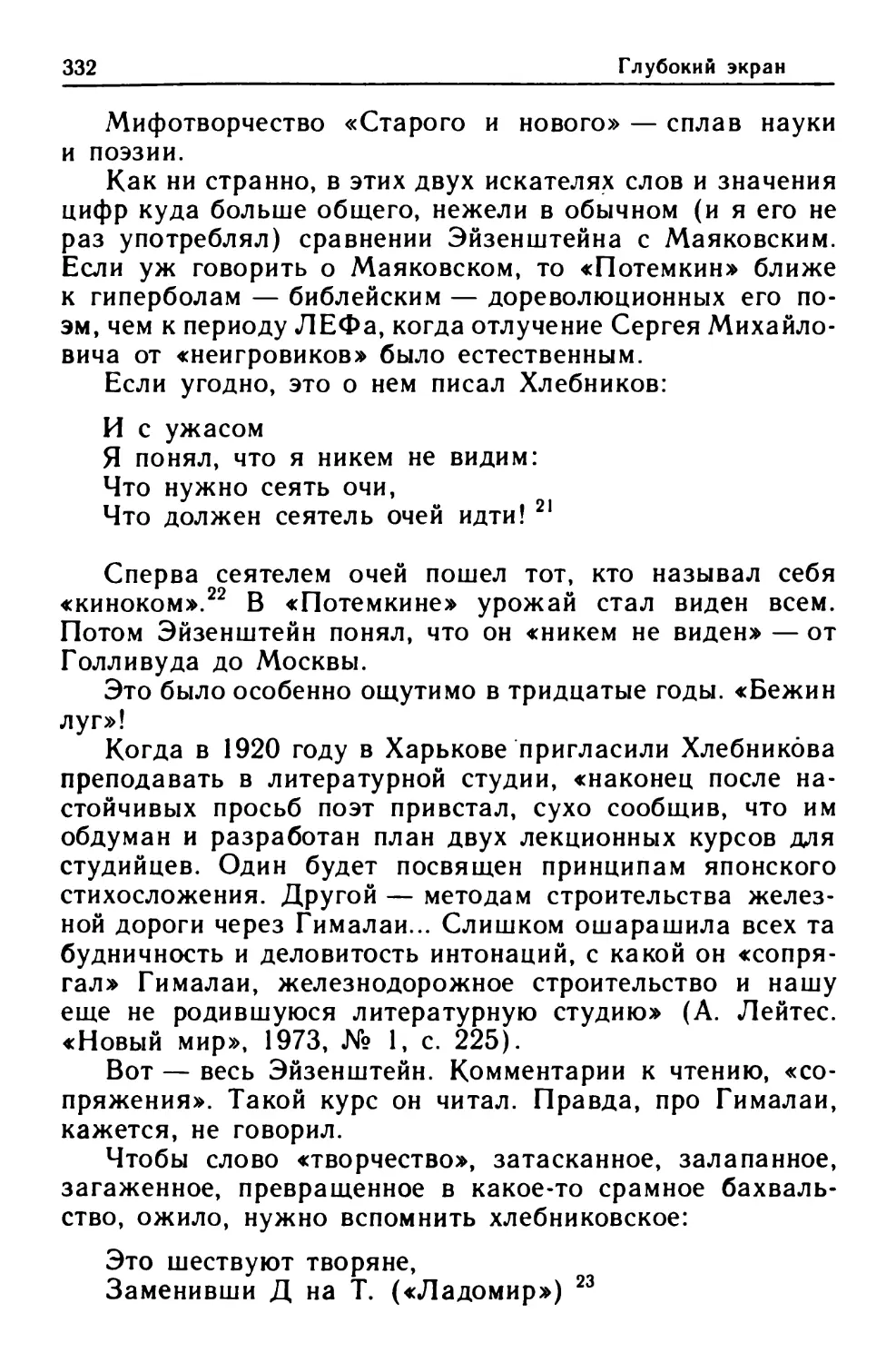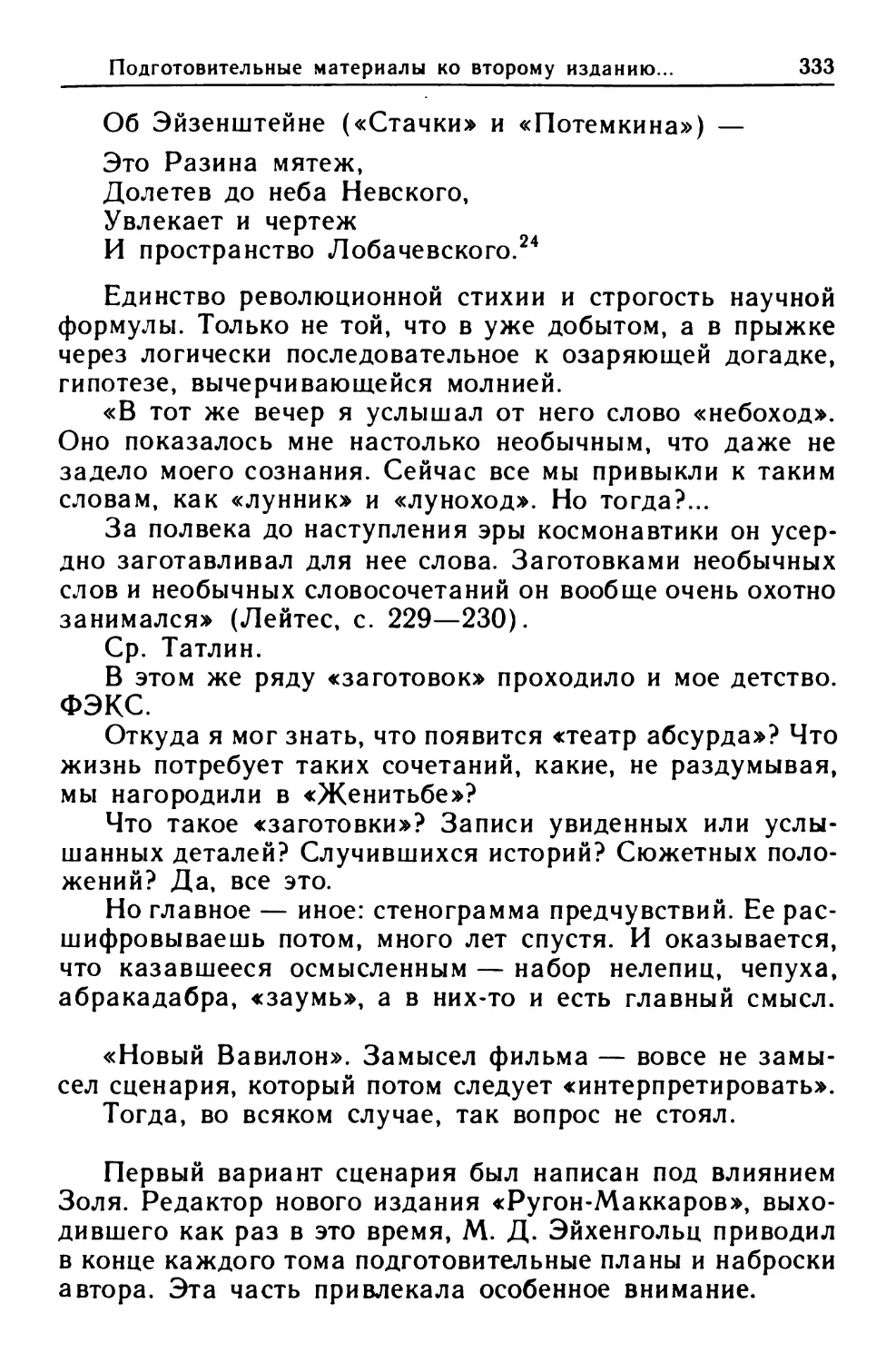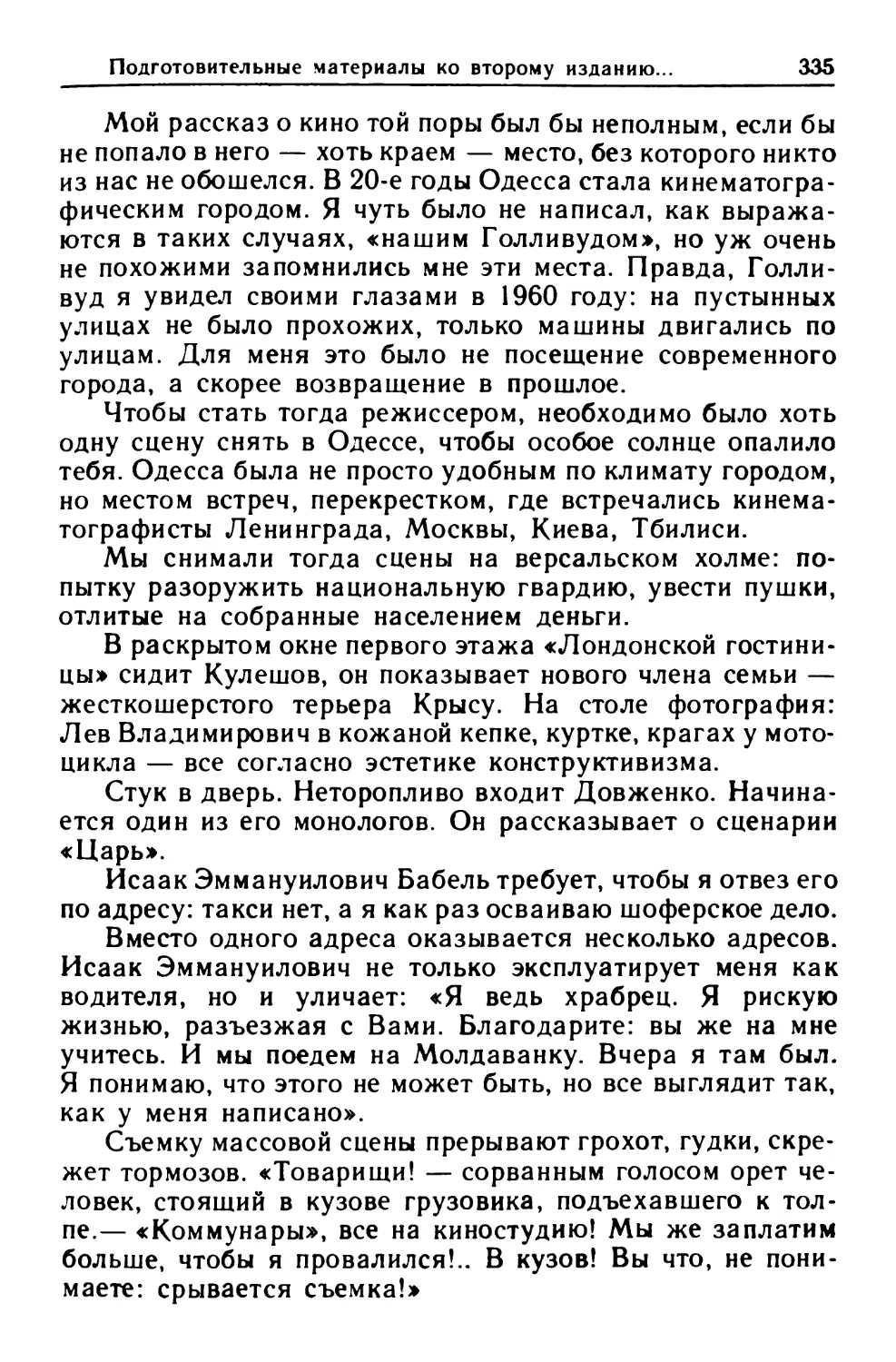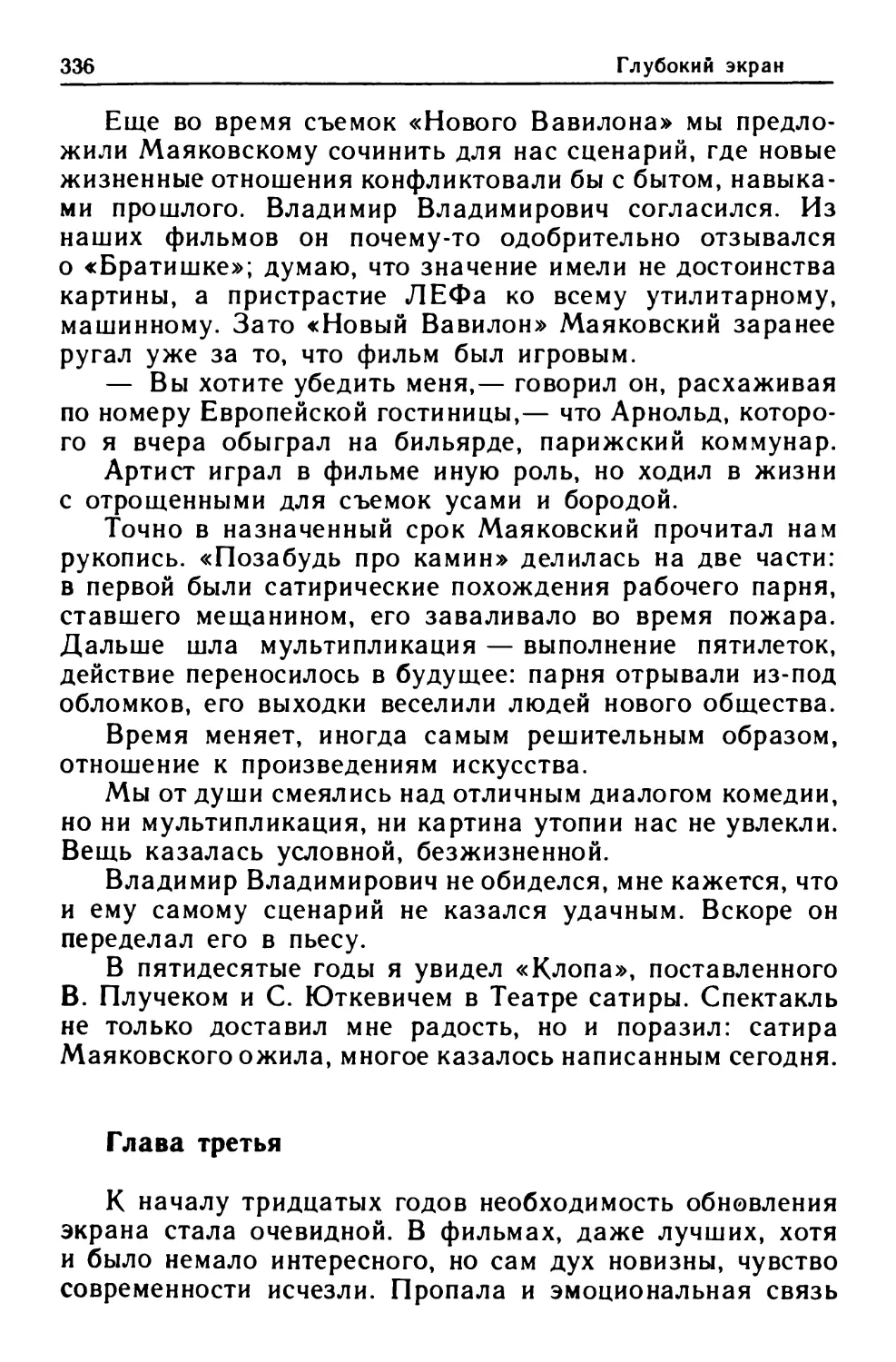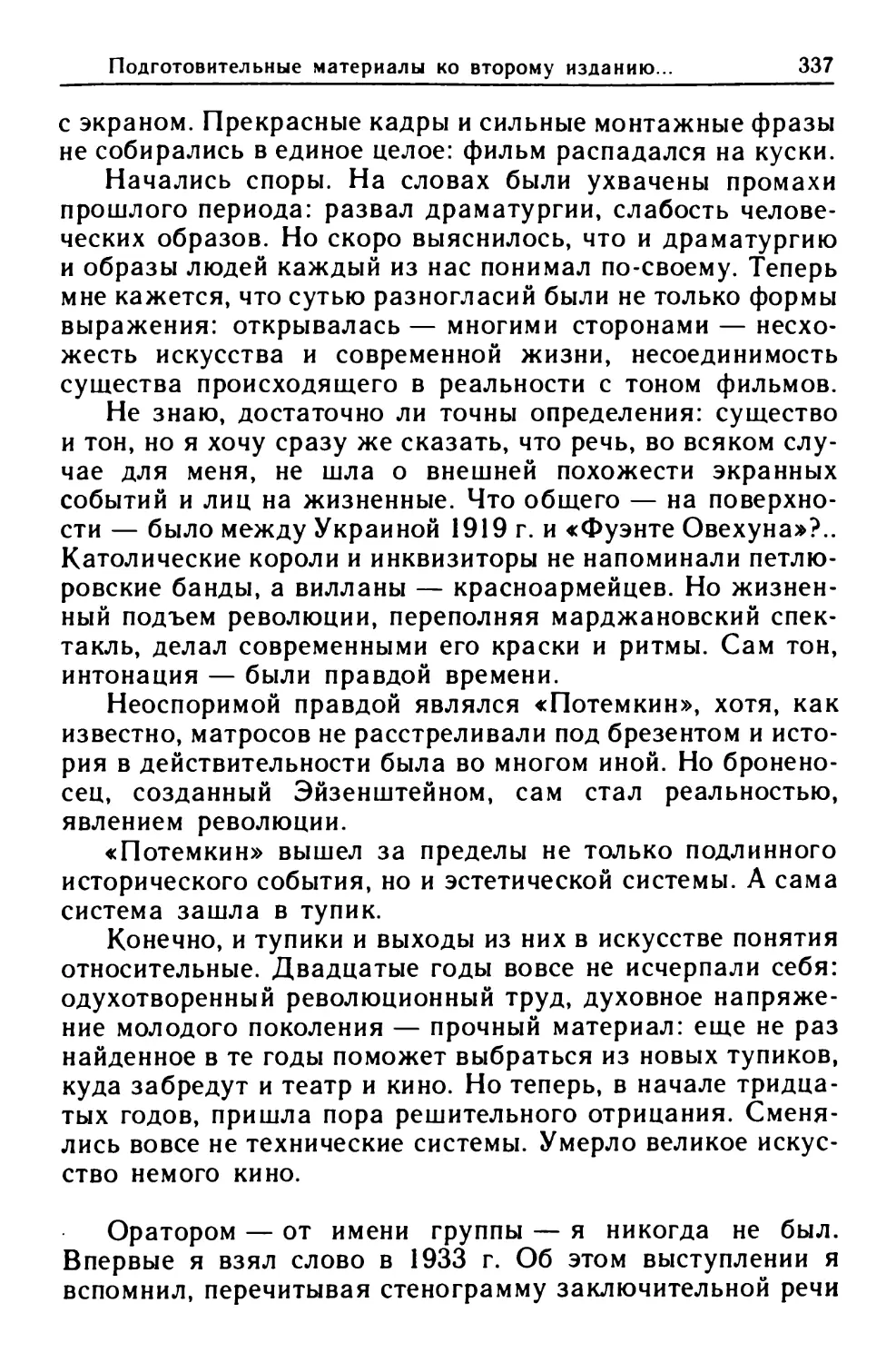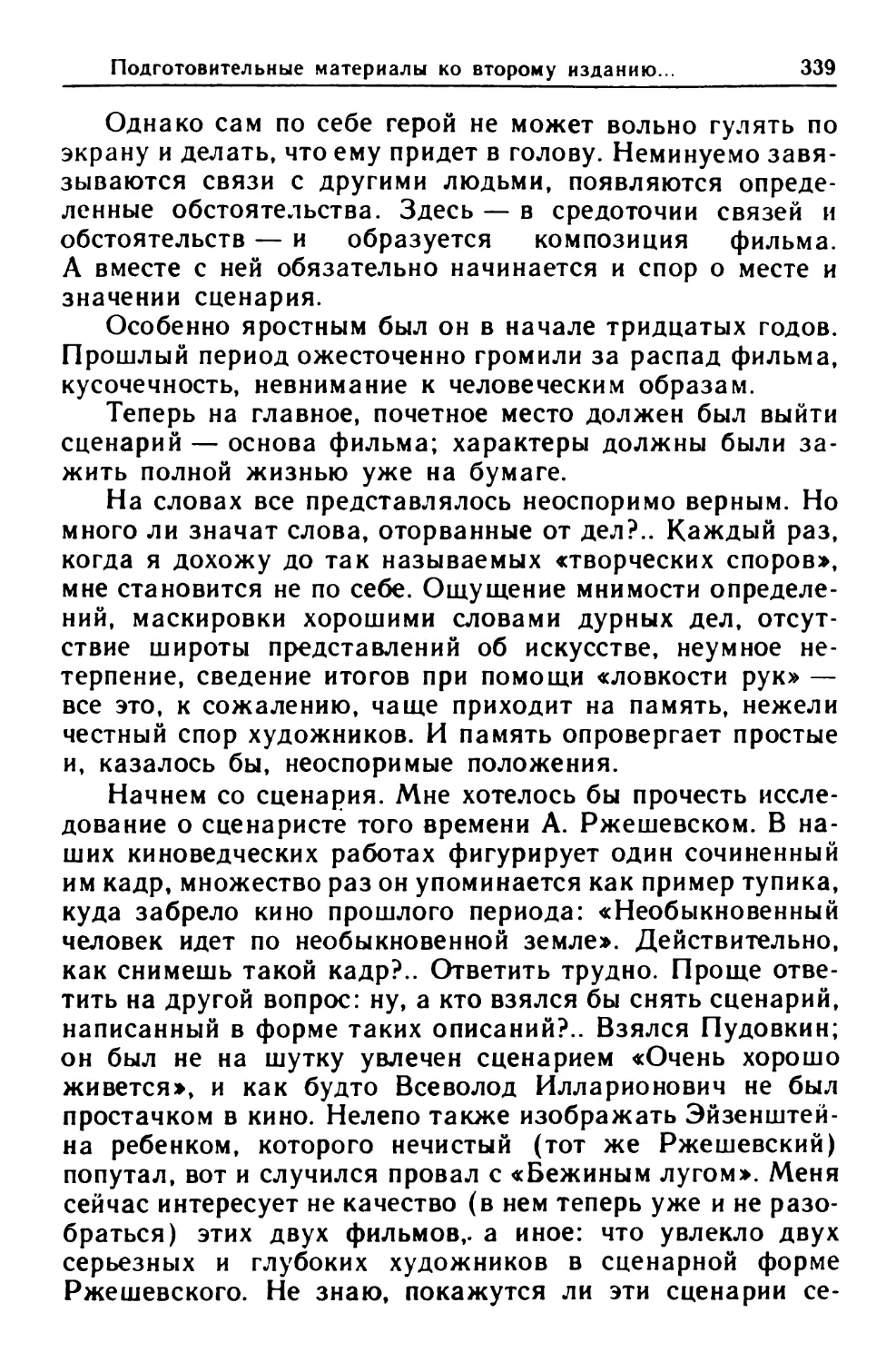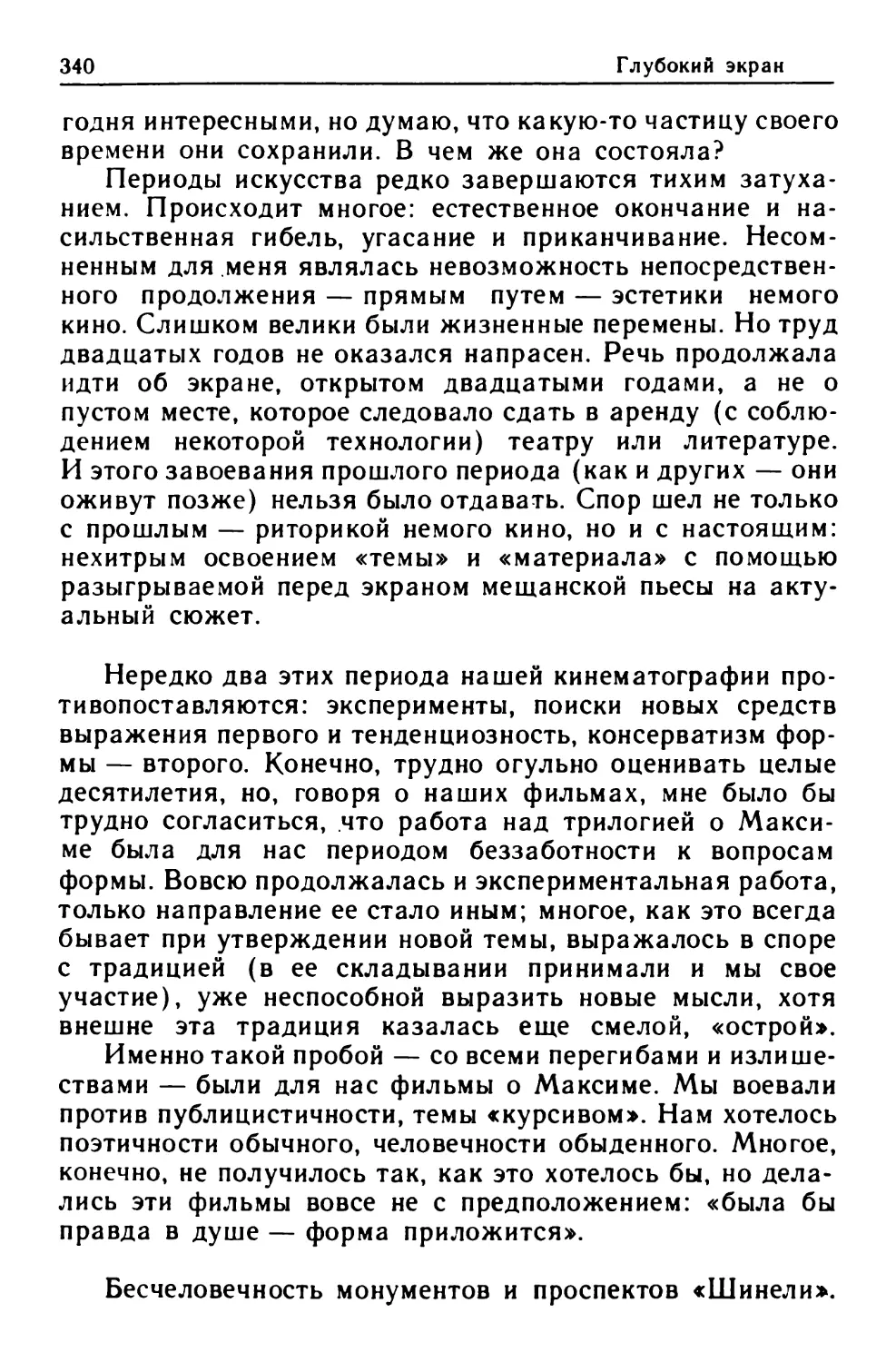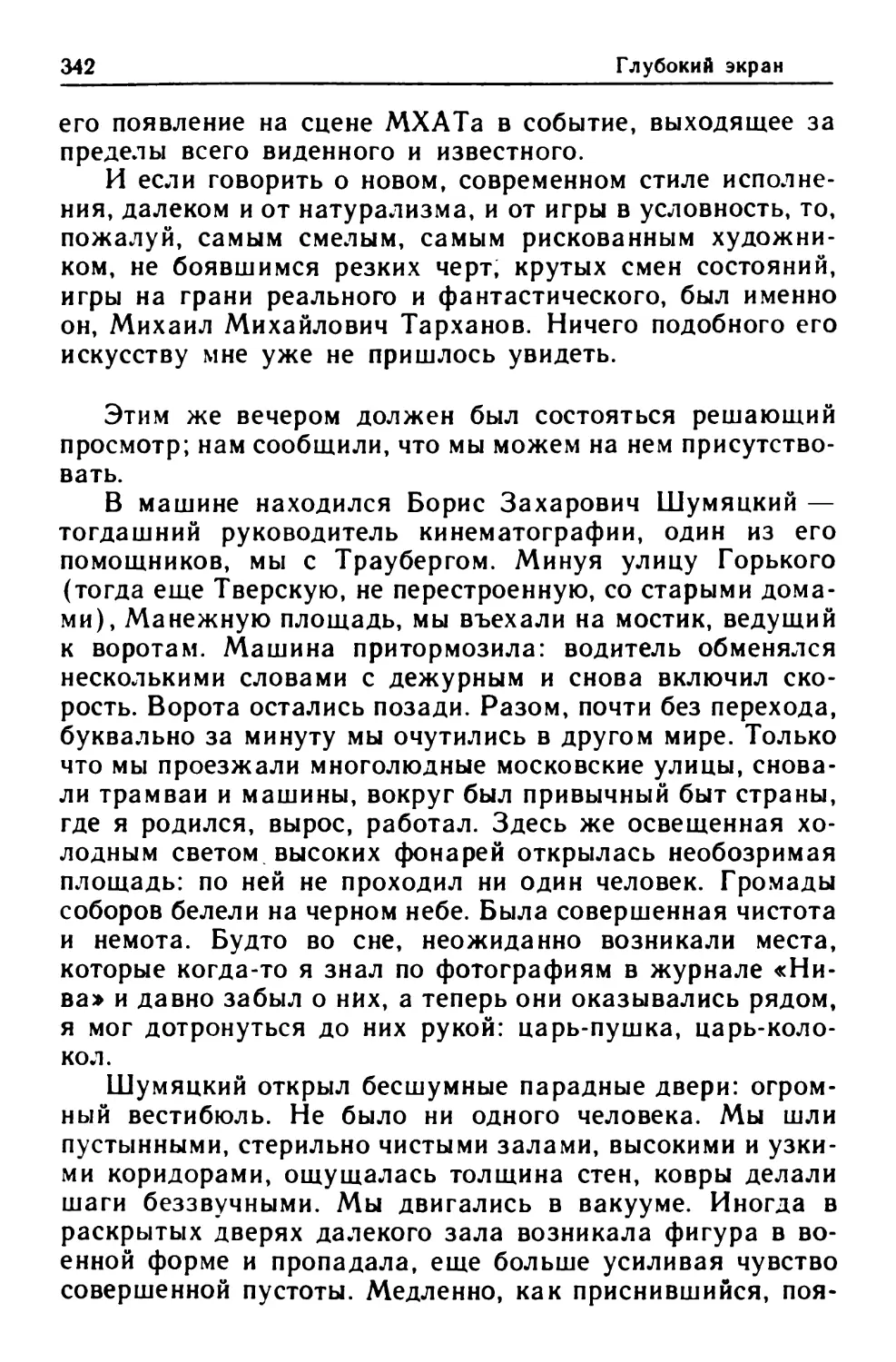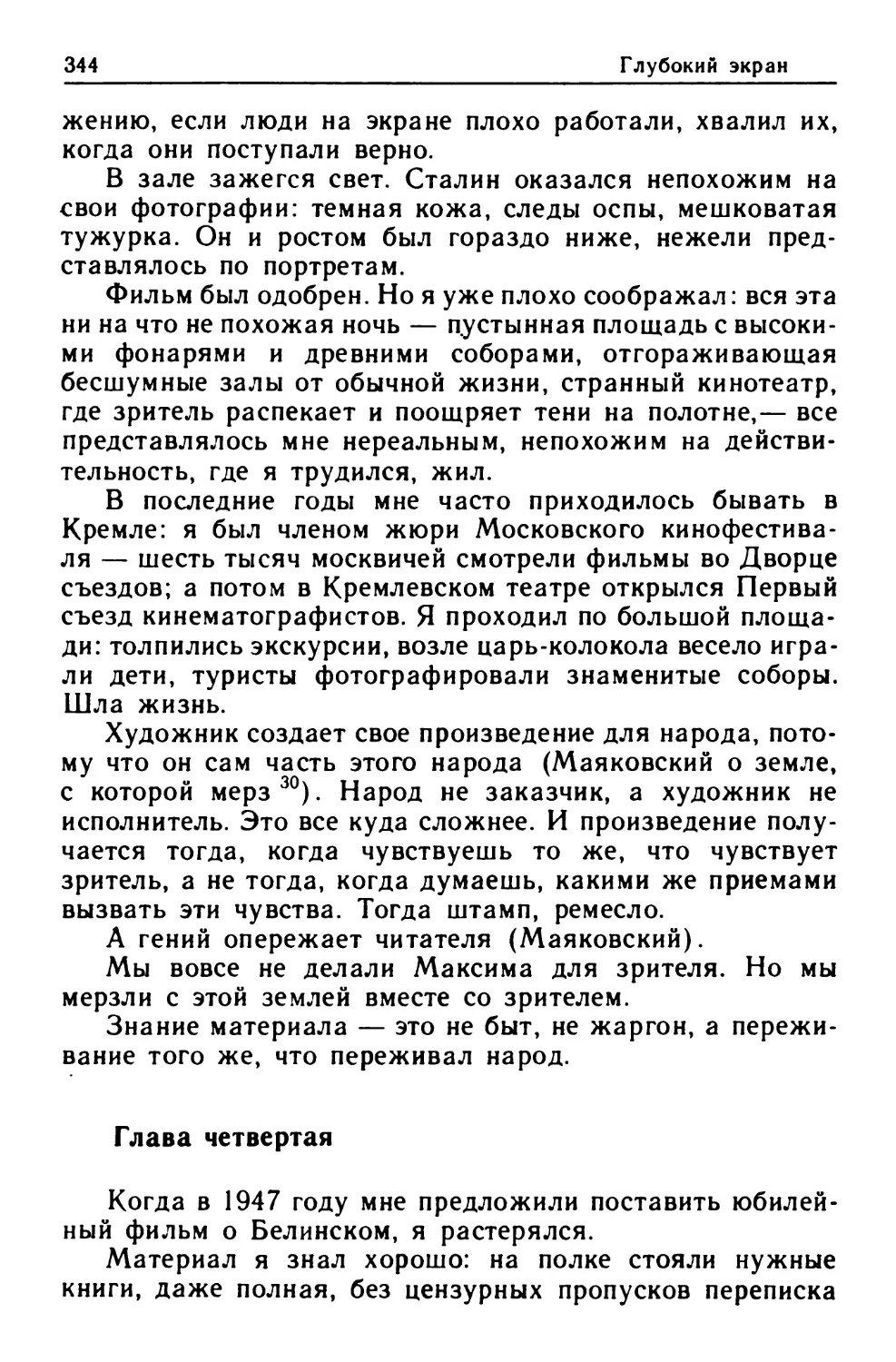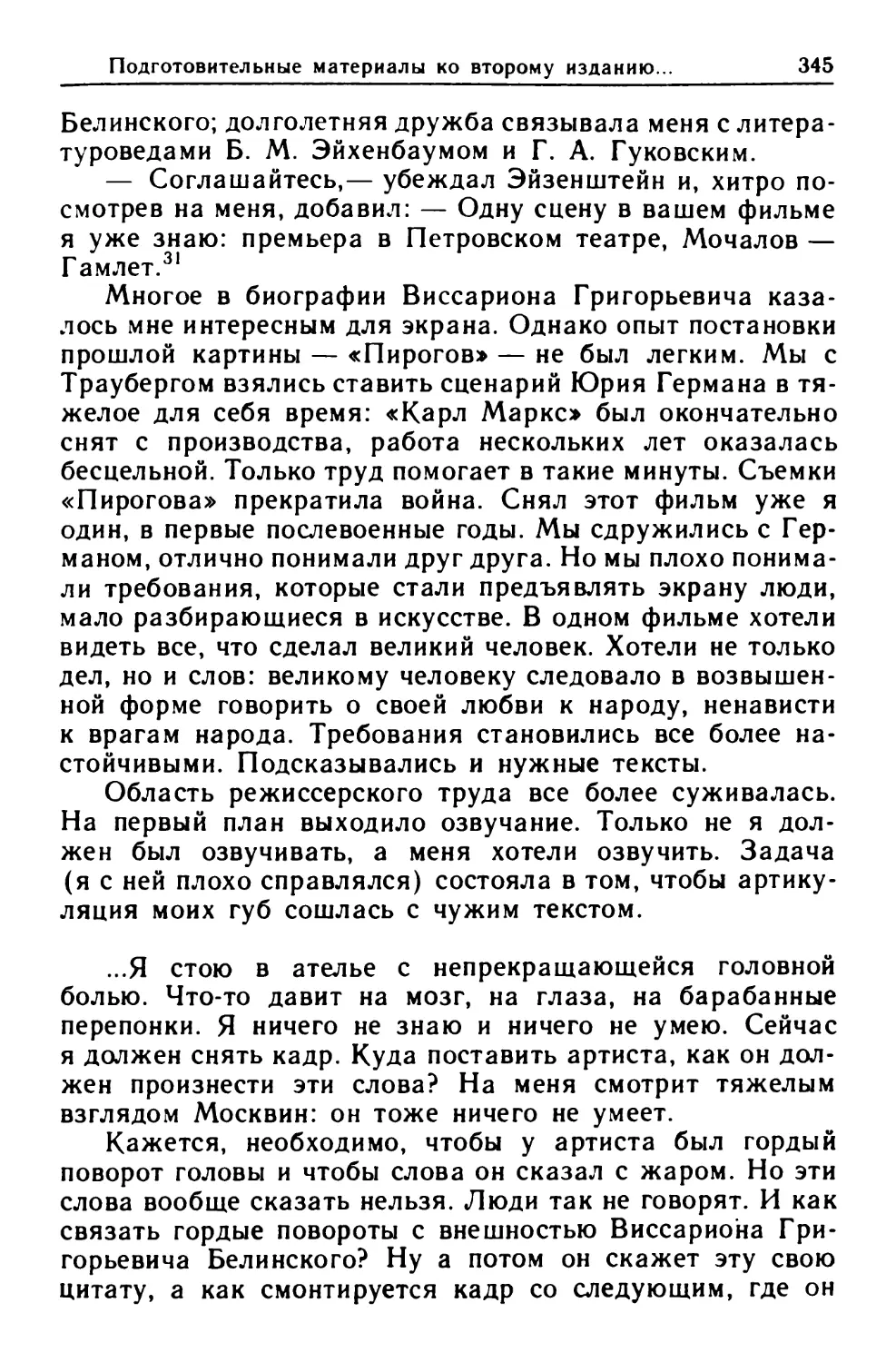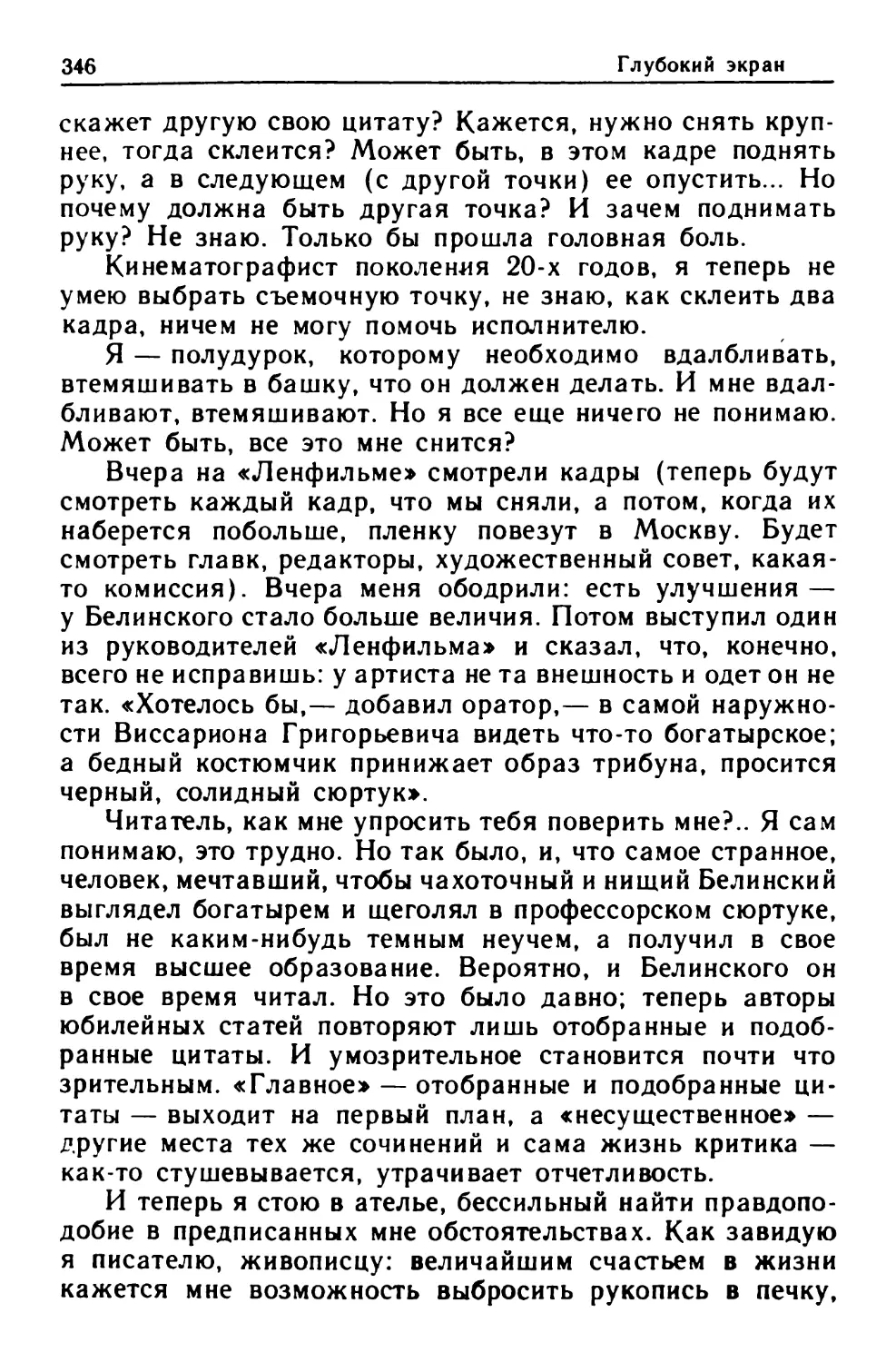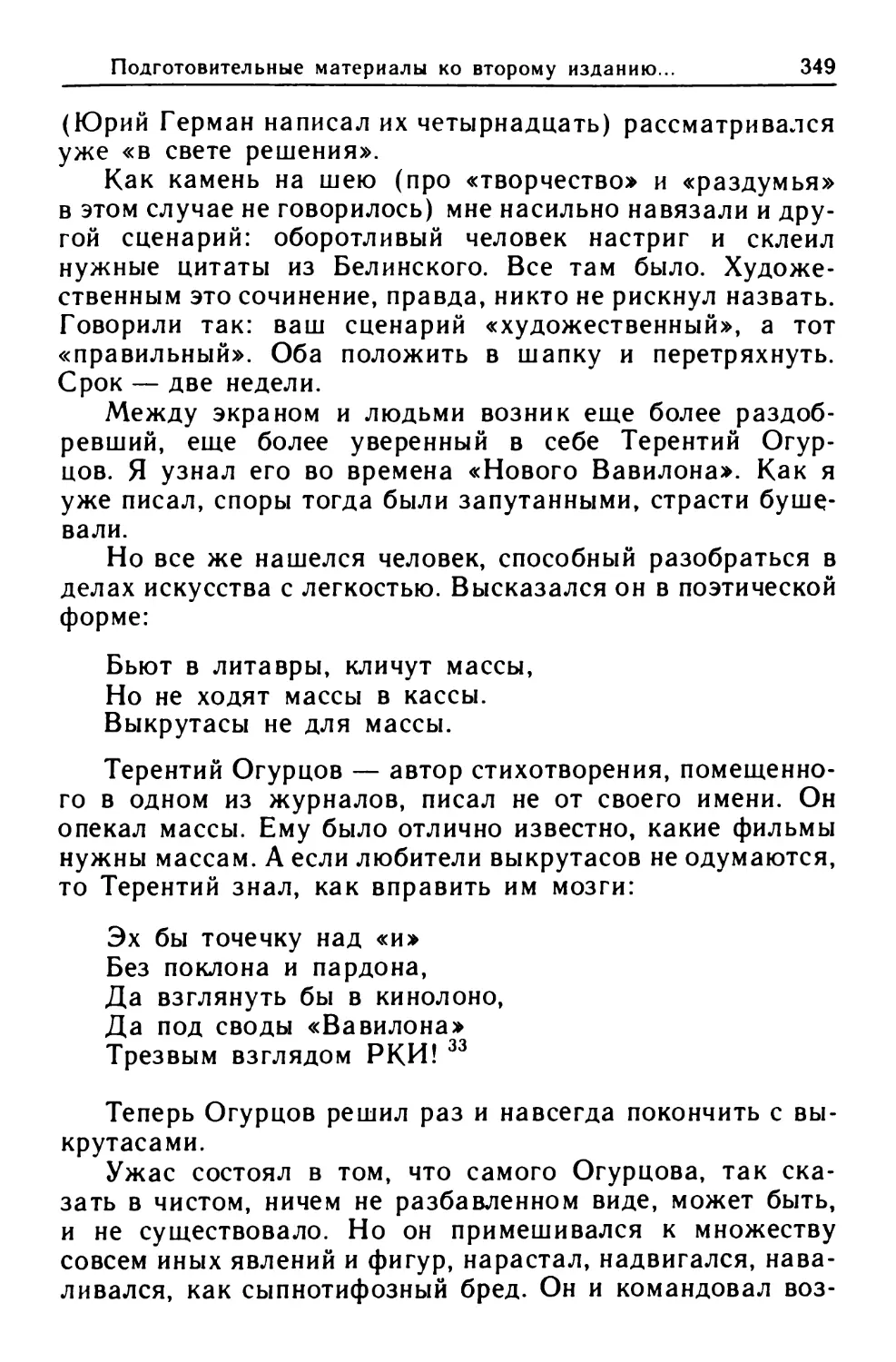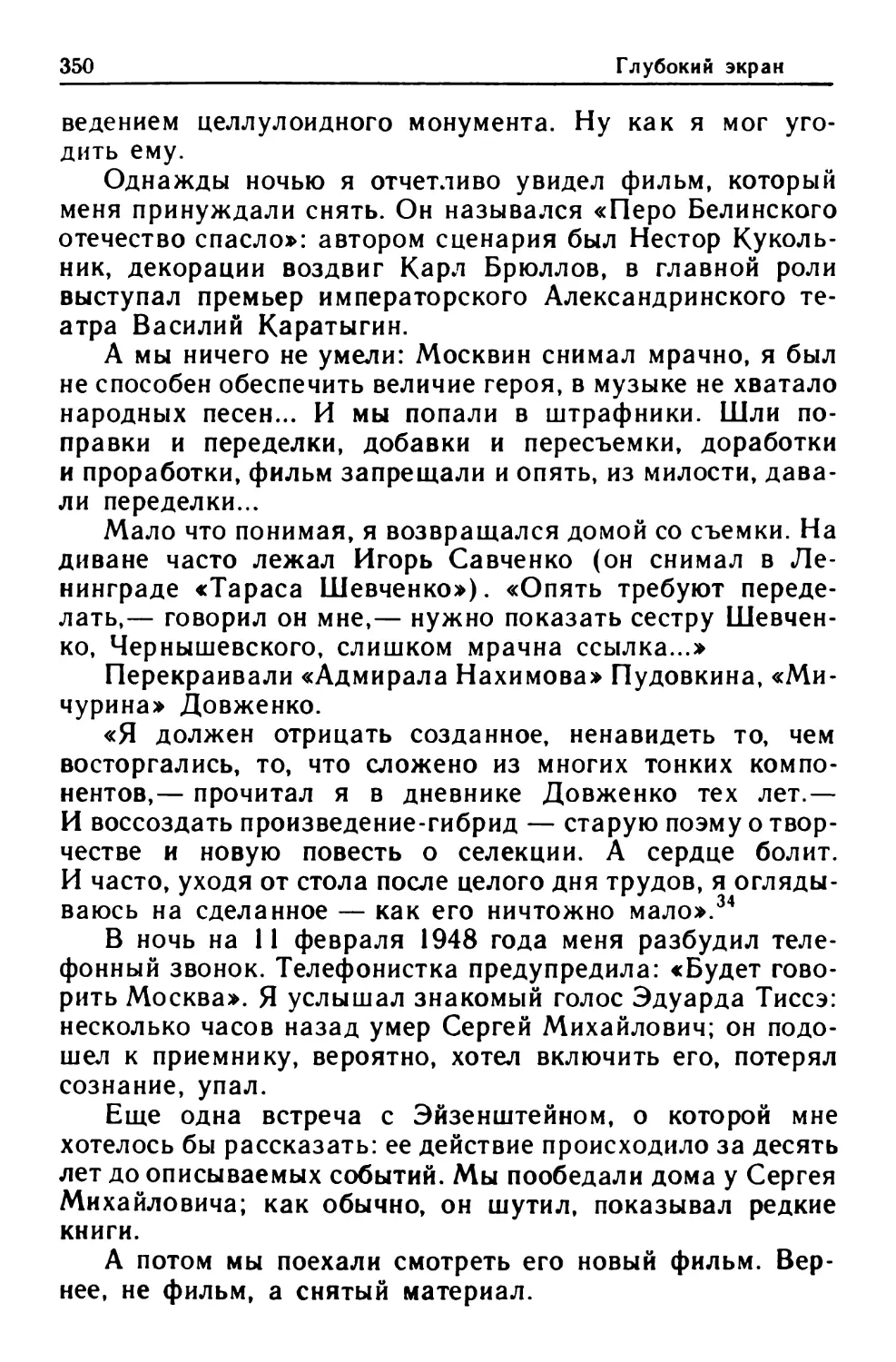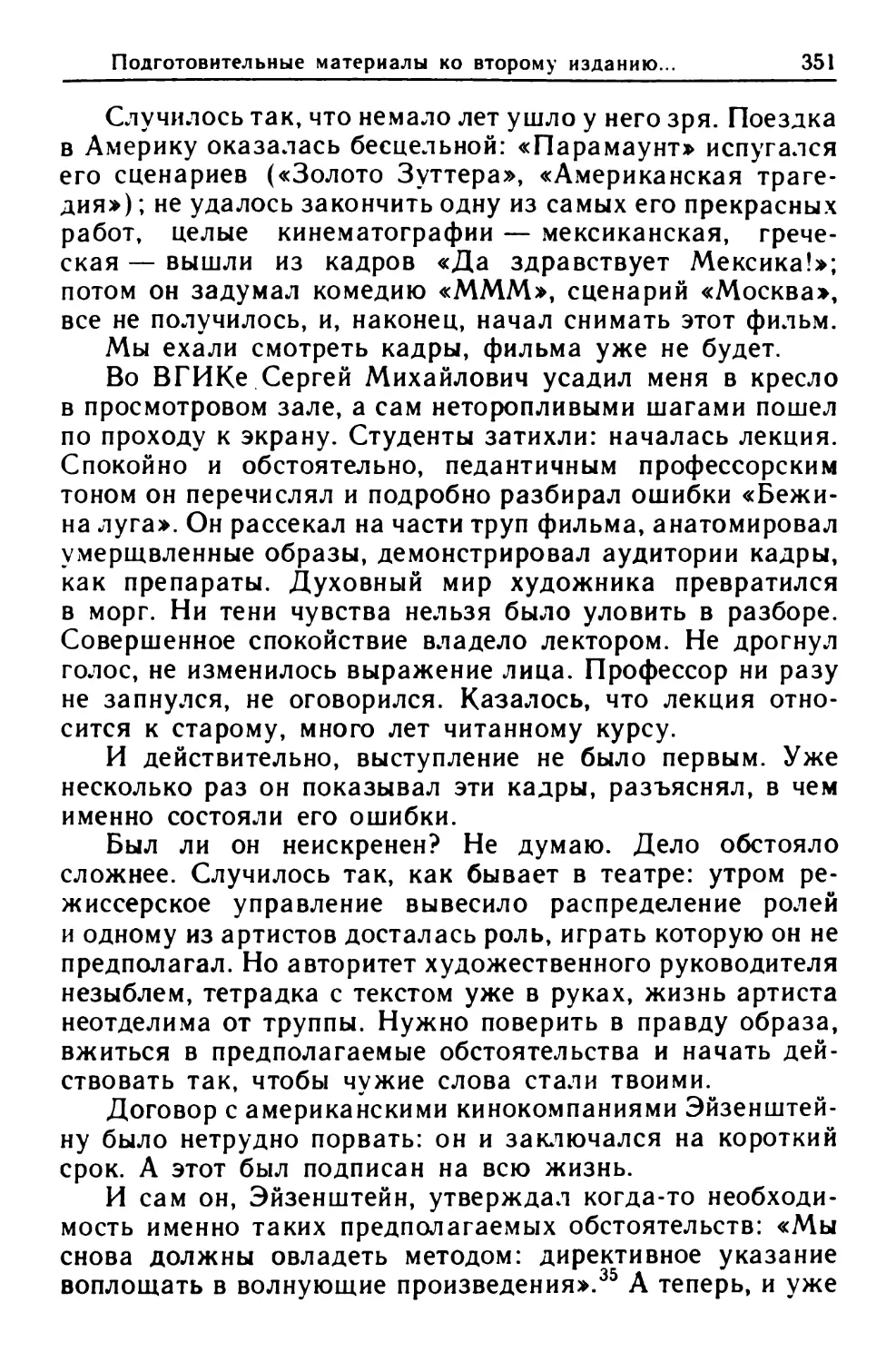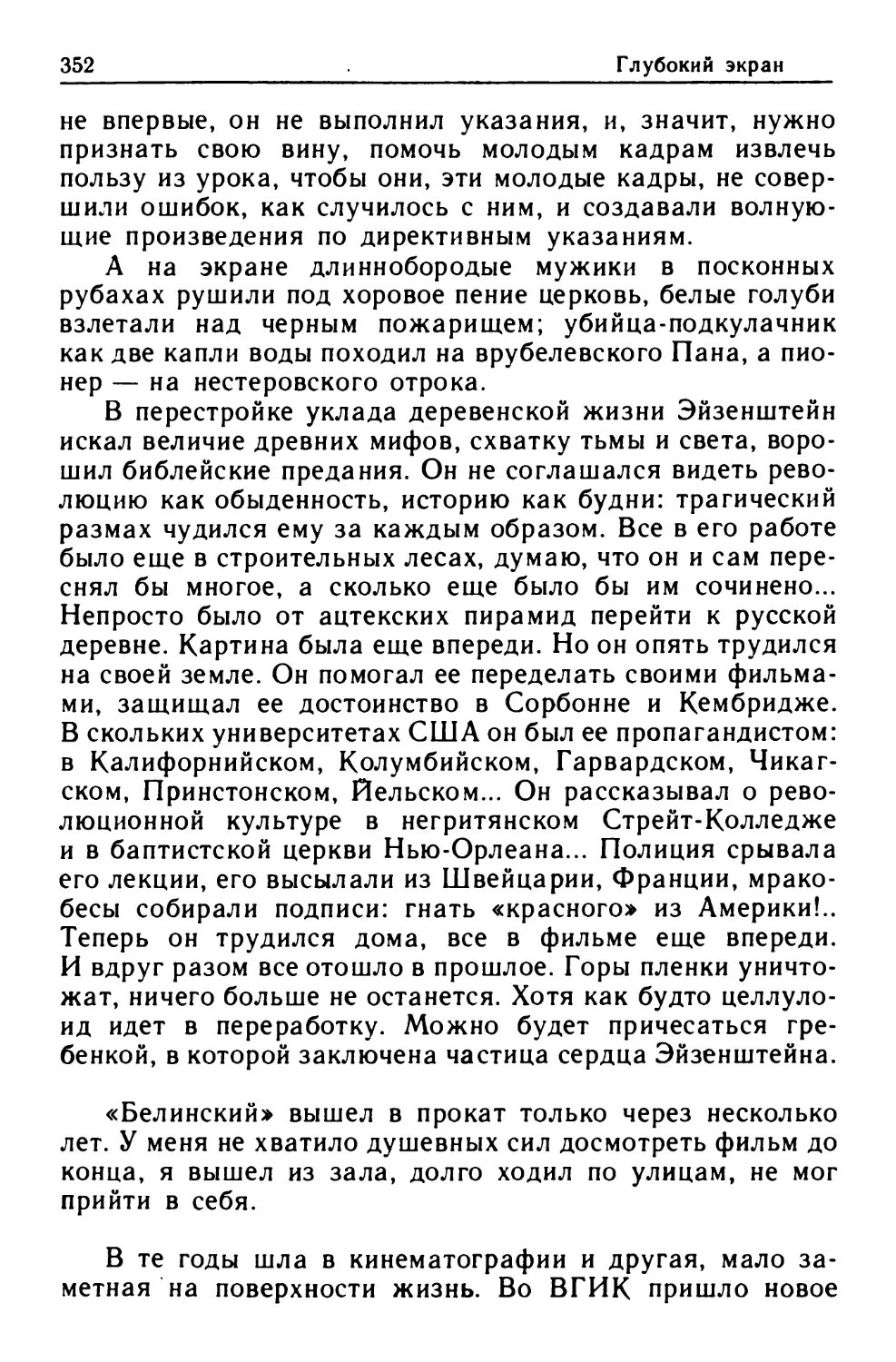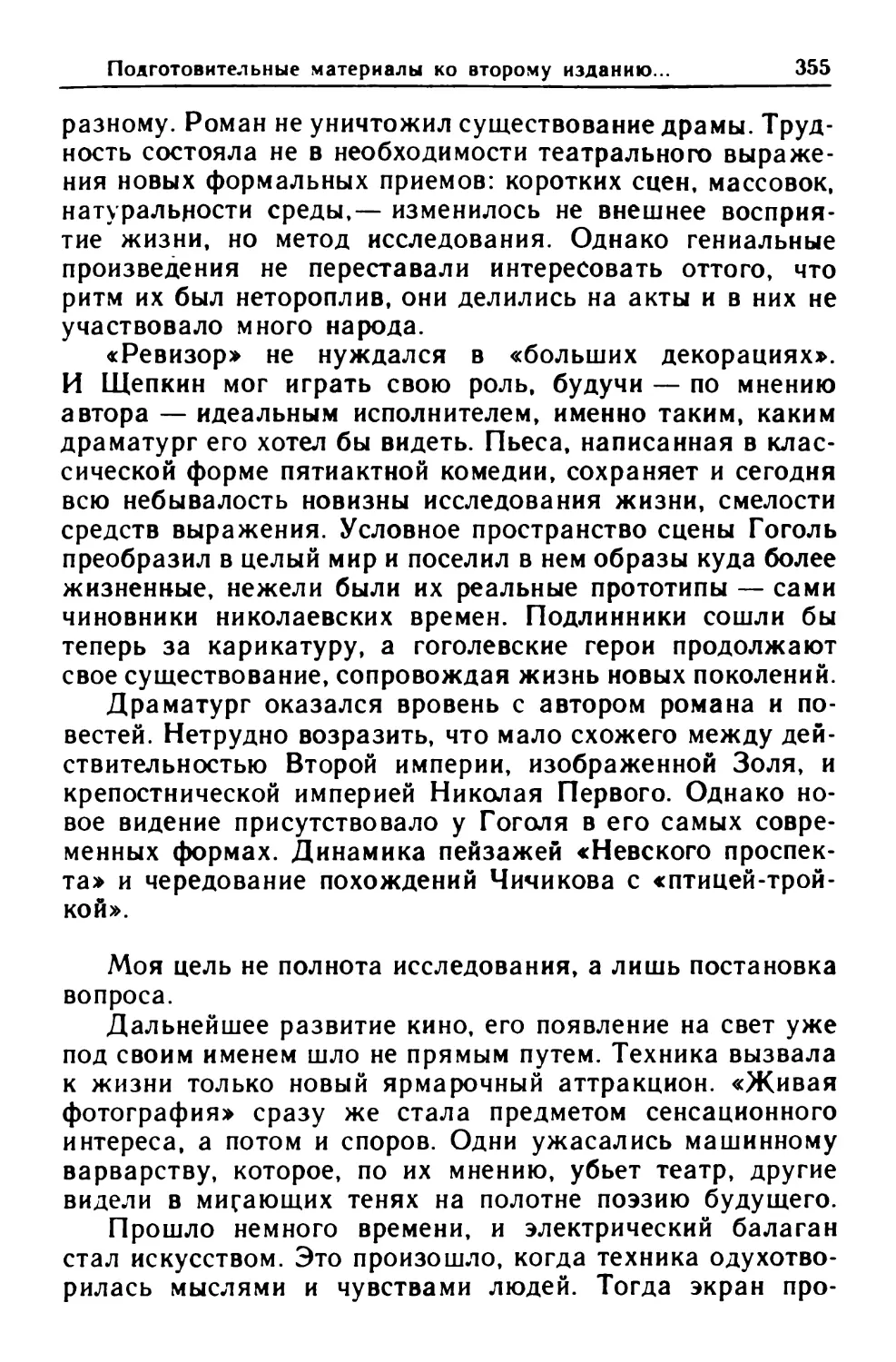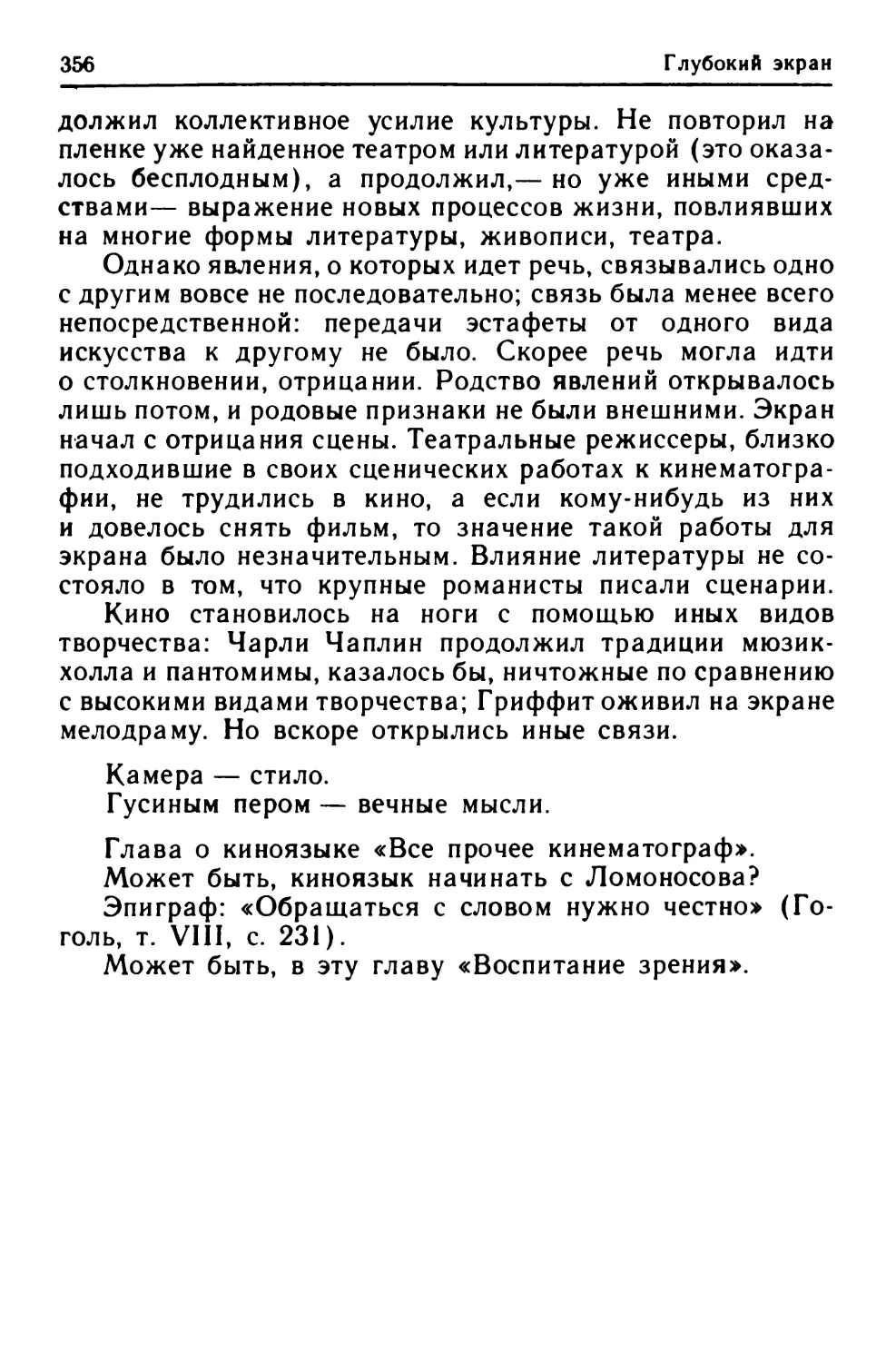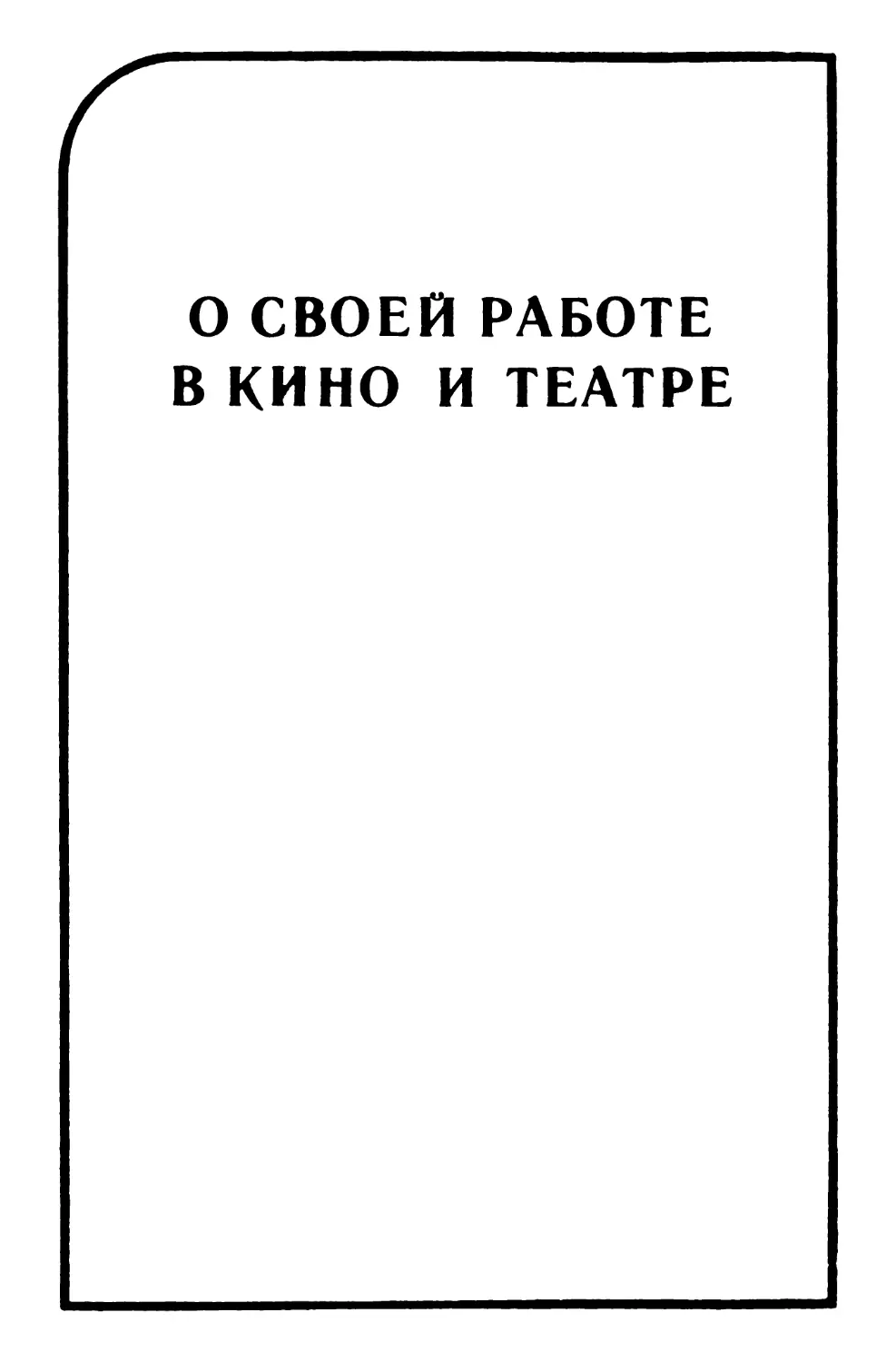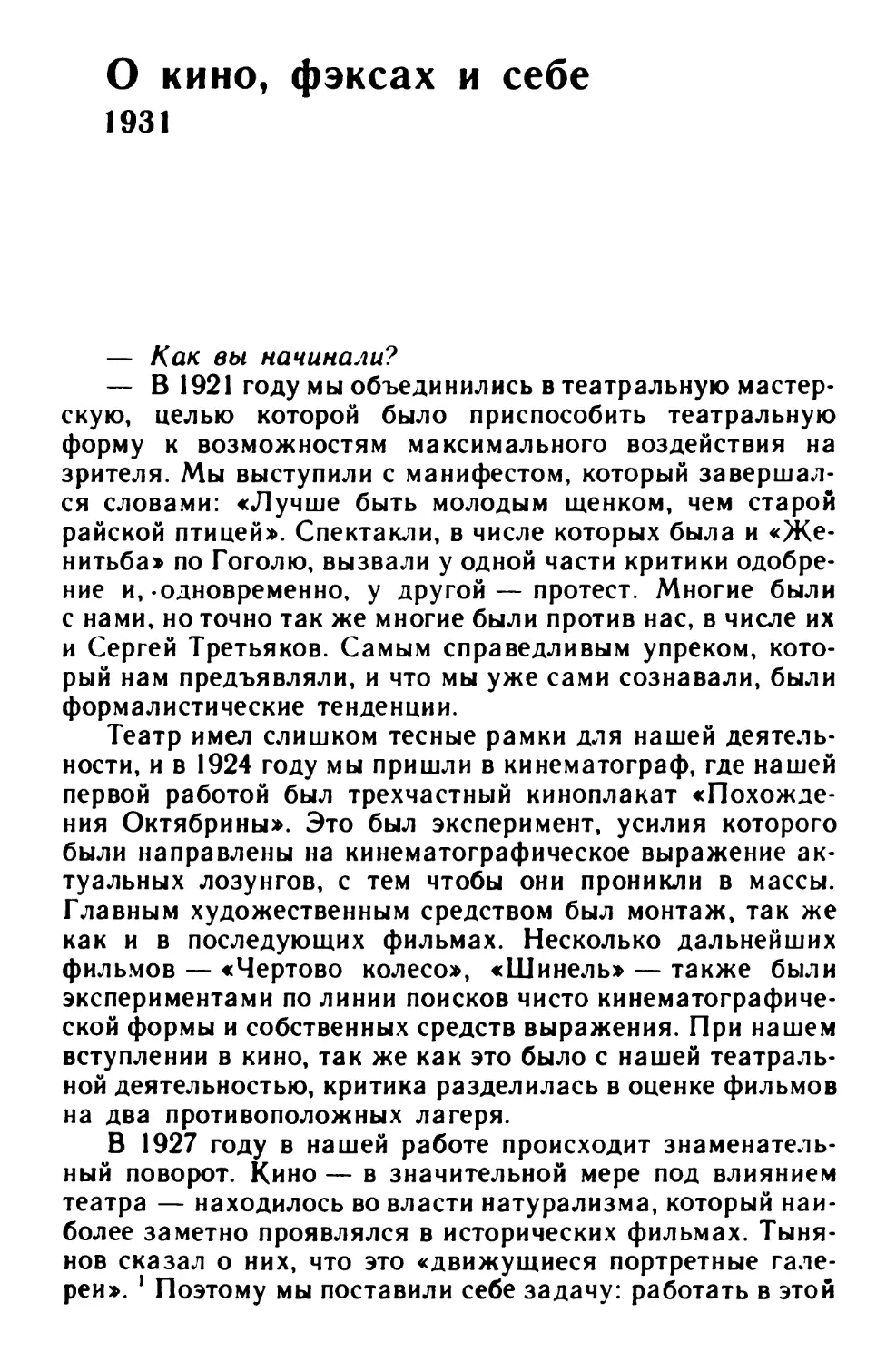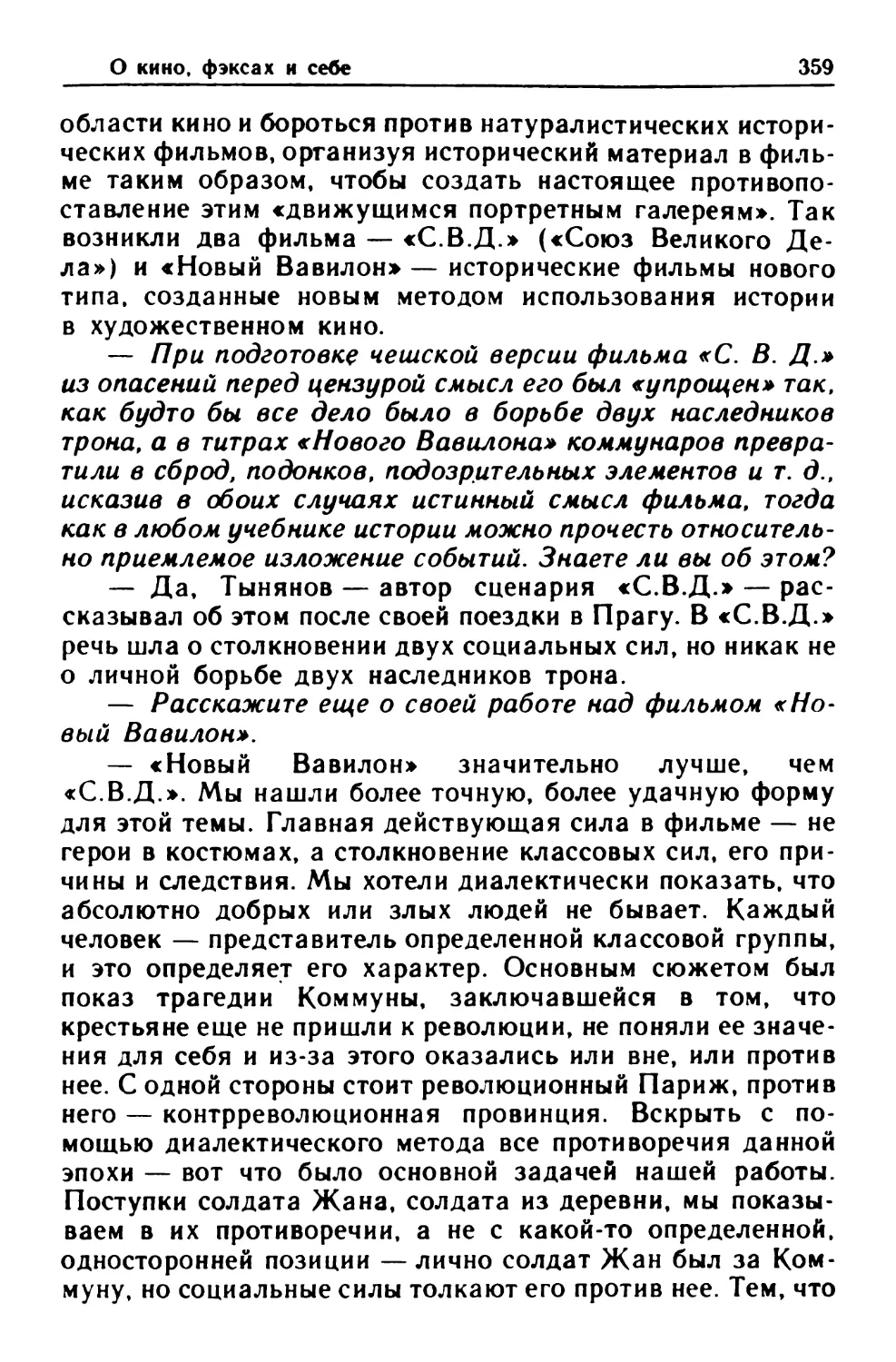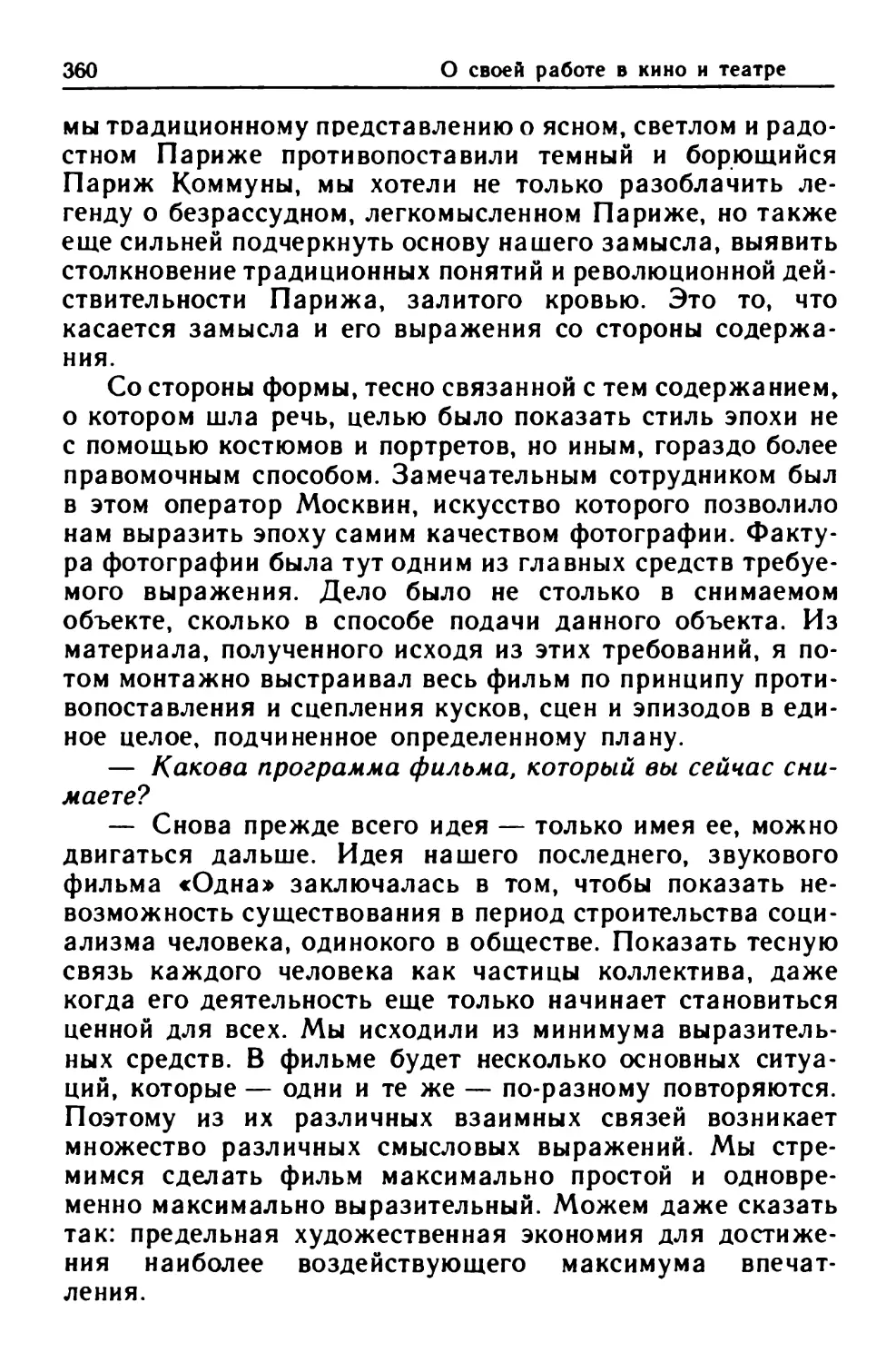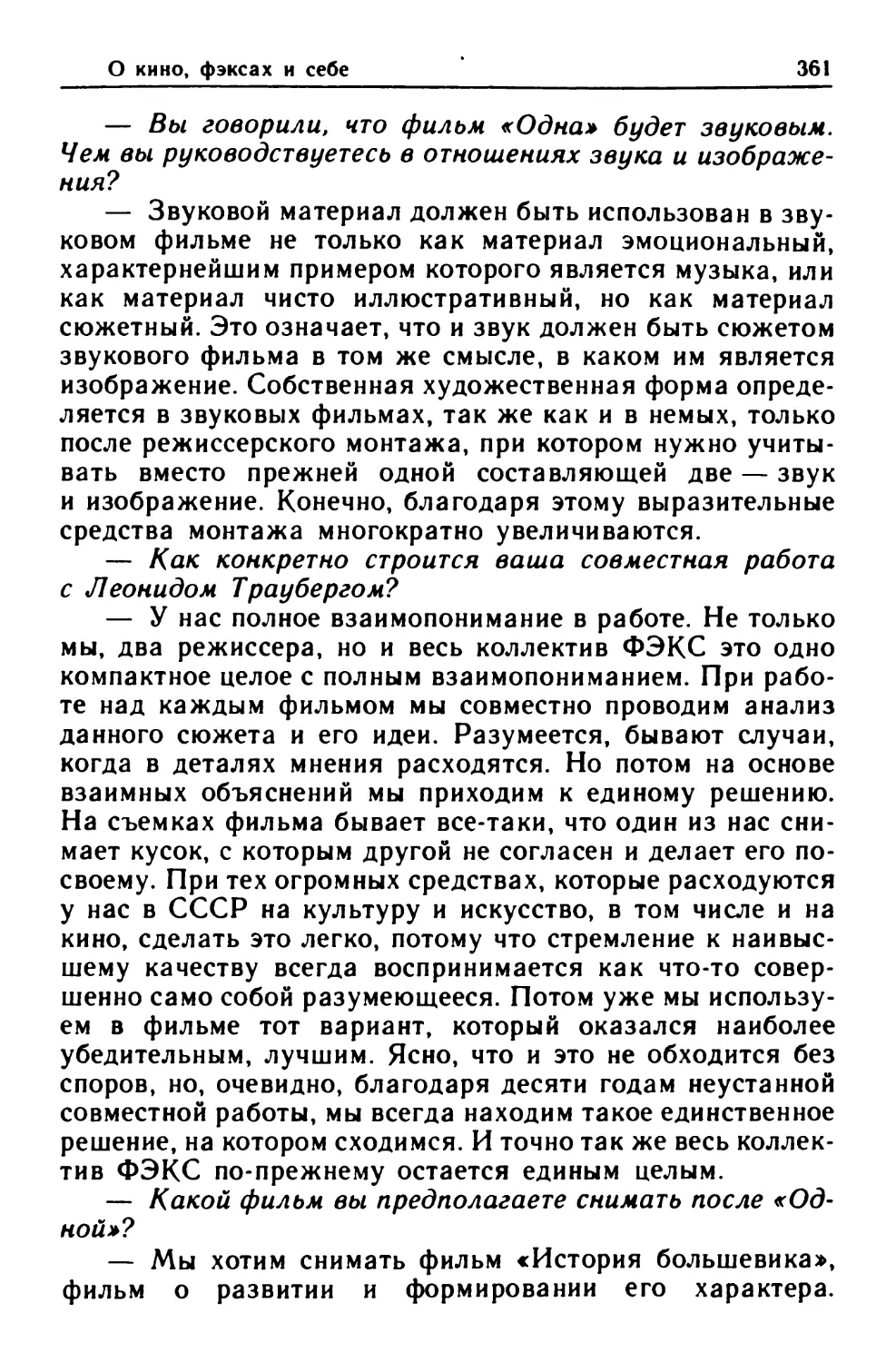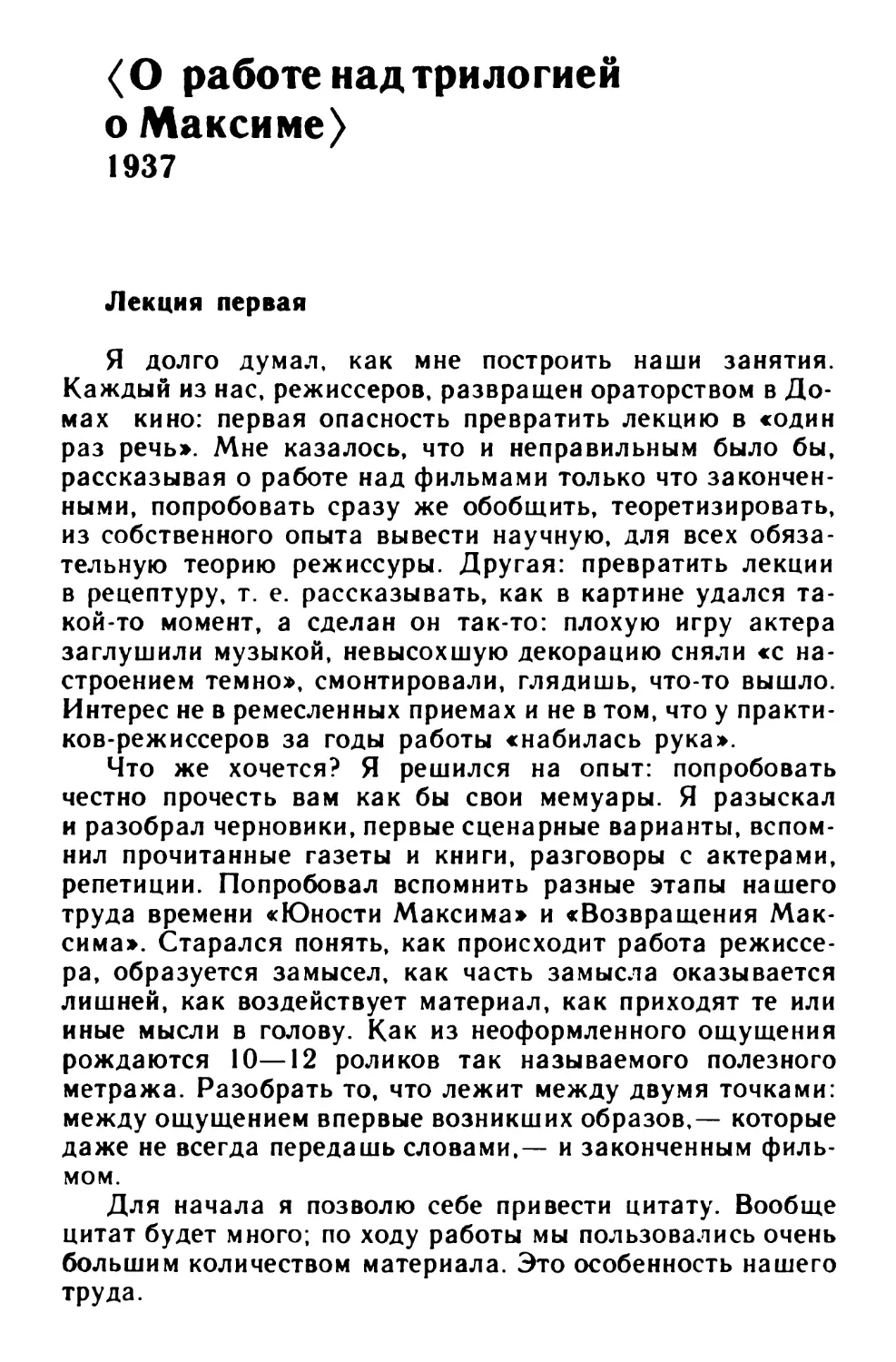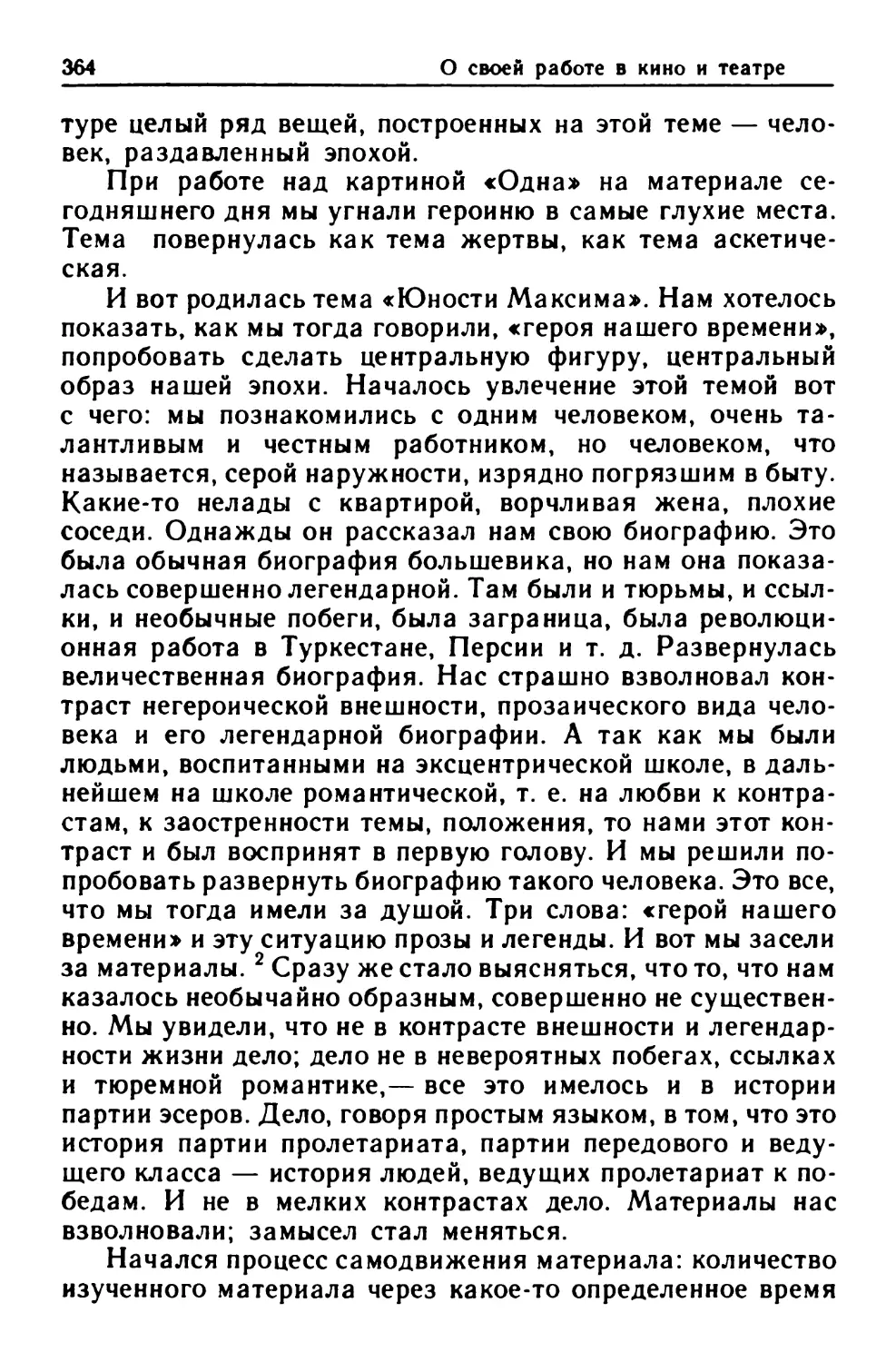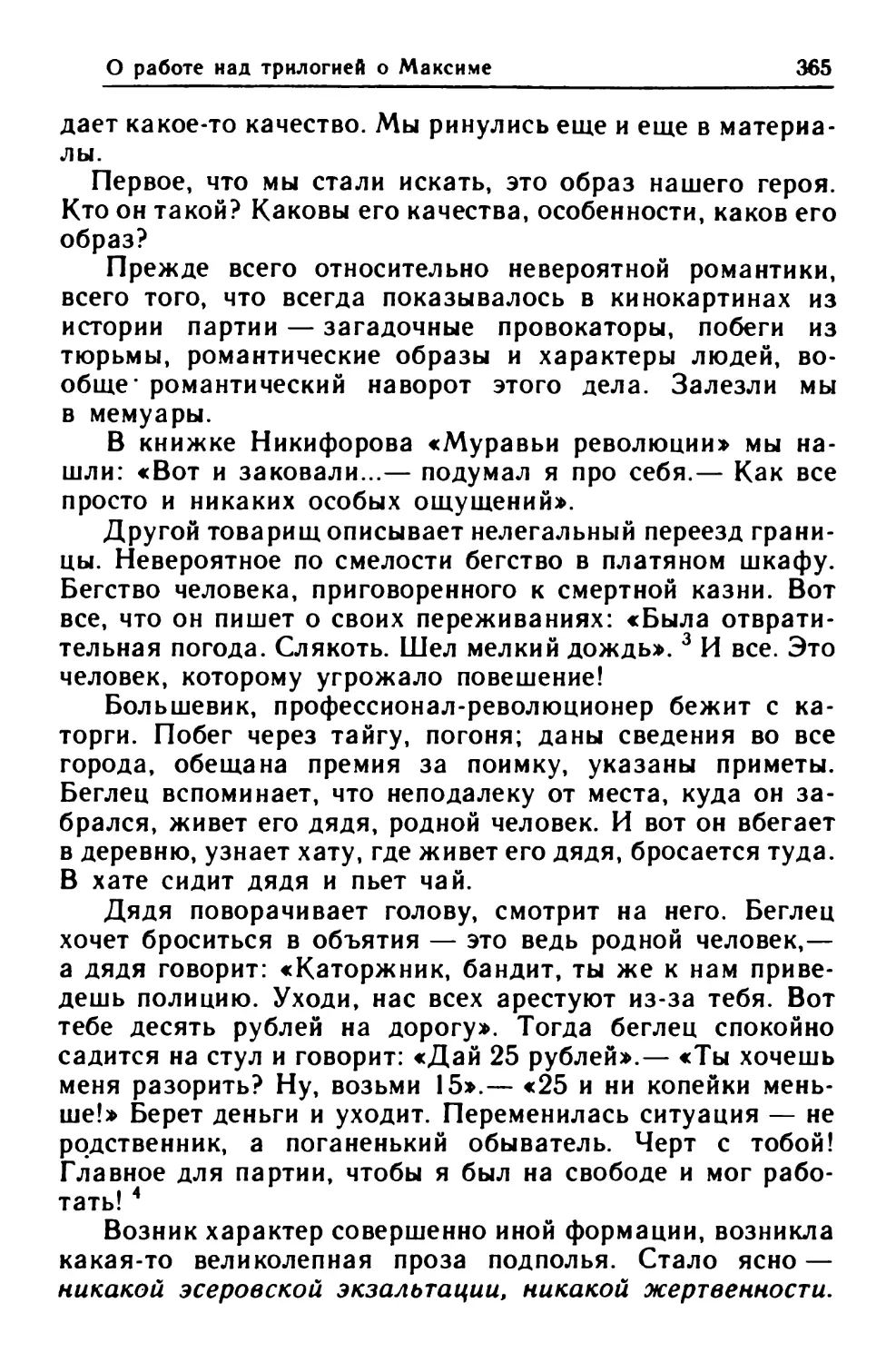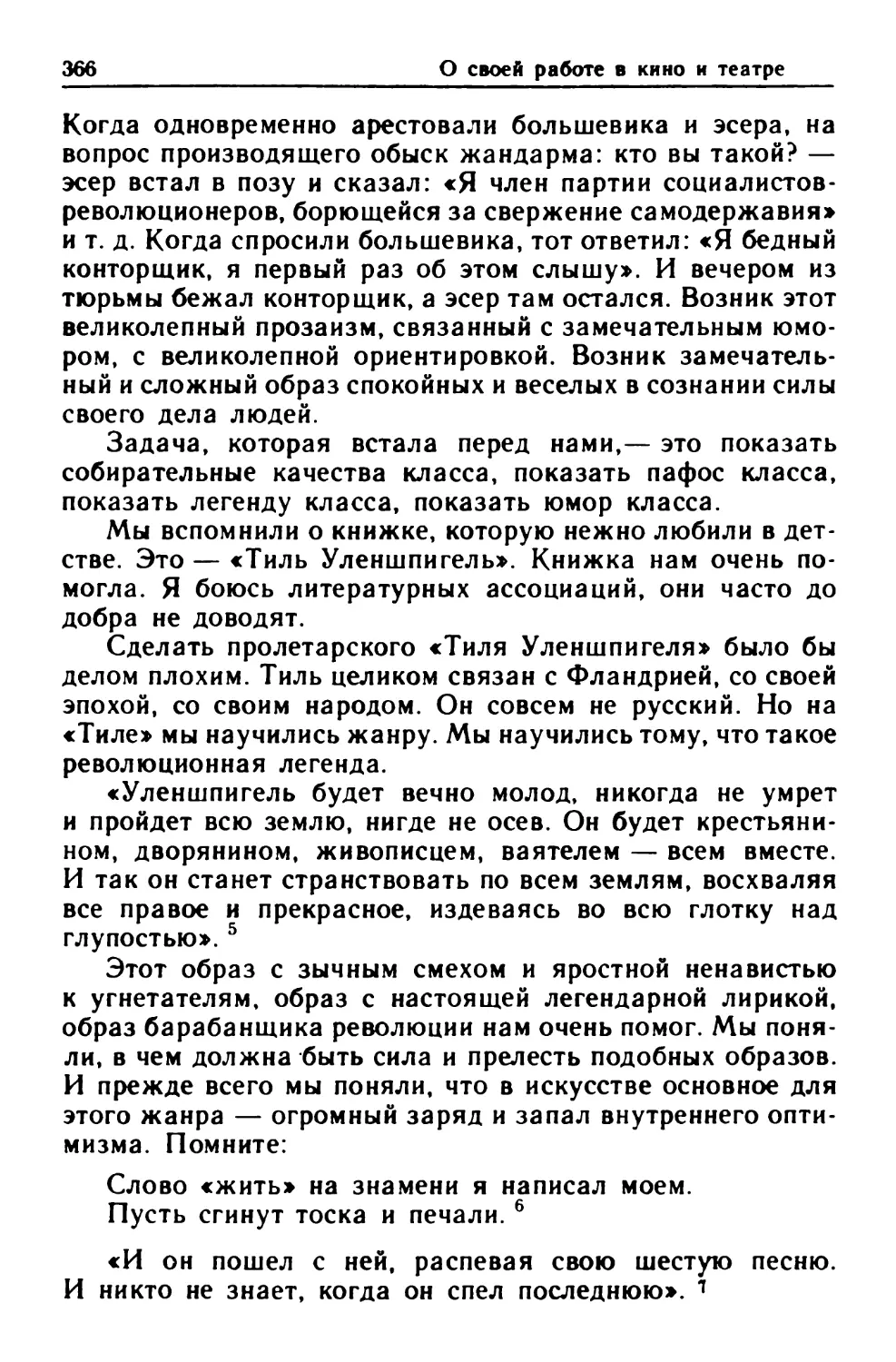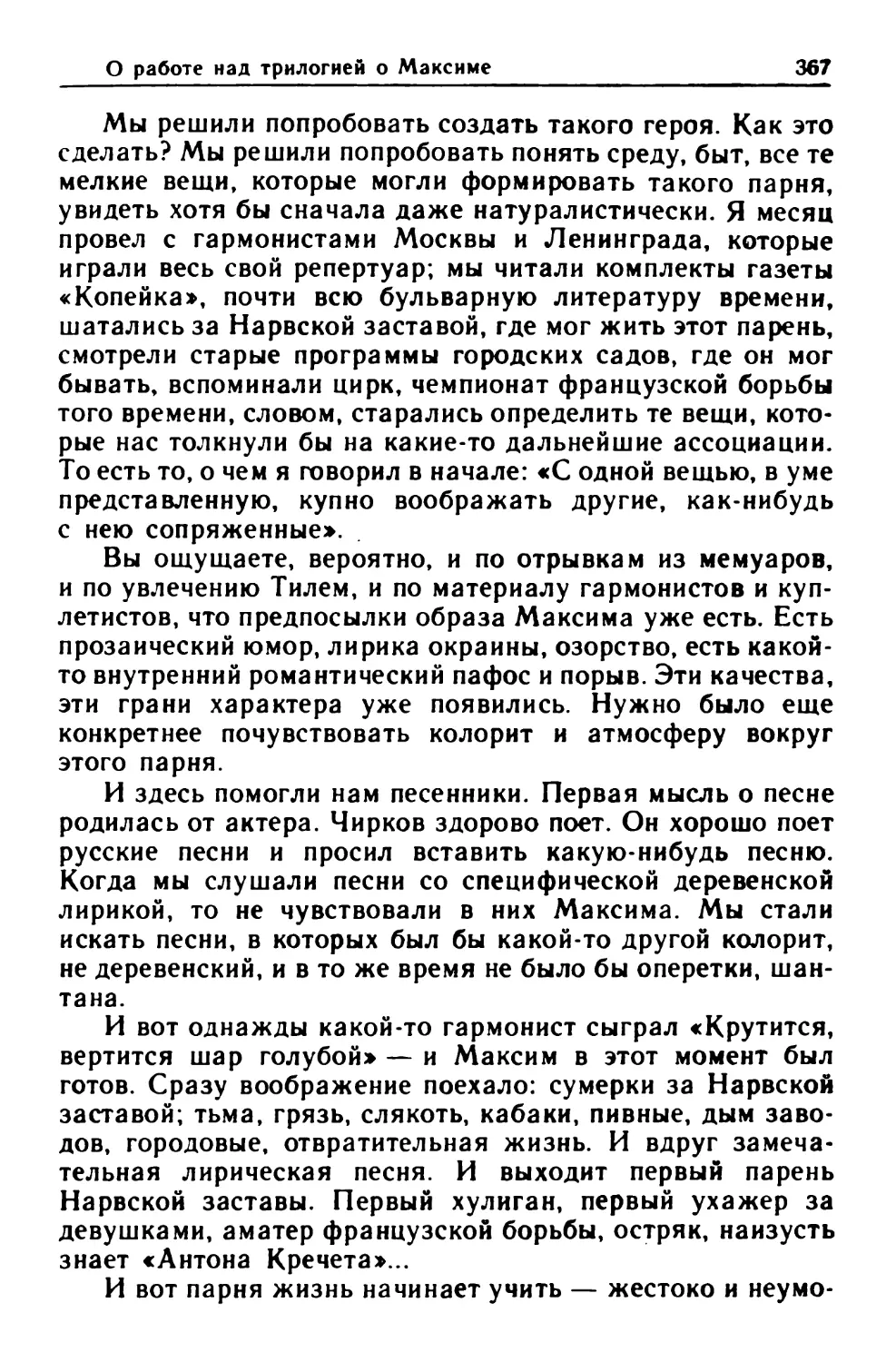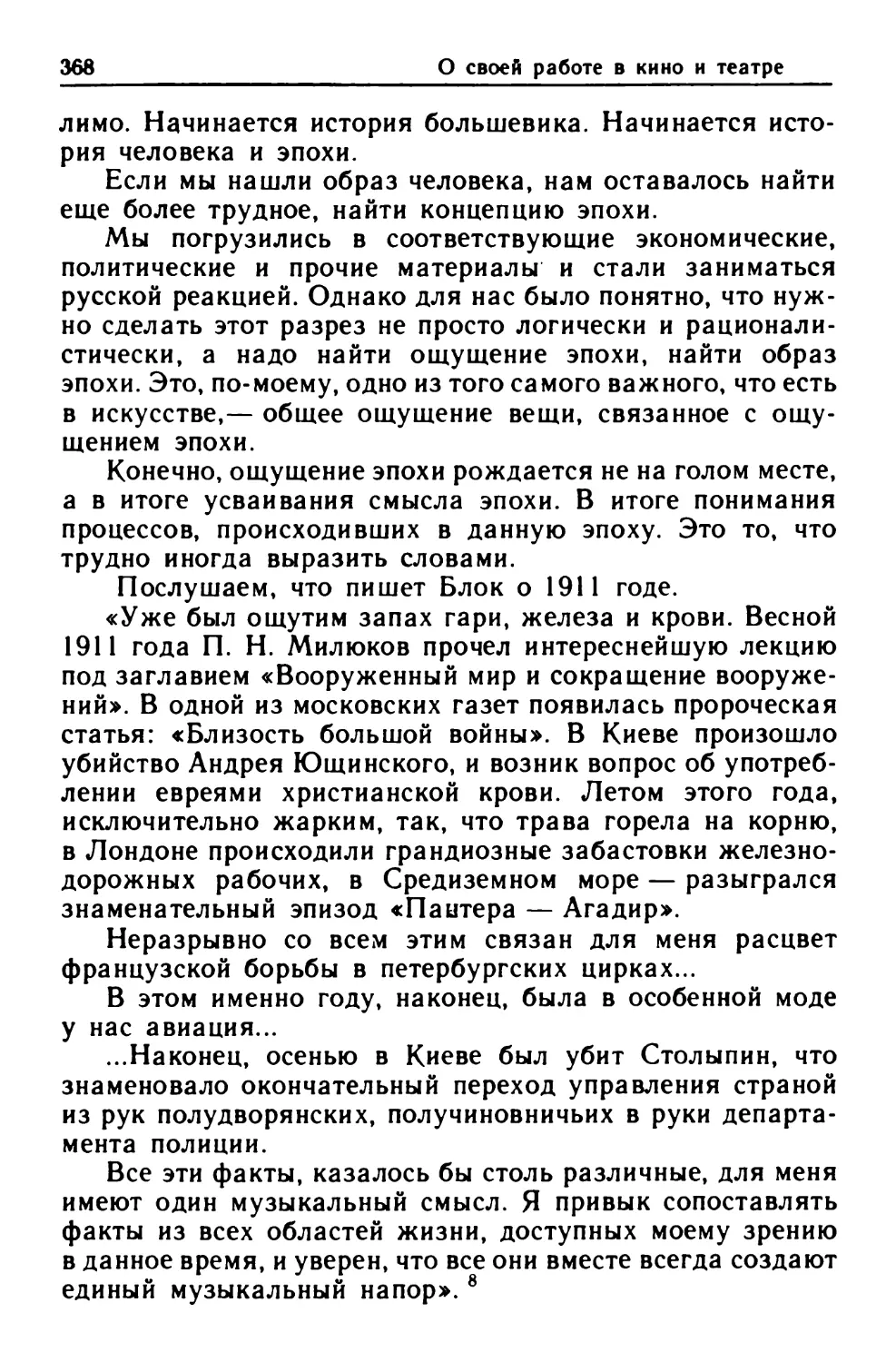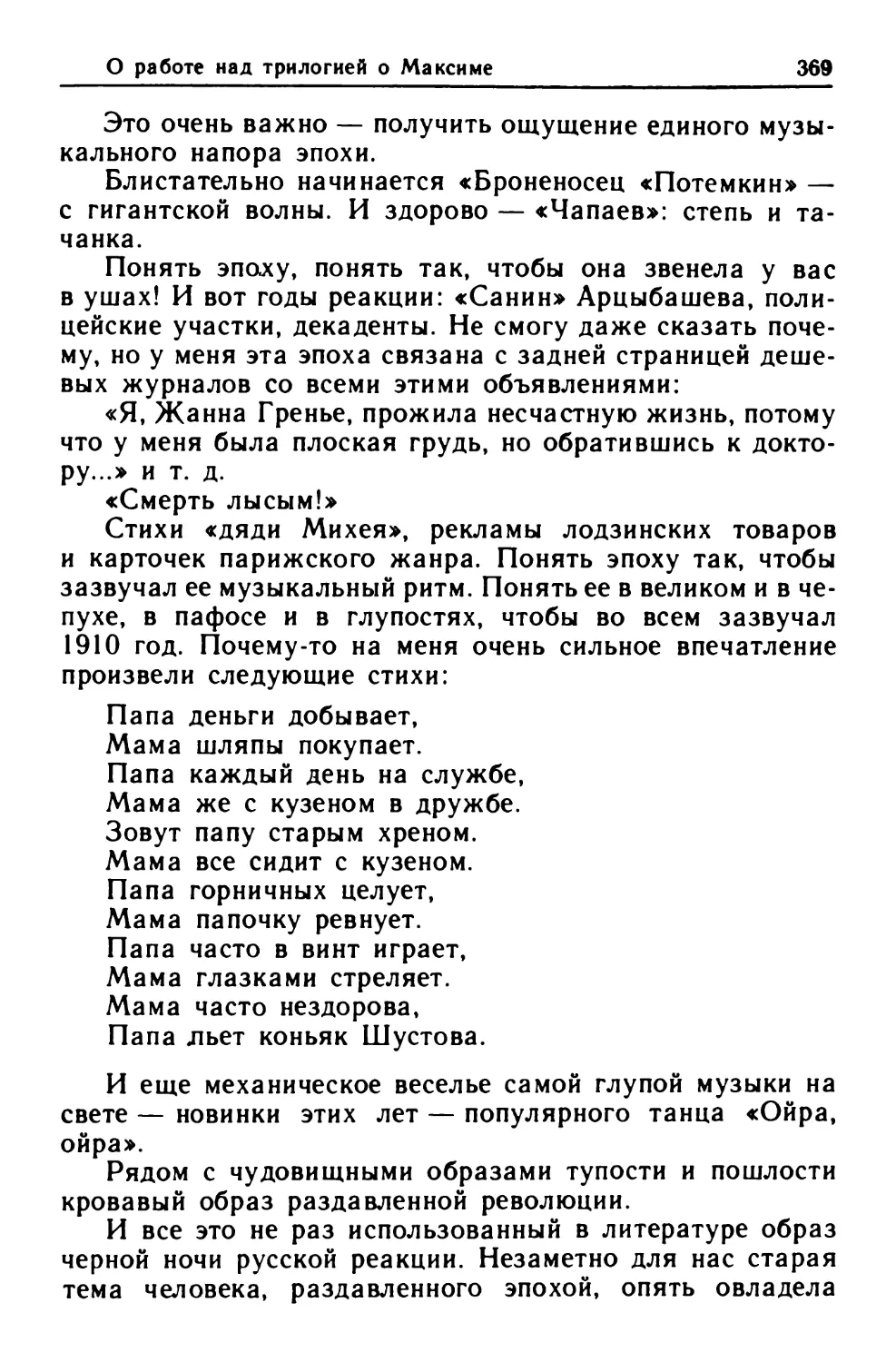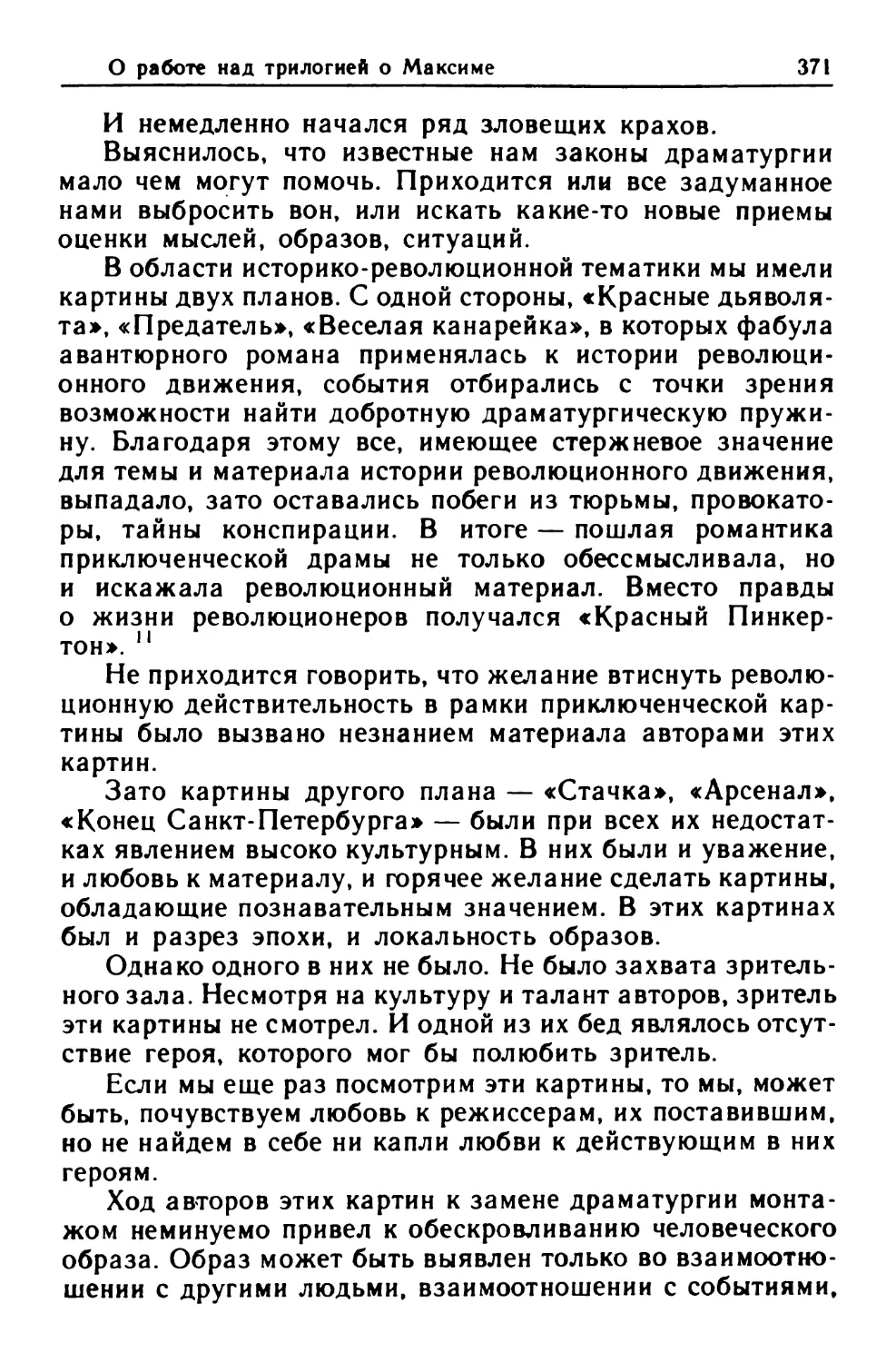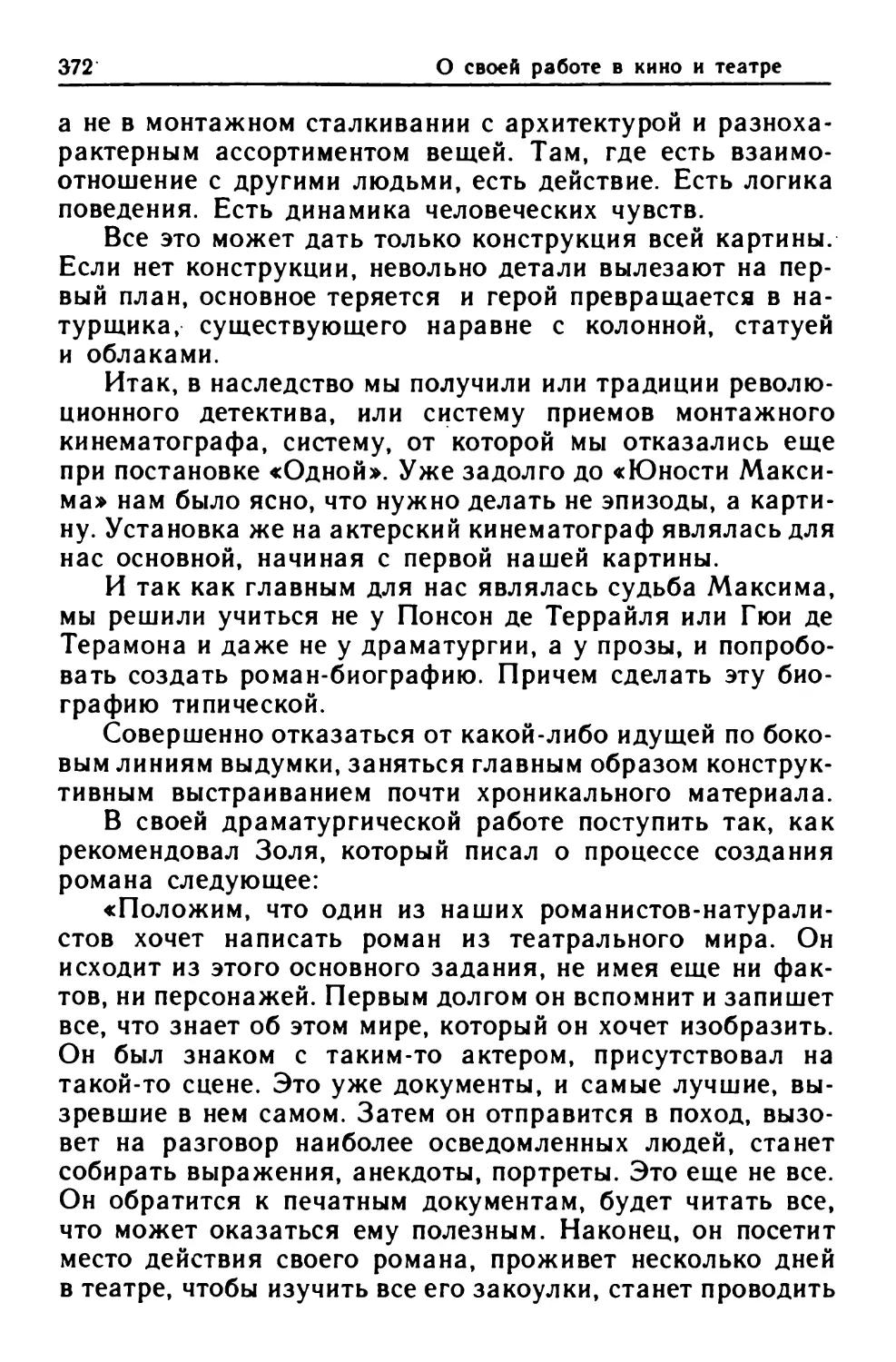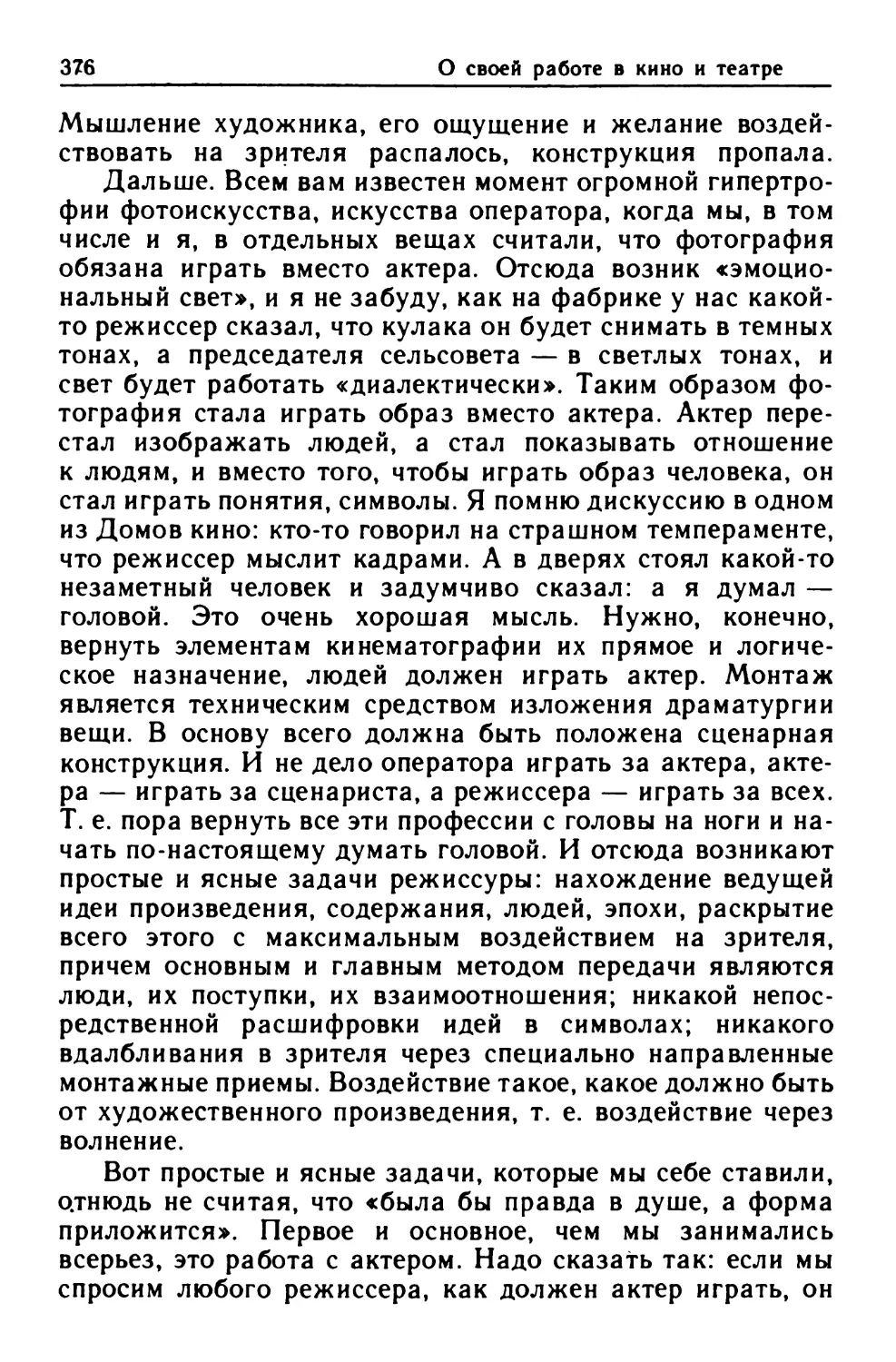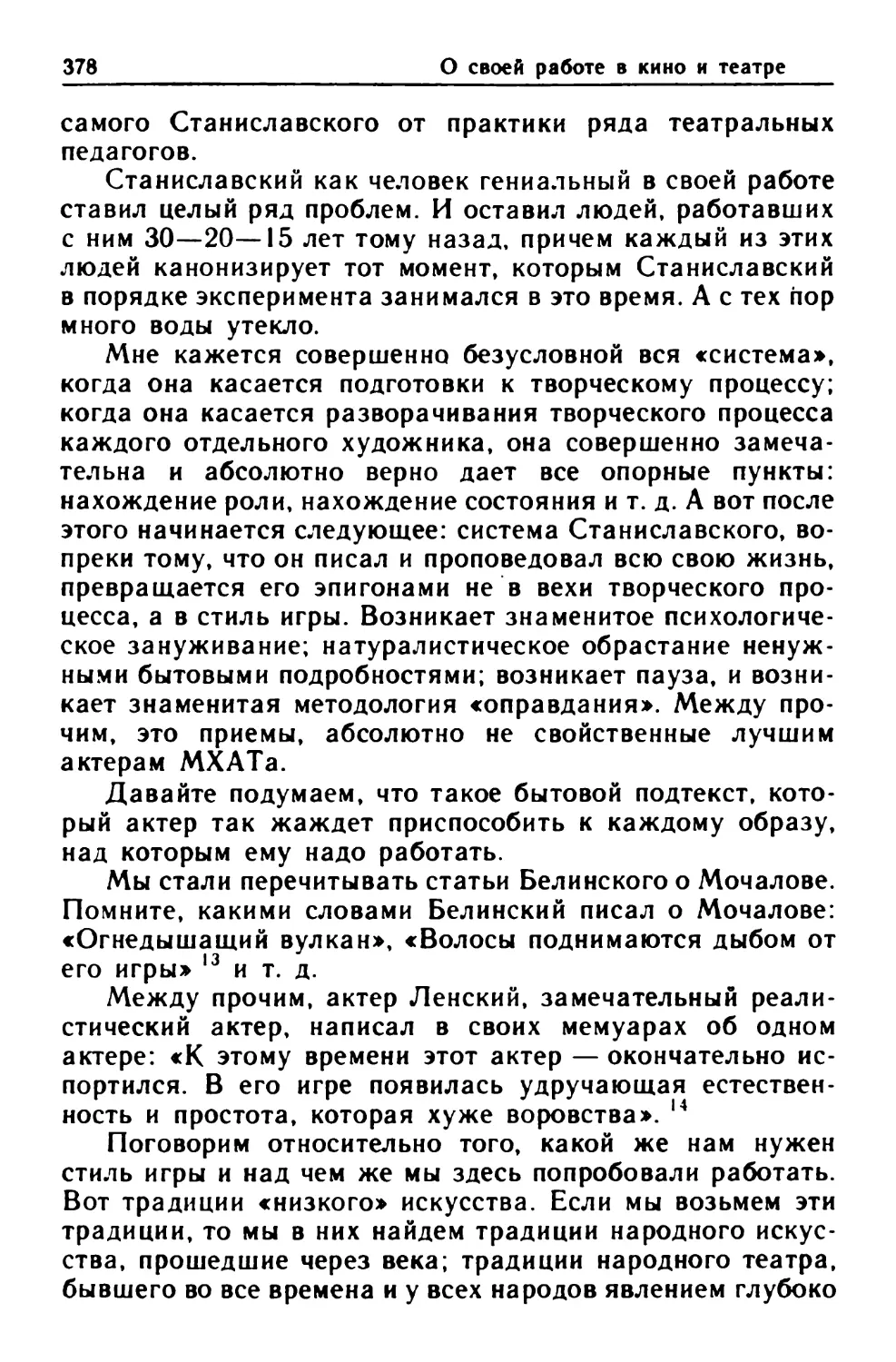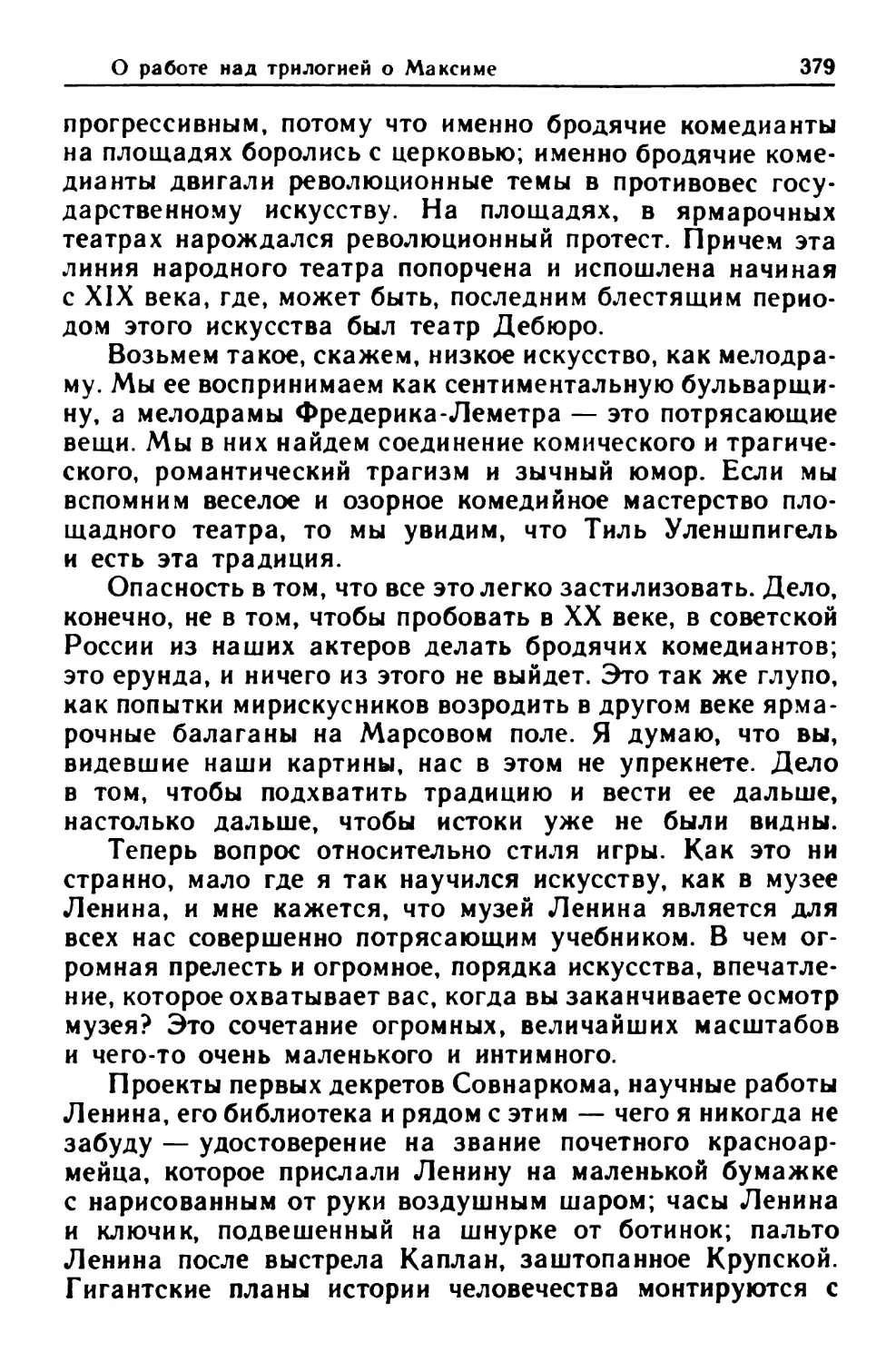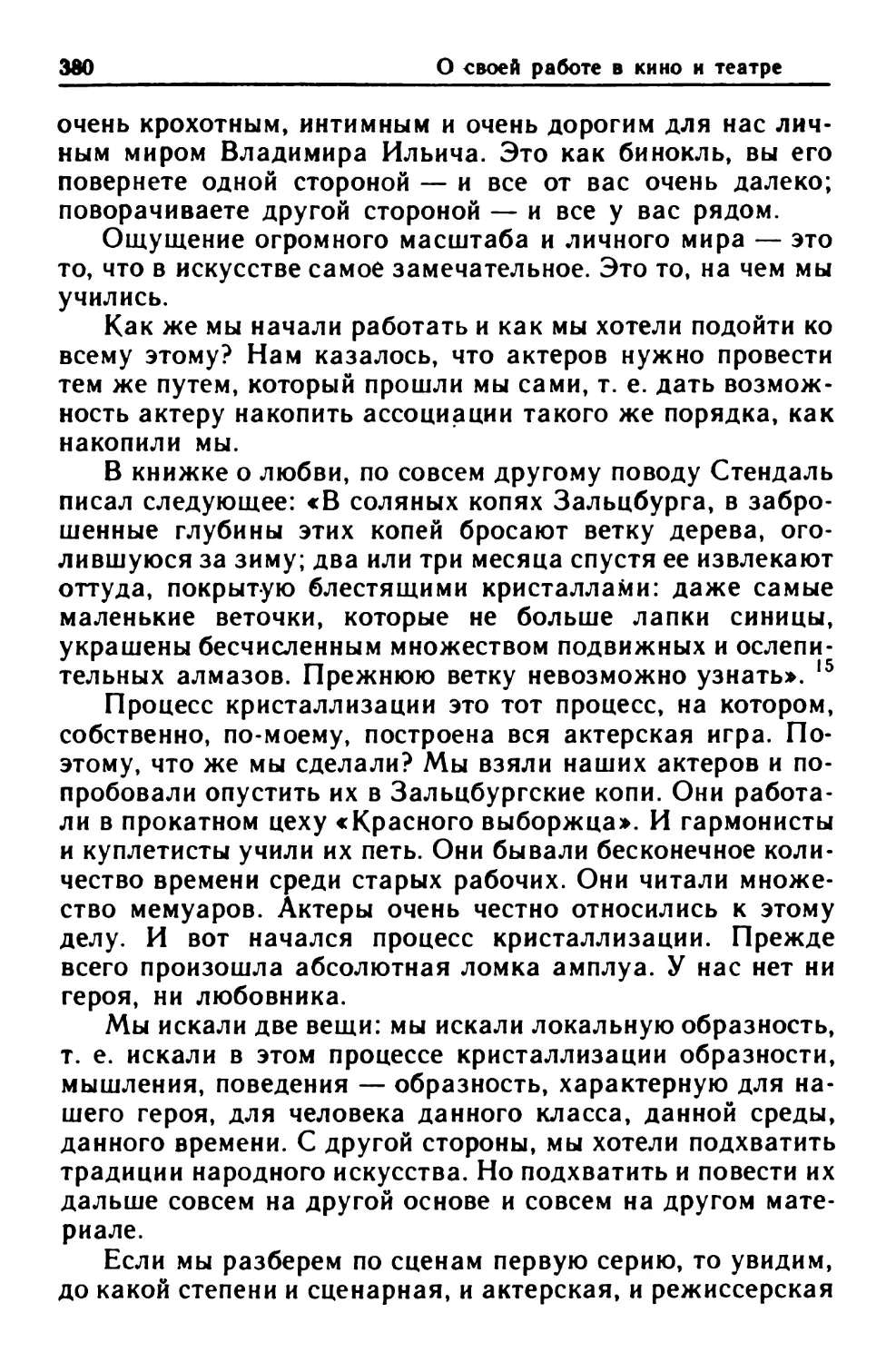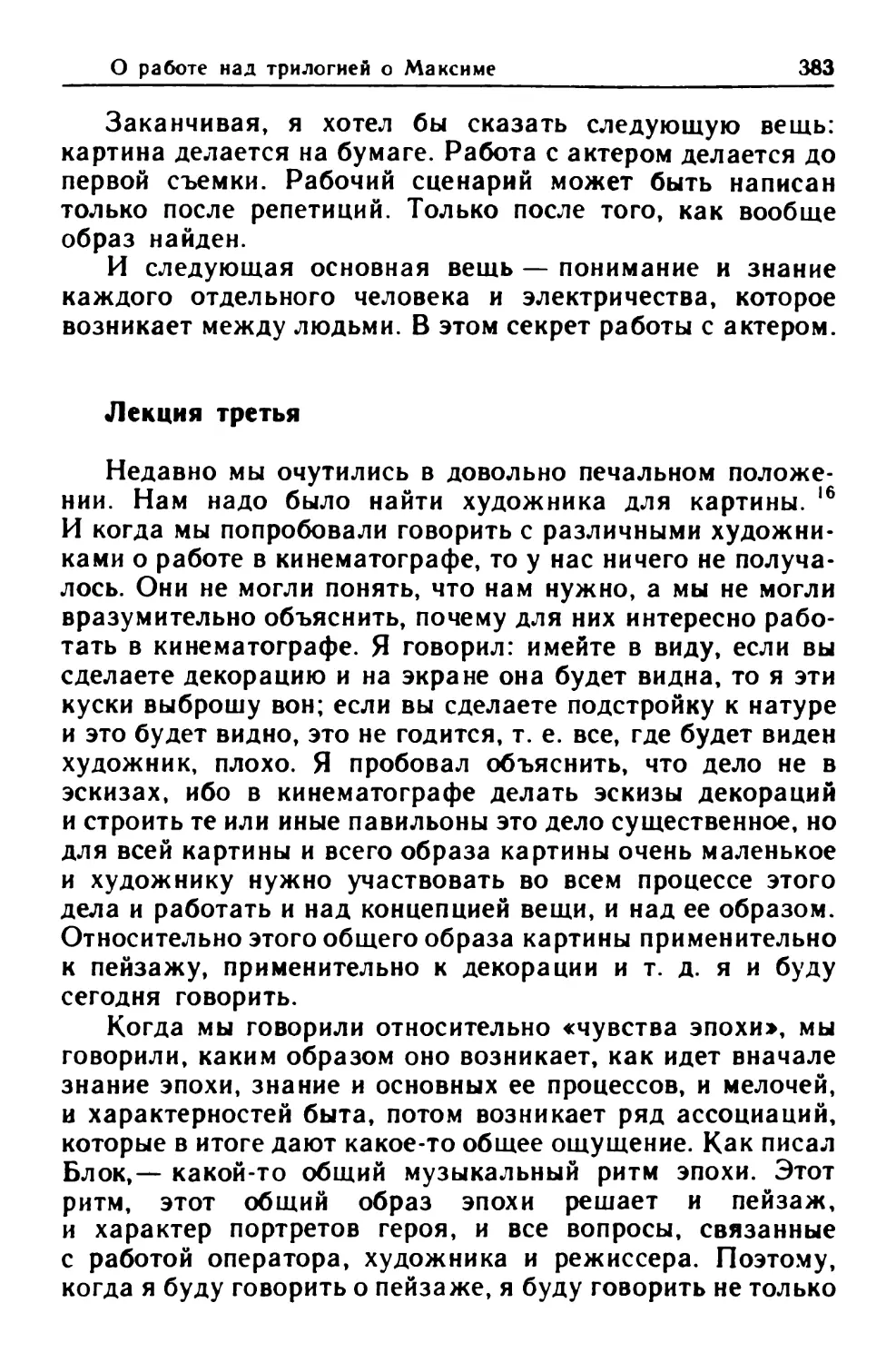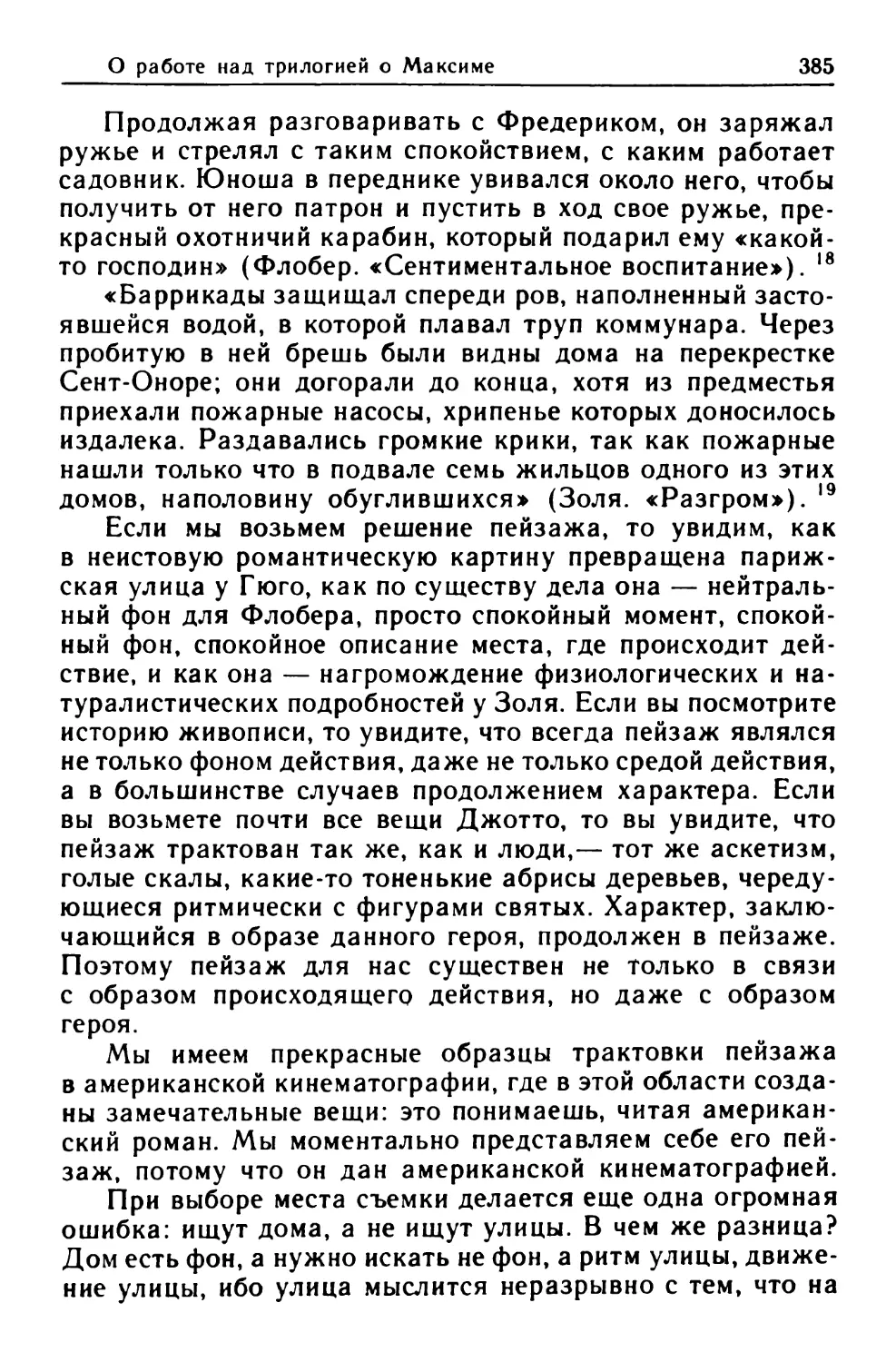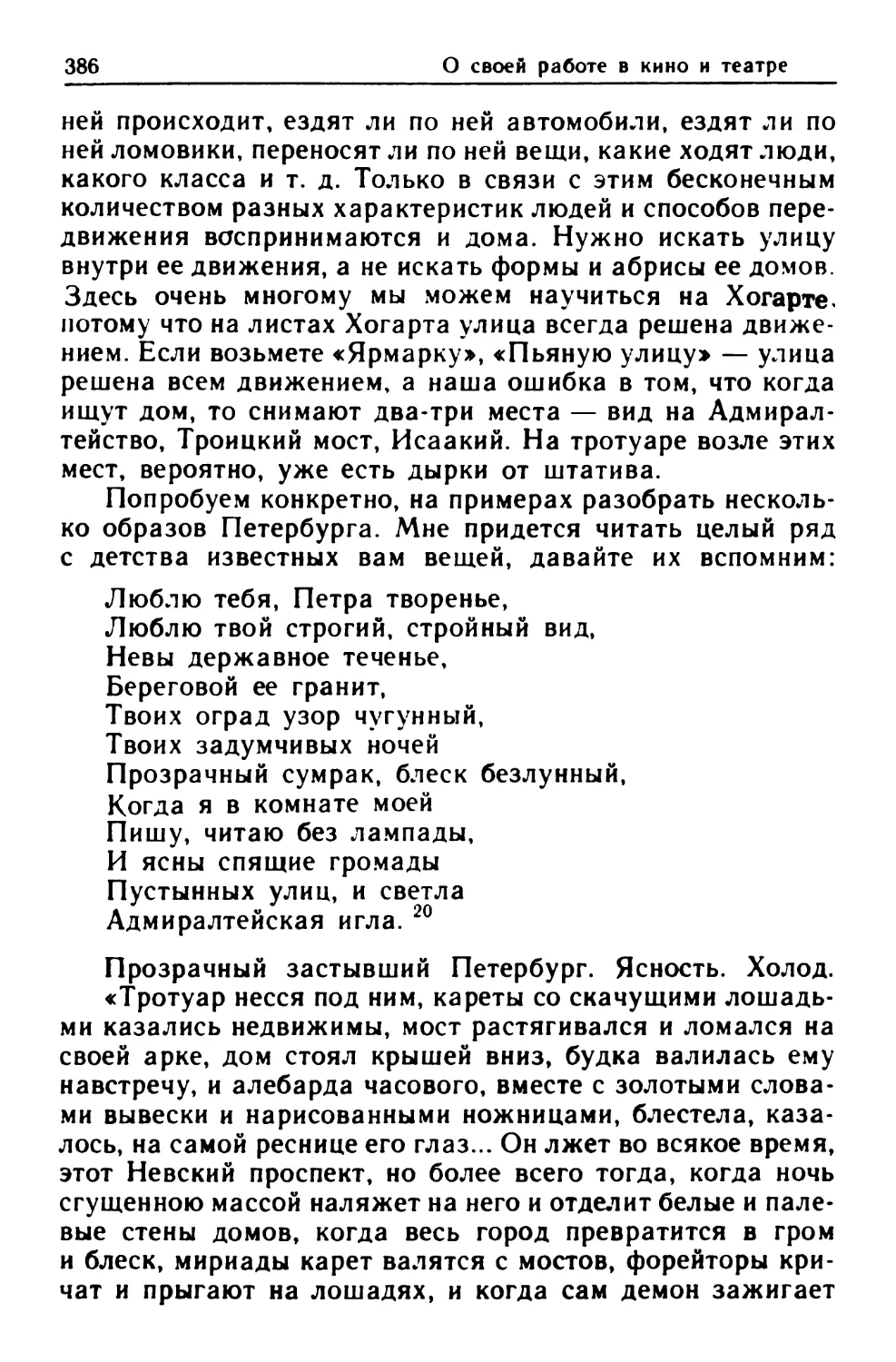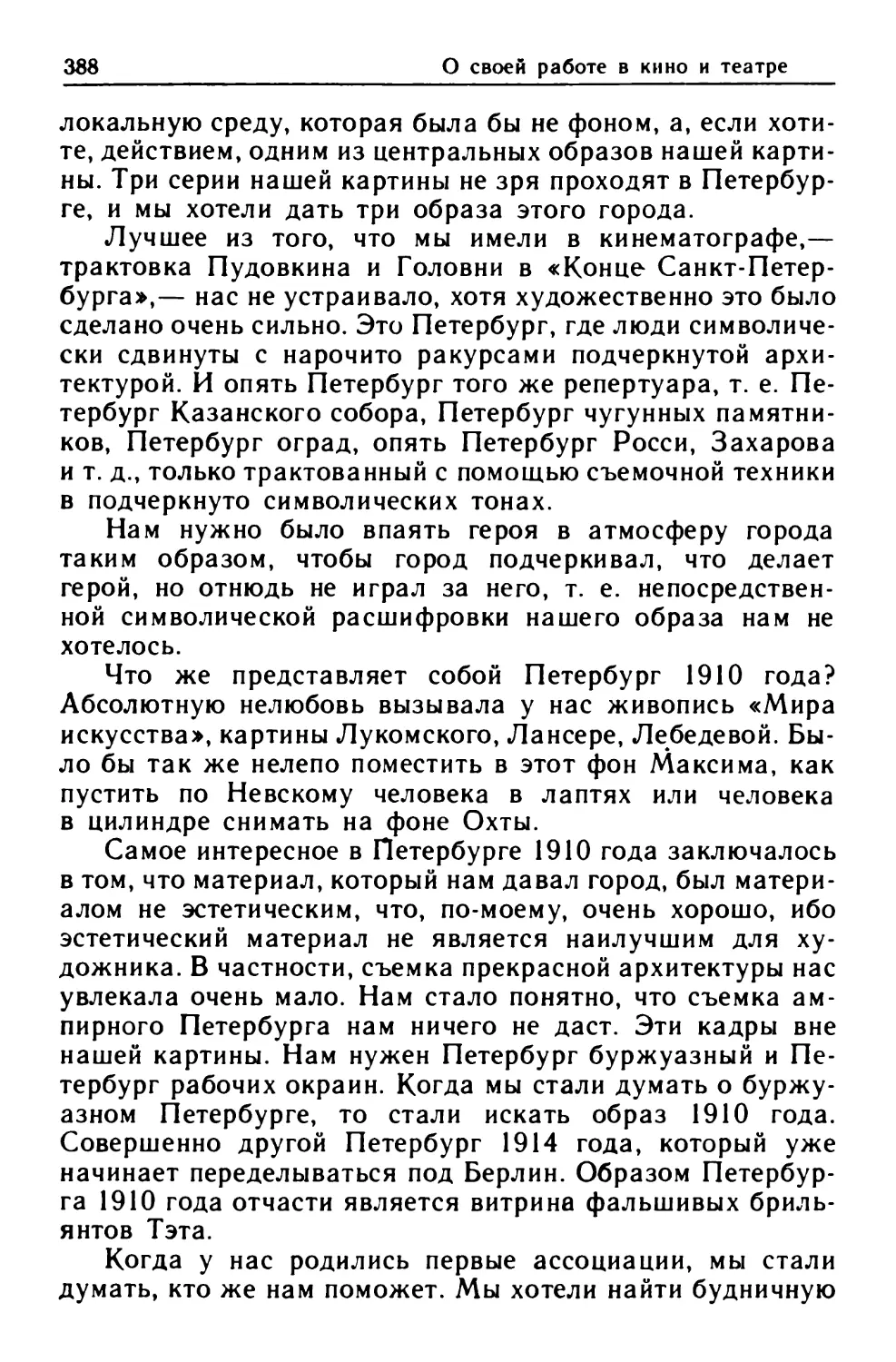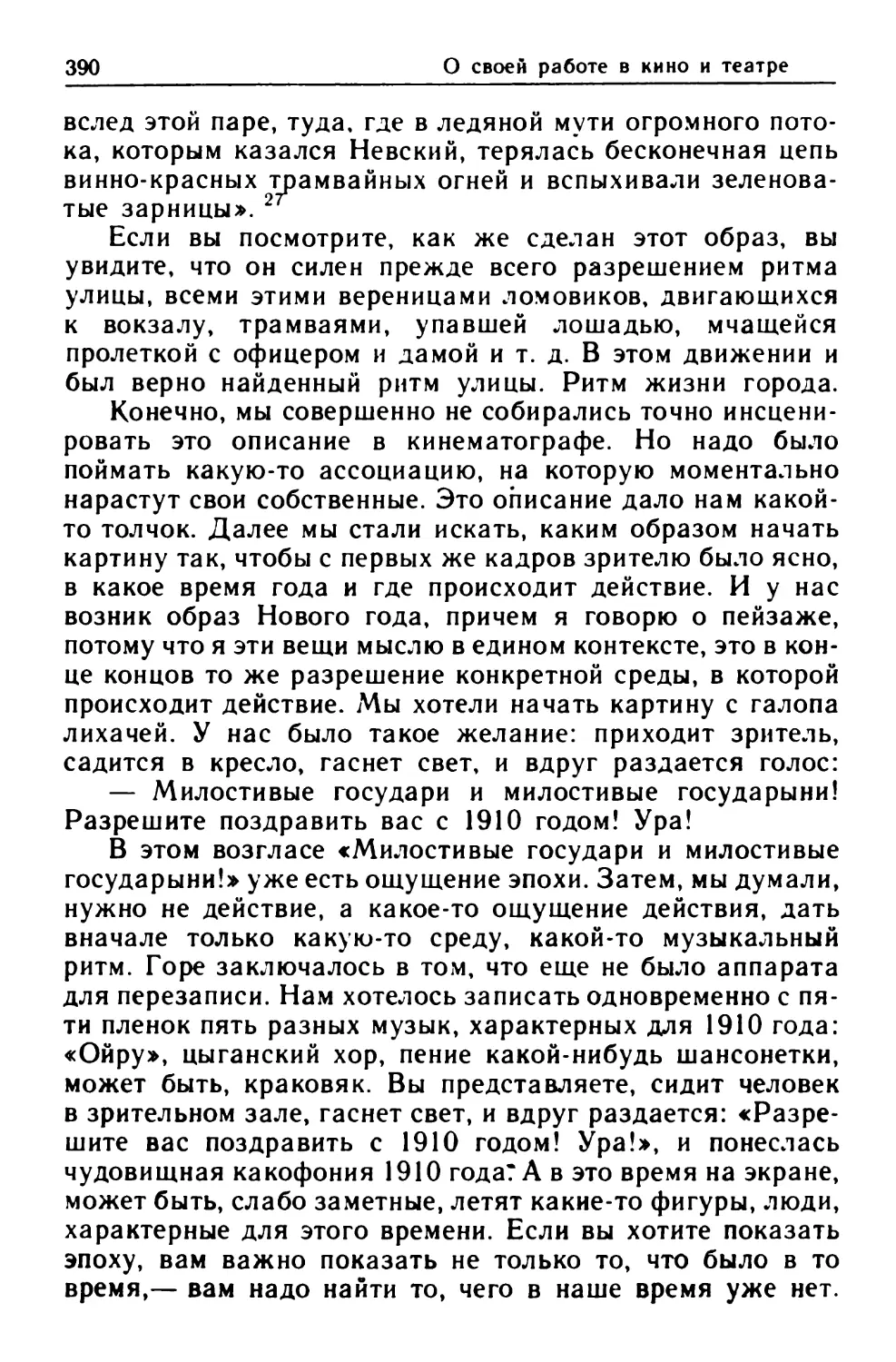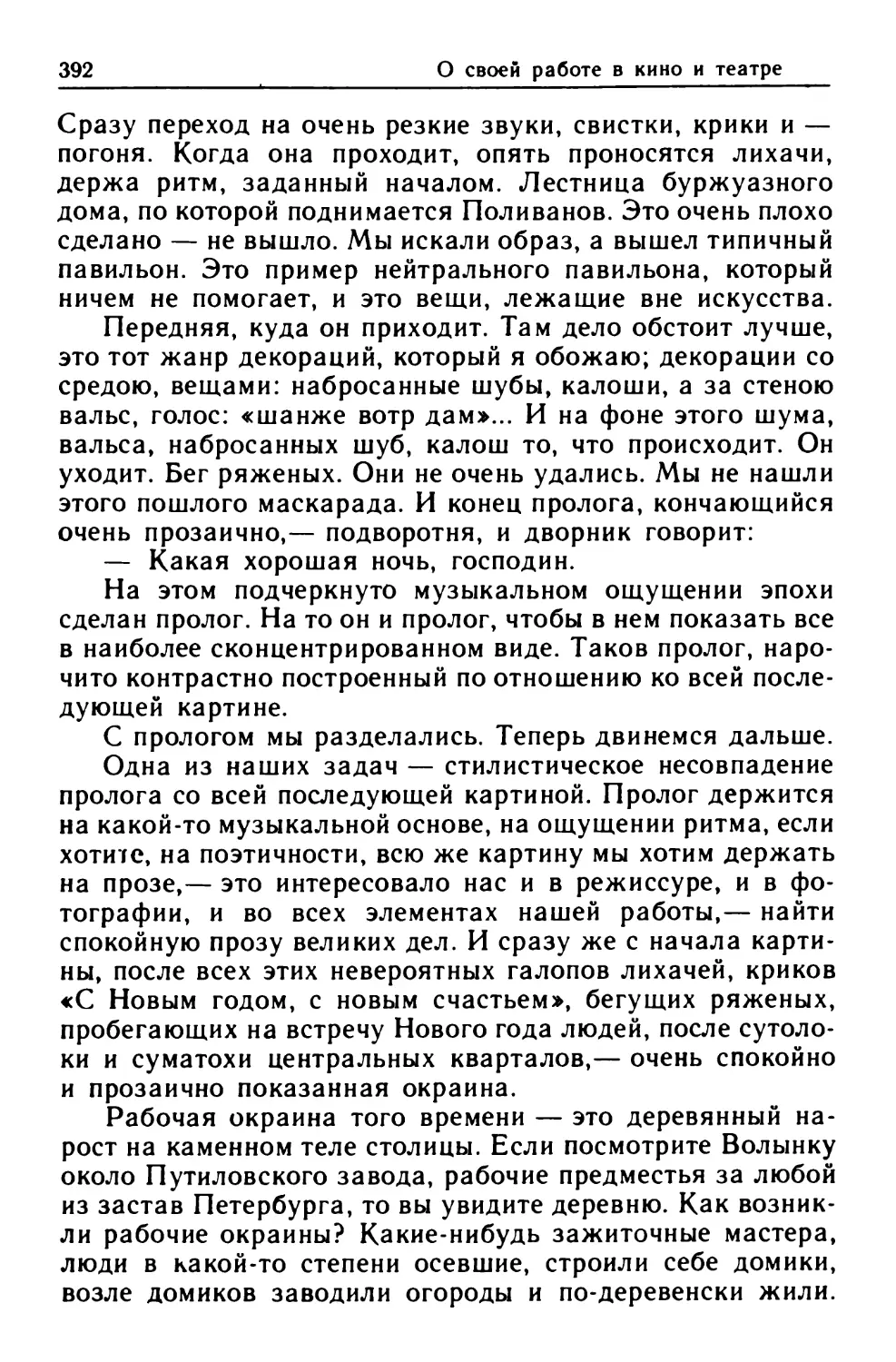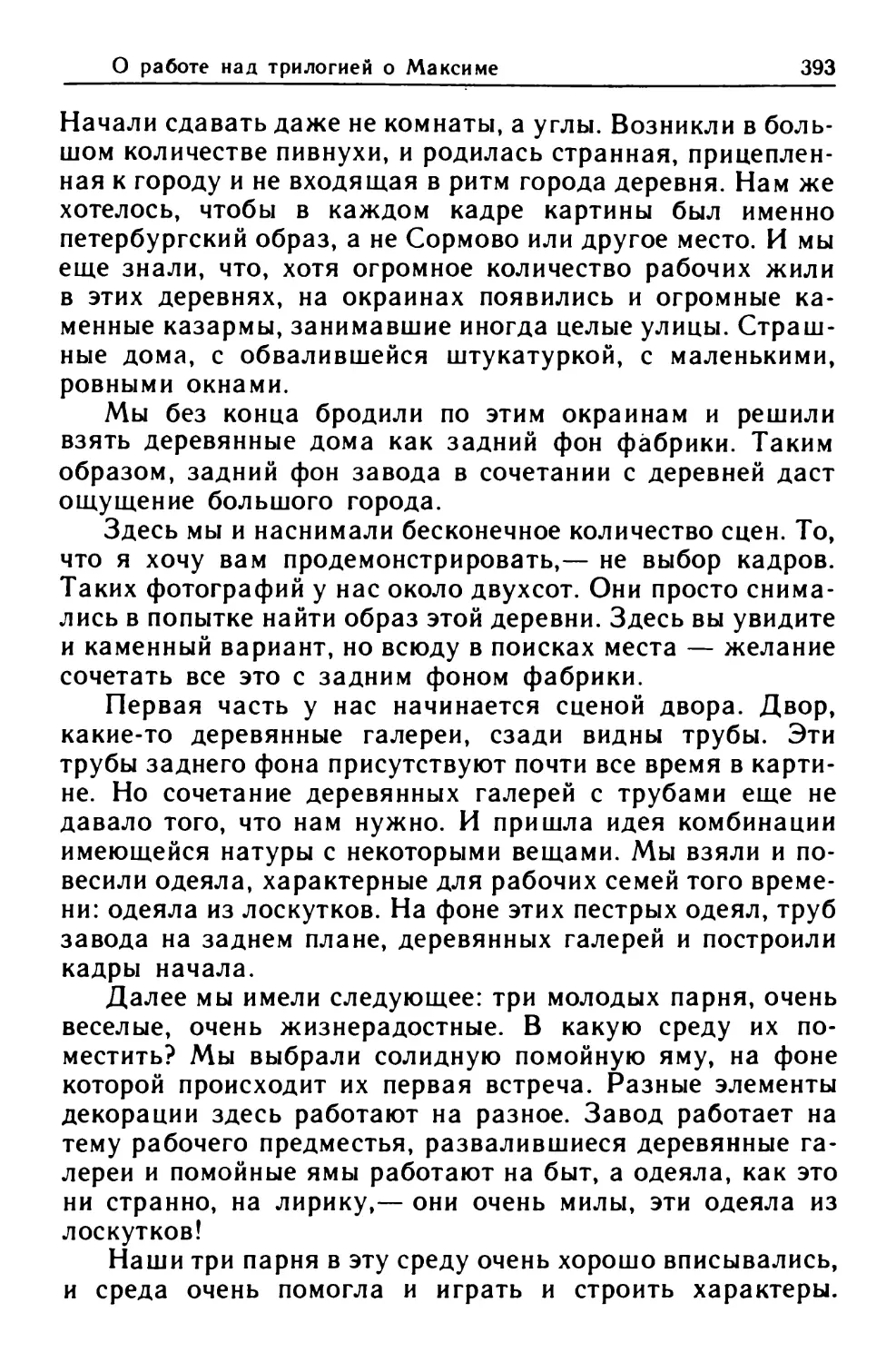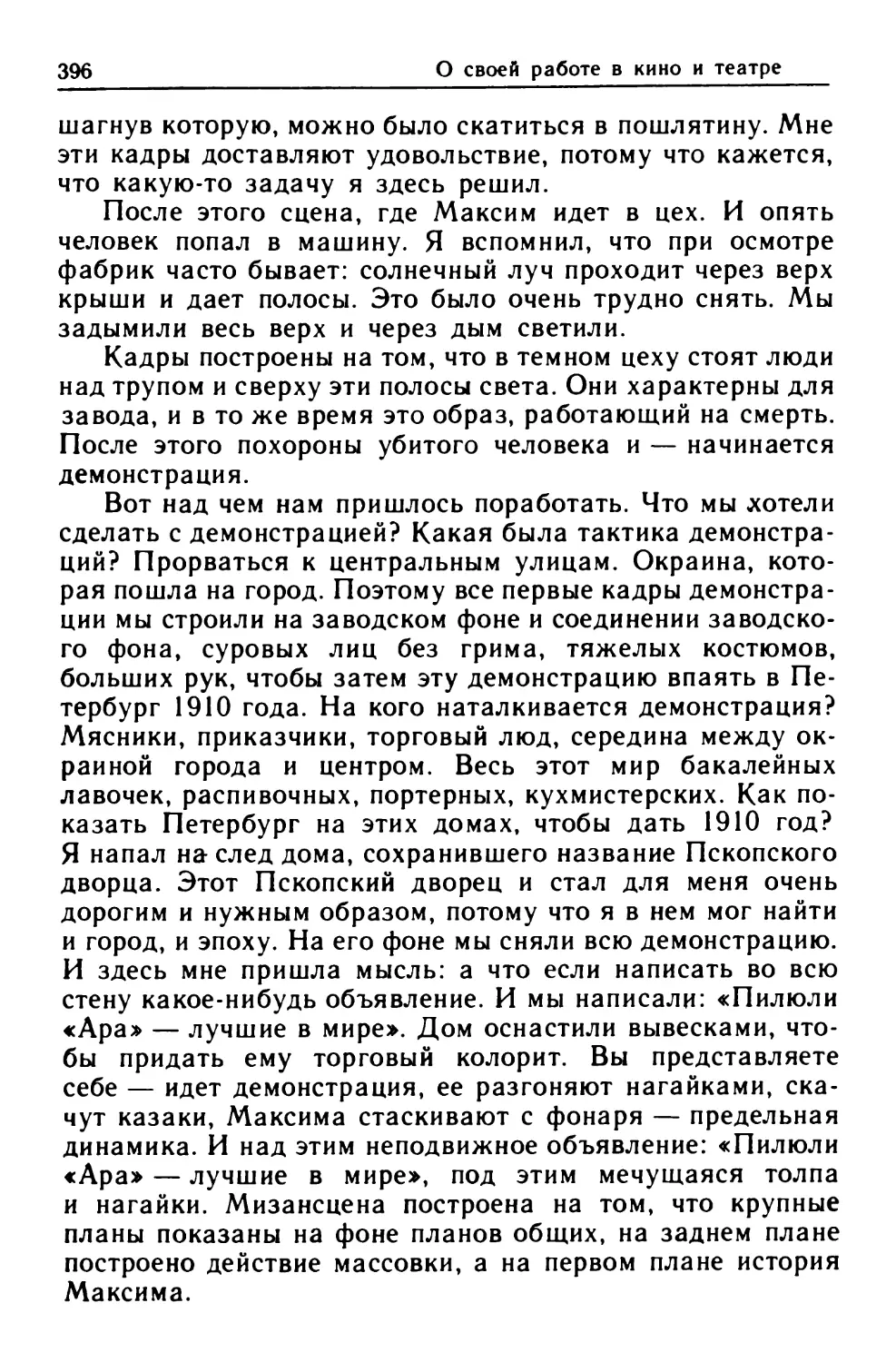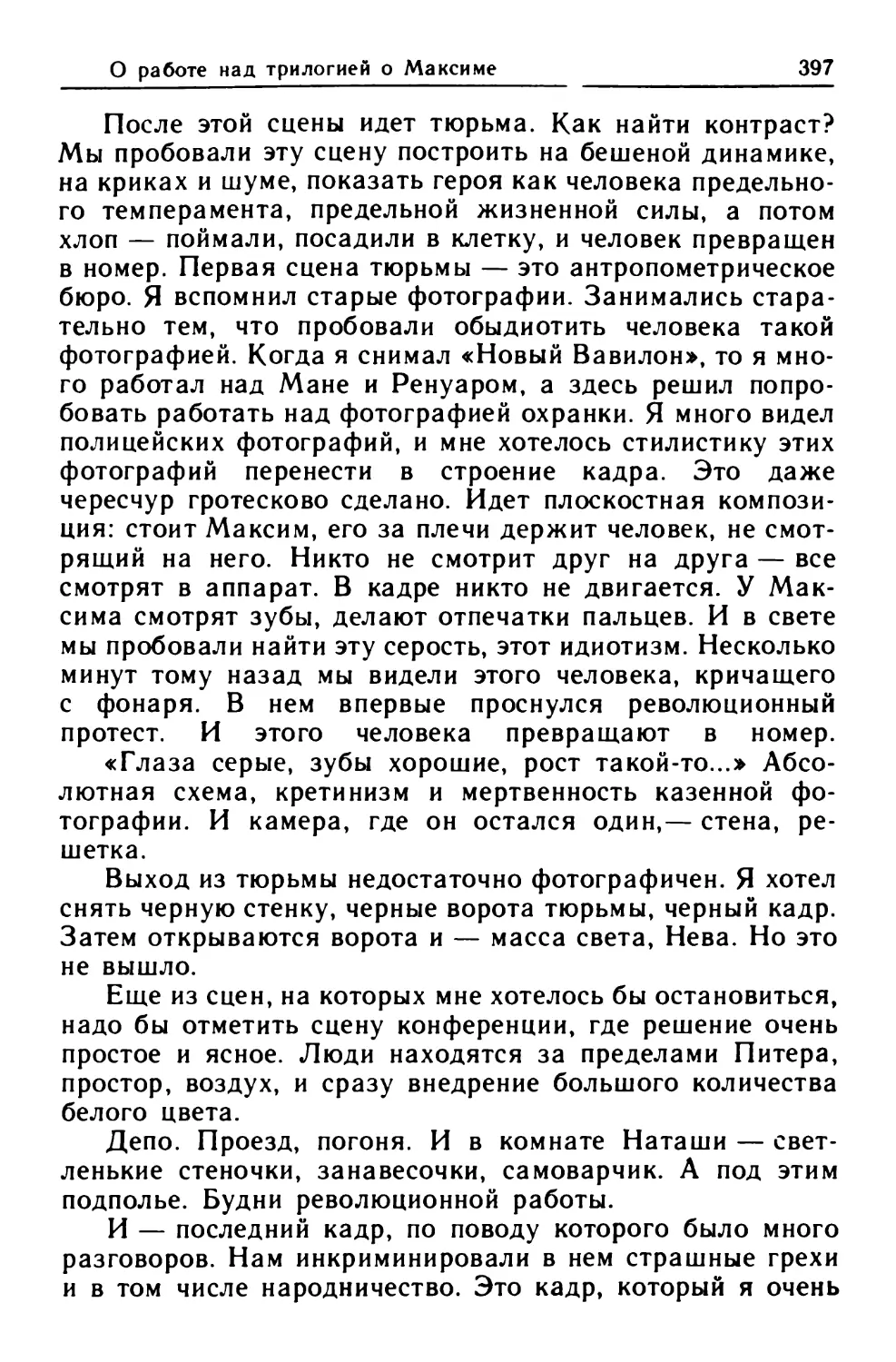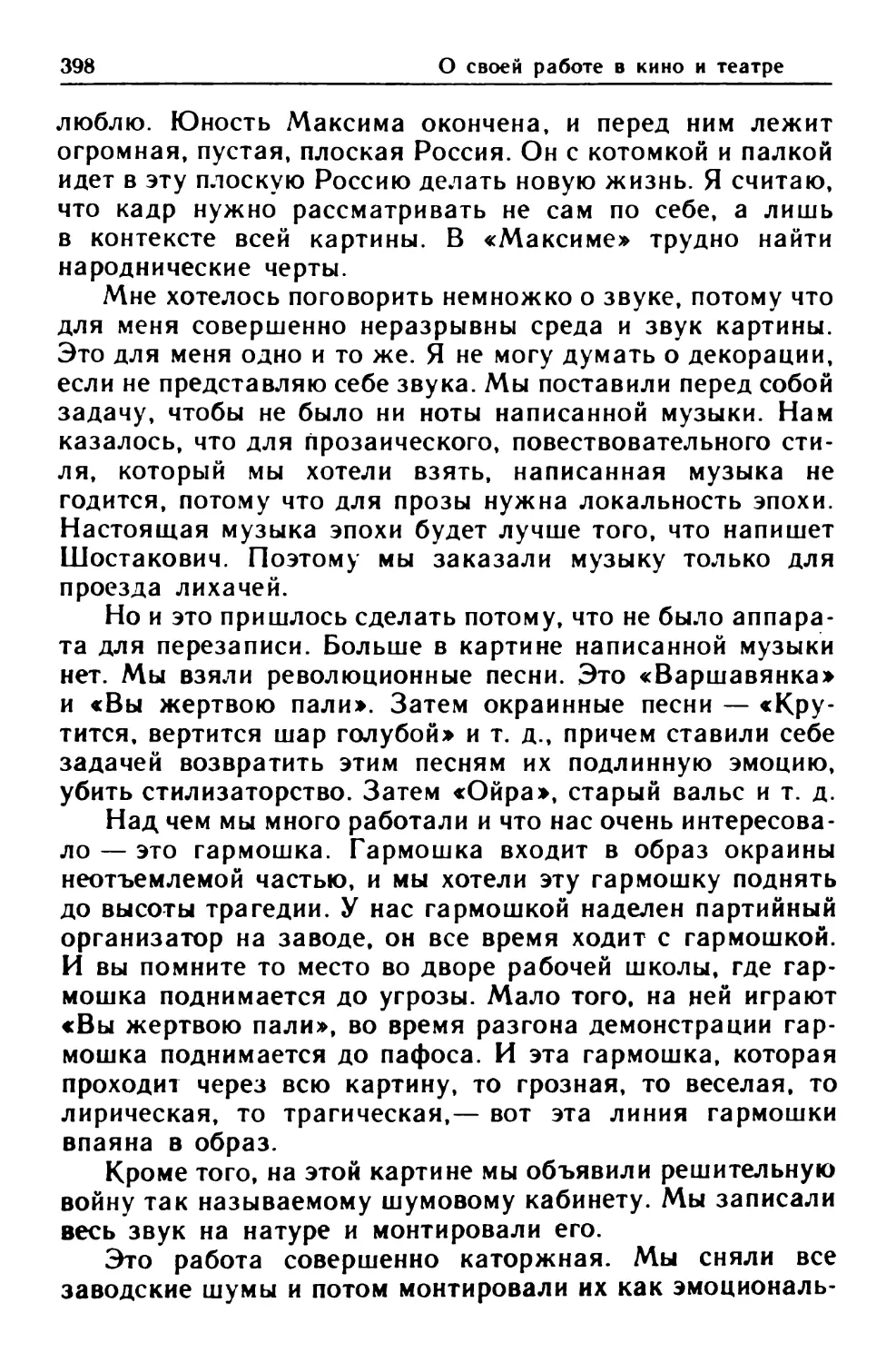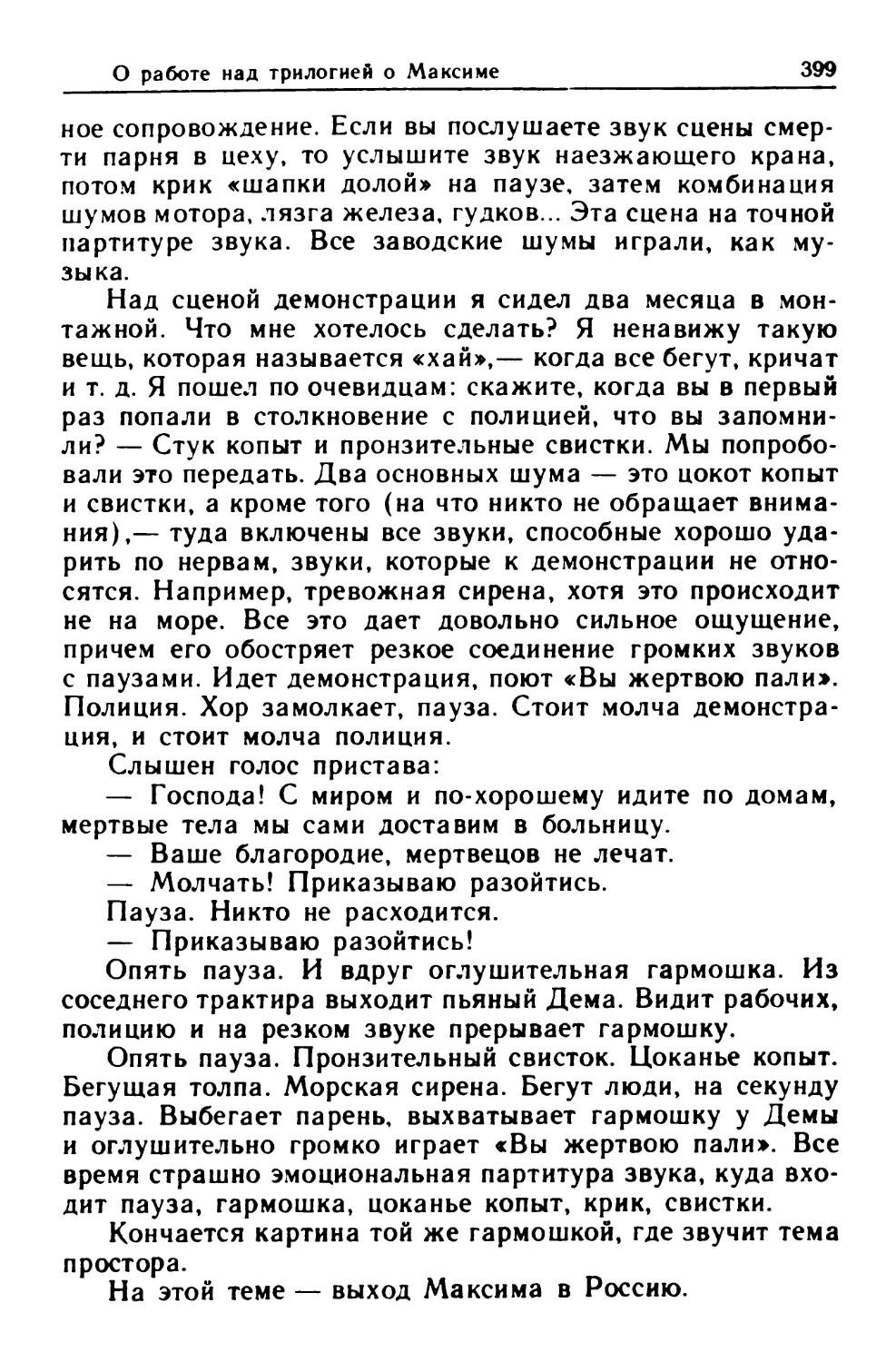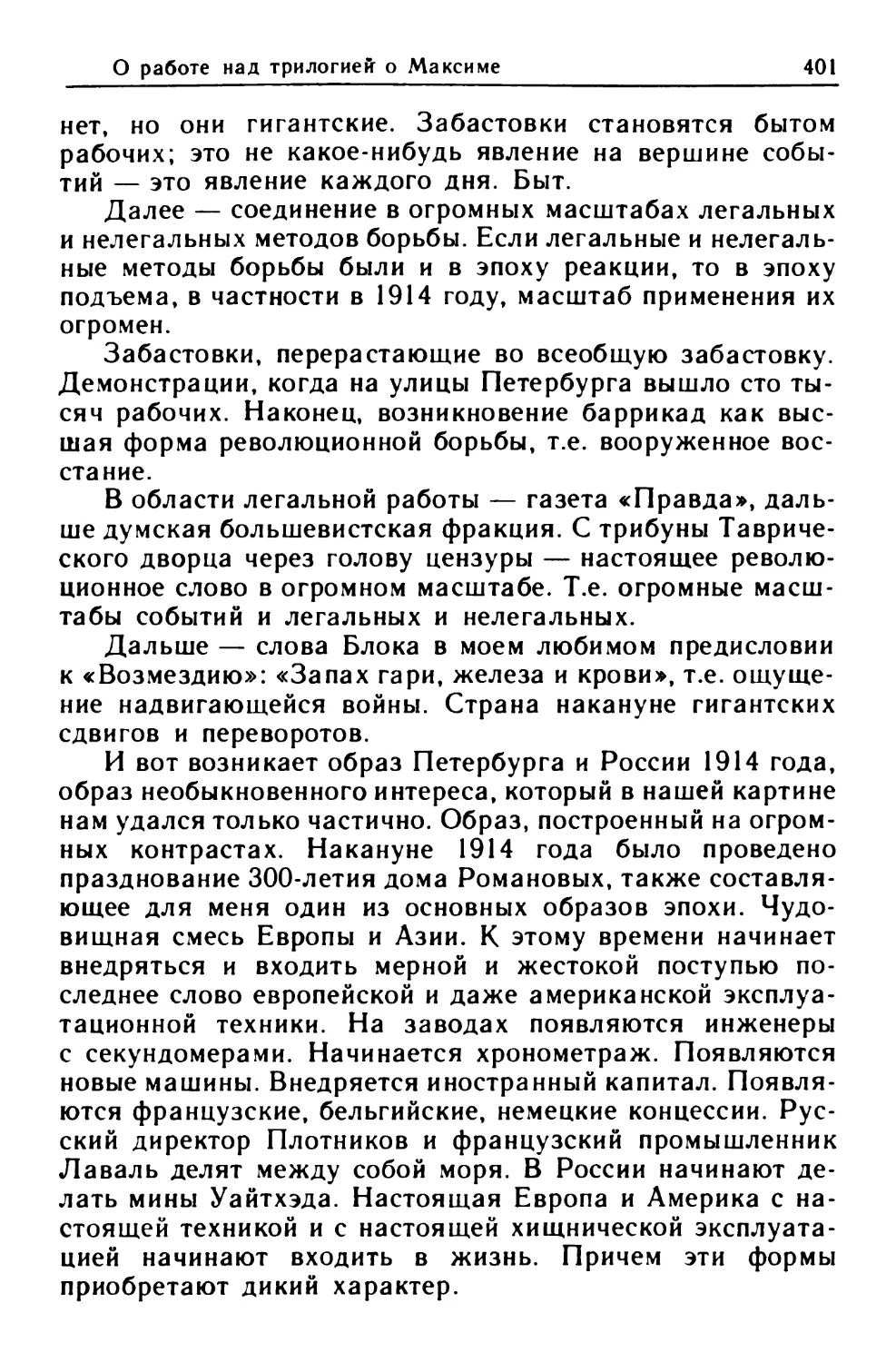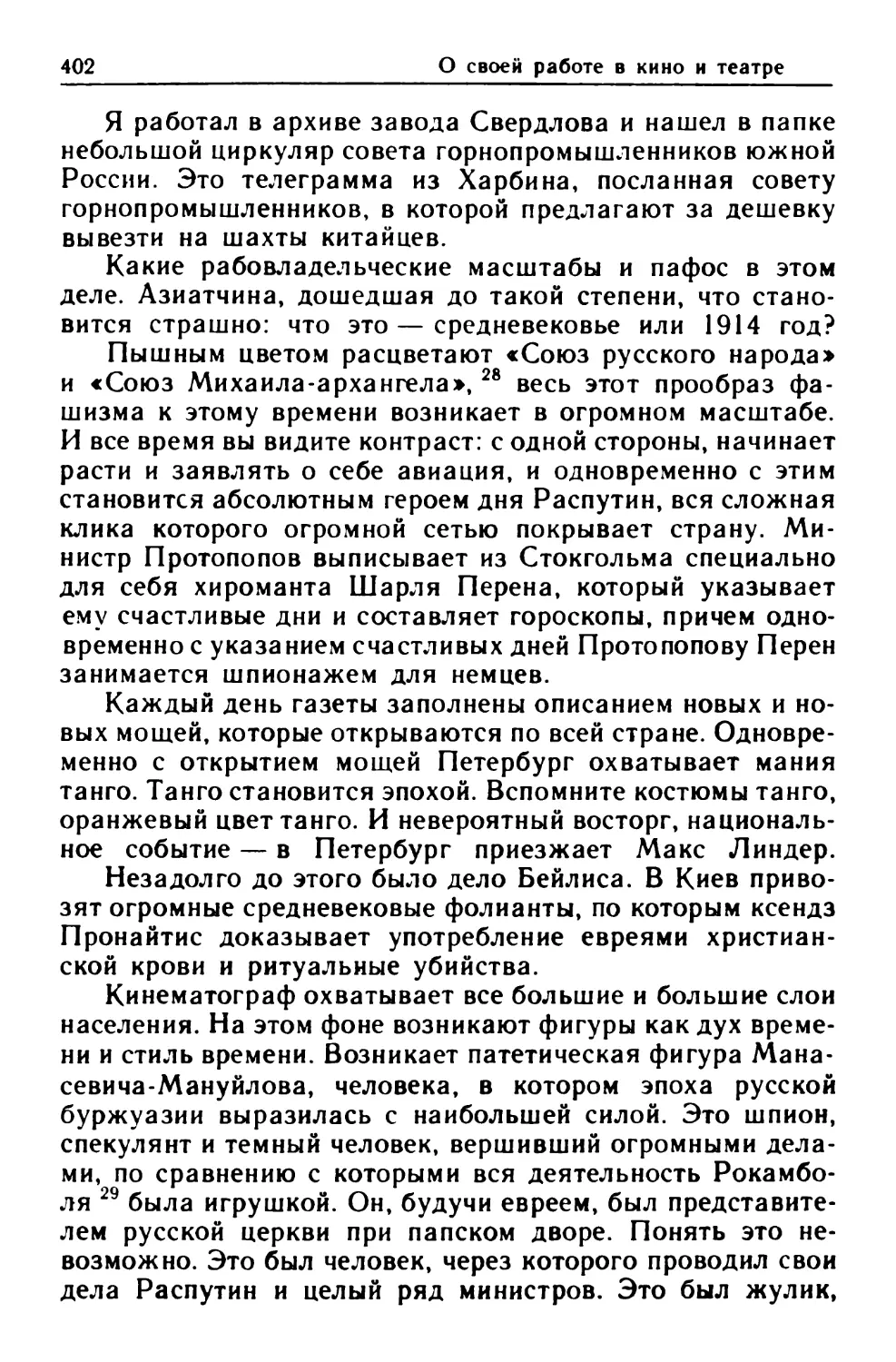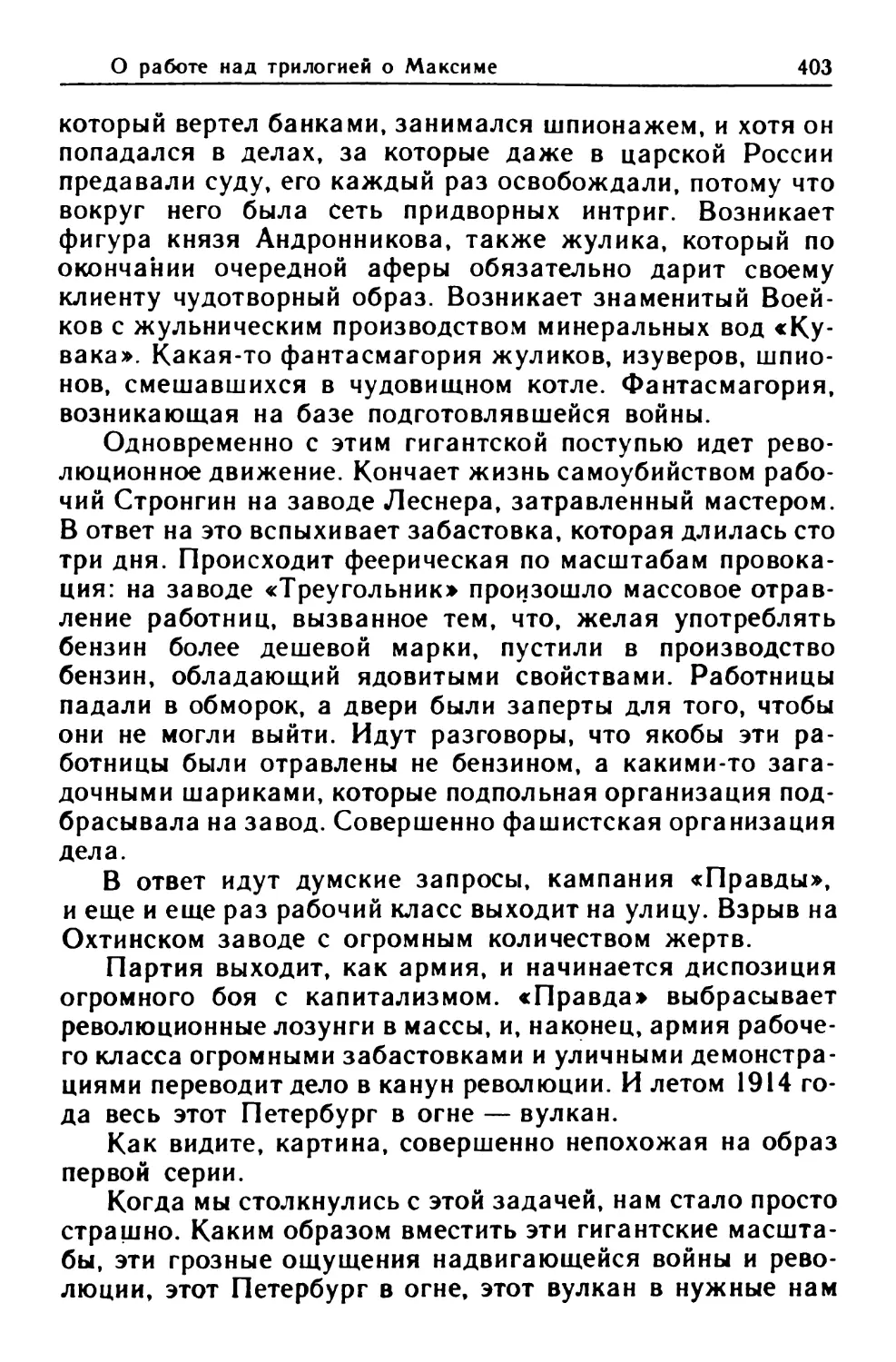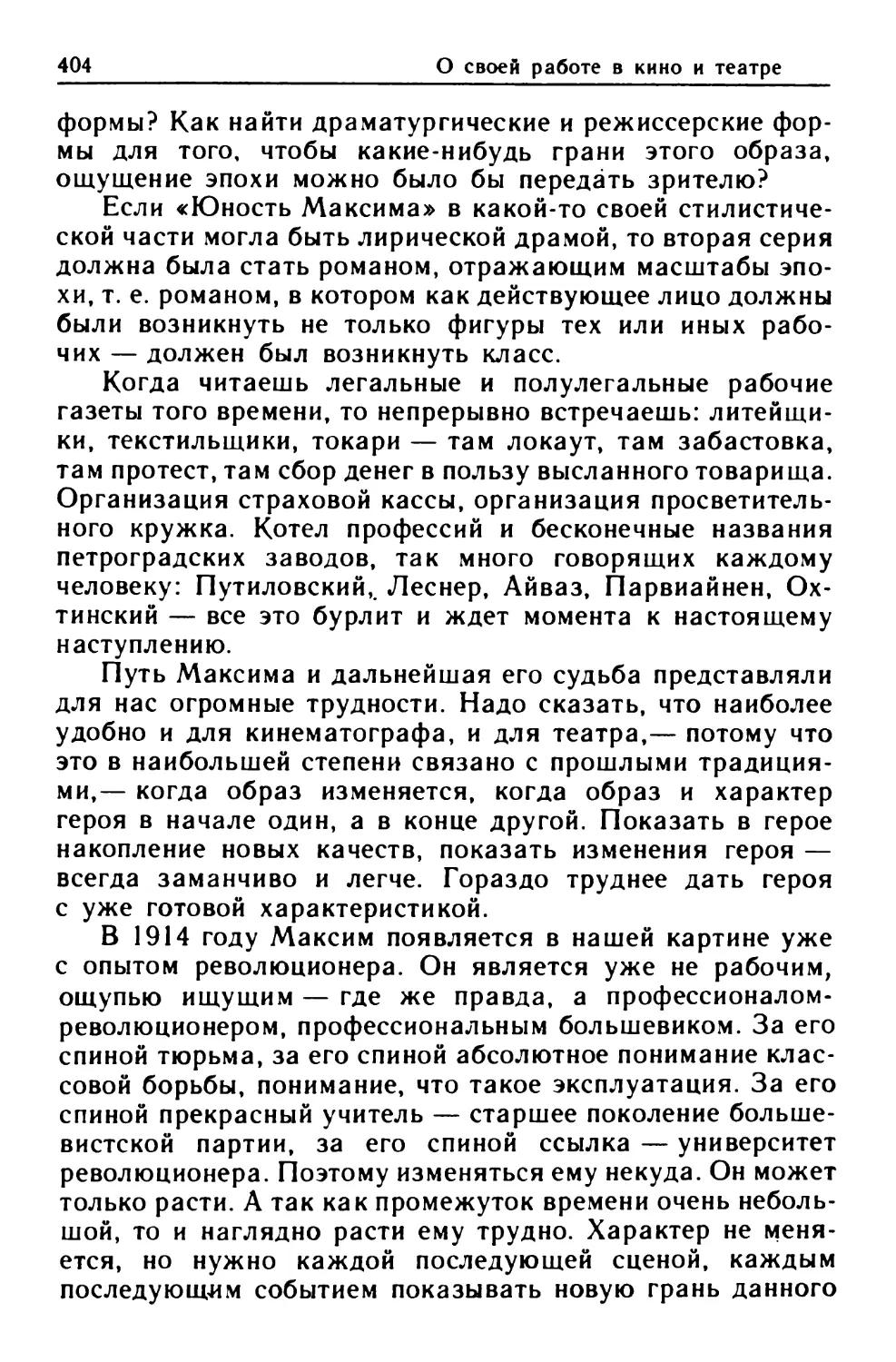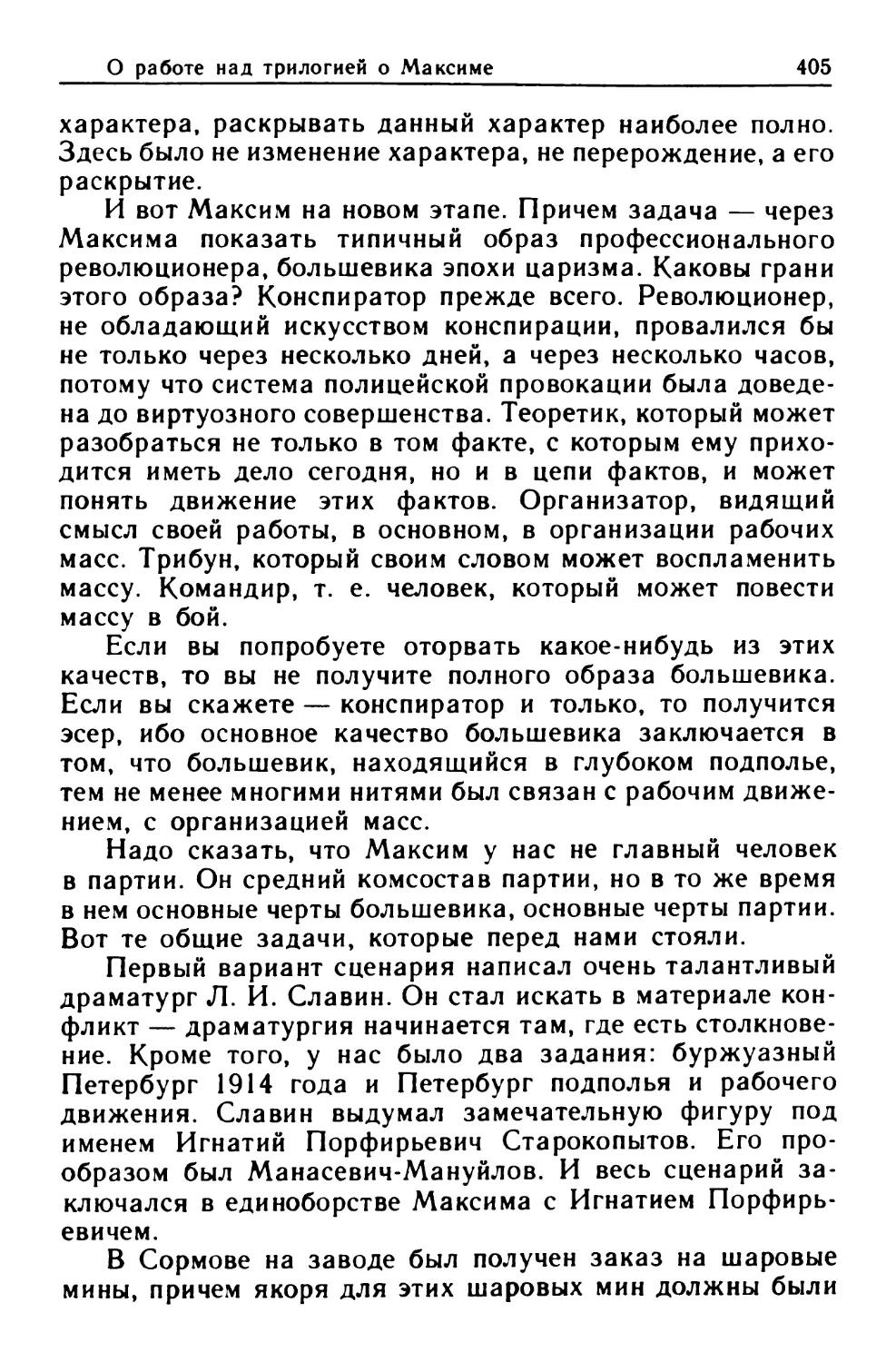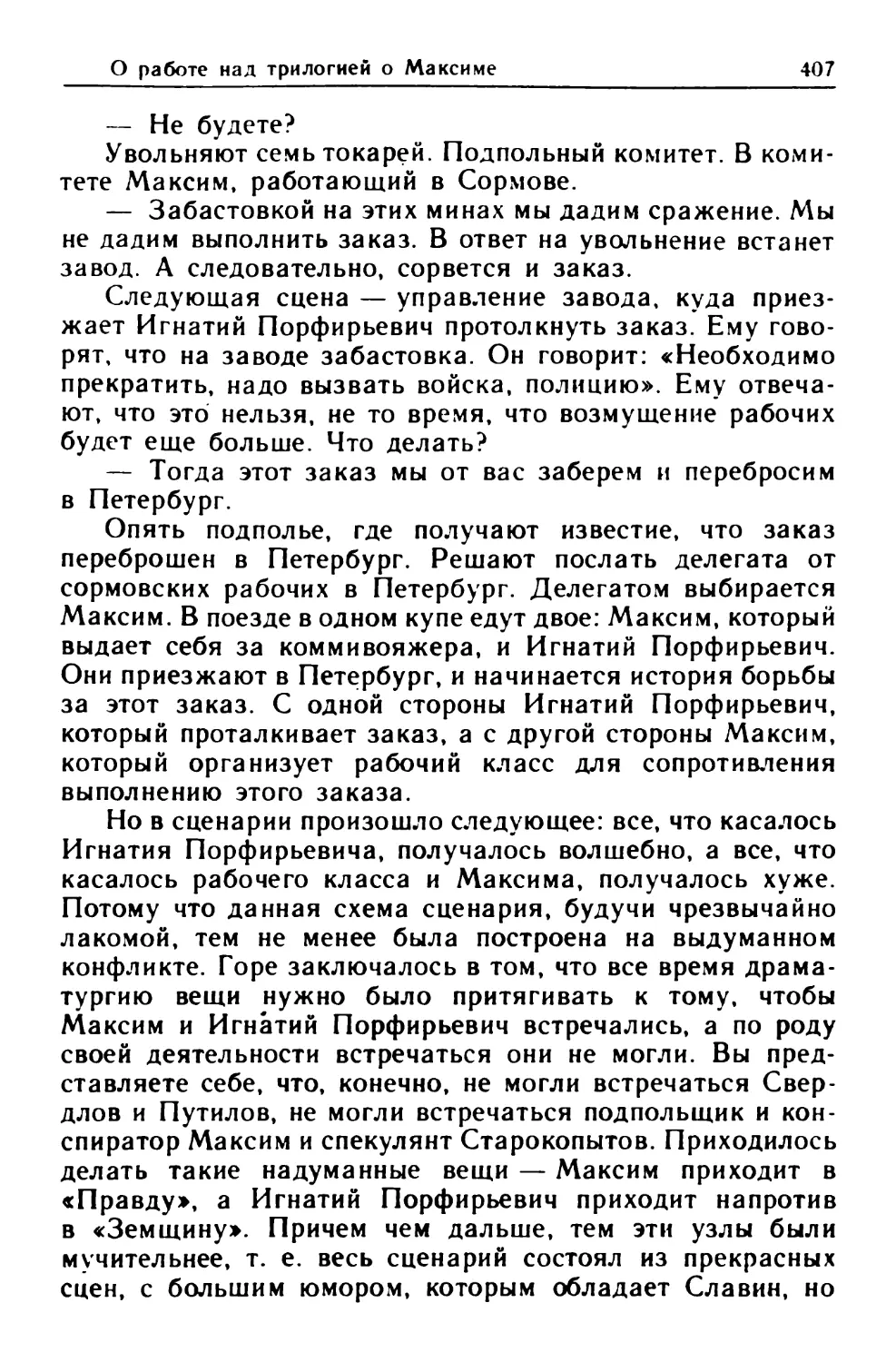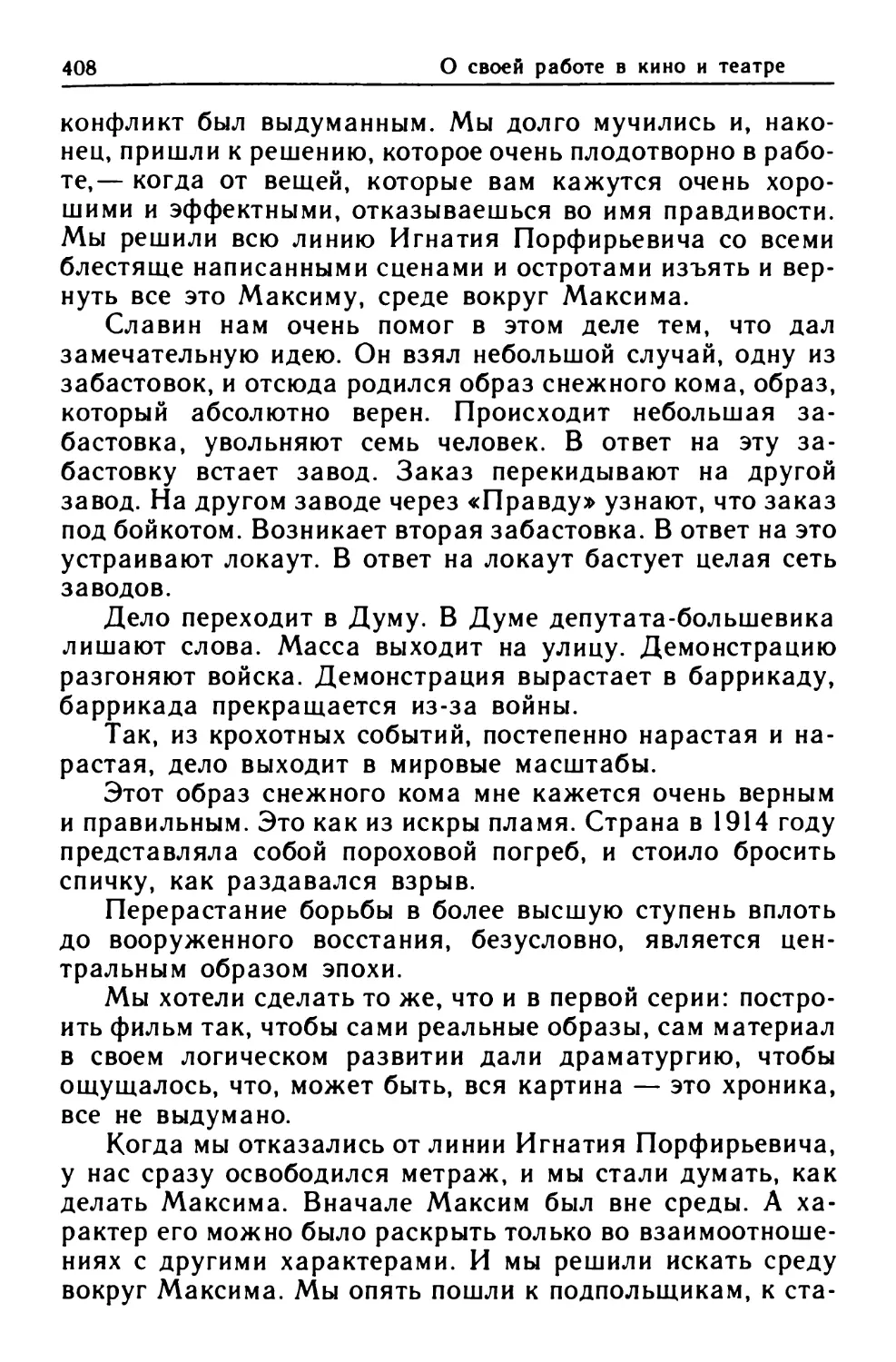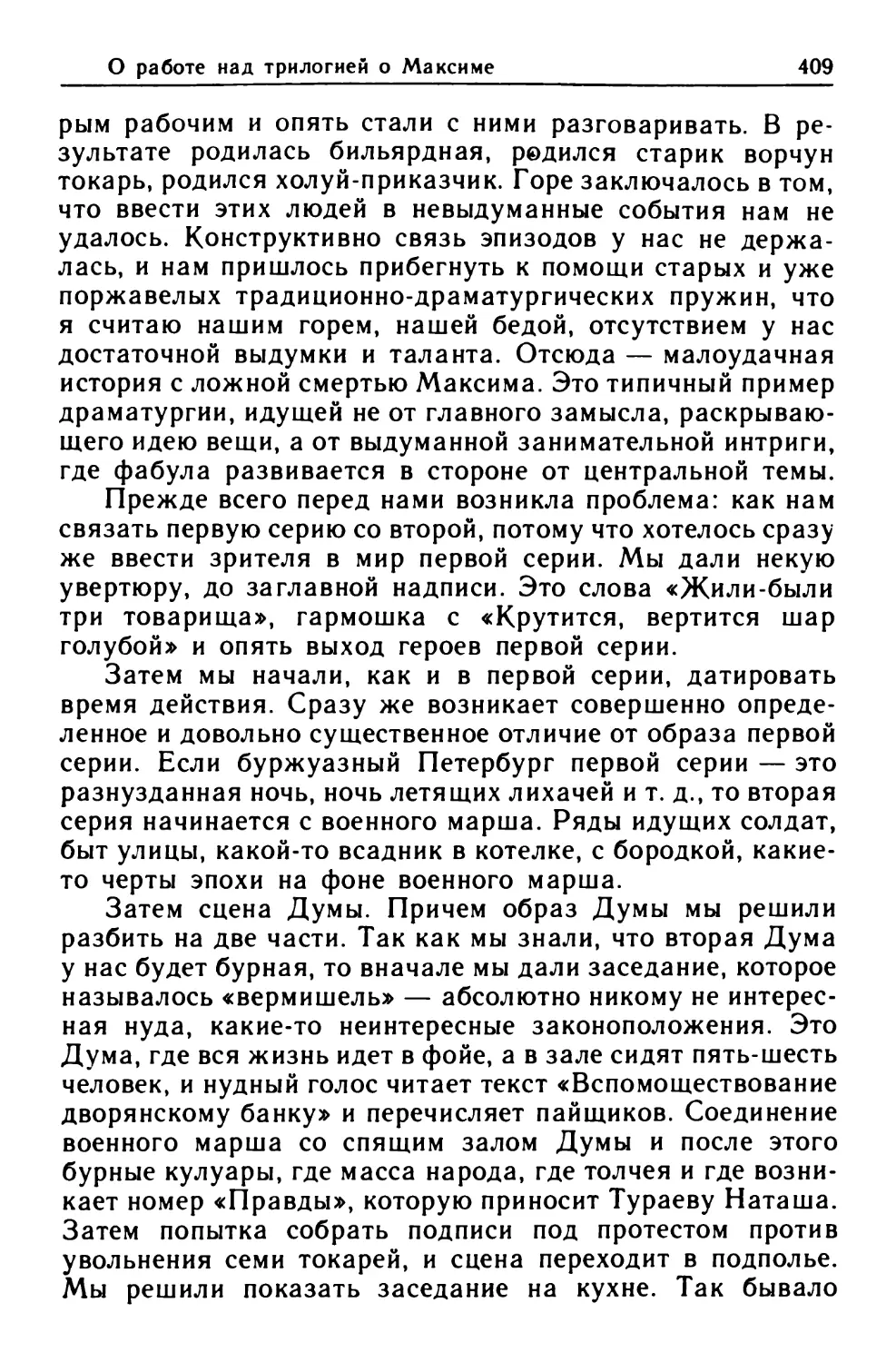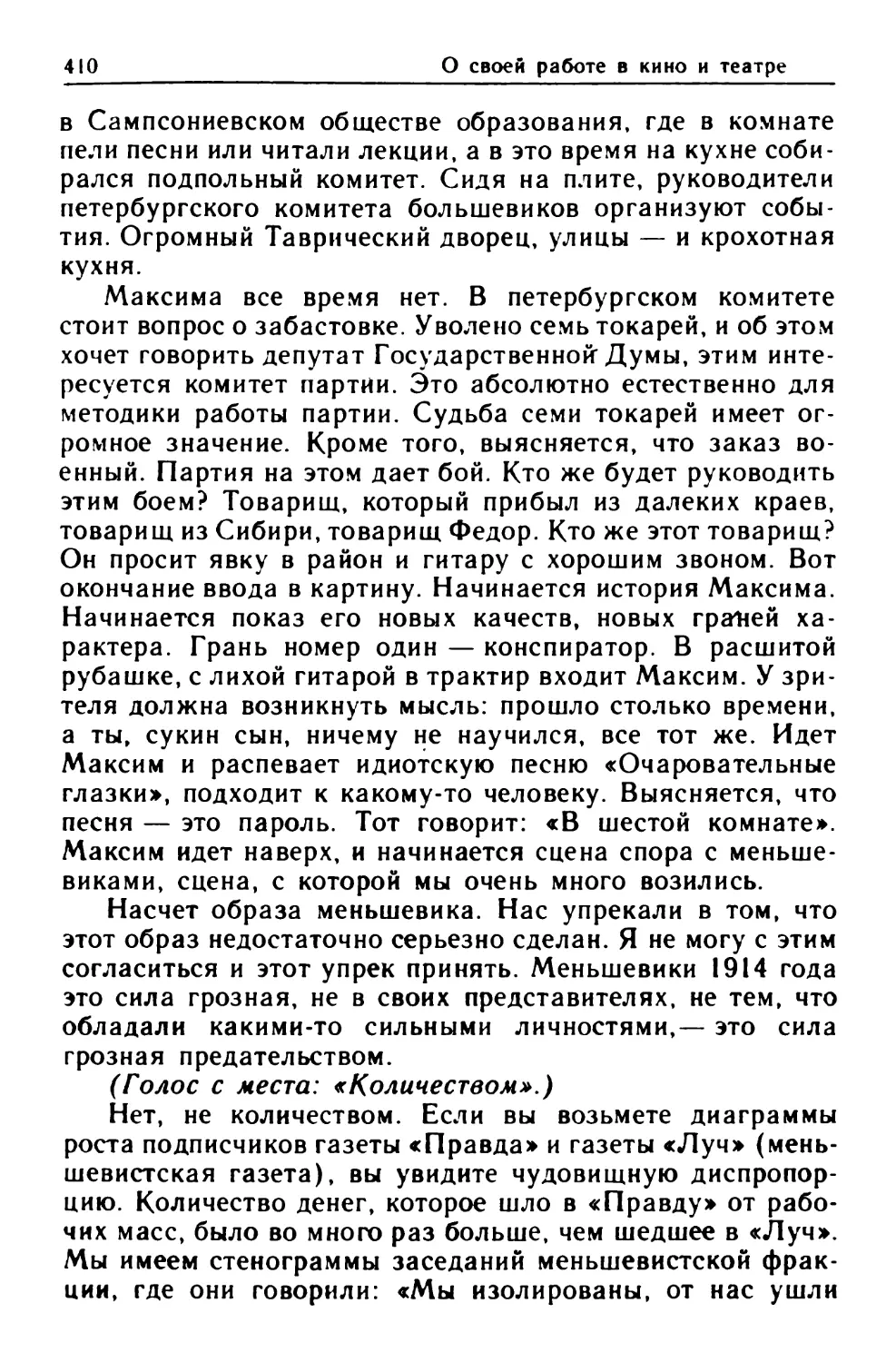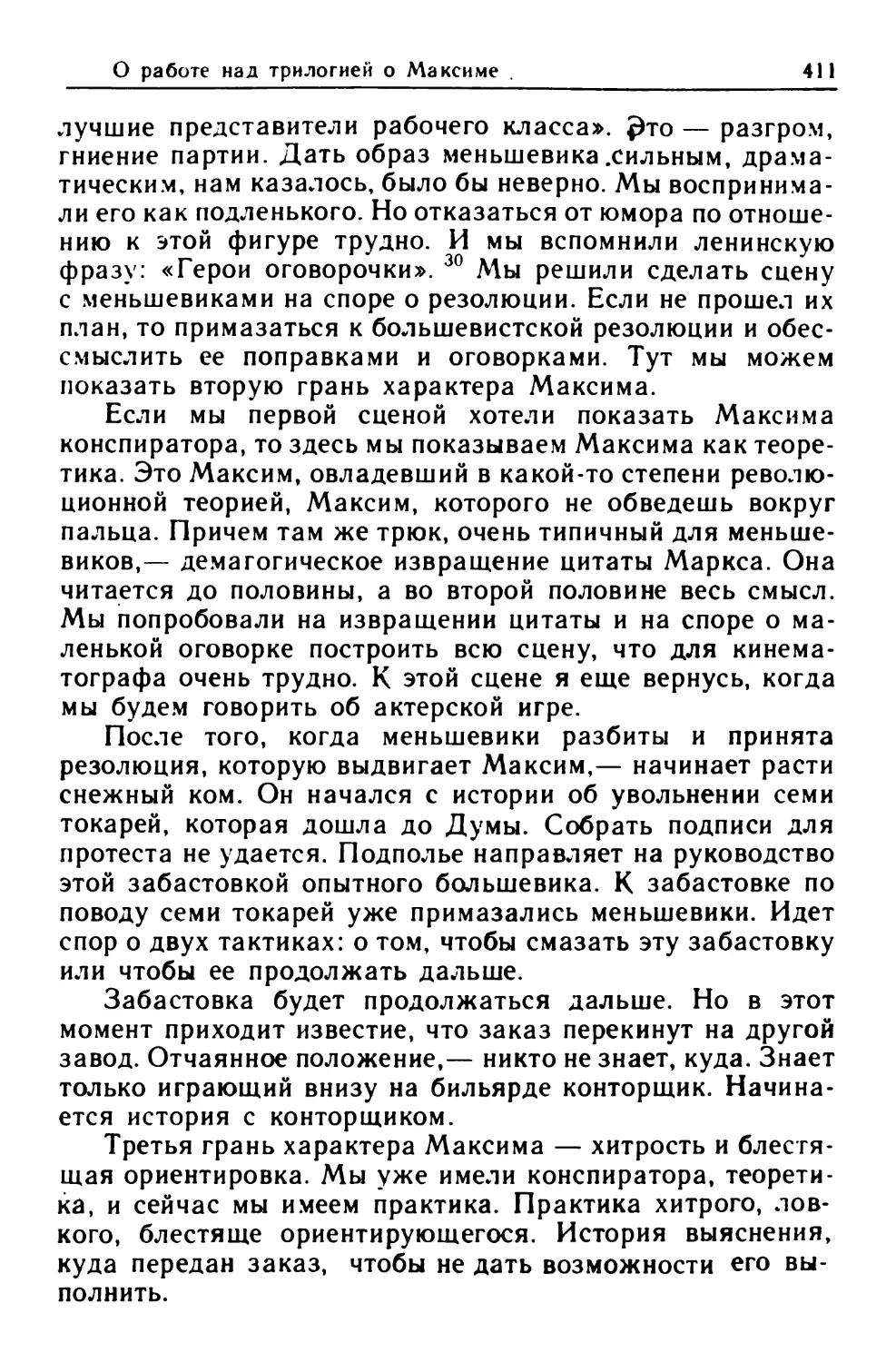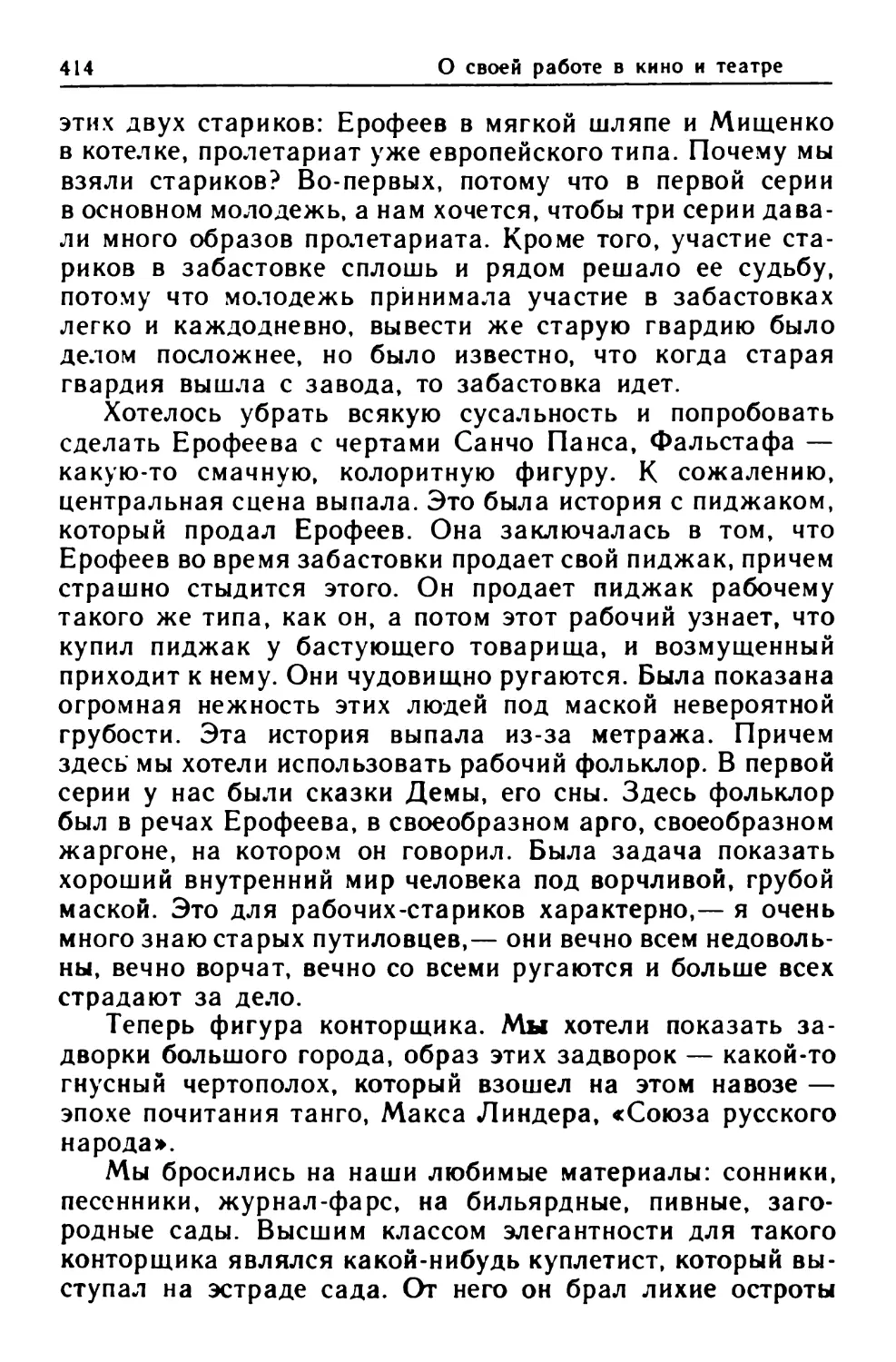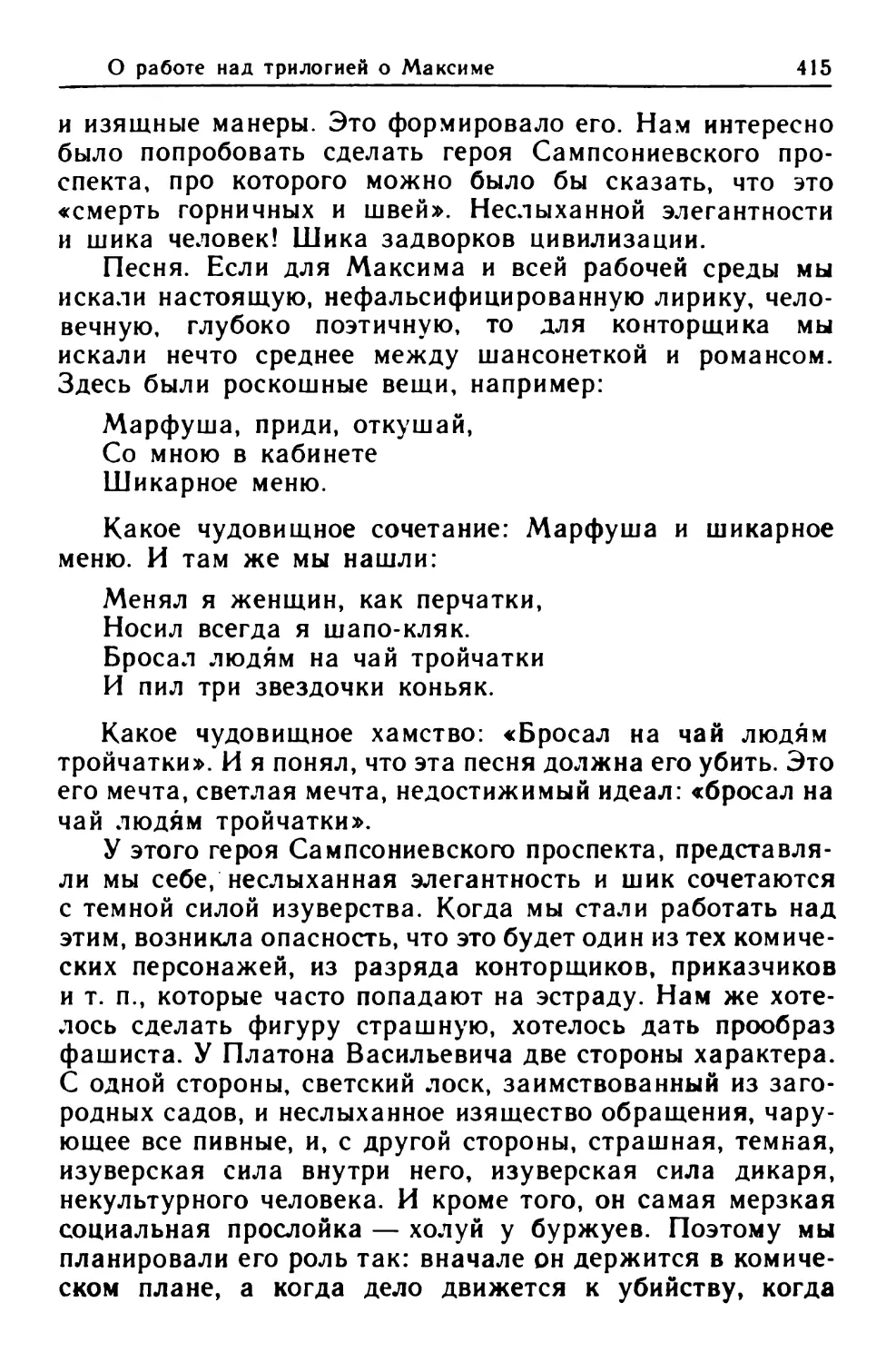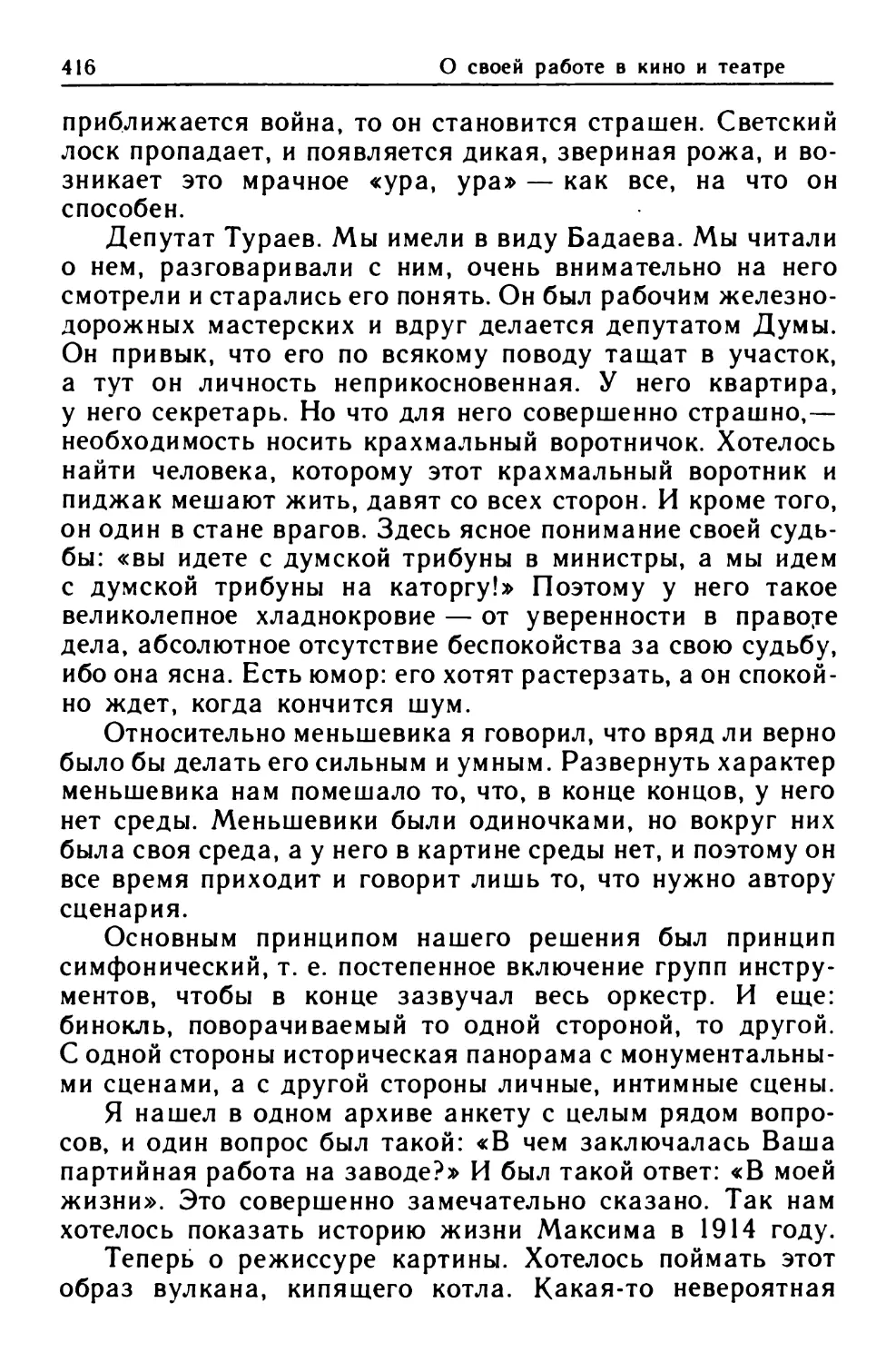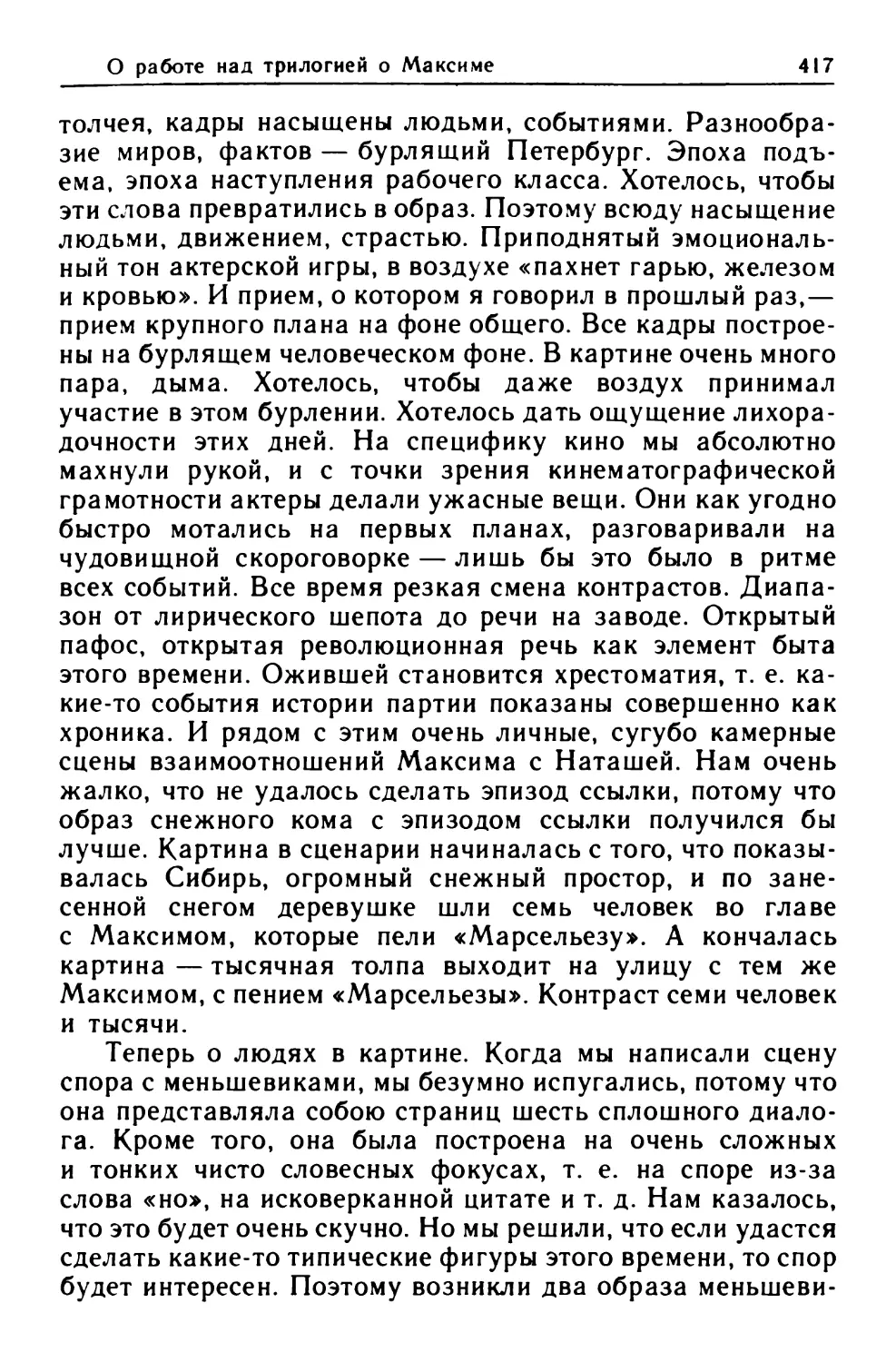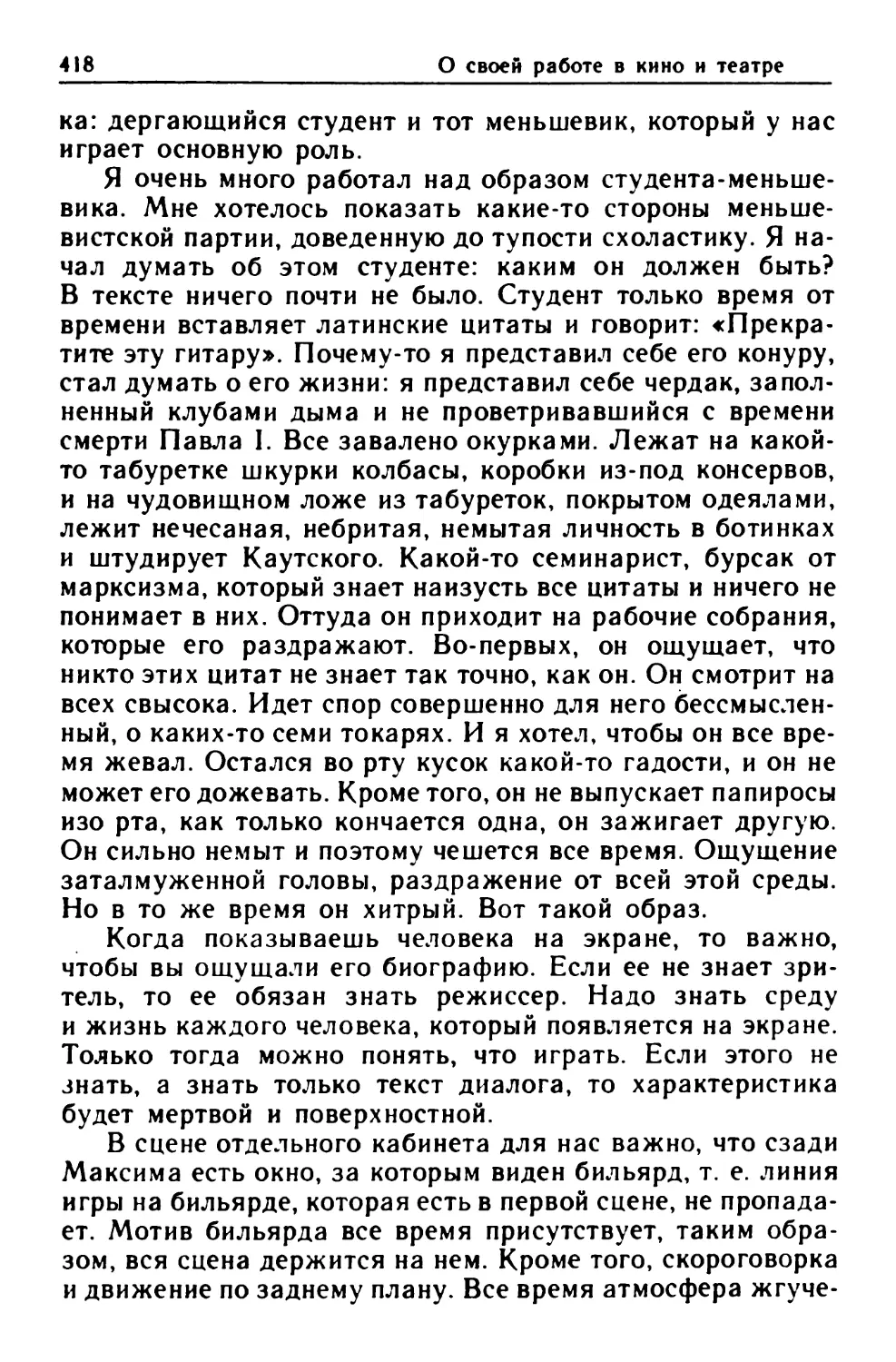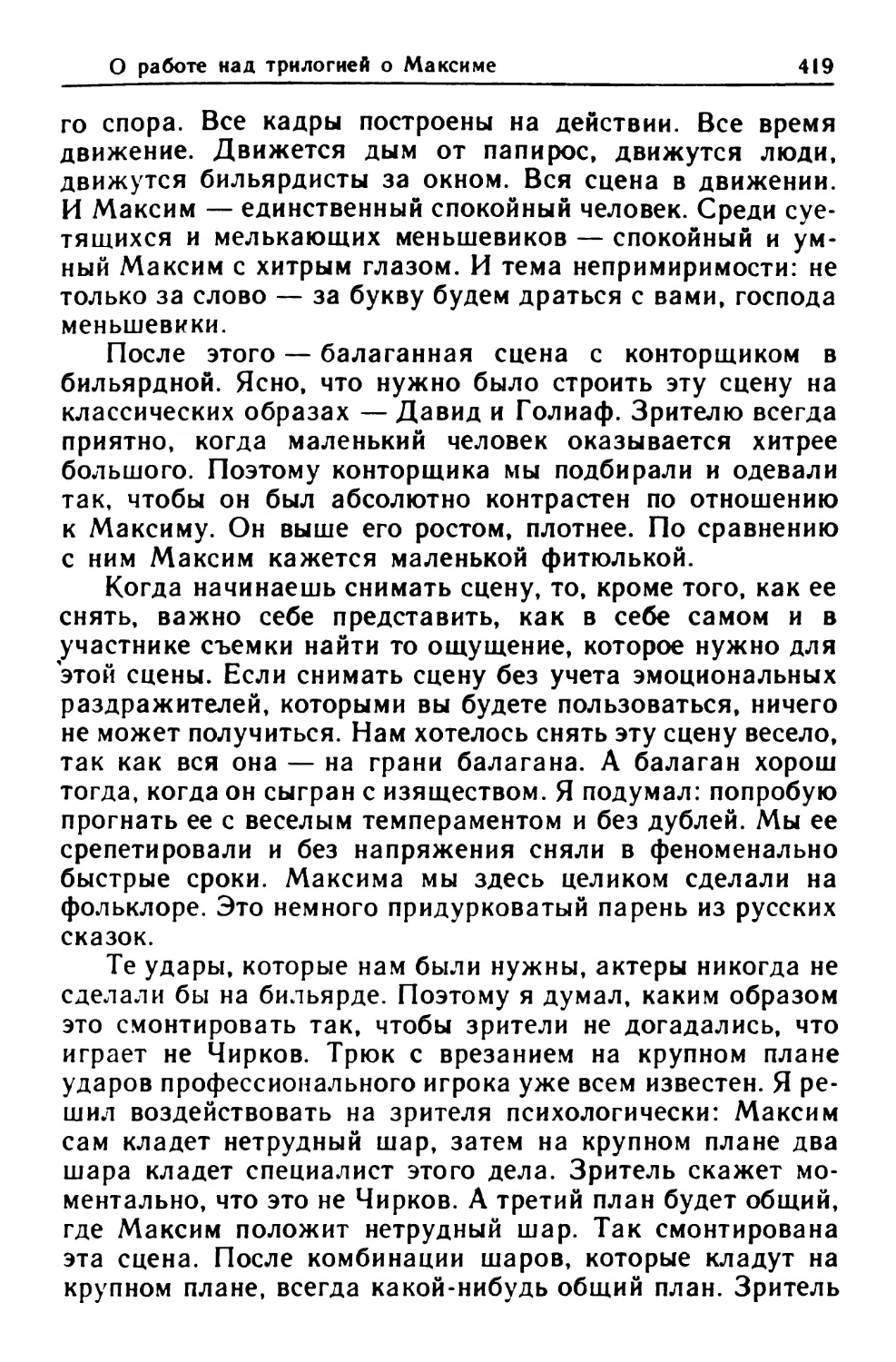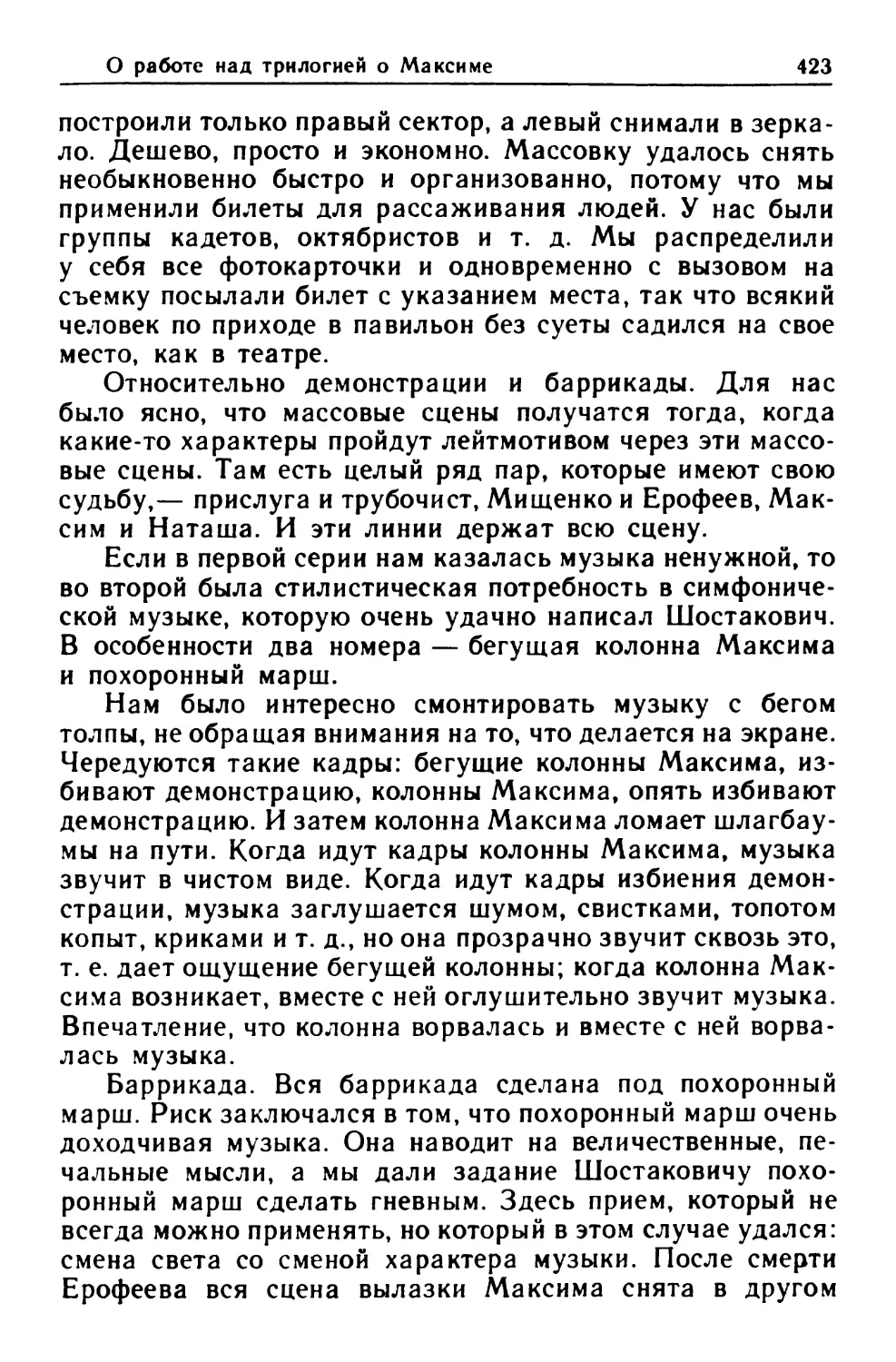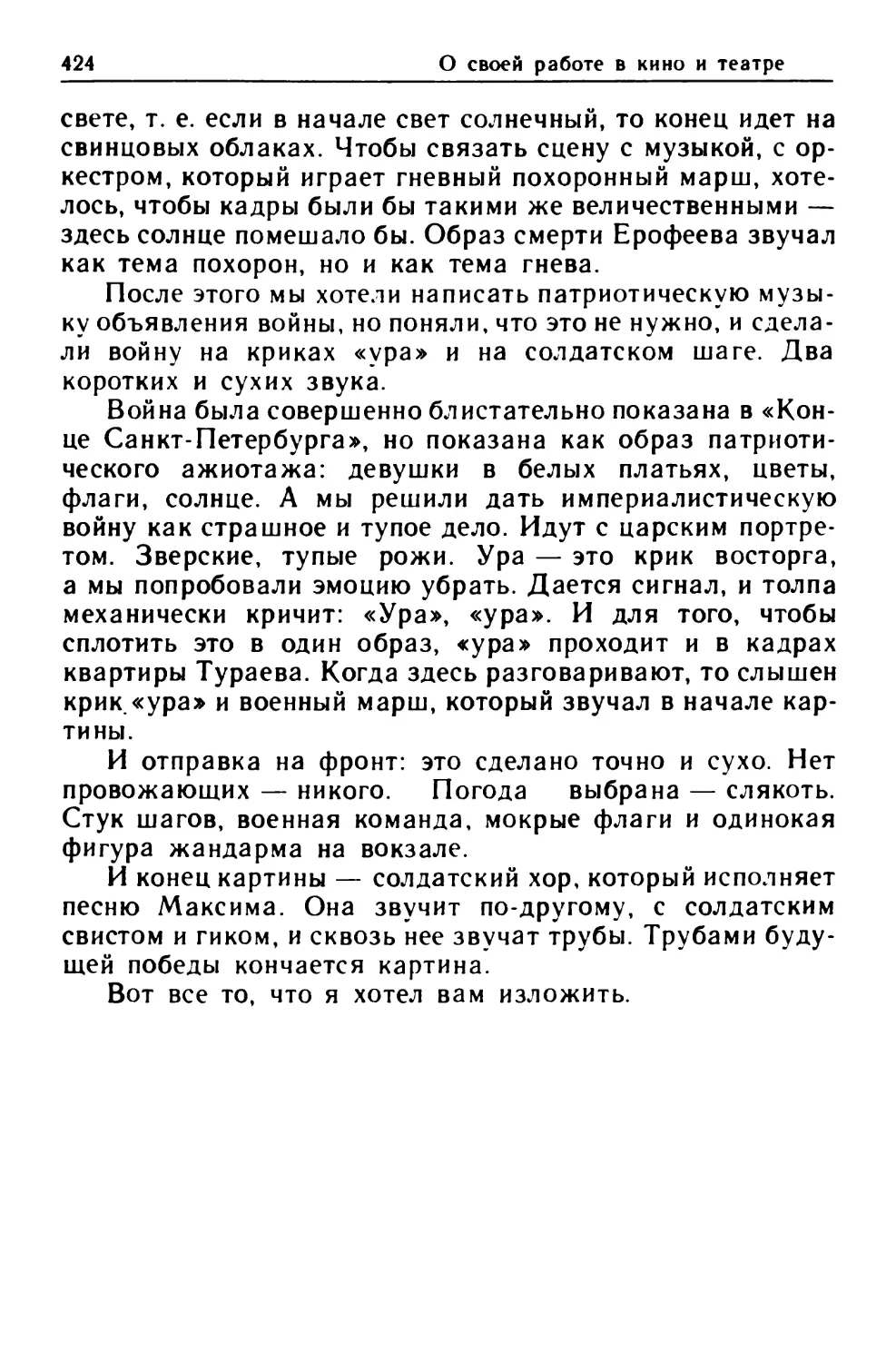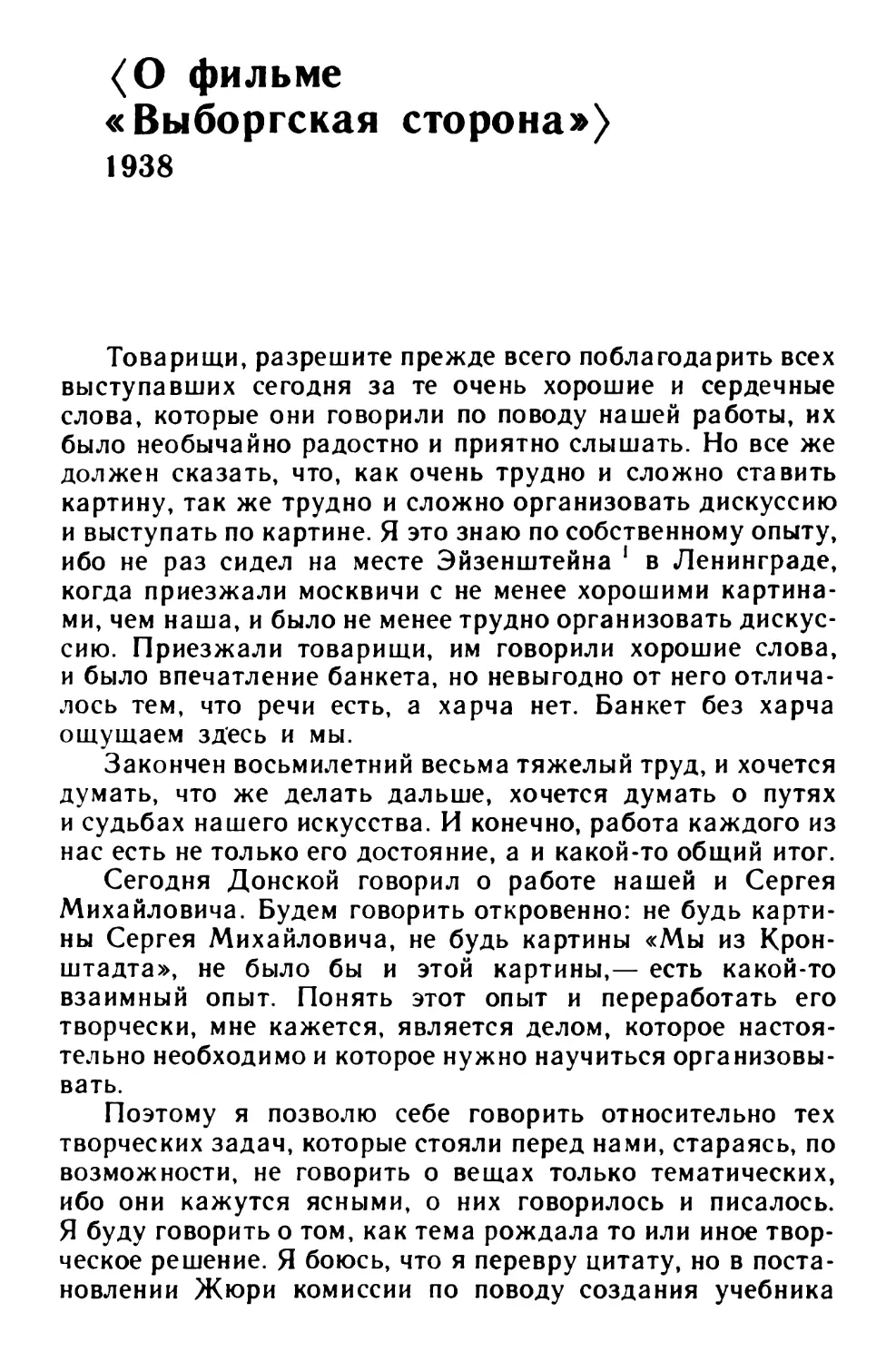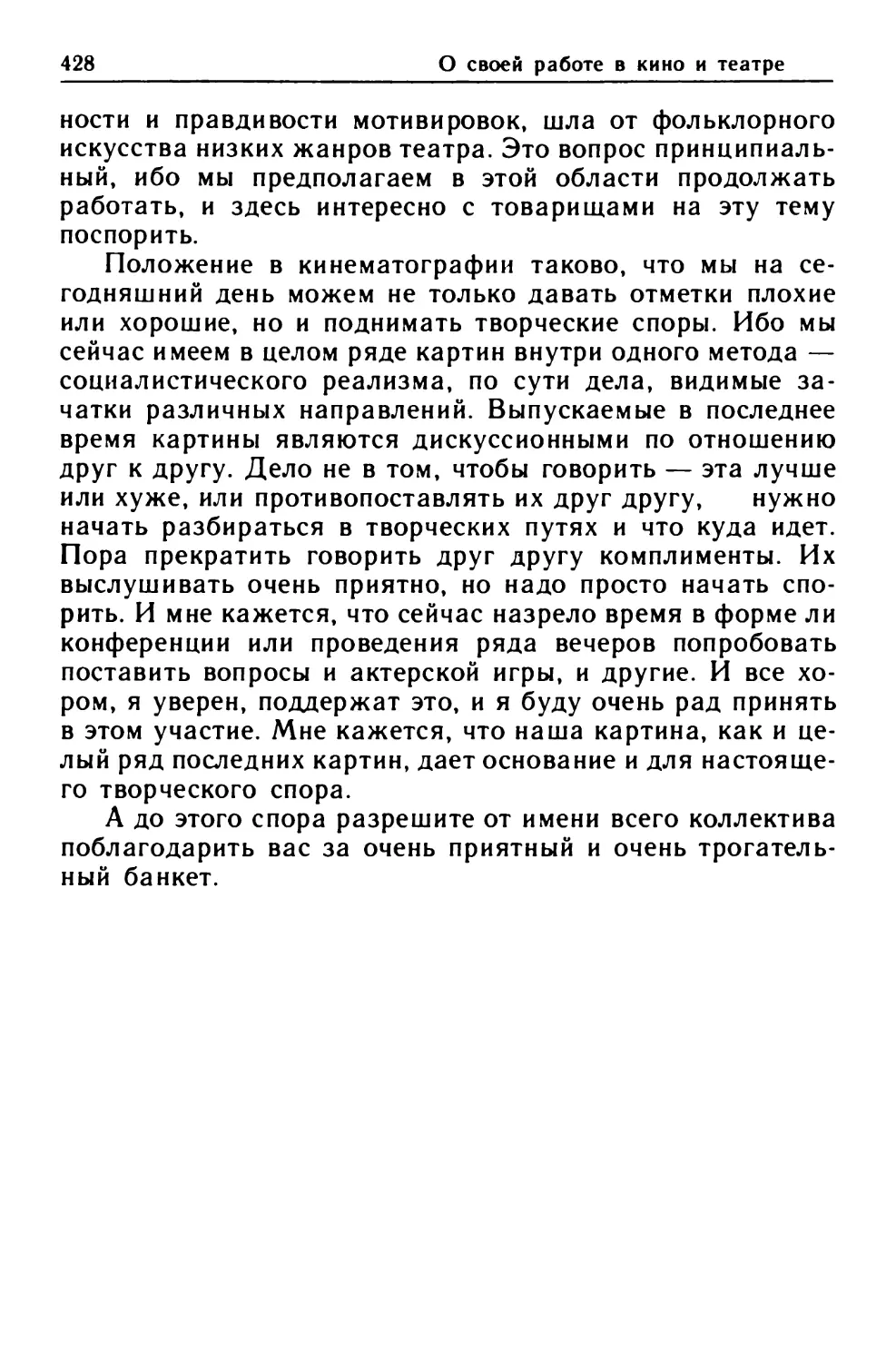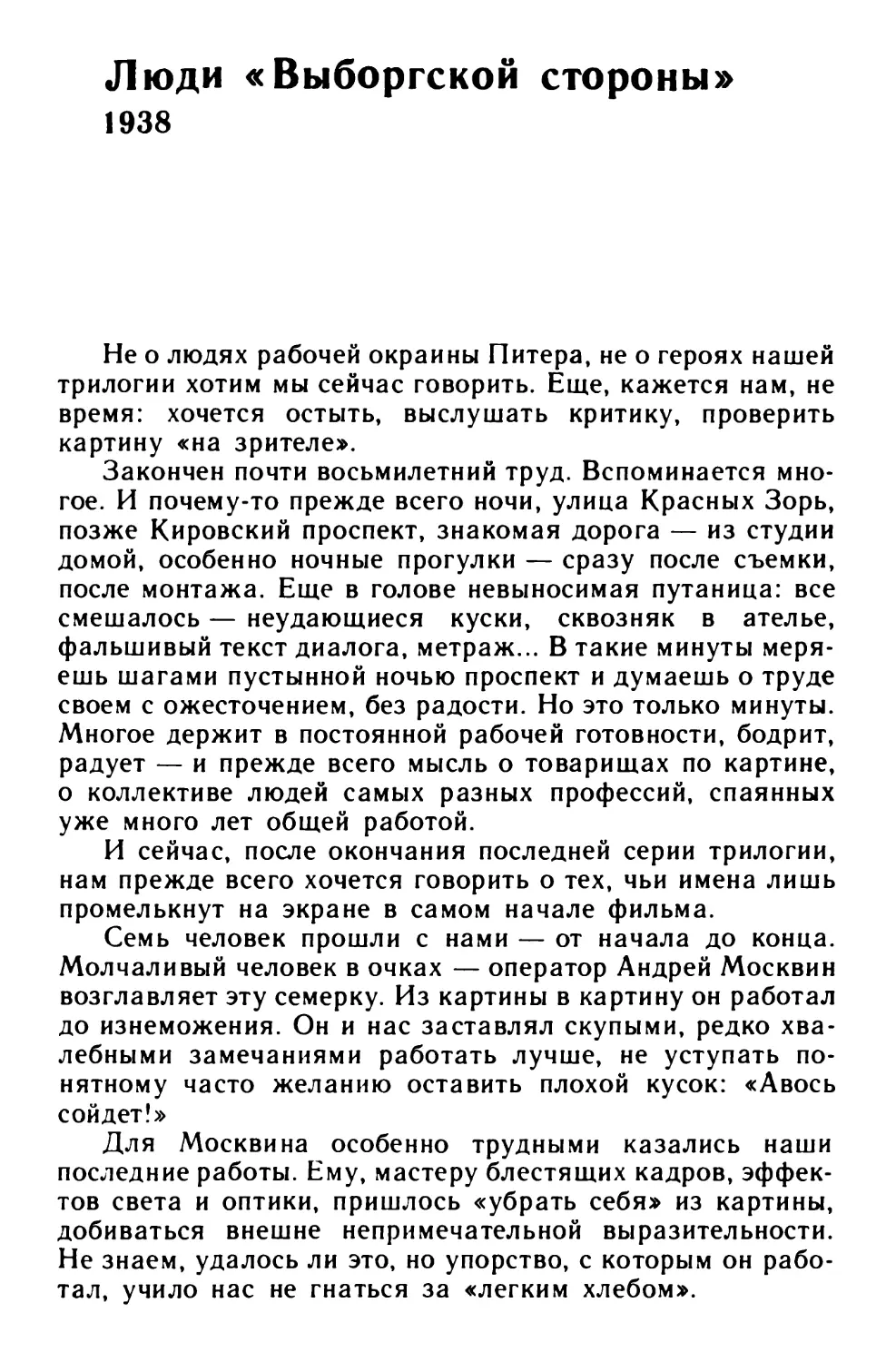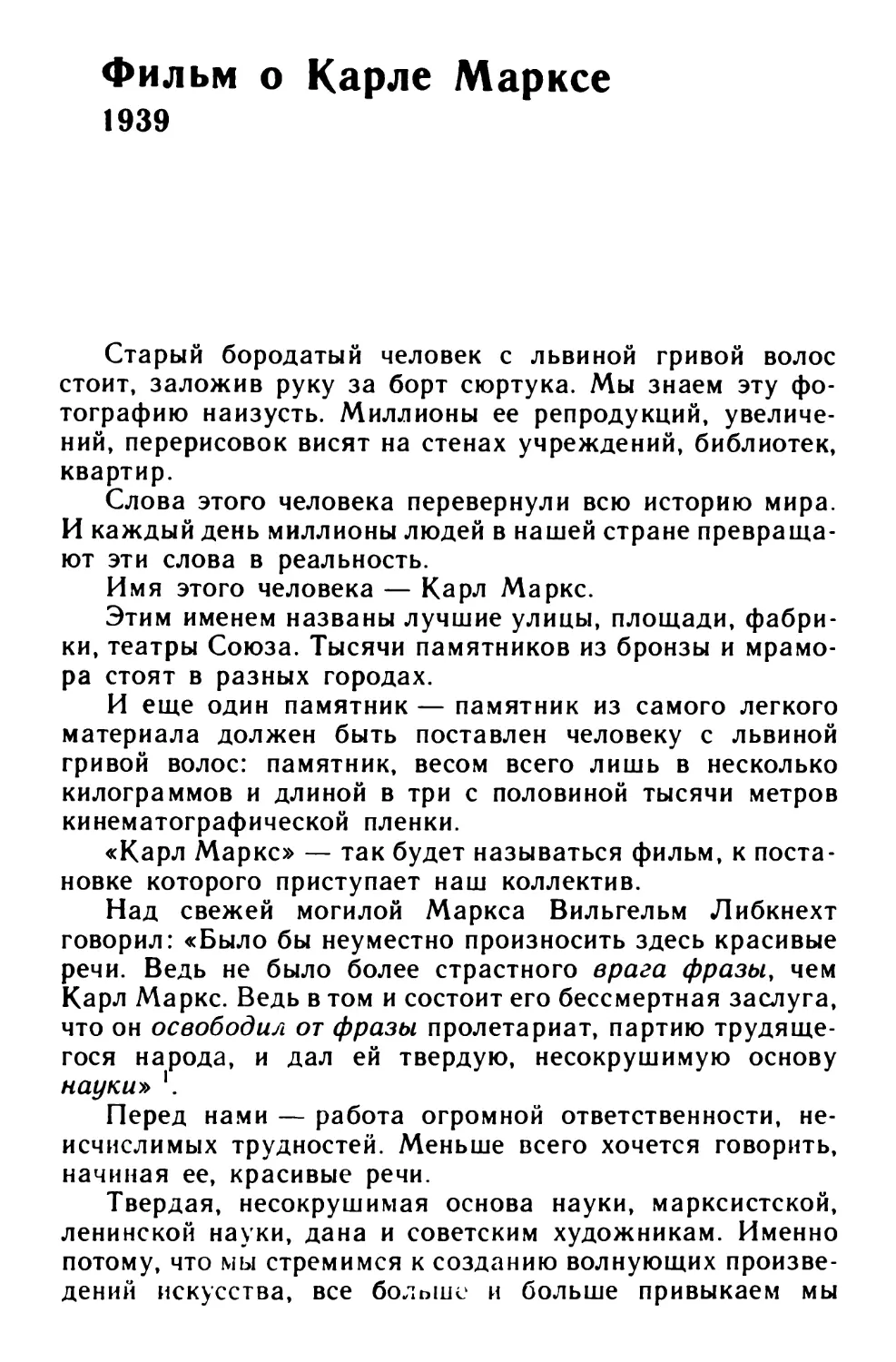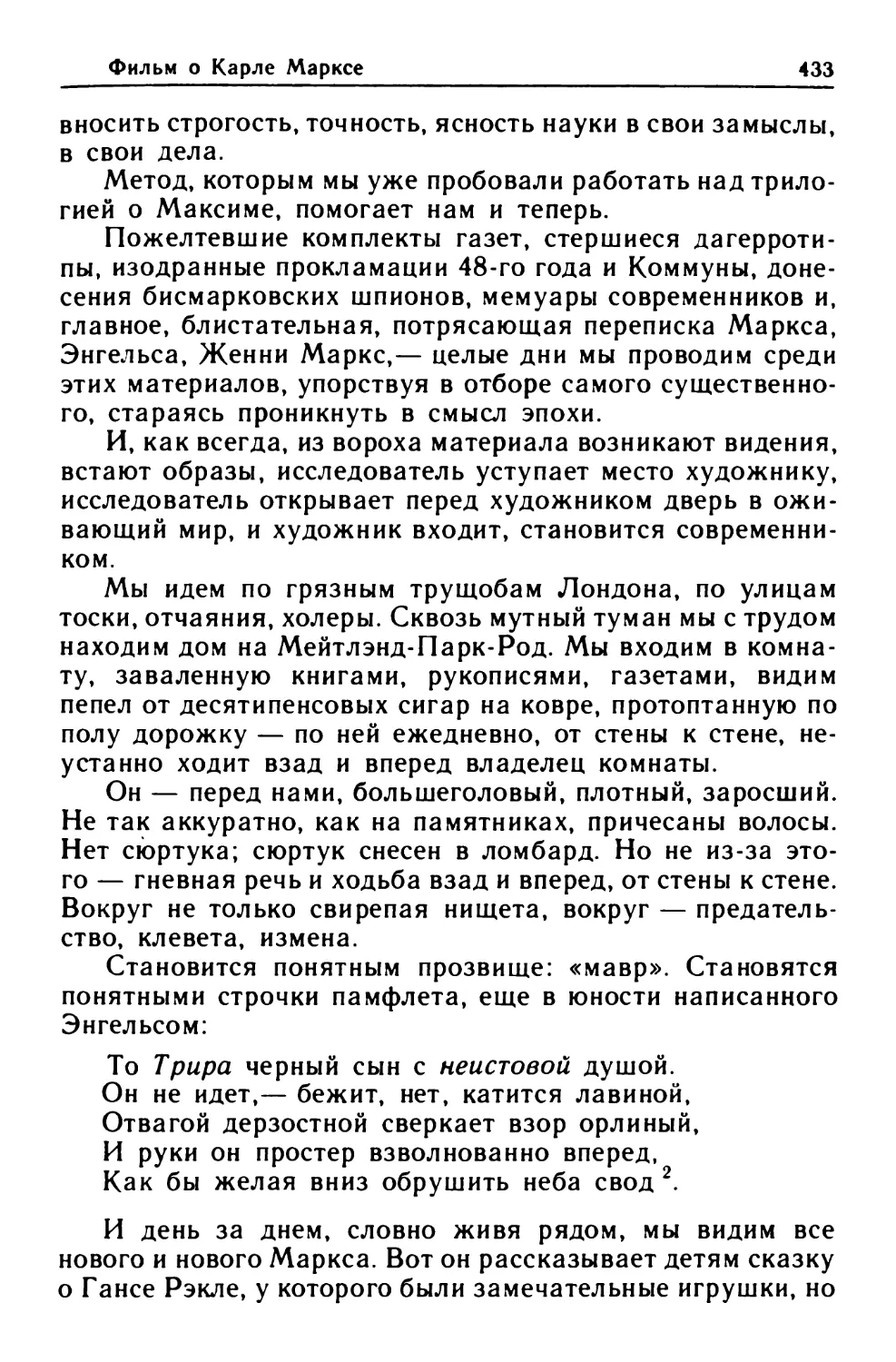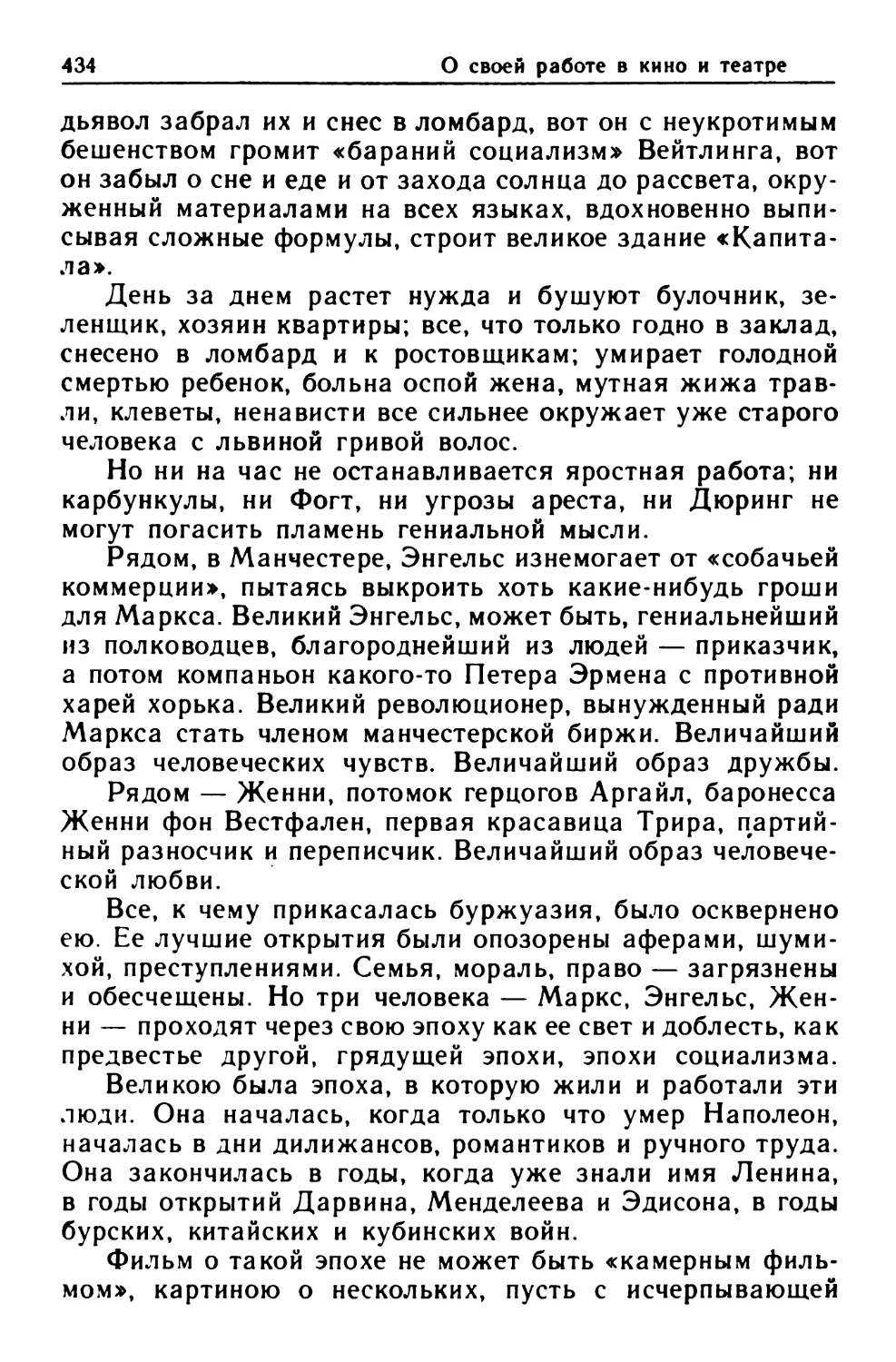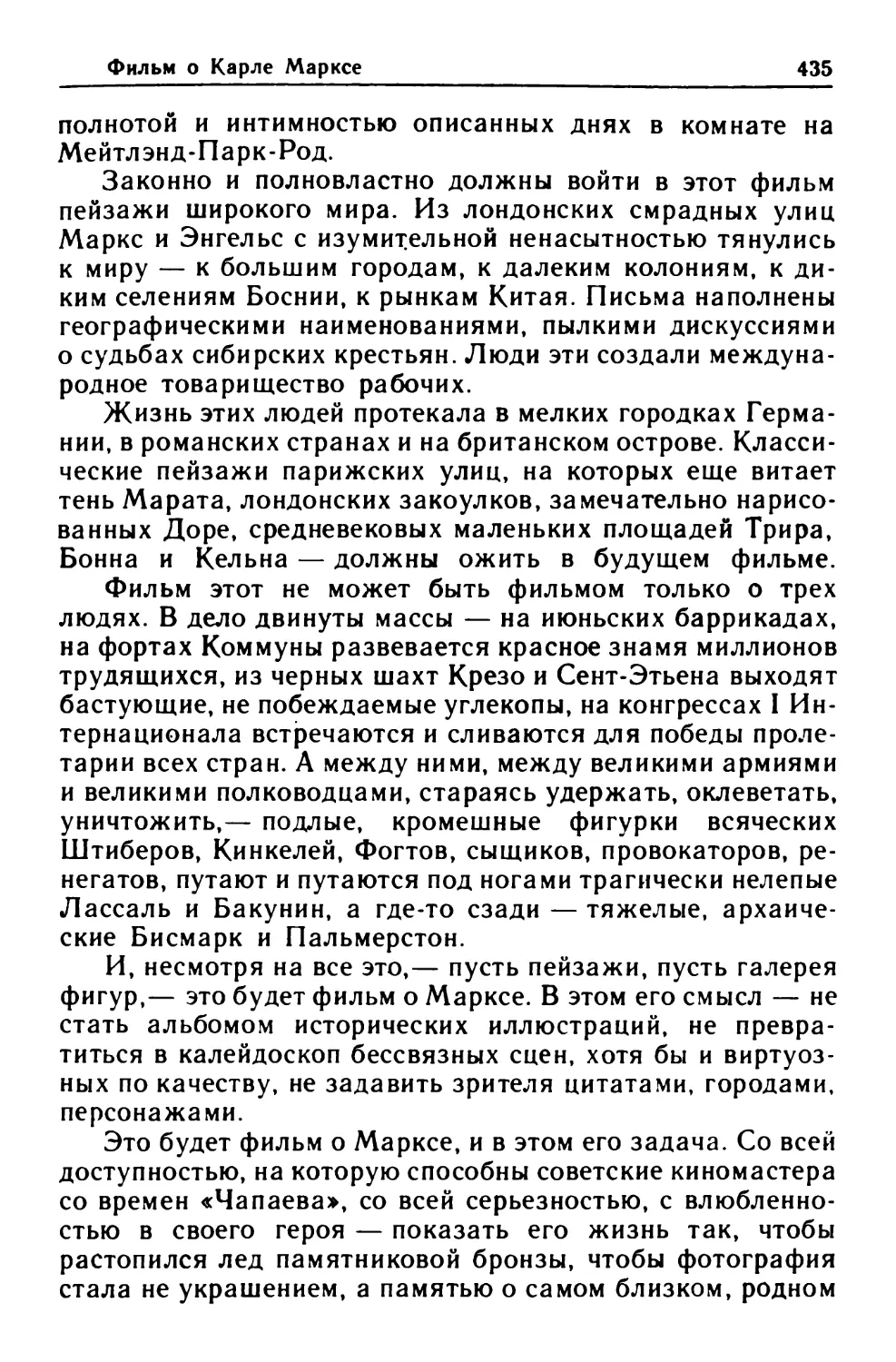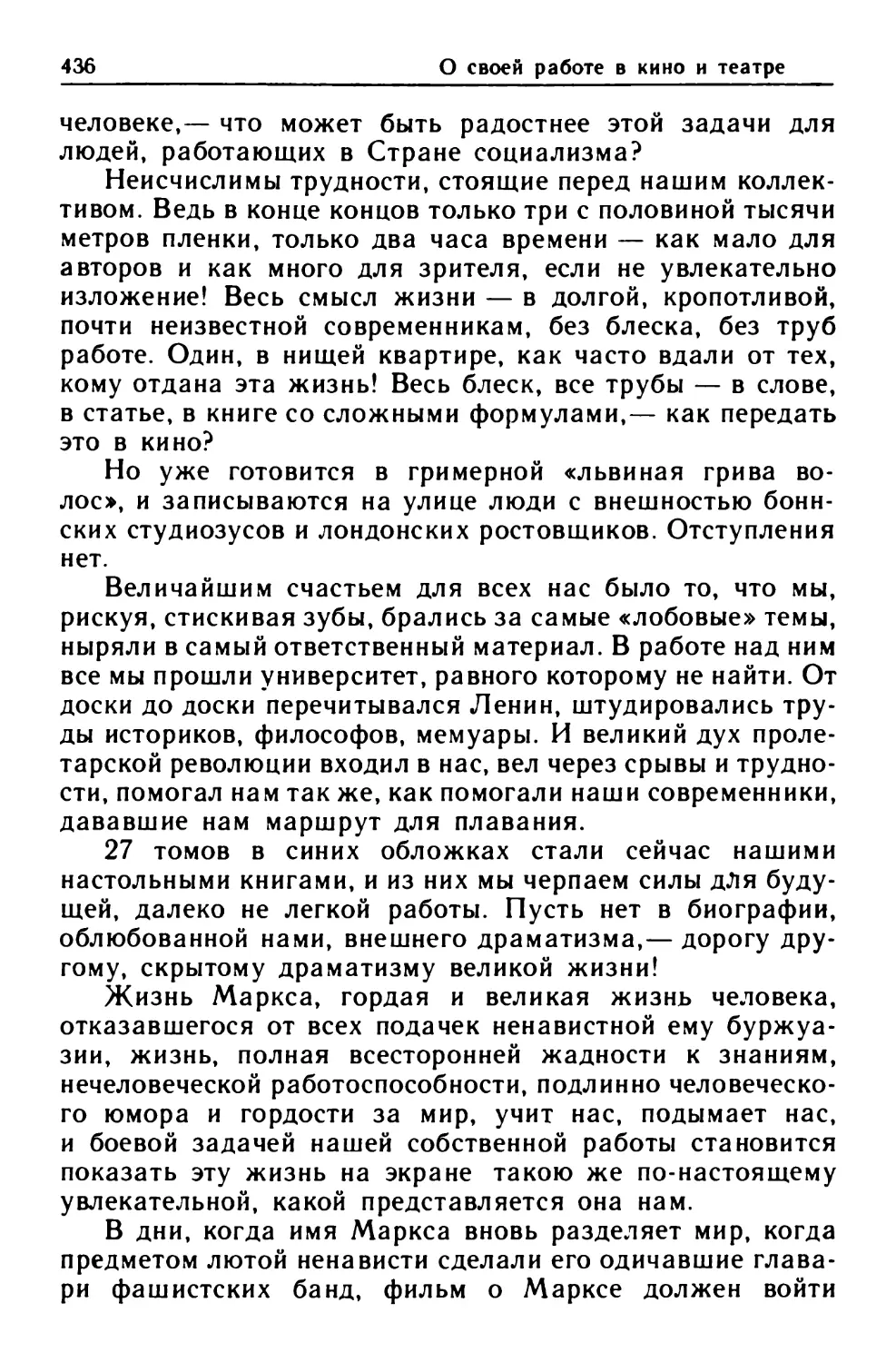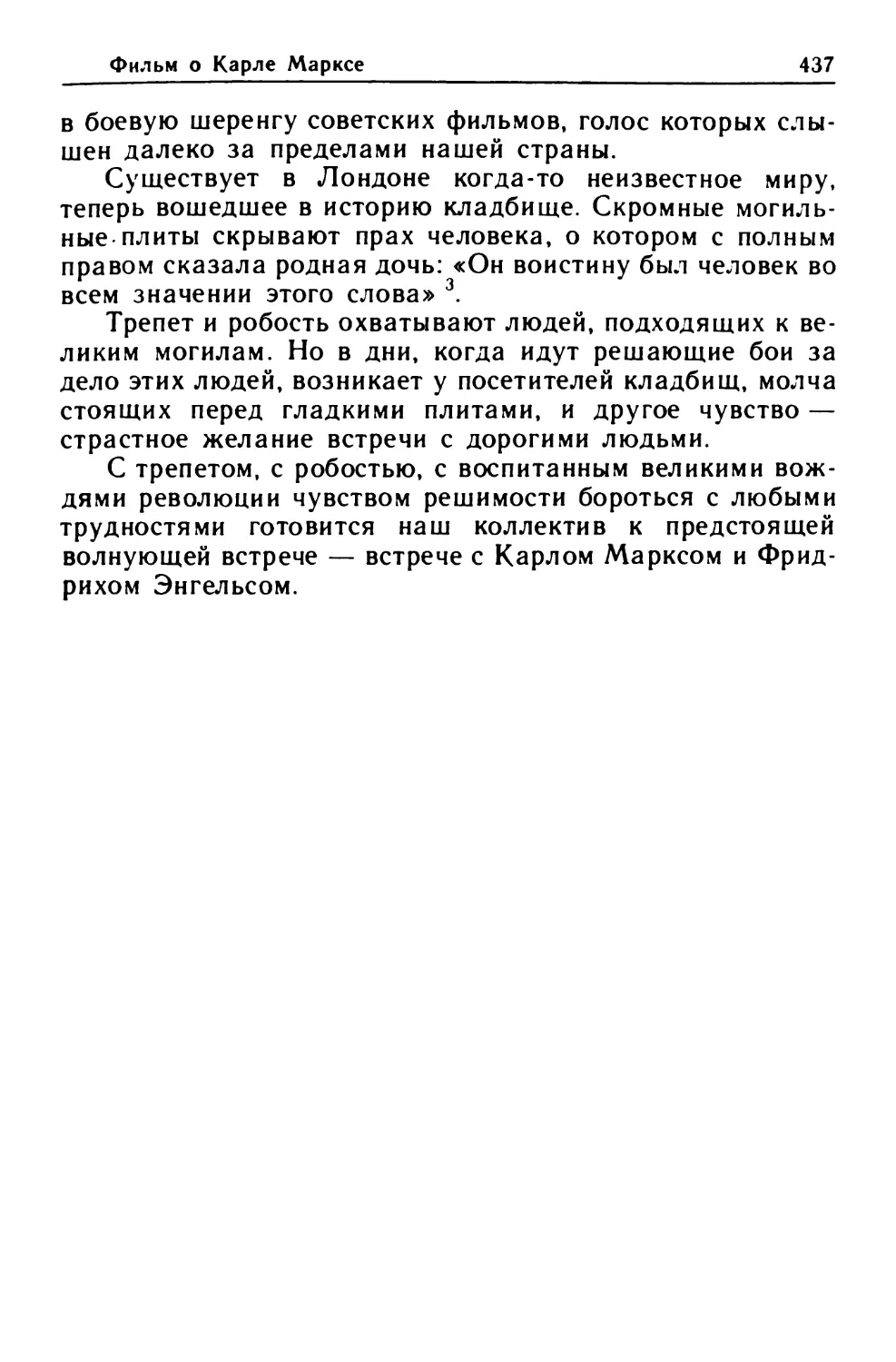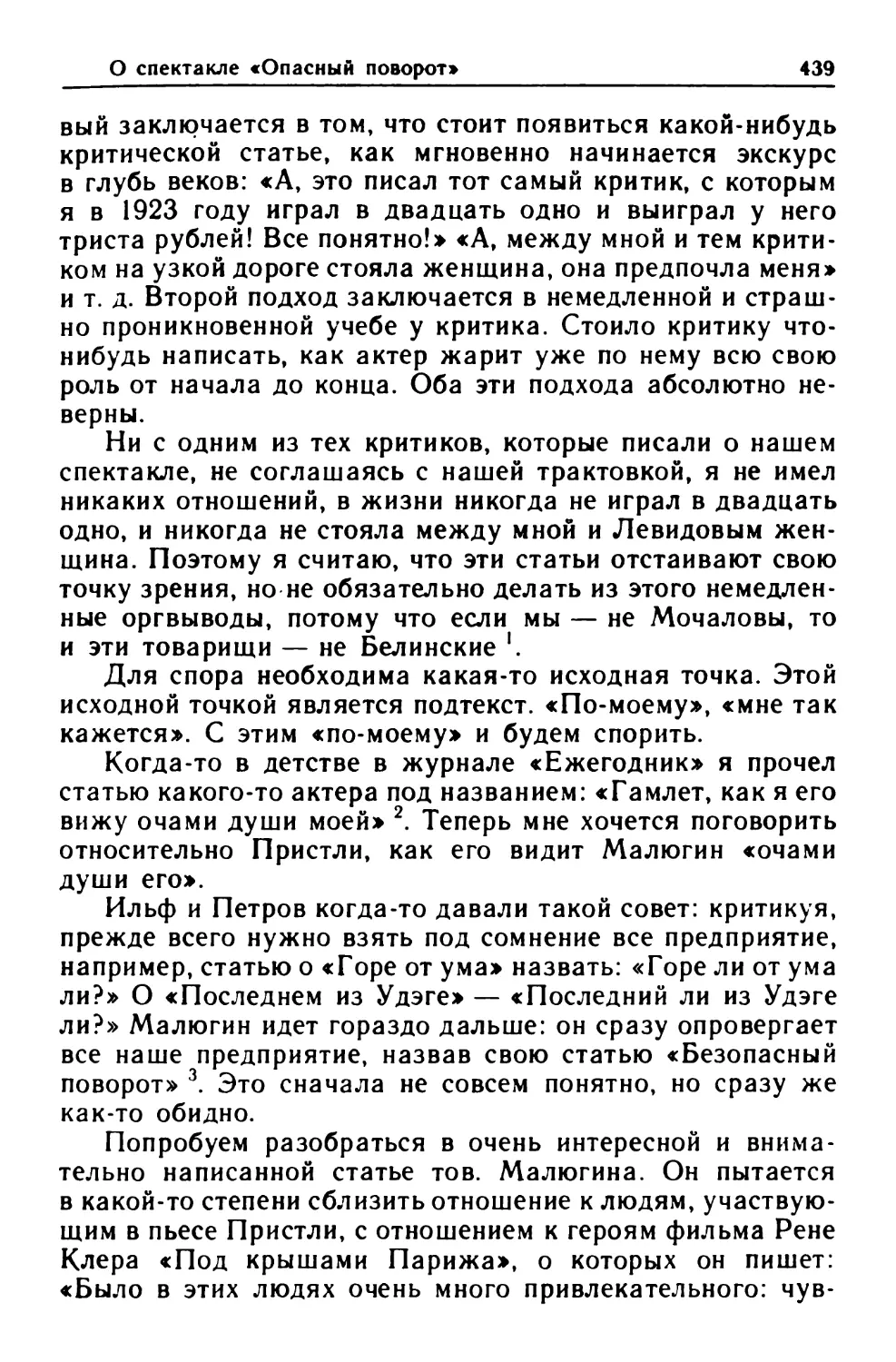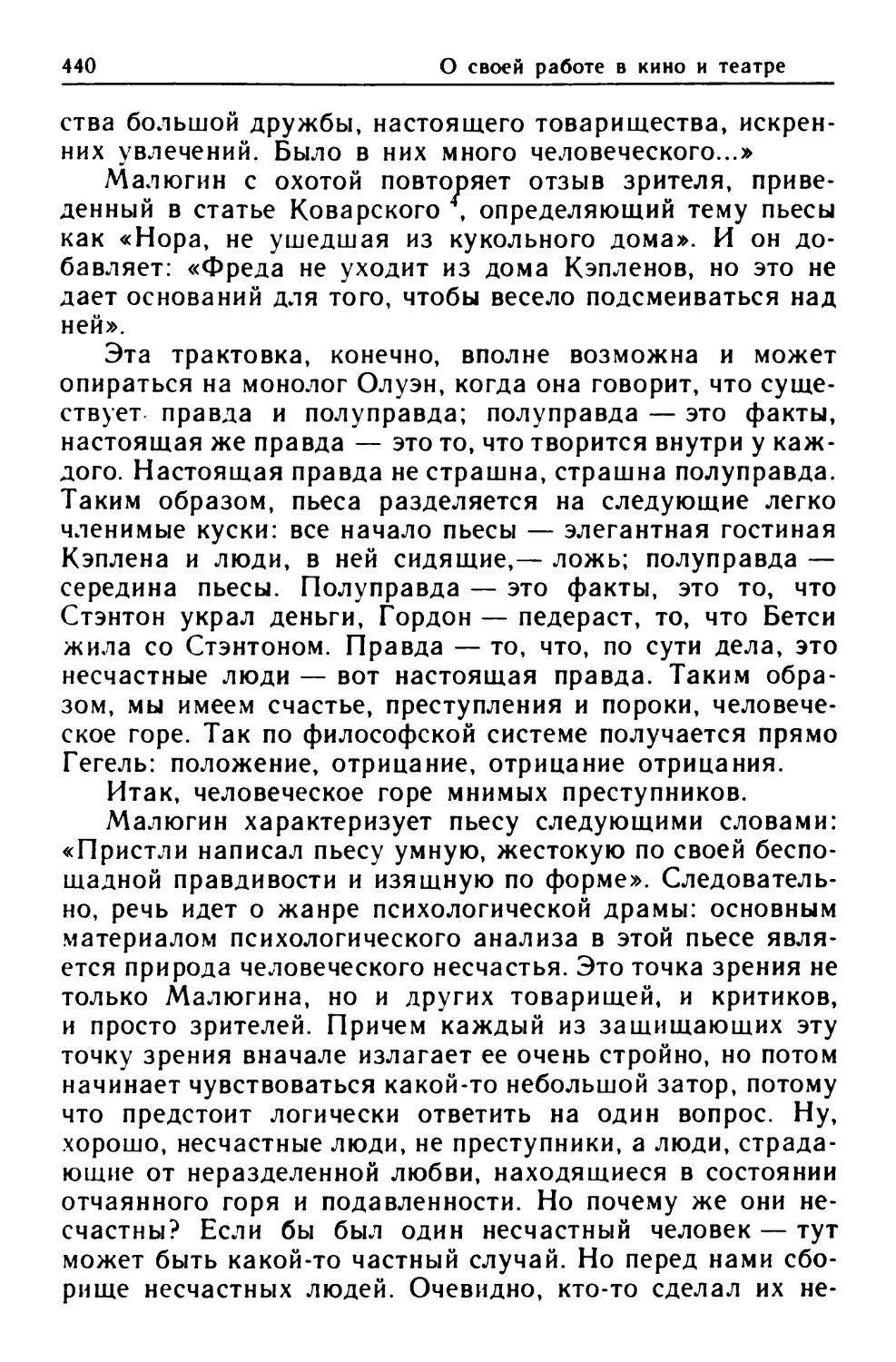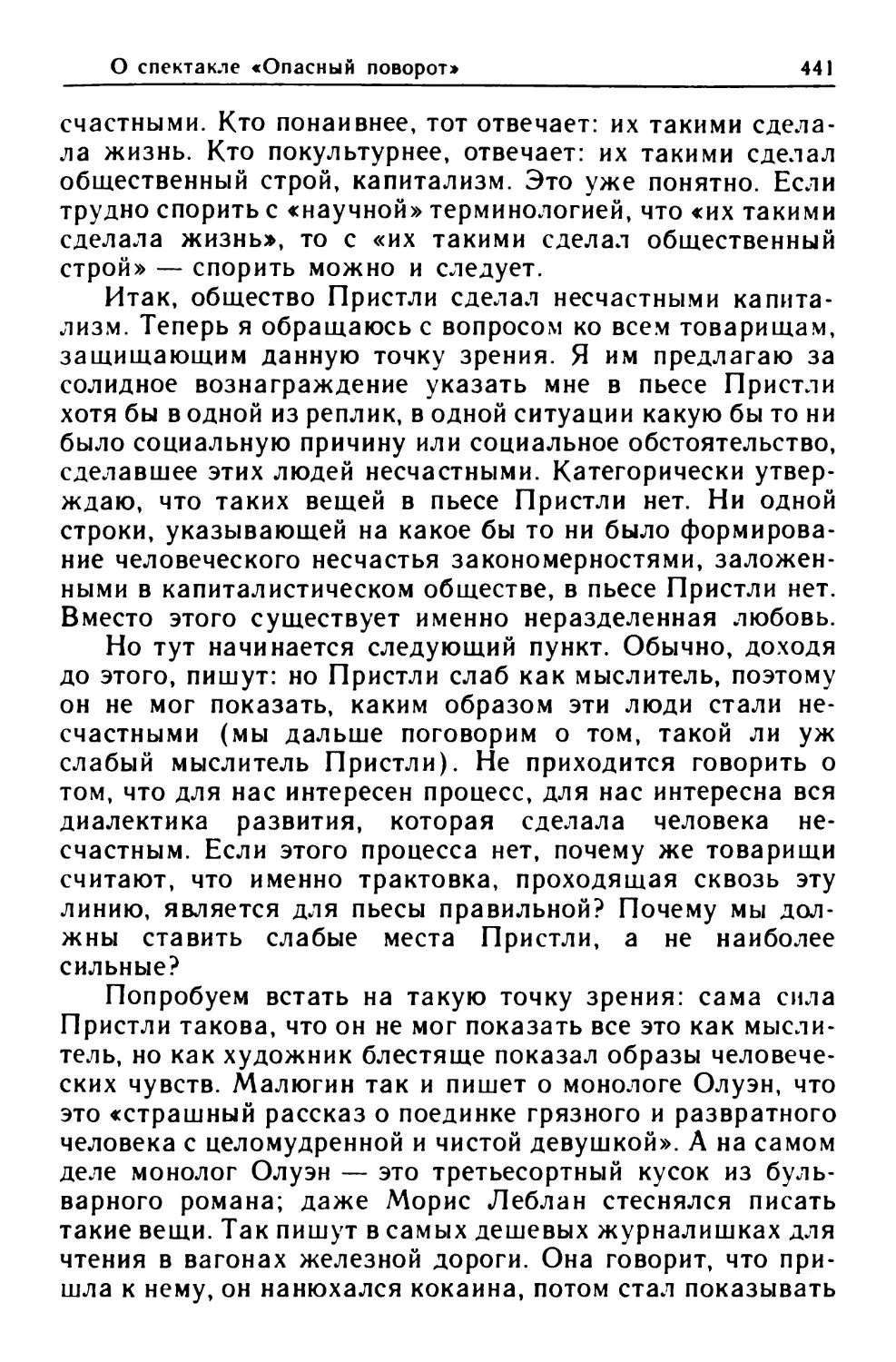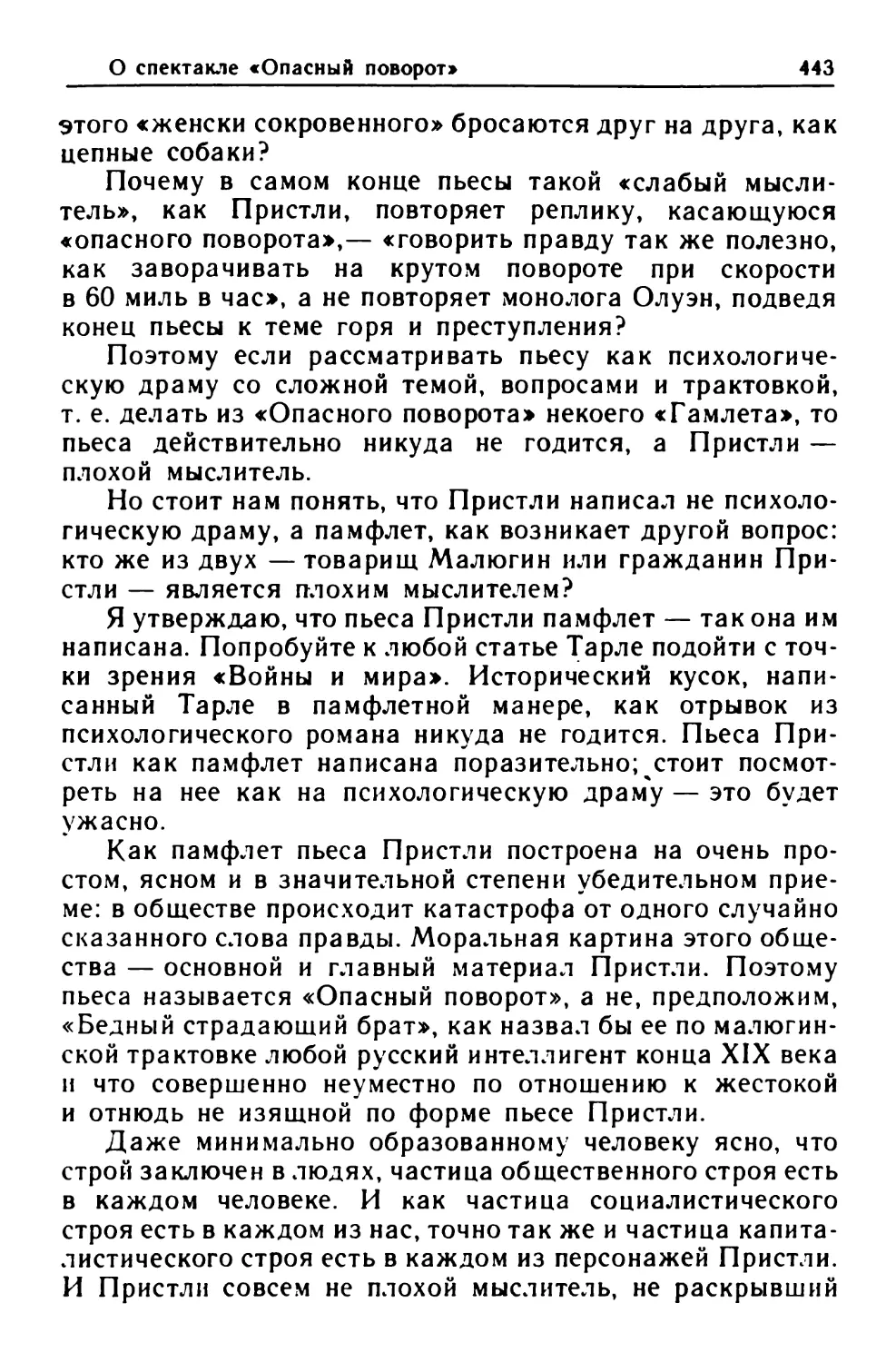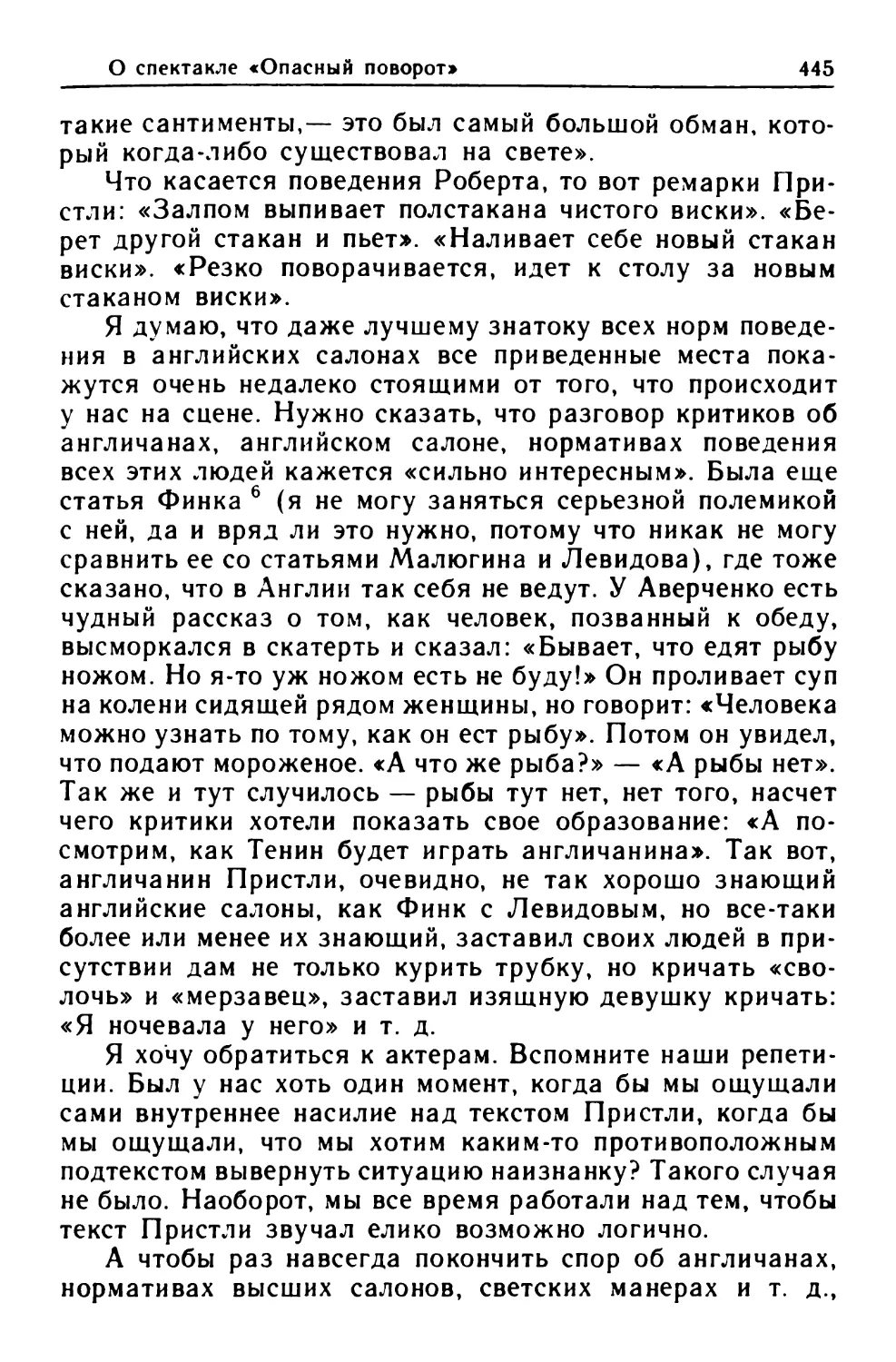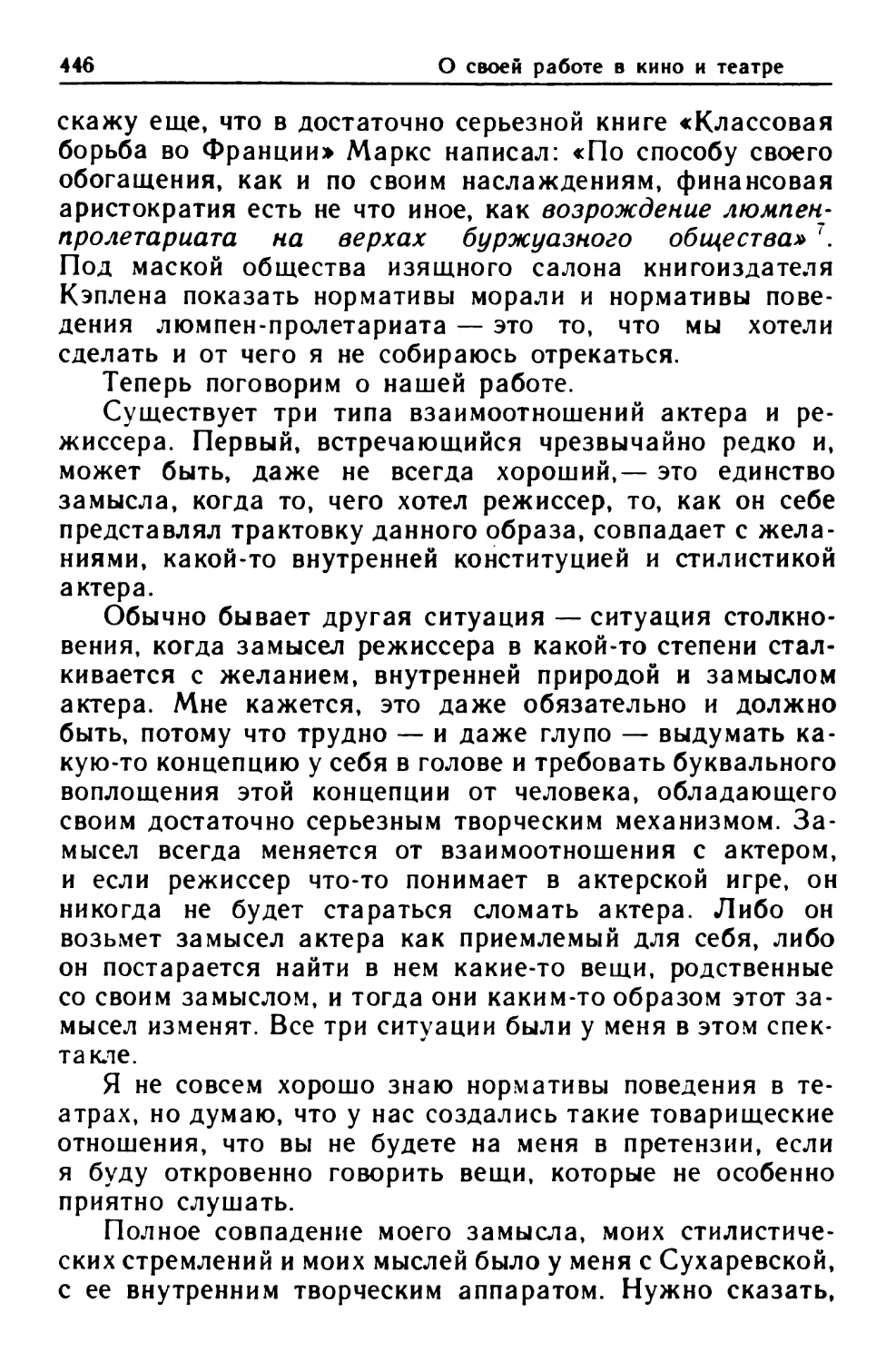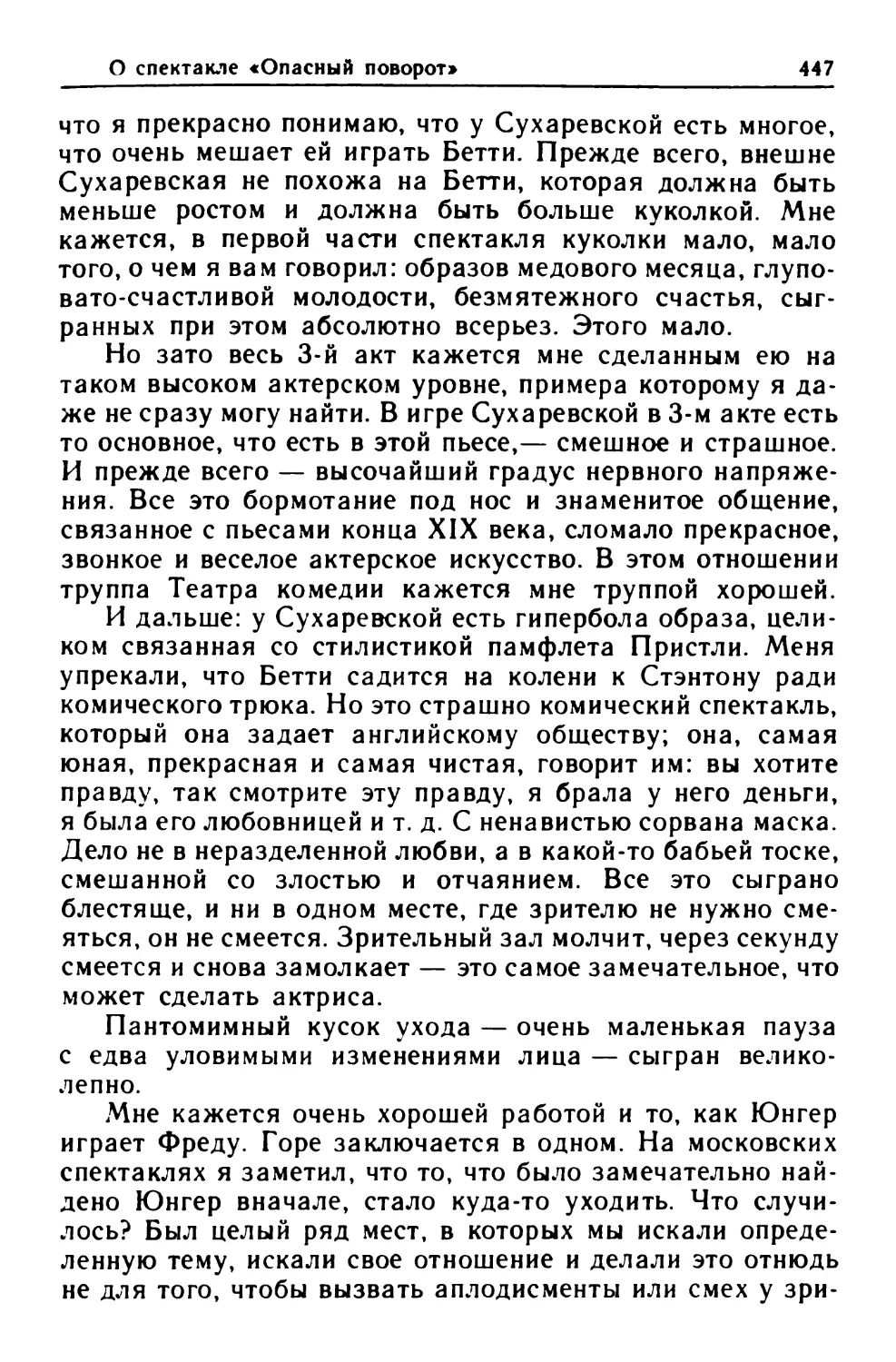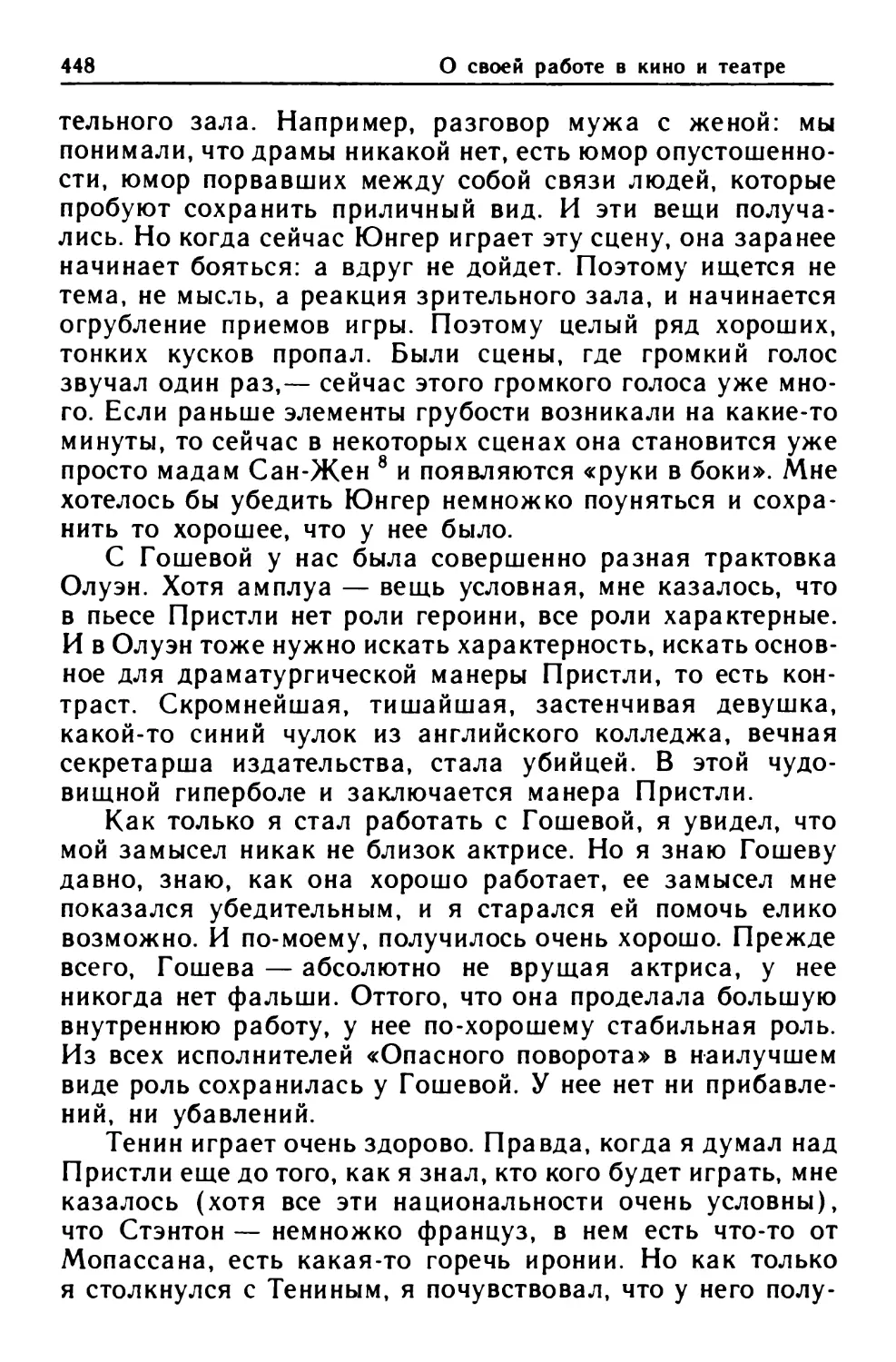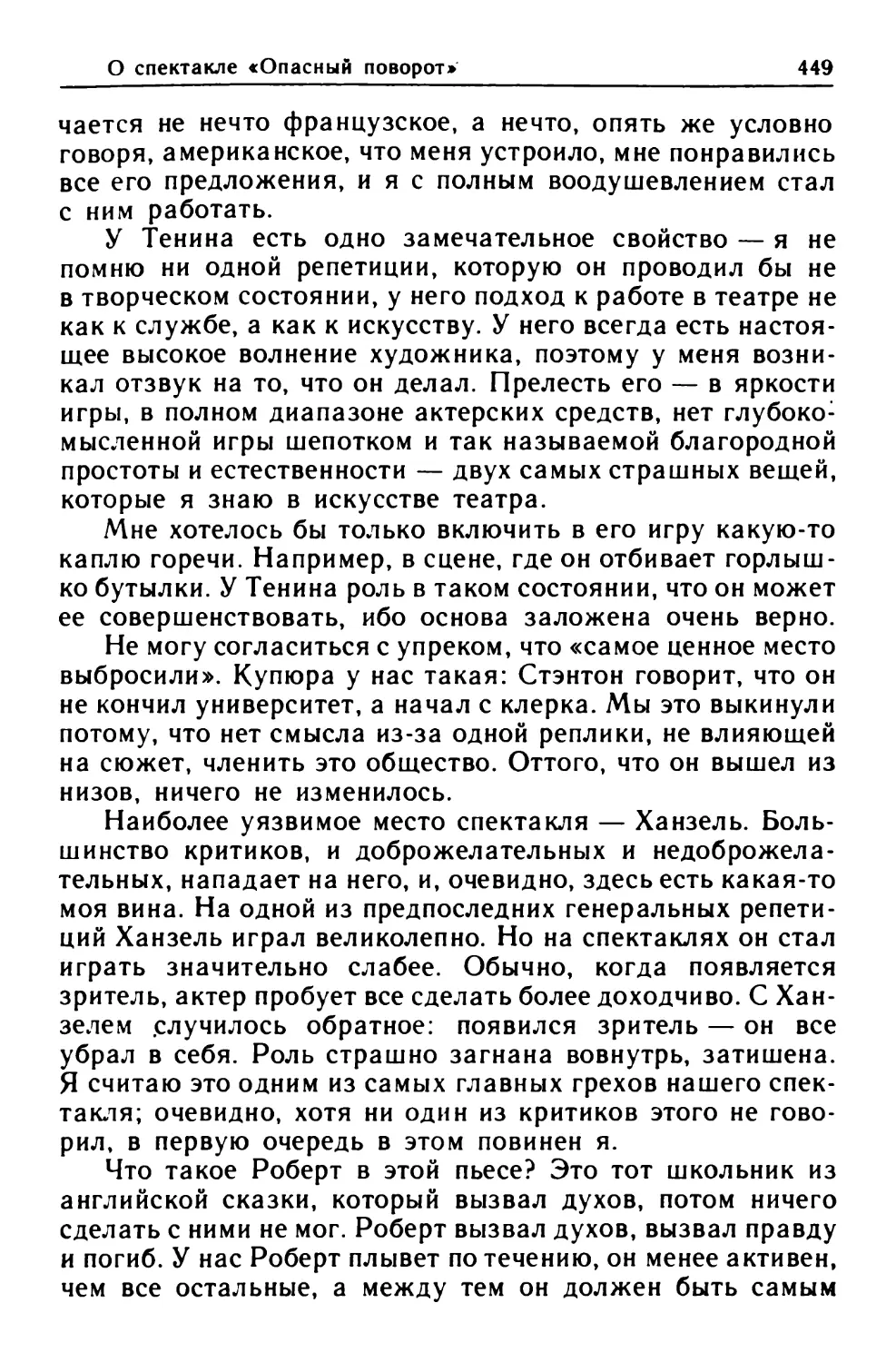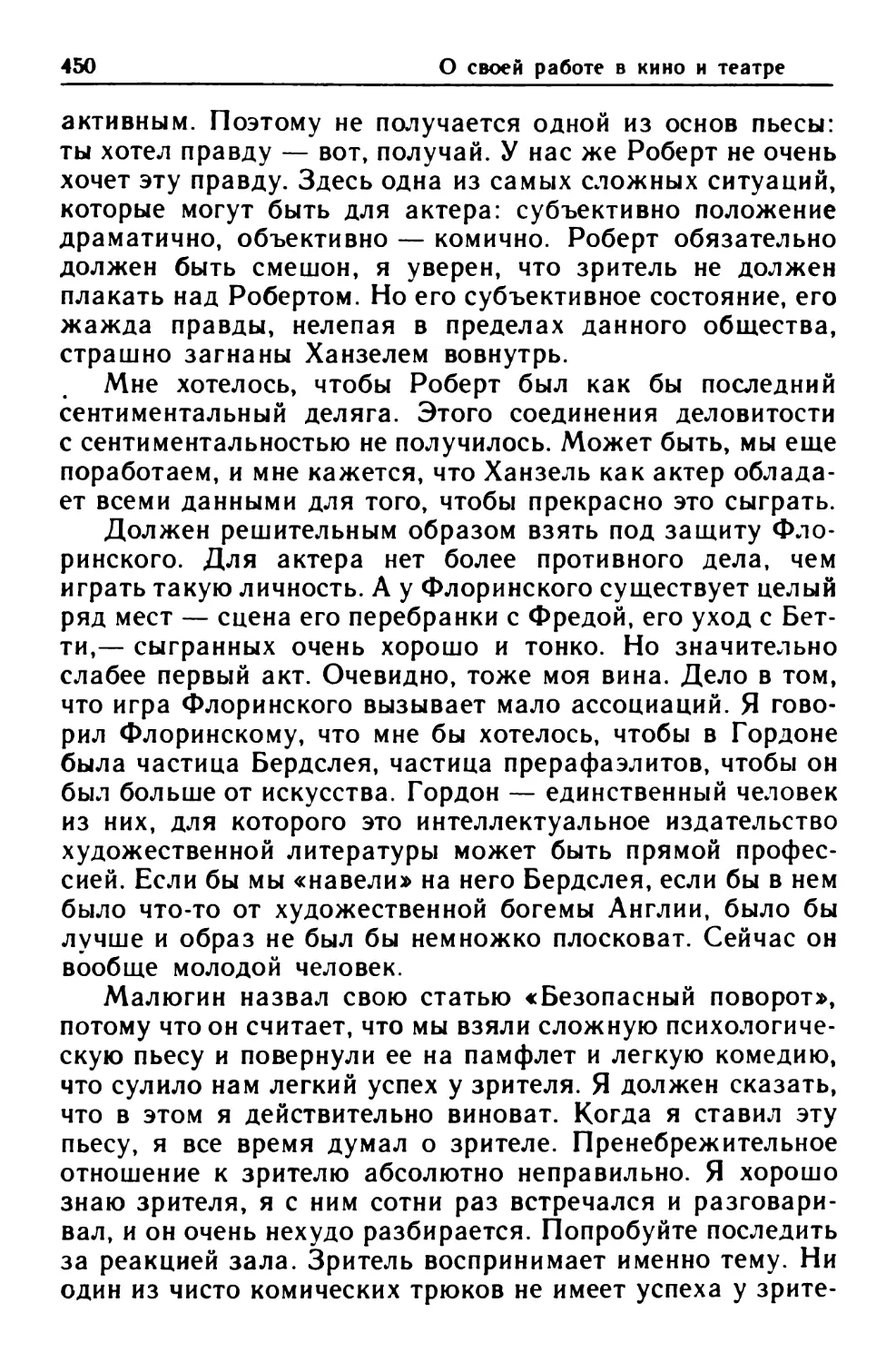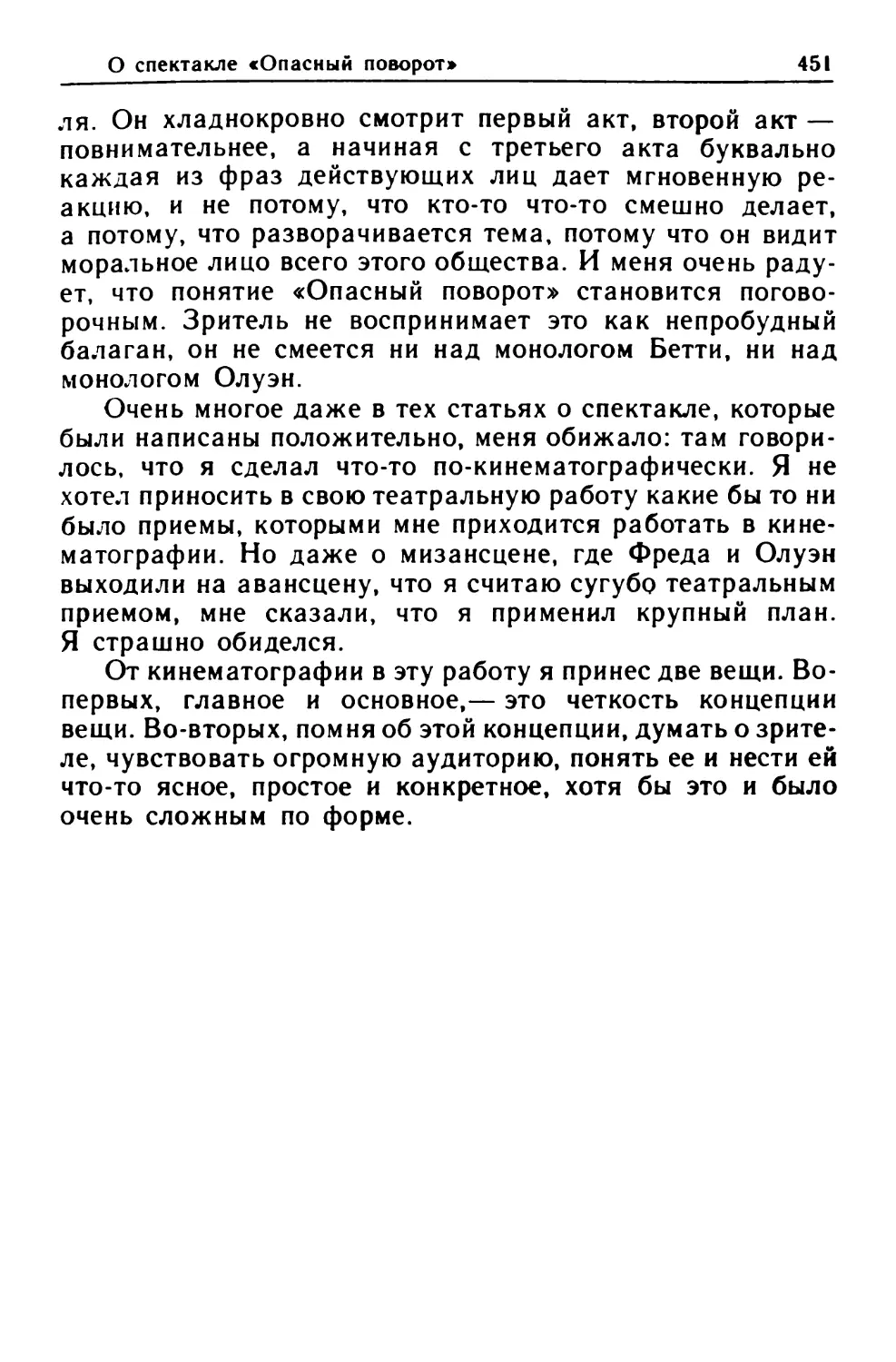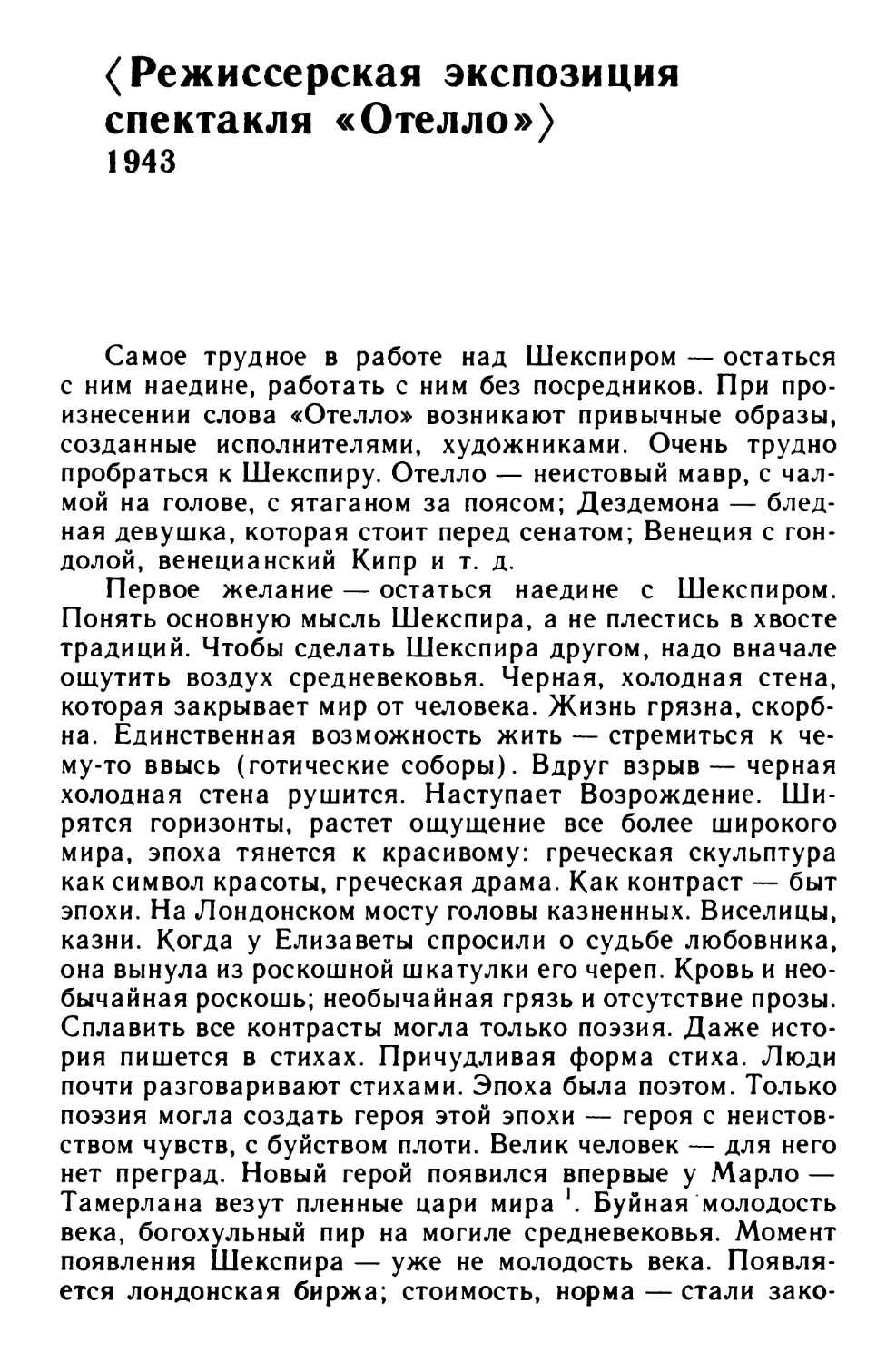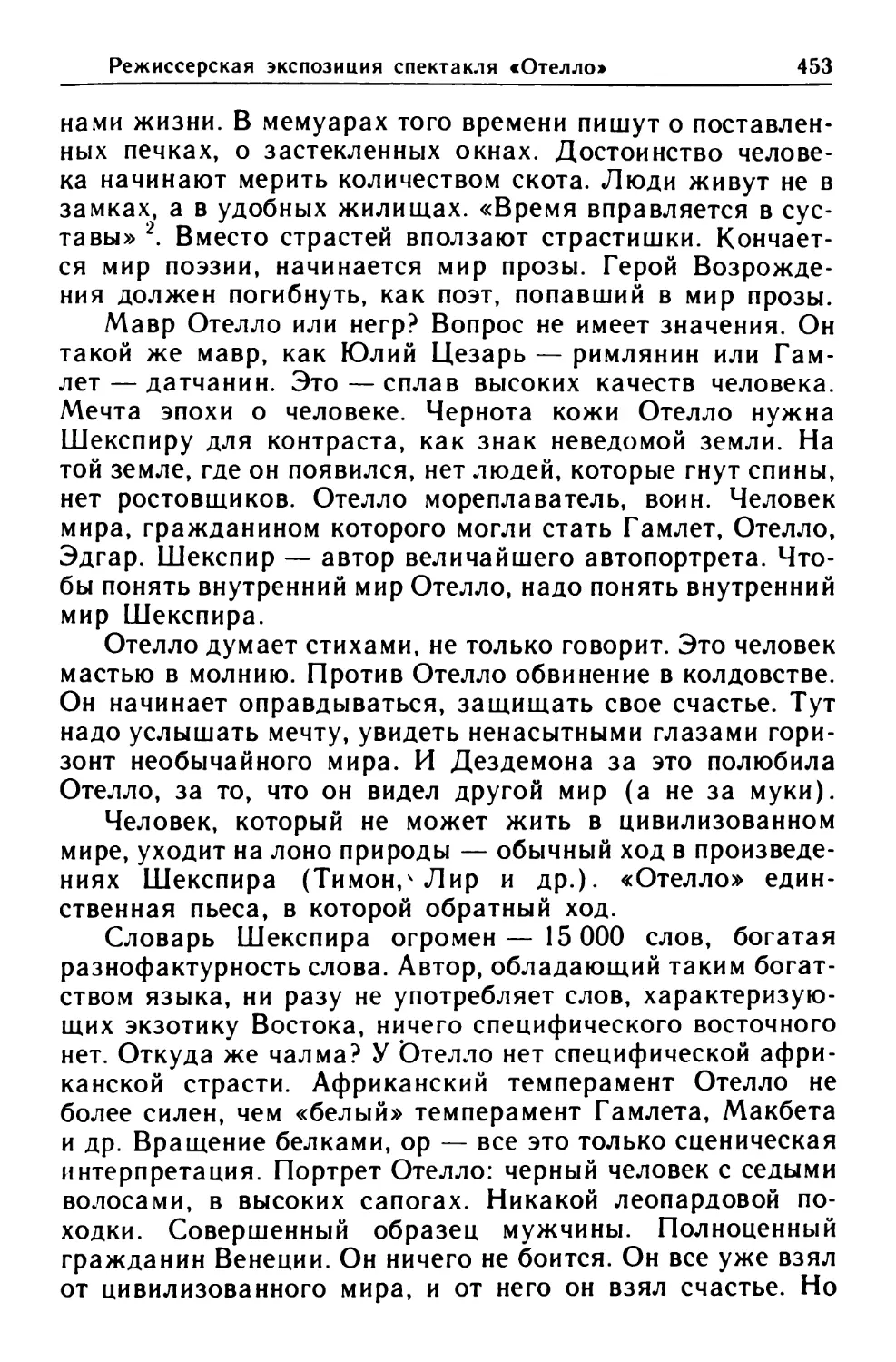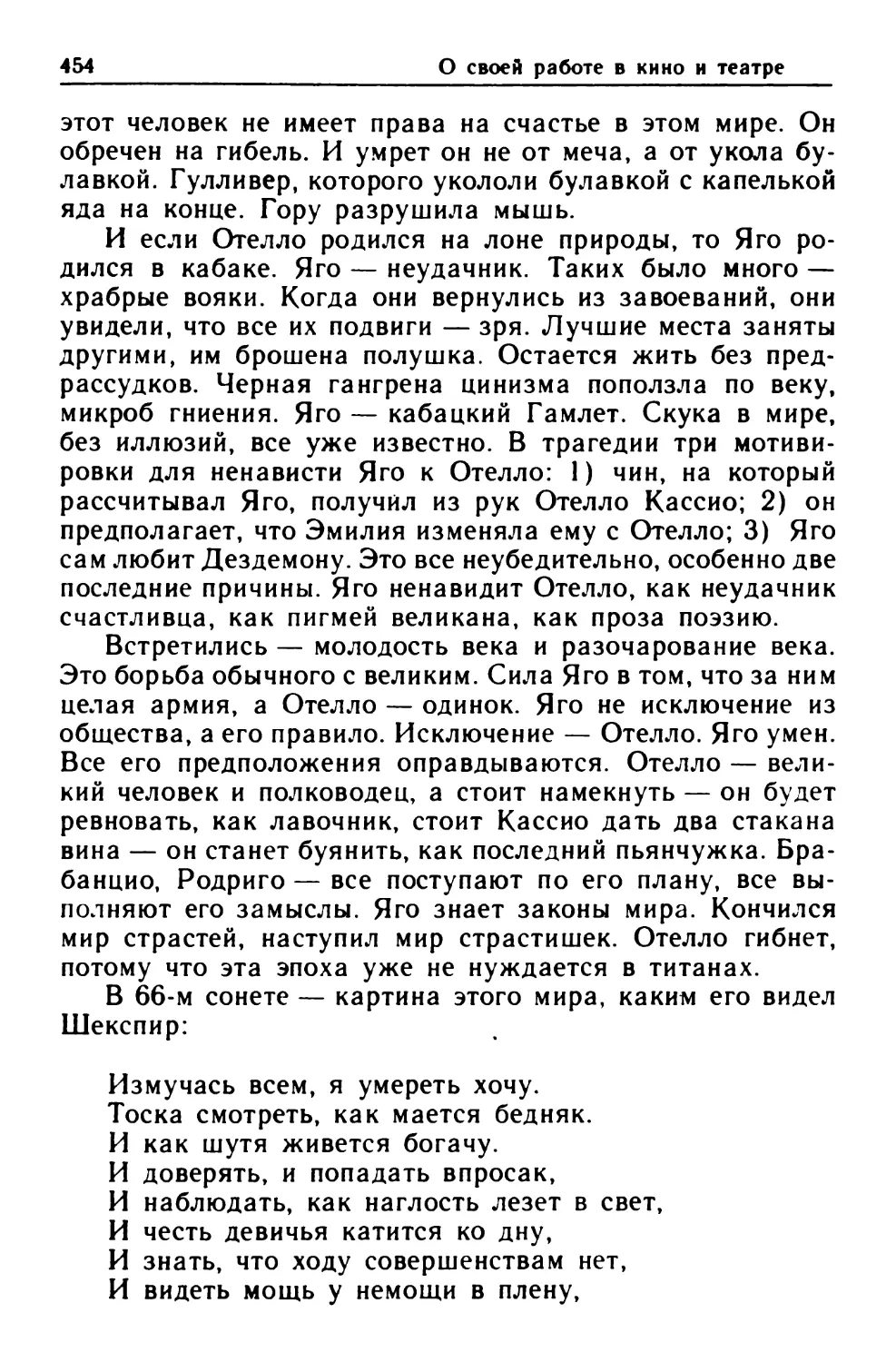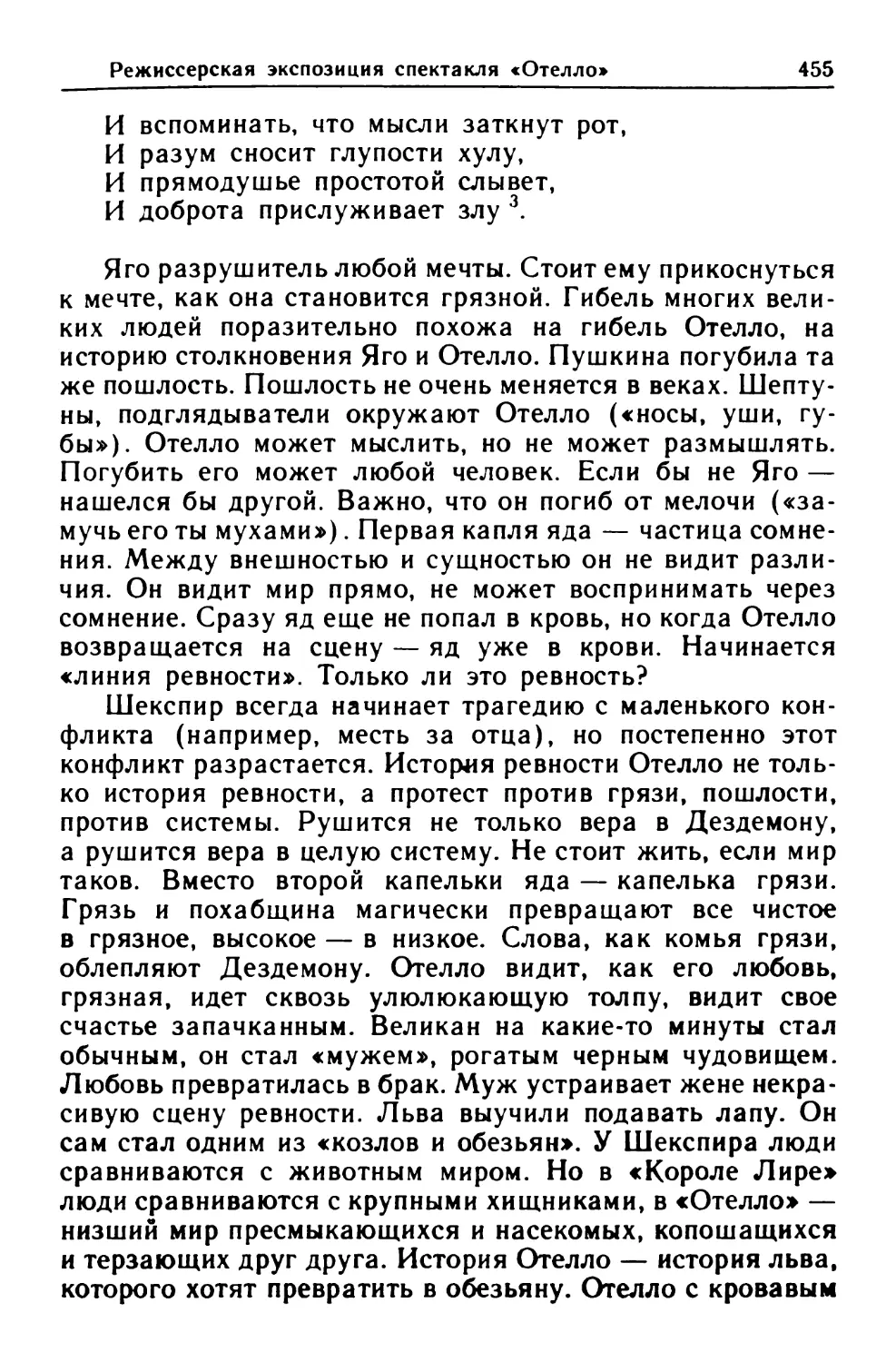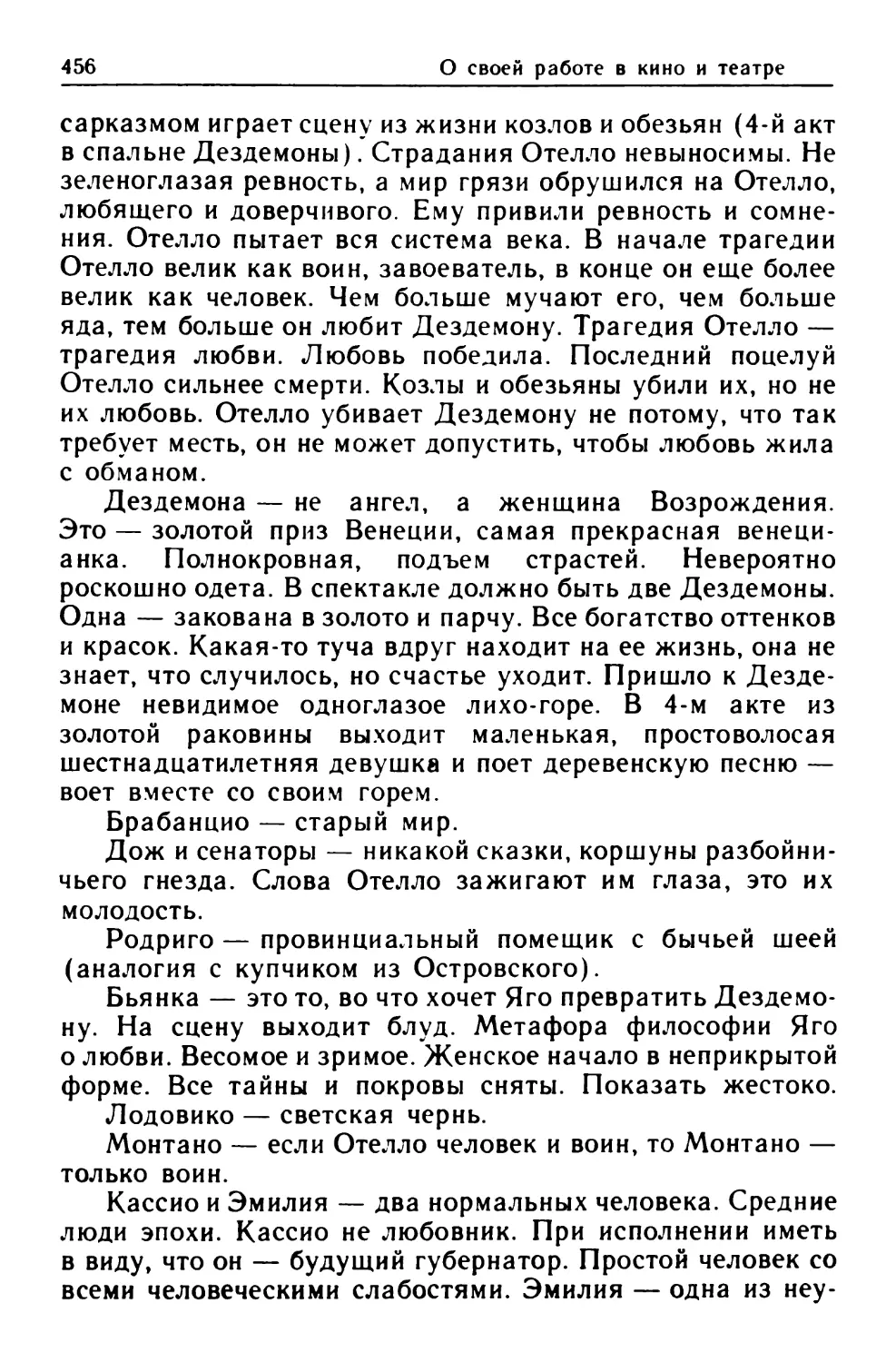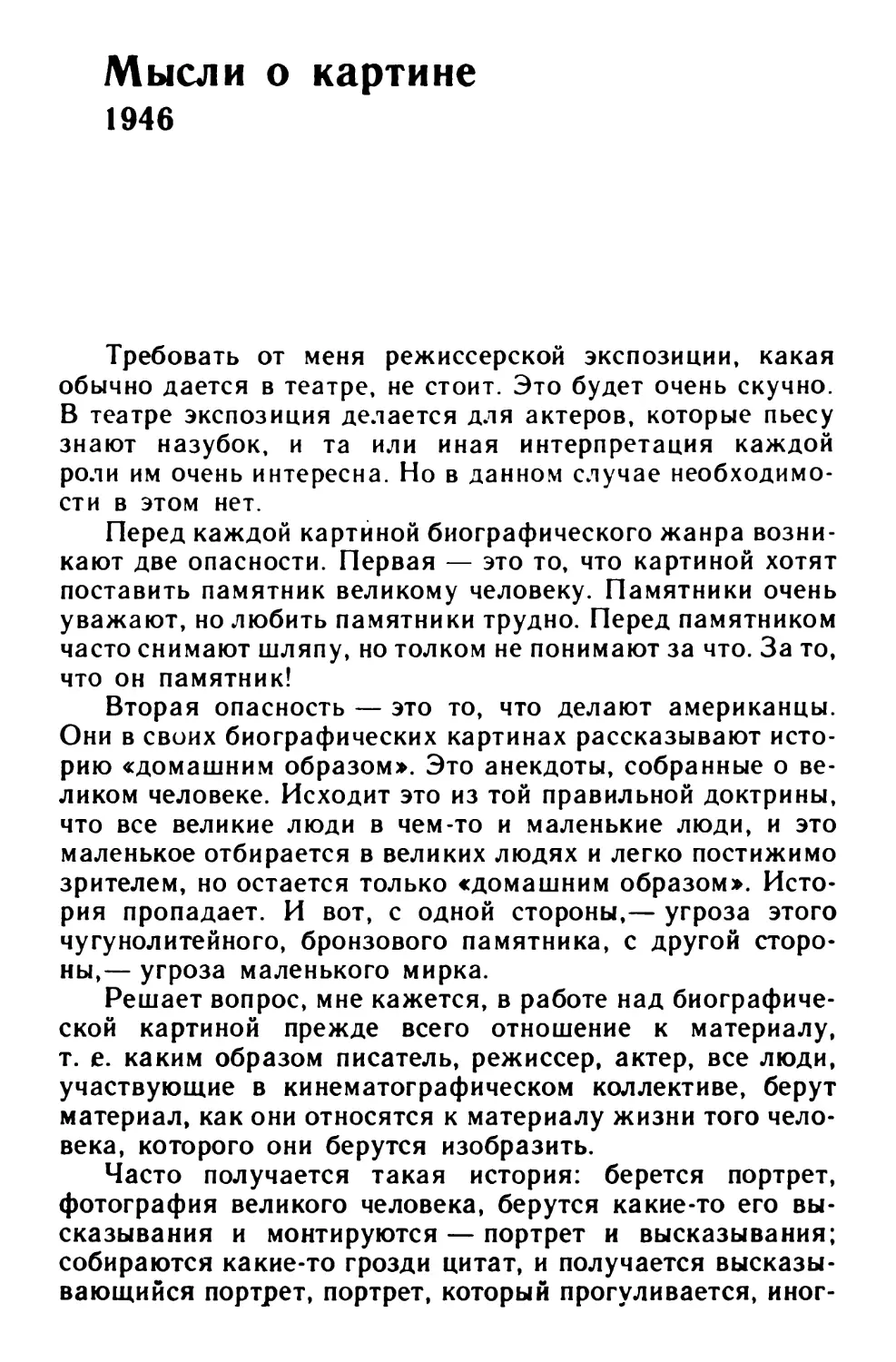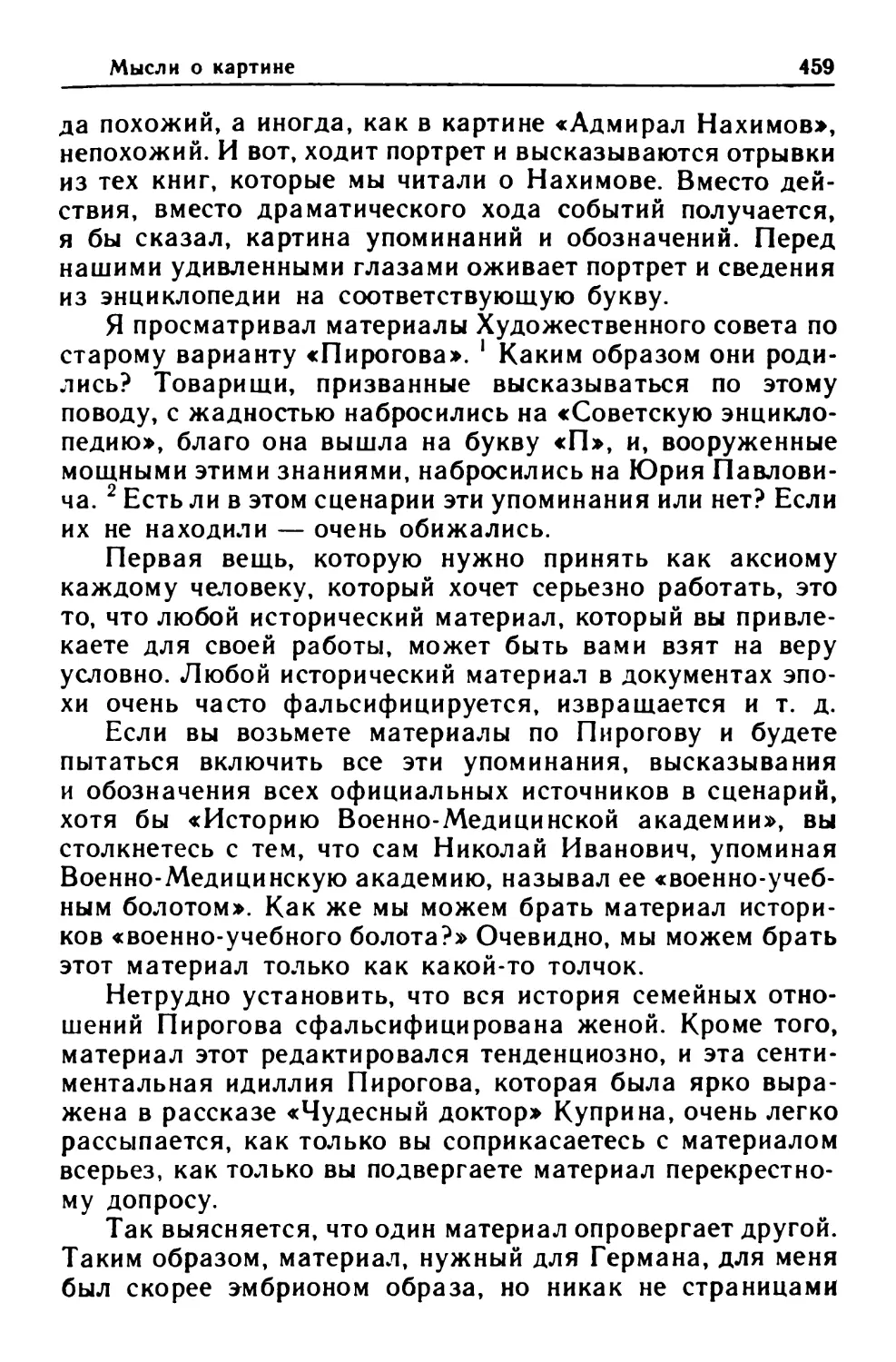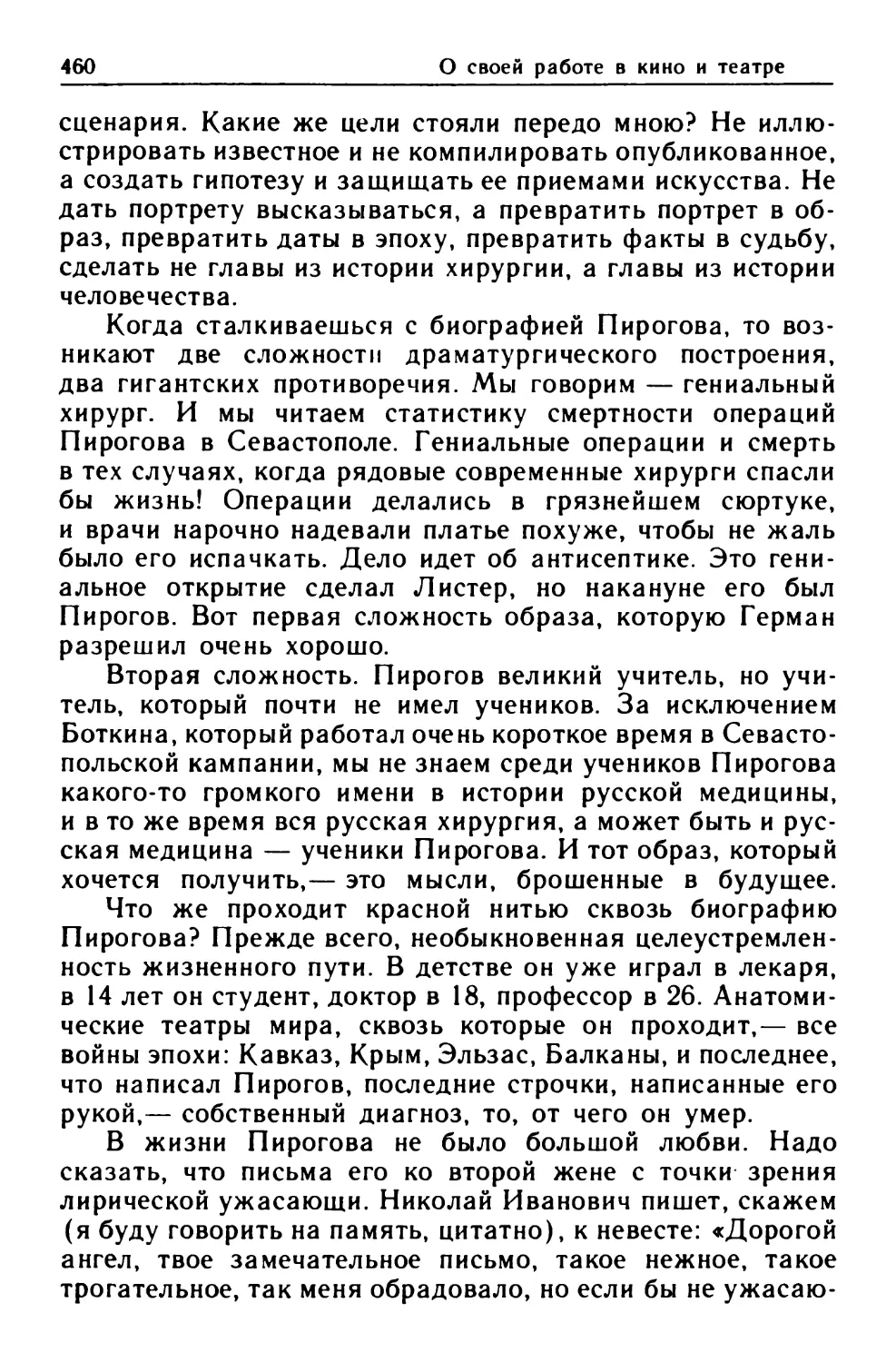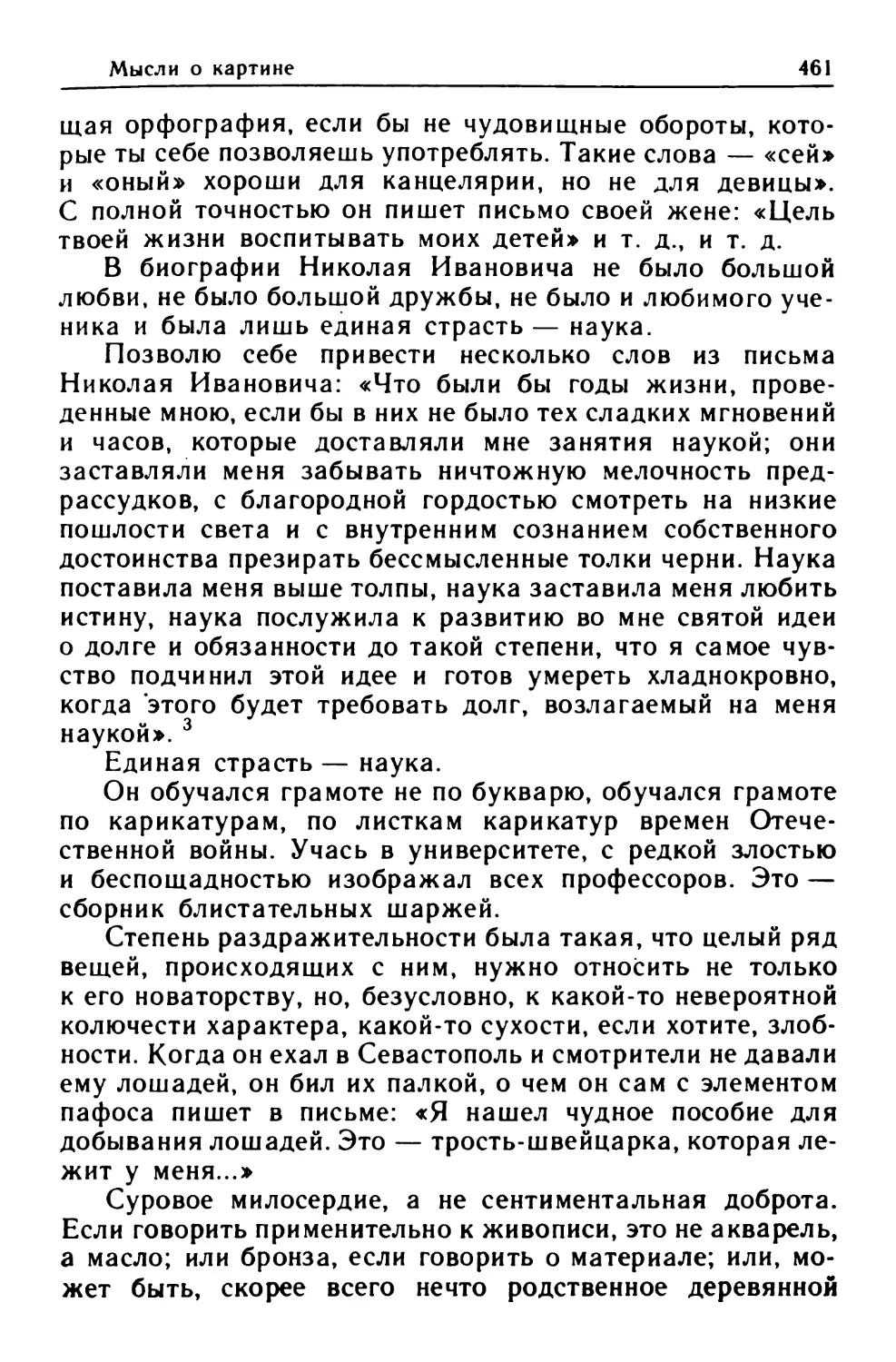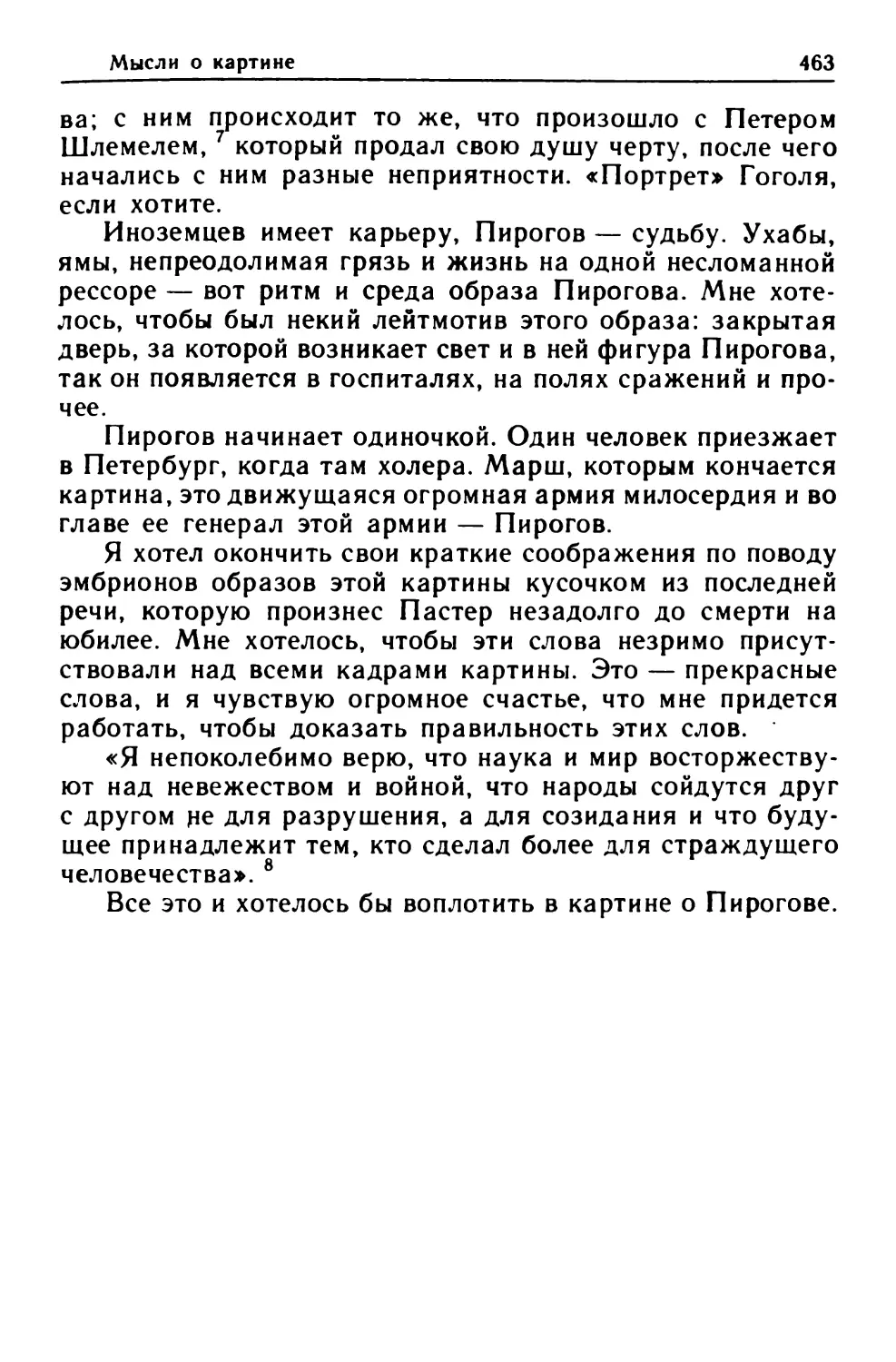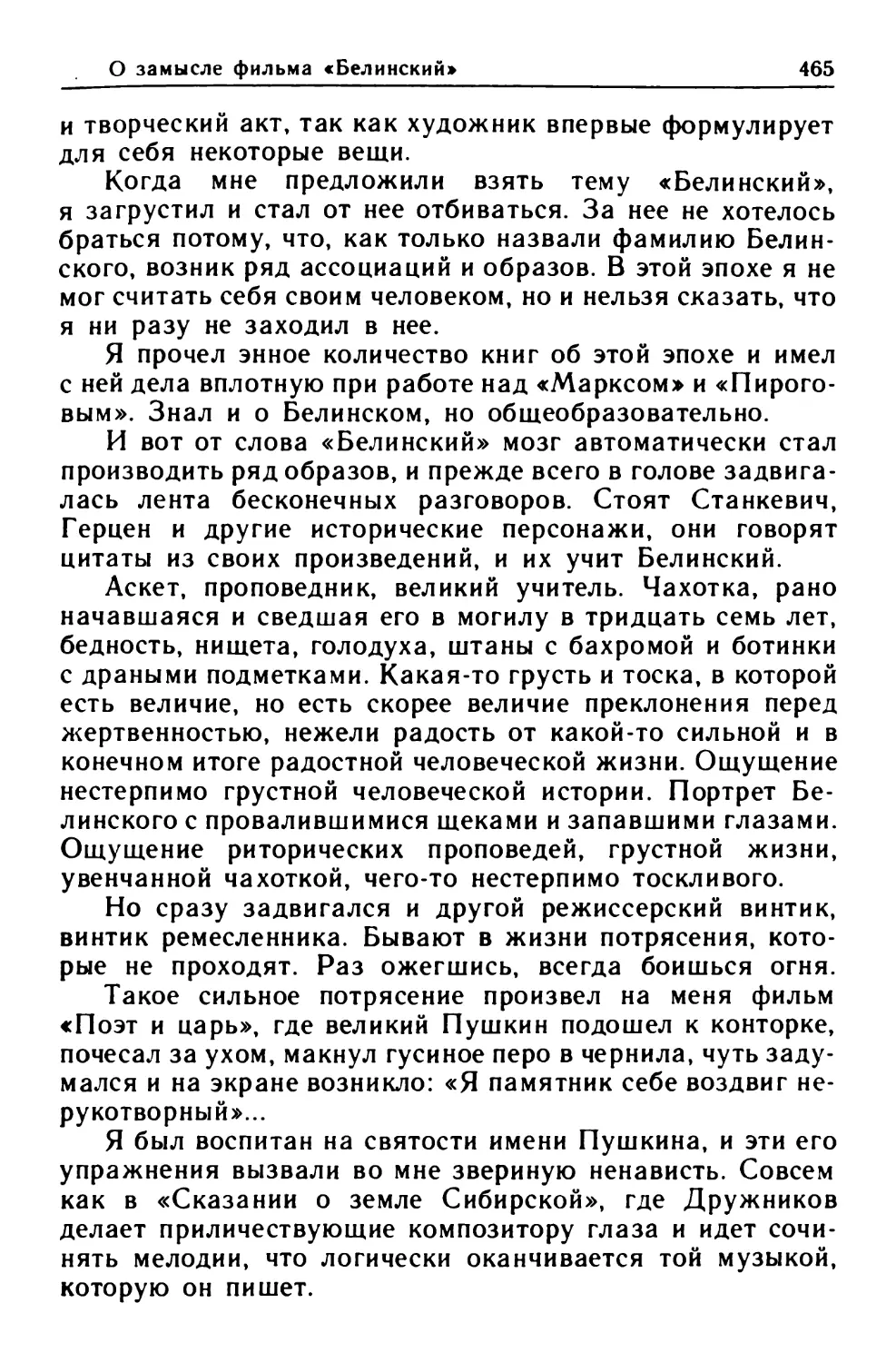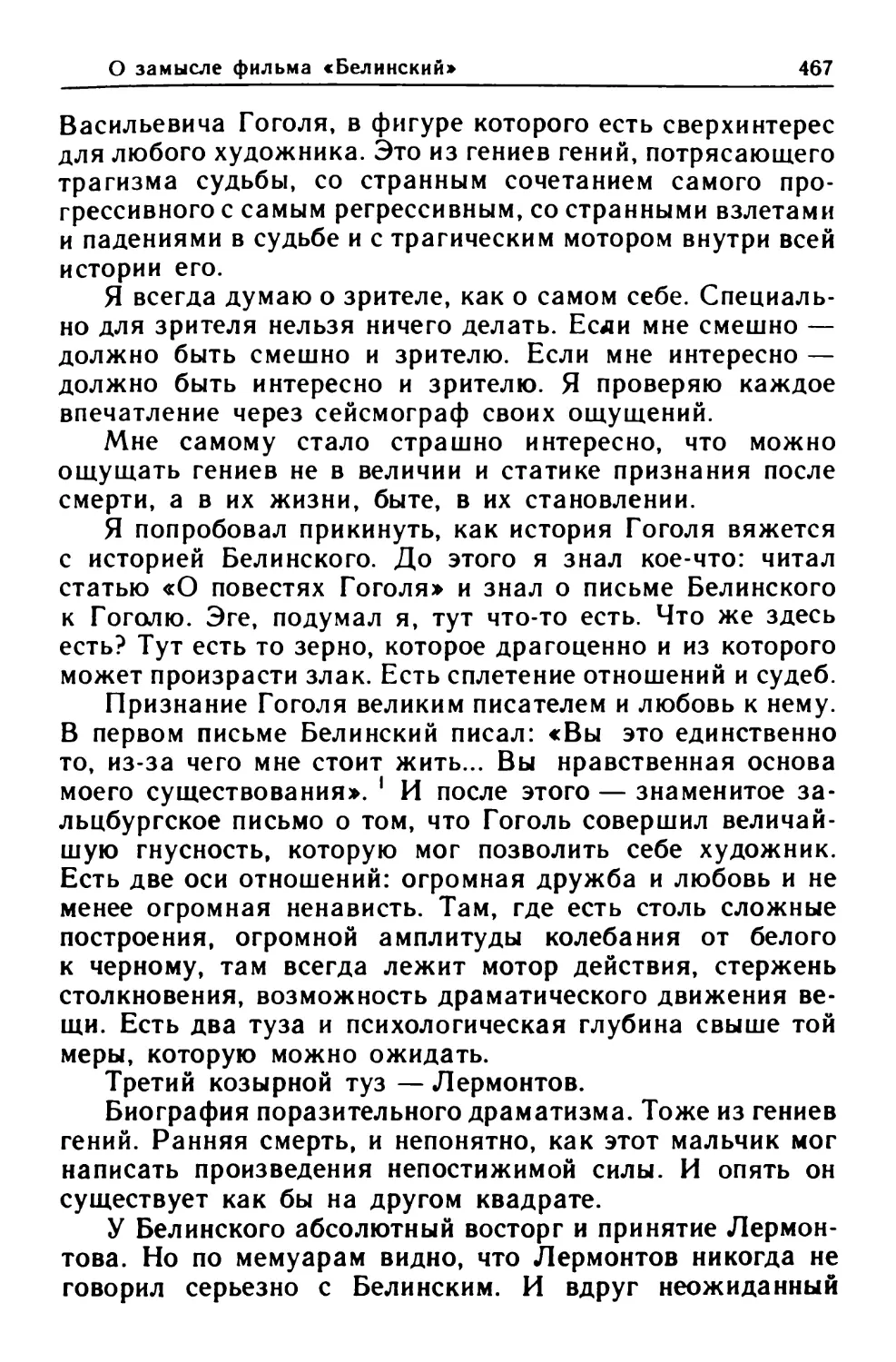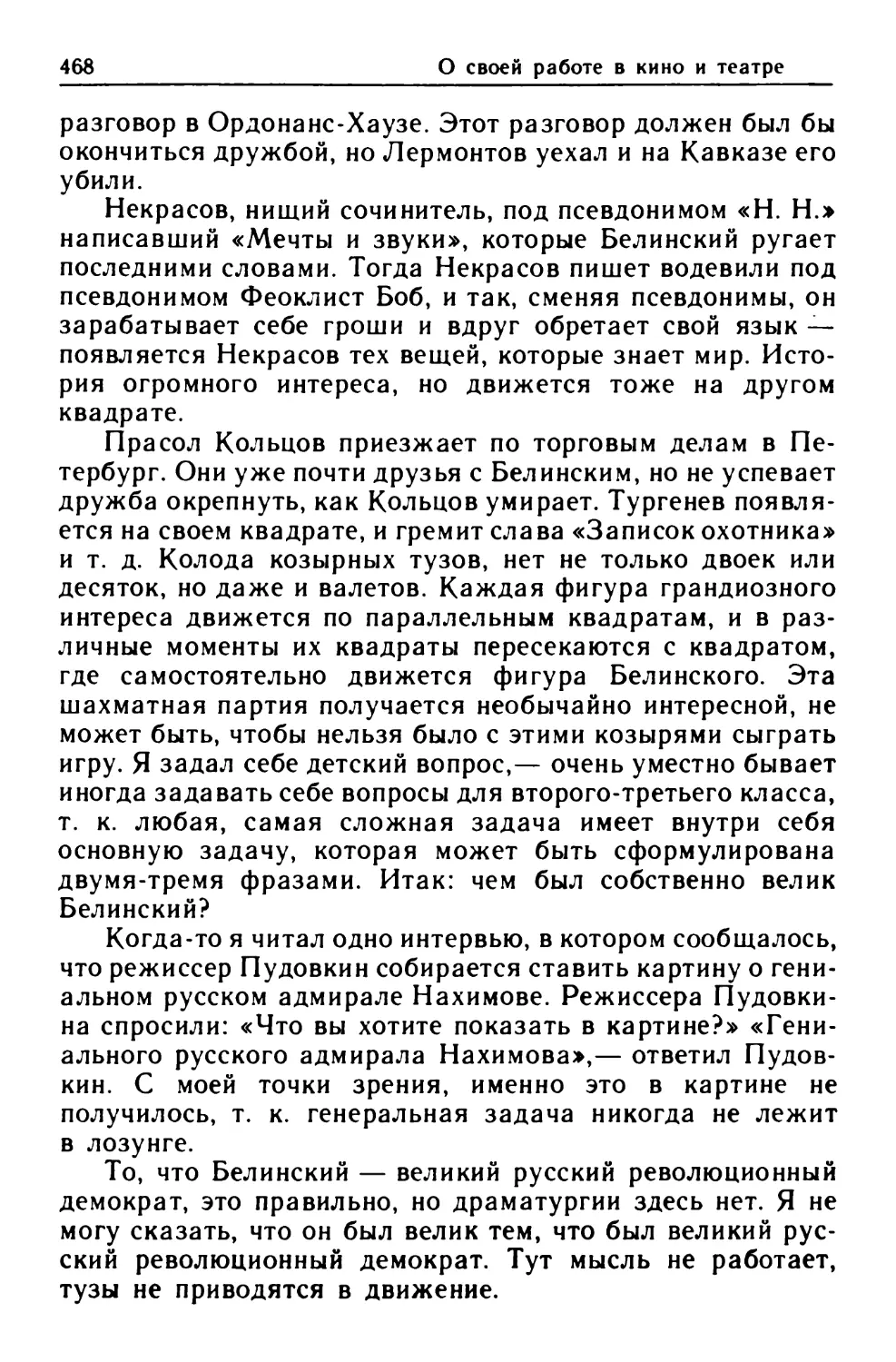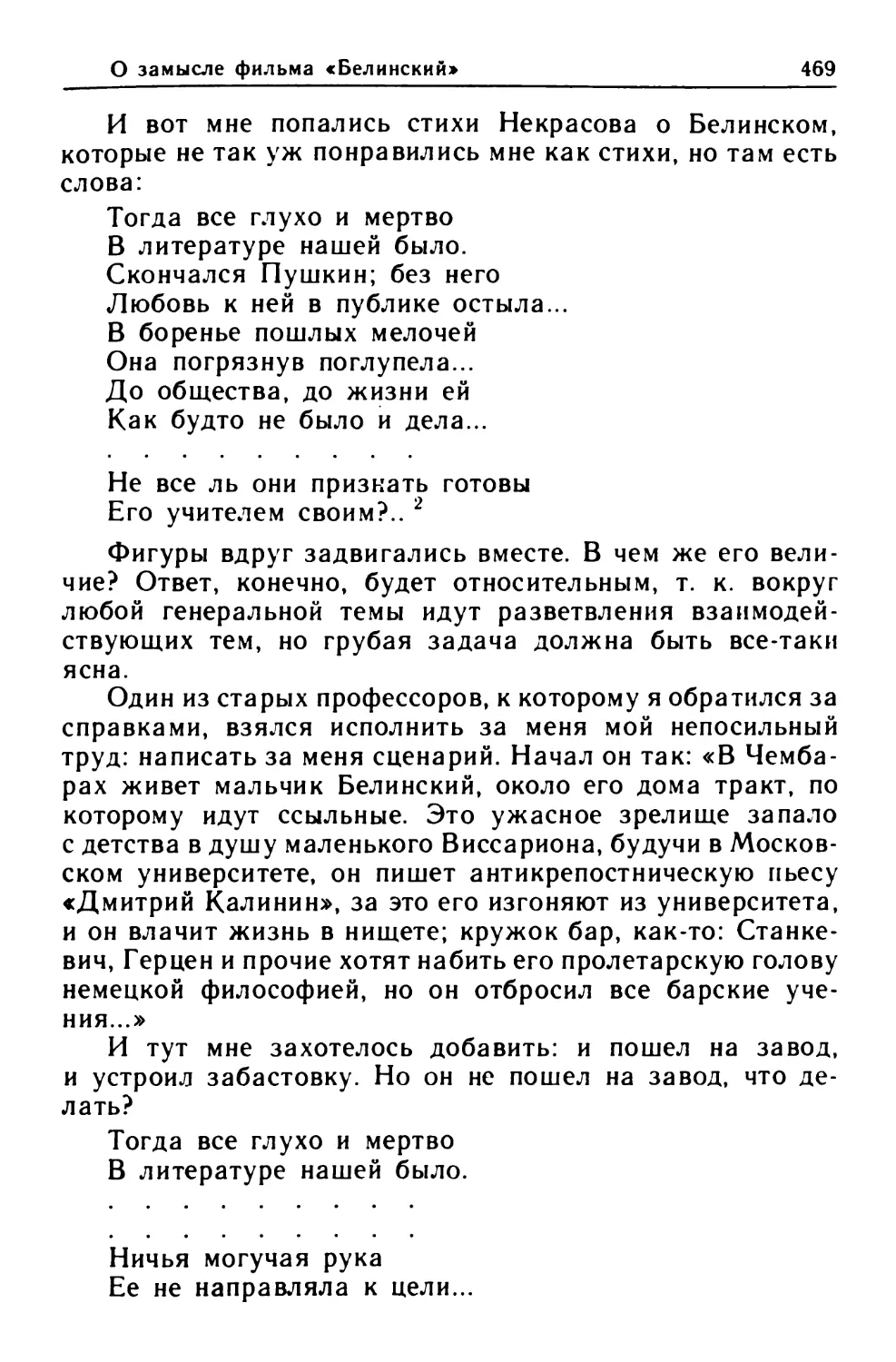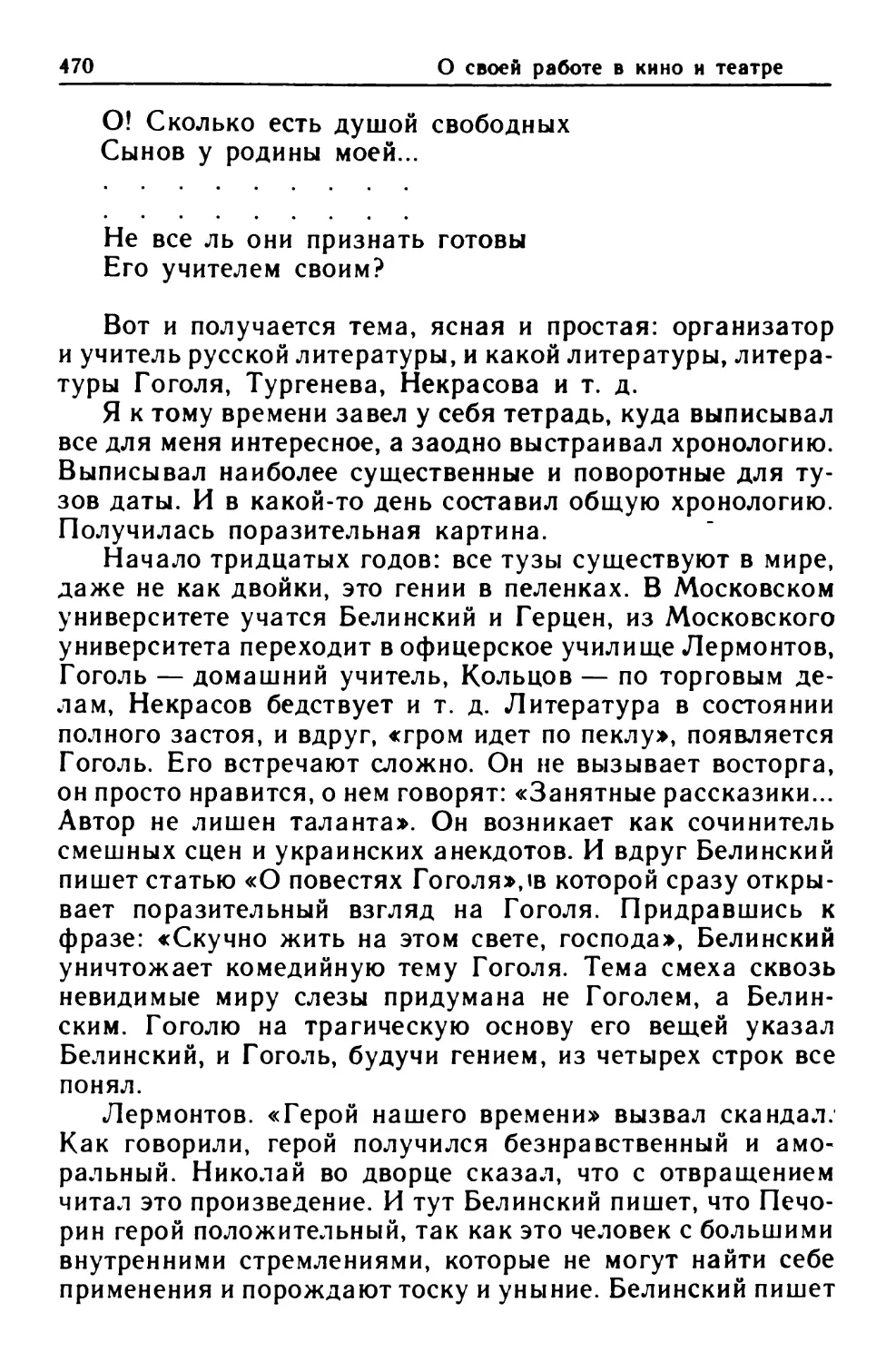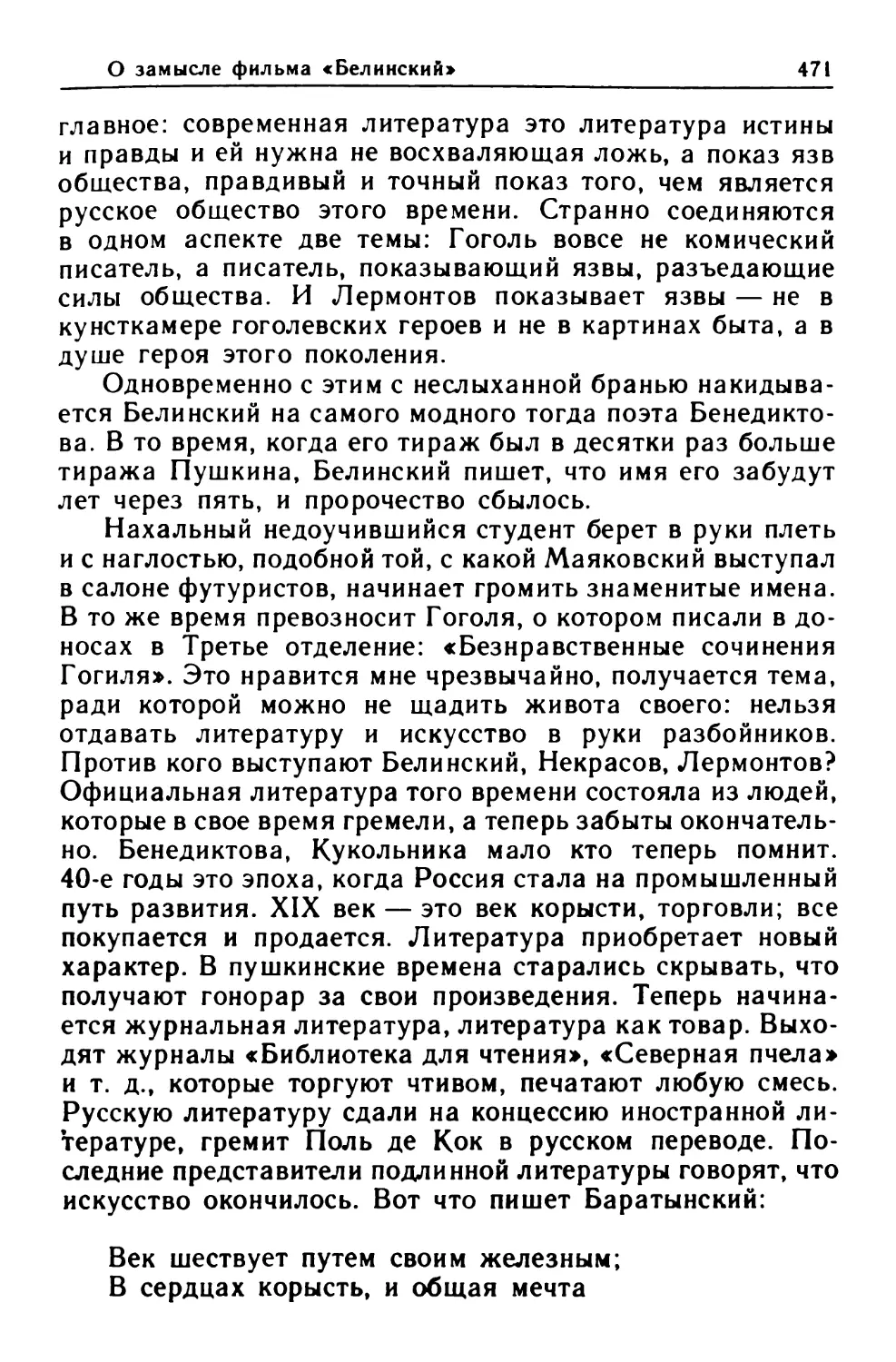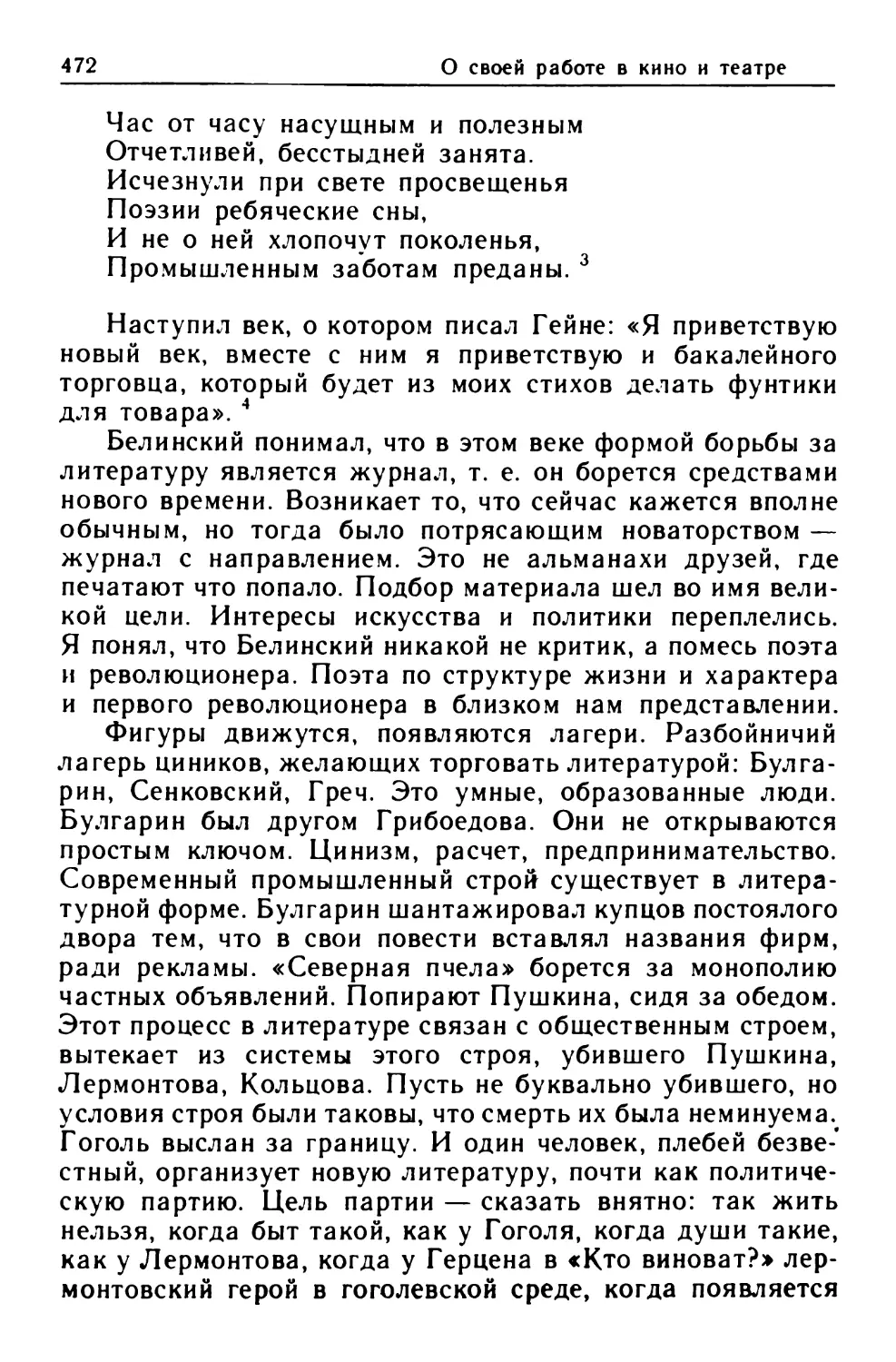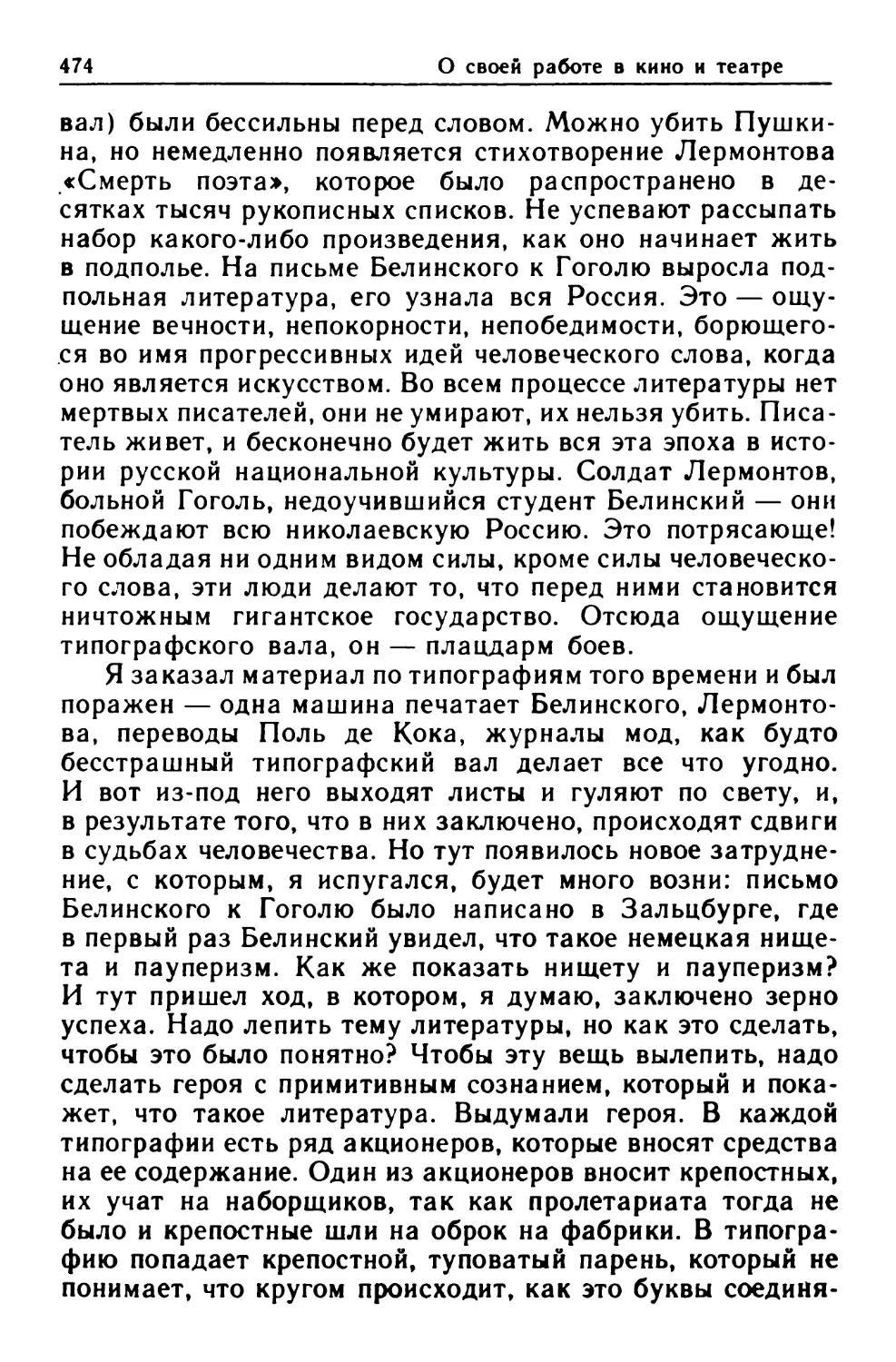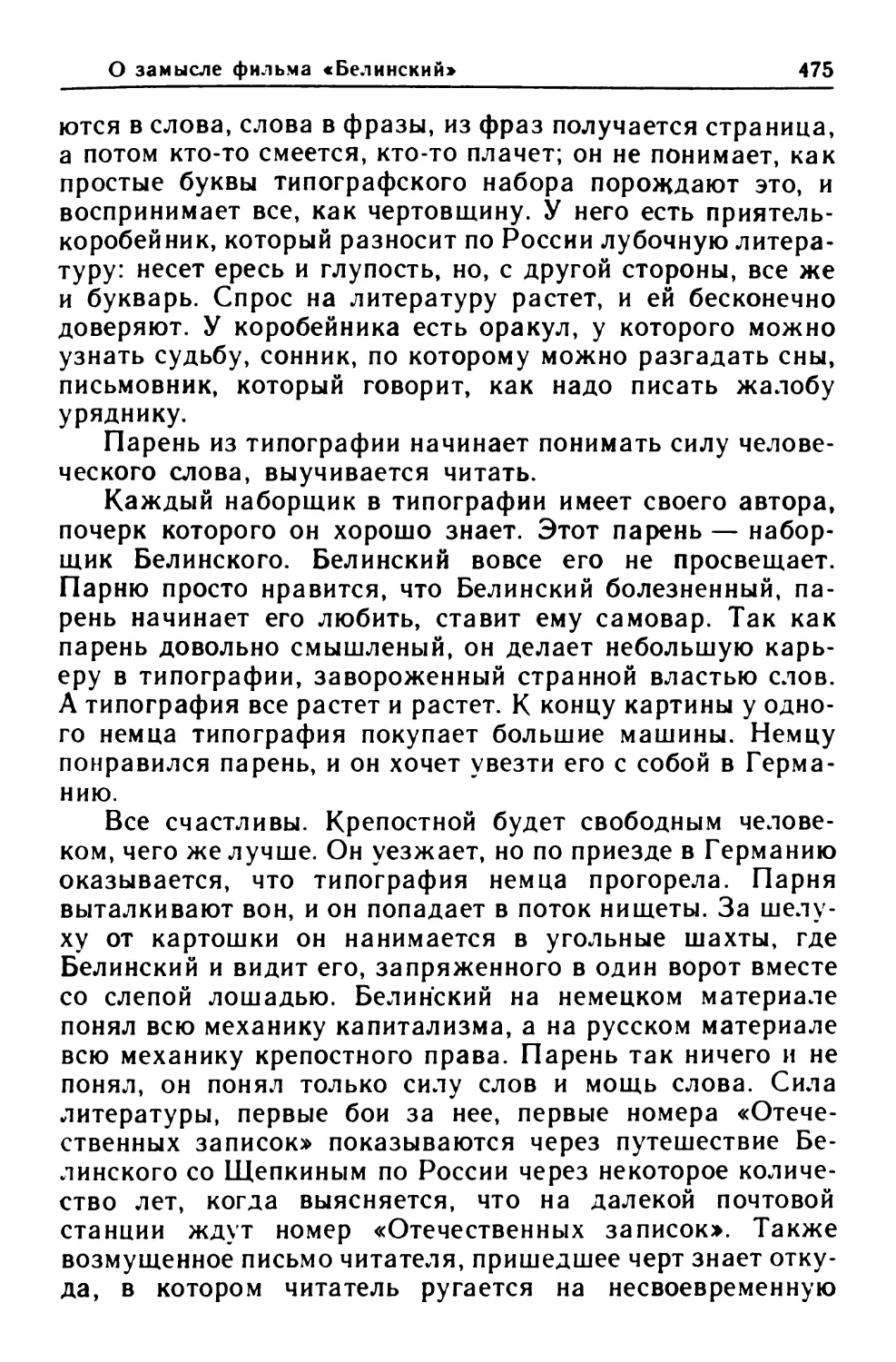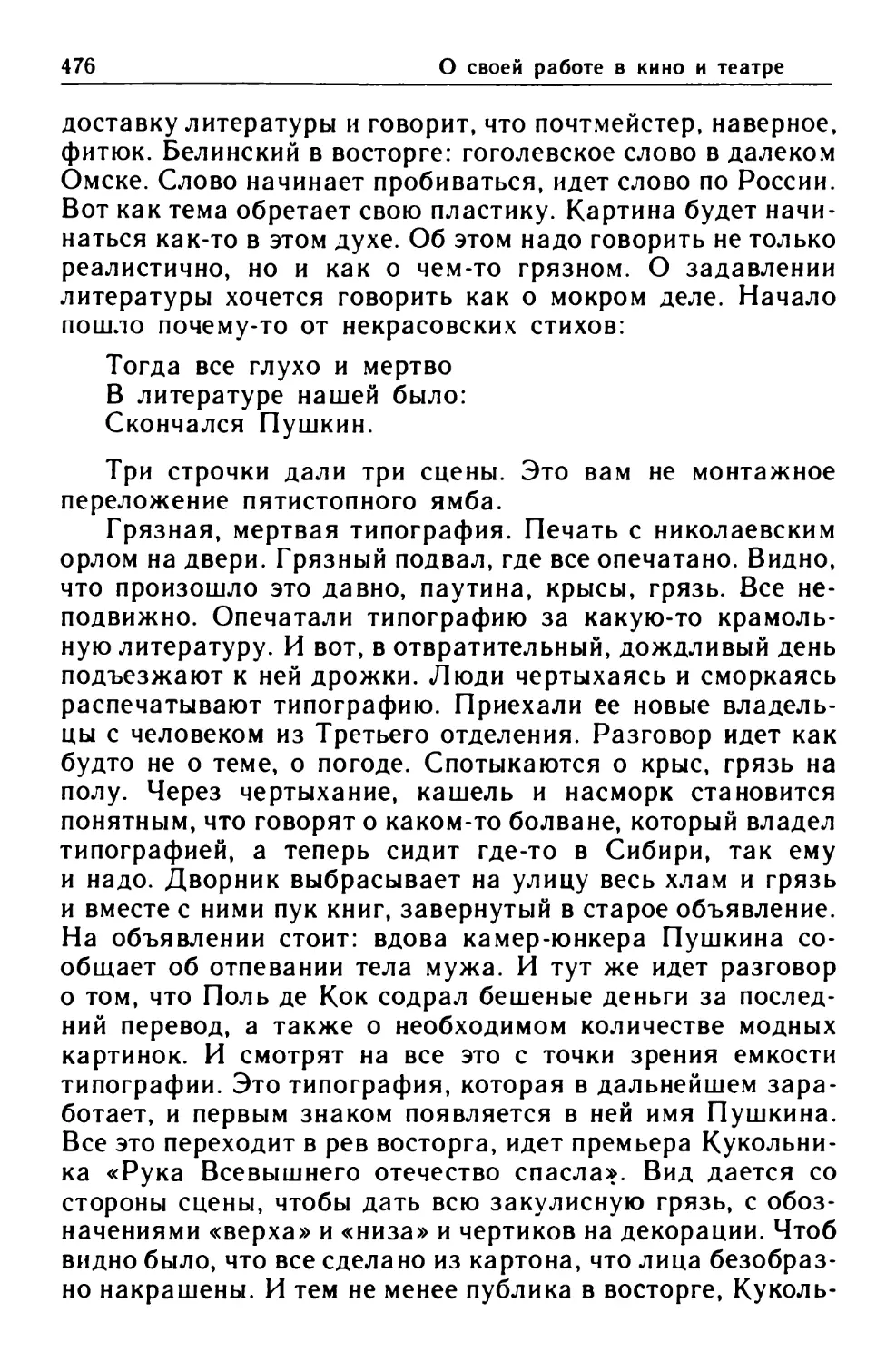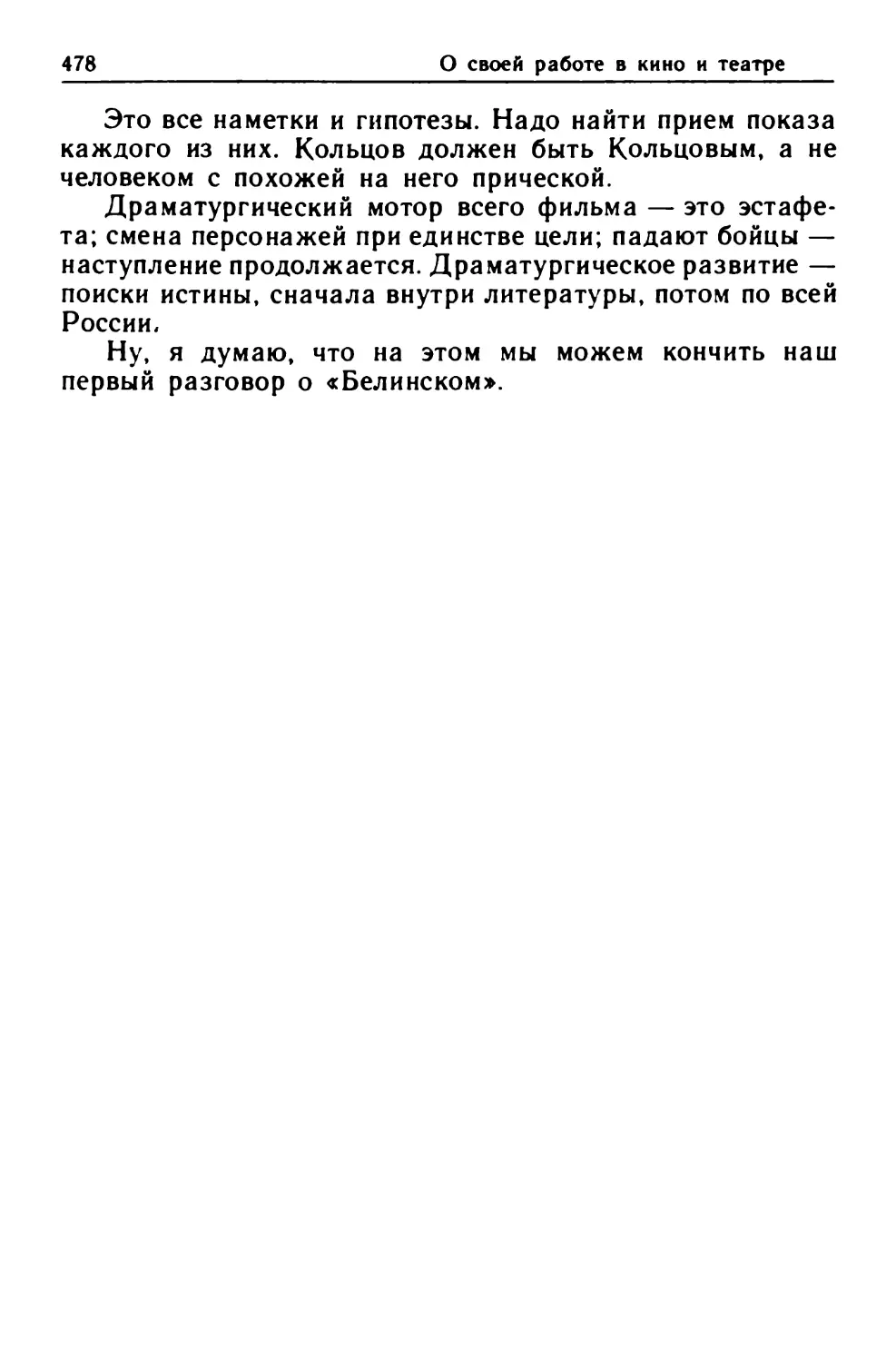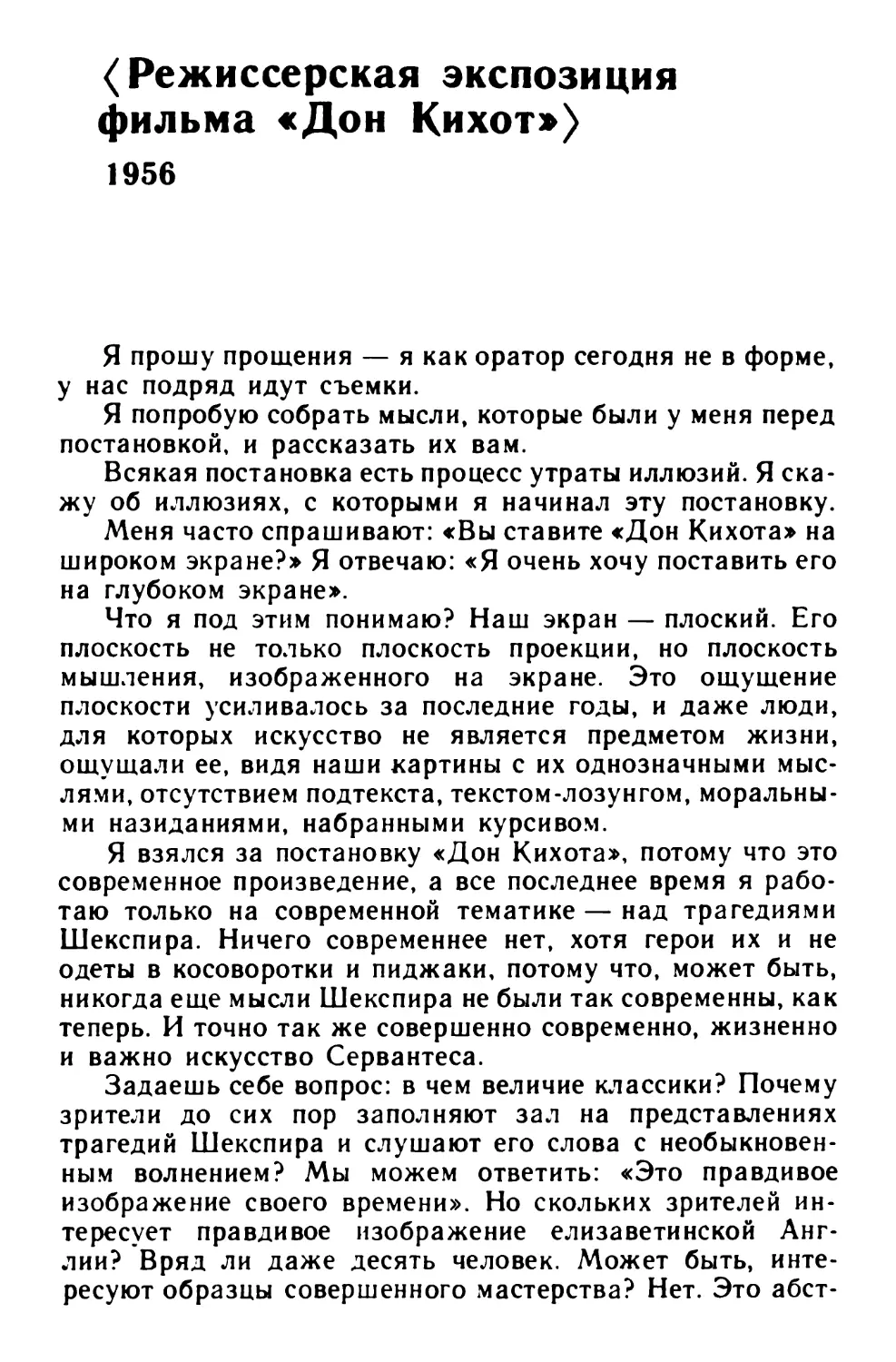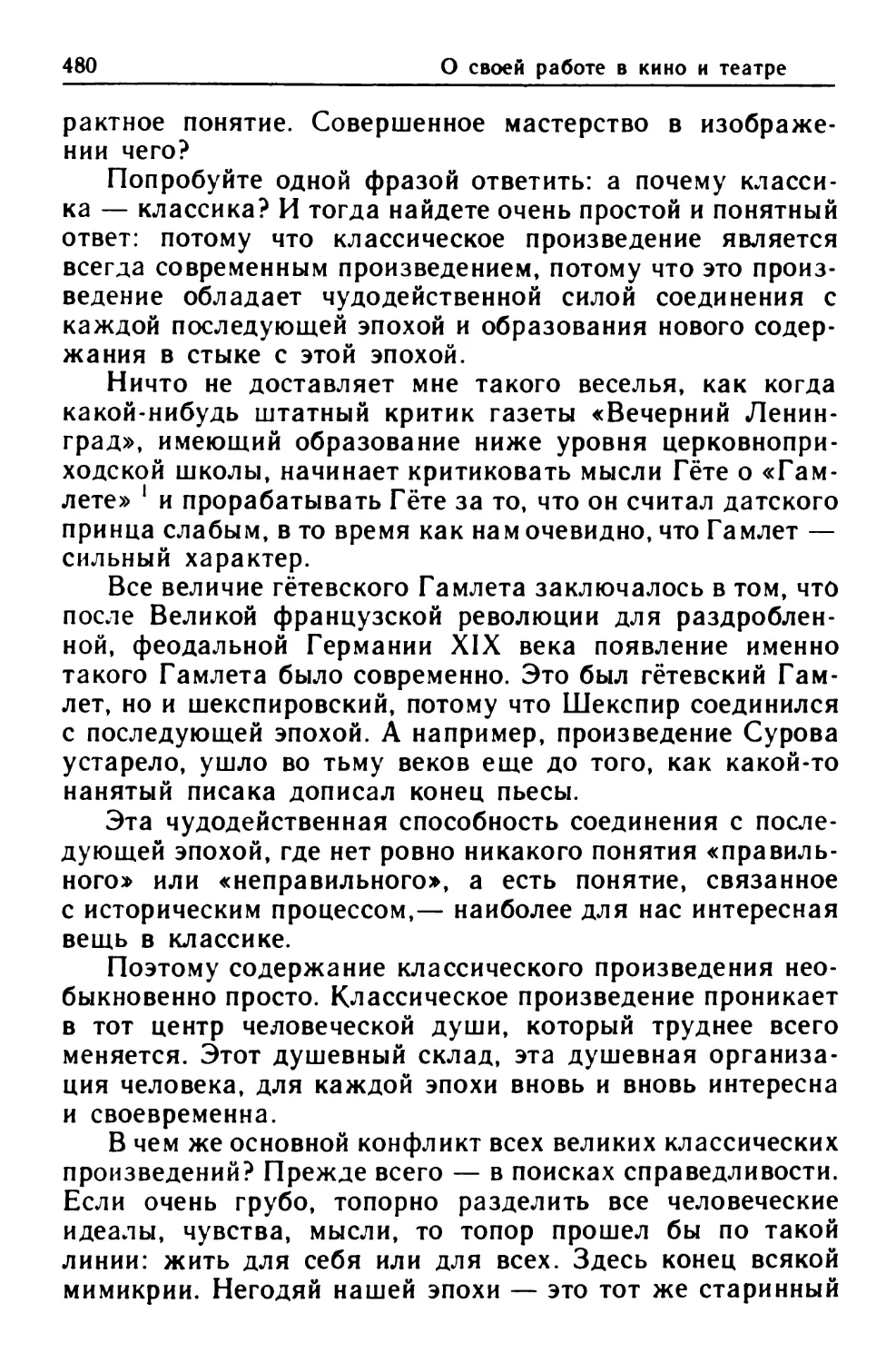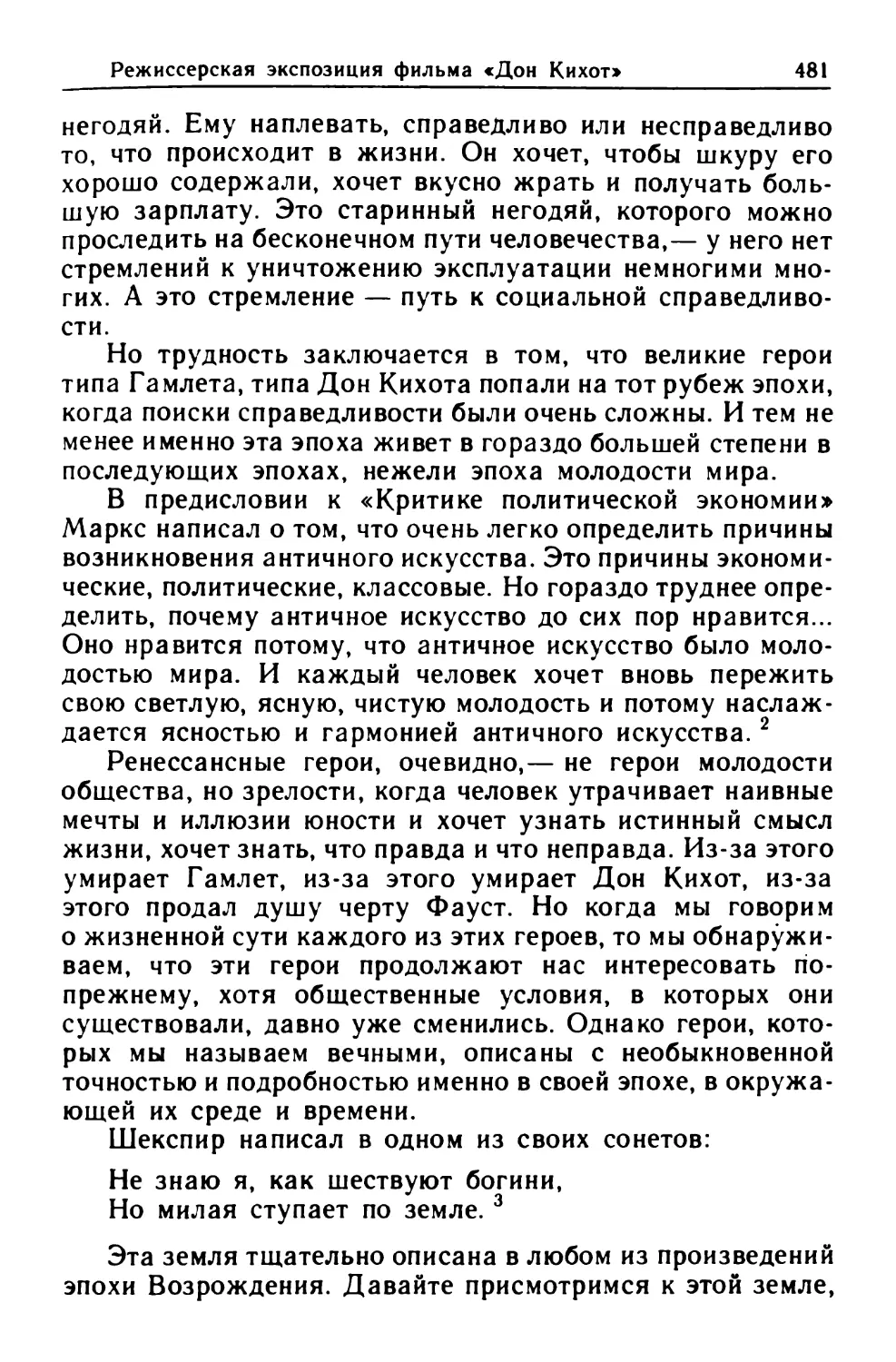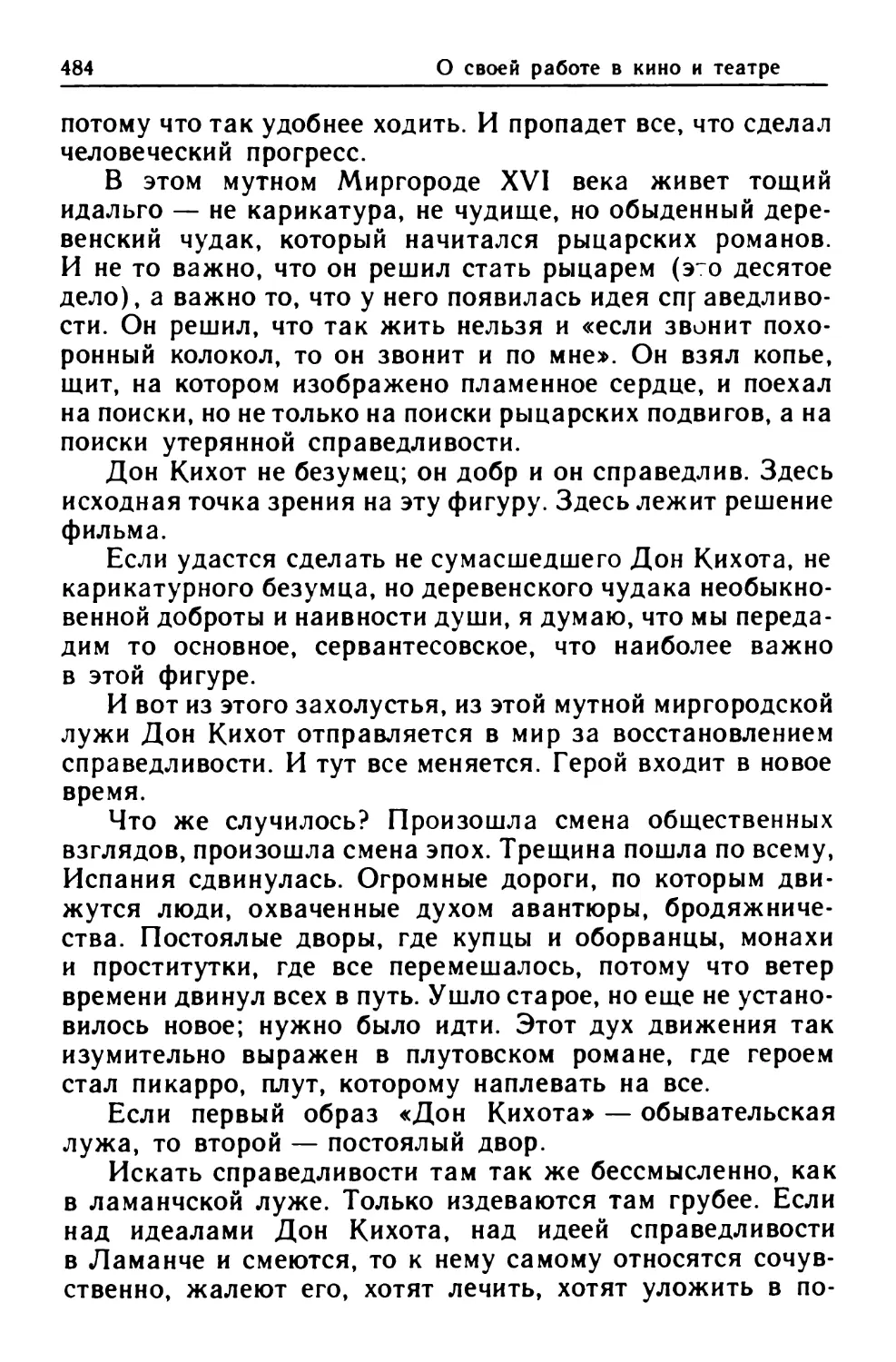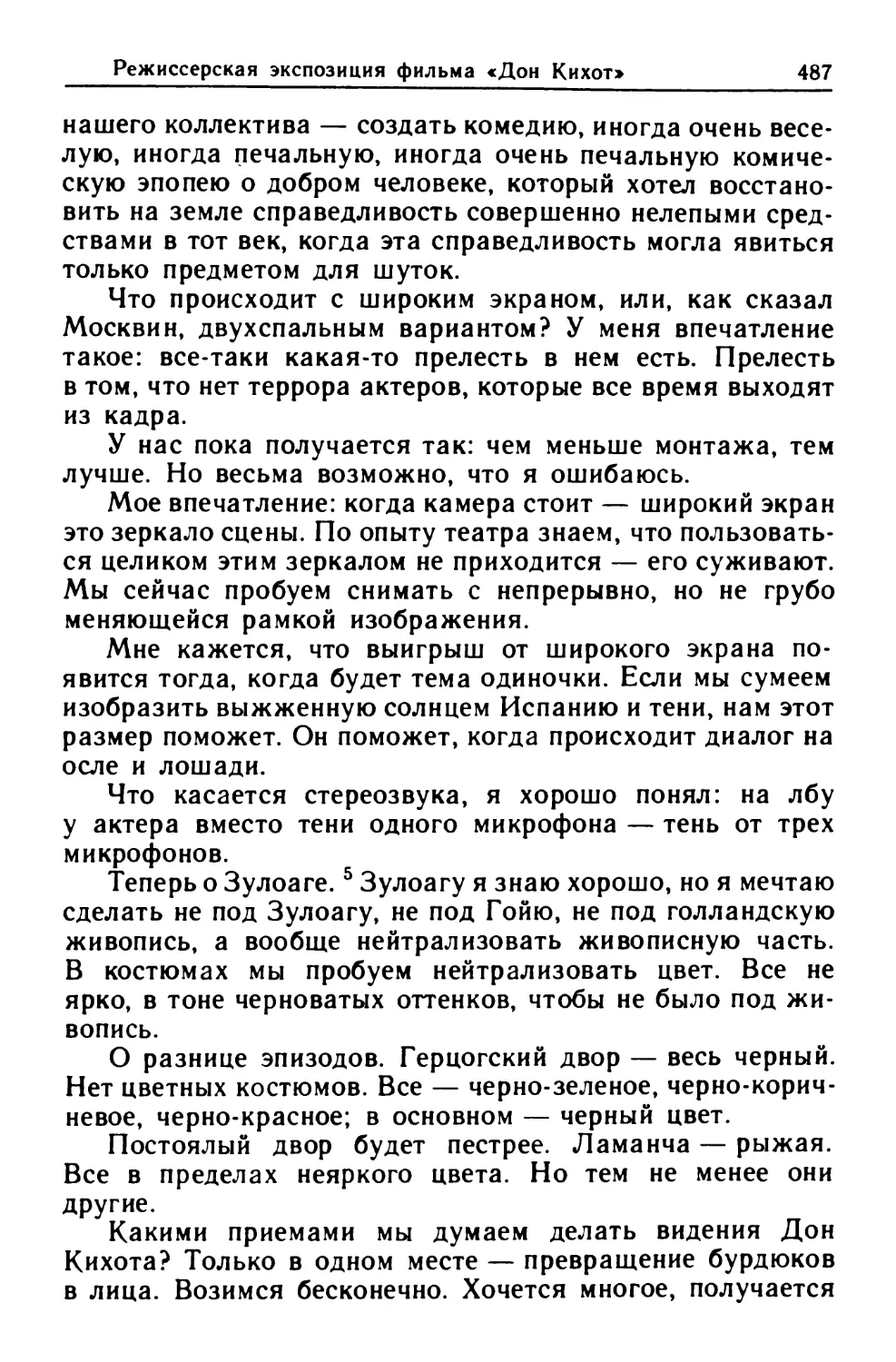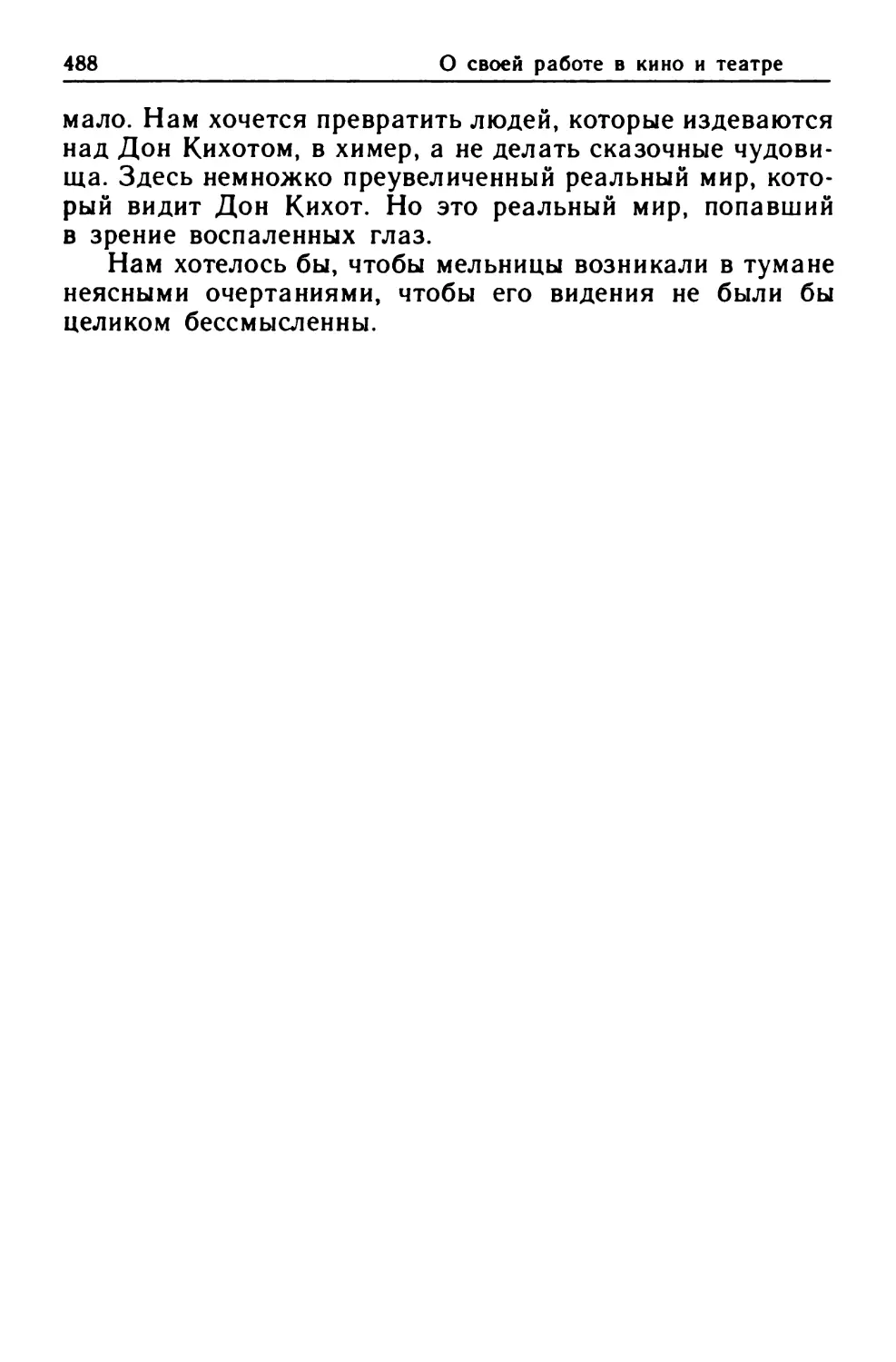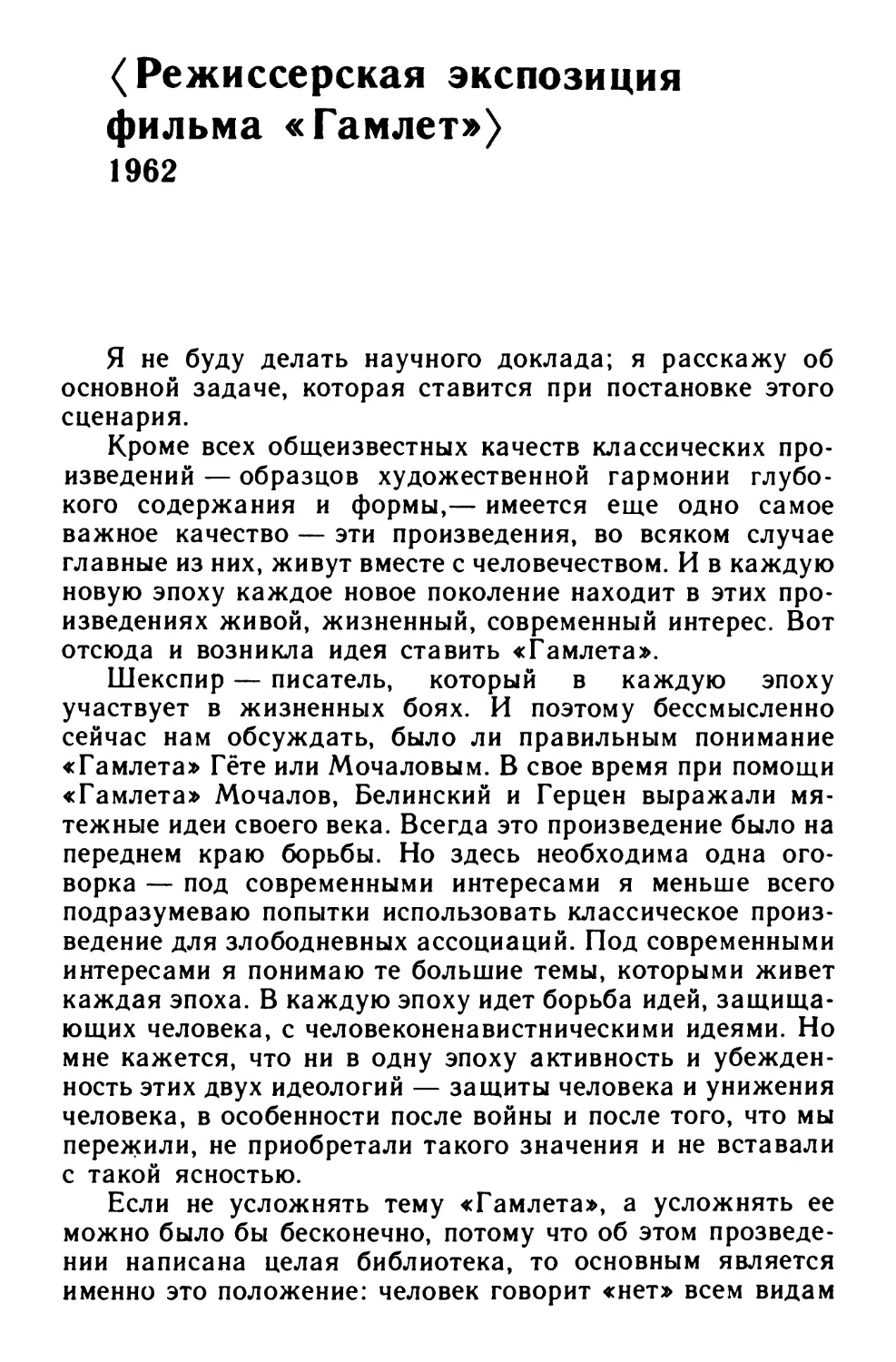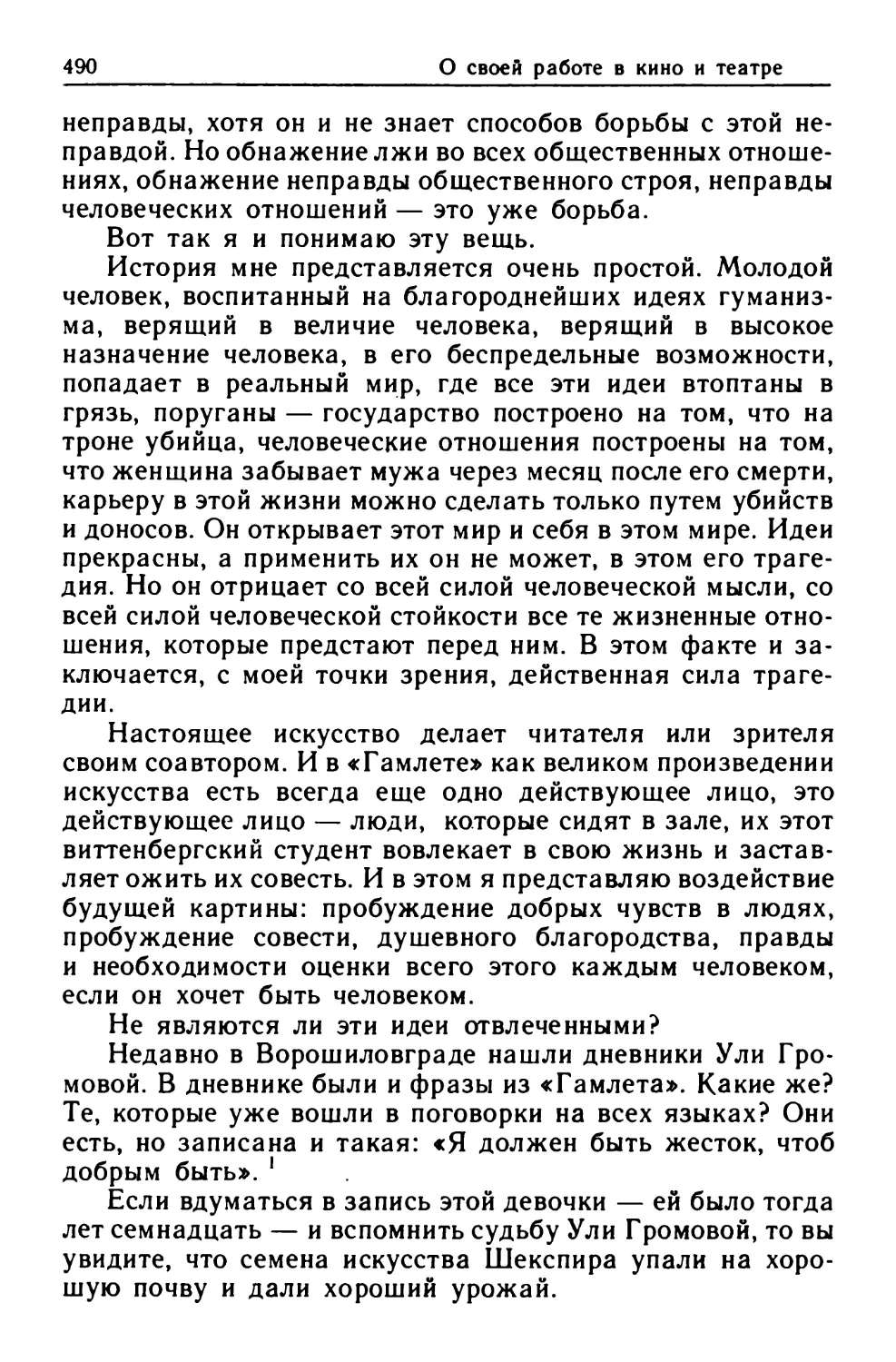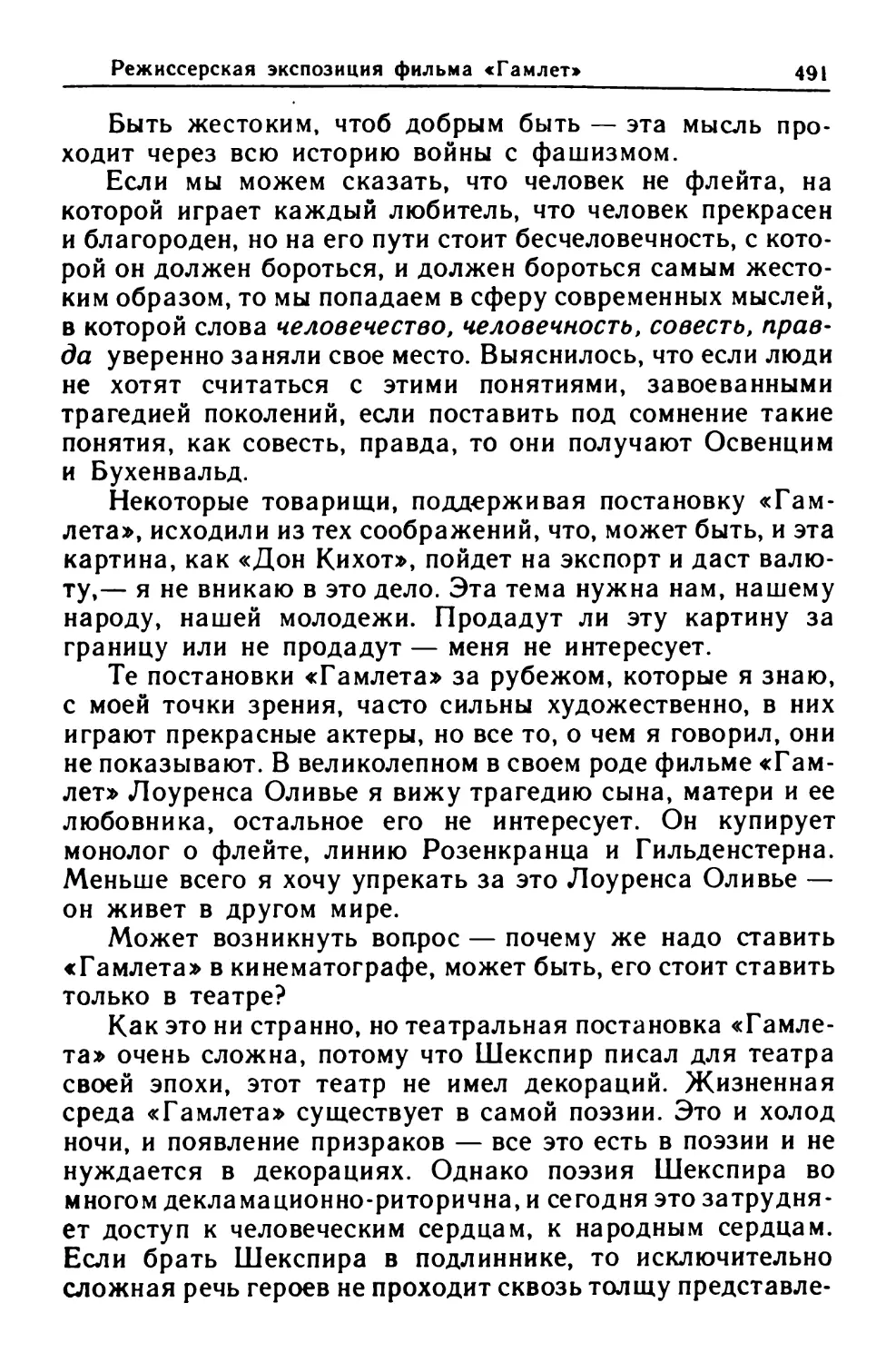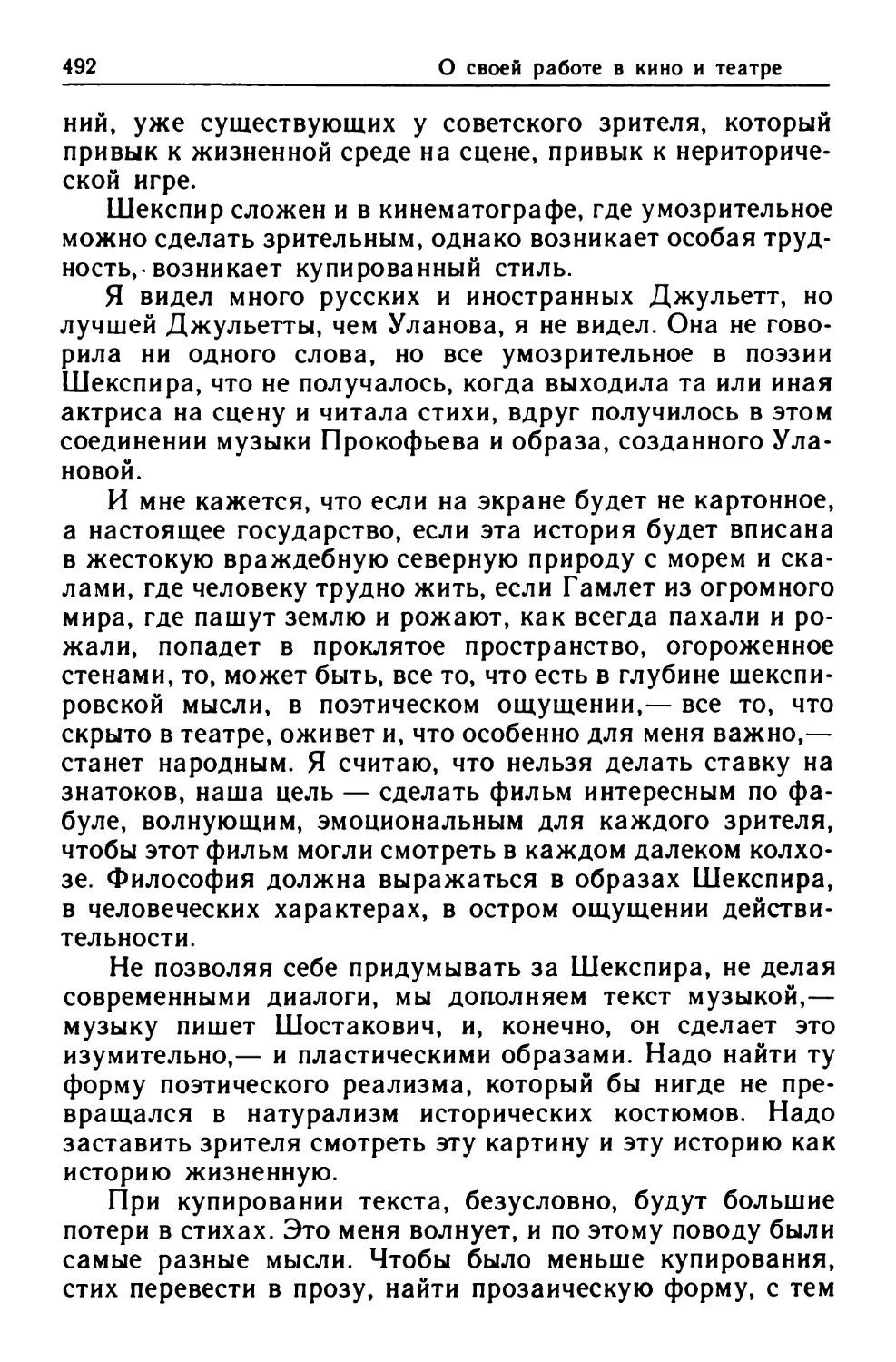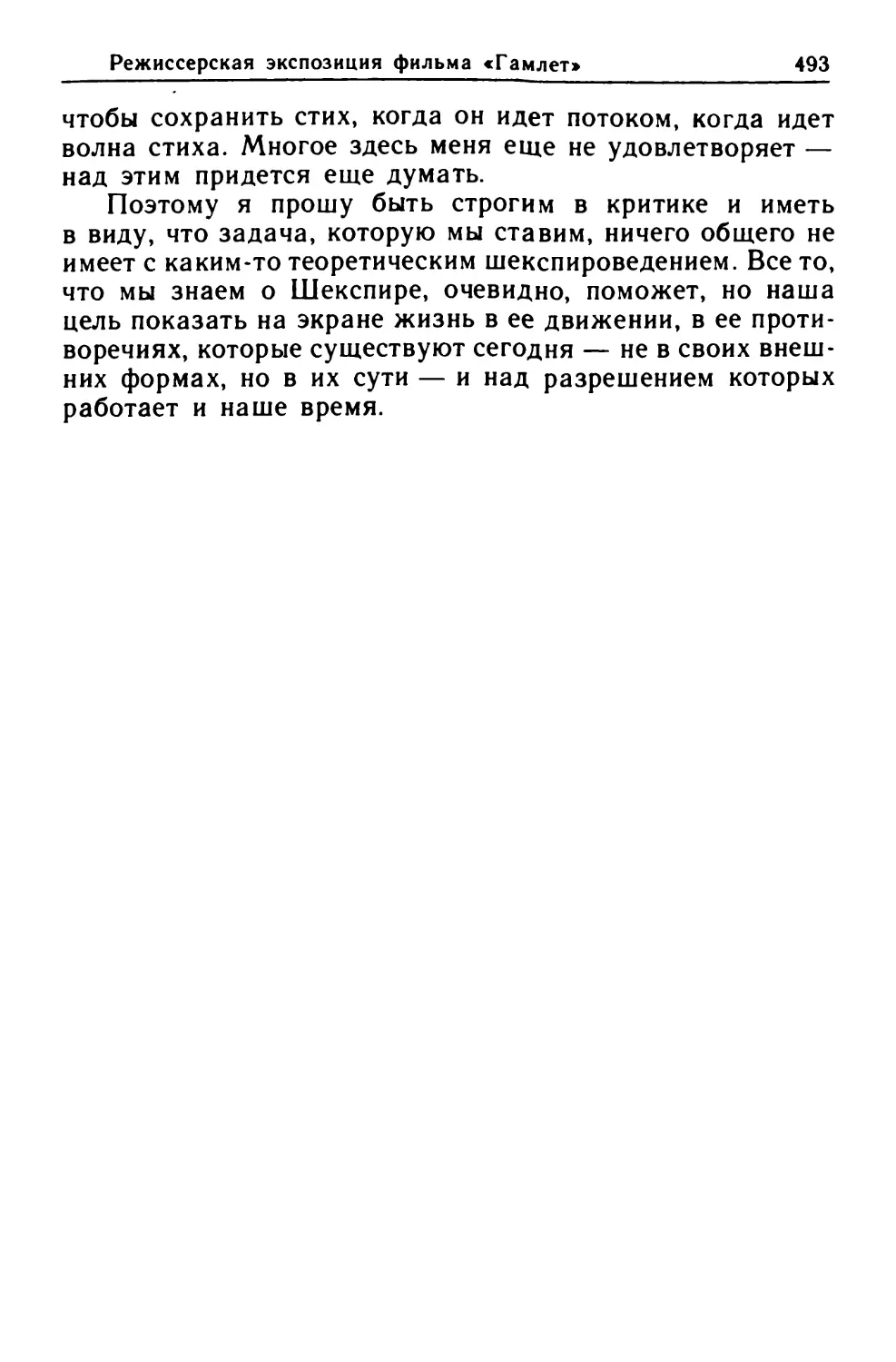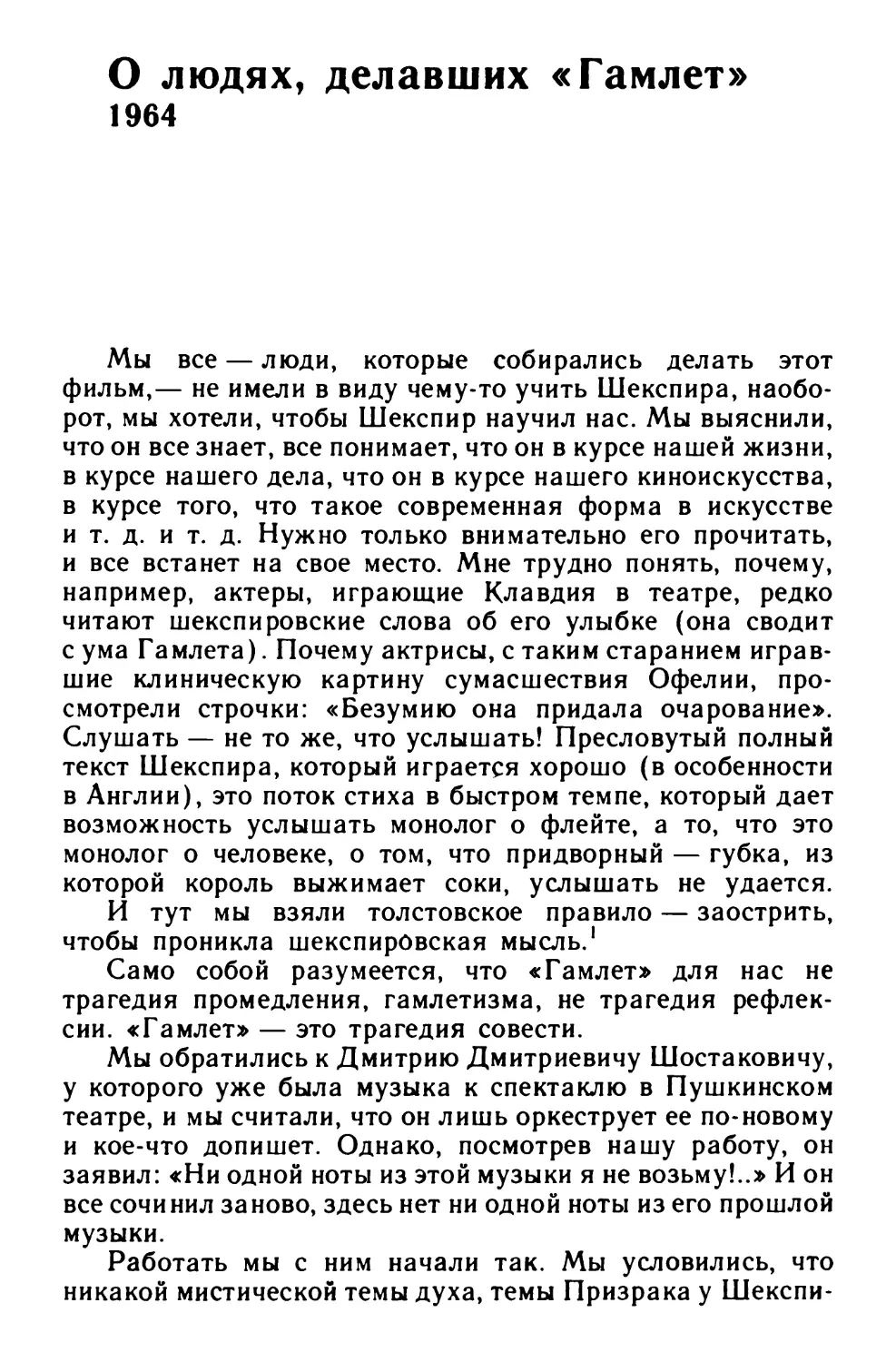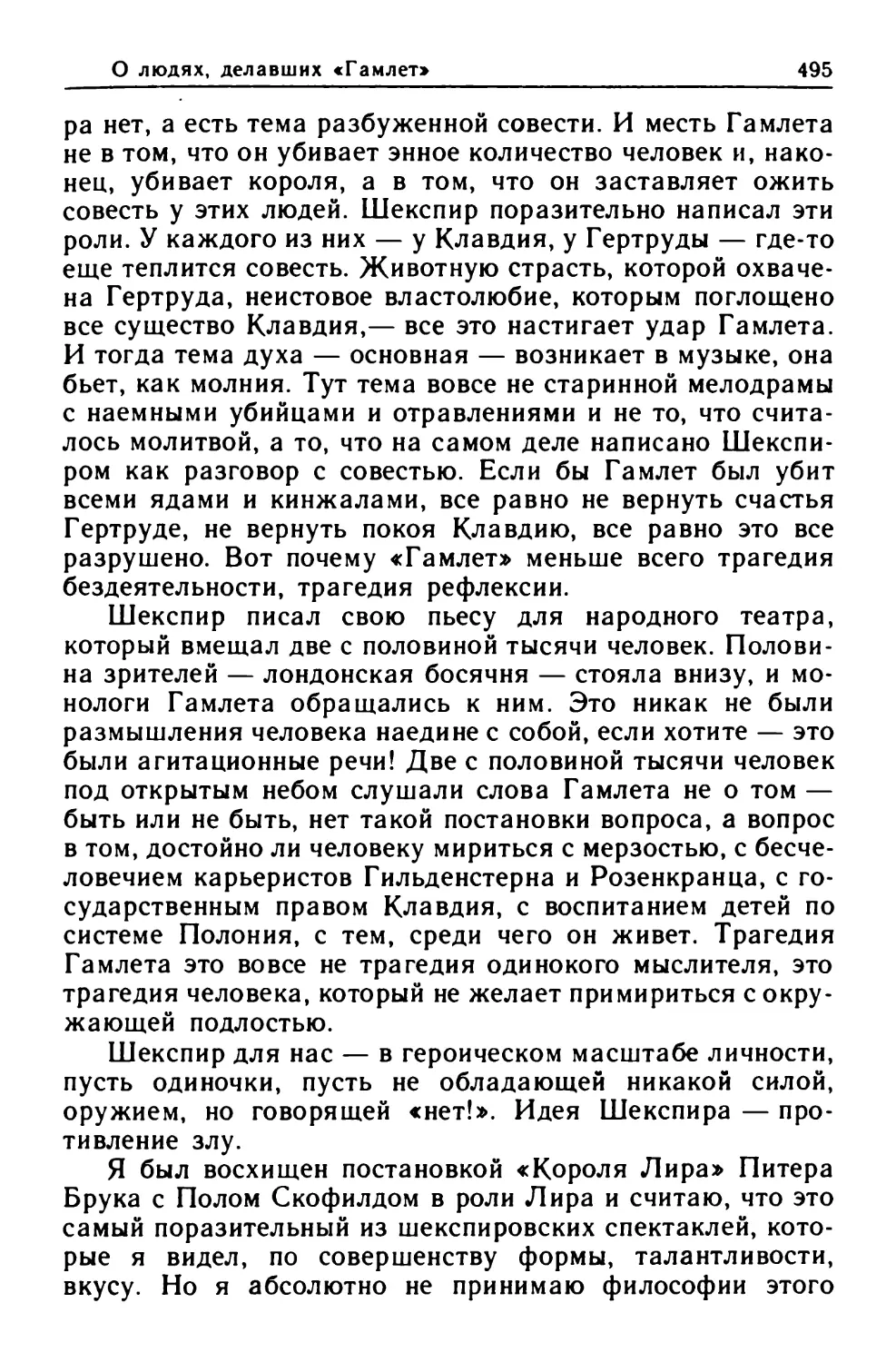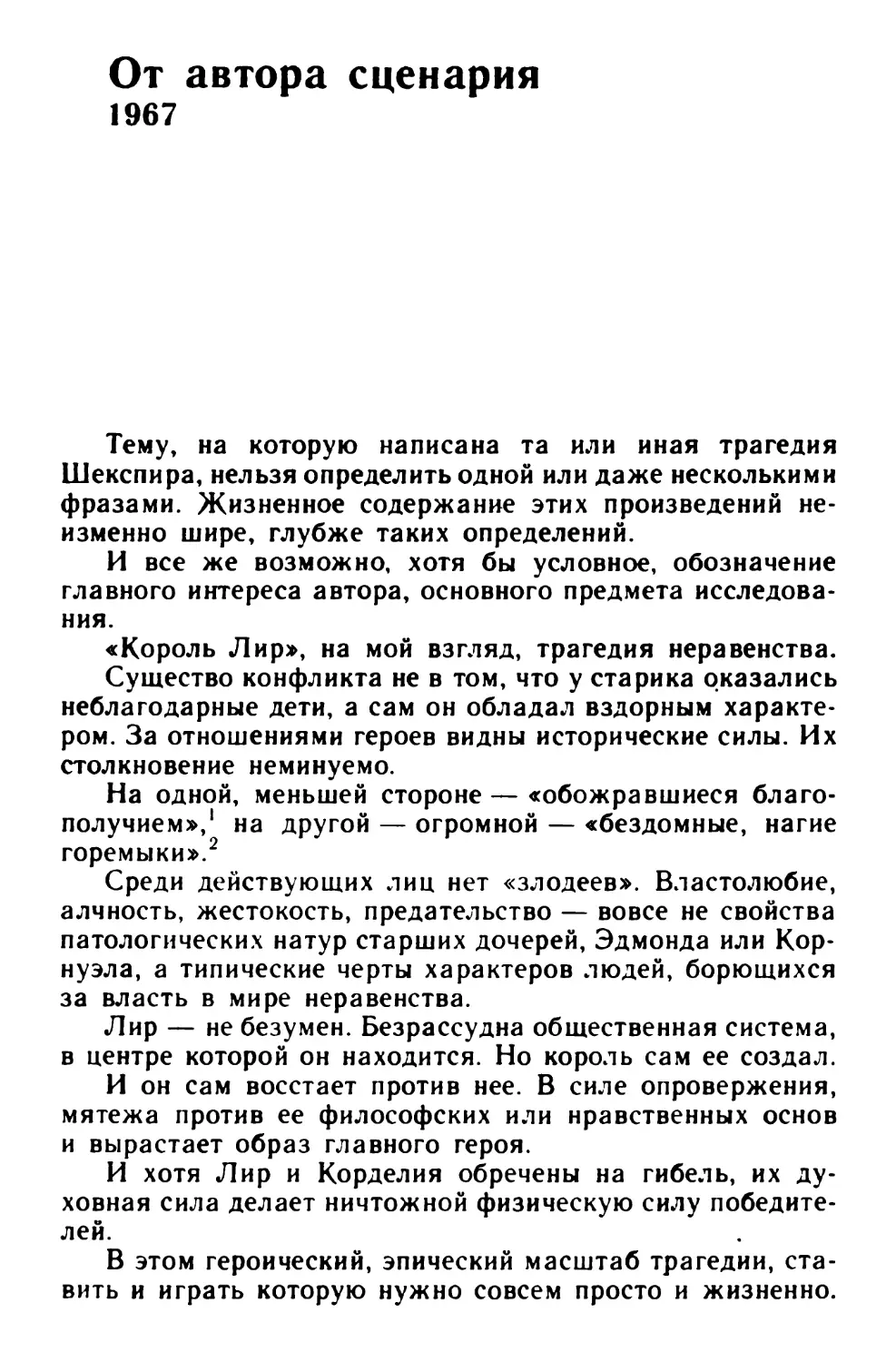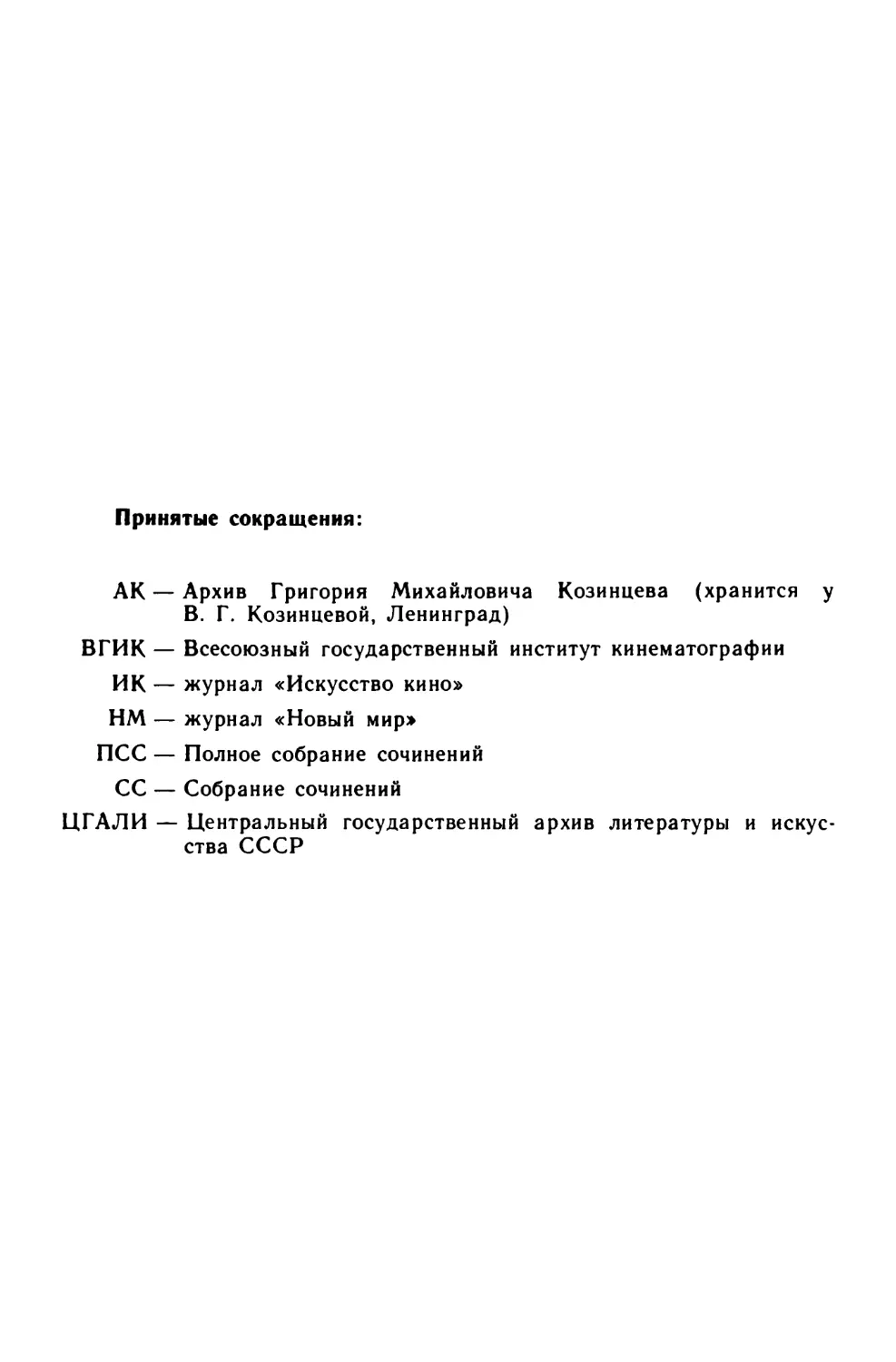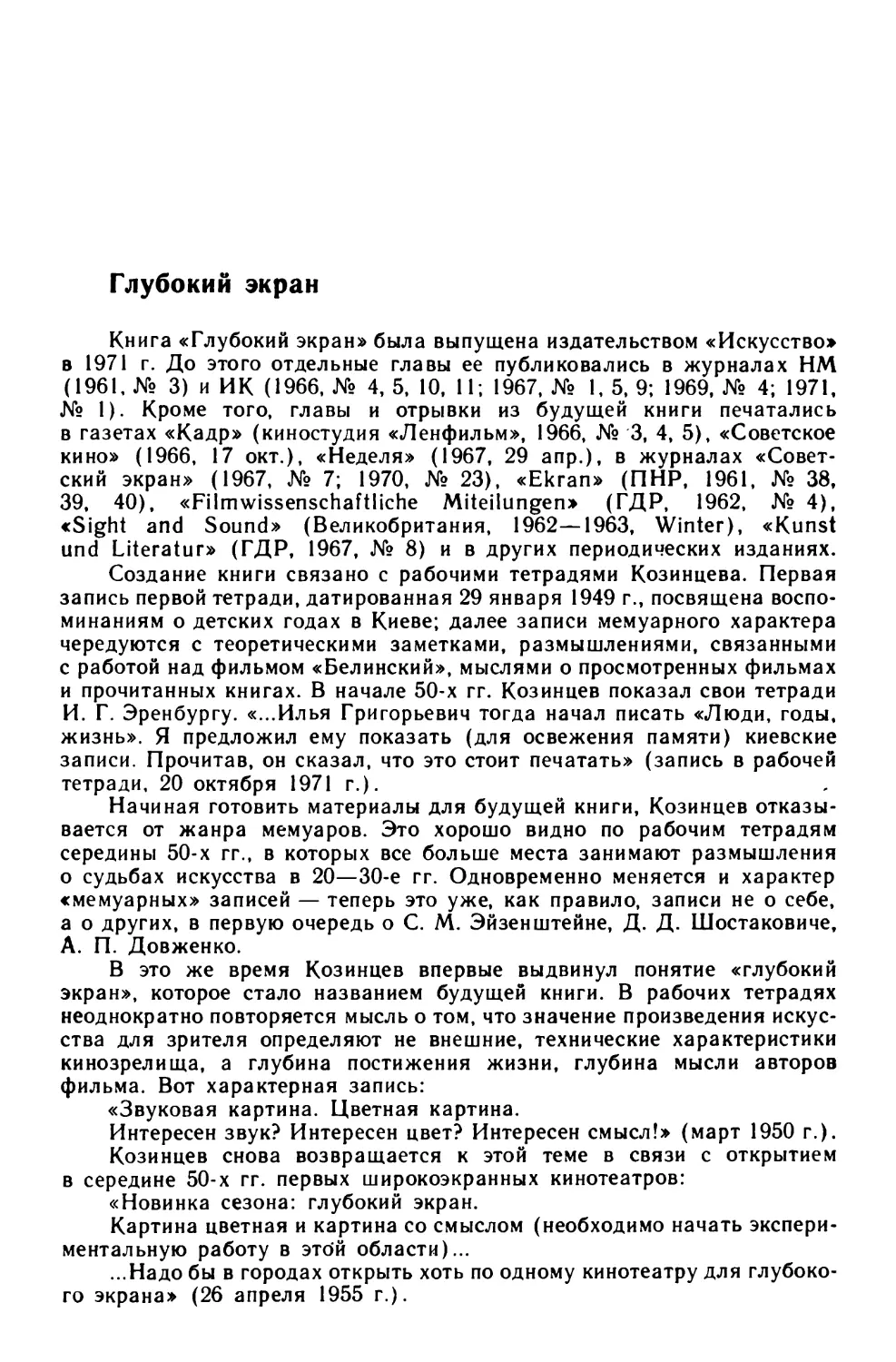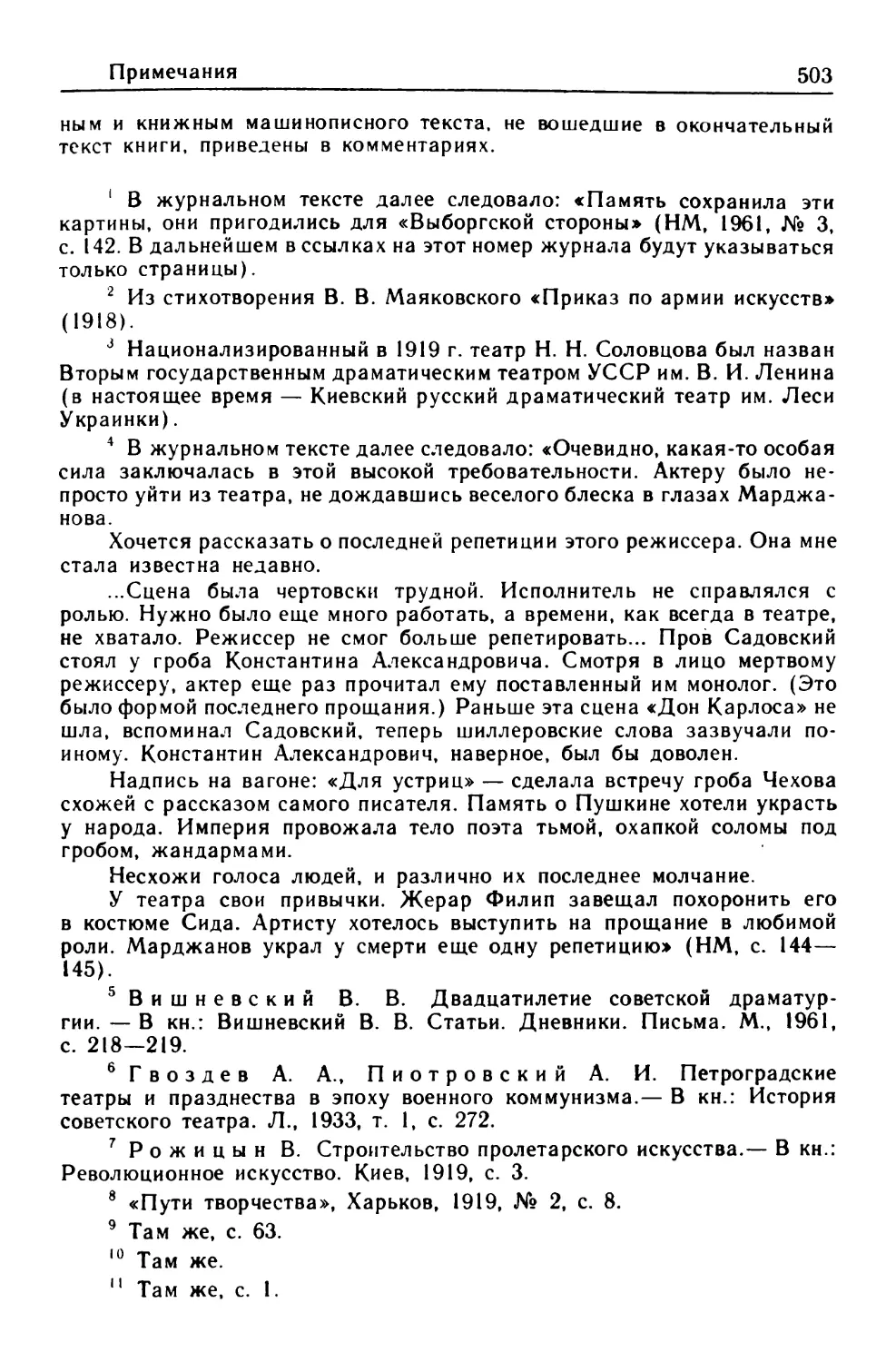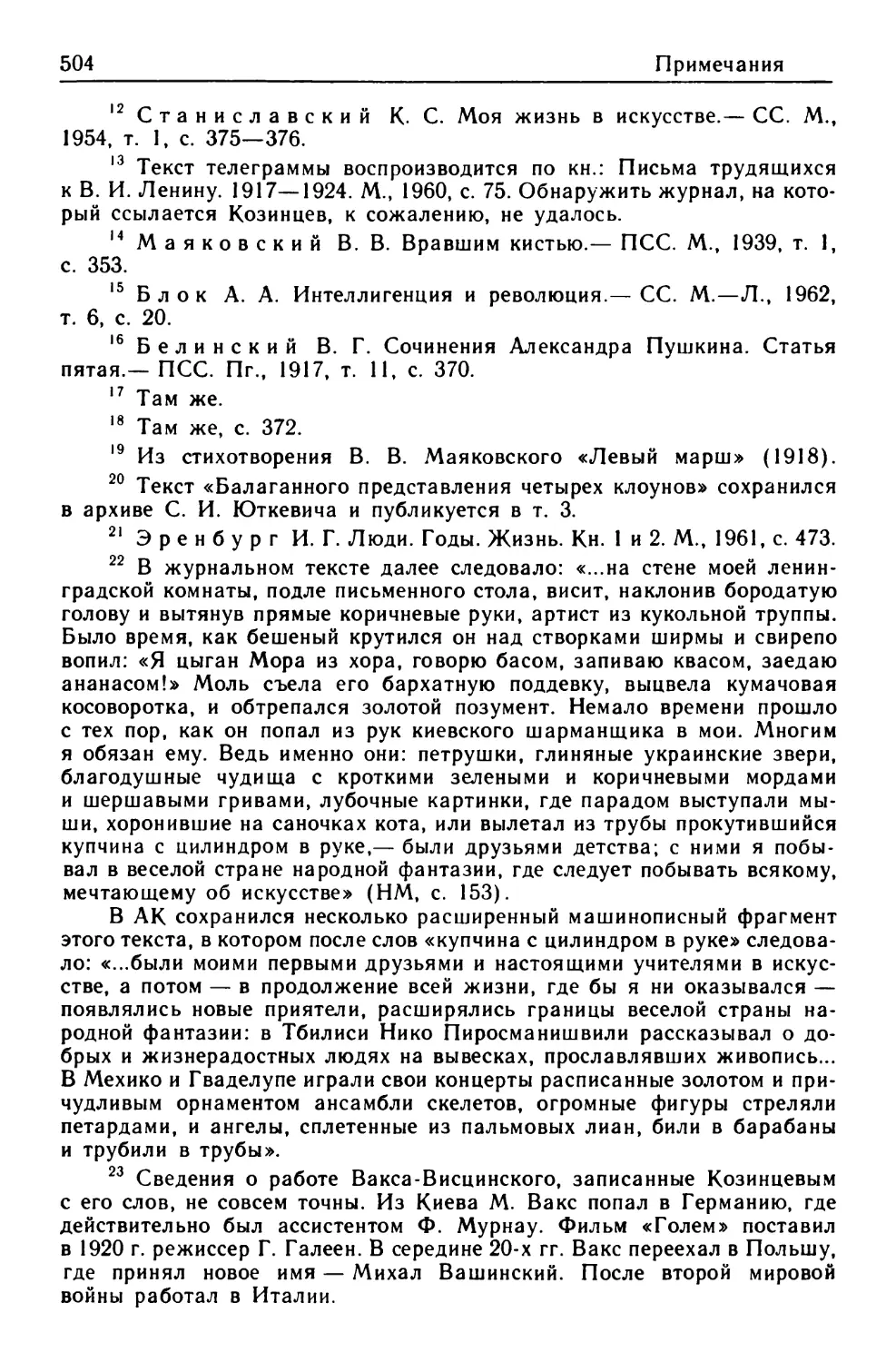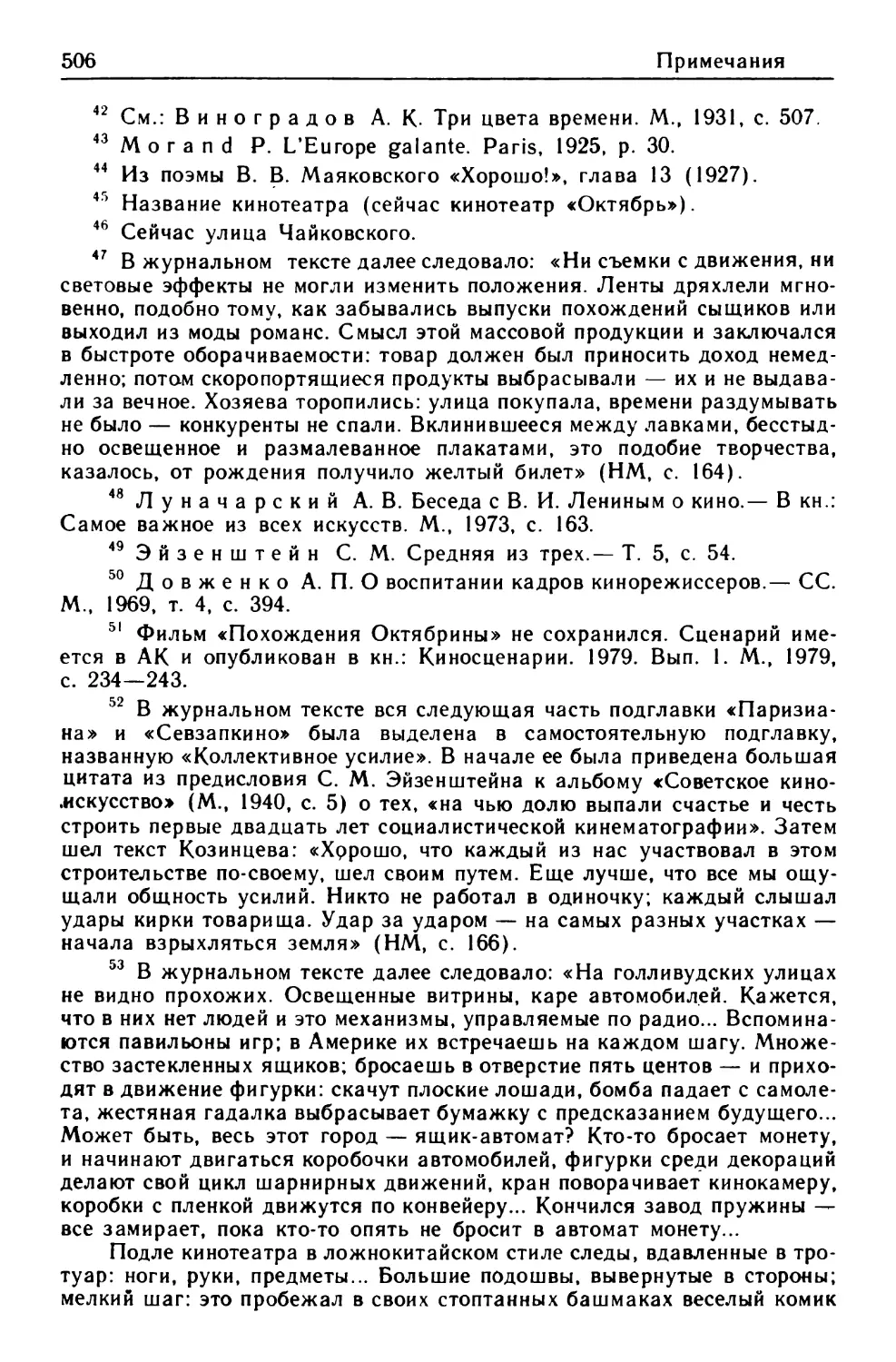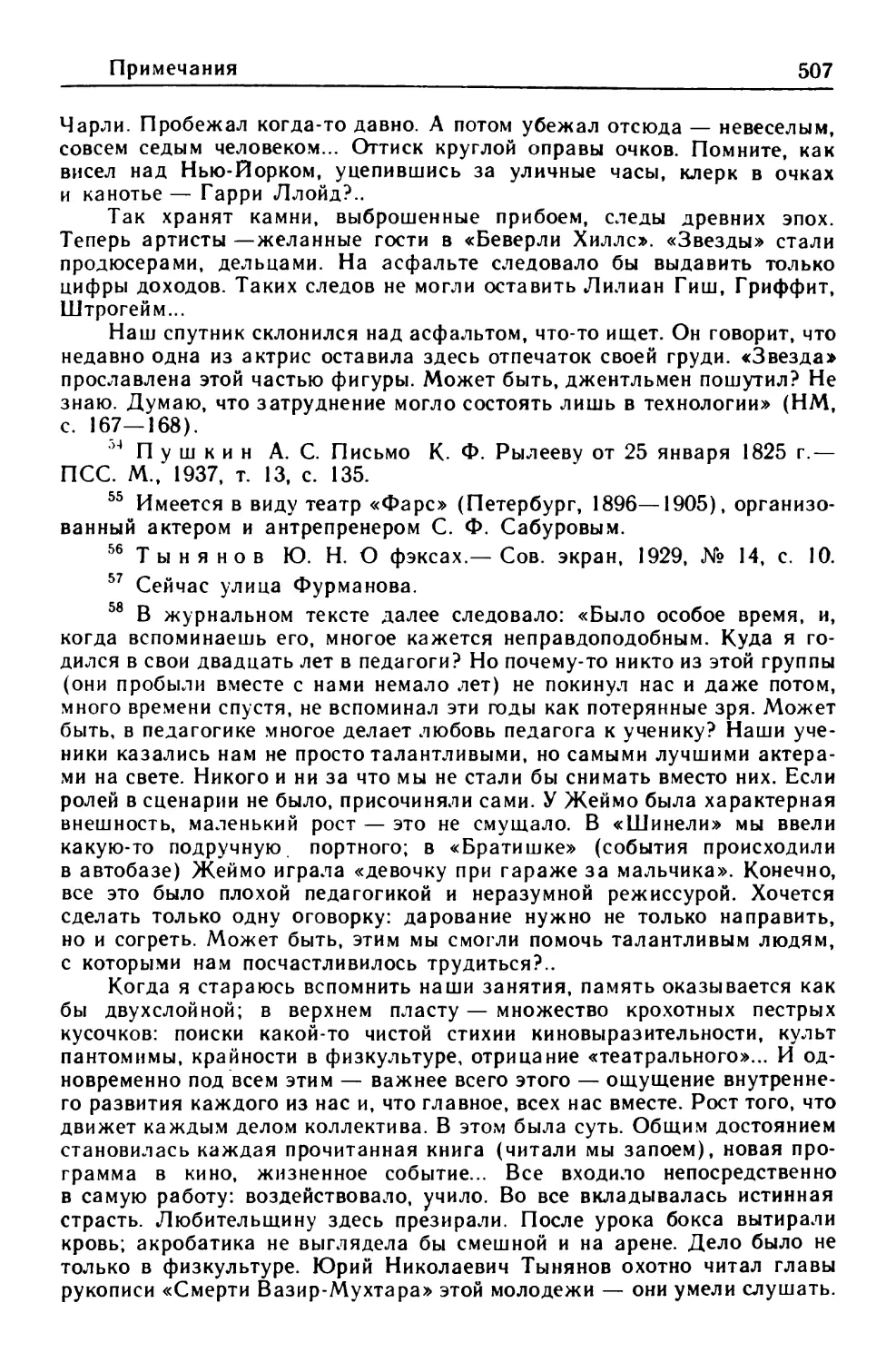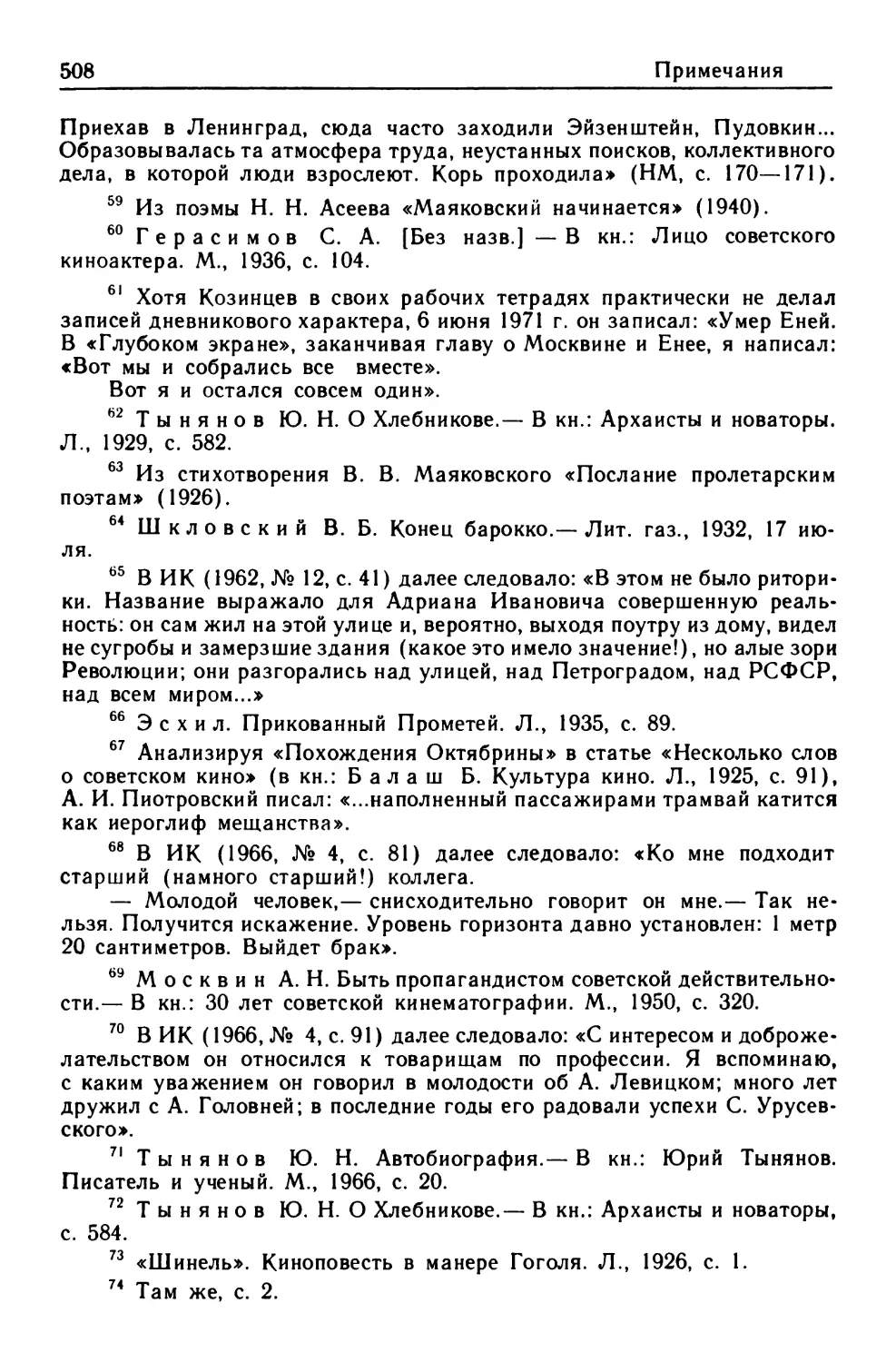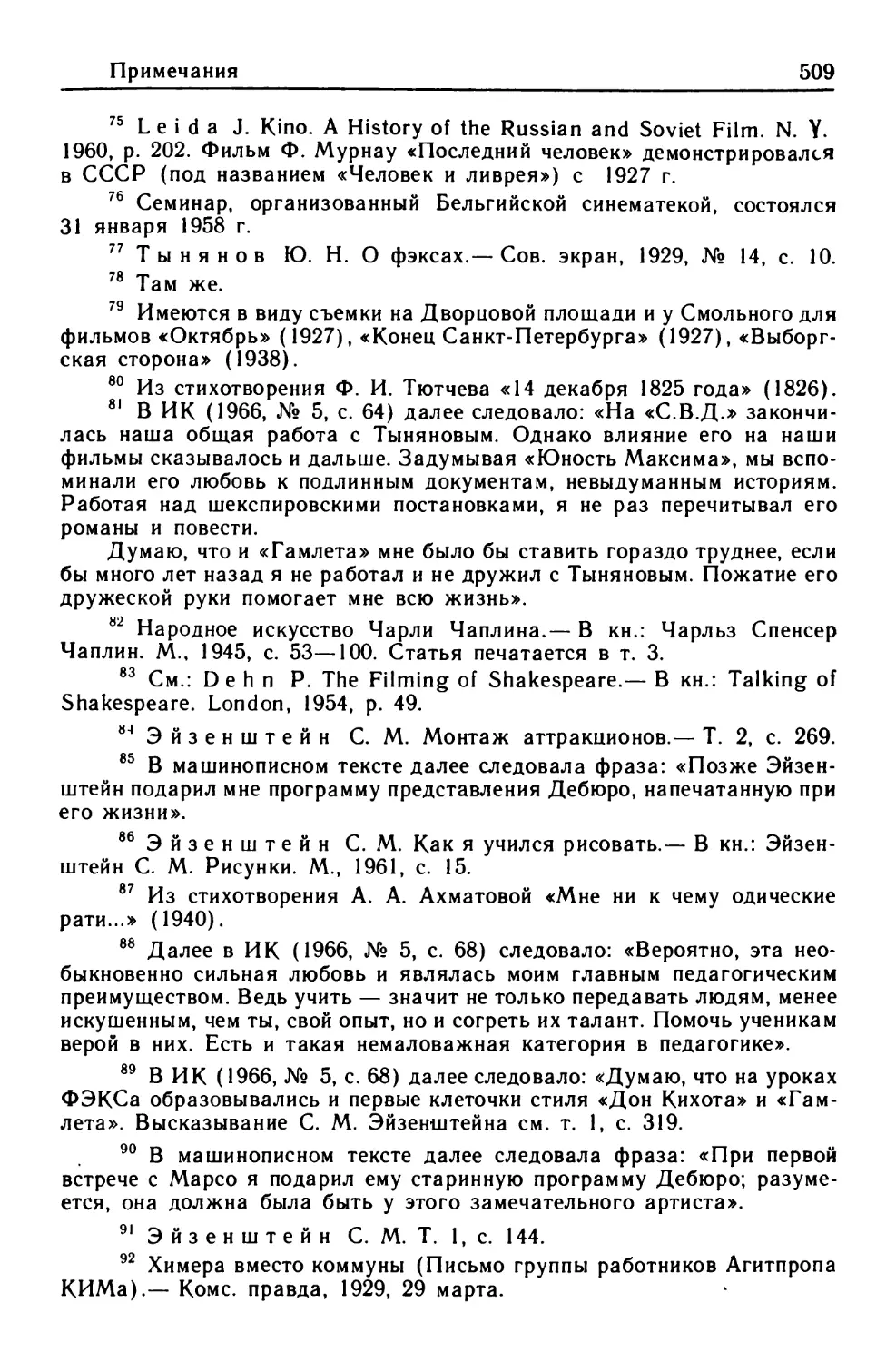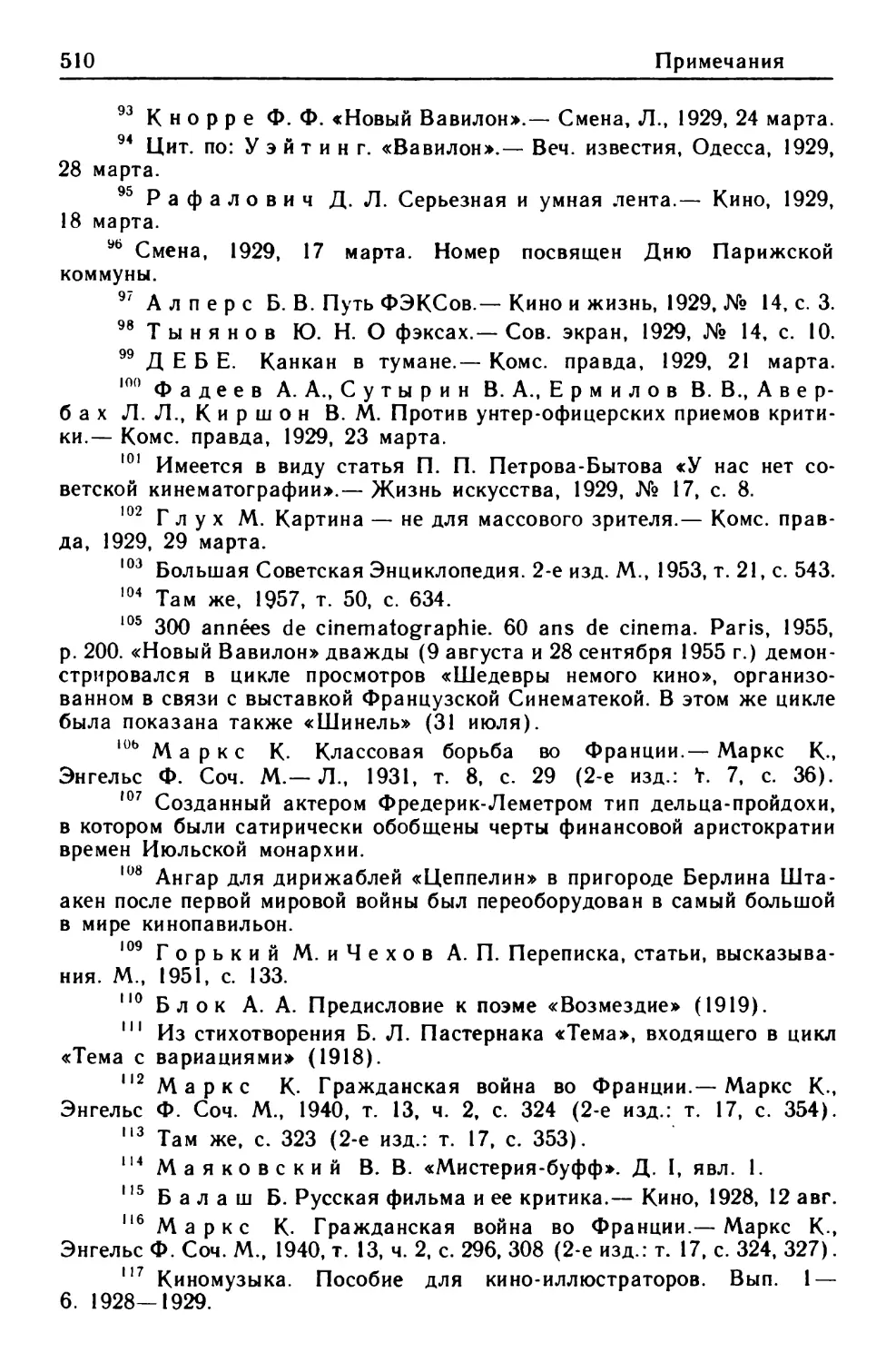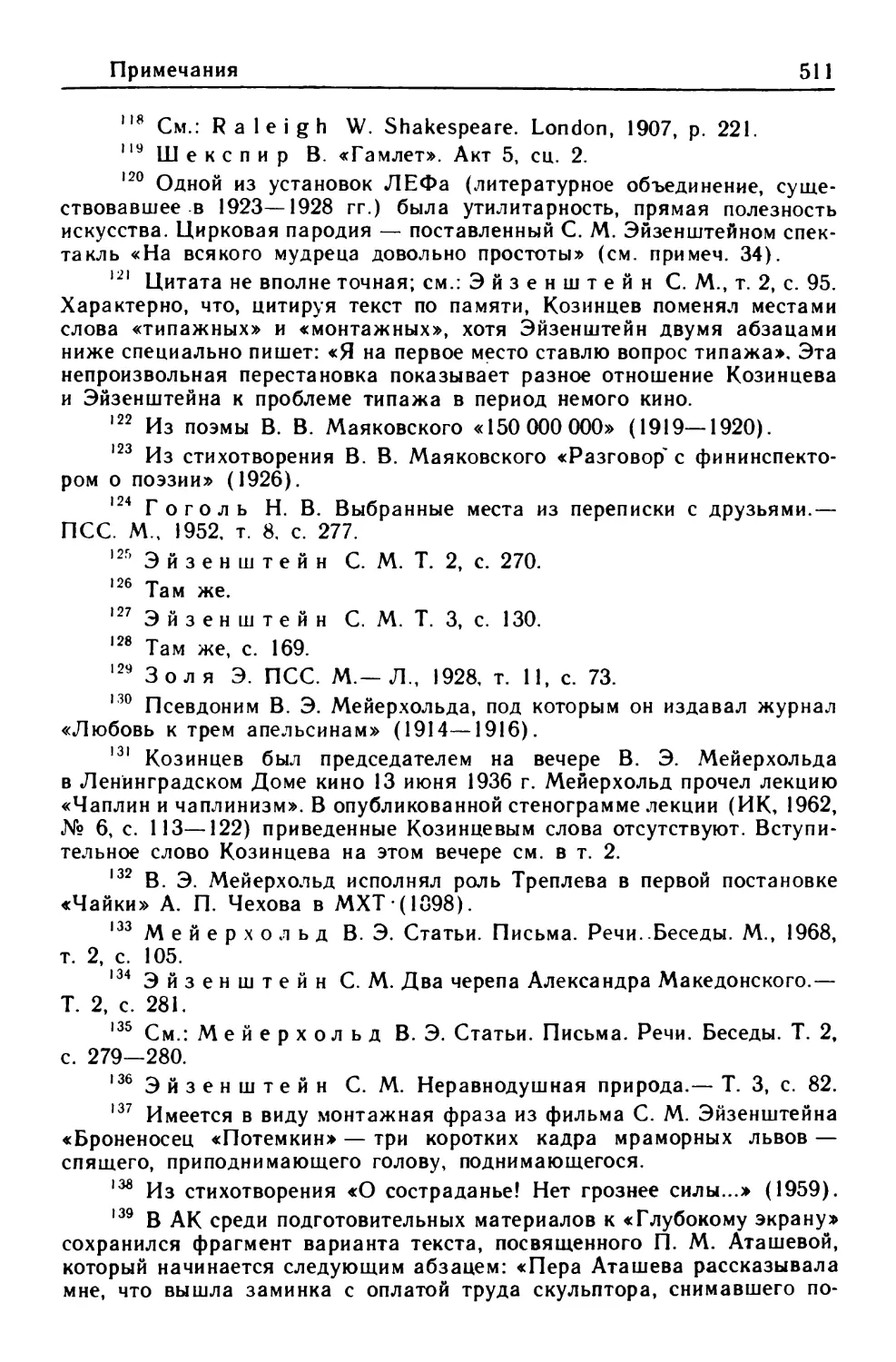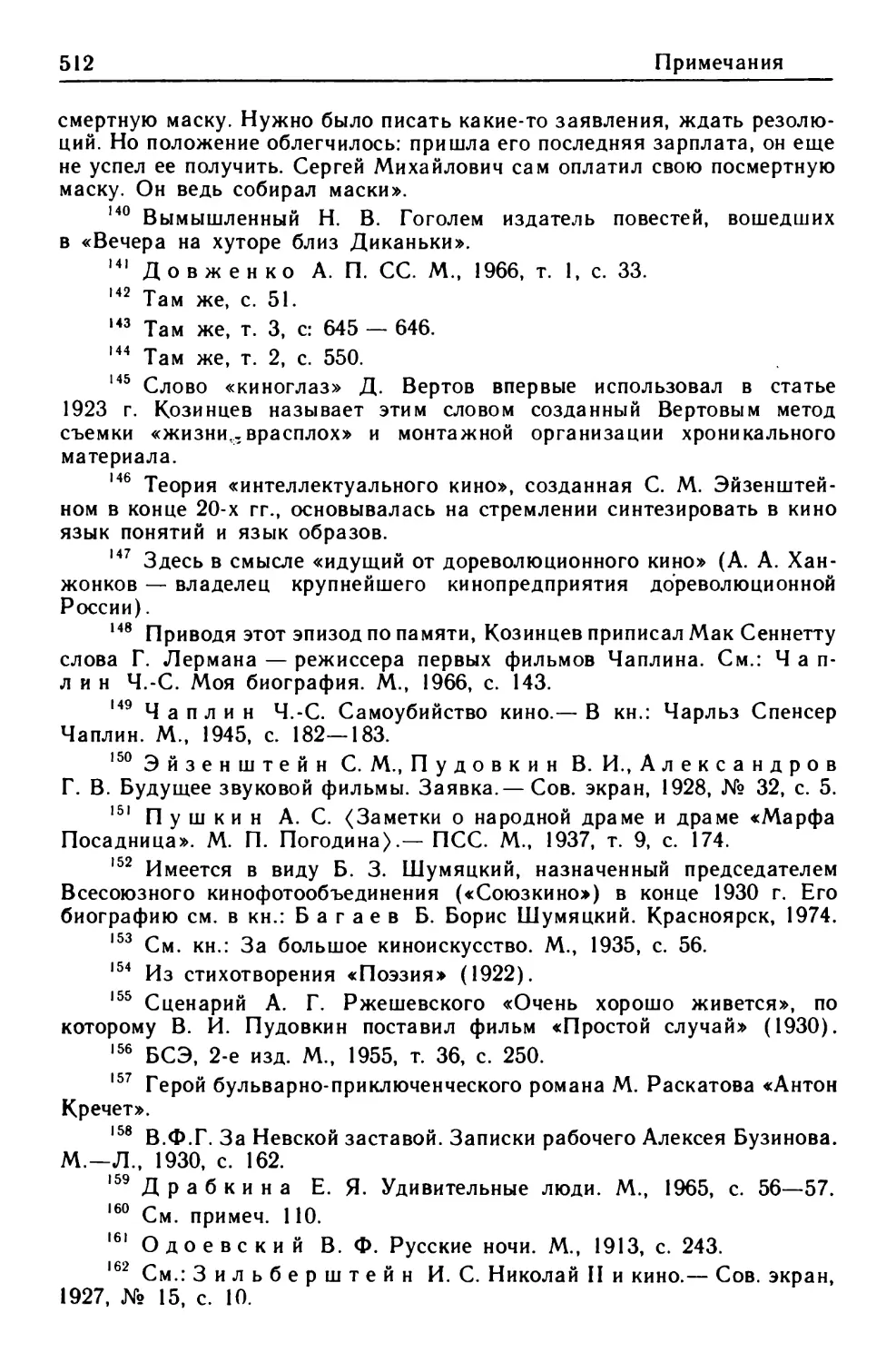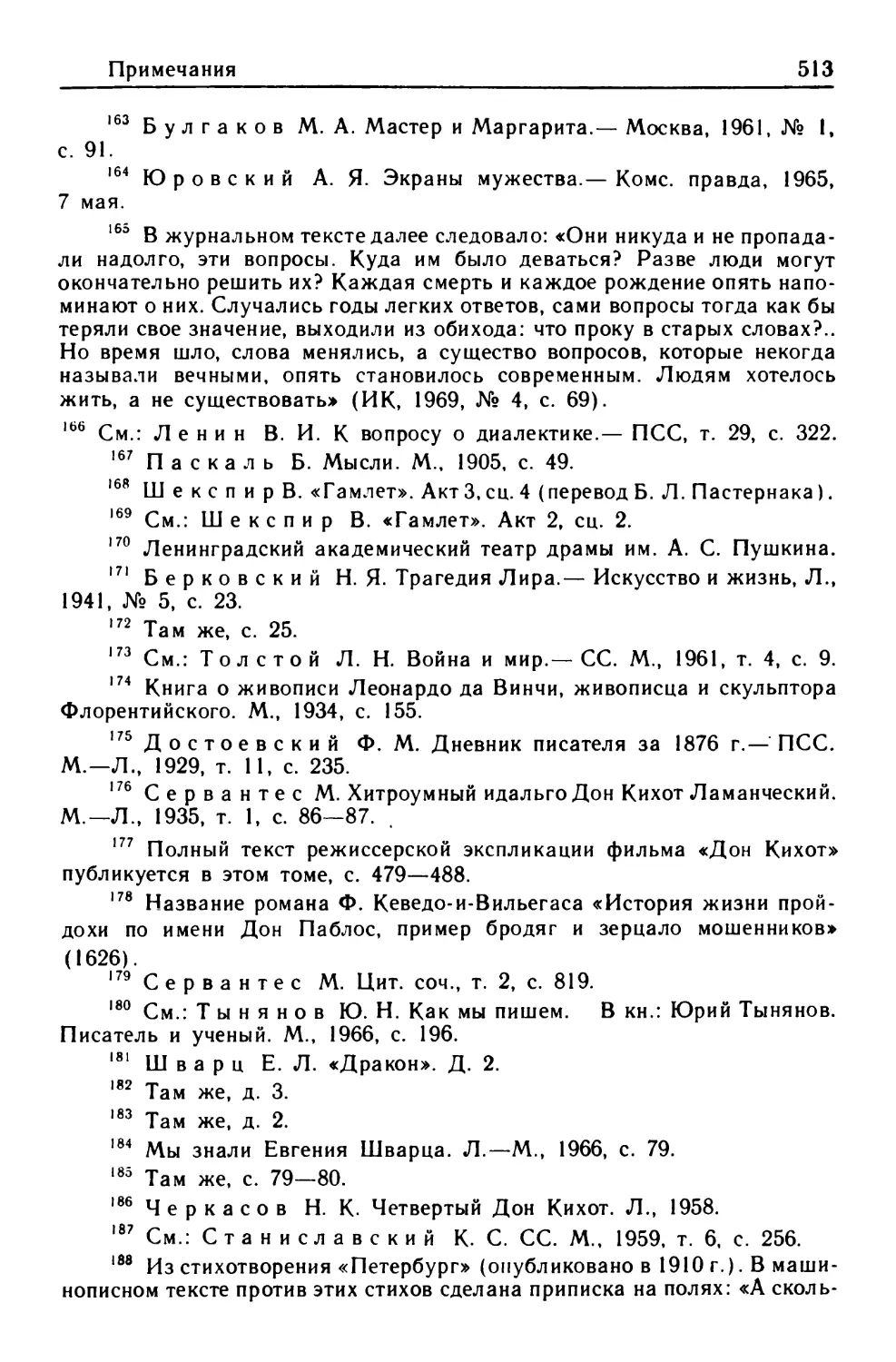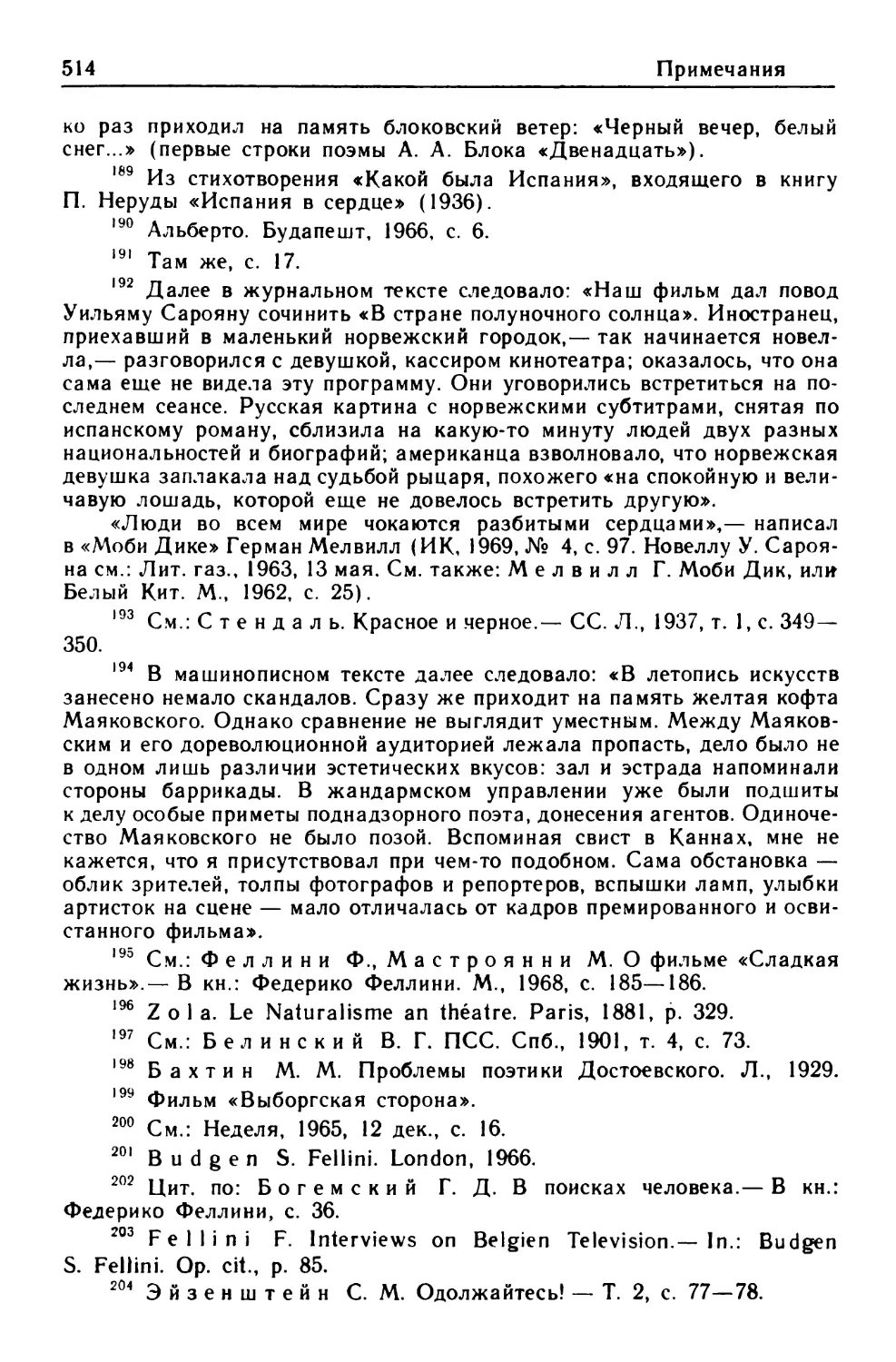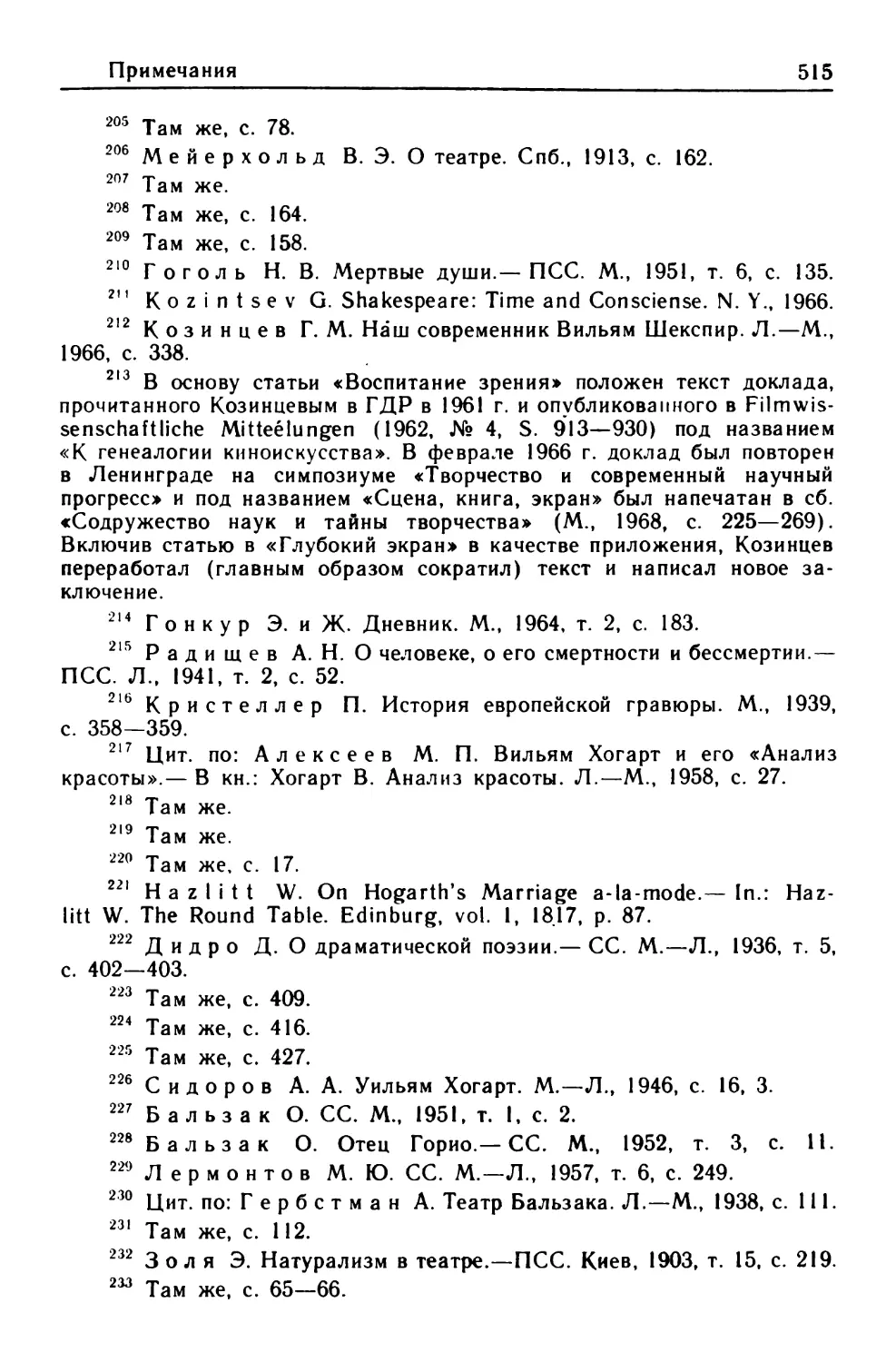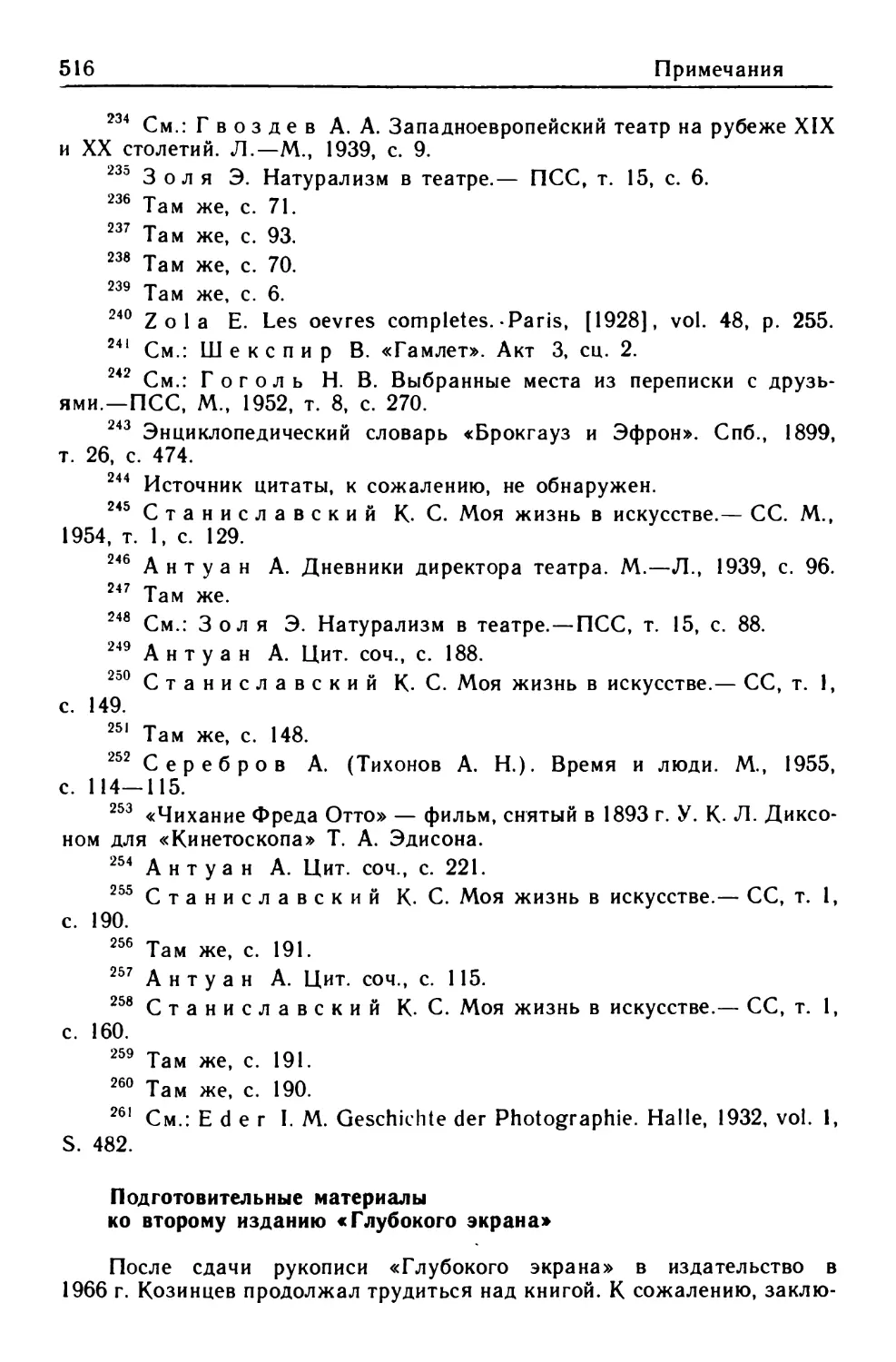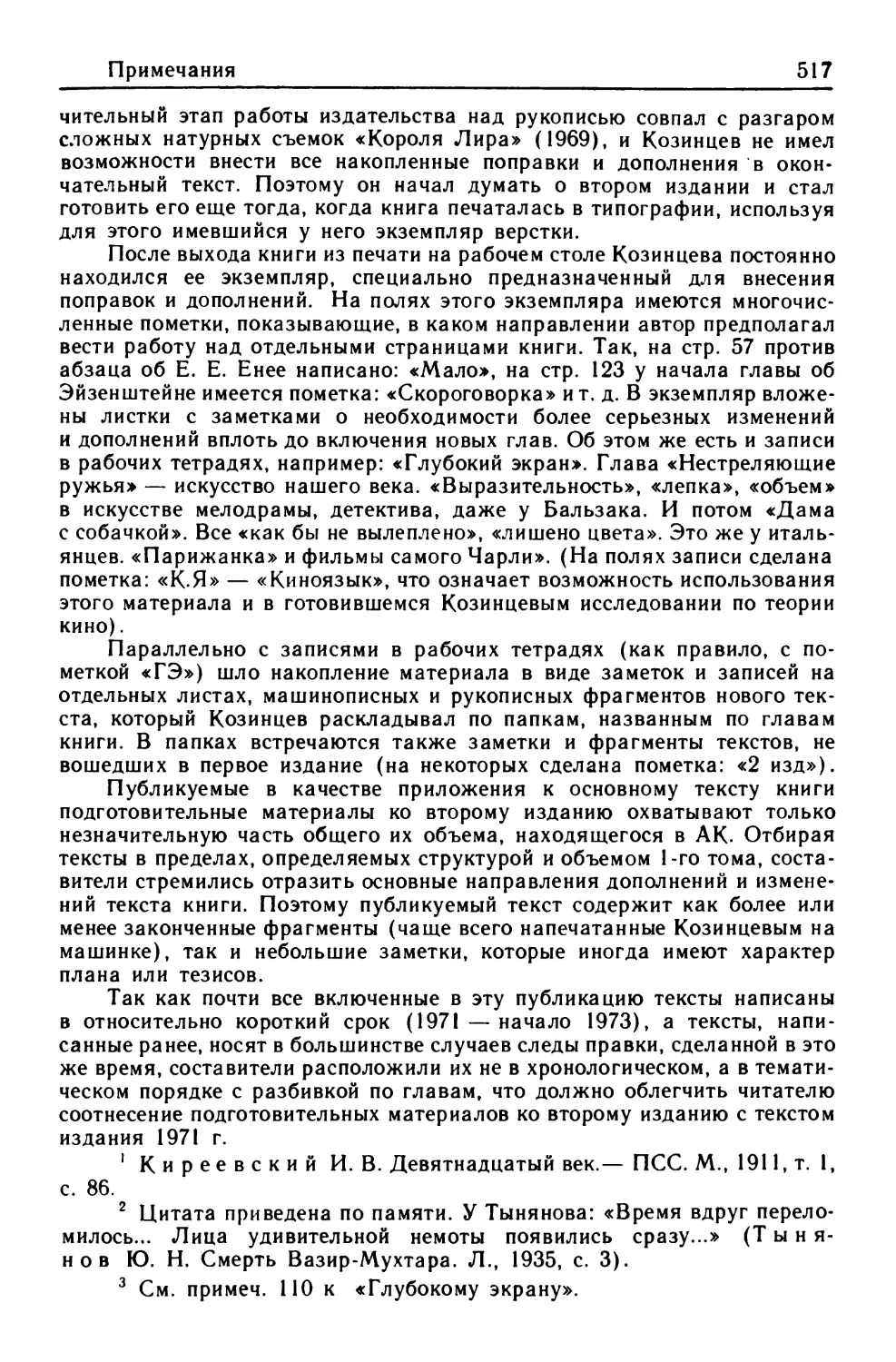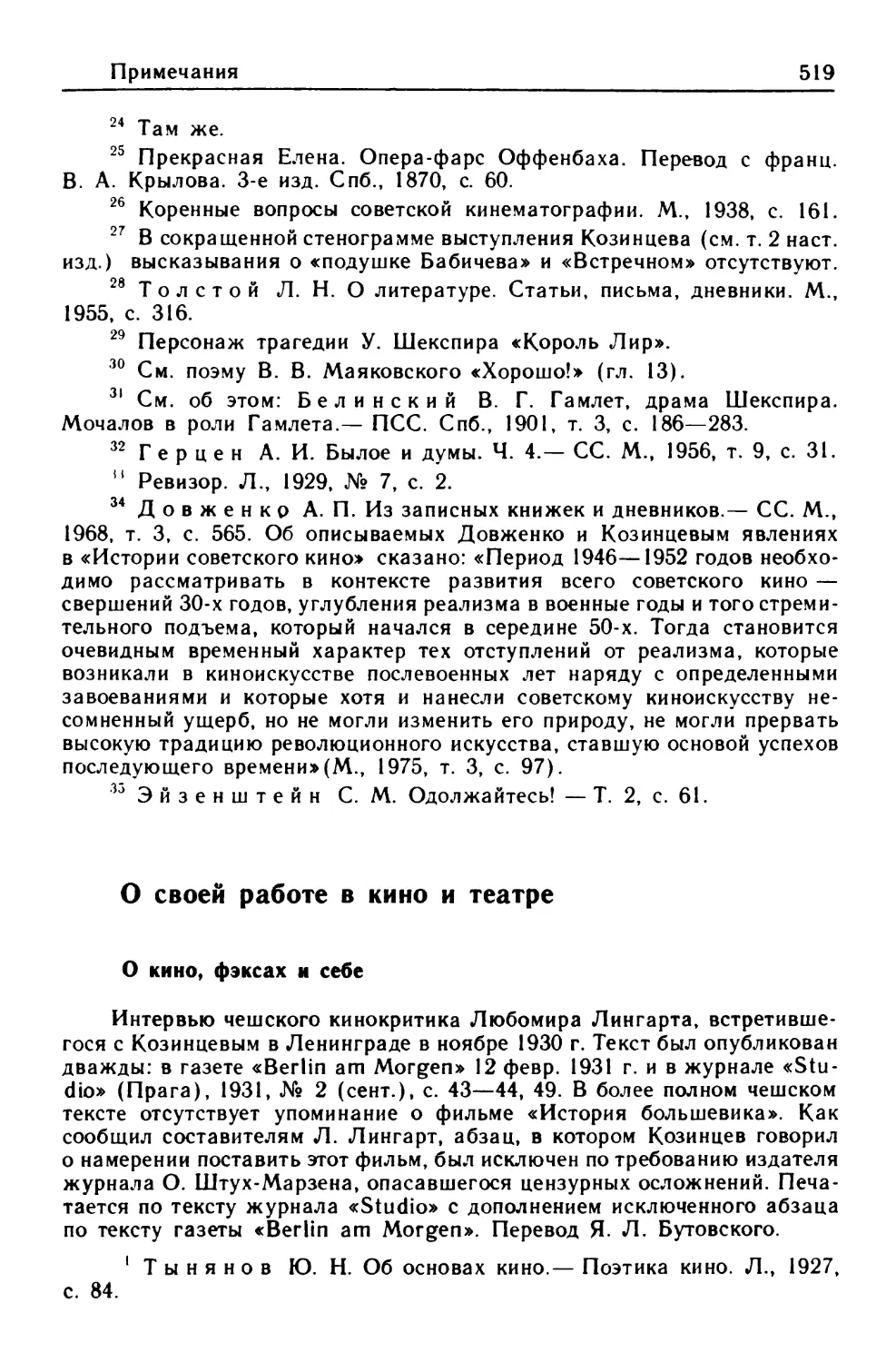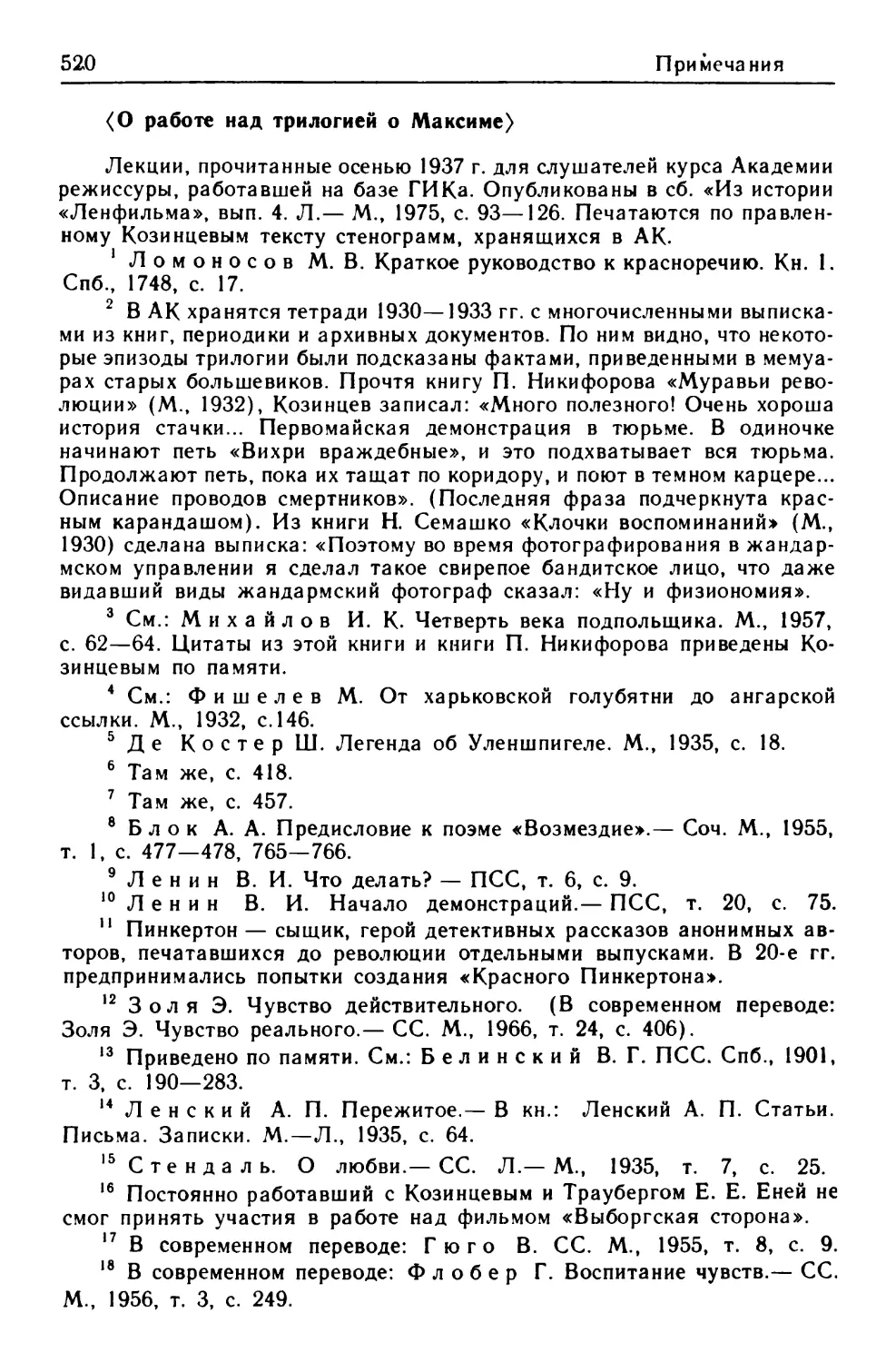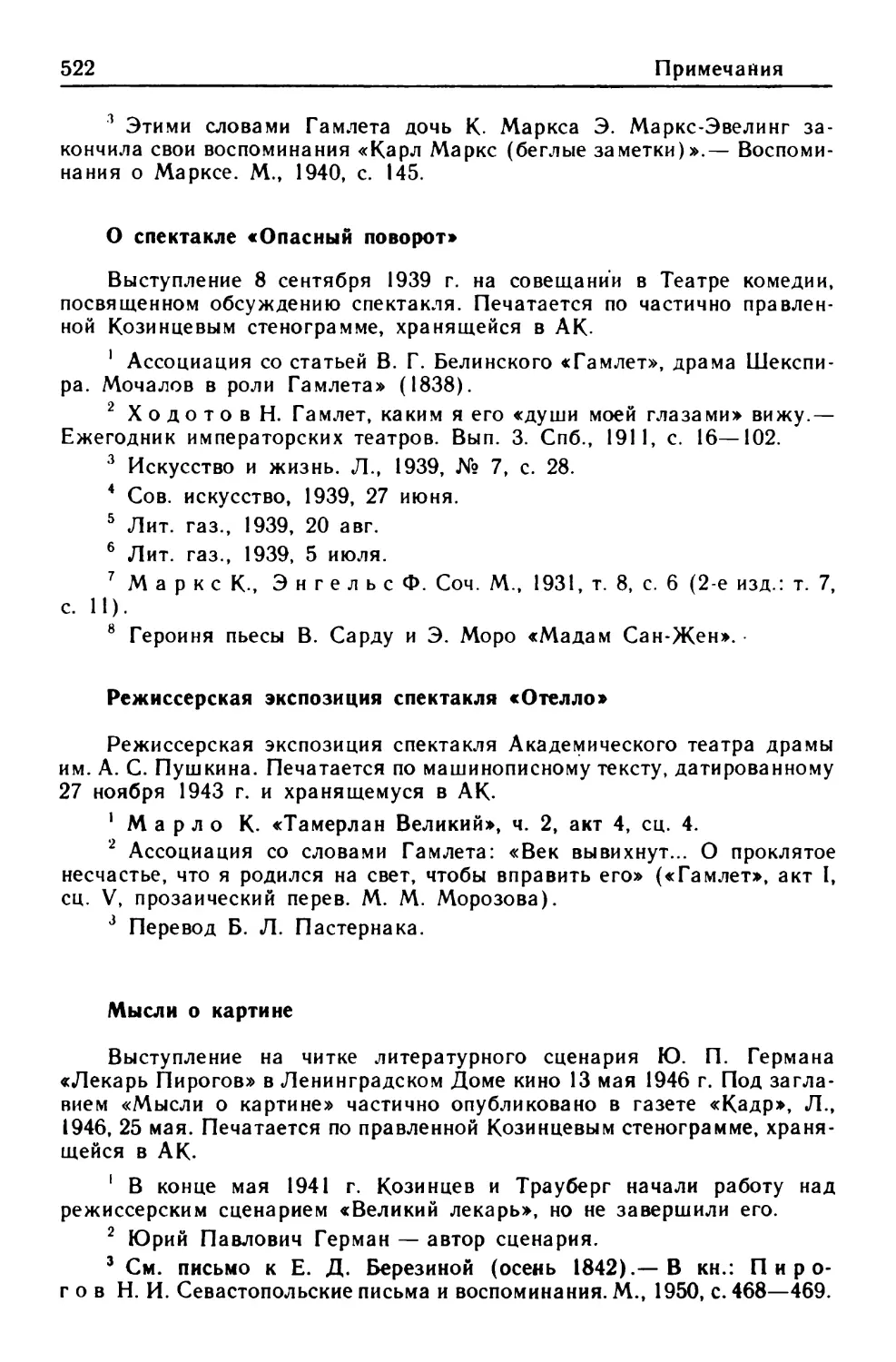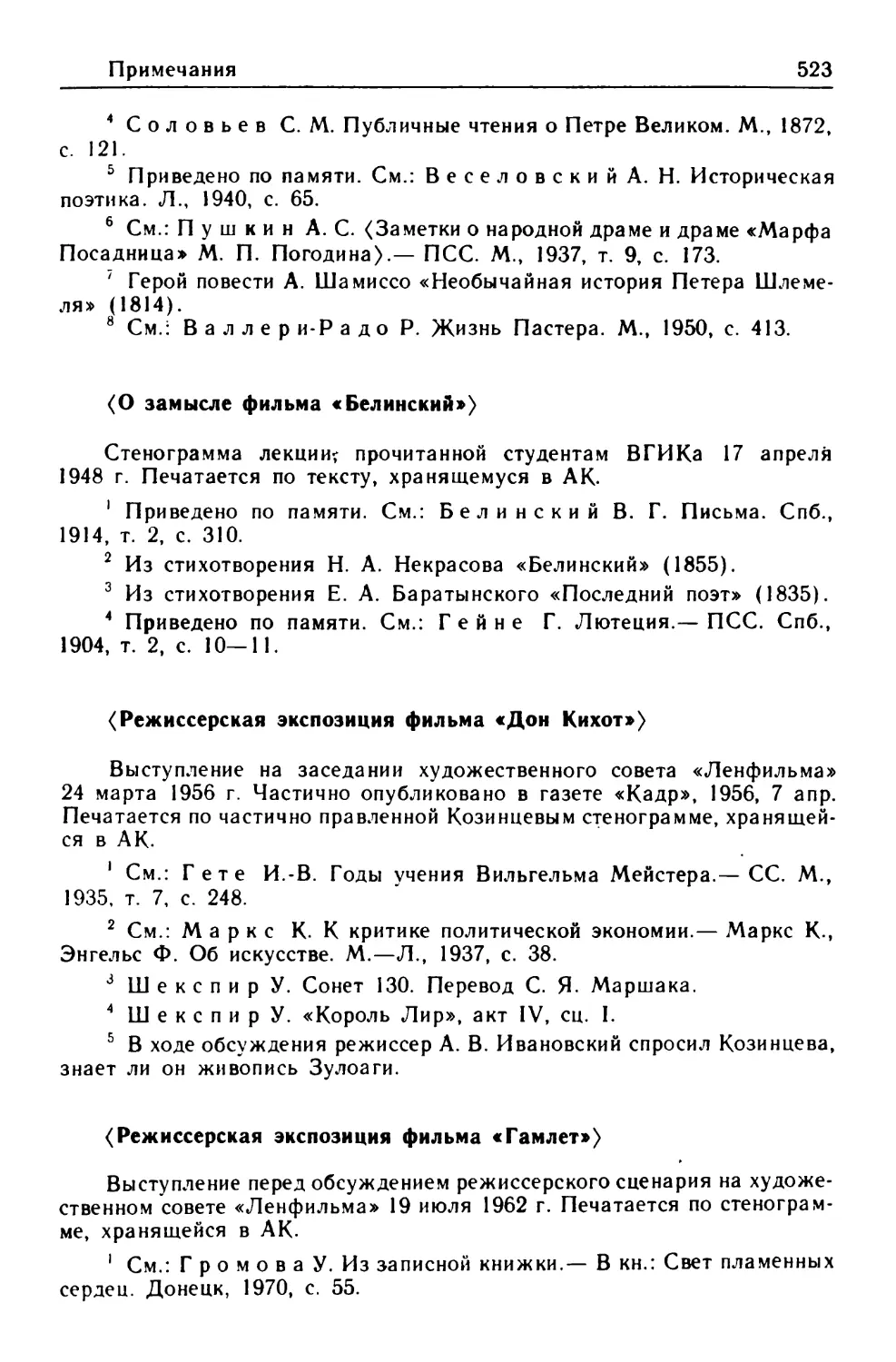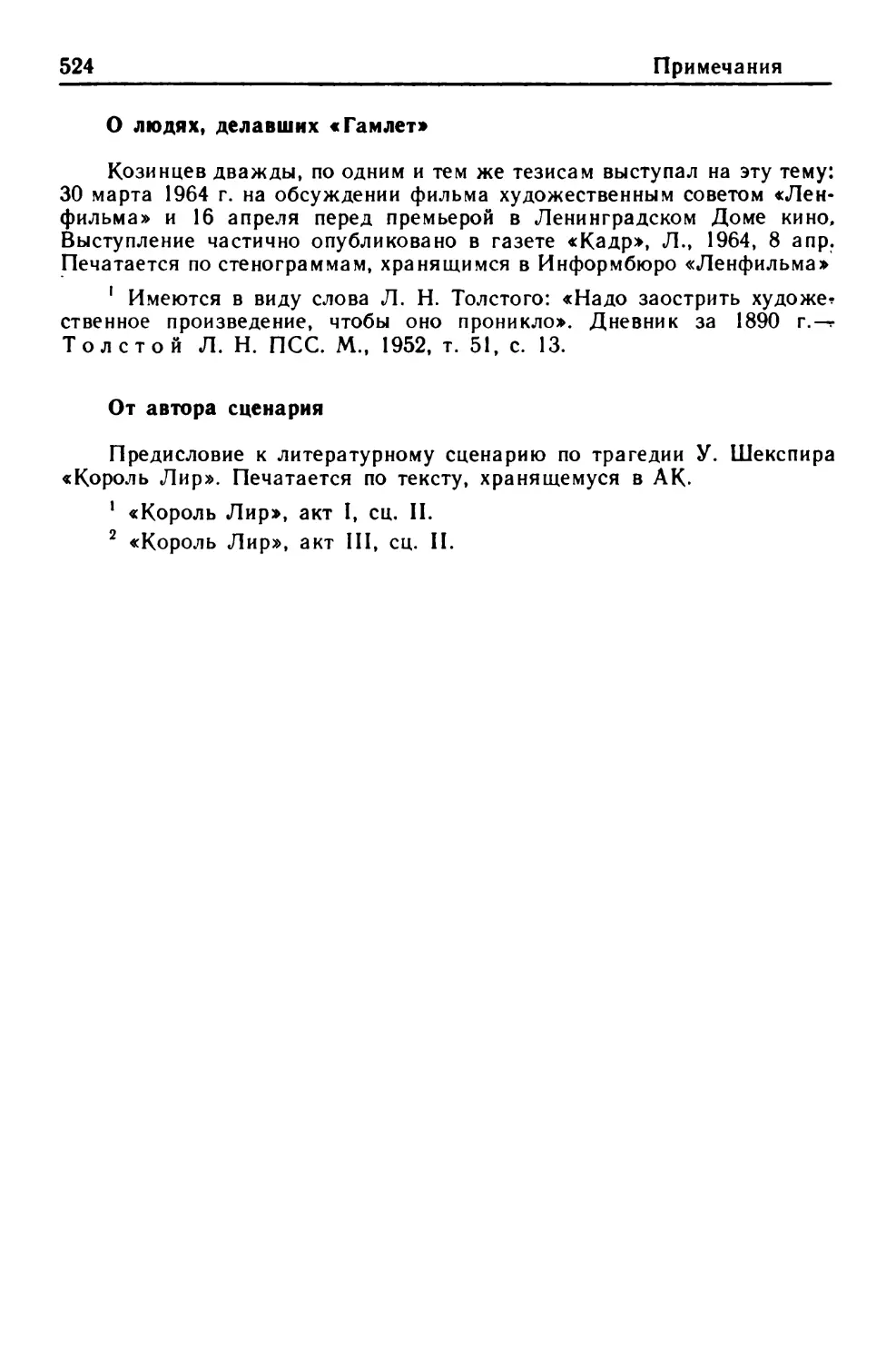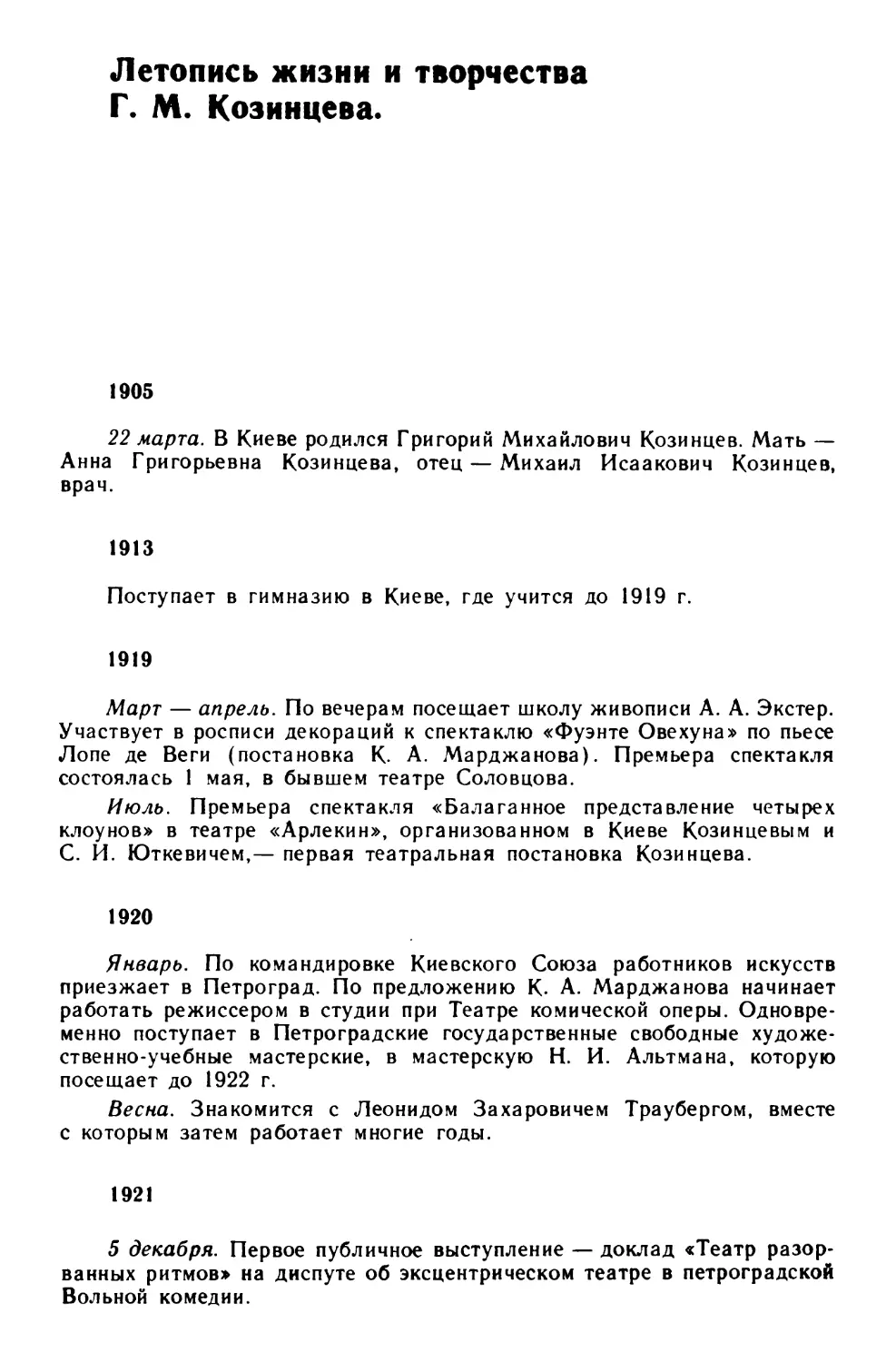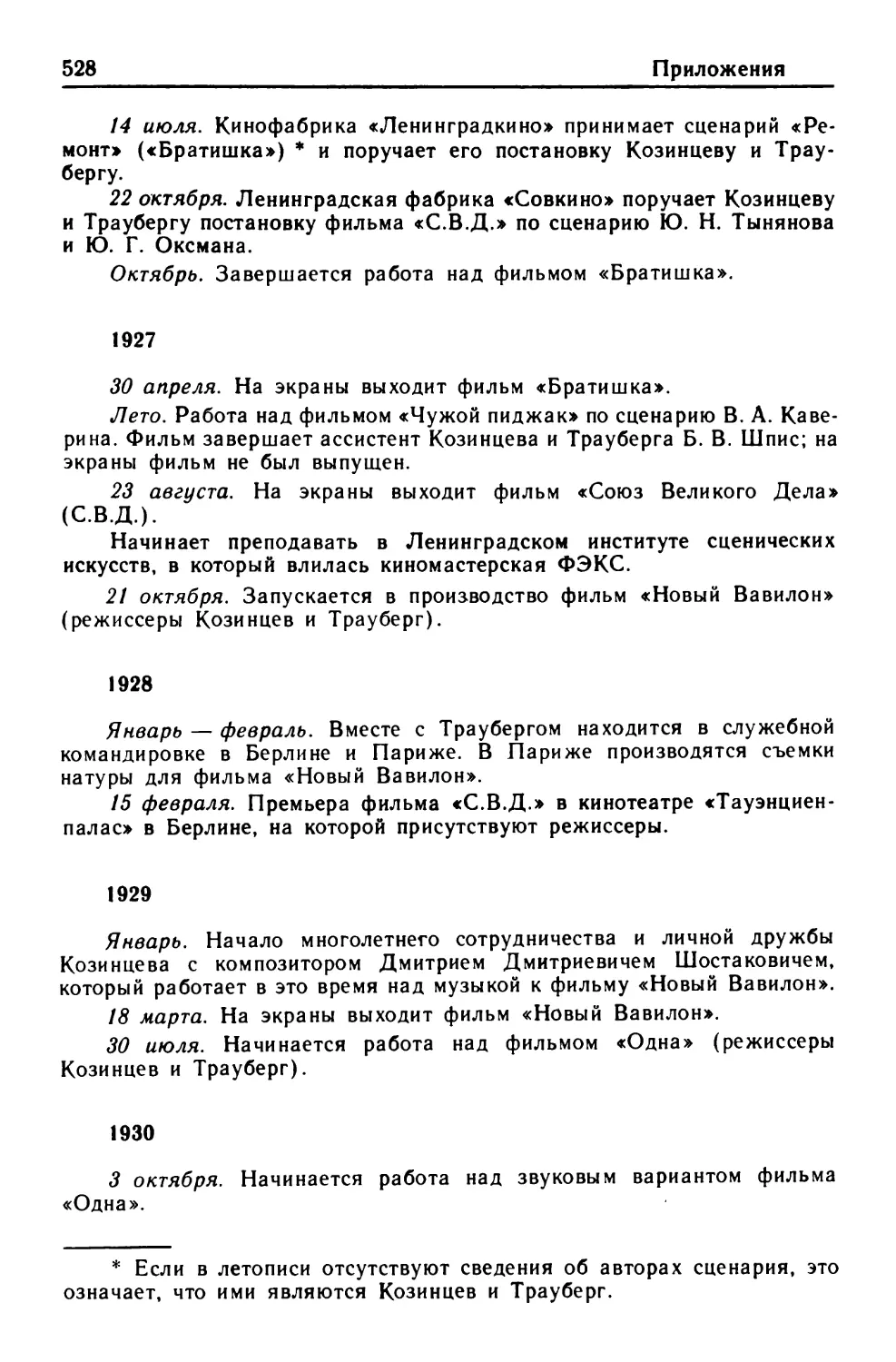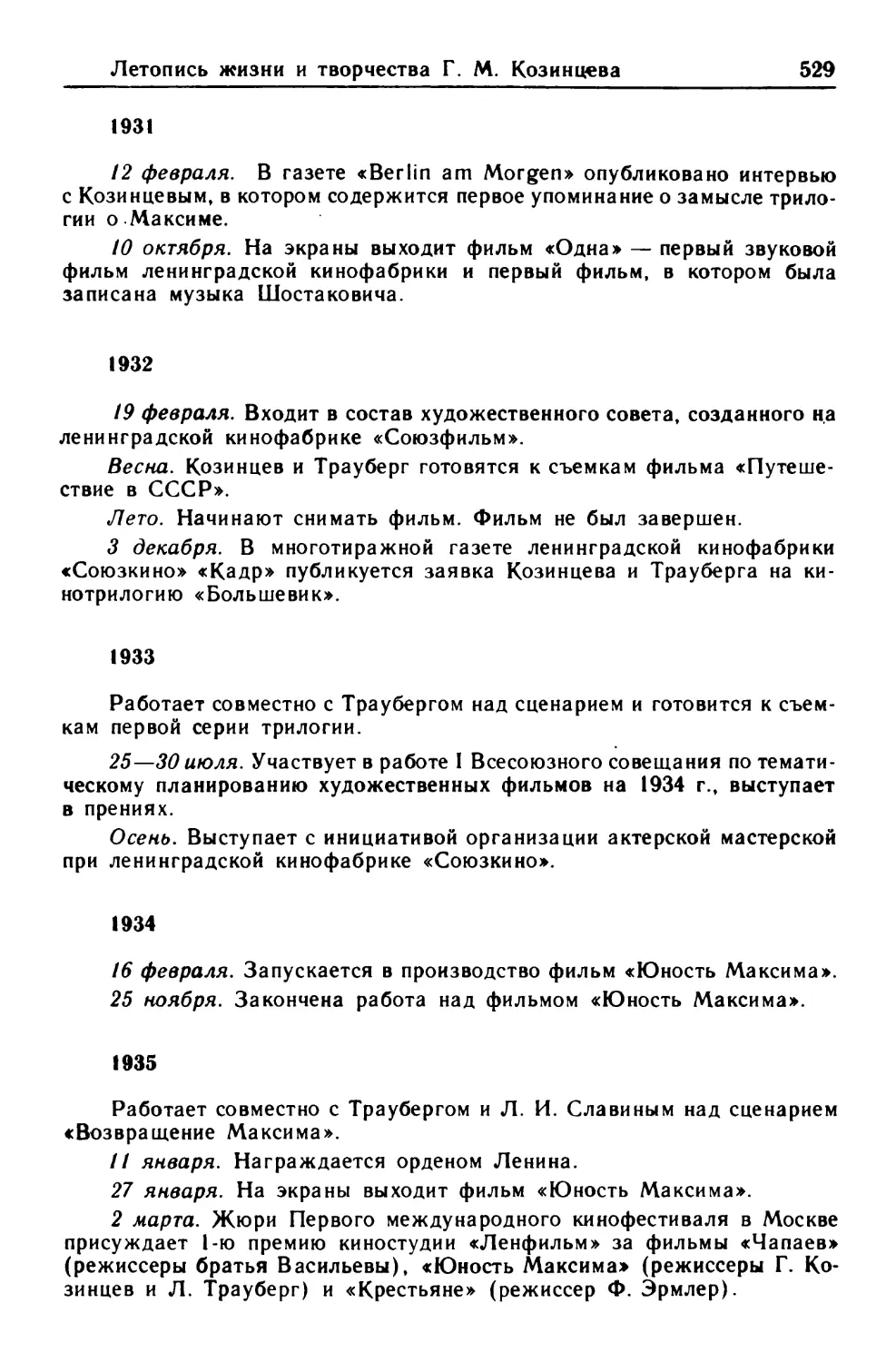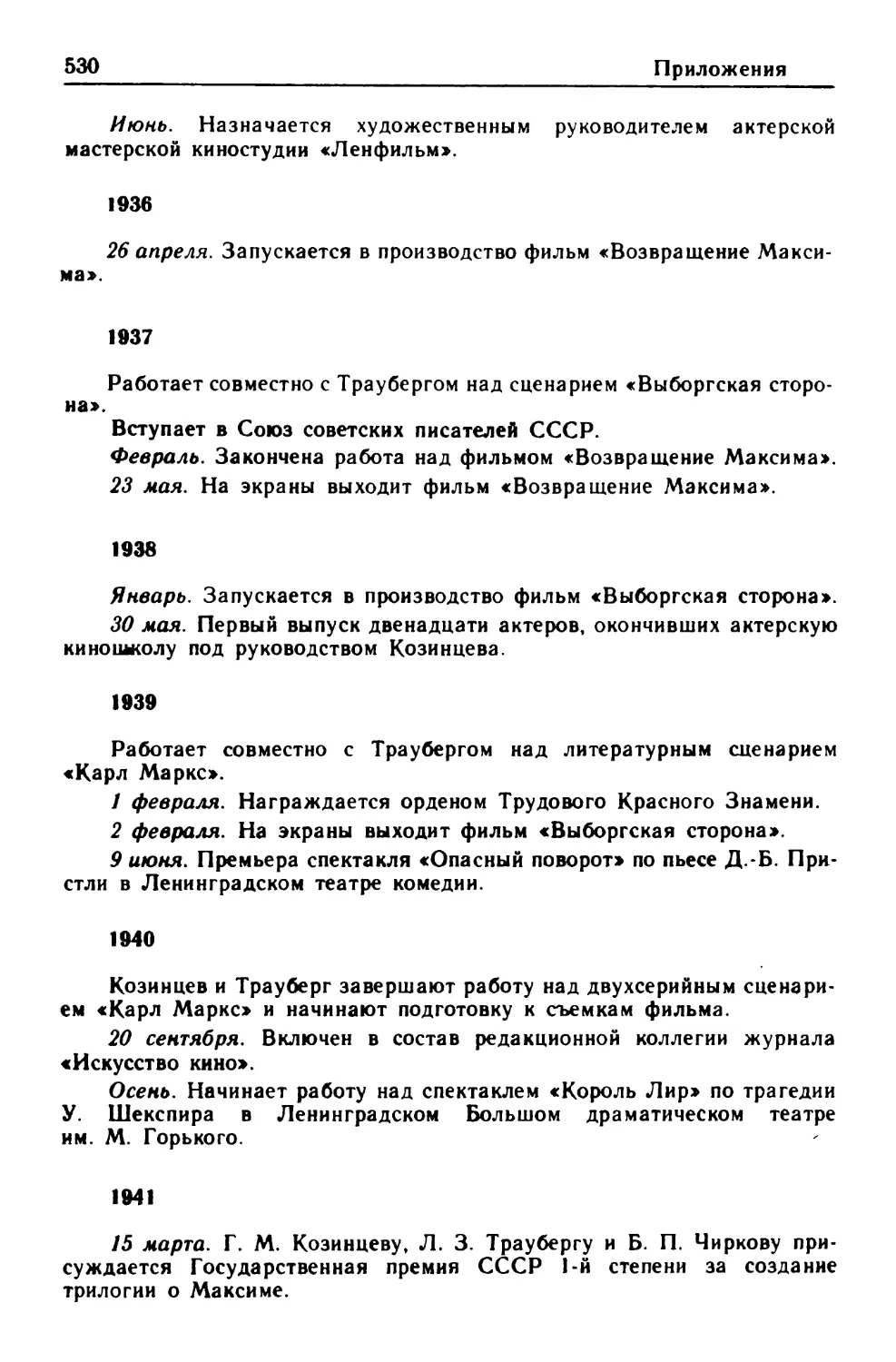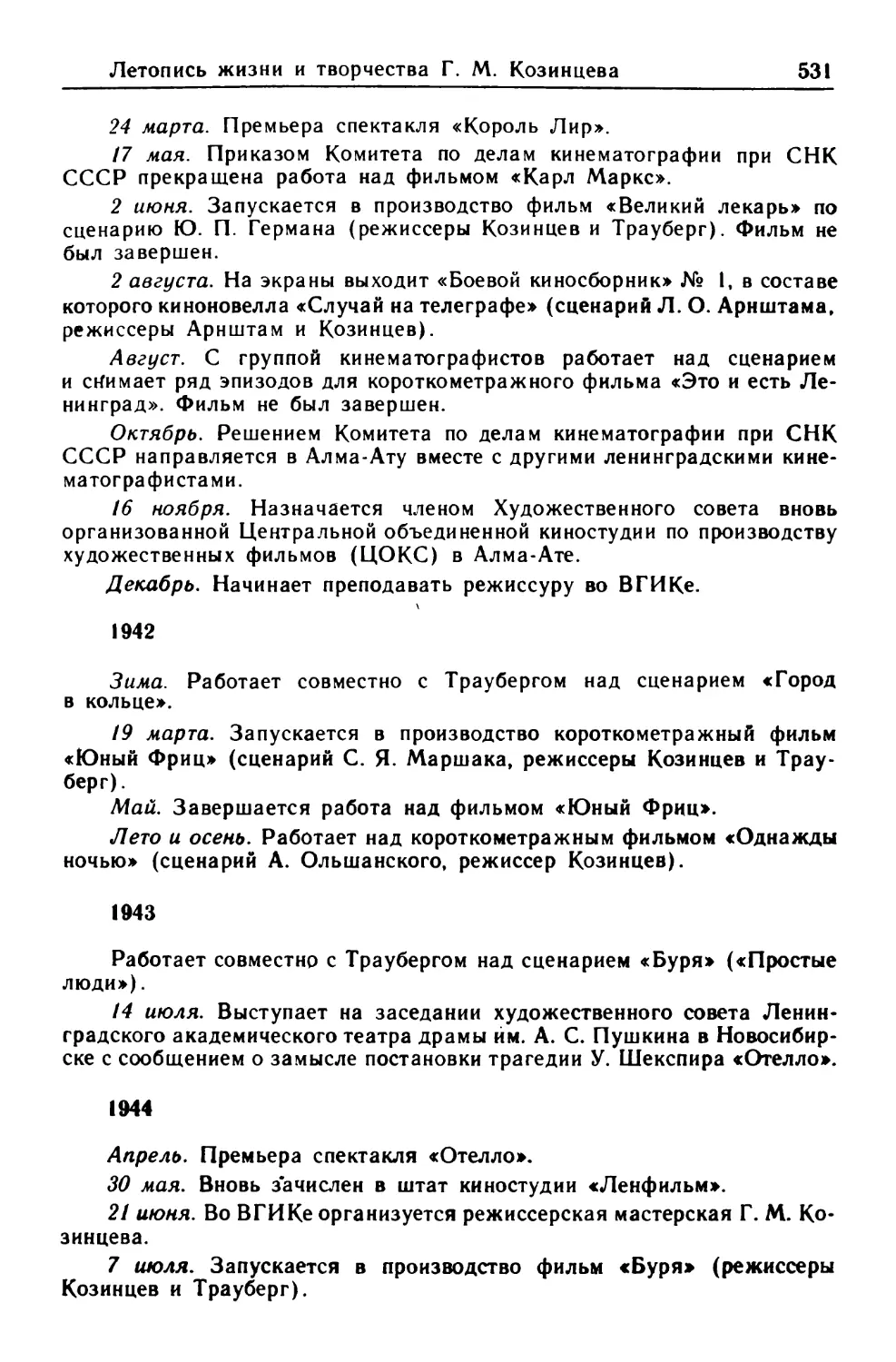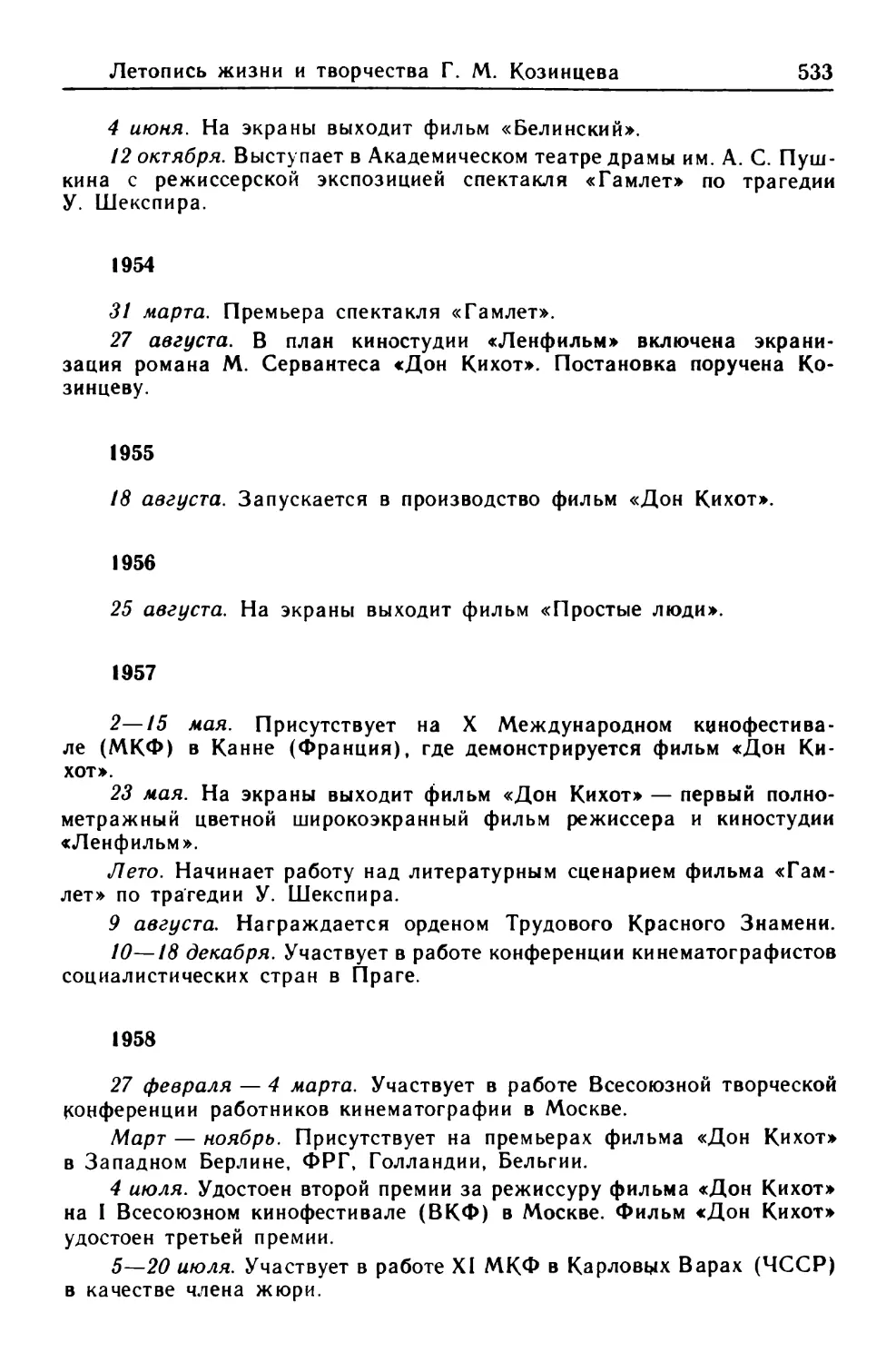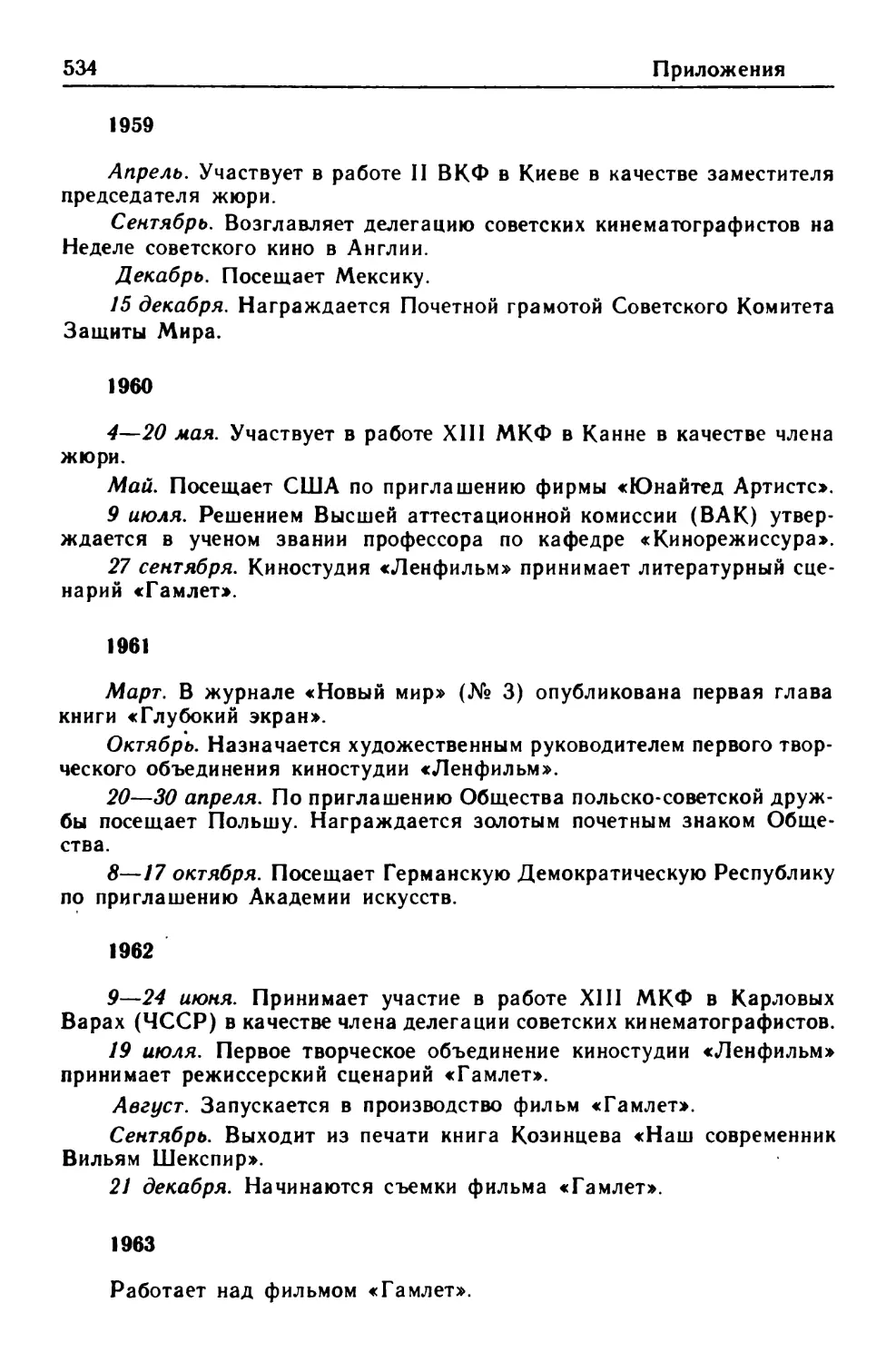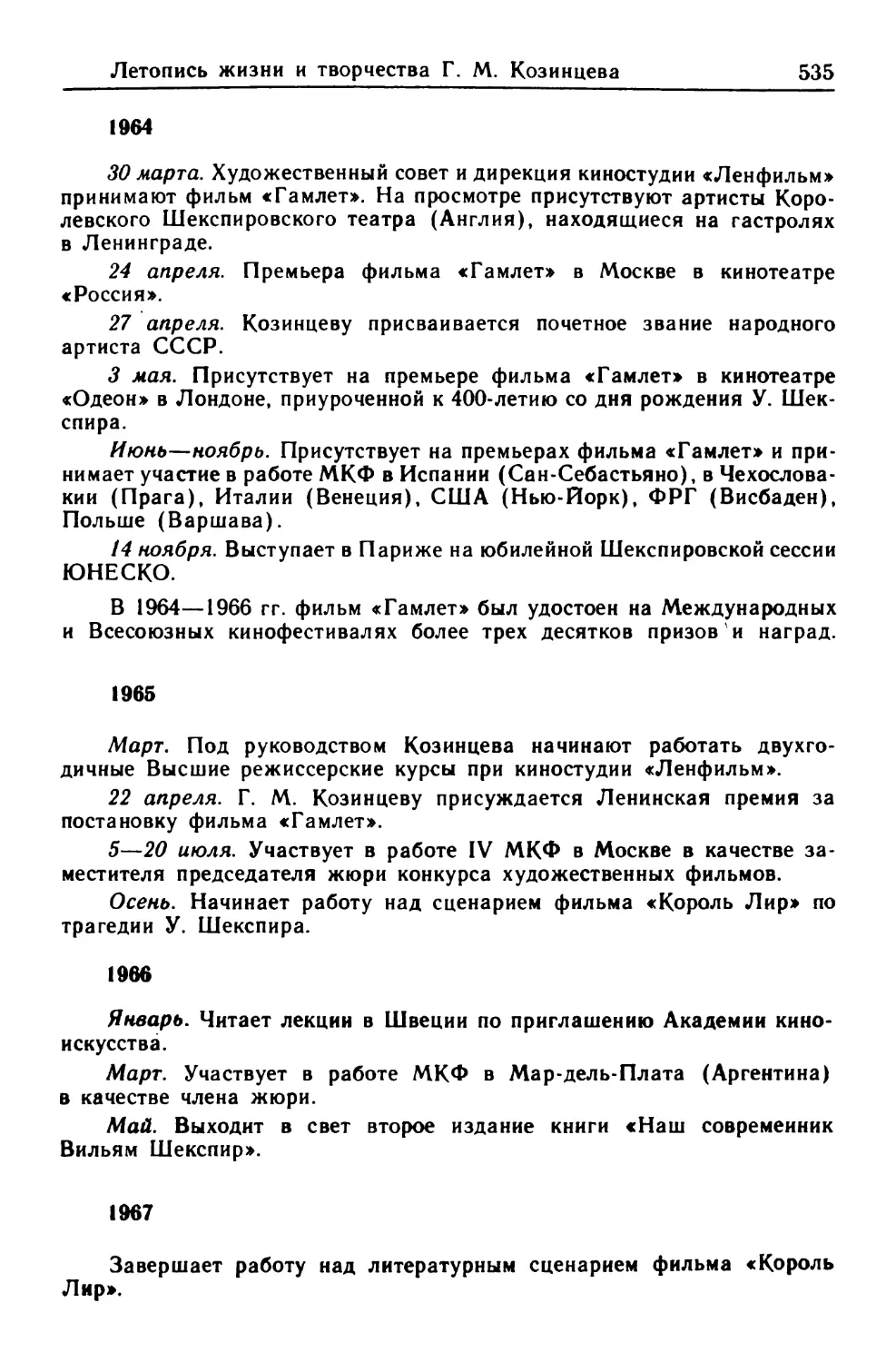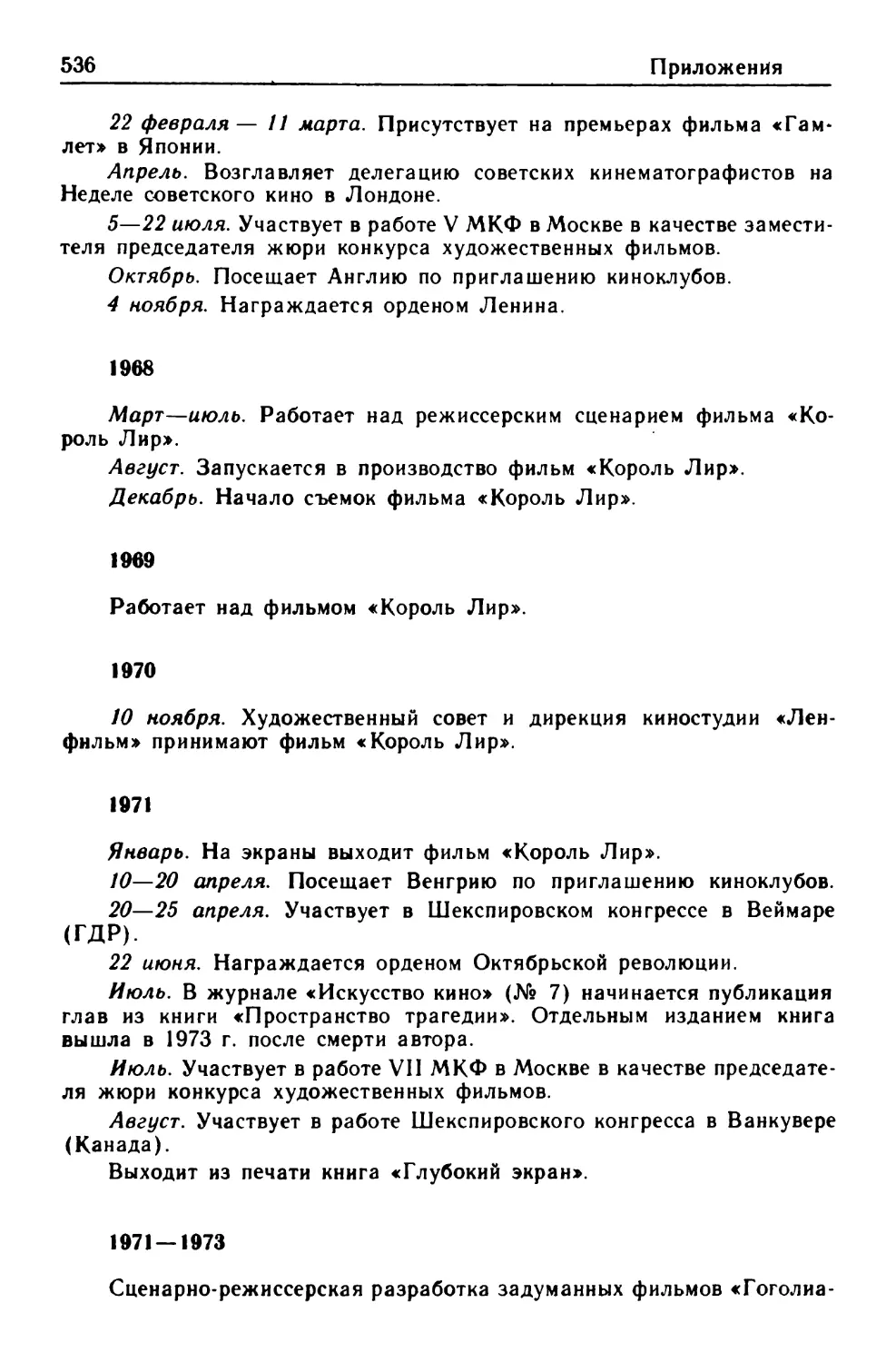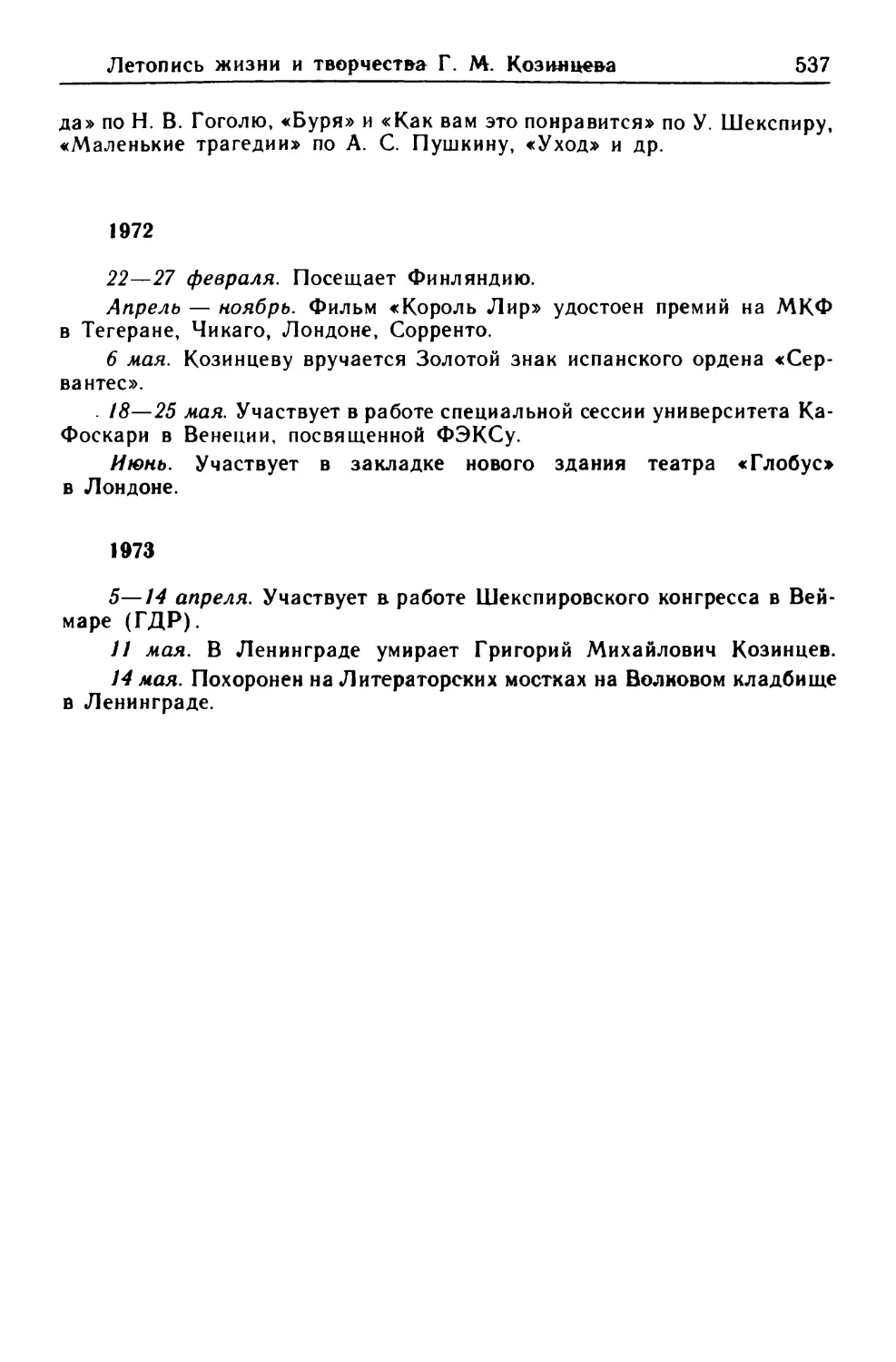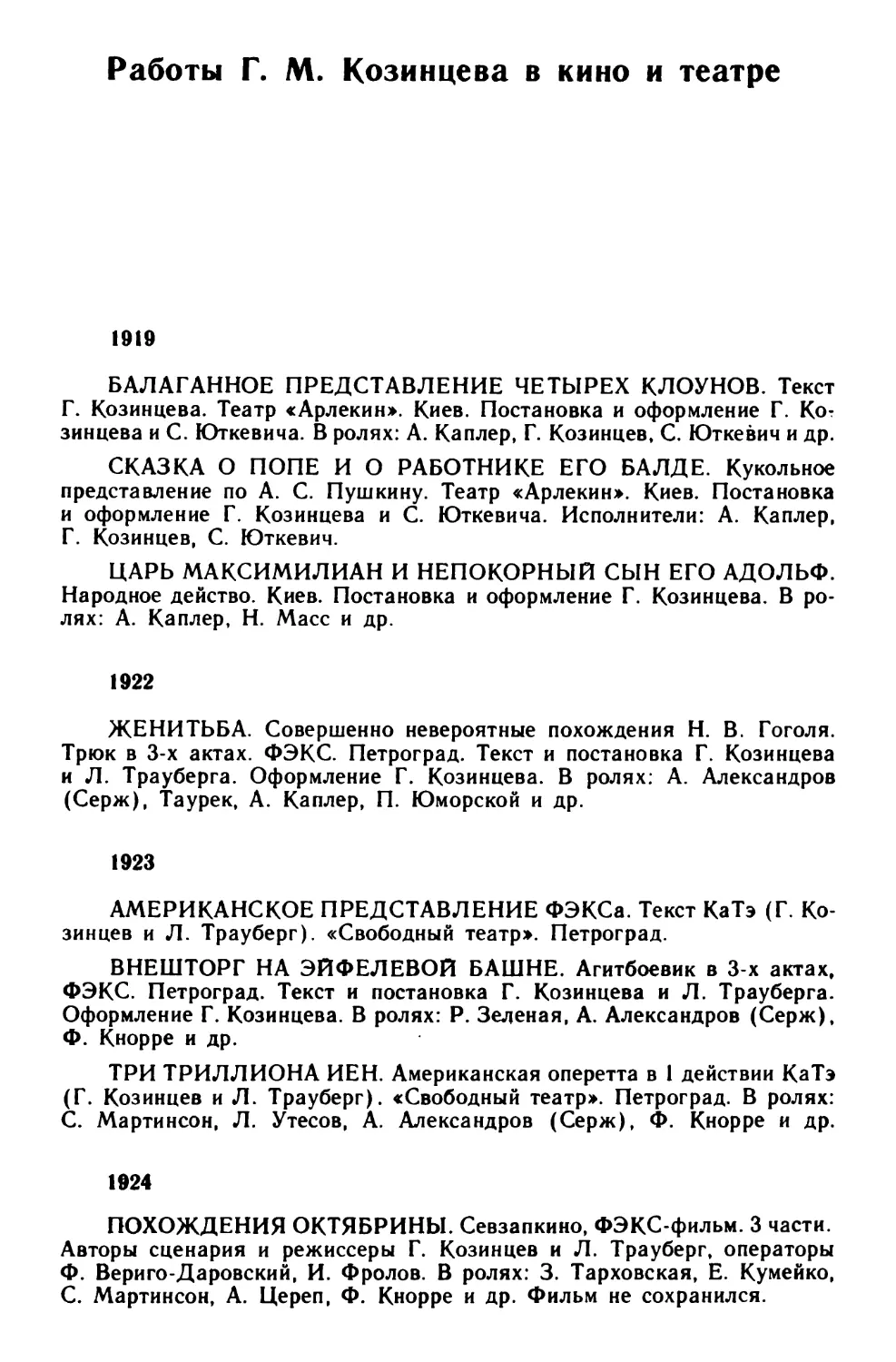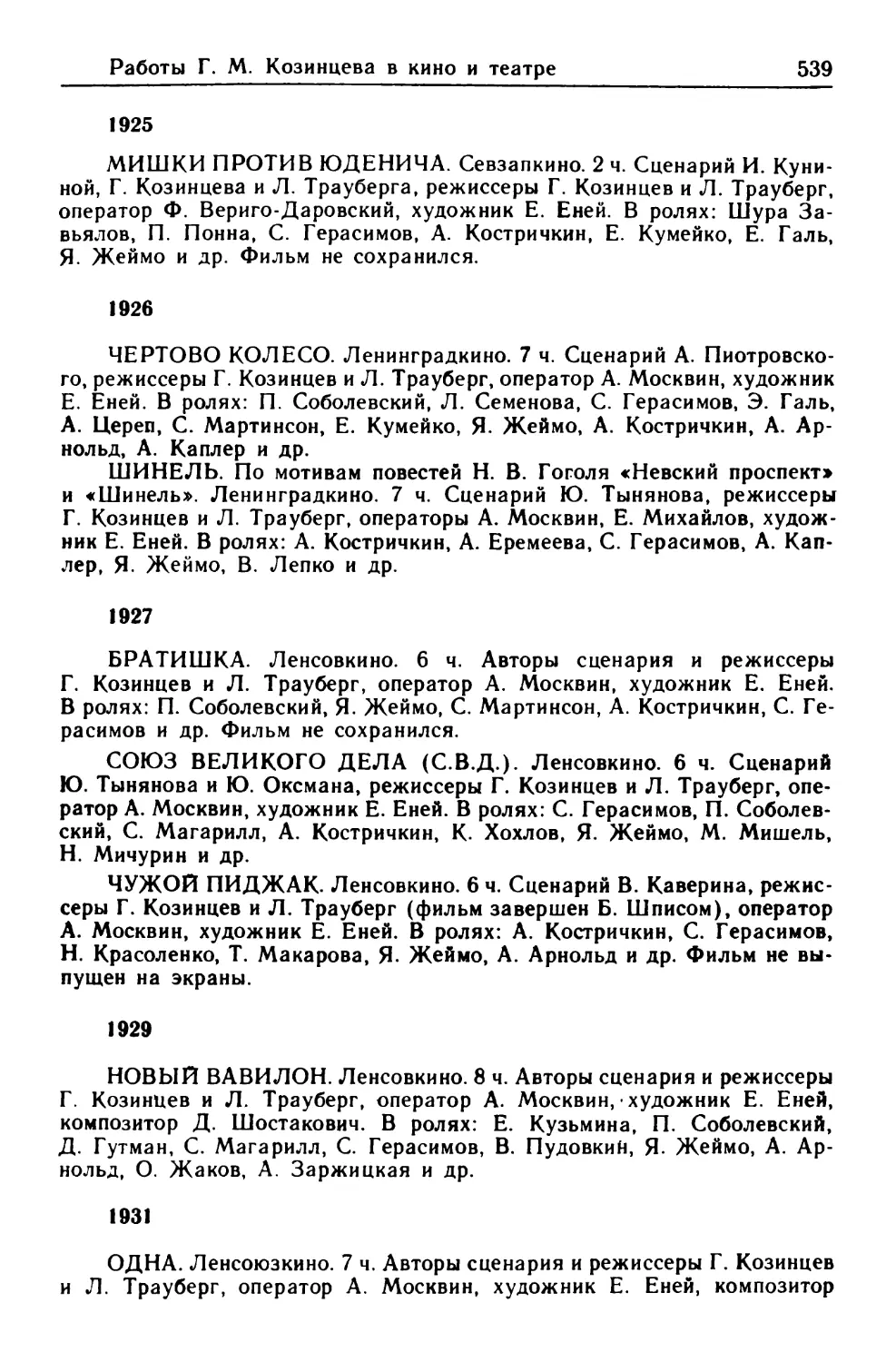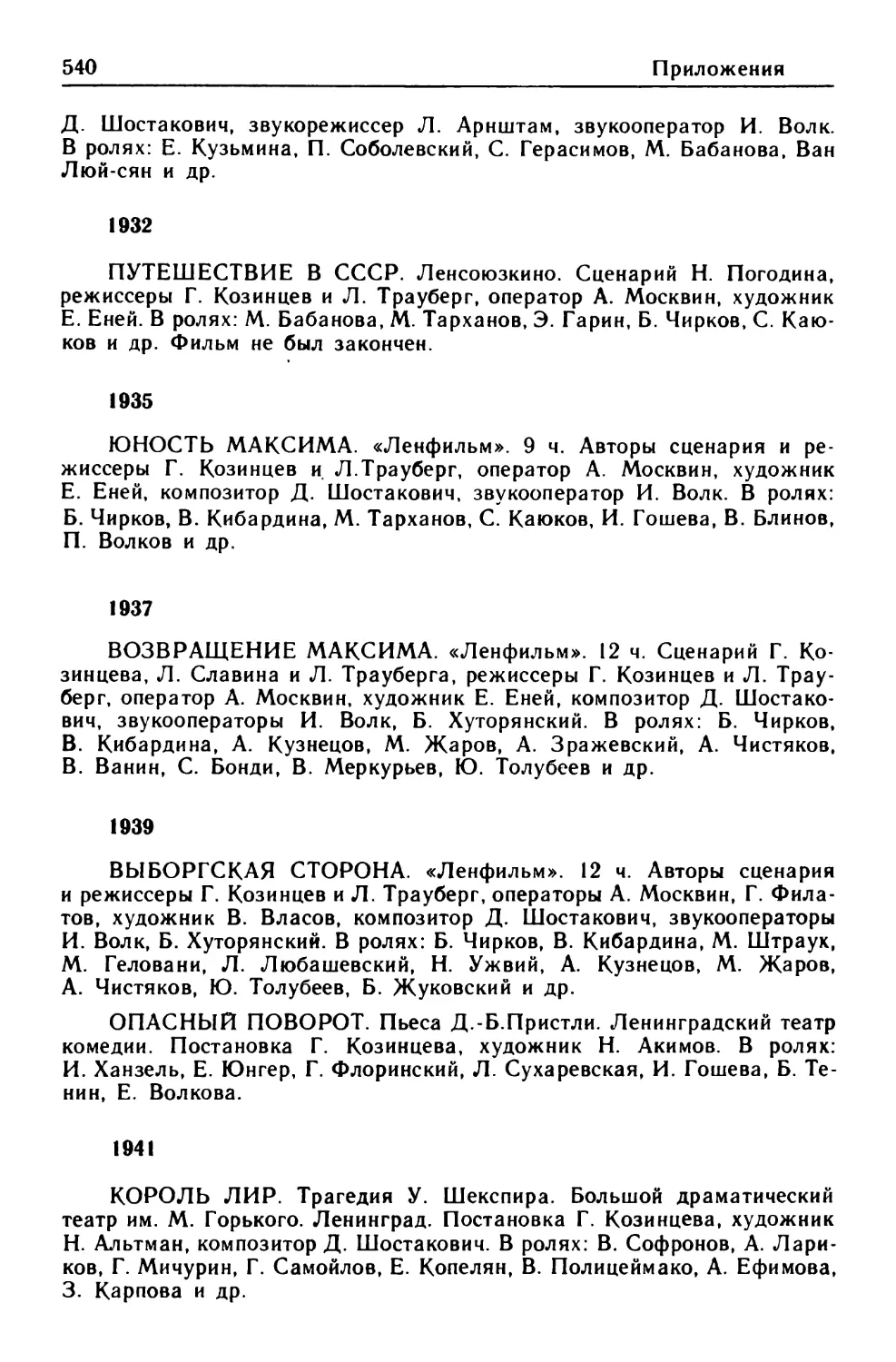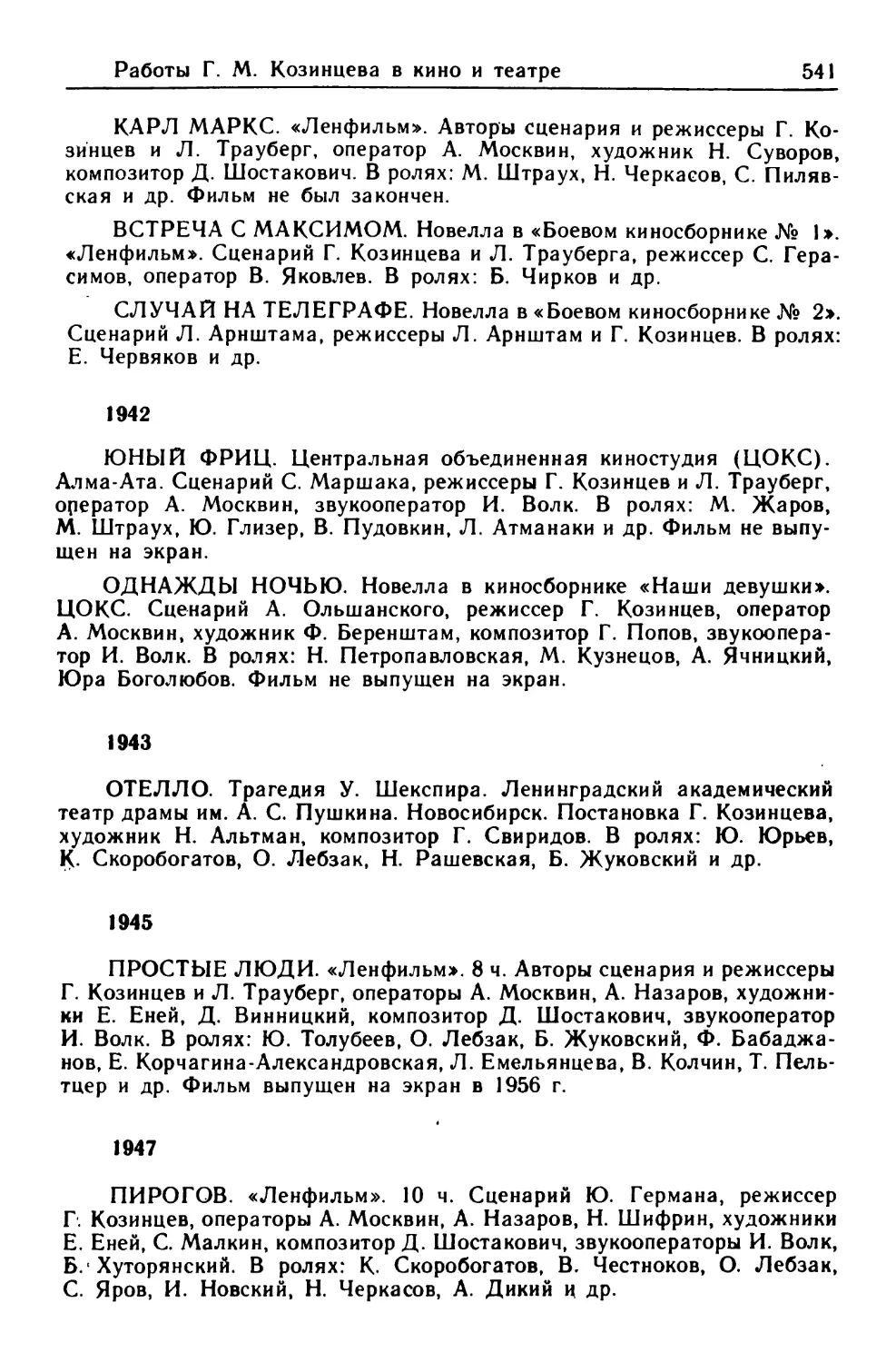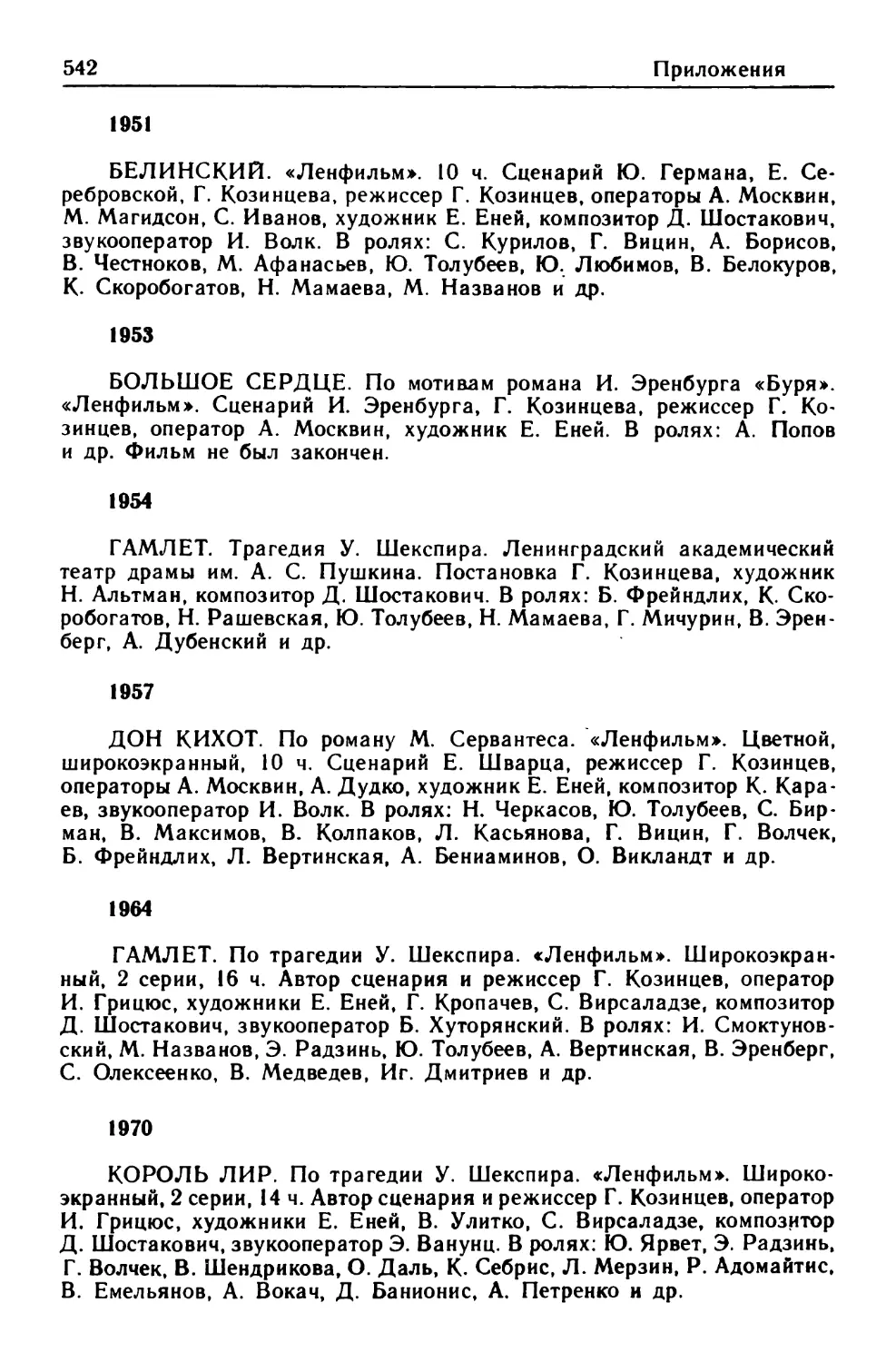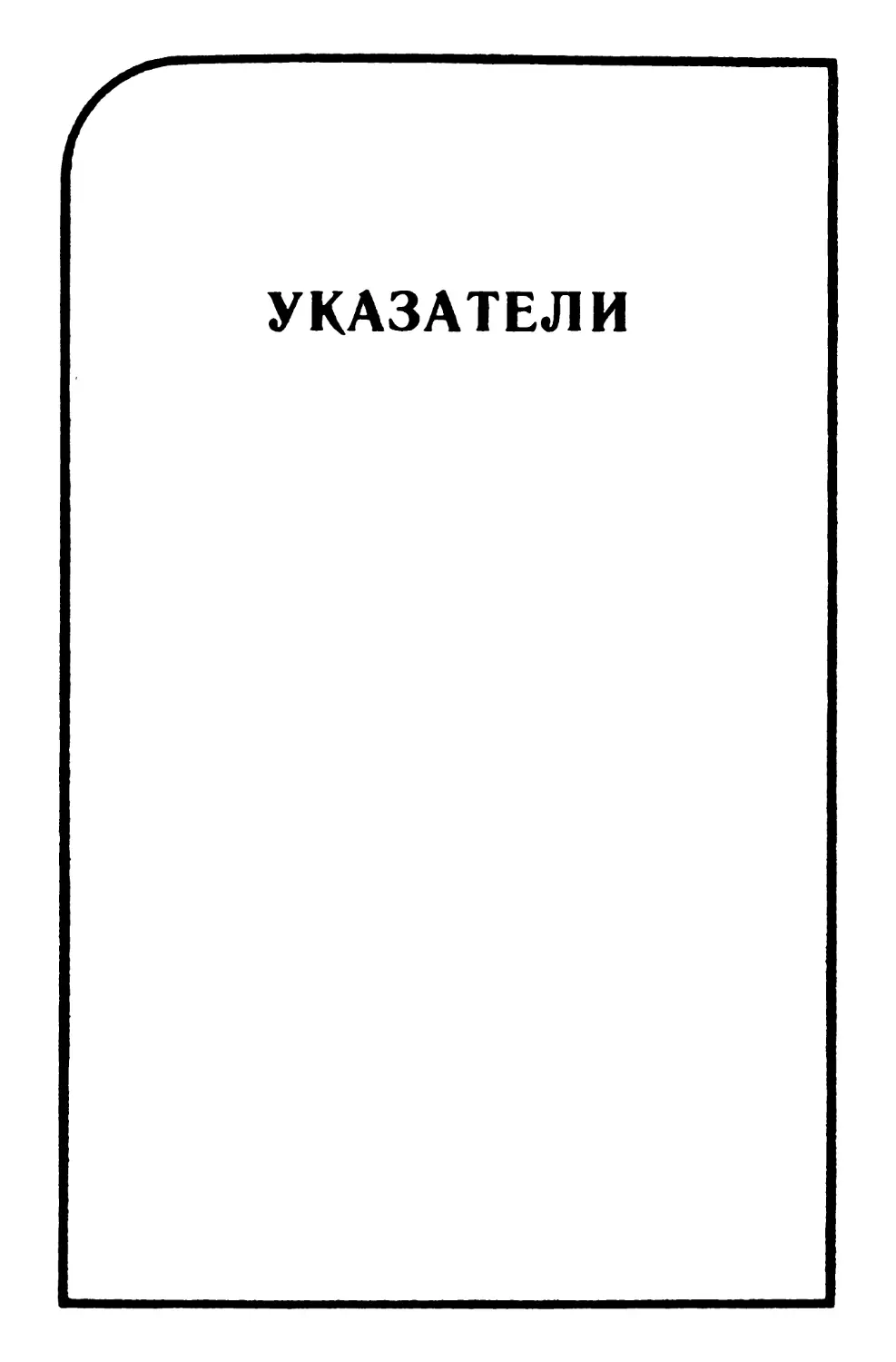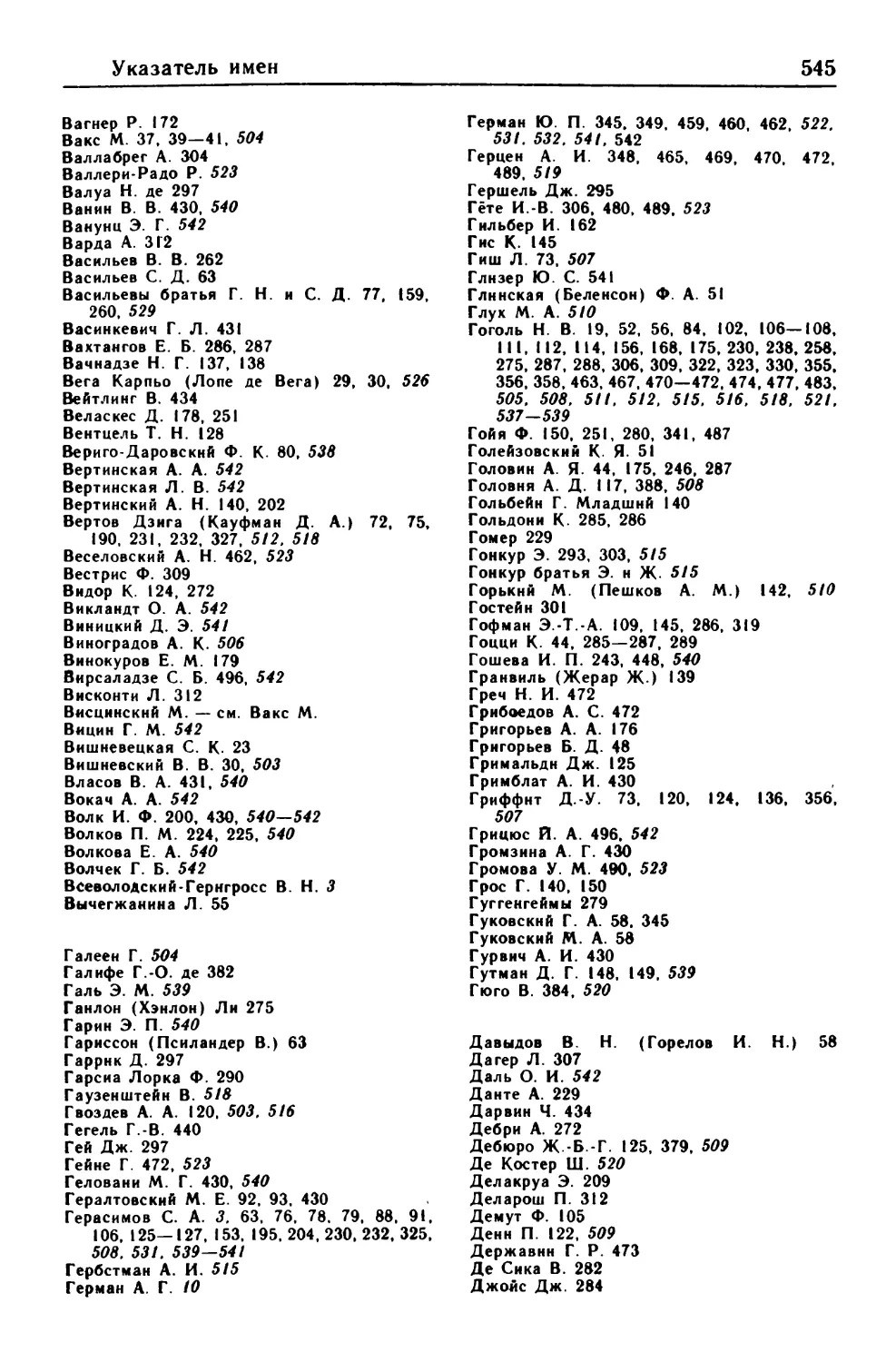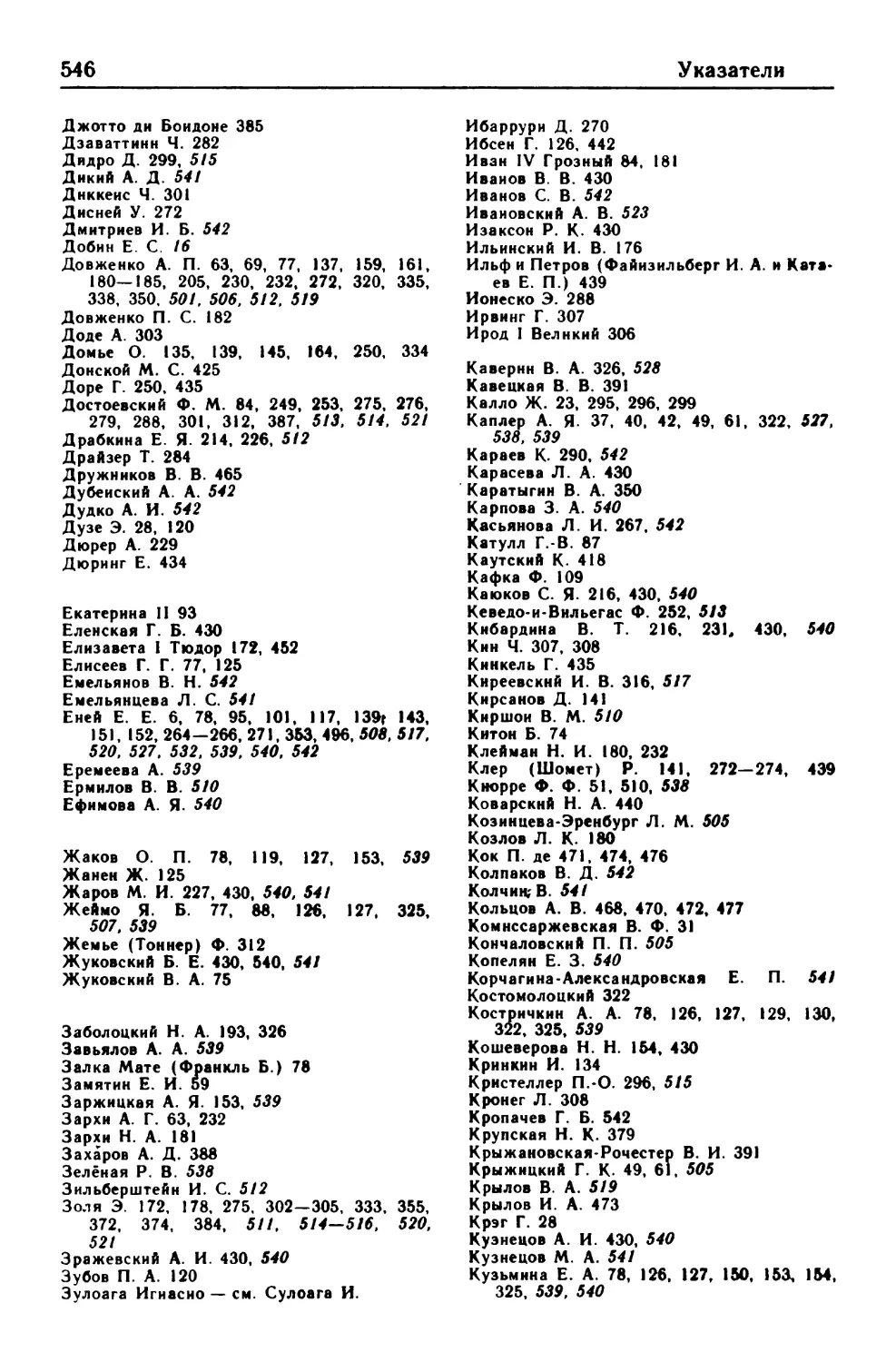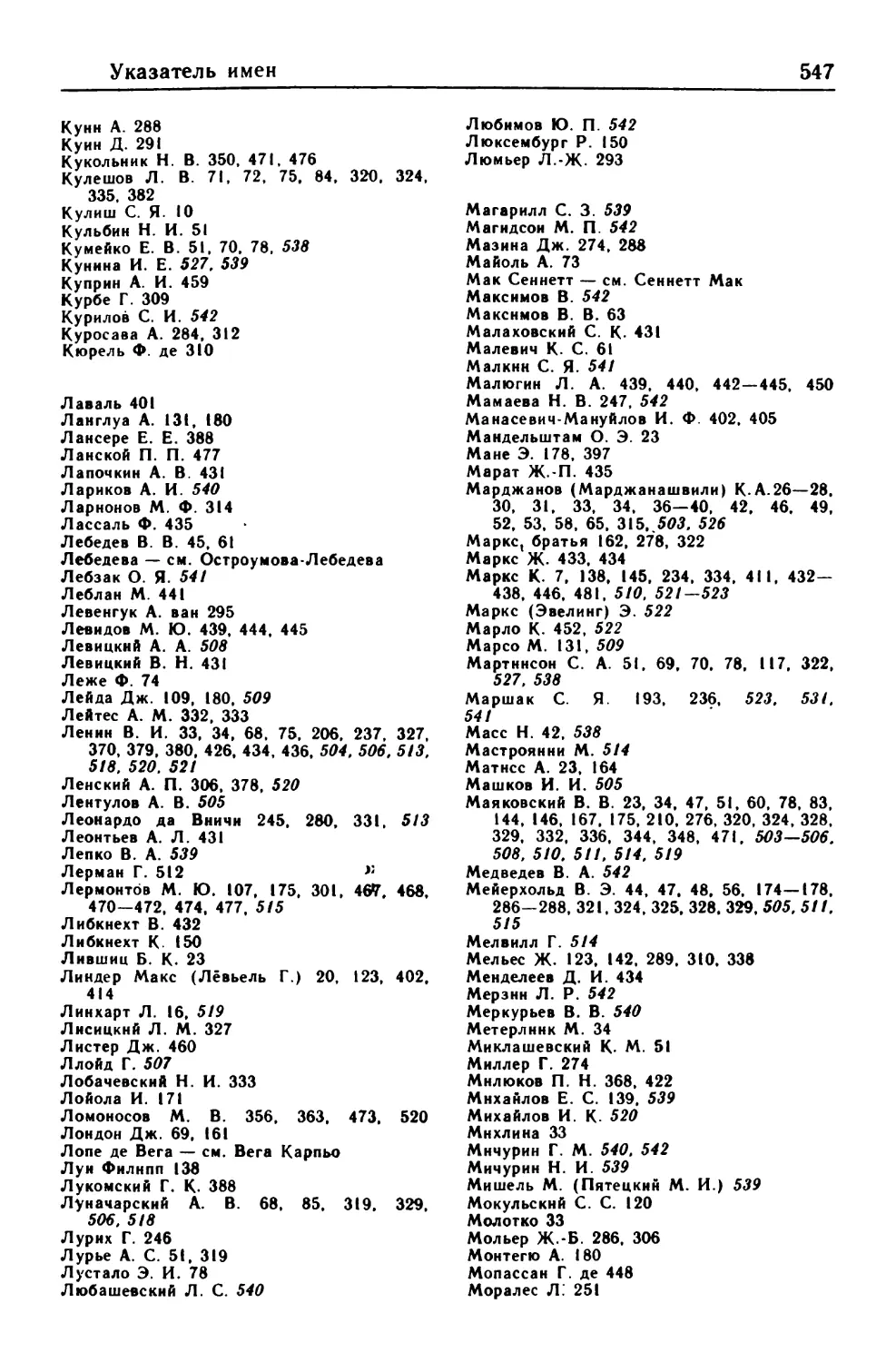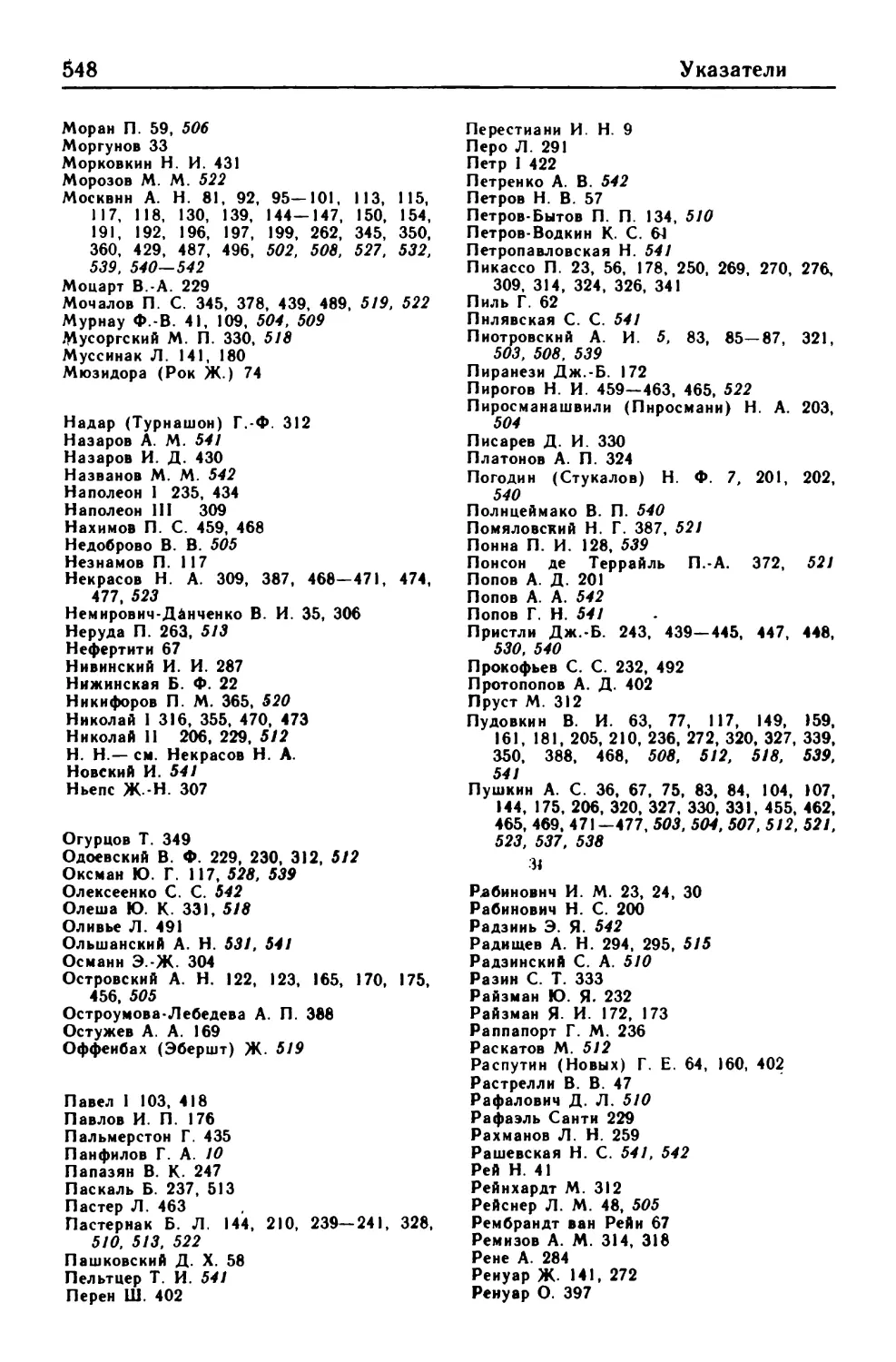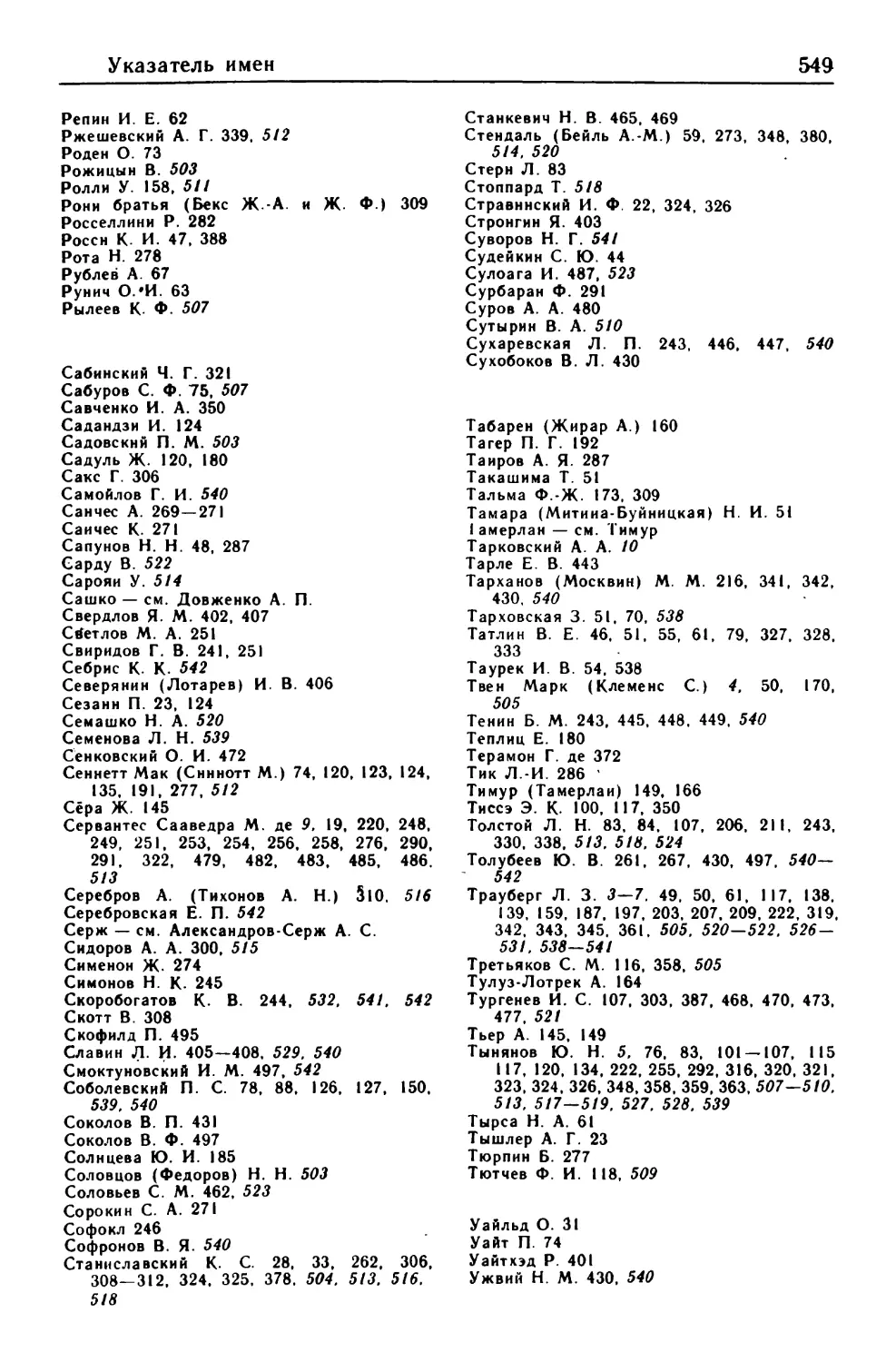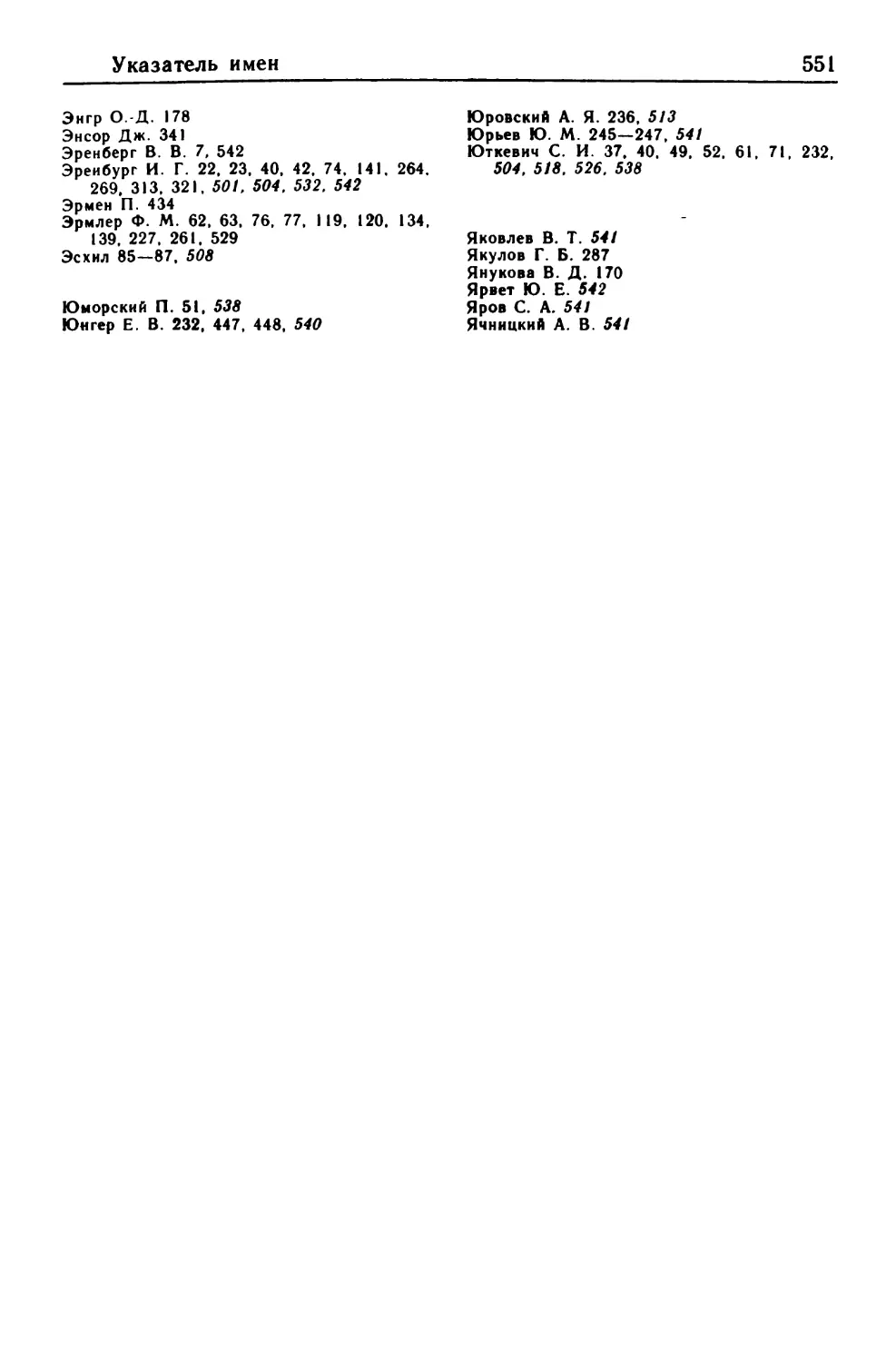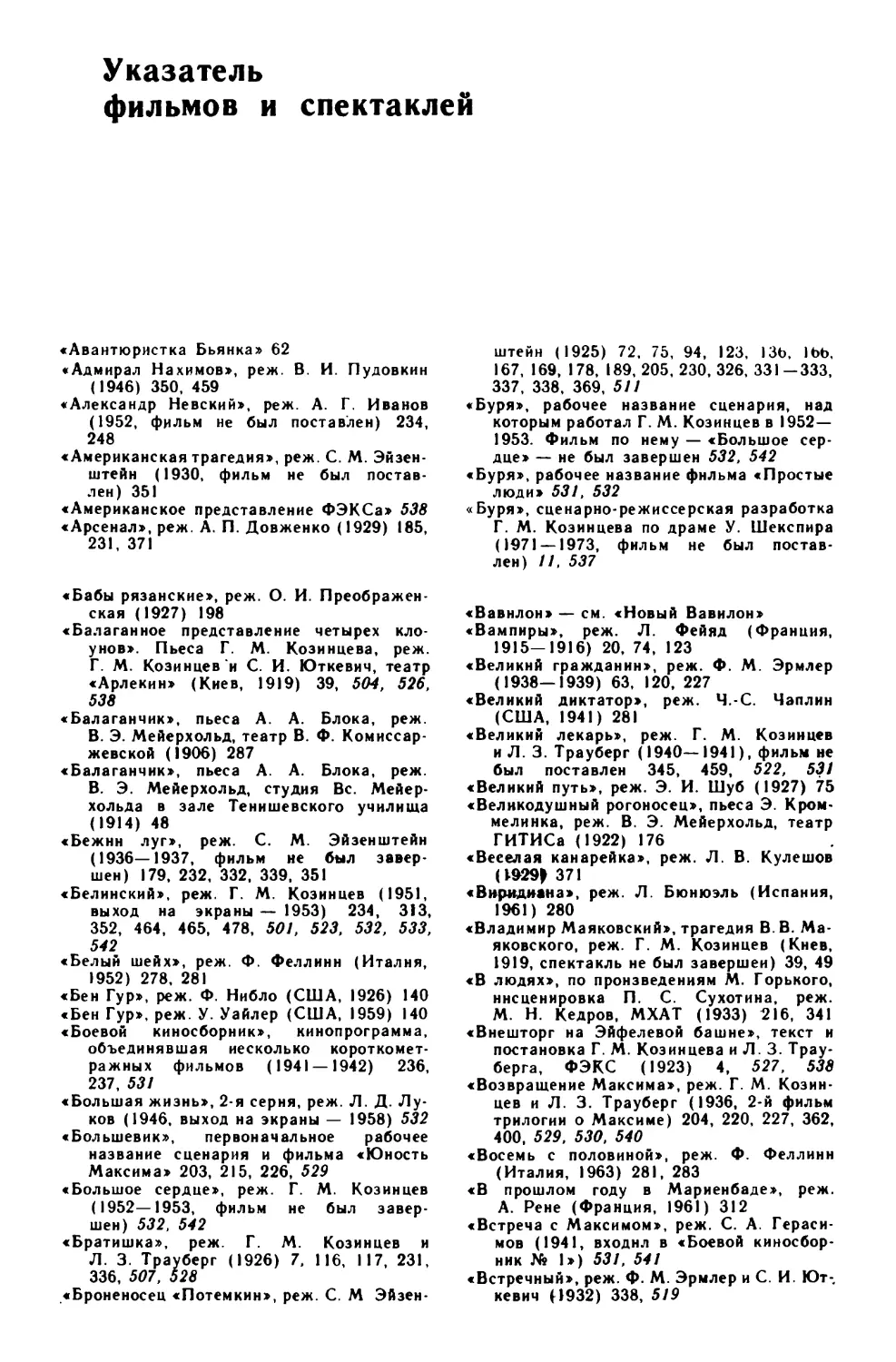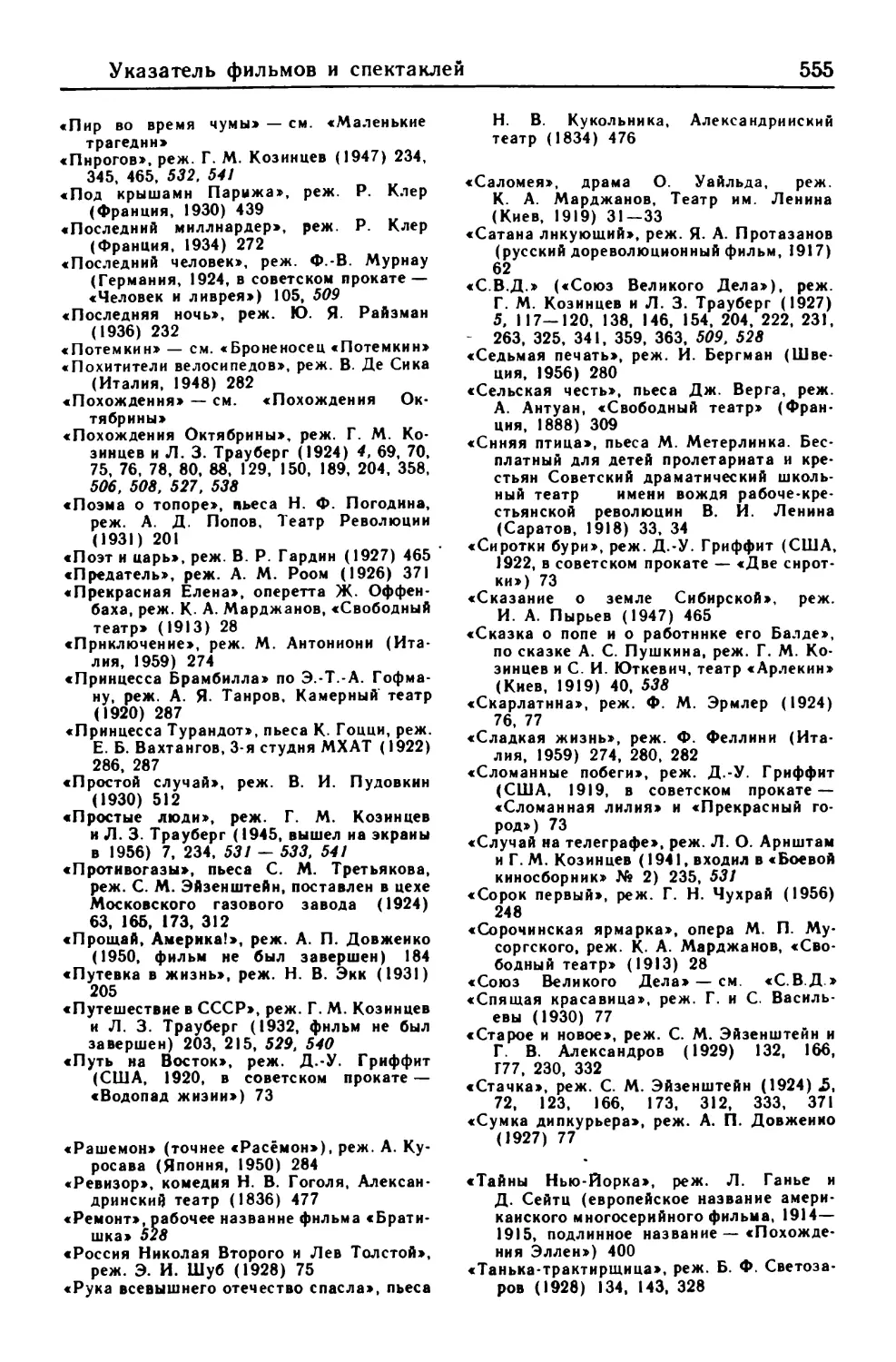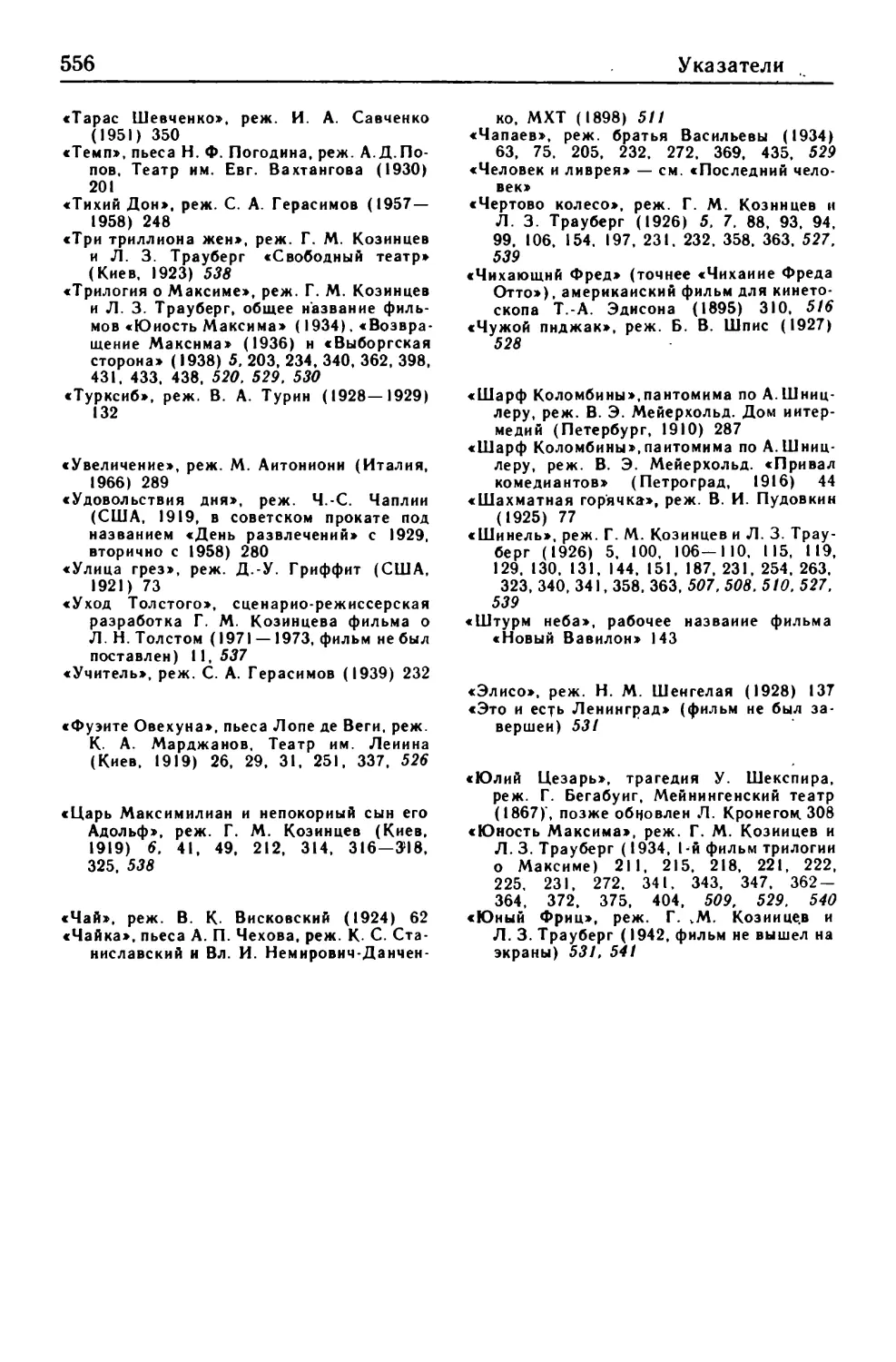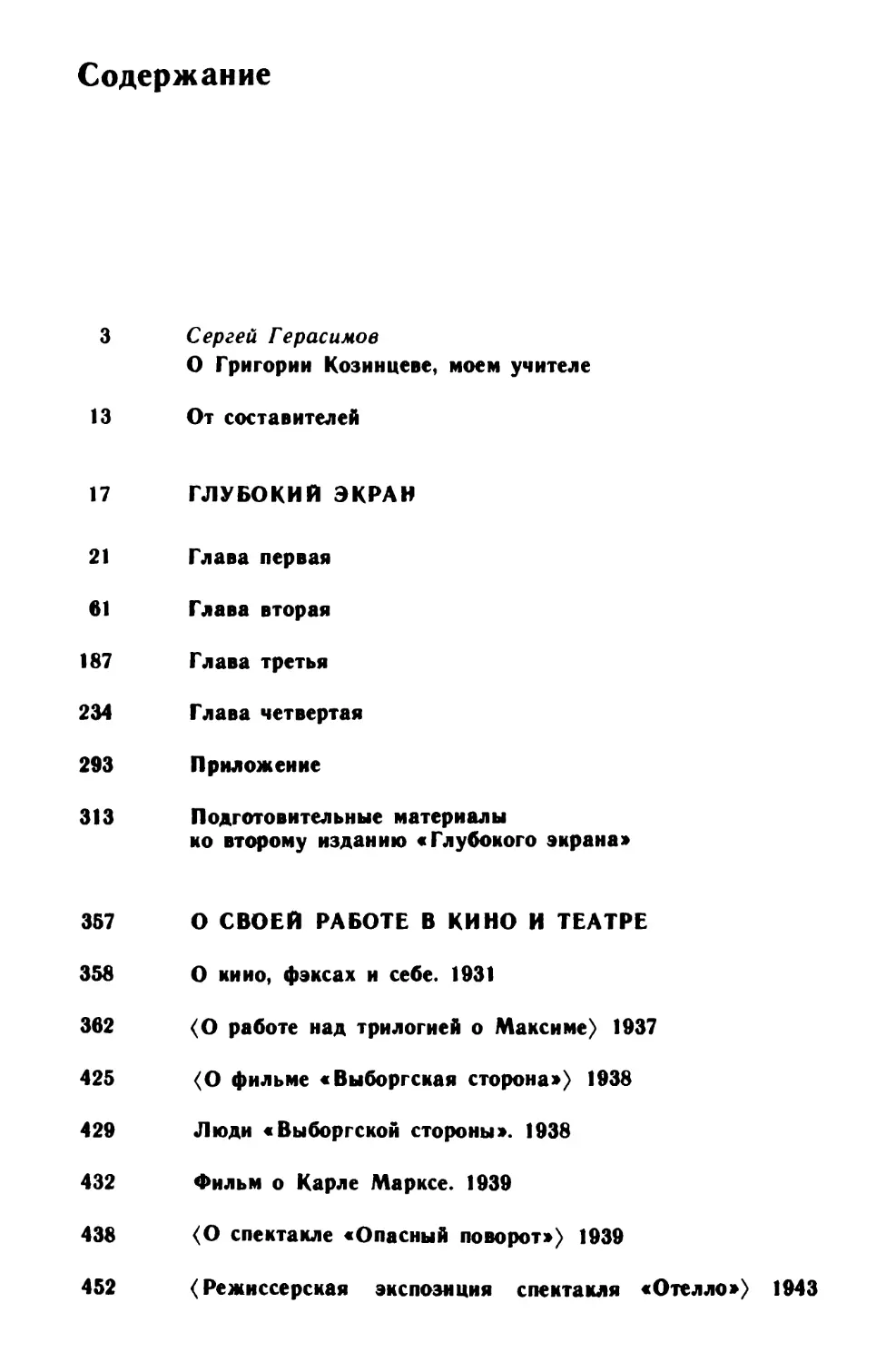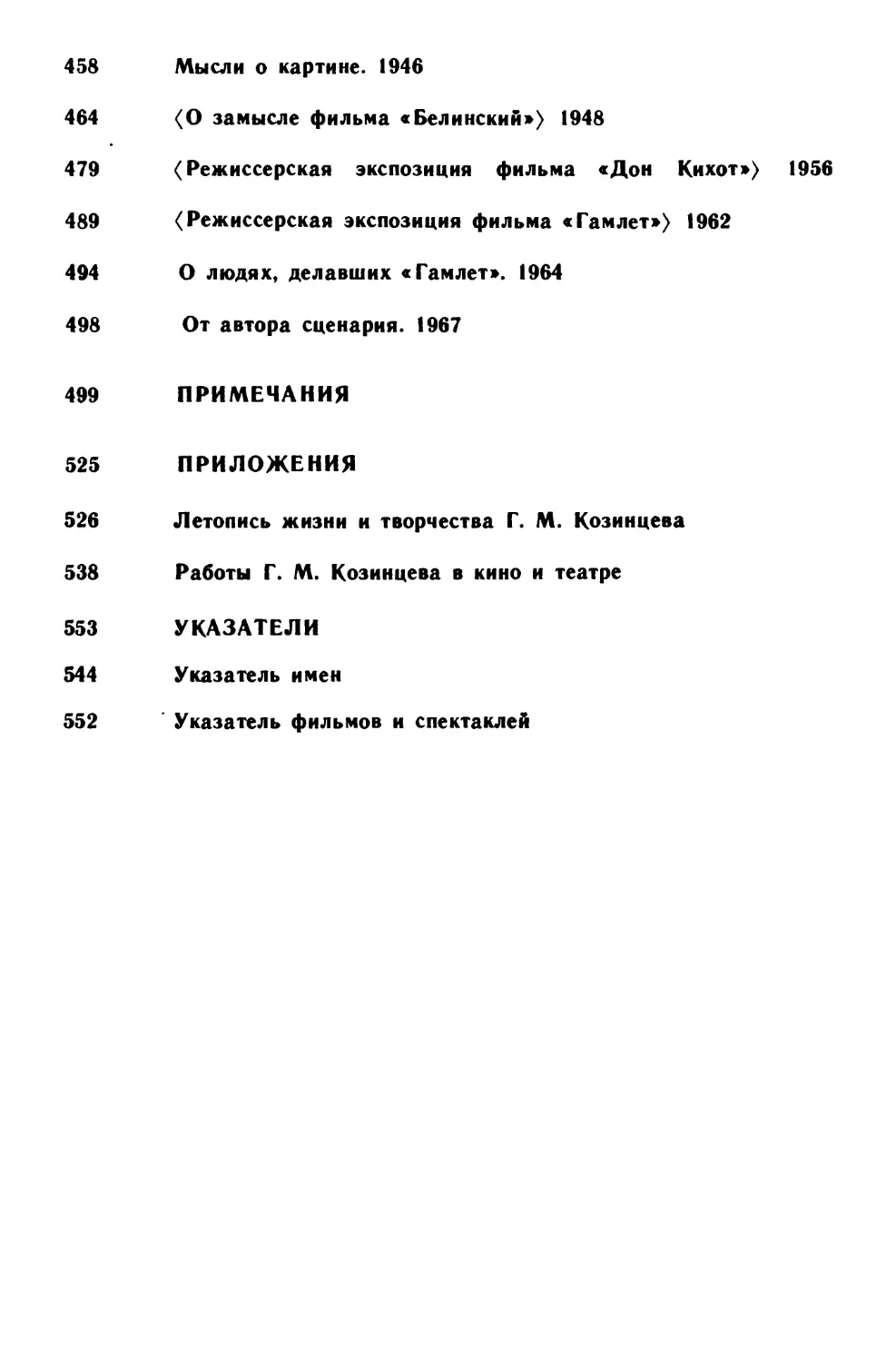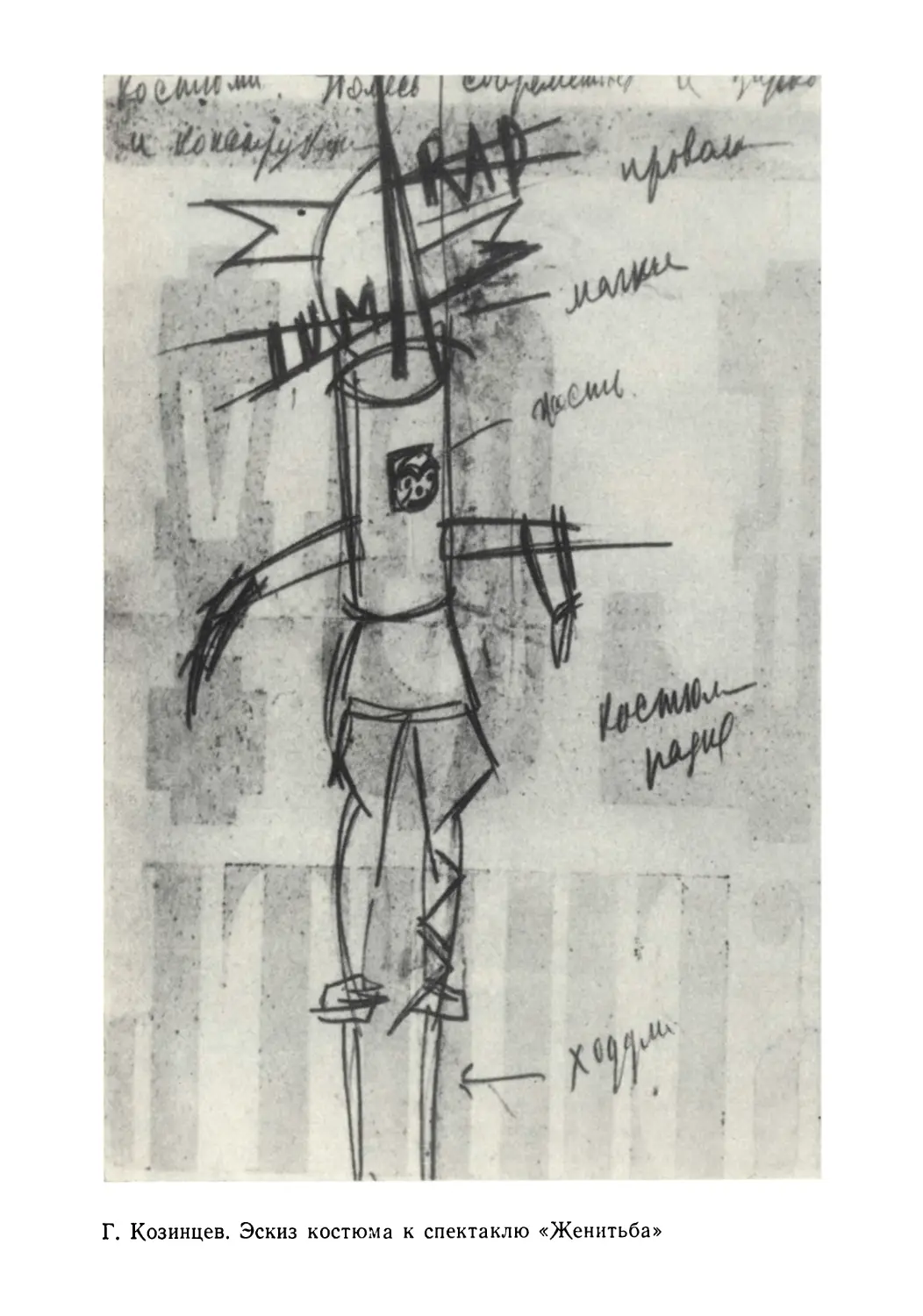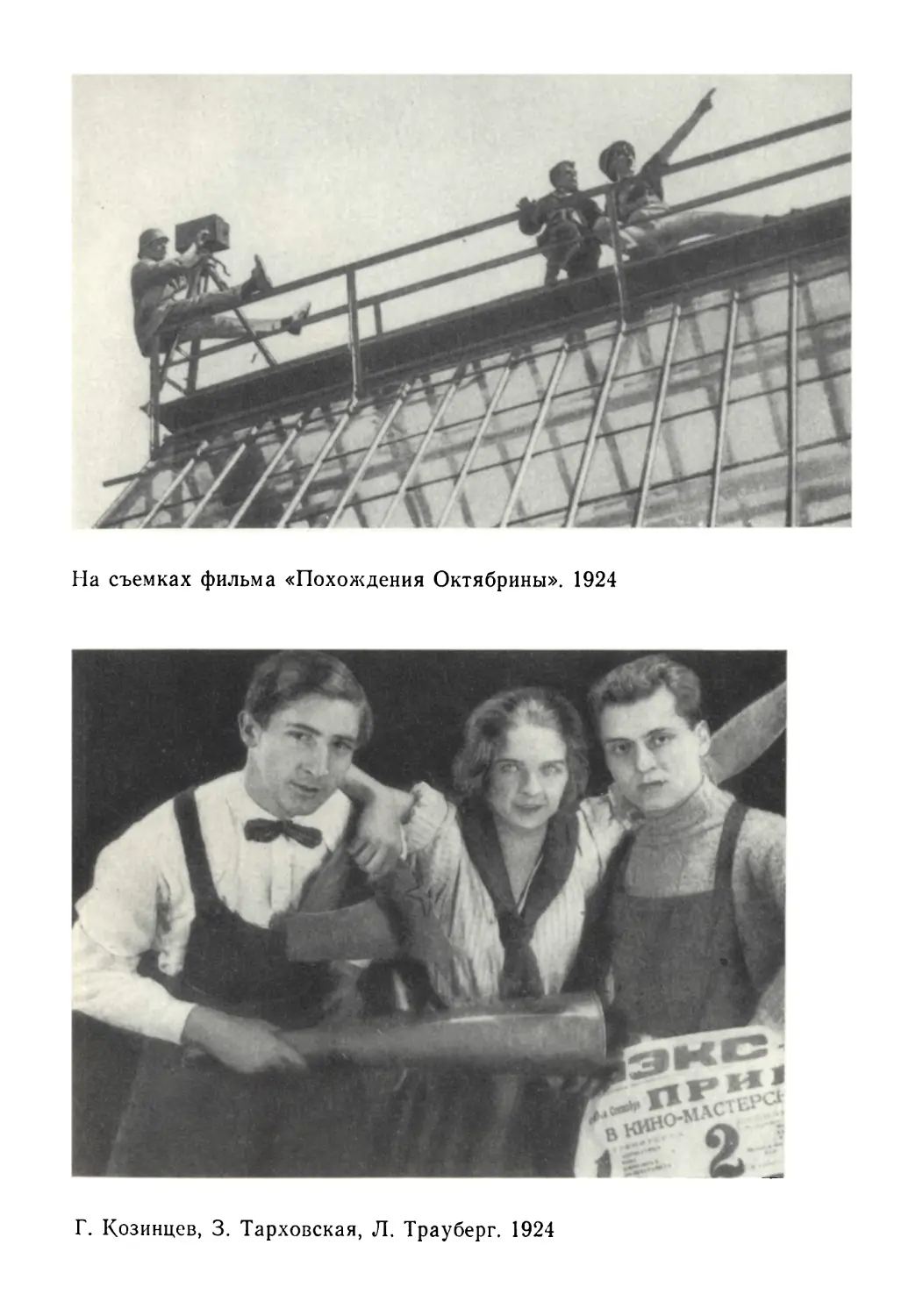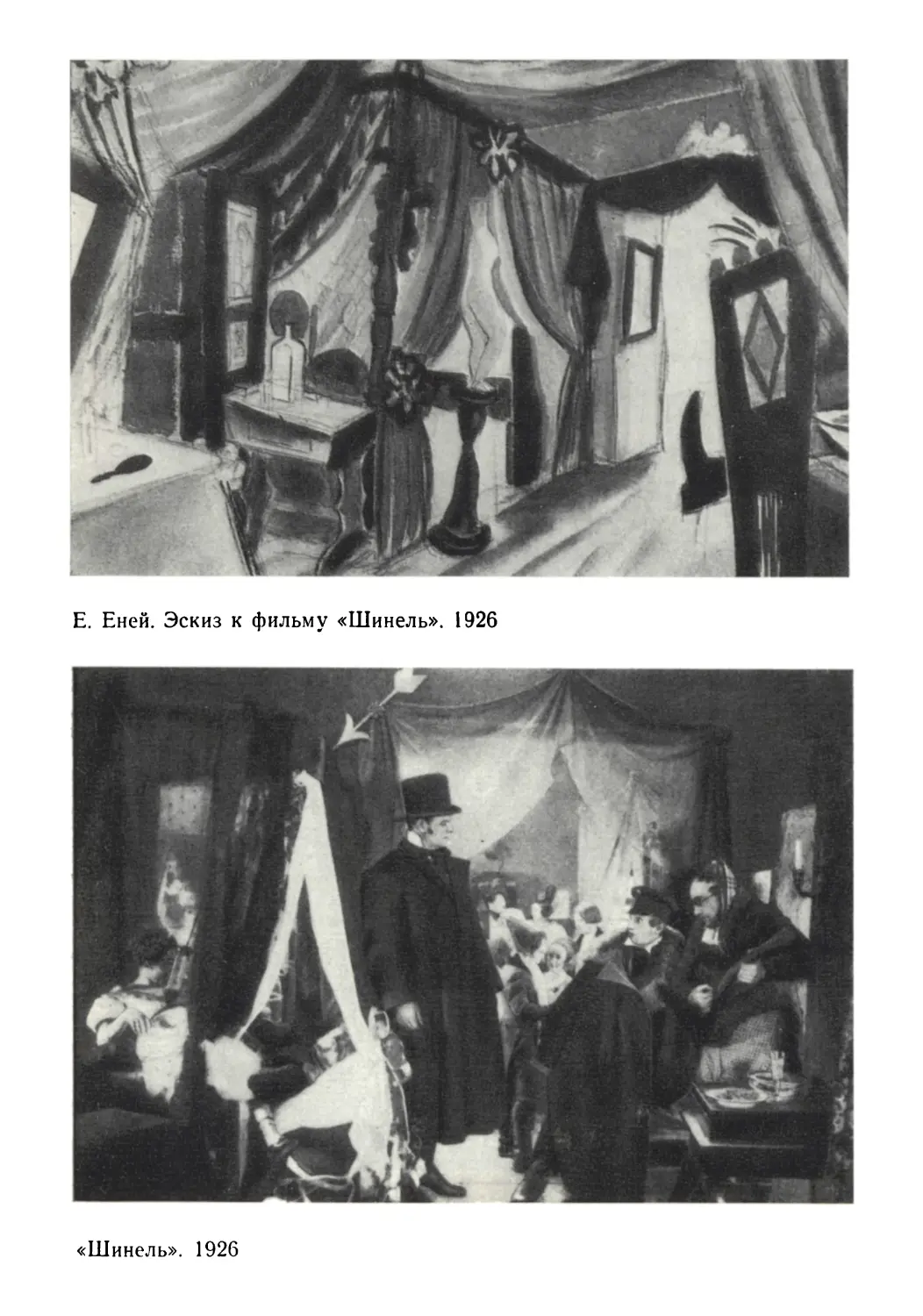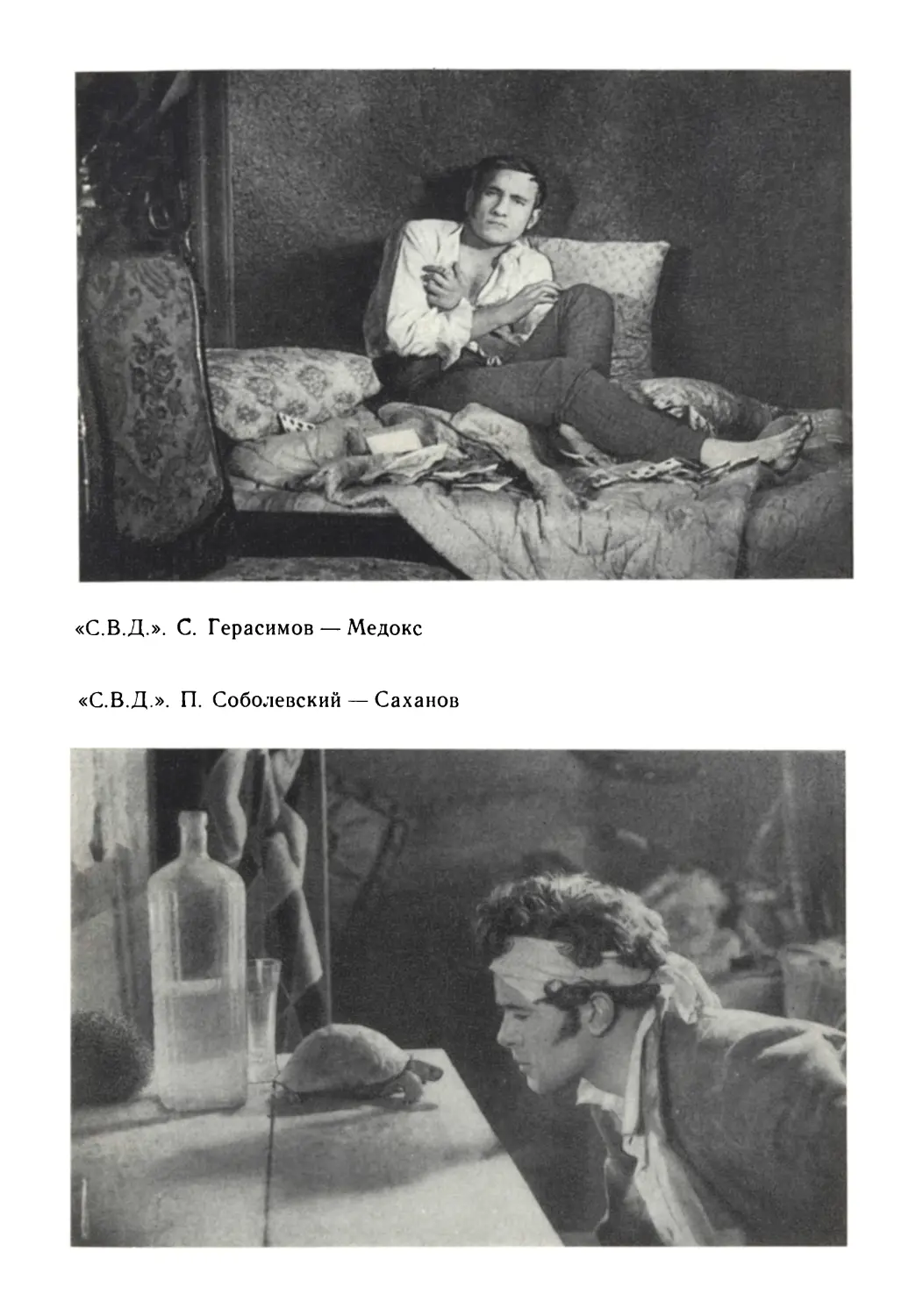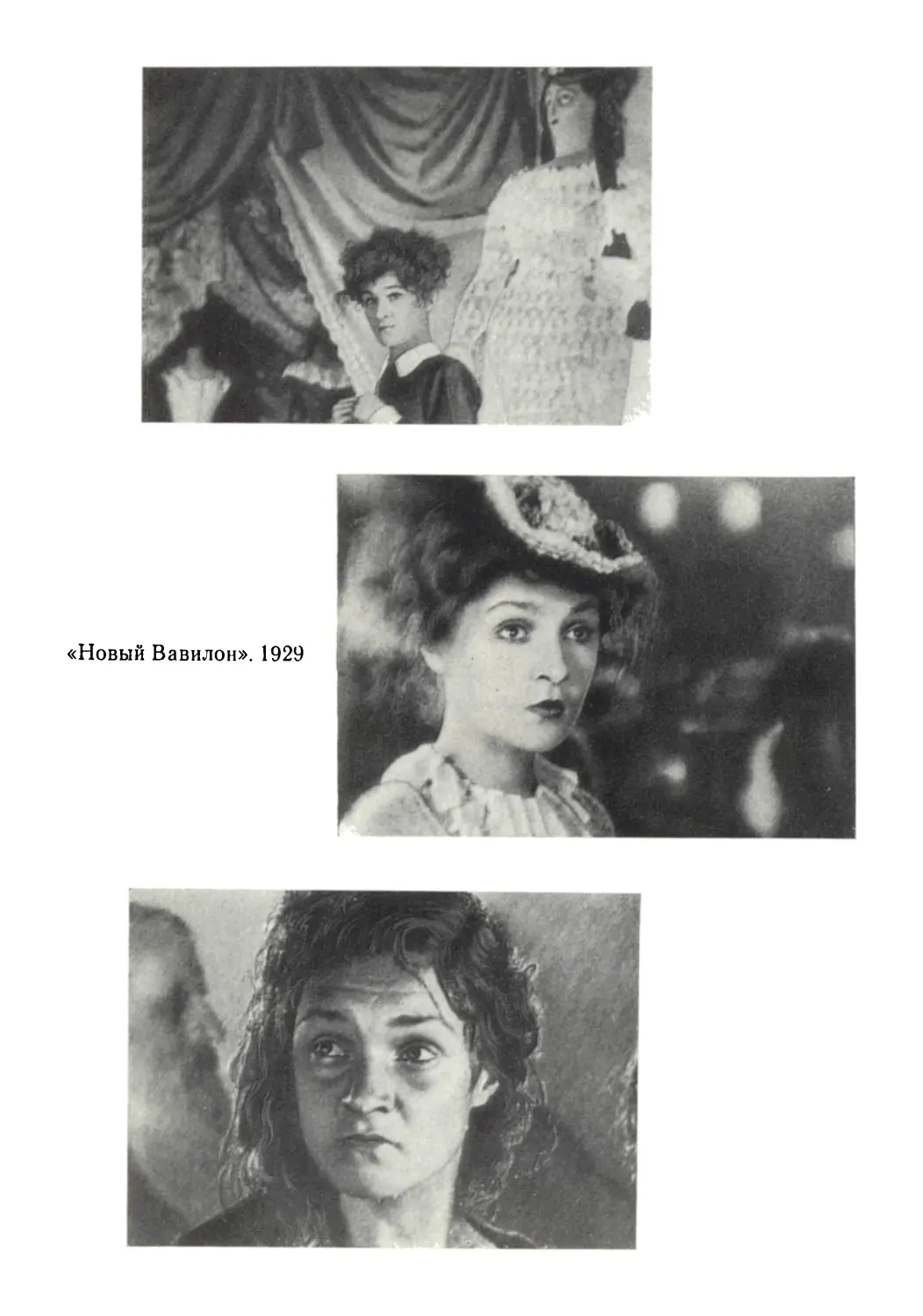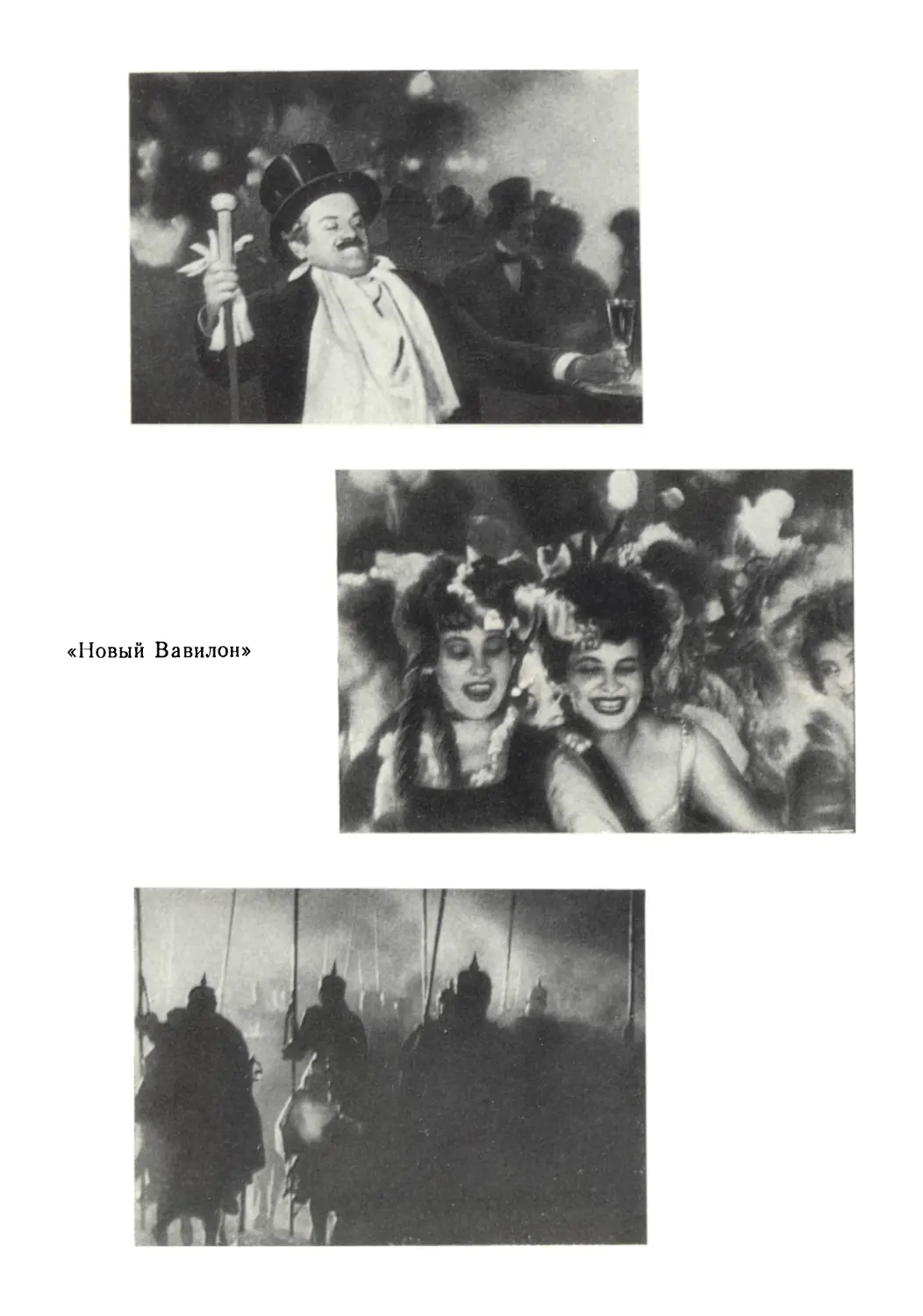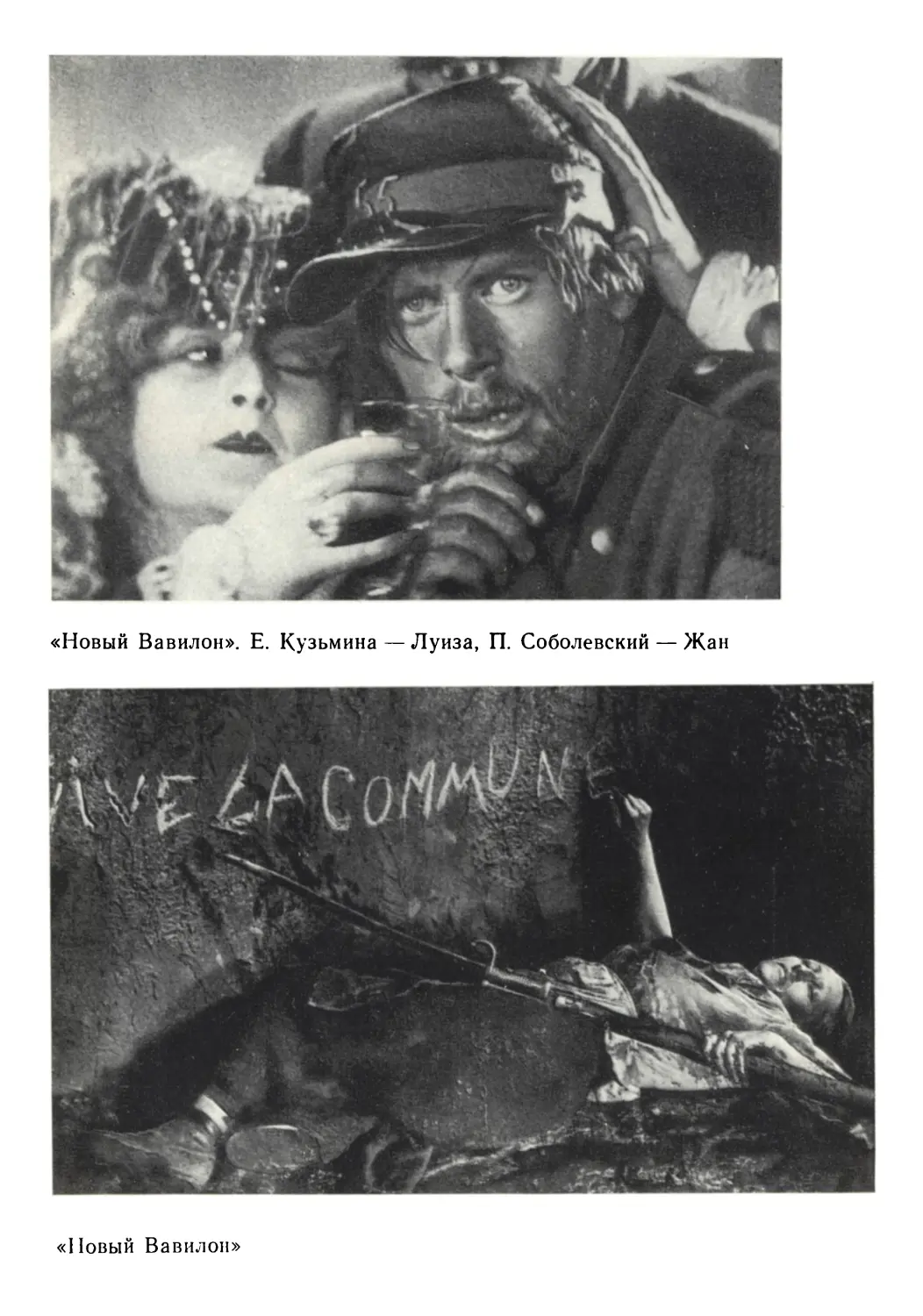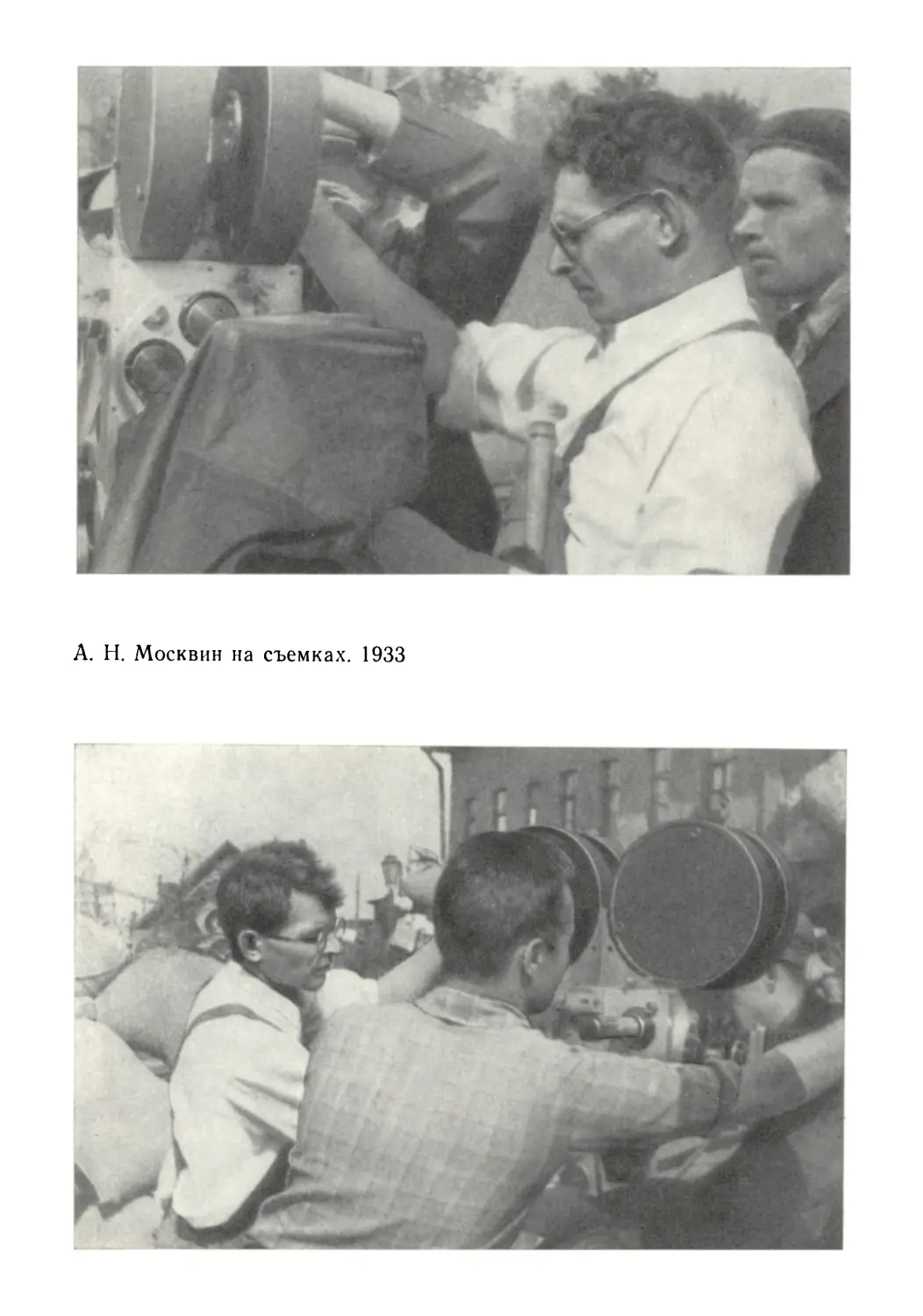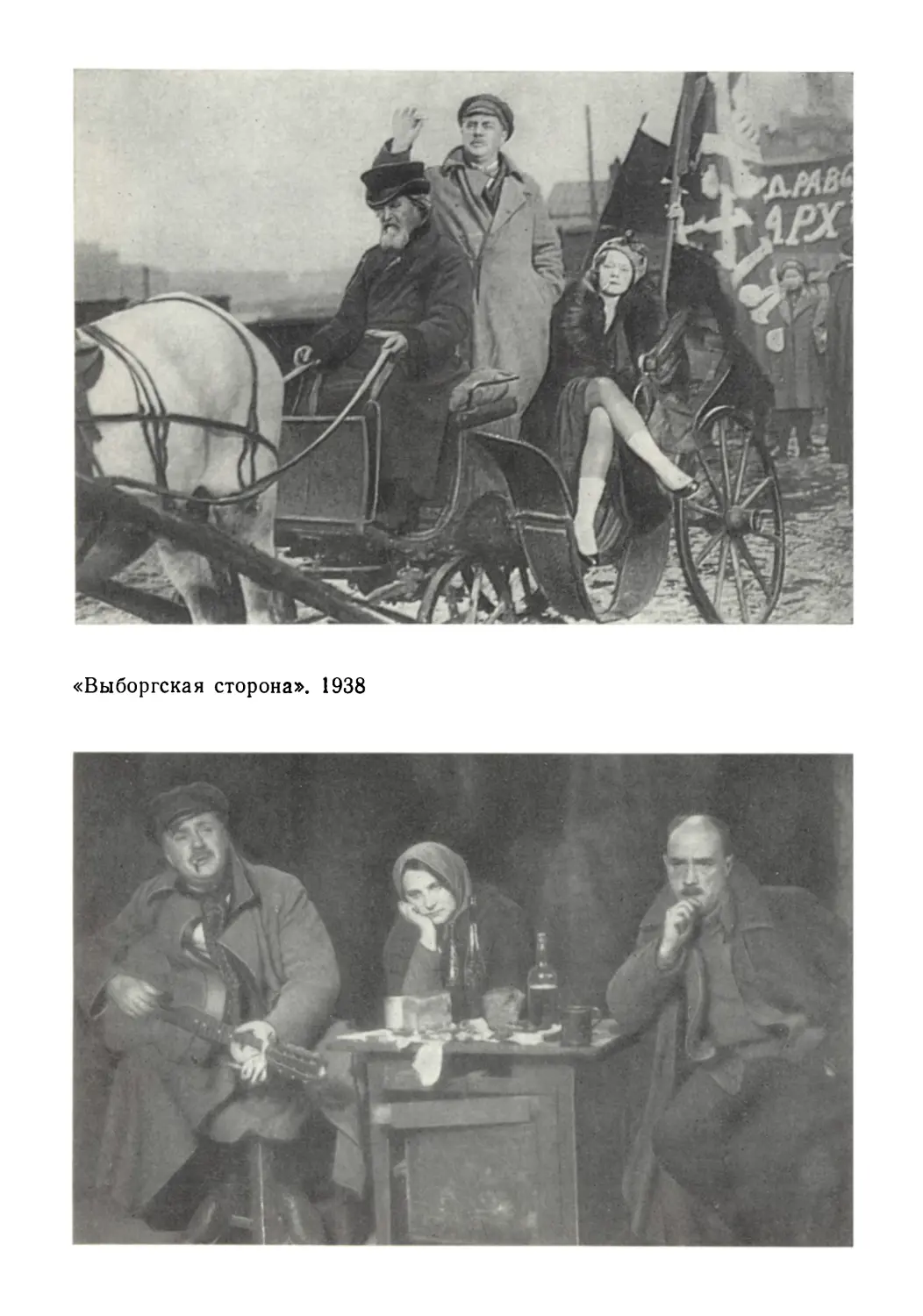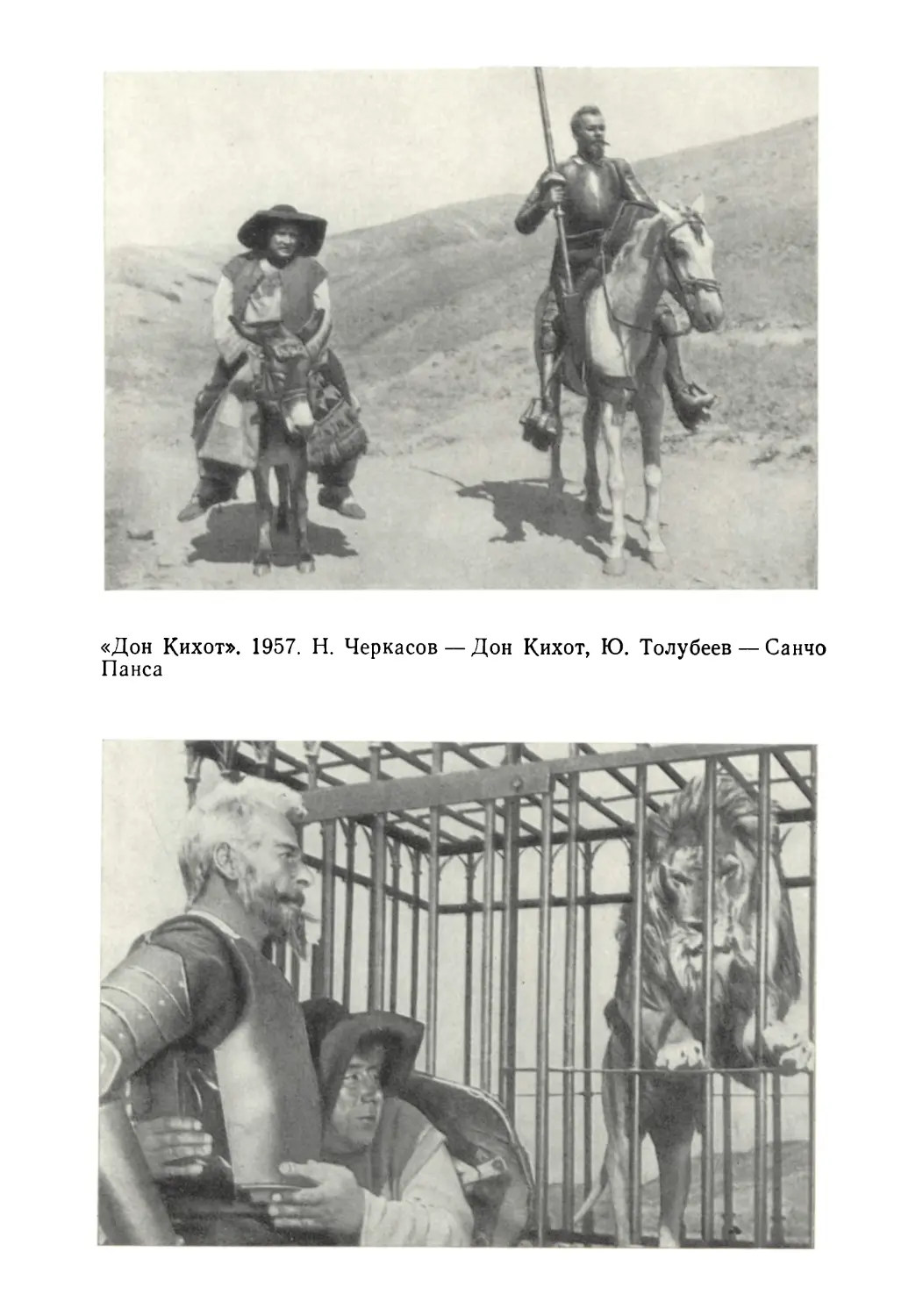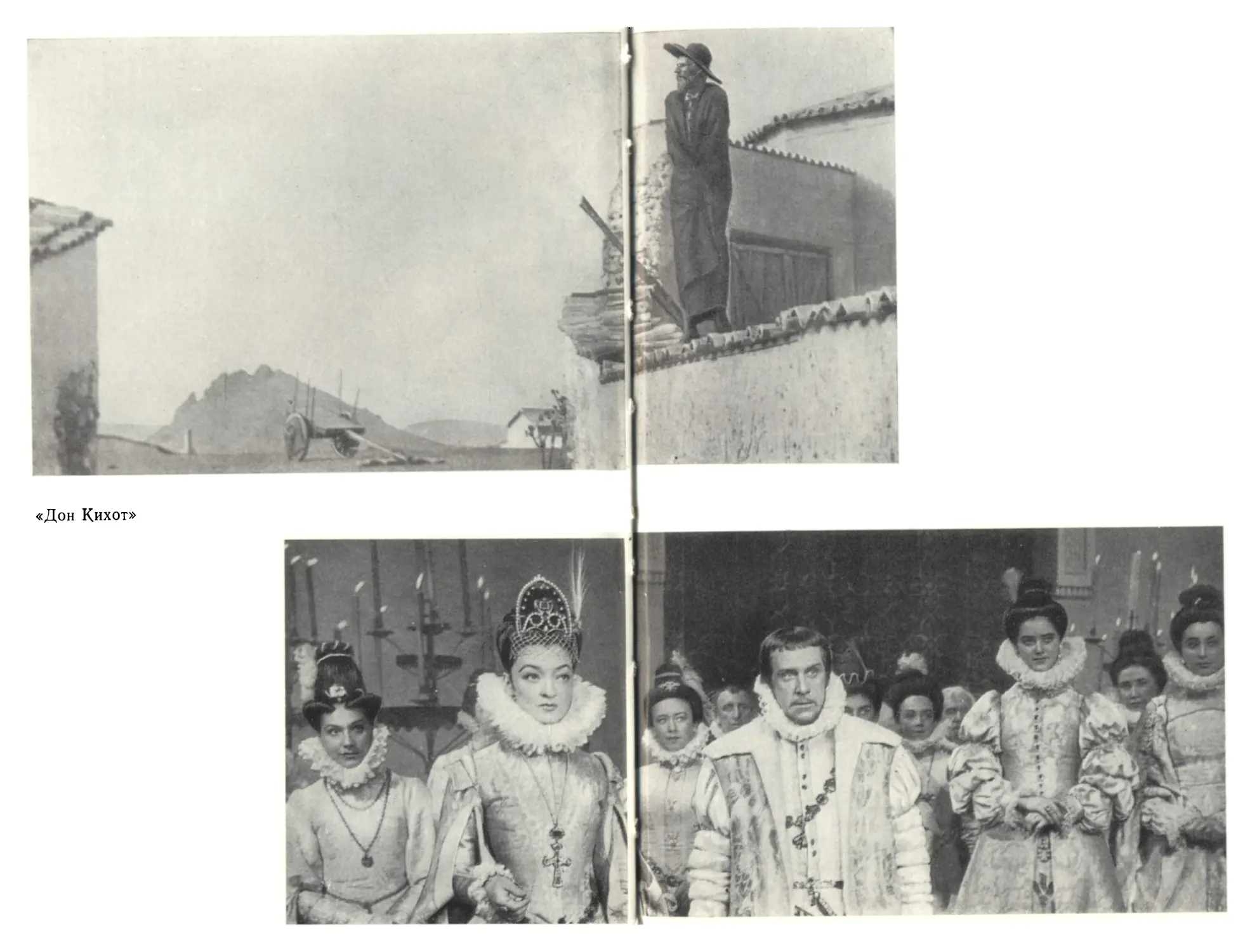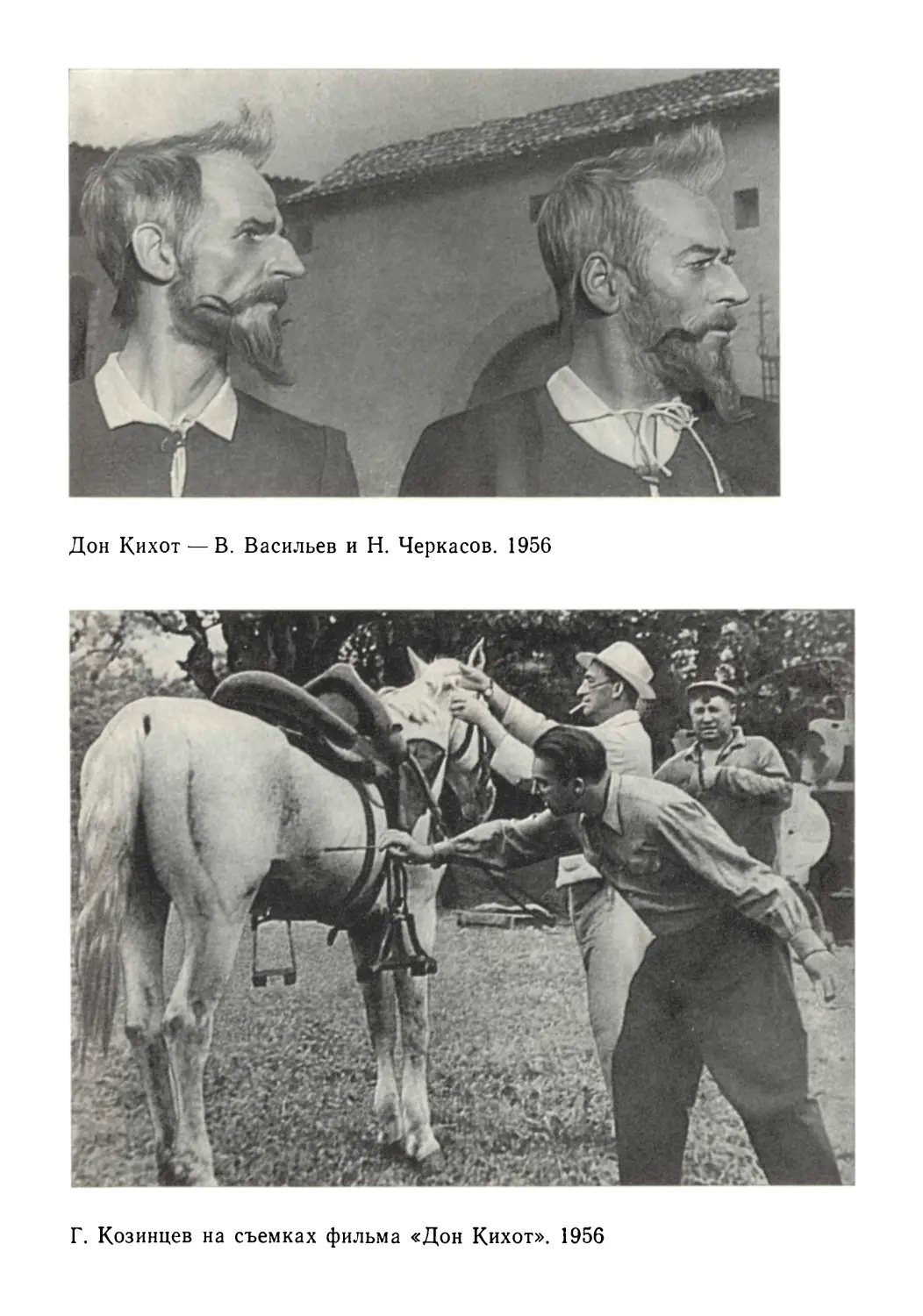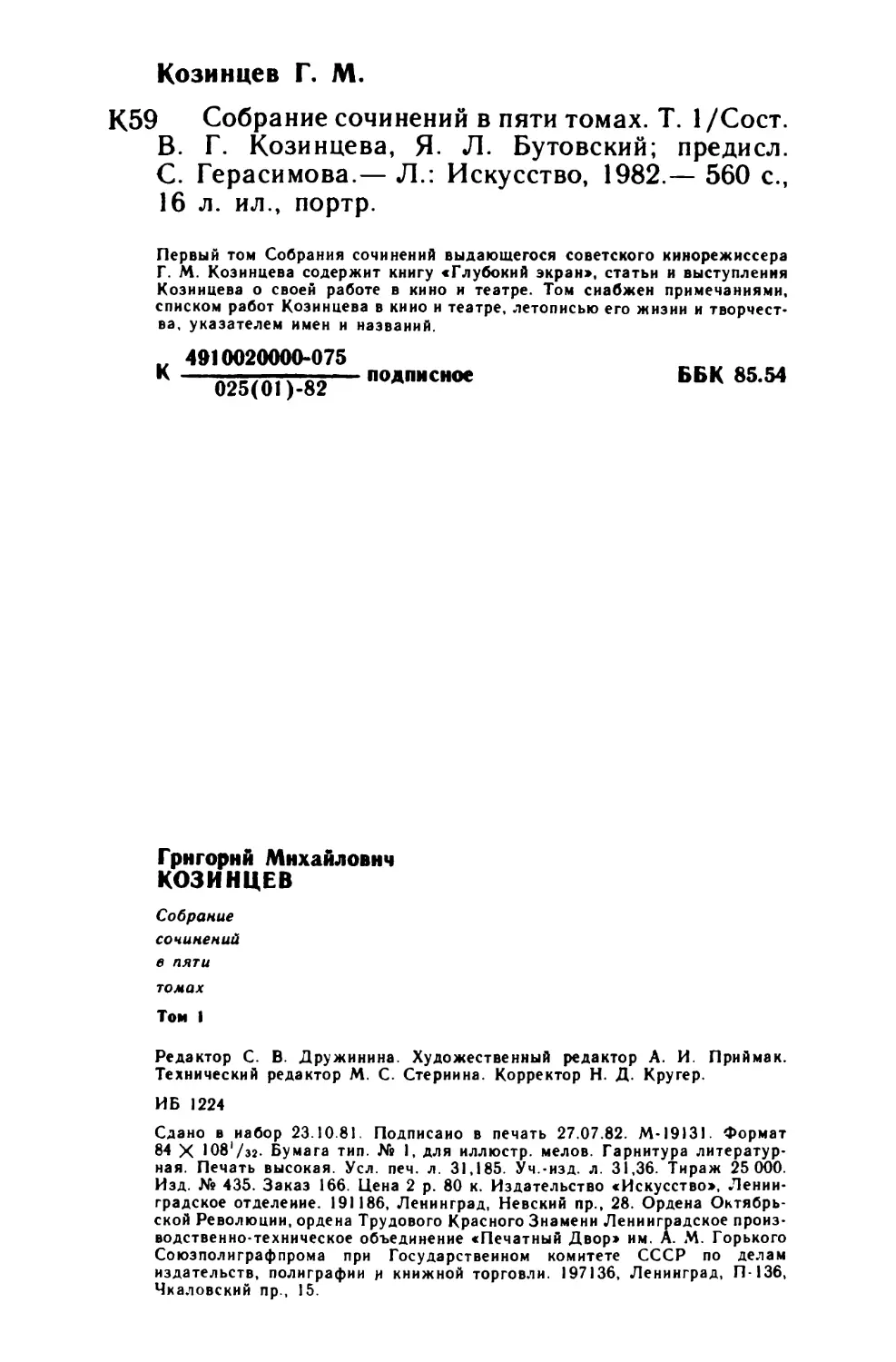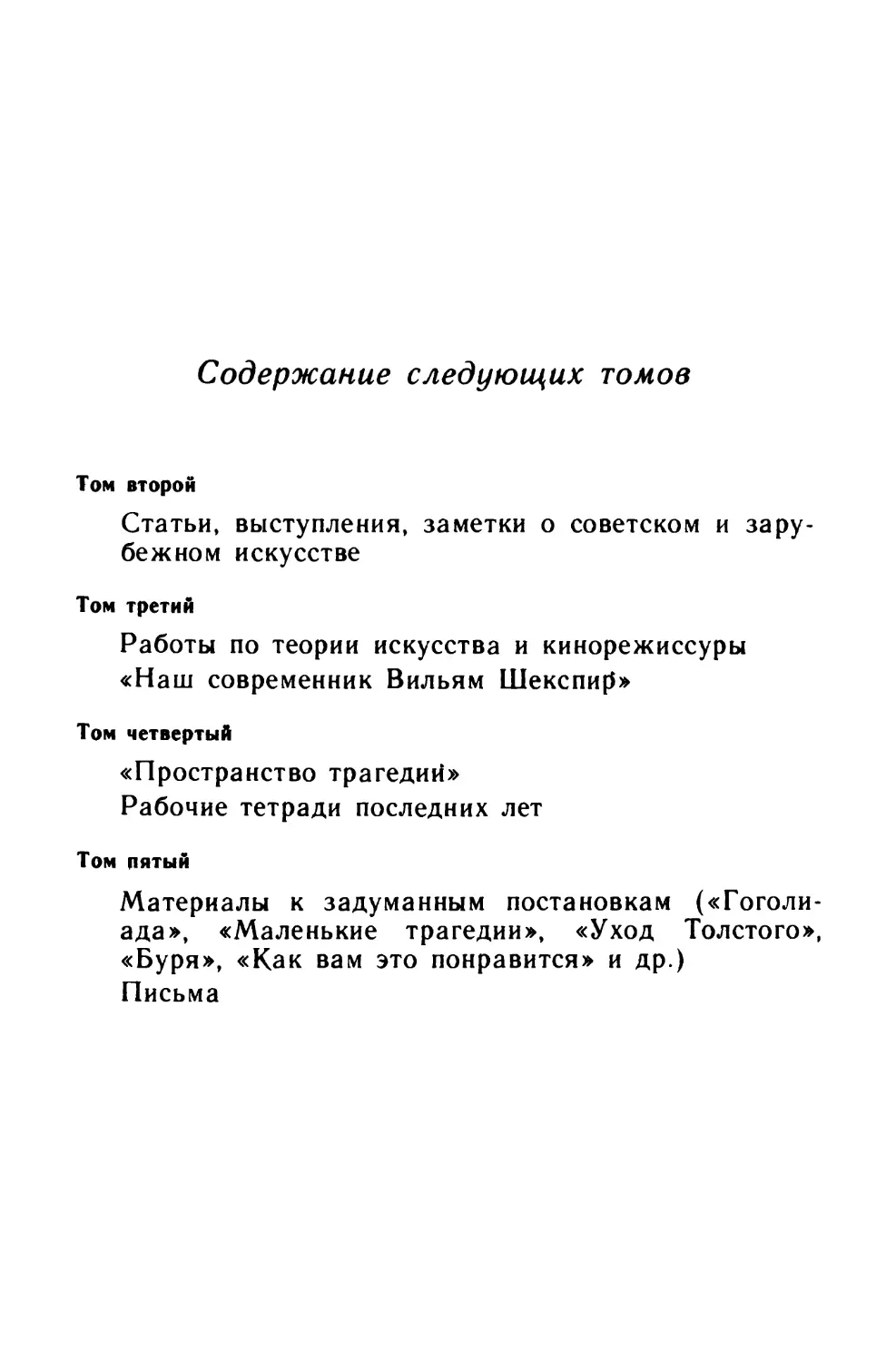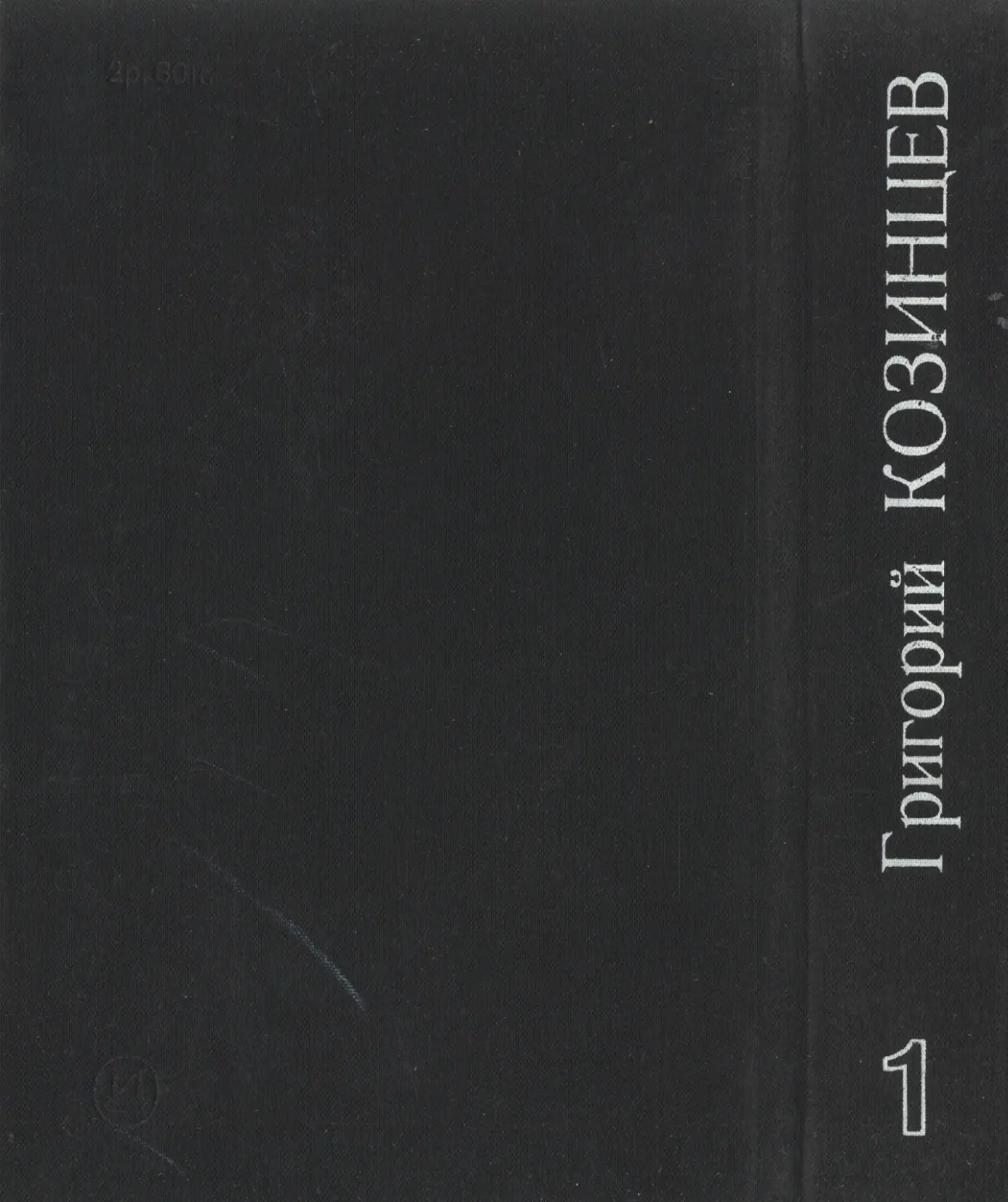Автор: Козинцев Г.
Теги: искусство искусствоведение история собрание сочинений собрание трудов
Год: 1982
Текст
Григорий
КОЗИНЦЕВ
Собрание
сочинений
в пяти
томах
(И)
\^У Ленинград
^Искусство" Ленинградское отделение
1982
Григорий
КОЗИНЦЕВ
Глубокий экран
О своей работе
в кино и театре
ί
ББК 85.54 Всесоюзный научно-исследовательский институт
К59 киноискусства Госкино СССР
Ленинградский государственный институт театра,
музыки и кинематографии
Редакционная коллегия:
С. А. Герасимов (главный редактор), В. Е.
Баскаков, Н. М. Волынкин, В. С. Дзяк, В. Г. Козинцева,
Е. Д. Сурков, И. Е. Хейфиц, С. И. Юткевич
Составители: В. Г. Козинцева, Я. Л. Бутовский
Художник Б. А. Денисовский
4910020000-075
© «Искусство», 1982 г.
Сергей Герасимов
О Григории Козинцеве, моем учителе
Этим томом открывается Собрание сочинений Григория
Михайловича Козинцева, режиссера, чьи фильмы стали
достоянием советской и мировой киноклассики, человека,
прожившего в киноискусстве неповторимую, долгую и
прекрасную жизнь, отразившую в себе всю историю
советского кино — его революционную молодость и его умудренную
зрелость, его поиски положительного идеала, его
гуманистический пафос.
Для меня память о Козинцеве вдвойне дорога: он был
моим учителем, ему я обязан тем, что пришел в кино, а
позднее и в режиссуру.
Началось все в 1923 году, когда я семнадцатилетним
пареньком приехал с Урала в Ленинград, начал учиться
живописи в художественном училище, а вскоре попытал
свои силы и на актерском поприще, исполнив безмолвную
роль Бородатого мужика в обрядовом спектакле,
поставленном В. Н. Всеволодским-Гернгроссом в его
Экспериментальном театре. Я уже убедился, что, способности мои
к живописи невелики, и тем более меня влекло к совсем
иной сфере — к актерству. Тогда-то и случилось, что мой
приятель по художественному училищу предложил мне
однажды: «Хочешь, пойдем покувыркаемся?»
И мы пришли на Гагаринскую улицу, 1, на шестой этаж,
в большой зал, где десятка два молодых людей стояли друг
у друга на плечах, образуя пирамиду. Командовали ими
двое — Леонид Трауберг, которому уже исполнилось
двадцать два года — возраст, по нашему тогдашнему
разумению, весьма солидный, и Григорий Козинцев,
девятнадцатилетний молодой человек,— он стоял, зажав в зубах
спортивный свисток. По сигналу свистка пирамида
рассыпалась, после чего мы и представились руководителям
мастерской.
Мастерская, именовавшая себя ФЭКС — Фабрика
эксцентрического актера, уже выпустила свой программный
манифест — «Эксцентризм», торжественно призывая к
ниспровержению академического искусства и всевозможной
классики и выдвигая на ее место «искусство без большой
4 Сергей Герасимов. О Григории Козинцеве, моем, учителе
буквы, пьедестала и фигового листка... искусство
гиперболически грубое, ошарашивающее, бьющее по нервам,
откровенно утилитарное...»
В соответствии с этой программой фэксовцы (к
которым с того дня присоединился и я) занимались на уроках
актерского мастерства акробатикой и боксом,
непочтительно перекраивали в своих постановках классические пьесы
и главным своим лозунгом почитали слова Марка Твена:
«Лучше быть молодым щенком, чем старой райской
птицей».
Мое участие в работе мастерской и началось с
сочинения модернизированной версии постановки «Гамлета», где
отец принца погибал не от старомодного яда, а от тока
высокого напряжения, подведенного к телефонной трубке.
О ФЭКСе написано много: его обвиняли в формализме,
в подражании западным образцам, в заимствовании
низкопробных приемов бульварного балагана. При всех этих
упреках, однако, оставляли без внимания главное
существо ФЭКСа.
Я вспоминаю высказанную однажды Козинцевым
мысль о том, что своей приверженностью прозе,
психологизму, реалистическому исследованию характера он
обязан именно тому, что начинал с эксцентриады. Он сказал,
что, начав с опрокидывания, потом легко мог поставить все
на свои места, без этого ему пришлось бы долго путаться.
И по моему внутреннему ощущению это совершеннейшая
правда. Я сам, работая со своими учениками во ВГИКе,
поощряю любую эксцентриаду, условные приемы —
американской комической, русского водевиля. На своем опыте
я знаю, как много дает подобная школа,— тому, что мне
дал ФЭКС, я обязан пожизненно.
Не стоит забывать и о том, какую стремительную
эволюцию проделали Козинцев и Трауберг в фэксовский
период своего пути. Началось со скандальной постановки
«Женитьбы». Но уже в политических памфлетах
«Внешторг на Эйфелевой башне» и «Похождения Октябрины»,
полных головокружительных трюков, была попытка
направить трюки на выражение актуальных агитзадач.
Юношеские загибы и перехлесты ФЭКСа были необходимым
этапом. Отрицая рутину старого искусства, Козинцев и
Трауберг искали пути к искусству живому, актуаль-
Сергей Герасимов. О Григории Козинцеве, моем учителе 5
ному, необходимому современности. Вряд ли иначе они
смогли бы прийти к своему «Максиму».
Перелом в работе фэксов наступил очень скоро. Он был
крутым и, казалось бы, неожиданным.. Возможно, тут
сыграло роль и общение с Ю. Тыняновым, Б. Эйхенбаумом,
В. Шкловским. Они в то время были уже глубокими,
мыслящими писателями, теоретиками и не могли не видеть всей
незрелости опытов фэксов. Но им был понятен и
симпатичен молодой протест против мертвечины в искусстве. Они
сумели разглядеть в этой команде жизнеспособное начало
и помочь формированию нового ФЭКСа — ФЭКСа,
который уже был способен на такие серьезные акции, как
постановка «Чертова колеса». В работе над этой картиной
принимал участие Адриан Пиотровский, который тоже в то
время переживал процесс перестройки, переходя от
масштабных постановок на городских площадях к ТРАМу
(Театру рабочей молодежи) и современному искусству
кинематографа.
Перелом в нашей фэксовской жизни мы особо ощутили
тогда, когда Козинцев и Трауберг вернулись из Москвы
после просмотра «Стачки» Эйзенштейна. «Все, что мы
делали прежде,— сказал Козинцев,— это в общем-то
пустяки. С этим надо кончать». Он рассказывал нам про
«Стачку», очень взволнованный, возбужденный. Работу
Эйзенштейна он воспринял как необычайно важную для
рождающегося советского кино, для всех нас, и мы могли
потом не раз убедиться, как серьезно повлияла эта картина
на дальнейший путь Козинцева. После «Стачки» стало
очевидно, что кинематограф обрел уже иные масштабы,
требует иного уровня мышления.
«Чертово колесо», «Шинель», «С.В.Д», «Новый
Вавилон» — каждая из этих картин была вехой в
формировании, взрослении фэксовской мастерской, поднявшейся в
итоге до ленты о Парижской коммуне — об историческом
этапе мирового революционного движения. Поэтическая
сила «Нового Вавилона» сохранилась до наших дней.
Огромный успех фильма, повторно выпущенного на экраны
Франции к столетию Парижской коммуны,—
прекрасное тому доказательство. А от «Нового Вавилона» уже
был прямой путь к трилогии о парне с Нарвской
заставы.
6 Сергей Герасимов. О Григории Козинцеве, моем учителе
Во всем, что создано Козинцевым,— и в его фэксовских
работах, и в фильмах «Дон Кихот», «Гамлет», «Король
Лир», и в его книгах — «Наш современник Вильям
Шекспир», «Глубокий экран», «Пространство трагедии» —
ощущается цельность его человеческого характера,
глубина личности. Евгений Евгеньевич Еней, замечательный
художник, постоянно работавший с Козинцевым на всех
его картинах начиная с фэксовских времен, не раз говорил
мне, что Козинцев — самая удивительная фигура из тех,
с какими его сталкивала судьба. Уже в
четырнадцатилетнем возрасте он проявил себя как художник, как
режиссер, поставив на площади «Царя Максимилиана».
Это пламя любви к искусству не угасало в нем до конца
дней.
Козинцев был необычайно образован, при всем том что
систематическое его образование оборвалось где-то на
пятом классе гимназии. Его страсть к книге, знание
литературы, поэзии, живописи, театра — весь этот
расширяющийся круг интересов и пристрастий сделал его
художником, широчайше эрудированным во всех сферах искусства
и жизни. Дело, однако, не в образованности и эрудиции
самих по себе. Он был человеком не только умнейшим, но
и необычайно чутким душевно, человеком с большим
сердцем. Человеческая отзывчивость соединялась в нем с
глубиной отклика на все волнующие проблемы времени. Это
его удивительное качество все отчетливее обнаруживалось
с возрастом, с течением лет. От запальчивых программ
фэксовского детства он уверенно шел в своем творчестве
к подлинно народному искусству, необходимому
миллионам. На рубеже звукового кинематографа он пришел
к мысли о необходимости создать картину, посвященную
истории нашей революции.
Как и его соавтор по многолетней работе Леонид
Трауберг, Козинцев был художником, живущим судьбами
своего времени, он не мог не тянуться к выражению на
экране самых крупных явлений века, Октябрьской
революции, положившей начало новой эпохе. Они вместе создали
на экране образ коммуниста, ставший для миллионов
зрителей близким другом. В Максиме Козинцев и Трауберг
выразили суть эпохи, перспективу ее движения к
будущему.
Сергей Герасимов. О Григории Козинцеве, моем учителе 7
Не случайно и обращение Козинцева и Трауберга
к великой исторической фигуре Маркса, и хотя сценарий,
написанный ими, так и остался непоставленным, сама эта
работа была необычайно важной для них.
Козинцев никогда не искал легких путей в искусстве. Он
стремился говорить о жизни во всех ее сложностях и
противоречиях, не боялся вступать в спор с отжившими
канонами, не боялся критически пересматривать и созданное им
самим. Но в главном он всегда был верен себе, не
поступался своими принципами на крутых и острых рубежах
жизни, не изменял своим представлениям о человеческих
ценностях на протяжении всей жизни — в мнениях,
поступках, в отношениях к людям. И это его качество не
могли не ценить все, кто был с ним близко знаком.
Стремление своим искусством быть нужным людям
побуждало Козинцева обращаться ко многим актуальным
темам. «Чертово колесо», «Братишка», «Одна»,
незавершенный фильм о строителях Магнитки по сценарию
Погодина, «Простые люди» — все эти работы говорили о
современности, о сегодняшнем дне страны. Но то же стремление
руководило им, когда он обращался к далекому
прошлому — ставил «Дон Кихота», «Гамлета», «Короля Лира».
Постановки «Гамлета» Козинцев добивался долгие
годы — добивался упорно и целеустремленно,
убежденный, что Шекспир сегодня окажется как нельзя более
современным. Ему приходилось преодолевать инерцию
косности. Раздавались голоса, что не дело-де советскому
художнику прятаться под крылышко шекспировских
сюжетов в наше историческое время. Мы, коллеги Козинцева
и его друзья, всячески поддерживали Козинцева в его
стремлениях, помогали в спорах, которые решали судьбу
постановки. Современность произведения не определяется
сегодняшним антуражем и костюмами, декорациями
заводских цехов. Сколько уже было таких по внешности
современных, а по существу лишенных чувства времени
картин. Художник должен говорить о том, что его волнует,
что близко ему, выбирать тот материал, в котором он видит
возможность выразить мысли, нужные сегодня его
современникам.
«Гамлет» для Козинцева был именно таким
произведением. Он открыл в нем нестареющий, актуальный смысл.
8 Сергей Герасимов. О Григории Козинцеве, моем учителе
Он рассказал о судьбе датского принца, о его мыслях
и чувствах, его борьбе за попранную человечность так, что
эта очень давняя история открылась нам как сегодняшняя,
касающаяся каждого из нас, нужная нам в решении наших
сегодняшних проблем, осознании того, что происходит
в мире. И его «Гамлет» собрал за год сорок миллионов
зрителей, не говоря уже о миллионах зрителей за рубежом,
посмотревших эту картину.
В своих взаимоотношениях со зрителем Козинцев был
честен и требователен. Он считал, что искусство должно
помогать обществу умнеть, что не дело художника
приспосабливать свои произведения к наиболее отсталой,
пассивной части аудитории.
Ставя «Гамлета», Козинцев мог бы сделать акцент на
истории преступления. Он и сам в начале работы с
иронической серьезностью доказывал мне, что только таким
путем можно сделать Шекспира интересным сегодняшнему
зрителю. Но когда фильм был готов, в нем не оказалось
ничего похожего на криминальный роман. Это было
постижение шекспировских мыслей о мире, о борьбе добра и зла,
о трагизме этого столкновения, о неизбежности победы
доброго начала. Таково было свойство мышления
Козинцева — он никогда не довольствовался верхним слоем
сюжета, но вскрывал потаенные, глубинные пласты, открывал
в них общечеловеческий, всегда современный смысл.
Уже после смерти художника, когда в печати стали
появляться подготовленные его женой, Валентиной
Георгиевной Козинцевой, публикации записей из его рабочих
тетрадей, в полной мере открылось, сколь огромный,
неутомимый труд стоял за каждой строкой любого из его
замыслов. Современная история и политика, философия,
литература, наследие писателей-классиков, научное знание
о мире, последние достижения человеческого разума во
всех областях — все это, переплетенное в душе режиссера,
давало новую жизнь хрестоматийно знакомым строкам
классических произведений, проявляло их по-иному,
открывало в них неожиданные, всегда остро созвучные
современности стороны. Козинцев не любил слова
«экранизация». Он не экранизировал, не иллюстрировал
движущимися картинками великие литературные произведения, он
продолжал их жизнь в нашем духовном мире, заставляя
Сергей Герасимов. О Григории Козинцеве, моем учителе 9
ощутить сопричастность нашего сегодняшнего дня, наших
проблем историческому опыту, накопленному
человечеством, всему наследию мировой культуры.
Я в своей жизни видел изрядно различных театральных
«Лиров». И очень часто это были назидательные притчи
о гордом короле, отвергшем преданную любовь младшей
дочери и доверившемся льстивым словам дочерей старших.
Но Козинцев пошел много дальше: он сделал фильм о
совести человеческой, о правде, которая сильнее лжи, о
чести, которая не желает мириться с бесчестием, о любви
и верности — тех человеческих ценностях, которые
остаются неизменными даже в самых сокрушительных
испытаниях, какие только могут выпасть человеку. Никогда еще
трагедия о короле Лире не была столь народной по своему
духу, столь историчной — нее описании какого-то
конкретного периода, но в постижении исторических законов,
движущих человеческим обществом.
Не случайно поставленные Козинцевым фильмы по
Шекспиру и Сервантесу получили столь высокую оценку во
всем мире. Испанцы называют его «Дон Кихота» самой
испанской из всех многочисленных киноверсий этого
романа. Для англичан Козинцев был одним из самых
авторитетных шекспироведов, они поражаются той глубине и
верности оригиналу, которыми отмечены его «Гамлет» и
«Король Лир». Мне довелось недавно быть в Англии. Как
много прекрасных слов я слышал там о Козинцеве! Как
влюбленно о нем там говорят, как ценят его шекспировские
работы/
Козинцев был не только ярким и неповторимым
художником, но и умным, тонким ценителем чужих работ.
Причем в оценках его никогда не было групповой
ограниченности, предвзятости, он никогда не судил фильмы
других по мерке своих собственных работ. Он прекрасно
понимал, что если другой художник видит мир иначе,
пытается рассказывать о нем с экрана по-другому, то это
вовсе не значит, что его фильм лучше или хуже — он
просто иной, он требует оценки по своим собственным, изнутри
присущим ему законам. И это было свойственно Козинцеву
еще со времени его кинематографической молодости. Я
помню, с каким восторгом он говорил нам, фэксовцам,
о «Красных дьяволятах» И. Перестиани. «Посмотрите эту
10 Сергей Герасимов. О Григории Козинцеве, моем учителе
картину,— повторял Козинцев.— Какой это
кинематограф! Это совсем не то, что мы с вами делаем, но у этого
фильма есть чему поучиться. Надо заинтересованно
присматриваться ко всему новому, интересному, что
происходит в мире». Козинцев часто повторял нам: «Искусство
шире всевозможных концепций, которые мы можем
придумать по тому или иному поводу. Бойтесь ограниченности!»
И в своих многочисленных статьях и рецензиях в
печати, в выступлениях на художественных советах, на
кинематографических пленумах он всегда поддерживал все
молодое и талантливое, что было в нашем кинематографе.
Андрей Тарковский, Глеб Панфилов, Илья Авербах,
Алексей Герман, Савва Кулиш — этим и многим другим
молодым режиссерам Козинцев помогал советом и делом,
помогал поверить в правильность выбранного ими пути,
обрести себя как художника.
Говоря о многообразии художнической и человеческой
индивидуальности Козинцева, нельзя не сказать о нем
и как о педагоге. Он начал преподавать с самых юных лет.
Уже в семнадцать он был учителем в ФЭКСе. Позднее,
в годы войны, он начал преподавать во ВГИКеине ленился
трястись на поездах β Москву и обратно, чтобы вести
занятия со своими студентами; каждый его приезд становился
для них праздником.
Педагогику Козинцев понимал очень своеобразно. Он
не терпел заученных лекций по заранее расписанной
программе. Он не предлагал ученикам некую сумму полезных
сведений. Он вел со студентами диалог, вовлекал их в спор
и в этом споре формировал собственную мысль,
собственную концепцию. Он не увлекался монологами, которые
в конце концов выливаются в риторику. Он находил те
жгучие темы и вопросы, которые вызывали взволнованный
разговор, и в этом разговоре открывались новые,
неожиданные повороты темы. Мне думается, это и есть самый
верный путь в педагогике. Во всяком случае, я всегда
старался учиться этому у Козинцева и тем же путем идти
в своей педагогической деятельности. Кстати, педагогом
я тоже стал благодаря Козинцеву: в начале 30-х годов,
начиная работу над новой большой картиной, он передал
мне свою мастерскую в Институте сценических искусств,
где я был его ассистентом.
Сергей Герасимов. О Григории Козинцеве, моем учителе 11
Козинцев полемизировал не только со своими
учениками или со своими оппонентами. Он постоянно
полемизировал с самим собой. Он не довольствовался найденным, он
опровергал то, что совсем недавно ему самому казалось
бесспорным, шел вглубь, докапывался до сути. Эта
полемика с самим собой формировала его фильмы, новые
замыслы. Ход мысли идет у него от первоначального
наброска связей, образующих костяк сюжета,— эти связи
прорастают, укрупняются, постоянно движутся к
объединяющей, генеральной цели. За каждым кадром его
фильмов, за каждой строкой книг стоит огромный, неустанный
труд, напряжение авторской мысли.
Он был человеком бесконечно упорным в своем труде.
Более упрямого по отношению к самому себе человека я не
встречал в жизни. Он истребил в себе самую возможность
лени. Каждый свой день и час он отдавал труду, он сам
чертил линию своей судьбы, подтверждая всем сделанным
им в искусстве, что талант — это труд, и страстно
добивался всех поставленных перед собой целей.
При всем том Козинцев никогда не был пуристом, не
принимал позы святоши. Он был ироничен и самоироничен.
От него никогда нельзя было услышать постного слова. Он
был остер на язык, шутки рождались у него легко и
непринужденно, он умел как-то очень по-особому, по-козинцев-
ски смеяться. Не любил зубоскальства, ехидства,
амикошонства. В отношениях был корректен и точен, с
друзьями — по-человечески щедр. Мы всегда ждали встреч
с ним как большого события — он неизменно привозил
с собой ворох новых мыслей, проблем, вопросов, которые
требовали обсуждения, спора, работы ума и сердца.
Творчество Козинцева, его фильмы, книги, статьи,
казалось бы, хорошо известны всем. И все же мы постоянно
узнаем о нем новое, открываем для себя новые глубины его
художнического мира. Теперь появились публикации его
неосуществленных замыслов — «Бури», «Гоголиады»,
«Пира во время чумы», «Ухода Толстого». Публикуются
выдержки из его рабочих тетрадей, обнажающие ход
мысли художника в работе над картинами, раскрывающие
его человеческий мир.
В это собрание сочинений входят и многие ранее
неизвестные, не боюсь сказать, уникальные материалы,
12 Сергей Герасимов. О Григории Козинцеве, моем учителе
сохранившиеся в архиве режиссера, позволяющие
по-новому увидеть, казалось бы, уже достаточно изученные этапы
его пути и периоды работы и деятельности, ранее
остававшиеся в тени. Собранные вместе, книги, статьи,
сценарии и сценарные замыслы Козинцева, его речи и
выступления, его черновые записи, письма (при том, что, к
сожалению, много материалов не вместилось в это издание) дают
возможность объемно и полно представить себе фигуру
художника, понять все ее значение для истории советского
и мирового искусства.
Козинцев предстает на страницах этого собрания
сочинений не только как кинематографист-режиссер, но и как
писатель, литературовед, исследователь, теоретик, педагог,
мыслитель. Он предстает как гражданин своей страны, как
человек, живший всеми проблемами своего времени, одной
судьбой с народом.
У фильмов Козинцева оказалась долгая жизнь, они
и сейчас не сходят с экранов, продолжая волновать
миллионы зрителей. Я не сомневаюсь, что долгая жизнь будет
и у этого собрания сочинений. К нему будут обращаться не
только профессионалы, заинтересованные проблемами
кинематографа, но самый широкий круг читателей, для
которых наследие Козинцева — незаменимая часть
духовного опыта, накопленного нашей культурой на всем ее
пути — от начала становления, от первых экспериментов
новаторов революционного*искусства 20-х годов до зрелых
свершений, которые сегодня известны всему миру.
От составителей
Литературное наследие Григория Михайловича Козинцева
чрезвычайно обширно и разнообразно по своему характеру. Библиография
опубликованных только на русском языке книг, статей, выступлений,
интервью насчитывает более 350 названий, общий объем которых
превышает 150 авторских листов. Но опубликованные материалы составляют
лишь небольшшую часть литературного наследия. Основная его часть —
это рукописи и подготовительные материалы теоретических,
педагогических и критических работ, находившихся в разной стадии готовности,
замыслы новых кинематографических и театральных постановок разных
лет, подготовительные материалы к новым изданиям уже вышедших книг,
каждодневные записи в рабочих тетрадях, многочисленные стенограммы
выступлений Козинцева — общественного деятеля, члена
художественных советов и педагога. Значительное место в литературном наследии
занимает и переписка Козинцева с несколькими сотнями
корреспондентов, как советских, так и зарубежных.
Пять томов Собрания сочинений Г. М. Козинцева не могут,
естественно, охватить все его литературное наследие. Стремясь как можно
более полно представить читателю многогранную деятельность
Козинцева — режиссера, писателя, публициста, теоретика и педагога,
составители включили в это издание широко известные книги «Наш современник
Вильям Шекспир», «Глубокий экран», «Пространство трагедии»,
некоторые статьи и интервью, печатавшиеся в периодических изданиях, а также
материалы, ранее не публиковавшиеся.
Для выявления неопубликованных материалов был изучен личный
архив Козинцева и обследованы государственные хранилища
(Центральный государственный архив литературы и искусства, Ленинградский
государственный архив литературы и искусства, Информационное бюро
киностудии «Ленфильм», библиотека Ленинградского Дома кино, архив
Союза работников кинематографии СССР). Работа по выявлению
материалов продолжается: они поступают из-за рубежа, ведется сбор
оригиналов или копий писем Козинцева у адресатов, вероятно, еще какие-то
материалы могут быть обнаружены в пока не обследованных фондах
архивов и в некоторых личных архивах деятелей литературы и искусства.
Наиболее полно был изучен личный архив, сохраненный семьей в том
состоянии, в котором он находился, когда жизнь Г. М. Козинцева
внезапно оборвалась. Козинцев занимался литературным трудом
практически ежедневно — дома, в экспедиции, на отдыхе, в командировках, даже
в период болезни (характерный пример — запись в рабочей тетради,
14
От составителей
заканчивающаяся пометкой «Грипп Гонконг»). Но из всего написанного
он сохранял только то, что представлялось ему необходимым для
дальнейшей работы,— все же черновики, промежуточные копии, записи,
затрагивающие проблемы, к которым он не предполагал вернуться, сразу же
уничтожались. Отбор был, пожалуй, слишком строг, и, очевидно, многое
из того, что было уничтожено, иногда даже просто из-за отсутствия места
для хранения, теперь представляло бы безусловный интерес. Тем более
важным является то, что Козинцев сам отобрал для хранения и
дальнейшей работы.
Накапливающиеся материалы Козинцев раскладывал в папки по
темам: есть папки, прямо названные по главам книги «Глубокий экран»,—
в них собирался материал ко второму изданию книги, есть папки
замыслов новых постановок и книг, папки по отдельным главам
задуманного учебника режиссуры. К этому примыкают разобранные им самим
и также разложенные по папкам сохранившиеся материалы ранних лет
(рисунки, тексты пьес, сценарии, афиши и т. п.) и материалы по
неосуществленным постановкам 20—30-х годов.
Собранное в отдельных папках часто и внутри систематизировано:
листы с записями объединены сложенным листом бумаги с надписью,
указывающей смысл их объединения, соединены скрепкой и т. п. Во
многих случаях на текстах имеется более поздняя и даже неоднократная
правка, легко различимая по цвету чернил и фломастера; это
свидетельствует о том, что почти по всем сохранившимся материалам работа
продолжалась до самых последних дней. На тех записях, которые могли
быть также использованы в другом месте, на полях делались пометки,
например, ГЭ («Глубокий экран»), Sh (Шекспир), F (Фальстаф), L
(«Король Лир»), Э (Эйзенштейн) и т. д. Такие же пометки имеются и на полях
записей в рабочих тетрадях.
Установленная Козинцевым система хранения и использования своих
литературных материалов облегчила труд составителей, которые при
распределении материала по томам в значительной мере могли
руководствоваться систематизацией автора. В то же время отбор материала
затруднялся тем, что для Козинцева было характерно постоянное
возвращение к одним и тем же проблемам, осмысление их на новом «витке
спирали» (образ, который он очень любил и часто использовал). Это
влекло за собой и обращение к одним и тем же или близким примерам
и цитатам. Тщательно анализируя тексты, составители оставляли
подобные «повторы», когда схожие примеры использовались для развития
новой мысли.
После изучения всех выявленных опубликованных и
неопубликованных текстов Козинцева было решено сгруппировать их в томах собра-
От составителей
15
ния сочинений по тематическо-хронологическому принципу. Это даст
широкому читателю возможность легче ориентироваться в публикуемых
материалах, которые распределены по томам следующим образом: первый
том — о себе и своих фильмах и спектаклях, второй том — критико-
публицистические работы, третий том — шекспироведение, режиссура,
теория искусства, четвертый том — последняя книга («Пространство
трагедии») и записи из рабочих тетрадей, пятый том — неосуществленные
замыслы последних лет и письма, представляющие историко-теорети-
ческий интерес.
Проводя весьма жесткий отбор материала для каждого тома,
связанный с ограниченным объемом издания, и желая наиболее полно
представить тему каждого тома, составители исходили из того же
принципа, по которому работал сам Козинцев и который отражен в его книгах,
«смонтированных» из разнохарактерных материалов: отдельных
законченных текстов, фрагментов рабочих тетрадей, писем, отрывков из
стенограмм и т. д.
Опубликованные тексты печатаются в собрании сочинений по
последней авторской редакции. Наиболее значительные расхождения с
ранними редакциями приводятся в примечаниях. Архивные рукописные
и машинописные материалы даются с учетом последней авторской правки.
Для облегчения восприятия текста весьма немногочисленные у Козинцева
недописанные слова и некоторые имена и названия, сокращенно
обозначенные русскими или латинскими буквами, раскрываются без
специальных ссылок. Тексты стенограмм публикуются с учетом авторской правки.
Неправленные тексты освобождены только от явных ошибок записи и
повторов речи. При отборе стенограмм для издания учитывался их
теоретический, педагогический и публицистически-критический интерес. При
этом в некоторых стенограммах опускались части, касавшиеся текущих
производственных вопросов и утратившие свою актуальность. Такие
сокращения в комментариях не оговариваются. При отсутствии авторских
названия текстов даются составителями по их содержанию и
заключаются в угловые скобки.
Исходя из желания включить в собрание сочинений как можно
больше текстов Козинцева, было решено давать в примечаниях только
основные сведения об источнике публикации, библиографические
сведения об источниках цитат и пояснения некоторых фактов и положений,
которые могут быть незнакомы современному массовому читателю. При
выверке цитат и библиографических ссылках составители и
комментаторы, как правило, предпочитали пользоваться теми изданиями, которые
находились в библиотеке Козинцева и хранят следы его работы в виде
отчеркиваний, замечаний на полях и т. п. Сведения об именах и названиях,
16
От составителей
упомянутых в текстах Козинцева, приведены в указателях, имеющихся
в каждом томе.
Первый том состоит из двух разделов. Первый раздел — книга
«Глубокий экран», второй — статьи Козинцева, его лекции, интервью
и другие материалы, касающиеся его кинематографических и
театральных работ. Некоторые тексты, связанные с самыми ранними работами
Козинцева, в соответствии с группировкой материала в его архиве будут
даны в третьем томе.
Иллюстрации к «Глубокому экрану» отобраны составителями из
числа включенных автором в первое издание и подготовленных им ко
второму изданию.
В подготовке текстов первого тома вместе с составителями
участвовал сотрудник сектора кино ЛГИТМиК Л. Б. Шварц. Летопись жизни
и творчества Г. М. Козинцева, список его постановок и указатели имен
и названий составлены сотрудником Информбюро киностудии «Лен-
фильм» Д. Г. Иванеевым. Примечания составили Я. Л. Бутовский,
М. Л. Жежеленко, В. А. Кузнецова, И. В. Сэпман.
В выявлении текстов принимали участие Л. Б. Шварц, Д. Г. Иванеев,
работники ЦГАЛИ Ю. А. Красовский и Е. Е. Гафнер, а также киноведы
проф. Л. Линхарт (ЧССР), проф. В. Евсевицкий (ПНР), Э. и Р. Рихтер
(ГДР), которым составители приносят искреннюю благодарность. За
участие в разработке плана издания и постоянные консультации в течение
всей работы над томом составители особенно благодарны И. И.
Шнейдерману. Составители крайне признательны директору ЦГАЛИ
Н. Б. Волковой за особое внимание к этому изданию.
Составители считают своим долгом отметить, что на самом первом
этапе работы над собранием сочинений в его подготовке участвовал
большой друг Г. М. Козинцева и исследователь его творчества ныне
покойный Е. С. Добин.
г
ГЛУБОКИЙ ЭКРАН
Кинематография с удивительной быстротой меняет
свои черты. Техника преобразила экран. За сравнительно
небольшой срок кино стало звуковым, цветным,
широкоэкранным, открылись панорамные кинотеатры, циркорама.
Всему этому можно только радоваться. Однако техника,
даже самая совершенная, не становится искусством. На
экране идет своеобразная борьба: техника побеждает, но
и технику побеждают. Можно сказать иначе: технику
одухотворяют, и только тогда вместо «живой фотографии»
появляется киноискусство.
Определить такое преображение непросто.
Одухотворение — очеловечивание мертвой материи. Ученые, техники,
механики трудятся, чтобы усовершенствовать пленку,
объективы, механизм съемочных камер. Результаты их труда
поддаются измерениям: приборы показывают числа —
меры технической точности.
А потом самый неточный прибор — человеческая
душа — путает цифры, перемешивает расчеты. Мертвое
оживает. Кинопленку характеризует уже не степень
светочувствительности, а сила чувства, глубина мысли.
Как уловить словами такое преображение?
Мне захотелось узнать мнение о существе
кинематографии нескольких режиссеров. Для опроса я выбрал
четверых хорошо, пожалуй, отлично знакомых мне людей. Что
же каждый из них считал основой своего искусства?
— Монтаж! — воскликнул первый.— Кто может это
оспорить? Мир, открытый остротой взгляда объектива,
разъятый на кадры и вновь созданный на монтажном
столе.
Мнение было категорическим, в тоне слышалась
агрессивность. Видимо, мой собеседник не допускал и
возможности иного ответа.
— Поэзия динамического изображения,— сказал
второй,— чувство времени, проходящее током сквозь кадры.
Глубокий экран
19
— Пожалуй, человек, открытый экраном,—
задумавшись, сказал третий.
— Сразу не ответишь,— неуверенно начал
четвертый.— Для меня теперь это способ сгустить мысли до
реальности жизни на экране. Особой реальности, где
незримое — процессы истории, духовный мир людей —
становится видимым.
— Самое трудное,— добавил он,— преодолеть
плоскость изображения, тупость фотографического
натурализма. Найти, что ли, глубину экрана.
Определения были неясными. И все же последнее из них
я выбрал для заглавия этой книги.
Первый режиссер, услышав такие слова, расхохотался
бы. Думаю, что моего последнего собеседника он обругал
бы «шаманом».
Однако сделать это было бы ему не под силу.
Все четверо были одним человеком. Автором этой
книги. Первый — когда ему, автору, исполнилось лет
двадцать, потом прибавился десяток лет — появился второй
режиссер; еще годы прошли — определился третий... и так
далее. Чем больше фильмов снималось, тем меньше было
уверенности в том, что же именно является «языком кино».
Многое было куда менее ясным, нежели в первые годы
работы.
Из желания прояснить дело образовалась книга.
А дело вовсе запутывалось. Оказалось, что Гоголь
может учить кинематографии, трилогия о парне с Нарвской
заставы побудила перечесть Сервантеса и Шекспира.
Главы писались во время иного труда — режиссерского.
Страницы рукописи переходили в наброски монтажа, догадки
проверялись в ателье, исследовательская работа над
трагедиями Шекспира предваряла спектакли и продолжалась
в съемках.
Когда первые главы «Глубокого экрана» были
напечатаны в «Новом мире», их поместили под рубрикой:
«Дневники, воспоминания». Я огорчился. Мне ведь совсем не
хотелось писать мемуары. Как же так вышло? Потом я
понял, что нельзя рассказать о работе, не сопоставив экран
с жизнью, фильмы — с судьбами людей.
На моем веку слова об искусстве удивительно быстро
утрачивали смысл. То, что мы мальчиками писали в «мани-
20
Глубокий экран
фестах» начала двадцатых годов, вскоре нам самим
показалось чепухой. Но многое из того, что взрослые люди
писали позже об этих нелепицах, выглядит теперь не
меньшей абракадаброй.
Слова менялись, труд продолжался. Были крайности
опытов, расшибание лба в тупиках, яростные споры — не
словами, а фильмами — с товарищами и с самим собой;
провалы в зрительном зале того, что представлялось
удачей; иногда иное — успех неудач.
Я был одним из тех, кто, мало что зная и ничего не умея,
пришел в разоренные оранжерей барских особняков и
фотоателье с побитыми стеклами. Здесь зарождалась наша
кинематография. Учить нас было некому. И мы сами стали
учить.
Рассказ придется начать издалека.
Первый режиссер затаив дыхание смотрит все серии
«Вампиров» и «Маски, которая смеется», хохочет до слез
на Максе Линдере. Он еще не режиссер и даже не
подозревает, что есть такая профессия. Он — школьник. Затем
в его жизнь входит спектакль в старом провинциальном
театре, плакаты, написанные на листах фанеры, агиттеп-
лушка...
Глава первая
Комиссар Театра имени Ленина
Я родился в Киеве, там же учился в гимназии. В первые
годы революции это была странная учеба. Занятия нередко
прерывались из-за артиллерийского обстрела, и когда,
нагруженный ранцем с учебниками, я шел на занятия,
неизвестно было, чья власть в городе. Немецких
оккупантов сменяли петлюровцы. На Печерске, недалеко от
гимназии, лежали во рву, странно скрючившись, трупы
расстрелянных. Учителя рассказывали о флоре и фауне Африки,
о спряжении латинских глаголов, а на окраине стреляли
пулеметы. Ночами цокали копыта проезжающих рысью
отрядов, раздавались выстрелы, и вдруг кромешную тьму
южной ночи разрывала какофония криков, ударов,
скрежета; что-то громыхало и бухало, дребезжало и завывало.
Это ломились в двери домов грабители, а охрана из
жильцов трясла железными листами, колотила в сковородки,
била в медные тазы, призывая на помощь неведомо кого.
Наступало утро. И опять — ранец за плечами — я шел
мимо разбитых стекол витрин, стен, щербатых от пуль,
мимо вооруженных людей, нелепо обряженных в синие
свитки.
Смерть гуляла по городу. О ней говорили
непочтительно: «поставили к стенке», «вывели в расход», «отправили
налево», «разменяли», «шлепнули». Вдали грохотала
артиллерия. Мальчики останавливались, прислушиваясь,
спорили о калибрах пушек. Этому научились хорошо —
различать звуки выстрелов.
По Большой Васильковской толпа вела спекулянта. Его
тащили, всего обвешанного тухлыми селедками,— он
торговал ими на рынке. Из задних рядов выбегали люди
и били торговца наотмашь по лицу. Кровь, казавшаяся мне
неестественно яркой, перепачкала лицо спекулянта,
сделала его непохожим на человеческое; кровь текла по рубахе,
по селедкам. '
22
Глубокий экран
Я дружил с мальчиком по имени Жоржик. Он часто
заходил поиграть во двор дома, где жили мои родители.
Несколько дней моего приятеля не было видно. Я
отправился к нему, чтобы узнать, куда он запропастился. Дверь
долго не отворяли. Наконец раздался кашель, шарканье
ног, лязг запоров: заросший грязной щетиной человек
смотрел на меня из-за закрытой на цепочку двери. В
старике я с трудом узнал отца товарища.
— Извините за беспокойство,— спросил я,— Жоржик
дома?
— На кладбище Жоржик,— с трудом, хриплым
голосом сказал старик,— Жоржика убили.
Дверь захлопнулась.
Кто убил? За что убили?..
Такие вопросы тогда часто оставались без ответа.
Я видел смену властей, бегство армий. На моих глазах
в город входили части Щорса и отряды Первой Конной
армии.
Был 1919 год.
На стенах домов расклеена прокламация: «Что
означает собой красная звезда».
Люди с красной звездочкой на фуражках и папахах
освободили Киев. Эти люди выгнали оккупантов и
бандитов, «Раду», «Директорию», гетмана, гайдамаков; они
прекратили погромы и самосуды, установили народную
власть. И сразу же в революционном городе расцвели все
виды творчества. Деятельные и жизнерадостные люди
ставили столы и табуретки в комнатах Всеукраинского
отдела искусств. Неисчислимые комитеты, секции и
подсекции обсуждали планы постановки всей мировой
классики, устройства массовых торжеств и украшение площадей
ко Дню Первого мая.
Открылись студии и мастерские. Учились искусству со
страстью и со страстью учили. Чему только не учили!
Читались лекции о труверах и менестрелях, об украинском
барокко и японском театре. Илья Эренбург занимался
художественным воспитанием детей; танцовщица дягилев-
ского балета Бронислава Нижинская ставила «Петрушку»
Стравинского; М. П. Алексеев (будущий академик)
составлял театральный репертуар.
Глава первая
23
Я уже учился не только в гимназии, но вечерами
посещал школу живописи. Александра Александровна Эк-
стер, много лет жившая во Франции, художник,
искушенный во всех опытах современной живописи,
занималась с группой молодежи. Программа обучения была
основана на знакомстве с Сезанном, Матиссом и Пикассо.
Перед учениками ставились натюрморты, и на холстах
появлялись то серо-зеленая геометрическая архитектура
предметов, то движение ярких декоративных плоскостей,
то рассечение форм.
В мастерской часто бывали Илья Эренбург, Осип
Мандельштам, Бенедикт Лившиц. Устраивались диспуты:
«Ахматова или Маяковский?». Все, что можно было узнать
о современном искусстве, становилось предметом
страстных споров. Заезжий московский поэт, побывав в
мастерской, сочинил про нас частушки: «У французов есть
Пикассо, а у нас пикассов масса».
Я сразу, что называется, прямо от рождения, был по
всем своим вкусам и симпатиям крайне левым в искусстве.
Несмотря на доброе ко мне отношение Александры
Александровны, ничего толкового у меня не получалось.
Кувшины и яблоки меня ничуть не интересовали; вместо
них я изображал какие-то рожи, освещенные резким
светом, фантастические пейзажи, фигуры, наряженные в
яркие платья. Экстер посмотрела на мои эскизы и подарила
мне монографию Жака Калло.
Я сочинял пародии, рисовал на всех карикатуры,
придумывал декорации к несуществующим пьесам.
Мои старшие товарищи по мастерской, уже настоящие
художники — С. Вишневецкая, И. Рабинович, А. Тышлер,
Н. Шифрин,— получили заказ на роспись агитпоезда. Они
включили меня в свою бригаду, хотя делать я еще ничего не
умел. Ко мне относились,— вероятно, вследствие моей
молодости и энтузиазма — хорошо и даже доверили мне
самостоятельно расписать отдельный вагон. Мы уехали на
другой берег Днепра, где формировался состав. Там же
я впервые попробовал поставить и сыграть какой-то агит-
скетч. Он исполнялся в теплушке с отодвинутой дверью,
перед вагоном сидели на земле красноармейцы.
Все это было счастьем. После казенных слов гимназии
слова о величии труда, об общественной справедливости,
24
Глубокий экран
о последнем и решительном бое казались сказочно
прекрасными. И, что наиболее удивительно, в этой новой
жизни я, мальчишка, уже принимаю участие, тружусь. Вот
я еду в шаткой военной двуколке, она перевозит меня
обратно в Киев (агитпоезд ушел на фронт), у меня на
коленях военный паек, трудовой заработок.
Вместе с этими же художниками я участвовал в
украшении города. Забыв про отдых, мы писали картины
величиною с площади и улицы. Небывалый вернисаж
затевался в тихом и старом городе.
Наступала последняя ночь. Множество листов фанеры
(писали на них взамен холста) грузилось на машину.
Шальные от бессонных ночей и безмерно счастливые, мы
забирались на самый верх трясущейся фанерной горы,
грузовик трогался. Дорога была свободна, водитель
прибавлял скорость. Темные и пустынные улицы неслись
навстречу, мы взлетали на крутых киевских подъемах, чуть
не сваливаясь, устремлялись вниз. И на весь спящий город
мы выкрикивали строчки стихов, только что полученных из
Петрограда:
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры. 2
Вытереть старое из сердца мне было нетрудно. Никаких
истин, даже грошовых, я еще не знал.
И вот наконец двери в мир, который мне пока только
мерещился, растворились. Художник Исаак Рабинович
был приглашен в бывший Соловцовский театр — теперь
Театр имени Ленина 3 — и, зная о моих увлечениях, взял
меня своим помощником. Обязанности мои были
несложны. В низкой и длинной декорационной мастерской нужно
было развести в глиняных горшках клеевую краску,
обмакнуть большую кисть и, зачерпнув нужный цвет, покрыть им
холст, растянутый на полу, согласно пробе самого
художника.
Дверь из мастерской выходила на узенький мостик
с перилами, он висел над темной сценой. На колосниках
были подвешены дворцовые палаты; лес с листьями,
наклеенными на сетку; мутные перспективы каких-то улиц. Все
Глава первая
25
было покрыто пылью, покоробилось. Одинокие лампочки
мерцали в туманной мгле. Часто приходилось работать
ночами. В мастерской было пусто и холодно. Иногда тихо
открывалась дверь и, как привидение, входил старый
декоратор. Обычно этот человек бывал невесело пьян. Мутными
глазами он смотрел на сохнувшие в мастерской части
площадок, диковинные завесы. Тяжелое недоумение тлело
в его глазах. Всю жизнь он обставлял любую пьесу с
помощью нескольких задников и парных кулис. Небогатый
набор мебели и бутафории обслуживал репертуар.
Служилось спокойно, и даже полагался бенефис, и тогда
бенефициант щеголял какими-либо эффектами, вроде цветных
лампионов, развешанных гирляндами в саду. Теперь
происходило что-то странное. Вместо службы в солидной
антрепризе, где хорошие актеры умели растрогать в
«Осенних скрипках» или повеселить в «Тетке Чарлея»,
закружился какой-то чертов вихрь. Шумная жизнь ворвалась
в театр, закипели страсти, подобные бурлению уличных
митингов, загорелись сочетания красок, схожие с яркостью
красных знамен на голубизне весеннего неба.
Революция была уже не только за стенами
провинциального театрального здания, но и на сцене.
Утрами я пробирался в задние ряды полутемного,
пустого партера и притаившись ждал начала репетиции.
Собирались актеры; они здоровались друг с другом,
говорили обыденные слова. На тускло освещенной сцене стояли
выгородки, сколоченные из грязных щитов и обшарпанных
площадок. В оркестровой дыре музыканты настраивали
свои инструменты. Невысокого роста человек в темной
рабочей тужурке садился за столик, стоящий в зале,
закуривал папиросу. Начиналась работа.
И вдруг незаметно для себя я переставал видеть
будничные платья, непримечательные лица, изнанку
декораций. В голосах актеров появлялись сила и страсть,
разрозненные движения сливались в единый ритм,
вступала музыка, вместо статистов закипала гневом народная
толпа.
Особый, ни на что не похожий восторг охватывал все
мое существо. Происходящее казалось чудом. Я видел
только одного человека, создающего чудо. Передо мной
был тот, кто заставил задвигаться, зазвучать весь этот мир.
26
Глубокий экран
Человек в рабочей тужурке, сидящий за столиком в
зрительном зале, был как бы аккумулятором жизненной
энергии. Ни актеры, ни статисты, ни музыканты не могли
бы зажить новой жизнью, если бы страсть, переполнявшая
этого человека, не передавалась всем соприкасавшимся
с ним. В этом соприкосновении и совершалось чудо
искусства: тусклое становилось ярким, незаметное —
значительным, вялое — сильным.
Передо мной был Константин Александрович Марджа-
нов.
Шли репетиции «Фуэнте Овехуна».
Казалось, ничто в жизни Марджанова не могло быть
важнее работы. Все происходившее на сцене отражалось
в его темных влажных глазах. Выражение их непрестанно
менялось. Они загорались восторгом; переполненный
счастьем, он громко, на весь зал, восхищался актером;
секунда — и взгляд менялся, гримаса боли искажала лицо.
Внезапно Константин Александрович соприкоснулся с чем-
то нелепым, оскорбительным для всего, во что он верил,
в чем заключался для него смысл жизни, и вот глаза
делались гневными, он резко прерывал исполнителей, он
становился требовательным, придирчивым, сцена повторялась
много раз, пока не происходила в ней неуловимая
перемена, и тогда опять радостный свет зажигался в его взгляде. 4
Вспоминая о своем учителе, я хочу понять суть его
уроков. Что же мне открылось в них: профессиональные
приемы, тайны мастерства, законы постановочного
искусства?
Нет, не это видел я в репетициях «Фуэнте Овехуна»;
иное увлекло меня сразу же, бессознательно. Неотрывно
смотря на художника, в которого я был влюблен со всей
страстью первого увлечения в искусстве, я видел силу
одухотворенности его работы. Над природой этого огня
хочется задуматься. Одухотворенность Константина
Александровича была особой, и возникла она в особых
обстоятельствах.
Потом мне не раз приходилось наблюдать
распущенность режиссеров, наигрывавших перед труппой «муки
творчества». Эти люди убегали как бы в отчаянии из
репетиционного помещения, бросались целовать актера будто
бы от счастья, в маленькой комнате они оглушали криком.
Глава первая
27
Вся эта зыбкость настроений носила характер неврастении,
да еще выхоленной на предмет изображения «гения».
Ничего схожего с этим не было в Марджанове. Смена
состояний, отражавшаяся на его лице, была следствием не
нервозности, но совершенной сосредоточенности. Величайшая
ясность отличала его труд. В часы работы он чувствовал себя
в вымышленном мире обстоятельств и характеров пьесы,
как в реальности. В чудившемся ему пространстве и
времени он жил со всей полнотой духовного существования. Как
весело ему было в этом пространстве! Он населял его и
украшал, воспевал и застраивал. Их католические
величества короли Испании по его воле окаменели и стали
золотыми куклами; они лишь сидели на тронах, дергали
искусственными ручками и говорили мертвыми,
механическими голосами. Зато всеми красками жизни загорелось
село Фуэнте Овехуна. Всем его одарил Марджанов, даже
скромная крестьянская пирушка захлебнулась во
фламандском изобилии:через сцену, привязанные к
нескончаемой веревке, путешествовали гуси, окорока, птица, рыбы,
фрукты, овощи. Все это фантастических размеров и буйно
ярких цветов. Соловцовская сцена не вмещала размаха его
выдумки. Я не знаю, был ли понятен режиссеру католицизм
пятнадцатого века, но я уверен, что южанин Котэ
Марджанишвили чувствовал себя под испанским небом, среди
деревенских виноградников, как дома. Он знал свет, цвет,
страсть юга. Изобилие юга было в нем самом. Работая
с актерами, художником, композитором, он щедро дарил
им то, что переполняло его: тепло южного солнца, яркость
цветов, радующих глаз, страстность проявления
прекрасных чувств мужества, верности, любви.
Недавно опубликовано литературное наследство Мар-
джанова. Однако, читая написанные им статьи,
стенограммы выступлений, я с трудом узнавал его. Конечно, сами по
себе эти страницы представляют интерес, однако в них не
сохранилось жизненного тепла. Менее всего он был
теоретиком, критиком. Он был режиссером особого склада. Его
мышление было поэтическим; вне высоты подъема чувств
его искусство не могло бы существовать. Он выверял
спектакли не логикой анализа, а градусом нагрева. Это было
романтическое искусство в самом высоком смысле понятия.
Он не режиссировал, но вздымал чувства, сгущал цвета.
28
Глубокий экран
Он резко лепил формы, подчеркивая контрасты,
усиливал выразительность. Конечно, это менее всего значит,
что Марджанов — один из немногих режиссеров,
приглашенных в свое время Художественным театром со
стороны,— не владел психологическим анализом или логикой
раскрытия характеров; он знал многое, но отличала
его творчество прежде всего поэтическая сила
воображения.
Эта сила проявилась не сразу, и его духовный мир
складывался непросто.
Константин Александрович остался в моей памяти
совсем молодым человеком (хотя в те времена все старше
тридцати казались мне стариками) — он запомнился
легким, подвижным, мгновенно возбудимым. Теперь я
посмотрел даты его биографии: он родился в 1872 году,
в 1919-м ему было сорок семь лет. За плечами были годы
нелегкой работы. Он странствовал по провинции, нигде не
мог осесть, найти свой дом. Он трудился со Станиславским
и Гордоном Крэгом, организовывал фантастическое
предприятие «Свободный театр», в труппе которого должны
были состоять и Шаляпин и Дузе; в «Сорочинской
ярмарке» загоняли на сцену живых волов; целый акт
«Прекрасной Елены» игрался на вертящейся карусели. Театр не
знал таких сенсаций и подобных провалов. А Марджанов
опять кочевал по городам, антрепризам, пробовал новые
жанры, стили.
Дух беспокойства гнал его, не давая передышки. Он не
мог «служить», участвовать в «деле».
Перед революцией, как и все талантливые режиссеры,
он оказался на развалинах. Чего только он не пробовал!
Ставил в пышных, живописных декорациях и вовсе без
декораций. Сокращал диалог, но заставлял читать со
сцены все авторские ремарки; искал условность театра,
синтетические формы; восстанавливал в «Желтой кофте»
приемы китайских постановок; боролся с натурализмом,
рутиной, серостью, мещанством. Он был новатором, но не
смог открыть неизвестных материков. Он был искателем,
но земля его поисков часто оказывалась бесплодной.
Синтетический театр стал лишь программой, где на неделе
различные актеры играли оперу, оперетту, пантомиму.
Ветер не надувал парусов.
Глава первая
29
Ветер 1919 года ворвался в Соловцовский театр. Ветер
с заводских окраин и фронтов гражданской войны гулял по
театру. И паруса надулись силой этого ветра.
Марджанов стал комиссаром Театра имени Ленина, он
ставил постановку к Первому мая. В наши дни такие слова
привычны. Тогда каждое из них произносилось впервые,
вызывало жизненные ассоциации огромной силы, они и
создали поэзию спектакля. Речь шла не об
«осовременивании» классики, приспособлении Лопе де Вега к нуждам
момента. Марджанов ничего не приспособлял к
революции. Он жил ею. Все происходившее он воспринимал как
высокую правду. Эта правда сплавила огнем поэзии бунт
вилланов XV века и сегодняшний день, сплавила, а не
приспособила одно к другому.
Духовный подъем времени, смелость нового искусства,
искренность художников — все это, уже неотделимое одно
от другого,— создали самый страстный романтический
спектакль, который мне посчастливилось увидеть,—«Фу-
энте Овехуна». Слова Лопе де Вега стали
пропагандистскими в полном смысле понятия. В ответ на происходящее на
сцене зрительный зал запел «Интернационал». Здесь все
являлось тенденцией, агитацией, призывом. И здесь все
было поэзией. Тут ничего не было от расчета, хладнокровия
предвзятых намерений. Искусство двигалось на таком
горючем, что дух захватывало.
Это был расцвет театра, невозможный в
дореволюционное время. В подъеме искусства отразился жизненный
подъем новой эпохи. Я горжусь, что синее небо «Фуэнте
Овехуна» было расписано и при моем совершенно
неквалифицированном участии.
Иногда искусство творит легенду, но бывает, что и само
оно становится легендой.
В эту киевскую весну по горбатой улице, мимо
покрытых молодой зеленью каштанов шел с песней полк. Люди,
плохо вооруженные и обмундированные, со следами
ранений — забинтованной головой или рукой на перевязи —
вошли в низкое здание с лепными масками на фасаде.
Солдаты сели в бархатные кресла, не выпуская винтовок
из рук. Поднялся занавес: Испания обратилась к
Украине.
30
Глубокий экран
Что же увидели эти люди, каким запомнился им
спектакль?
Невысокого роста молодой человек, коренастый и
курносый, находился среди зрителей. Пулеметчик и
политработник Всеволод Вишневский всем своим душевным
складом был приспособлен, чтобы сохранить самую
атмосферу этой постановки. Какой-то особый восторг ощущения
энергической деятельности первых дней революции
наполняет его рассказ:
«Петлюровские полки надвигались на Киев... Марджа-
нов приехал в Киевский партийный комитет:
— Что я могу для вас делать?
— Что вы можете сделать?
— Я могу поставить пьесу испанского писателя Ло-
пе де Вега о восстании крестьян. А чем вы можете
помочь?
— Ничего у нас нет».
По словам Вишневского, не было даже красок.
Оказалась только сухая охра. Тогда Исаак Рабинович сказал:
«Давайте охру. Я из этой охры сделаю золотой песок
Испании».
Но одного песка, даже испанского, было недостаточно.
«Мы пошли к прачкам, реквизировали синьку, и он
(И. Рабинович.— Г. К.) сказал:
— Из синьки мы сделаем синее небо.
...В зал мы вошли накануне боя, с винтовками через
плечо. Актеры прекрасно играли, нас поражала эта сила.
Весь зрительный зал замирал...
...Актеры кричали, и полк кричал, актеры пели, и весь
полк пел, а политработники волновались и кричали:
— Скорее, скорее, мы опоздаем!
Мы аплодировали актерам и мчались на шоссе, в
бой». 5
Память не во всем соглашается с этим описанием: театр
был на ходу, в декорационной мастерской осталась не
только сухая охра. Помочь Марджанову можно было,
и ему помогали. Но я слышу интонацию речи Вишневского
и перестаю сомневаться: все было именно так, как он
описал, и ультрамарин, конечно же, был реквизирован в
прачечной.
Прекрасно искусство, способное стать легендой.
Глава первая
31
Однако мне хочется вернуться к реальности. Она была
сложной, и пути художников не проходили по налаженной
трассе.
Через несколько дней в театре начались репетиции
новой постановки. Актеры читали по тетрадкам «Саломею*
Уайльда.
Кто же был эстет с орхидеей в петлице, обитатель
башни из слоновой кости, рискнувший протащить
декадентство в искусство революционного города, напряженно
борющегося с врагами и разрухой, протащить на ту же
сцену?
Тот же Марджанов.
С жаром он говорил о духовной цензуре, некогда
запрещавшей пьесу, о мечте Комиссаржевской сыграть эту
роль, о трагедии протеста личности.
Конечно, несложно счесть «Фуэнте Овехуна»
достижением, а «Саломею» — отступлением, определить
огромность рывка вперед первой работы и количество шагов,
пройденных назад при обращении к истории библейской
принцессы. Все это справедливо. Сложность состоит лишь
в том, что и рывок вперед, и шаги назад художник
проделывал одновременно. Если это невозможно в физкультуре, то
еще менее выполнимо в искусстве. Жизнь художника не
делится на кусочки. С первых дней революции Марджанов
не размышлял над ее приятием или неприятием, но
трудился для революции, жил ее напряжением, брал тепло у ее
костра. Он трудился, как мог: в его сегодняшнем дне уже
начинал жить завтрашний, но еще продолжал
существовать и вчерашний. Однако иная страсть уже наполняла
все, что он делал. Без понимания природы этой страсти
мало что можно понять в искусстве тех лет. Я думаю, что
«Саломея* 1919 года была несхожа со старыми
постановками этой пьесы. Вместо блеклых тонов и вялости на
сцене были яркость, энергия, страсть.
Летом 1920 года в честь приезда в Петроград делегатов
Второго конгресса III Интернационала на портале
фондовой Биржи была поставлена массовая инсценировка
«К мировой коммуне». Начальником постановки, как тогда
писалось, был Марджанов, играли в ней четыре тысячи
красноармейцев и участники рабочих театральных
кружков. Около сорока пяти тысяч зрителей смотрели спек-
32
Глубокий экран
такль. Историк театра, описывая инсценировку,
вспоминал: «Пляска женщин в синей мгле напоминала марджа-
новскую «Саломею».6
Удивительные перемены происходили тогда не только
с людьми, но и с образами художественных произведений.
Время отражалось в искусстве формами, полными
своеобразия; еще все находилось в стремительном движении,
причудливом смешении старого и нового. У меня
сохранилась тоненькая брошюра «Революционное искусство»,
изданная Бюро пропаганды всеукраинекого литературного
комитета Народного комиссариата просвещения. Чего
только не прочесть на этих страницах! Кажется, что у
авторов захватывало дух от грандиозности целей; слова, даже
самые возвышенные, казались недостаточно сильными.
«Пролетарское искусство,— писалось в передовой,—
создается как народное, рабочее, монументальное,
патетическое, революционное, гневное, убивающее и рождающее
в потоке крушения старых форм и развития
всечеловеческого, всенародного исполинского стиля творчества жизни
в преображенном мире». 7
А в преображенном мире пока еще гуляли банды, не
хватало хлеба, останавливались заводы, надвигалась
угроза интервенции. Но ощутима была правда высокой цели,
и люди, посвятившие себя искусству, писали о
«необъятности еще неведомых горизонтов», «творчестве новой
вселенной», «мощном вале современных событий».
Бумаги не было — «Революционное искусство»
занимало шестнадцать страничек маленького формата.
В это же время Отдел народного образования
Харьковского губисполкома издал на оберточной бумаге журнал
«Пути творчества». «Наша задача — заставить мыслить
красками и образами коллективистических идей, в духе
товарищеской солидарности, над зачатием проекта
пролетарского искусства»,— говорилось в одной из его
статей. *
Через несколько страничек — хроника: какие-то
артисты, достав удостоверение на право выезда с театральной
труппой на Дон и в Крым, попробовали переправить туда
людей, не имеющих ничего общего с театром. На границе
перебежчики были арестованы. Поразителен приговор
Революционного трибунала: «Принимая во внимание соци-
Глава первая
33
альное положение Михлиной, Моргунова и Молотко
(артисты), считать их оправданными».
Еще страница: «Столбы, подпиравшие старые
горизонты верований, надежд, красоты, раздвинулись, вместе
с военным и революционным ураганом ринулись водопады
новых понятий...» 10 Подпись: Всеукраинский совет
искусств. Вместе с «ураганами» и «водопадами» были
простые и прекрасные слова: «Товарищ рабочий, кто б ты
ни был — слесарь ли, токарь ли, каменщик или простой
чернорабочий! Товарищ крестьянин — бедняк, батрак или
просто середняк — все к нам! Все к искусству! В нем
почерпнете вы жизнерадостность, волю к труду и к борьбе за
свою долю». м
Обращение не было риторикой. Новые зрители пришли
в театр. Мало что можно понять в работе художников того
времени, не представляя себе зрителей, для которых они
играли. Новый театр начался не только с перемены
происходящего на сцене, но прежде всего с изменения
зрительного зала. И дело было не в том, что аудитория принимала
игру за реальность. Некий идеальный зритель, воспетый
театральными мемуарами, зритель-дикарь, стрелявший в
Яго на сцене, не имел ничего общего с этими людьми.
Глубочайшее уважение к культуре, счастье восприятия
искусства — вот что отличало этих людей. «Этот зритель
оказался чрезвычайно театральным: он приходил в театр не
мимоходом,— писал Станиславский,— а с трепетом и
ожиданием чего-то важного, невиданного. Он относился к
актеру с каким-то трогательным чувством». ,2
Марджанов ставил свои постановки не только для этой
аудитории, но и вместе с ней. А жар чувств этих зрителей
смог преобразить даже «Саломею».
В одном из журналов недавно воспроизведена
саратовская афиша 1918 года. Школьный Театр имени Ленина
открыл свои бесплатные спектакли для пролетарских и
крестьянских детей. Играли «Синюю птицу».
В архиве сохранилась телеграмма, посланная
зрителями Ленину. Есть в ней такие слова: «Дети саратовского
пролетариата говорят сегодня: «Мы пойдем к Ленину, и мы
были у Ленина и видели «Синюю птицу», которой
открывается театр». Да здравствует вождь Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики товарищ
34
Глубокий экран
Владимир Ильич Ленин! Да здравствует вождь
коммунистов!» ,3
Саратовские ребята видели тогда в «Синей птице»
совсем не то, что воспринял бы зритель нашего времени или
что интересовало дореволюционный партер. Мне ничего не
известно о спектакле школьного театра, но я вправе
предполагать, что многие из детей — зрителей этой «Синей
птицы» — потом, в трудные годы гражданской войны,
голодухи, сыпняка, как что-то светлое вспоминали и первый
приход в свой театр, и то, как девочка Митиль и мальчик
Тильтиль искали счастье. И думаю, что в памяти этих
людей возникали тогда не мистические туманы Метерлин-
ка, а мерцающий вдали свет пятиконечной звездочки —
добрый и ласковый среди пустоты и мрака ночи.
Для того чтобы понять театр тех лет, нужно не только
анализировать содержание и форму спектаклей, но и
понимать горючее, на котором это искусство двигалось.
Молодой Маяковский во время первой мировой войны
писал о ее воздействии на каждый сюжет, на любой
материал.
«...Я никогда не был в Олонецкой губернии,— заявлял
Маяковский,— но я достоверно знаю — сегодня ее пейзаж
изменился до неузнаваемости оттого, что под Антверпеном
ревели сорокадвухсантиметровые пушки.
Можно не писать о войне, но надо писать войною!» м
«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием —
слушайте Революцию»,— призывал в январе 1918 года Александр
Блок. ,5
Понимать революцию в ее первый год всем сознанием
было дано немногим из художников. Марджанов слушал ее
всем телом, всем сердцем. Он «ставил революцией».
Несколько лет назад я встретился с молодым
режиссером, недавно закончившим образование. Речь зашла о
спектакле, который мы оба накануне видели. Критическое
дарование моего собеседника было очевидным. Он
обнажил промахи режиссуры, раскрыл несоответствие
авторской идеи и сценического.выражения; низко оценив
массовые сцены, он объяснил, как их следовало бы поставить. Он
привел примеры из работ МХАТ, где подобные задачи были
решены давно и с полной ясностью.
Глава первая
Ü5
Он вышутил неумение художника пользоваться
пространством и светом, взгрустнул об отсутствии творческой
смелости, вздохнул от эклектичности.
Немировича-Данченко он цитировал наизусть.
Потом я увидел постановку этого режиссера. Нечто
непробудно нудное, вялое и косноязычное копошилось на
сцене. Актеры шатались от тоски, убаюканные кашлем
зрителей. Жизненного содержания не было ни в одном
штрихе. Старинный провинциальный театр с
намалеванным на заднике лесом, толкающимися статистами и
играющими на свой риск премьерами был восстановлен во всей
своей первозданности.
Я вспомнил наш разговор и удивился. Дело ведь не
только в таланте. О спектакле, увиденном мной, трудно
было сказать, что он сделан без дарования, но умело и
культурно; именно неумение и бескультурность отличали
его. Сведения, так хорошо усвоенные молодым
режиссером, почему-то совсем не пригодились ему в работе. Сами
по себе эти знания были ценны для режиссерской
профессии; опыт больших художников мог бы действительно
оказаться полезным. Но случилось так, что все это лежало
в какой-то отдельной кладовой сознания, и, когда
воспользоваться сведениями было бы необходимо, дверь в склад
оказывалась по неведомой причине плотно закрытой.
Слова не становились руководством к действию.
В поваренной книге объяснено, как изготовить какой-
либо суп. Мясо и овощи кладутся в воду, кастрюля
ставится на огонь, добавляют приправы. Повар пробует «на
вкус». После кипячения суп готов.
Сопоставляя эту работу с трудом художника, можно
сказать, что в обоих случаях съедобная пища получается
лишь в итоге кипячения. Отдельно усвоенные знания, как
и сырые продукты, не переходят в новое качество без
стадии крутого кипения. Кустарная проба «на вкус» также
играет немалую роль.
Молодому режиссеру была известна, говоря языком
фабрики-кухни, номенклатура продуктов и нормы их
закладки. Он только не знал, как развести огонь, на котором
все это должно было закипеть. Он разбирался в телятине,
картошке и укропе, но ничего не понимал в пламени. В этой
части труд кулинаров все же проще режиссерского. В на-
36
Глубокий экран
шем деле еще не изобретены ни газовые горелки, ни даже
примусы.
В пятой статье о Пушкине Белинский объяснял
характер этого огня.
«Каждое поэтическое произведение есть плод могучей
мысли, овладевшей поэтом»,— писал критик. Однако
свойства этой мысли — особенные: «Если б мы допустили,
что эта мысль есть только результат деятельности его
рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую
возможность искусства». ,6
Зародышем живых созданий поэзии Белинский считал
не отвлеченно-философские или рассудочные идеи, но
поэтическую идею, «а поэтическая идея — это не
силлогизм, не догмат, не правило, это — живая страсть, это —
пафос». П
«Поэтому выражения: в этом произведении есть идея,
а в этом нет идеи, не совсем точны и определенны. Вместо
этого должно говорить: в чем состоит пафос этого
произведения? или: в этом произведении есть пафос, а в этом нет.
Это будет гораздо определеннее и точнее: потому что
многие ошибочно принимают за идею то, что может быть
идеею везде, кроме произведения, где ее думают видеть
и где она в самом-то деле является просто резонерством,
кое-как прикрытым сшивными лохмотьями бедной формы,
из-под которой так и сквозит его нагота. Пафос — другое
дело. Надо быть совершенно лишенным всякого
эстетического такта, чтоб увидеть пафос в произведении
холодном, мертвом, в котором идеи с формою слиты, как масло
с водою, или сшиты на живую нитку белыми
стежками». ,8
Думая над уроками Марджанова, я вспоминаю его
труд, проникнутый пафосом. Дух революционных перемен,
убежденность в правоте новых общественных отношений,
ощущение исторического масштаба происходящих
событий — истоки этого пафоса.
В 1919 году я мало что понимал во всем этом, но я
начинал бессознательно усваивать, что счастье
соприкосновения с искусством невозможно без страсти, потрясающей
все существо челоаека. После уроков Марджанова брак по
расчету в искусстве никогда не покажется мне
привлекательным.
Глава первая
37
Театр «Арлекин»
После одной из репетиций, набравшись храбрости,
я показал Марджанову свои эскизы. Внимательно
рассмотрев их, он сказал, что познакомит меня с другим молодым
художником и закажет нам декорации к какой-нибудь из
своих новых постановок. Мальчик моего возраста,
остроносый, с узким разрезом глаз, одетый в блузу с множеством
отутюженных складок и в брюки клеш из зеленого
материала, появился немедленно. На его голове красовалась
цветастая тюбетейка, между пальцами он крутил
тоненькую палочку. Звали его Сережей, фамилия была Юткевич.
Марджанов заказал нам декорации к оперетте «Маскот-
та». И тут началось самое удивительное: он разговаривал
с нами, как бы забыв о нашем возрасте. Прославленный
мастер, много раз работавший со знаменитыми
художниками, обсуждал свой замысел с мальчишками, как с
профессиональными декораторами. Он дал нам текст пьесы со
своими вымарками и пометками, объяснил сценические
возможности. Казалось, Константин Александрович не
видел ничего странного в заказе и ничуть не сомневался
в наших способностях. Теперь мне трудно понять, был ли
это способ ободрить нас или вера в молодые силы, интерес
к их стремлениям.
Мы начали работать над эскизами. Однако этим дело не
ограничилось. Фантастическая идея организации своего
театра овладела нами. Появились молодые актеры. Один
из них был Алексей Каплер, будущий сценарист. Другого
мальчика нашего же возраста звали Мишей Ваксом.
Единомышленников мы находили легко. Все мы молились
в искусстве одному богу, и общность веры казалась нам
решающей. Мы мало что знали об этом боге. Понаслышке
был известен его могучий бас и высокий рост. Счастливцы
обладали странно изданными тетрадками его старых
стихов. Новые доходили еще только в списках. Мы немедленно
заучивали их наизусть, читали громко и бормотали про
себя целыми днями. С ними вставали и вечером ложились
спать. Мы толком не понимали заложенного в них смысла,
но энергия ритмов и образов, клокочущая сила,
наполнявшая строчки, заставляли сжиматься сердце. От ощущения
мощи, страсти, счастья становилось трудно дышать. Во-
38
Глубокий экран
сторг предчувствия какого-то нового и прекрасного мира
наполнял нас.
Мы горланили:
Там
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
За мора море
шаг миллионный печатай! ,9
Марджанов выслушал наши планы с той же
серьезностью. Из кабинета главного режиссера всех театров Киева
мы ушли с бумагой, подписями и печатью,
удостоверяющей, что нам предоставляется для организации театра
подвал, где помещалось прежде кабаре «Кривой
Джимми*. По темной лестнице мы спустились вниз. Чиркая
спичками, нашли скважину замка. Ключ щелкнул, дверь
отворилась. В зале были навалены опрокинутые столики,
стулья, валялись пустые бутылки, обрывки бумаг. На
крохотной сцене висели оборванные сукна. Молча, затаив
дыхание, мы поднялись на невысокие подмостки, нашли
распределительный щиток, повернули выключатель.
Загорелись софиты. Пусть не все лампочки были целы, но
софиты горели. Настоящие софиты. За порталом сцены,
слева, висели веревки. Одну из них мы попробовали
натянуть. Занавес стал закрываться. Настоящий театральный
занавес. Мы не раз закрывали и открывали его. Потом
сошли в зал, убрали в угол столики и стулья; отыскав
метлу, тщательно подмели пол. Расставили рядами стулья.
Потом мы сели в первый ряд и долго молча смотрели на
сцену. Теперь это был наш театр.
Репертуар мы составили без труда: трагедия
«Владимир Маяковский* и «Балаганчик» А. Блока должны, были
открывать сезон. Театр мы окрестили прекрасным именем
«Арлекин». Труппа состояла из пяти человек не старше
пятнадцатилетнего возраста. Надо прямо сказать, что
содержание трагедии для всех пятерых исполнителей
являлось совершенной тайной. Мы взбирались на невысокие
подмостки и в упоении вопили, сколько хватало сил, стихи
любимого поэта, завороженные ритмом и грохочущей
силой неведомых образов.
Глава первая
39
В особенно трудном положении находился Миша Вакс.
Он играл «Старика с черными сухими кошками»; артиста
смущала авторская характеристика возраста героя:
несколько тысяч лет.
Постановочные замыслы еще только начали
оформляться, однако выполнение даже ничтожной их части
было бы не под силу и Большому театру СССР в его
нынешнем состоянии.
Всласть наоравшись на репетициях и насладившись
сочетанием ярких красок на эскизах, мы поняли, что ровно
ничего у нас не выходит.
Марджанов выслушал рассказ о постигшем нас крахе
с той же серьезностью. Он сказал, что действительно пьеса
«Владимир Маяковский» очень трудная. Он не добавил
«для вас». Нет, для всех трудная. И посоветовал нам
сочинить что-нибудь самим. Какую-нибудь клоунаду, сказал
он. Предложение мгновенно вызвало у нас множество
ассоциаций, не только близких и понятных нашему
возрасту, но и связанных с излюбленным зрелищем. Все мы
ненавидели «психоложество» и «бытовщину»
драматического театра и обожали цирк. Нашими фаворитами были
Фернандес и Фрико, выступавшие на арене киевского
цирка. Это была классическая буффонада,
заканчивающаяся похоронами рыжего; сам покойник выпадал из
дырявых носилок и шел за процессией, пронзительно вопя
и пуская из глаз бьющие к куполу фонтаны слез. Фрико
ковылял в аршинных штиблетах и снимал несчетное
количество жилетов; Фернандес сверкал цветами и бабочками
из блесток на атласном клоунском наряде. Они играли на
бутылках и клаксонах, давали друг другу затрещины
и убегали на конюшню, по дороге спотыкаясь, падая,
оглушительно стреляя петардами, спрятанными в штанах. Это
была старинная народная буффонада во всей ее поэзии.
Что-то сказочное было в набеленном лице одного и
карикатурно размалеванном — другого. Все это в плохом
исполнении кажется тупым и стыдным, но у истинных комиков
оживает прелестью юмора и фантазии.
Под влиянием клоунад и лубочных картинок я сочинил
раешник «Балаганное представление». 20 Мы отправились
в цирк за консультацией. Фернандес и Фрико одобрили
40
Глубокий экран
наши планы и любезно предложили одолжить свои старые
костюмы.
На генеральную репетицию мы пригласили зрителей.
Пришли товарищи по школе Экстер, несколько писателей.
«Я часто встречал двух поклонников Марджанова,
неразлучных приятелей...— написал в своих мемуарах
Илья Эренбург,— Гришу Козинцева и Сережу Юткевича.
Они пригласили меня в помещение, где прежде был
«Кривой Джимми»: устроили «народный балаган», то есть один
из тех эксцентрических спектаклей, которые в голодные
и холодные годы тешили зрителей».21
Эренбург, заведовавший тогда какой-то детской
секцией, помог нам организовать кукольный театр. Мы
сколотили и расписали ширмы, сделали петрушек. Это был тот
же яркий, лубочный мир, который я пробовал
воспроизвести в эскизах, на крохотной сцене «Арлекина», теперь уже
в кукольном представлении.
«Сказка о попе и о работнике его Балде» игралась в
рабочих клубах, на эстрадных площадках садов. Юткевич
крутил шарманку, был зазывалой, а мы с Каплером
показывали кукол. Нам даже посчастливилось услышать
первые аплодисменты. 22
Между росписью города, плакатами, которые я писал
во всю стену агиттеплушки, и этими работами для меня не
было различия: лишь бы горели краски, сталкивались
контрасты цветов, образовывались фантастические
фигуры — веселые, задорные, яркие.
Перемены власти и жизненные трудности отразились на
судьбе нашего театра: родители Юткевича покинули
Украину, Сережа уехал с семьей; куда-то исчез Миша Вакс.
С Юткевичем мы вскоре повстречались опять, а вот Вакс
совсем пропал с моего горизонта.
В 1965 году я показывал в испанском городе Сан-
Себастьян «Дон Кихота». Портье отеля, где я жил, передал
мне извещение: «Майкл Висцинский — один из
руководителей фирмы Самуэля Бронстона приедет сегодня вечером
из Мадрида, специально чтобы повидать сеньора
Козинцева».
Вечером в ресторане к моему столику подошли два
человека.
Глава первая
41
— Разрешите представить вам г-на Висцинского,—
сказал знакомый мне американский режиссер Николас
Рэй.
Я ответил вежливой английской фразой. Майкл Вис-
цинский посмотрел на меня каким-то странным взглядом,
потом всплеснул руками и воскликнул по-русски:
— Боже мой, это же я — Миша Вакс!..
Куда только не заводила его судьба!.. Он был
кинорежиссером в старой Польше. Чуть ли не сотня фильмов
была им снята. Потом в Берлине он стал ассистентом Мур-
нау; сам поставил экспрессионистский фильм «Голем». 23
Теперь он правая рука Бронстона (фирма, снимающая
супербоевики), «большая шишка», как он выразился;
живет в Италии, работает в Испании для американцев.
В этот вечер я уезжал.
Вскоре в Ленинграде, просматривая
кинематографические журналы, я увидел траурную рамку: умер Майкл
Висцинский. В моей записной книжке остались
итальянский и испанский адреса, написанные по-английски, а
внизу он приписал по-русски в кавычках «Миша».
После невеселого отступления можно опять вернуться
к началу рассказа. Несмотря на отъезд друзей, я
продолжал трудиться: народное действо о царе Максимилиане
и его непокорном сыне Адольфе стало предметом моего
увлечения. Лубочная патетика и озорная поэзия захватили
меня. Я нашел в публичной библиотеке несколько сводов
пьесы и взялся за дело, переписал текст, ввел
злободневные положения. Спектакль было решено поставить на
площади, под открытым небом.
Театр представлялся мне тогда чем-то подобным
карусели: вдруг на будничной улице выросло чудо — дудит
и высвистывает польки и марши орган, летят белоснежные
кони в черных яблоках, за ними — лебеди с немыслимым
изгибом шей, а потом зеленые драконы, расписные ладьи,
опять кони, лебеди, драконы, ладьи...
Мне хотелось, чтобы на серой улице, на фоне невысоких
домов с провинциальными кариатидами и пузатыми
балкончиками, загорелись, задвигались веселые пятна:
красная кумачовая мантия царя и ярко-синяя рубашка
царского сына, чтобы зазвенели и загремели лихие рифмы
раешника.
42
Глубокий экран
Главную роль играл Каплер (в короне, оклеенной
золотой бумагой, и с огромной подвязанной зеленой
бородой); царица Венера была в голубом плаще с нашитыми
серебряными звездами; ее исполняла Наташа Масс (в
будущем артистка и педагог Театра имени Вахтангова). Мы
репетировали целыми днями. Это была уже настоящая
постановка с декорациями (правда, ширмами), костюмами
(пусть сборными) и даже с печатной афишей (мы
упоминались в числе других увеселений праздничного дня).
На премьере мне не удалось побывать — поднялась
температура. Я лежал в бреду, только изредка приходя
в себя. В глубине комнаты вырастали с ужасающей
быстротой какие-то бесформенные предметы, они
надвигались на меня, заполняли пространство, наваливались на
грудь, колышущаяся масса давила, душила, у меня не
было сил освободиться, вырваться из-под нее, раздавался
чей-то пронзительный крик, и я открывал глаза. Тускло
светила лампа, прикрытая бумагой, мать смотрела на меня
и плакала.
Это был сыпной тиф.
Выздоровление шло с трудом, плохо двигались ноги,
сознание было мутным. Я еще не пришел в себя: реальность
казалась мне неестественной, иногда мне приходило в
голову, что меня уже нет в живых, а то, что я вижу,— не то сон,
не то пустая оболочка несуществующих явлений. Потом
я узнал, что такое состояние после сыпняка обычно.
Однако и на самом деле многое изменилось. Уехали
Экстер, Марджанов, Эренбург. Покинули Киев и все мои
товарищи. Вдруг я оказался в одиночестве. Мне
показалось необходимым переменить образ жизни; пришла пора
учиться всерьез. Я обратился в союз работников искусств,
там меня хорошо знали.
Жаль, что не удалось сохранить командировку,
выданную мне для поступления в Петербургскую академию
художеств. Теперь таких бумаг уже не увидишь.
Небольшое удостоверение было со всех сторон испещрено
резолюциями, в каждом углу стояла подпись и печать.
В последний раз я прошелся по улицам родного города.
Здесь мы гуляли с девочкой-гимназисткой, которой я
посвящал свои первые (ужасные!) стихи, а потом
загрохотало, побежали люди: взорвались пороховые склады; здесь,
Глава первая
43
в доме на Прорезной, я часто бывал у своего дяди
профессора; стену недавно пробил снаряд, и дядин кабинет
теперь виден с улицы, мебель стоит на своих местах, только
все обсыпано обломками кирпичей, пылью...
Прощай, детство!
В Петрограде
Переезд по железной дороге длился восемь дней.
Приходилось ехать на багажной полке вагона с выбитыми
стеклами, в теплушке, на открытой платформе,
устроившись на груде какого-то железного лома. В наволочке я вез
самое необходимое: сухари, рубашку, потрепанную книгу
«Все сочиненное Владимиром Маяковским». Состав
двигался медленно, подолгу стоял в поле и неожиданно, без
предупреждения, отправлялся дальше. Мы проезжали
мимо разоренных станций, сгоревших вагонов и брошенных
паровозов. В сизом махорочном дыму плакали дети,
громыхали крыши под валенками мешочников. На полустанках
шла меновая торговля: белье, табак, мыло меняли на хлеб
и сало. Где-то стреляли, кто-то плакал и кто-то ругался;
повсюду были развал, разруха, голод.
Петроград ошеломил меня огромностью и пустотой.
После обсаженных каштанами уютных улочек Киева
дворцы, проспекты, громады зданий — все казалось нежилым,
невозможным для жилья. Все было покинуто людьми,
осталась лишь память. По этой площади, задыхаясь,
бежал от Медного всадника Евгений; мимо узкого переулка
на Васильевском острове ковылял домой Акакий
Акакиевич; а в том доме стал убийцей Раскольников. В морозном
тумане возникали воспоминания и монументы. Среди
вымершего города проезжали на конях императоры.
Неторопливо отъезжал от Инженерного замка Петр; высоко
над домами горячил тонконогого коня Николай I; подле
разоренного вокзала дремал на битюге Александр III.
Проходили прохожие, некоторые из них везли паек на
саночках. Им было не до традиций и воспоминаний. По
Михайловской площади с грохотом и лязгом пронесся
шатающийся из стороны в сторону вагон; трамваи не
ходили, но неожиданно появлялся одинокий вагон — он
44
Глубокий экран
мчался с забитыми фанерой окнами неведомо куда, и никто
не знал, где остановки, где конец маршрута.
Я ходил по городу, как по чужой планете. И вдруг, за
поворотом улицы или миновав переулок, я попадал в
знакомые места. Они были известны мне по обрывочным
рассказам, репродукциям, воспроизводившим лишь
частности, и казались теперь неправдоподобными, будто, гуляя
по улице, я увидел наяву то, что мне когда-то приснилось.
Какими странными казались такие явления.
Вот одно из них.
Когда-то сюда спускались ночью как в преисподнюю,
здесь свечи отражались в зеркалах, освещали маски,
горбатый профиль художника, особенно интересовавшего
меня. Что могло быть фантастичнее этого места?.. Но какая
фантастика могла сравниться с тем, что оказалось перед
глазами.
Я попал сюда, свернув с Мойки на Марсово поле. Мое
внимание привлекли незабитые окна подвального этажа
углового дома. Сквозь грязные осколки стекол и ледяные
сосульки можно было разглядеть роспись помещения.
Покрытые подтеками копоти и пятнами сырости, виднелись на
стенах изображения людей в камзолах, невиданных цветов
и птиц. Я вспомнил репродукцию в журнале «Аполлон».
Это было помещение «Привала комедиантов», расписанное
Сергеем Судейкиным. Здесь собирались ночами
петербургские поэты и художники. Здесь Мейерхольд ставил «Шарф
Коломбины». А этот призрак в пудреном парике и
треуголке, изображенный в нише,— граф Карло Гоцци,
венецианский сказочник, возродивший в восемнадцатом веке
итальянскую импровизированную комедию.
В памяти возникли небольшие тетради с обложкой
А. Я. Головина: между желтыми и синими кулисами —
комедиант, подле него три огромных апельсина, с боков из-
за пестрых тряпок высовывают свои длинные носы маски
комедии дель арте. Внизу — старинный росчерк: «Любовь
к трем апельсинам».
В Киеве я раздобыл эти книжки и безуспешно пытался
понять их смысл. Это был журнал доктора Дапертутто —
псевдоним Мейерхольда перед первой мировой войной.
Причудливые, изысканные слова: доктор Дапертутто,
комедия масок, «Привал комедиантов»...
Глава первая
45
Замерзший, грязный, оставленный людьми подвал.
Обходя сугробы и ледяные торосы, я пошел по Марсову
полю. Занесенная снегом, валялась дохлая лошадь.
Прошел военный патруль. Бухнула пушка. Знакомый звук.
Я остановился, подумал: начинается.
— Где стреляют? — задал я прохожему привычный по
Киеву вопрос.
— Нигде не стреляют,— последовал ответ («стреляют»
прохожий понимал так же, как я),— двенадцать часов.
Проверь, товарищ, часы.
Я узнал первый обычай нового города.
Из окна моей комнаты на улице Красных Зорь24
виднелся огромный пустырь. Человек с охотничьим ружьем
подстерегал крыс, бегавших по свалке.
Потом на этом месте вскопали огород. Прошло
несколько лет, и пустырь стал спортивной площадкой.
Теперь там сквер, за ним новые большие дома; выросли
высокие деревья. Окна моей комнаты уже не видно.
На следующий день после приезда я заинтересовался
толпой у витрины магазина на углу проспекта 25-го
Октября и Михайловской. 25 Прохожие останавливались у стекла
с большой трещиной, читали телеграммы РОСТА,
написанные от руки. Возле телеграмм висели плакаты В. В.
Лебедева.
Плакаты поразили меня сразу же. Какая-то веселая
энергия наполняла это искусство. Формы были обобщены
до геометрической простоты, но предметность не терялась.
Это была потешная, детская простота, меткость
изображения основных черт предмета. Пролетарий с размаху
выметал врагов, маленькие буржуи и кулаки кувыркались под
огромной красной метлой, задрав кверху желтые и серые
ножки. А рядом, на другом листе, широким,
неостанавливающимся шагом, грозно держа винтовки наперевес,
шагали матрос с развевающимся по ветру синим воротником
и красноармеец в буденовке и желтом тулупе.
Здесь было то, к чему я бессознательно тяготел:
народная лубочная яркость, экспрессия выражения, радость
ощущения жизни.
Тогда, вероятно, я не смог бы назвать ни одного из этих
определений. Просто, когда я увидел выставленные
плакаты, мне стало весело на душе.
46
Глубокий экран
В театре «Палас» с потрескавшимися мраморными
стенками и бутафорским глиняным гротом в фойе я нашел
Марджанова. Он руководил Театром комической оперы
и распорядился зачислить меня режиссером студии.
Теперь нужно было отыскать Академию художеств и,
предъявив командировку, просить о приеме в школу
живописи. Дело оказалось совсем простым. С торжественным
словом «Академия» вязались лишь сфинксы,
неестественные на фоне замерзшей Невы, и огромный ледяной
вестибюль главного здания. Потом пошли перегороженные
фанерой комнатки, маленькие печурки с трубами,
причудливо изогнутыми под потолком. Приветливый человек
в шубе и шапке определил меня в мастерскую Альтмана.
«Свободная государственная художественная
мастерская» находилась во дворе, и, кажется, в ней было
особенно холодно. Учеников было мало. Они представляли
собой то же веселое братство, что расписывало киевские
улицы. Ни холод, ни голод никого не беспокоили. Жизнь
казалась поразительно интересной и не оставляла
сомнений, что именно теперь настала пора искусства. Это
искусство должно быть смелым, беспощадным ко всему
старому. Бешено споря о «ритмах современности» и об
«индустриальной поэзии», мы кололи дрова и
растапливали «буржуйку». К холоду прибавлялся дым. Приходил
Альтман, обмотанный шарфом. Озябшими пальцами мы
брались за кисти. Когда стреляла пушка, я привычно
проверял часы. Теперь я житель Петрограда.
Недалеко от мастерской, где я учился, в высоком
пустом помещении была выставлена модель памятника
Третьему Интернационалу. Я стоял в штанах, сшитых из
портьеры, и полушубке не по размеру, перепоясанный
солдатским ремнем,— один из множества точно таких же,
как я, молодых художников того времени — и смотрел на
башню Татлина. Пар валил изо рта, приходилось или
топтаться на месте, или бить ногой об ногу (газеты,
напиханные в рваные башмаки, плохо согревали). Передо мной
был воочию видимый мир будущего: огромная закрученная
спиралью железная башня, а внутри ее три
возвышающихся одно над другим сооружения из стекла. Татлин,
с чубом на лбу, похожий на мастерового, неторопливо
объяснял, что этот стеклянный куб будет вращаться внутри
Глава первая
47
железной спирали (один оборот в год), в нем разместятся
законодательные органы Республики. Здание над ним в
форме пирамиды займет секретариат; секретариат будет
крутиться вокруг своей оси со скоростью одного оборота
в месяц. На верху башни в стеклянном цилиндре (оборот
в день) — информационное бюро. Стеклянные стенки
будут в два ряда; топить не придется — термос. Все
высчитано, предусмотрено. Сам он, автор, нуждается лишь в
мотоциклетке, иначе не успеть объехать заводы, где будут
выполнять заказы.
Я свято верил, что в самое ближайшее время башня
вознесется над городом, торжествуя победу над Росси
и Растрелли.
Вокруг бурлила художественная жизнь. Поразительно,
как в эти трудные годы любили искусство. В
полуразрушенных залах открывались выставки, страсти бушевали на
диспутах. Поэты различных (неисчислимых) направлений
читали свои стихи, появлялось множество новых имен,
и еще писали те, чьи фамилии казались легендарными.
Трудно было себе представить, что эти люди живут в том
же городе, где живу я, получают паек, что у них бывает
насморк и им нужно починить ботинки.
В эстрадном театре Народного дома я видел, как,
облокотившись о тонкие чугунные перила балкона, стоял
Александр Блок. Отвернувшись от эстрады, затаив
дыхание, я смотрел на его лицо, и мне казалось, что не может
быть на свете других таких же прекрасных и печальных
глаз. Вероятно, я видел не только наружность поэта, но
и сама его поэзия отражалась для меня в его внешности,
делая ее какой-то особо значительной. Он стоял в бобровой
шапке, странно спокойный, а кругом него хохотали, глядя
на кувыркающихся циркачей, матросы и их подруги; что-то
весело выкрикивали зрители в солдатских шинелях;
лузгали семерки парни с чубами, и чуть не падали с балкона от
восторга лихие мальчишки «папиросники».
В Доме искусств на Мойке гремел бас Маяковского,
и мы отбивали руки аплодисментами, ладони становились
красными.
Приезжие из Москвы рассказывали о «театральном
Октябре». 26 Имя Мейерхольда возникало в бурлении
слухов, споров. Спокойных мнений не было. Образ Всеволода
48
Глубокий экран
Эмильевича до этого был связан у меня с двумя
портретами. Н. П. Ульянов написал режиссера в белом балахоне
Пьеро; поднятое кверху лицо выражало задумчивую и
печальную гордость. Стремительный человек во фраке и
цилиндре представал на картине Бориса Григорьева. Руки
в белых перчатках, жест фокусника; правая нога в
позиции какого-то танца. Впереди на фоне кулисы красный
воин натягивает тетиву лука, готовясь послать стрелу
в небо.
Кто же этот человек с лицом мудрой, нахохлившейся
птицы: престидижитатор, гипнотизер, актер —
исполнитель какой-то неведомой роли? Вспоминались описания его
постановки «Балаганчика» в Тенишевском училище: на
эстраде выстроен художником Сапуновым маленький
театрик; паяц, истекающий клюквенным соком, в
фантасмагории блоковской метели; мистики — одни только головы
артистов, высунутые из нарисованных на картоне
туловищ... Символы, барельефы, сукна, кубы, маски... что-то
еще мне вовсе непонятное.
И все это исчезло как наваждение.
Я вслушивался в рассказы о том, как в гимнастерке
и солдатской шинели внакидку, револьвер в кобуре
пристегнут к ремню, приехал в Москву с юга коммунист
Мейерхольд. Он сорвал со сцены московского театра
некогда излюбленные им падуги и завесы. На фоне грязной
кирпичной стены здания сколотили некрашеные
конструкции. Вместо комедиантов в пышных нарядах на подмостках
Театра РСФСР 1-го вышли инструкторы биомеханики
в прозодеждах... Пороховой дым, ржущие кони,
натуральность всех элементов... Внизу афиши примечание:
«Разрешается во время действия входить и выходить, свистеть
и хлопать». Отменены: занавес, психология, рампа,
образы, гримы, драматургия...
«Скажите рабфакам «красота», и они — свищут, как
будто их покрыли матом,— писала в те годы Лариса Рей-
снер,— от «творчества» и «чувства» ломают стулья и
уходят из зала».
«Все заново! — провозглашалось в «Мистерии-
буфф».— Стой и дивись! Занавес!» 28
Оставалось только дивиться; занавеса уже не было.
Молодые и горячие головы с восторгом принимали каждое
Глава первая
49
слово. Все были готовы немедленно, не щадя сил броситься
в бой за новое искусство.
В это время я познакомился с молодым человеком (года
на три старше меня), приехавшим из
Одессы,—Леонидом Траубергом. Он сочинил пьесу в стихах, стремился
к театру, был полон рассказов о Багрицком, а пока
служил в каком-то учреждении под названием «Упрод-
питокр».
Марджанов работал над опереттами и комическими
операми. Он ставил их с безудержной выдумкой, страстью
к буффонаде. Его спектакли радовали красочностью,
ритмом; однако ощущение чуда, не оставлявшее меня в Киеве,
исчезло.
Мы с Траубергом проводили все свободное время
вместе. Возвращаясь после спектаклей Комической опе[/к
по черным замерзшим улицам, сидя на корточках подле
«буржуйки», мы варили пшено, выданное по пайку, и
сочиняли какие-то ни на что не похожие пьесы. Трауберг писал
диалоги телеграфным языком, а я придумывал постановки,
одну невероятнее другой. Спектакли разыгрывались пока
что на эскизах; я рисовал на чем только попало
фантастические фигуры (в них было что-то от агитпредставлений,
плакатов РОСТА, кадров приключенческих лент), их
пересекали небоскребы, различные предметы; я вклеивал в
изображение куски фотографий, афиш. Одно из таких
представлений я написал на обороте большой географической
карты, найденной на антресолях и оказавшейся, к моему
счастью, наклеенной на холст. Ритмы и краски каких-то
еще невиданных зрелищ одолевали меня, не давали мне
покоя. За плечами был уже и некоторый опыт: украшение
киевских улиц, «Царь Максимилиан», агиттеплушка...
Попытка постановки «Владимира Маяковского» тоже не
прошла бесследно; смысла трагедии я, правда, так и не
понял, но громады контрастов и гиперболы метафор не
уходили из памяти.
В Петроград приехали старые друзья: Юткевич, а
потом и Каплер. К нашей компании присоединился и
единственный взрослый — режиссер Г. Крыжицкий. В какой-то
день, в разгар жарких споров было произнесено слово
«эксцентризм»; оно показалось наиболее выразительным.
50
Глубокий экран
Мы решили громко заявить о своих художественных
намерениях, искать единомышленников.
В искусстве тех лет переход от слов к делу был
мгновенным, а слова не произносились, а скорее выпаливались.
Молодежь говорила тогда на особом жаргоне, если какие-
то выражения и не были понятны, то все равно привлекала
звучность слов и агрессивность интонаций.
Еще в Киеве, гуляя по тихим провинциальным улочкам,
мы восхищались «динамикой урбанизма» и «поэзией
мюзик-холла». Ни больших городов, ни мюзик-холла никто
из нас не видел. Но черты, выражавшие, как тогда
казалось, самый дух современности, были ясны: энергия,
лаконичность, резкость контрастов, крутость ритма. Все
это уже существовало в живописи и поэзии. Пришла
пора театра.
ъ Название «студия» вызывало у нас отвращение:
болтовня о «творчестве» и «святом искусстве». Мы откроем
фабрику эксцентрического актера. Название будет,
подобно истинно современным выражениям, сжато,
спружинено в краткое, полное энергии созвучие: ФЭКС.
Но на фабрике нет режиссеров, к чему такие кустарные
профессии в индустрии? Мы придумали новое обозначение:
«машинисты спектакля»; тут же были распределены и
обязанности: Трауберг — «музлит» (музыкальная и
литературная часть), Козинцев — «реждек» (режиссерская и
декоративная).
Лозунг, под которым мы решили пойти в бой, отыскался
у Марка Твена. С этого и началось существование нового
художественного течения. Я написал на обороте длинного
куска обоев: «Лучше быть молодым щенком, чем старой
райской птицей!»,29 и мы повесили лозунг под карнизом
в комнате, где собирались.
Денег у нас, разумеется, не было ни копейки, но
мы постановили:
1. Устроить диспут.
2. Выпустить сборник.
3. Открыть мастерскую.
4. Поставить спектакль.
5. Устроить выставку.
Четыре пункта программы были выполнены.
Глава первая
51
«Женитьба»
«Не дымили заводы, в типографиях замерзшие валы
прыгали по набору...— вспоминал потом Виктор
Шкловский.
Сожгли заборы. Улицы потеряли свои дома, они шли,
как стадо...
Проспект Двадцать пятого октября пуст...
Примороженные κ стене висят «Жизнь искусства»
и афиша «фэксов» на четырех языках». 30
Что можно понять в нашем рождении, позабыв про
такой пейзаж?..
Наверху афиши было набрано большими буквами:
ДЕПО ЭКСЦЕНТРИКОВ
Ниже, шрифтами помельче, вперемежку с
типографскими виньетками черных указующих пальцев (как мы были
счастливы, что разыскали старые клише!) и паровоза
(увы, модель начала века) объявлялось об открытии
мастерской. Сбоку, в левой части афиши, перевод на
французский, немецкий, английский. В списке преподавателей
циркачи Серж и Такашима (японец-жонглер), художник
В. Татлин, композитор Артур Лурье, «звезда оперетты»
Н. Тамара и историк комедии дель арте К. Миклашевский.
Внизу листа:
К участию в постановке приглашаются
молодые актеры, танцоры, циркачи.
Призыв (в русской редакции) был услышан. Первым
появился Павел Юморский — куплетист, выступавший,
как он выразился, «в рваном жанре» (облике босяка).
Среди других единомышленников оказалась Фаина
Глинская, в прошлом артистка Старинного театра, человек,
искушенный во всех крайностях театральных исканий;
Н. Кульбин написал ее портрет в рост (помещенный в
журнале «Стрелец» между стихами Маяковского и
Хлебникова): обнаженная Фаина мчится на зеленой цирковой
лошади и жонглирует не то помидорами, не то розами.
Позже к нам присоединился Федор Кнорре (будущий
прозаик), тогда увлекавшийся акробатикой, ученики
Театральной школы Сергей Мартинсон и Евгений Кумейко,
талантливая танцовщица Зинаида Тарховская (исполняв-
52
Глубокий экран
шая «Саломею» на музыку Р. Штрауса в постановке
Касьяна Голейзовского).
В нашу компанию входил и молодой московский
художник с торчащими дыбом волосами и ломающимся
голосом; по приезде в Петроград он находил меня, и мы
отправлялись к букинистам на Литейный проспект; я
разыскивал лубки, молодой художник — о нем я еще много
буду рассказывать — собирал японские гравюры. Вместе
с ним и Юткевичем мы готовили выставку.
Появилась на нашем горизонте и какая-то странная
дама — «Мадемуазель Александрии», как она себя
отрекомендовала. Увидев ее фотографии, мы онемели от
восхищения. Боже мой, да ведь это настоящая живая «этуаль»,
в сильно декольтированном платье с блестками и
воланами, искушенная в чечетке и репертуаре загородных садов.
Чего только не было тогда в Петрограде!..
Премьером нашей труппы стал акробат-наездник, один
из «Трио Икар» (потом «Четырех чертей»), цирковой
артист от рождения, Александр Сергеевич Александров,
Серж. Тогда вместе с партнером он работал (как говорят
в цирке) «американский сундук». Это было удивительное
зрелище: два эксцентрика молнией пролетали животами по
крышке ящика, крутили с этой плоскости сальто-мортале,
в сумасшедшем темпе прыгали друг на друга, фигуры
сплетались как на рисунке футуристов, у одного туловища
оказывалось множество рук и ног.
И вот теперь он сам, Серж, живой, веселый,
неутомимый выдумщик, истинная цирковая энциклопедия,
участвует в нашем «Депо».
«Работал я с ними с удовольствием,— написал он потом
в своих воспоминаниях,— хотя понимал, что их затеи
подчас лишены здравого смысла». 3| Я вполне оценил
деликатность моего старого друга. Он все-таки мягко
оговорился: «подчас». Чего, чего, а здравого смысла у нас
вовсе не было.
Еще во время работы у Марджанова я задумывал
постановку «Женитьбы». Эскизы сохранились: в костюмах
и гримах — буффонное преувеличение; ко всему
примешано что-то балаганное. Марджанов не ругал меня за
рисунки, ведь и у Гоголя Подколесин не уходит в дверь,
а прыгает в окошко; да и слова Яичницы или Жевакина
Глава первая
53
трудно принять за бытовые. Константин Александрович
хотел, чтобы я поставил комедию в студии при театре; уже
были распределены роли, хорошие артисты охотно
согласились участвовать, возраст режиссера тогда никого не
пугал.
Но это были только самые первые, совсем еще робкие
шаги. Потом шаги ускорились, можно даже сказать,
перешли в бег. Это был бег сломя голову. Где-то далеко позади,
в туманном (и «академическом») прошлом остались
студия при театре, сам театр, гоголевская пьеса, ее фабула,
характеры... Сказать, что постепенно — переделка за
переделкой — от нее остались только рожки да ножки, было бы,
пожалуй, чересчур скромно. Общеизвестные ситуации
были вывернуты наизнанку, все перепутано и вздыблено,
текст ужался до языка телеграмм, положения довелись до
эстрадного номера или зрительной метафоры. Задача
состояла уже не в том, чтобы поставить спектакль, а чтобы,
выражаясь языком тех лет, взорвать епектаклем театр.
Неторопливая история неудачной женитьбы надворного
советника должна была вихрем закрутиться, стать зачином
оглашенного карнавала в честь победоносной
электрификации, где народный балаган сольется с техникой
будущего. Сам спектакль мыслился лишь началом: зрелище,
конечно же, перехлестнется через рампу, понесется по
улицам, закрутится вокруг подножия татлинской спирали,
к премьере памятник, вероятно, уже построят... 32
Бывают периоды, когда сама ткань искусства кажется
молодым художникам обветшавшей. Ощущение новизны
жизни — еще совсем смутное — необходимо выразить
иной, новой тканью. Горячие головы, не задумываясь, рвут
в клочья старое вещество, зато все считавшееся прежде
недозволенным, чуждым искусству, вводится в структуру
вещей, создаваемых уже из новых материалов. Куски,
обломки старого попадают в состав по контрасту, часто
пародией.
Этот процесс был тогда в самом разгаре. Уже давно
корежилась поверхность живописи; фактура мазков
делала холст объемным; живописцы вводили в композиции
куски обоев, газет, фотографий. Скульпторы отвергали
мрамор и бронзу, строили и контррельефы из оштукатурен-
54
Глубокий экран
ной поверхности, дерева и железа. Истинную поэзию
искали в антипоэтическом словаре уличной речи. Единство
драматической пьесы разрывалось музыкой, танцами,
агитационными речами, пантомимой.
Мы пытались создать какую-то динамическую
зрелищную ткань. Озорная ненависть к «академизму»,
считающему, что революция ничего не изменила в искусстве,
подсказала вывернуть на невероятный лад положения
общеизвестной пьесы. Одной из таких трансформаций была замена
женихов, выступавших перед Агафьей Тихоновной,
фигурами, олицетворявшими технику будущего, век
электрификации.
Так называемое «высокое» искусство молодыми
презиралось. Зато внеэстетический материал вызывал
восхищение: типографские шрифты, акробатический номер,
технические фотографии, рекламные плакаты. И конечно же,
наиболее прекрасным казался нам оплеванный
«академиками» и «эстетами» самый низменный вид демократических
развлечений — кино. Мы призывали в своем сборнике
учиться у «низких жанров»; куски их, как ломти
подлинного материала, должны были быть вклинены в спектакль:
«американский сундук» Сержа и Таурека,
плакат-декорация, этуаль «живьем», проекция киноленты, демонстрация
электрических и радиоконструкций.
В программе «Эксцентризма» (5 декабря 1921 г.) мы
писали: спектакль должен стать объединением высших
точек мастерства — трюков акробатических,
механических, пьесу заменит «сцепка трюков».33 Во всем этом —
классической комедии, превращенной в мюзик-холльную
программу, в пародийном монтаже кусков пьесы, цирковых
номеров, киноленты и эстрады — нетрудно.увидеть общее
с «На всякого мудреца довольно простоты» — монтажом
аттракционов, показанным через год после «Женитьбы» на
арене Московского Пролеткульта. 34
Наиболее неясными для меня были технические
конструкции, игравшие важнейшую роль в замысле спектакля.
Как раз они и должны были изображать знаки будущей
эры. Надо сказать, что никаких способностей к технике
у меня никогда не было. Знания ее — еще того меньше. Тем
не менее, недолго задумываясь, я нарисовал на бумаге
Глава первая
55
какие-то фантастические сооружения (под влиянием куби-
стических картин). На этом бы дело, вероятно, и
закончилось. Но рисунки попались на глаза талантливому, многое
умевшему декоратору кукольного театра Л. Вычегжани-
ной. Она увлеклась мыслью изготовить модели. Ни
электричества, ни радио в них, разумеется, не было,
материалы ограничились фанерой и картоном, сами конструкции
должны были надеваться на людей.
В перерыве между репетициями я пускался рысью на
Васильевский остров: в квартире мужа Вычегжаниной,
художника С. Чехонина (жилой была одна комната), шла
работа. Чехонин приветливо встречал меня, расспрашивал
о планах; на столе, подле которого клеились огромные
дикие фигуры, лежали тарелки; Чехонин тоненькими
кисточками расписывал фарфор для бывшего
императорского завода.
Во весь задник я написал панегирик всему, что чтил:
город, украшенный левой живописью, портрет Чарли
Чаплина, башню Татлина. Некоторые части декорации были
прозрачными, позади висели лампы, они зажигались и
тухли в ритм тустепов и регтаймов, которые барабанил по
роялю тапер-единомышленник (отысканный неведомо где
«музлитом»), к роялю присоединялись гудки, трещотки,
звонки, свистки. На этом мигающем и грохочущем фоне
фигуры, обряженные в костюмы цветов «Бубнового
валета», обменивались выкриками, злободневными
репризами, пели куплеты, разыгрывали странные пантомимы с
танцами и акробатикой. Гоголевские женихи (в обычном
театральном обличье) перемешивались с выезжающими на
роликах конструкциями, отлично сделанными
Вычегжаниной. В мигании света задник неожиданно подменялся
экраном (спектакль шел в помещении кино36), Чаплин
удирал от полицейских, и они же врывались на сцену (так
же одетые и загримированные исполнители), вмешивались
в пьесу: кинопроекция совмещалась с действием на первом
плане. Загорались и гасли части декораций, цирковые
клоуны с восторженными воплями крутили
сальто-мортале, прорывая полотно, кричали что-то из зала, и актеры со
сцены отвечали залу...
Несмотря на диалог и песенки, это было скорее всего
какое-то подобие фантастического балета: переходы осно-
56
Глубокий экран
вывались на ритме, смене зрительных образов, контрастах
движений.
В абракадабре участвовал и сам Гоголь. Что делать,
нехорошо умалчивать о проступках, совершенных даже
в очень давние времена. Надо сказать, что «реждеку» в то
время только что исполнилось семнадцать лет.
Пожалуй, других извиняющих обстоятельств мне не
найти... Разве только еще одно: было у меня в детстве
страстное, безрассудное увлечение. Больше всех книг
любил я одну. Не ее ли автор попутал меня?.. В книге
описывалось, как разъезжал в карете нос, одетый в мундир
и замшевые панталоны, как приснился художнику
чиновник, «который был вместе чиновник и фагот»; двух
глупых и пьяных немцев автор почему-то назвал Шиллер
и Гофман.
«...Кареты со скачущими лошадьми казались
неподвижными, мост растягивался и ломался на своей арке,—
писал мой самый любимый писатель,— дом стоял крышей
вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда
часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными
ножницами блестела, казалось, на самой реснице его
глаз». 37
Прочитал я это у Николая Васильевича Гоголя задолго
до того, как впервые увидел репродукцию Пикассо и
услышал о существовании Мейерхольда.
Сцену мы получили только перед спектаклем. Один из
исполнителей, испугавшись, не явился, и «музлит» срочно
натягивал на себя сюртук, чтобы спасти положение. Пока
шла генеральная репетиция, зрители, собравшиеся в фойе,
шумели, требуя впуска в запертый зал, начала
представления.
А в нижней боковой ложе слева юноша с большим лбом
и дыбом торчащими волосами (о котором я уже упоминал),
сидя верхом на барьере, перекрикивая шум, давал советы:
«Медленно! — подгонял он нас высоким, еще ломающимся
голосом,— слишком медленно! Наведите на них темп!..»
Это был Сергей Эйзенштейн.
Можно добавить: мы были виновны во множестве
грехов, но одного, вероятно, не было на нашей совести.
Уверен, что медлительным это зрелище трудно было на-
Глава первая
57
звать. Однако по тем временам даже такая кутерьма
казалась Эйзенштейну недостаточно быстрой.
Зал был заполнен в большинстве случаев такой же
молодежью, как мы. Пришли рабфаковцы, учащиеся
неведомых курсов и вольных мастерских. Явились молодые
поэты и живописцы, все те, кто жадно стремился к новому,
легко пускался в самые рискованные опыты. Здесь были
представители неисчислимых художественных течений,
состоявших иногда из одного человека. Боюсь, что если бы
современный блюститель приличий и нравов в искусстве
увидел этот зал, то его постигла бы участь философа Хомы
Брута, 38 перед которым разверзся сам ад со всеми его
страшилищами. Искушения святого Антония выглядели бы
жалкими рядом с этим буйством всех существующих «из-
мов», захвативших людей в возрасте между шестнадцатью
и двадцатью годами.
Какая-то воинственная художественная группировка,
имея в виду, что и ФЭКС чересчур академичен, захватила
с собой в театр больщие мячи, чтобы с их помощью заявить
свое несогласие с недостаточно левым театром.
Происходившее в зале мало чем отличалось от
сценического действия: мячи летели в артистов и, отбитые,— назад
в зрителей. Вопли и свист перемешались с
аплодисментами (особенный успех вызывало сочетание проекции и
живых исполнителей, кажется, первый такой опыт в театре).
Скандал был вызван менее всего кощунством над
классикой. В те дни мог возмутить только серенький спектакль,
ничем не отличающийся от старорежимных постановок.
Радостное озорство охватило и сцену и зал.39
Надо сказать, что и пресловутые «академики» имели
тогда особый облик. Режиссер бывшей
Александринки 40 Николай Васильевич Петров одновременно руководил
и маленьким театром «Вольная комедия». Вечерами он,
нарядившись в китайский халат, дирижировал оркестром
«шумов», шутил со зрителями. Немедленно после
«Женитьбы» он поставил потешную пародию на наш спектакль.
Представление закончилось диспутом.
Председательствовал художник Юрий Анненков, надевший для этого
случая помятый цилиндр, снятый с одного из клоунов.
Среди выступавших мне запомнились два брата: выйдя на
сцену, они приветствовали эксцентризм и объявили, что
58
Глубокий экран
вскоре сами ударят по академизму обрядовым действом
«Прения живота со смертью».
Идея, даже по тем временам, достаточно странная.
Может быть, меня подвела память, померещилось то, чего
вовсе и не было?
— Было. Именно так,— недавно подтвердил мне
заведующий кафедрой истории средних веков Ленинградского
университета профессор М. А. Гуковский. Другой голос
принадлежал его брату — в дальнейшем известному
литературоведу Григорию Гуковскому.
Детская самодеятельность имела тогда причудливый
характер и своеобразных участников.
Один из руководителей театральных учреждений
Петрограда (название не запомнилось), Д. X. Пашковский,
посмотрев спектакль, немедленно вызвал нас к себе.
Посмеиваясь и покачивая головой, он долго расспрашивал
нас о дальнейших планах и не только не накричал на нас
или затопал ногами (что было бы, вероятно, справедливо),
но сказал, что поможет нам и даже постарается
предоставить помещение для мастерской.
Донат Христофорович Пашковский был актером
Александрийского театра, учеником В. Н. Давыдова. После
Октябрьской революции он возглавил новую,
демократическую организацию, возникшую в бывшем императорском
театре,— Временный комитет. Он был одним из первых
актеров, заявивших о признании революционной власти.
Пожилой человек, чуждый по своим взглядам и
воспитанию всякому сумасбродству, смог увидеть в невнятице
наших устремлений что-то, показавшееся ему стоящим
внимания. И он поддержал нас так же, как поступил в
Киеве Марджанов. Эти люди умели отличить дичь слов и
безрассудство возраста от ростков чего-то своего, чему нужно
было, по мнению этих людей, дать время созреть и что не
следовало, как им казалось, немедленно растоптать
сапогами. Эти люди понимали: пришел новый день, каким он
будет в искусстве, определить еще трудно, главное не
упустить то, что способно расти, развиваться.
Уважение к старости — отличное качество, но и интерес
к молодости не хуже. Первые шаги часто делаются
несуразно. Однако печально, если они делаются с оглядкой,
Глава первая
59
осторожно, по-стариковски. Когда в молодом искусстве
сперва семь раз отмеривают, то обычно отрезают уже
протухший продукт, его и отрезать нет смысла.
Разобраться в стремлениях художественной молодежи
тех лет было непросто. Ощущение новизны происходящего
в жизни казалось этой молодежи невозможным совместить
со старыми формами искусства. Был период бурных
исканий, удивительной честности и поразительного сумбура. 41
Нередко речь шла не об идеях, но пока еще только об
ощущениях, достаточно смутных. Однако именно в этом —
в характере ощущений — заключалось многое.
В прошлом столетии Стендаль определил крутость
исторической перемены словами: «цвет времени
переменился». 42 Чувство резкой смены ритма и колорита
являлось в первые революционные годы для художников
определяющим. Но в какую сторону кренилось изменение?..
К чему шла жизнь?.. Внешность явлений удручающе
потускнела, движение замедлилось, а во многих областях
и попросту остановилось. Изображение быта, копирование
повседневности казалось молодым художникам не только
бесцельным делом, но и оскорбительным для революции.
Разве в трудностях обихода сегодняшнего дня смысл
исторического переворота? Завтра же, верила молодежь,
засияют электрические солнца коммуны. Хотелось не
изображать реальное, а выразить предчувствуемое.
Стремительность движения к будущему, яркость жизненных
красок, причудливость контрастов старого и нового — вот что
просилось на холст и на сцену.
Стоит увидеть работы, часто путаные и неумелые,
в пейзаже времени, и рядом с ними увидеть другие
изображения этого же времени, как и ритм и цвет не покажутся
лишь формальными категориями.
«Посиневшие от холода прохожие — молчаливые
призраки, обутые в галоши,— казались под щиплющим снегом
такими же оштукатуренными, как стены мокрых домов,
с которых в вышину человеческого роста облезла
краска»,— описывал Петроград тех лет Поль Моран. 43
Образы бесцветной и беззвучной гибели возникали
в «Пещере» Е. Замятина: Северную Пальмиру засыпало
снегом, все обледенело, утопало в сугробах; среди льдов
и мглы вымирали последние люди; те, кто (тысячелетие
60
Глубокий экран
назад?) назывались «интеллигентами», любили
литературу и музыку, они стали теперь дикими зверями,
перегрызали друг другу глотки за полено дров; в первобытной,
пещерной тоске кончался мир.
Потом в эмигрантской литературе, описывая эти годы,
не раз помянут древние и страшные пророчества. «Ужо
тебе... Мы узнаем облезлые дома и выбитые стекла
поруганной столицы...— написал В. Вейдле,— петербургский
апокалипсис исполнился».
Как раз в это время среди сугробов, в облезлых домах
с выбитыми стеклами открывались выставки, где горели
яркие краски на холстах, сочиняли архитектурные утопии
из стекла и стали, мечтали о карнавалах. А в мастерских
были холод и голод.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся,—
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.
(Маяковский) 44
Существо процессов, происходивших тогда с
молодежью и давших свои результаты не сразу, заключалось
в том, что именно тогда молодые художники начали
любить землю, с которой они вместе мерзли.
Глава вторая
«Паризиана» и «Севзапкино»
Нас с Юткевичем впервые пригласили участвовать
в выставке. В залэх особняка на Исаакиевской площади
висели полотна Петрова-Водкина, Штернберга, Малевича^
Лебедева, Альтмана, Татлина, Филонова, Тырсы. Развесив
на отведенных нам стендах свои театральные эскизы, мы
поместили над ними лозунги, призывавшие обратиться
к «уличным жанрам»: плакату, рекламе, цирку.
Один из серьезных критиков возмутился, прочитав все
это, и сказал на прощание: «Этак вы докатитесь до того,
что и кинематограф — искусство!»
Мы находились в смятении. На этой же выставке была
помещена картина, называвшаяся согласно каталогу
«Опус № 6». Тут уже было не до шуток. Висела доска,
ровно покрашенная в мутно-розовый цвет. Перед ней стоял
автор. Молодая девица допытывалась:
— Что же вы чувствовали, когда создавали этот опус?
— Чувствовал, что нужно покрасить плоскость,—
отвечал живописец,— и красил.
К этому у меня душа не лежала.
Наша труппа к тому времени распалась. Серж уехал
с цирком. Каплер возвратился на Украину. Юткевич
поступил декоратором в московский театр Фореггера.
Единственный взрослый — Крыжицкий — ушел еще раньше,
напоследок обругав нас в рецензии.
Мы с Траубергом докатились до кинематографа.
В пьесе, которую мы сочиняли, оказалось около семидесяти
сцен. Нам стало очевидно, что все наши стремления
связаны с кино. Мы не знали, куда нам следует пойти, кто может
дать совет. Осведомленный кинематографический помреж,
которого мы где-то встретили, покачал головой и сказал:
«Безнадежно». Все же мы написали сценарий. На
киностудии удалось достигнуть только приемной; оценив
малосолидную внешность авторов, пропуска нам не дали.
62
Глубокий экран
— Куда же нам пойти? — спросили мы.
— Пойдите на проспект Двадцать пятого октября,—
последовал совет.— Знаете, где «Паризиана»? 4о Над ней
«Севзапкино». Там читают сценарии.
Адрес теперь кажется мне символическим. Тогда даже
слова причудливо перемешивались.
Французско-нижегородская кличка «Паризиана» по-рыночному зазывала, по-
бульварному завлекала; мужчина во фраке, неестественно
высоко поднявший брови, и дама, заломившая руки на
фоне чего-то роскошного, как бы вырастали из этого
названия. Само слово «Севзапкино» врывалось во всю эту
коммерцию, как въезжали жильцы подвалов в барские
особняки.
Мимо плакатов «Авантюристки Бианки», «Сатаны
ликующего» и фотографии Гарри Пиля с бакенбардами мы
поднялись по лестнице на четвертый этаж.
В скудно обставленной комнате секретарь — молодой
человек с длинными волосами, одетый в кожаную куртку,—
раскладывал на столе художественные открытки. Здесь
были греческие статуи, портреты Репина и фотографии
старинных карет из Конюшенного музея. Молодой человек
принял нас приветливо; через минуту мы перешли на ты,
спустя полчаса началась дружба.
Секретарь оказался еще и студентом Института
экранного искусства, а открытки готовились для красного
уголка. Это было не просто «культурное мероприятие», как
теперь говорят, но боевое дело, подготовка к наступлению.
Молодой человек пришел учиться после работы в ЧК (по
борьбе с контрабандой). Первое, что он услышал в
институте, было обращение «господа». Возмущенный студент
побежал в Смольный. Еще два комсомольца были
отправлены на кинофронт. Вместе с ними студент организовал
комобъединение, в нем три человека. Красный уголок —
только начало.
И действительно, это было только начало. Фридрих
Эрмлер (имя и фамилия секретаря) немало сделал, чтобы
в кинематографии привилось слово «товарищ».
А пока он надеялся на свой актерский успех; ему была
обещана роль в короткометражке «Чай». Роль эта, по
словам Эрмлера, совершенно для него, как для артиста,
подходила, нужны были и длинные волосы и кожанка.
Глава вторая
63
У него уже была некоторая практика: живя в Режице, во
время, свободное от работы мальчика на побегушках
в аптеке, он заходил в фотографию, надевал визитку,
взятую напрокат, вставлял бумажную хризантему в
петлицу и снимался в виде героя фильма, увиденного накануне.
Были фотографии «Под Максимова», «Как бы Рунич»,
«С улыбкой Гаррисона».
Режиссеры «Ленфильма» уже собрались в городе, где
им предстоит поставить «Чапаева», «Великого
гражданина», «Депутата Балтики»; они еще ничего не знали о своем
призвании, о будущих друзьях.
В массовках «Дворца и крепости», заклеенный усами
и бородой, бегает и размахивает руками Сергей Васильев.
Свою первую картину он поставит через пять лет.
Пытается писать заметки в журнале «Рабочий и театр»
И. Хейфиц. Он не только не думает о кинорежиссуре, но
даже не знает, что в этом году заканчивает Тенишевское
училище школьник, увлекающийся самодеятельностью, его
будущий сорежиссер — Шура Зархи.
По улицам бродит приехавший из Свердловска юноша;
он останавливается подле афишных столбов, читает
объявления о приеме в студии; его влечет искусство, но он не
знает, куда поступить учиться. Скоро Сергей Герасимов
увидит афишу ФЭКСа и придет к нам.
В это же время в Москве снимается в «Необычайных
приключениях мистера Веста» актер, или, как тогда
говорили, натурщик Всеволод Пудовкин; в Пролеткульте
репетирует «Противогазы» Эйзенштейн; в Харькове появляется
новый газетный карикатурист Довженко.
Передо мной репертуар петроградских кино этих
месяцев. На экранах ни одной советской картины. Может быть,
это обстоятельство и оказалось решающим.
Эрмлер с растрепанными волосами и победным
выражением лица рассказал нам подробности обсуждения
нашего сценария.
Как же это случилось? Один из севзапкиновских
режиссеров сказал: «Чепуха»; другой возмутился: «Какой
это эксцентризм... Я приехал из Америки — вот там
эксцентризм». Но третий, режиссер Б. П. Чайковский,
неожиданно признался, что комедия ему пришлась по душе.
Тогда и председатель совета (называвшегося научно-худо-
64
Глубокий экран
жественным) стал на нашу сторону: нужны новые
сценарии, новые жанры, новые силы.
Картину решили ставить. Художественным
руководителем постановки назначили Чайковского. Мы должны были
стать его ассистентами. Так я начал трудиться на
киностудии. Мне выдали служебный пропуск; в паспорте
поставлен штамп: принят на работу в 1924 году.
Киностудия помещалась в маленьком особняке на
Сергиевской 4Ь улице. Каким чудом здесь все
сохранилось: мягкие диваны и пуфики, крытые шелком, атласные
портьеры на окнах, столы красного дерева и
карельской березы, мраморные камины? Кто отражался в этих
зеркалах, оправленных в рамы рококо?.. Балерина —
любовница великого князя?.. Или, может быть, один из
тех, кто убивал Распутина?..
В комнатах тишина, изредка неторопливо проходят
хорошо одетые солидные люди. Внизу, в бывшей
оранжерее, находится единственное маленькое ателье. Стены
застеклены; из осветительных приборов, прикрытых
железными корытами, падают осколки горящих углей и
обжигают актеров. На студии служат три режиссера и два
оператора: специалисты по-своему опытные, много
работавшие до революции. Техника — два старых аппарата
Пате. Все устарелое, изношенное.
Когда приходят люди, интересующиеся
кинематографией, их ведут прежде всего в костюмерную. Директор
студии! возглавляющий экскурсию, никогда не забывает
показать неестественно большие замшевые бриджи. Это не
просто нижняя часть одежды, но исторические штаны:
Александр III совершал в них верховые прогулки.
Костюмы (дворцовое имущество) содержатся в образцовом
порядке. Нескончаемыми рядами висят николаевские
шинели с седыми бобрами, гвардейские мундиры, ментики,
доломаны, сверкают эполеты и золотое шитье, треуголки
расцветают плюмажами, из лакированных киверов торчат
султаны, двуглавые орлы вцепились в каски
кавалергардов; чередуются желтые, красные, зеленые околыши; в
витринах поблескивают на бархате звезды, ордена, медали,
кокарды.
Здесь, среди тишины и запаха нафталина, хранилась
самая суть снимавшихся лент.
Глава вторая
65
Дело было освоено, шло как по писаному. Опытный
костюмер обряжал актеров в мундиры; гример припас
бороды и усы для всего дома Романовых; в ателье
воздвигали дворцовый зал (точная копия) ; оператор освещал все
это богатство «лобовым» светом угольных ламп.
Человек с усами и бородой, похожими на царские,
приказывал (потом вклеивалась длинная и красноречивая
надпись) сгноить революционеров в тюрьме; щелкая
каблуками, вытягивались адъютанты, и паноптикум великих
и малых князей, министров, царедворцев, всех «похожих»,
всех «как живых» проходил мимо кинокамеры под
поощрительные возгласы режиссера: «Больше жизни!..»
Потом снимали, как по красивым улицам, излюбленным
для почтовых открыток, скакали, помахивая нагайками,
казаки; мимо других видов с открыток бежала толпа,
похожая на оперных статистов.
На киностудии ломали дворцовый зал и сколачивали
тюрьму. Герой-любовник, с глазами, подведенными
темным, принимал героические позы в каземате, и плакала
глицериновыми слезами королева экрана — жертва
царизма.
Снимали только с трех точек: вначале всю сцену
целиком, потом кинокамеру придвигали ближе, крутили
средние, изредка крупные планы. Если события
происходили ночью, пленку красили синим цветом, солнечные
сцены — желтым, лесные — зеленым.
Сама атмосфера «Севзапкино» казалась странной для
искусства тех лет. Что-то слишком спокойное и чересчур
деловое господствовало в настроении людей.
Кинематографисты жили неторопливо, любили отвлеченно поучать
и предаваться воспоминаниям. Они владели какими-то
неведомыми секретами экрана, но упоминали о них
уклончиво. Иногда они возвышенно говорили о «реализме»,
«служении правде», однако рассказы о сценарии,
написанном на манжете во время ужина в «Яре», или о ленте,
снятой за ночь в чужих декорациях (подкуплен сторож
ателье), получались у них живее.
Здесь не было ничего похожего на знакомые мне
репетиции Марджанова или работу молодых живописцев, не
понимавших, как для художника может иметь значение
что-то кроме труда.
66
Глубокий экран
Здесь всё знали, во всем были уверены. Никто ни в чем
не сомневался. Служили опытные люди, и ничто, кроме
организационных неполадок, их не волновало. Было
известно, какие фильмы приносят доход, какие — убыток; что
получается хорошо на экране, что не следует снимать.
Опыт, позволявший этим людям так уверенно судить
обо всем, был опытом дореволюционной кинематографии;
хотя изменилась организация, старые вкусы и навыки
остались. Дореволюционная кинематография ставила
фильмы на историко-революционные сюжеты.
В области эстетической «Севзапкино» еще не
существовало — была сплошная «Паризиана». Решающую роль все
еще играла касса.
История археологии знает немало открытий. Ученые
откапывали улицы древних городов, открывали предметы
неведомого нам быта. Перед глазами современных людей
возникали очертания цивилизаций, не напоминающих
нашу; на площади раскопок все казалось удивительным: века
отделяли нашу жизнь от этой, скрытой землей, временем.
Перед началом второй мировой войны кому-то из
владельцев парижских кинотеатров пришло в голову
развлечь публику особым способом: перед сеансом показывать
старый фильм. Затея увенчалась успехом. Зал хохотал
и наслаждался. Как бы из-под земли, будто из тьмы веков,
появилось на свет небывалое по своей архаичности
зрелище, нелепое до абсурда, ничуть, ни малейшей деталью не
напоминающее современную кинематографию.
Все в этих лентах было несуразным. Курьезы
допотопной техники чем-то напоминали модели первых
автомобилей: странные повозки, противоестественно лишенные
лошадиной упряжки. Зрители потешались над галиматьей
на экране так же, как они веселились бы, встретив на
современной улице кургузую карету, грохочущую
малосильным двигателем и трубящую такты матчиша в медный
гудок, привешенный снаружи.
Дергающийся ритм, аффектированные жесты,
преувеличенные страсти — все давно утратило смысл, стало
карикатурным. Просмотры старых картин являлись как бы
экскурсиями в позабытые времена с их нелепыми модами
и наивными развлечениями.
Глава вторая
67
Однако на таких сеансах присутствовали люди, в своей
юности воспринимавшие эти ленты по-иному. И что самое
удивительное, годы, когда эти сюжеты и эта игра
пользовались успехом, миновали не так уж давно. Публика
кинотеатров — еще на нашей памяти — плакала на подобных
драмах и смеялась (и как смеялась!) на схожих
комических. Но проходил год — фильм устаревал на десять;
десятилетие иногда равнялось веку.
Думая над развитием киноискусства, не следует
забывать, что голова принцессы Нефертити, созданная в XIV
веке до нашей эры, кажется и теперь современным
произведением, а фильмы 1914 года, даже лучшие,— лишьархаика.
Время не властно над искусством. Портреты
Рембрандта не нужно извинять датой рождения живописца: они
жизненны в современном понимании этого слова. Многие
строчки Пушкина кажутся сочиненными сегодня:
душевное состояние, наполняющее их, близко большинству
людей. Меняются формы общественной жизни, но
человеческая сущность «Троицы» Андрея Рублева или симфоний
Бетховена продолжает волновать новые поколения.
Кинематография — молодое искусство, однако и в ее
истории уже немало произведений, над которыми не
властно время. Они возникли не на пустом месте.
Разграничивающую линию между ростом кинопромышленности
и появлением элементов художественного выражения
провести трудно. Среди хаоса тогдашнего торгашеского
бескультурья довольно скоро стали проглядывать черты,
еще крохотные, какой-то особой выразительности, не
схожей ни с фотографической, ни с театральной. Появился
крупный план, склейка двух сцен, происходящих
одновременно, монтаж. Сама съемка иногда становилась не только
способом показа, но и методом рассказа.
Среди дельцов и техников появлялись художники.
Обычно им помогали техники и мешали дельцы. Иногда
художники сами становились дельцами; они или
разорялись, или переставали быть художниками.
Кинофирмы с лихими названиями и неведомыми
именами владельцев росли, как грибы. Окончились времена
шустрых искателей фортуны, арендовавших сараи для
показа «Чуда двадцатого века». Началась борьба
монополий, сражения за рынки. Товар не только приносил доходы,
68
Глубокий экран
но и распространял идеи. Загрохотали барабаны
национализма в исторических боевиках; началось прославление
сыщика, охраняющего сейф.
Еще перед первой мировой войной шли споры. Одни
считали «киношку» порождением машинного дикарства;
другие верили в будущее «кинема»; поэты находили
своеобразное очарование в мелькании теней на полотне.
Однако отношение, даже у сторонников, было какое-то особое.
Никто не рисковал сравнивать киноленту со спектаклем
Художественного театра или повестью Чехова.
Сопоставление показалось бы кощунственным. Можно было верить
в будущность «электробиографа», но причислить его в
настоящем виде к культуре, искусству казалось
невозможным. 47
У колыбели других искусств стоял народ. Сказкой
воспитывали детей; песней облегчали труд; стихи исцеляли
от болезни, привораживали любовь. Искусство было
памятью народа и его совестью.
«Киношку» вынянчили в грязных конторах дельцов,
учили ходить по заплеванным площадям ярмарок.
Коммерция господствовала здесь во всем. То, что только отчасти
мешало развитию литературы, живописи, театра, в
кинематографии являлось решающим: фильмы ставились
«кассой». «Великий немой» был и слепым: касса заслоняла мир.
Искусству предстояло вступить в бой с коммерцией. Чтобы
увидеть жизнь, нужно было взорвать кассу.
Касса была взорвана.
Первые шаги советской кинематографии относились
лишь к организации кинодела. Положение не казалось
простым. «Владимир Ильич сказал мне, что производство
новых фильм, проникнутых коммунистическими идеями,
отражающих советскую действительность, надо начинать
с хроники,— записал А. В. Луначарский,— что, по его
мнению, время производства таких фильм, может быть,
еще не пришло». 48
Молодые художники, мечтавшие в это время об экране,
были несхожими по мере таланта, знаниям, жизненному
опыту. Однако была и общая черта, отличавшая
поколение. Эта молодежь не знала власти коммерции. «Касса»
никогда не существовала для них; эстетика коммерческого
Глава вторая
69
фильма была им всем не только чужда, но и враждебна.
В киноделе наследство было небольшим и вовсе не
драгоценным. Конечно, в дореволюционных ателье снимали
и талантливые люди; историки кинематографии вспомнят
их фильмы, однако даже тоненькой ниточки живой
преемственности не сохранилось.
«Не забудем, что в период ранних двадцатых годов мы
шли в советскую кинематографию не как в нечто уже
сложившееся и существующее...— писал С. Эйзенштейн.—
Мы приходили, как бедуины или золотоискатели. На голое
место. На место, таившее невообразимые возможности, из
которых и посейчас еще возделан и разработан
смехотворно малый участок». 49
«Режиссеры моего поколения, вступившие в
кинорежиссуру,— вспоминал даже о более позднем времени
А. Довженко,— были похожи на золотоискателей из
рассказов Джека Лондона, которые уходили с насиженных
мест, шли на Аляску и, терпя голод и холод, год или два
долбили пустую породу, пока не находили золотую
жилу». 50
Если бы я не перечитал этих статей, то
«золотоискатели» и особенно «долбление пустой породы» появились бы
и в моей рукописи. Мерещились фантастические богатства,
но место, где они таятся, было совершенно неведомо.
Однако казалось, что довольно удара кирки — и засияет золото
или забьет к самому солнцу нефтяной фонтан.
Наш первый сценарий «Похождения Октябрины»5|
представлял собой агитпредставление, разыгранное не на
сцене, а в декорациях размером с Исаакиевский собор или
Невский проспект. То, что я пробовал изобразить на
заднике «Женитьбы», теперь можно было снять со всем
размахом кинодинамики. Влияние Окон РОСТА сказывалось на
самом облике действующих лиц, вернее сказать — масок.
Акула капитализма пробралась в Петроград, чтобы
потребовать от рабочих и крестьян царские долги. Фигура
являлась собирательной и была окрещена Кулиджем Кер-
зоновичем Пуанкаре. На Кулидже Керзоновиче был
цилиндр и узкие белые брючки, через плечо висела
орденская лента с большой звездой (подлинные, из костюмерной
«Севзапкино»!). Играл акулу Сергей Мартинсон (это было
его первое выступление) без грима, но с большими накле-
70
Глубокий экран
енными бровями из черного бархата. Узнав о приезде
Пуанкаре, пускался во все нелегкие нэпман в модном
клетчатом костюме и шляпе канотье (Е. Кумейко).
Происки преступной пары разрушала комсомолка Октябрина
(танцовщица 3. Тарховская). Девушка в буденовке
наводила порядок и попутно боролась со старым бытом.
Октябрина разъезжала по улицам на мотоциклете, в который
были вмонтированы телефон, пишущая машинка и
пожарный шланг.
Маски первомайского карнавала, попав на экран,
приобретали новое качество. Балаган становился и феерией:
чудище в цилиндре превращалось в пять лиц зачинщиков
интервенции (многократная экспозиция), заполнявших
кадр. Исполнял это Мартинсон удивительно потешно и
добился пародийной схожести с известными фотографиями:
пять карикатур вступали между собой в пантомимный
диалог. Злоумышленники назначали свидание на вышке
Исаакиевского собора. Нэпман, увидев сверху, что
пролетарский город процветает и надежды на реставрацию
капитализма тщетны, кончал жизнь самоубийством,
повесившись на собственных подтяжках. Что касается
Пуанкаре, то после провала своих коварных планов Кулидж
Керзонович обращался с горя в футбольный мяч, и
Октябрина, поддав его хорошим ударом, забивала гол в ворота
мирового капитала.
Я немало веселился, прочитав у одного из наших
киноведов, что «Похождения Октябрины» являлись
«декадентством».
Как все пришедшие в кино, мы начали с обожествления
объектива, камеры, ножниц.
Мы набросились на старого трехногого зверя с
большим стеклянным глазом и черными коробками,
укрепленными сверху. Боже мой, до чего же убогим был тогда
источник динамических чудес! Это была истасканная на
работе, устаревшая модель кинокамеры Пате. С глухим
астматическим шипением крутилась ручка, шипение вскоре
превращалось в хрип — что-то заедало. Открывали
боковую стенку ящика: выпадала пленка, скомканная
гармошкой. Почему-то это называлось «капуста». Ископаемое
казалось пределом совершенства. Можно втащить его три
Глава вторая
71
ноги на самое высокое место города и наклонить
стеклянный глаз вниз. Можно закопать в землю — и перешагнуть
через него. Ручка вращается медленнее и быстрее; можно
прокрутить пленку назад, и потом снять на ней еще одно,
два, пять, десять изображений.
Все это и было испробовано: причудливые точки съемок
и наиболее резкие ракурсы. Кроме того, в черно-белый
фильм вставлялись цветные (подкрашенные от руки)
кадры; действие перемежалось и мультипликацией, буквы
кувыркались и образовывали слова, лозунги, бытовавшие
в те дни. Во время монтажа ножницы, вероятно,
накалялись, даже четверть метра вызывали сомнения: а не
сократить ли еще немного?
Неудобство выбранных нами съемочных мест сыграло
значительную роль в нашей судьбе. Режиссер
Чайковский — руководитель постановки — выслушал наши
планы доброжелательно, но прийти на первую съемку
отказался, узнав, что она намечена на покатой крыше высокого
дома. Так как следующим объектом был шпиль
Адмиралтейства (из-под флюгера), то пришлось нам трудиться
самим, без руководителя.
В «Севзапкино» мы являлись пока еще единственной
молодой группой. Различие поколений — несхожесть их
стремлений и вкусов — было полным. Хочется добавить,
что это различие проявилось только тогда. В дальнейшем
конфликта «отцов и детей» не существовало в нашем кино.
«Отцы» обычно учили «детей» (и те и другие были в те
времена одинаково юными), опекали их первые
самостоятельные шаги, радовались их успехам. Иное наблюдалось
в ранние 20-е годы; речь шла о решительном столкновении.
«Свои» находились в Москве; от Юткевича приходили
раскрашенные акварелью письма-картинки; Эйзенштейн
почему-то писал на обороте старых программок бегов
и скачек. Понаслышке был известен Лев Кулешов. Он
склеил кадры иностранной хроники с московскими
снимками, и тогда на экране женщина, очень высокая и страшно
худая, мгновенно перешла с набережной Москвы-реки на
ступени Белого дома. Женщина эта никогда в Вашингтоне
не была, через океан ее перенесло сочетание кадров —
«монтаж». Женщина (А. С. Хохлова) называлась
«натурщица»; в мастерской Кулешова натурщиков учат по-
72
Глубокий экран
кинематографически располагать свои тела в пространстве
и времени. Поэт Николай Асеев написал для них сценарий:
ковбой бежит по Петровке и набрасывает на кого-то лассо.
Кулешов — пожилой (стукнулодвадцать шесть), работает
в кино вечность — чуть ли не целых пять лет... Таким
представлялся мне Лев Владимирович в те времена.
Выпуски «Киноправды» еще не дошли до нашего
города, но я читал в «Лефе» манифест «киноков», где именем
какого-то «совета троих» уничтожалась — ввиду
ненужности пролетариату — художественная кинематография.
Однако дело было не в словах. Манифесты эти кажутся
теперь нелепыми, а место Вертова в истории
кинематографии — почетным, значительным. Дзига Вертов еще в
детстве увлекался всем документальным. Юношей он создал
дома «лабораторию звука». В 1917 году он пришел в
Кинокомитет с предложением создать «искусство самой жизни».
Он был режиссером первых выпусков революционной
хроники. Недавно я прочитал его автобиографию: он
руководил киноповозками, киноавтомобилями, киновагонами;
под экраном, где показывались ленты Вертова, были
колеса; его монтажный столик путешествовал по фронтам.
Кадры не склеиваются, объяснял Вертов, а монтируются;
публицистическая мысль может создать сюжет,
перестроить по-особому реальное время и пространство.
Над его опытами задумывался Эйзенштейн; появилась
«Стачка», потом «Броненосец «Потемкин» — конечный
результат многих экспериментов. Все это осуществится в
будущем. Пока что еще не появились даже замыслы этих
работ. В кино шли иные программы.
Я не пропускал ни одной·. Сеанс обычно начинался
с вступительного слова. Озябший и охрипший лектор в
пальто и шляпе взбирался на грязную эстраду перед
экраном и просвещал зрителей. Доклады связывались с
сюжетом фильма. Если по ходу действия преступник усыплял
героиню, то лектор заранее предупреждал: мистики здесь
нет, гипноз — научное явление,— и рассказывал про
профессора Бехтерева. Потом гас свет, грохотало разбитое
пианино.
Разве имело значение, что экран заштопан и грязен,
а ленты исцарапаны и действие возникает в сетке «дождя»?
Об этом сразу же забывалось: бежали тревожные толпы,
Глава вторая
73
чередовались столетия, горел Вавилон, в зловещую
Варфоломеевскую ночь католики метили дома гугенотов,
невинно осужденного американца возводили на эшафот.
Секунда, и проносились эпохи — механик крутил
«Нетерпимость». У Дэвида Уорка Гриффита учились мы все. Он
показал нам силу ритма на экране, размах пространства,
меру кинематографической выразительности.
Мы сидели в замусоренном «Павильон де Пари» и
грозящем обрушиться «Сплендид Паласе», поминутно рвалась
лента, и зал, топая ногами, вопил: «Сапожник в будке...
Мишка, крути!..» А для нас это была академия: шли
«Сиротки бури», «Улица грез», «Далеко на востоке». Особенно
любил я «Сломанные побеги». Лилиан Гиш — артистка,
игравшая главную роль в гриффитовских лентах, казалась
воплощением экранной поэзии. Хрупкая прелесть
заключалась во всем ее облике, старые мелодрамы одухотворялись
человечностью.
Когда много лет спустя я попал в США и меня
спросили, с кем из артистов я хотел бы познакомиться, я назвал
первым, к удивлению собеседника, имя героини моей
молодости.
Директор киноотдела Музея современного
искусства любезно обещал устроить встречу. И вот на открытой
террасе музея (во дворе — скульптуры Родена и Майоля)
сидит на садовой скамейке пожилая дама. Она меня
никогда не видела; я встречался с ней сорок лет назад в
старом «электробиографе». Давно разрушен этот дом, и на его
месте выстроено современное кино, но образ, возникший
в неверном мигании проекции, не ушел из памяти. Легко
узнать обаяние хрупкости, беззащитной доброты... И я
рассказываю ей, как мальчишками мы бегали на ее фильмы.
На глазах Лилиан Гиш выступают слезы. Она вспоминает
годы работы с Гриффитом, нищие трудовые годы. Она
дотрагивается кончиками пальцев до уголков губ, как бы
растягивая их в механическую улыбку. Это злодей-отец
требует, чтобы она веселилась, и она плачет, холодеет от
ужаса и улыбается... «Помните «Сломанные побеги»?..
Недавно я была в Голливуде,— продолжает госпожа
Гиш,— меня спросили: «Где вы хотите остановиться?» —
«Обязательно в «Беверли Хиллс».— «Почему же именно
в «Беверли Хиллс»? — «Нас, артистов, туда не пускали;
74
Глубокий экран
боялись, что закажем обед, наедимся вдоволь и удерем, не
заплатив».53
Режиссера комических Мака Сеннетта мне, к
сожалению, повидать не удалось. «Папаша гусь» (так назвали его
в старой монографии вместо героини сказок «Матушки
гусыни») лежал в больнице: память к нему уже не
возвращалась. Я немало обязан его маленьким лентам, где Фатти
выпивал целое озеро, мчалась орава усатых страшилищ
полицейских, пирожные с кремом залепляли физиономии
комиков.
Кино еще не стало конвейерным. Народные традиции,
многое, связанное с рождественскими пантомимами в
цирках, феериями маленьких театров, простодушием сказки,
перешло на экран. Чаплин, Бестер Киттон — как много
значили для меня их старые работы.
Молодое искусство как бы показывало свои физические
силы, энергию. Барышня в маленькой шапочке и белых
гетрах кормила крошками голубок и даже целовала их
в клюв, но появлялся преступник со зверским лицом, и
Пирл Уайт мчалась за ним (или от него) на автомобилях,
самолетах, напоминавших бамбуковые этажерки,
опускалась на дно океана в подводной лодке. Что-то горело,
взрывалось, неслось с головокружительной быстротой.
Увлечение серийными картинами было повсеместным.
Молодой Луи Арагон слагал восторженные гимны Мюзи-
доре — героине «Вампиров»; Илья Эренбург и Фернан Ле-
же усердно ходили на «Маску, которая смеется»;
Эйзенштейн, вспоминая эти фильмы, называл их «блеском
динамического праздника».
Нередко со многими из этих фильмов случалось нечто
загадочное: ход действия нарушался, сцена обрывалась,
и неожиданно, как бы ни с чего, появлялись надписи,
странно сочетавшиеся с кадрами. Например, скакали
ковбои, а текст сообщал об эксплуатации туземцев; пока
сыщик обследовал взломанную кассу, надпись
информировала, что богатства капиталистов нажиты на мировой
бойне.
Рассказывали, что это дело рук специалиста: взмах
ножниц — и действие приобретает обратный
(первоначальный) смысл. Женщина с ножницами,
перемонтировавшая в 1923—1925 годах более двухсот иностранных
Глава вторая
75
фильмов и, вероятно, не так уж ловко избавившая их от
идейных пороков, немалому научилась на этой работе.
Научившись, она занялась иным, куда более важным
делом — странствовала по сырым подвалам, заброшенным
складам. Здесь, среди залежей пленки, плохо
сохранившейся, гибнущей от разложения эмульсии, она разыскала
драгоценные документы. Эсфирь Ильинична Шуб нашла
кадры Ленина; множество исторических хроник
сохранилось благодаря ее труду, ожило на экране ее искусством.
Монтаж и надписи приобрели в этих работах * истинное
значение. В маленькую монтажную заходил Эйзенштейн;
тогда он ставил в театре Пролеткульта цирковой
спектакль. Эсфирь Ильинична показала молодому
режиссеру приемы монтажа; Эйзенштейн с ними знакомился
впервые.
Не хочется, чтобы все это позабылось.
Пушкин возмущался пренебрежительным отзывом
Бестужева о Жуковском: «Зачем кусать нам груди
кормилицы нашей? — писал он.— Потому что зубки
прорезались?» 54
После «Броненосца «Потемкина» и «Чапаева» легко
объяснить, чего не хватало фильмам Кулешова. Однако
мне трудно забыть шагающий паноптикум в исторических
мундирах или голых одалисок, плескавшихся в грязном
бассейне,— съемки «Минарета смерти», убогой
порнографии, ленты для «киношки». Казалось, выйдешь из ателье,
на углу — городовой, в киоске — «Биржевые ведомости»
и «Синий журнал», на тумбе афиши «Аквариума» и фарса
Сабурова.
Вместе с работами Кулешова, Вертова, Шуб в
советскую кинематографию вошел новый день. Его
подготовили хроникальные съемки гражданской войны, пример
агитационного искусства.
Мне двадцать лет. Комическая в трех частях
«Похождения Октябрины» уже прошла в кинотеатрах, и даже
состоялось ее обсуждение в «Унионе» по приглашениям
«научно-художественного совета».
* «Падение династии Романовых» (1927), «Великий путь» (1927),
«Россия Николая Второго и Лев Толстой» (1928).
76
Глубокий экран
«Эта маленькая, неизвестно где и как заснятая фильма
не принадлежит к высоким киножанрам,— написал потом
Юрий Тынянов,— самые скромные кадры, которые я
запомнил, это, кажется, люди, разъезжающие на
велосипедах по крышам. «Похождения» — необузданное собрание
всех трюков, до которых дорвались изголодавшиеся по
кино режиссеры. И все-таки «фэксы» вправе любить свои
«Похождения». Они учились не на монументальных
«эпопеях», а на элементарной «комической», где еще есть следы
кино как изобретения, элементы кино, позволяющие без
излишней робости и уважения наблюдать, пробовать,
руками брать то, к чему более почтительные, но менее
понятливые относятся как к табу: самую сущность кино как
искусства». 56
Мне кажется, что Тынянов был слишком добр к нам.
Мы действительно пробовали «руками брать» то, что
считали сущностью киноискусства, а что было на самом деле
лишь его начальными шагами. Думаю, что смысл этой
неумелой работы заключался не только в поисках
элементов кино, но и в том, что в проходную кинематографа
мы вошли, соскочив с кузова агитгрузовика.
«Мишки против Юденича» — нашу следующую
маленькую комическую — отличали те же черты. Но было
обстоятельство, имевшее особое значение для нас: в
фантастических приключениях беспризорника и дрессированного
медведя, попавших в штаб белых, снимались уже и ученики
ФЭКСа. В полосатой футболке, с котелком на голове
впервые появился на экране Сергей Герасимов.
Вскоре появилась еще одна молодая группа — КЭМ
(киноэкспериментальная мастерская). Один из ее
организаторов, Эрмлер, ходил по улицам, поглядывая с
охотничьим блеском в глазах на вывески учреждений. Кому нужен
фильм? Кто даст средства на пленку, съемки?
Ленинградский горздравотдел помог Эрмлеру стать режиссером:
постановку «Скарлатины» доверили КЭМу. В этом сан-
просветфильме, объяснили заказчики, нужно показать —
в общедоступной форме — источники инфекции, симптомы
заболевания, необходимость изоляции бациллоносителей.
В санпропаганду входило и обращение: «Не верьте
знахарям. Чудес не бывает. Обращайтесь в районную больницу».
Именно это положение показалось Эрмлеру и его товари-
Глава вторая
77
щам особенно выигрышным. И они занялись, как следует
быть, разоблачением чудес. Постепенно задача стала
единственной; симптомы и карантин снять не успели —
отпущенная пленка кончилась. Зато на экране оживали враки
баб: ехала похоронная колесница, вдруг крышка гроба
отскакивала, и покойник крутил сальто-мортале, а поп,
задрав рясу и размахивая крестом, козлиными прыжками
скакал по мостовой.
Фильм был, естественно, запрещен. Бесспорно,
руководители сандела были правы: их интересовала
профилактика, Эрмлера — кинематография. Он не мог поставить
«Скарлатину», потому что еще не переболел корью.
В киноотрывке из спектакля Эйзенштейна «На всякого
мудреца довольно простоты», где Григорий Александров
крался по крыше во фраке и цилиндре с полумаской на
лице, в «Шахматной горячке» Пудовкина, в «Сумке
дипкурьера» Довженко и даже в «Спящей красавице»
Васильевых, снятой гораздо позже, нетрудно увидеть общие
черты. Все мы прошли одну школу.
Однако уже сделала свои первые шаги и наша
собственная школа. Экзотическая труппа, услышавшая
призыв на четырех языках, расклеенный на пустых и
замерзших улицах, осталась в театральном прошлом.
Объявление о приеме в учебную мастерскую выглядело
прозаичнее: текст ограничивался русским языком, на
афише не было ни типографских пальцев, ни виньетки с
паровозом. В квартиру на Гагаринской улице 57 (в
дореволюционное время ею владел купец Елисеев) пришли уже не
«живая этуаль» и куплетист «рваного жанра», а молодежь
нашего возраста или немного постарше. Молодые люди смело
постучались в дверь — вывеска «ФЭКС», склеенная по
буквам из разных плакатов, показалась им заманчивой.
Только одна ученица была младше меня. Правда, ее
трудовой стаж исчислялся двенадцатью годами. Девочка
принесла с собой плакат-фотографию: «5 Жеймо 5»; пятая,
трехлетняя Жеймо — с турецким барабаном на животе,
была она. Яня выступала наездницей, музыкальным
эксцентриком, танцевала на арене. Теперь она решила стать
киноартисткой. Юноша из далекой уральской деревни
сделался контролером Пермской железной дороги только
78
Глубокий экран
для того, чтобы получить бесплатный билет до
Ленинграда: Сергей Герасимов не только поступил к нам, но и
привел своего друга Петра Соболевского. Появился и третий
сибиряк — Олег Жаков. Пришел Андрей Костричкин,
сразу же поразивший всех комедийным дарованием. Потом —
шестнадцатилетняя Елена Кузьмина.
Своими, близкими людьми педагоги стали быстро:
испанские клоуны Арманд и Цереп, француз боксер Луста-
ло. Особенно мы подружились с преподавателем танцев.
Говоря о людях, близких Маяковскому, поэт Николай
Асеев назвал прежде всего этого человека:
А лучше всех его помнит
Арнольд —
бывший эстрадный танцор.
Он вежлив, смугл, высок,
худощав,
в глазах — и грусть и задор.
Закинь ему за спину
край плаща —
совсем бы тореадор.59
В «Похождениях Октябрины» художником был еще
я сам. Клеил бархатные брови Мартинсону; усадил Кумей-
ко в мягкое кресло, а вокруг нагромоздил целый
комиссионный магазин: большое зеркало в раме, на тумбе
граммофон с трубой, на столике царские указы в бронзовых рамах
с двуглавыми орлами. Нэпман в клетчатом костюме сидел
и полировал замшевой подушечкой ногти. Но этому роду
моей деятельности приходил конец. В нашей группе
появился художник. Об Евгении Евгеньевиче Енее хочется
рассказать подробнее, мне посчастливилось трудиться с
ним вместе всю жизнь.
Еней, венгр по национальности, оказался после первой
мировой войны военнопленным в Сибири. С 1919 года он
стал коммунистом, был в партизанах; со своим другом
Мате Залкой сопровождал поезд с золотым запасом
Республики. Наступила демобилизация. Еней вспомнил, что
когда-то он был архитектором, и получил направление на
«Севзапкино». Работать по старинке ему было
неинтересно. В нашу группу пришел человек с жизненным опытом,
прекрасный художник.
Глава вторая
79
От эффектного названия «Депо эксцентриков» мы
отказались, но лозунг «Лучше быть молодым щенком, чем
старой райской птицей!* все еще висел под карнизом.
Я нарисовал модель прозодежды — формы мастерской; ее
носили все, начиная с руководителей. Рабочий костюм —
брюки с нагрудником — был осложнен карманом на
нагруднике, пришитом, согласно эскизу, косо; пользоваться
им было нельзя, все из него выпадало. Что делать,
презрение к симметрической композиции еще не прошло.
В пустом зале висела на блоке лонжа — веревка с
брезентовым поясом — для акробатики, на полу был постелен
старый красный ковер. Со стен смотрели на нас злодеи
в полумасках, сыщики с револьверами, комики
подмигивали и строили рожи. Добывание плакатов входило в
общественные обязанности. «Мы добывали их сложными и не
всегда безупречными путями»,— вспоминал потом Сергей
Герасимов.
Занятия начинались по расписанию, с точностью до
секунды. Раздавался свисток, и уже стоял недвижимый
физкультурный строй. Дисциплина была строжайшей. Мы
сами убирали помещение, выбивали ковер. Мастерская не
знала опозданий, пропусков, нарушения распорядка.
Это была Фабрика Эксцентрического Актера.
В ней так же ничего не понять, как и в наших
спектаклях, если позабыть про пейзаж времени. Он изменился до
неузнаваемости. Ни замерзших пустынь города, ни
мечтаний о башне Татлина больше не было и в помине.
Швейцары в ливреях с позументами сторожили входы в рестораны,
а на углу Малой Садовой и Невского причмокивали
бородатые лихачи в толстых кафтанах на вате, рысаки были
покрыты зелеными сетками, на краях оглобель горели
фонарики. «Эй, прокачу}» — зазывали извозчики, «Эй,
развеселю!* — мигали вывески «Не рыдай!», «Карусель»;
бойко торговали кассы театров миниатюр, кабаре. Ожили
эстрадные хохмачи и певицы с надрывом.
Расплодились неисчислимые «студии»:
проникновенный шепот о «божественном вдохновении» и «святом
искусстве» отлично уживался с пьяным разгулом.
Как-то разом, неизвестно откуда, вывелась целая
порода зрителей. Откуда они взялись? Как не похожи были они
на озорной, молодой зал «Женитьбы». Нэповские доста-
80
Глубокий экран
валы и рвачи стучали ножами по тарелкам, требуя
жратвы и лихого веселья, шикарных баб и рыдающих
скрипок и чтобы за их деньги показали кукиш (хоть в
кармане!) всему, за что голодали и холодали люди
прошлых лет.
Нет, мне не стыдно вспомнить аскетическую
прозодежду, свисток в начале урока, физкультурный строй.
Некоторые стороны начальных глав истории кино мне
удалось узнать на собственном опыте. «Похождения Ок-
тябрины» снимал кинооператор Ф. К. Вериго-Даровский.
Я вспоминаю обстоятельства нашей первой встречи. Худой
человек со стрижкой ежиком и закрученными усами
протянул мне руку. «Это вы — Фэкс?» — спросил он меня с
сильным польским акцентом и, не дождавшись ответа, ловко
отскочил на середину комнаты и стал на голову. «Вуа-
ля!» — петушиным голосом выкрикнул он и вернулся в
обычное положение.
Фридрих Константинович был плотью от плоти
«электробиографа»,, техническая сноровка сочеталась у него
с ухватками балаганщика. В его речи залихватское
хвастовство перемежалось с виртуозной бранью. Говорят,
что на его визитных карточках было написано: «Снимал
Ф. И. Шаляпина и чуму». Будучи человеком ловким и
смелым, он охотно втаскивал камеру на крыши, устраивался
в самых неудобных положениях. Отматывая пленку и
приготовляя кадр для комбинированной съемки, он принимал
осанку факира. По окончании кадра он обычно
подпрыгивал в воздух, делал ногами кабриоль и выкрикивал своим
петушиным голосом: «Трюк исполнен!..» Дальше
следовало длинное и цветистое выражение. В конце смены
Фридрих Константинович кланялся балетным поклоном и
уходил задом к двери, посылая ручкой воздушные
поцелуи.
Наши отношения сложились самым хорошим образом.
Вспомнить В ер и го-Д а ро вс ко го я могу только добрым
словом. Но, как я уже писал, вкус к экзотике проходил. Нам до
зарезу нужен был товарищ, не техник-исполнитель, а
изобретатель.
В коридорах киностудии тогда часто можно было
встретить юношу угрюмого вида, в очках. Он проходил
Глава вторая
81
медленной походкой; молча сидел в углу павильона. Не
знаю, кто выписывал ему пропуск. Стало известно по
слухам, что молодой человек— фотограф-любитель, он
просит операторов взять его в помощники, но в снимках,
которые он показывал, мало путного: какие-то блики,
вероятно, не умеет наводить на фокус, да и в помощниках
нет нужды.
Фотографии попались нам на глаза. Не думаю, что сами
по себе они могли чем-нибудь увлечь, но в облике молодого
человека, ничем не похожего на
профессионалов-кинематографистов, в его негромкой и медлительной речи, в
спокойствии тона заключалось что-то внушающее доверие. Да
и верили тогда людям легко, часто с первого взгляда.
Недолго раздумывая, мы отправились к директору студии.
Предложение назначить юношу на нашу следующую
картину (о ней речь впереди) вызвало возмущение. Однако
отвязаться от нас было непросто. После долгих споров мы
выхлопотали разрешение хоть снять с ним на пробу
несколько кадров. Камеру доверили Андрею Николаевичу
Москвину под залог нашей зарплаты.
Вот мы и собрались все вместе. 6|
После одной из первых съемок я пришел в лабораторию
за снятым материалом. Монтажница протянула мне
смотанную катушку. Не имея еще никогда дела с пленкой и не
зная ее свойств, я взял ролик за края, и в то же мгновение
середина катушки змеей выскочила на пол, извиваясь
и завиваясь бесчисленными спиралями. Трудно забыть
этот позор! Присев на корточки, я неумело пытался
расправить сотни завитков, но взамен каждого закручивались
новые, еще более тугие.
Перестав сдерживаться, хохотали монтажницы,
ухмылялись лаборанты — хорошо, что в те времена штат был
сравнительно невелик,— а я, красный от стыда,
обливающийся потом, с изрезанными пальцами, стоял на коленях
среди гор перекрученной пленки.
Немало времени пришлось потрудиться, чтобы
размотать этот целлулоидный хаос.
Еще больше пришлось потрудиться — куда больше! —
пока я осознал, что пленка способна сохранять мысли
и чувства людей, жизнь, время.
82
Глубокий экран
О писателях, непрофессионально трудившихся в кино
Киностудия переехала в новое помещение. Дом с садом
на Каменноостровском проспекте, где некогда помещался
прославленный кафешантан «Аквариум», отдали
«Севзапкино». Несколько грузовиков перевезли
кинематографическое имущество. Помещение было малопригодным для
съемок, но по тем временам казалось пределом роскоши
и удобства. Переезд из бывшей оранжереи в бывший
шантан несомненно являлся шагом вперед. Сам особняк на
Сергиевской с его портьерами и гардинами казался
декорацией к ханжонковской ленте из великосветской жизни.
«Аквариум» был целым комбинатом: сад, залы варьете,
скетинг-ринг, ресторан. Постепенно все это переходило
в кинематографические владения. Сергиевская улица, где
прежде помещалось «Севзапкино», была тихой,
находилась в стороне от людных мест. «Аквариум» вплотную
прилегал к рынку. Чрево Петрограда торговало тогда
с выкриками, воплями и визгом: на толчке хрипели
граммофоны, заливались гармошки; матерщину прерывали
свистки милицейских облав. «Массовка» перемешивалась
с «барахолкой»; домохозяйки и торговки сталкивались на
углу с режиссерами и актерами. С лязгом заворачивали на
Кронверкский трамваи, грохотали извозчики, автомобили
проезжали в те времена еще редко, но зато водители
сигналили вовсю. Уличный шум проникал сквозь стены здания;
чтобы поговорить, приходилось закрывать окна.
Тогда фабрики не вывешивали списков нужных
профессий. Не висело такого объявления и подле «Ленинград-
кино» (бывш. «Севзапкино»). Люди находили вход сами.
Первые просмотры лент, снятых молодыми группами, шум
споров — страсти уже разгорались — привлекали тех, кто
стремился к новому.
На киностудии все пришло в движение. Люди, не
имевшие ничего общего с коммерцией, пришли сюда
потому, что верили в будущее этого искусства, делавшего свои
первые шаги. Они пришли не с голыми руками: многие
обладали опытом других искусств, науки.
Мне хотелось бы рассказать о нескольких писателях,
их место в кинематографии тех лет представляется
значительным.
Глава вторая
83
Сами по себе споры о месте литературы в кино никогда
не казались мне плодотворными. Разные существуют
писатели и постановщики. Огульное обсуждение их
взаимоотношений напоминает оценку сравнительных качеств
блондинов и брюнетов. Вряд ли существуют коллективные
грехи и гуртовые добродетели целых профсоюзов. В
двадцатые годы на киностудии пришла не какая-то обобщенная
литература, а Виктор Шкловский, Юрий Тынянов, Адриан
Пиотровский (прежде всего я вспоминаю хорошо
знакомых мне людей). И пришли они не в какое-то отвлеченное
Кино с большой буквы, а в неустроенные павильоны и
крохотные монтажные. Здесь трудились молодые режиссеры.
Люди разных дарований, характеров и биографий
объединялись не только для того, чтобы поставить фильм. Нужно
было создать кинематографию. Она еще только
начиналась. Шла борьба за новое понимание сущности экрана, за
создание самой плоти кинематографии. Каждое искусство
знает такие периоды.
«Но есть литература на глубине, которая есть жестокая
борьба за новое зрение,— писал Юрий Тынянов,— с
бесплодными удачами, нужными, сознательными
«ошибками», с восстаниями решительными, с переговорами,
сражениями и смертями. И смерти при этом деле бывают
подлинные, не метафорические. Смерти людей и
поколений». 62
Решительное восстание уже произошло; удачи пока
еще не были бесплодными, а ошибки сознательными.
Поколение только начинало свою жизнь.
«Шкловский сказал...» — с этого тогда часто
начинались разговоры. А говорил он о прозе Льва Толстого,
цитировал Пушкина, приводил примеры из Стерна.
Исследователь теории прозы участвовал в монтаже, составлял
надписи, писал сценарии, переделывал чужие сочинения.
Дел навалилось по горло, а Виктор Борисович не был
белоручкой. Авторство его мало беспокоило,«рн отдавал
в общий котел все, что имел: кругозор исследователя,
поразительную память, юмор. Так Маяковский предлагал
поэтам объединить имущество и усилия, сам был готов
внести в общее хозяйство, как он заявил, «рифмы, темы,
дикцию, бас». 63
84
Глубокий экран
Шкловский стал бродильным началом в кино. Вместе с
ним пришел в кинематографию спор. Легкий на подъем,
веселый, артельный человек, любящий живое искусство и
ненавидящий пустые слова об искусстве, он был одним из
племени «изобретателей», а не «приобретателей»
(терминология Хлебникова, полюбившаяся Шкловскому). Все
являлось для него интересным, важным: он рецензировал
чуть ли не каждый фильм, на дискуссии приходил без
приглашений. Множество идей и рационализаторских
предложений одолевалоего: «Давайте покажем,—
предлагал он,— что Иван Грозный наладил ткацкую фабрику,
и попробуем снимать ленты в одной декорации, быстро
и дешево». Ратуя за экономию, он сочинил для Кулешова
«По закону». Так обычно и получаются хорошие вещи:
речей на возвышенные темы не произносят, трудятся.
Работают как умеют. А раз умеют и есть что за душой, то
труд обязательно даст свои результаты, если, разумеется,
не будут мешать работать или вытряхивать то, что за
душой.
Афоризмы Шкловского вспоминают до сих пор, обычно
добавляя: блестящие. А у меня на памяти его простые
слова: «Это пригодится». Виктор Борисович часто их
произносил. Он знал, что многое оказывается полезным в
искусстве: мысль, брошенная на ходу, исторический факт,
доброе слово. Кому что надо. Гоголь просил анекдотов,
Толстой и Достоевский углублялись в судебные отчеты;
Щепкину казалось немаловажным, что первую строчку его
мемуаров написал своей рукой Пушкин.
Недавно вышли из печати статьи Шкловского о кино
«За 40 лет».
Увидев толстый том, я, откровенно говоря,
встревожился: стоило ли переиздавать старые рецензии? Виктор
Борисович сочинял их, насколько мне помнится, не на века;
статьи походили на некоторые ленты тех лет: все
относящееся к сюжету выброшено в корзинку, остался монтаж
ракурсов и.столкновение ассоциаций; пересказать
содержание такой ленты невозможно, хотя отдельные кадры
остаются в памяти.
Опасения оказались напрасными. Небольшие,
отрывистые куски соединились: связи дала история кино, жизнь
восстановила пропуски. Шкловский писал не о том, что
Глава вторая
85
устоялось, а про то, что двигалось. Оказалось, что
полстранички «Конец барокко» 64 значительнее многих статей об
Эйзенштейне. Слова о предметах, заслонивших в
«Октябре» историю,— важные. Наступал перелом: кончалось
немое кино, и не только потому, что скоро появится звук. Ход
жизни и движения на экране потеряли синхронность.
Шкловский это заметил одним из первых. Первым он
произнес и слово «барокко»; через три десятка лет термин
станет распространенным в зарубежном киноведении.
Слишком хорошо построенное в искусстве иногда
рушится, а, казалось бы, непрочное, возникшее на лету,
только намеченное, оказывается прочным.
То, что делал в кино Шкловский, пригодилось.
Адриан Пиотровский был первым литератором, с
которым мы встретились в работе. Ученый школы классической
филологии, лучший наш переводчик Эсхила и Аристофана,
он был, пожалуй, самой романтической фигурой
петербургского интеллигента времен военного коммунизма. С первых
дней Октября он бросился во множество дел: сочинял
либретто аллегорических битв Труда и Капитала на
площади Зимнего дворца, участвовал вместе с Луначарским
в комиссии по переименованию улиц. Именно тогда
старорежимный Каменноостровский проспект был окрещен
улицей Красных Зорь.
Учреждения, где он трудился, имели своеобразных
руководителей: одним заведовал автор «Незнакомки»,
руководитель другого вечерами выходила на арену цирка
в образе леди Макбет; Александр Блок и Мария
Федоровна Андреева тогда возглавляли множество комиссий.
Новое, возникающее на его глазах, не только
привлекало внимание, он «заболевал» этим начинанием, «горел»
им. Где только речь шла о смелых опытах, пробах
неизведанного, появлялся еще молодой большеголовый
человек — волосы уже поредели — в кожанке или темной
рабочей блузе и неизменно измятых на коленках брюках,
карманы которых топорщились от книг и рукописей, и
брался за дело: исследовал, сочинял, помогал. Он был
одарен счастливым даром, способностью радоваться по-
настоящему. Все происходившее было для Пиотровского
своим, родным, вот он и шалел от счастья после каждой
86
Глубокий экран
удачи. Меры восторга он обычно не находил и от всего
сердца верил, будто неплохой спектакль не просто удача,
а пример какой-то еще небывалой «емкой формы» или
образец «индустриализации театра».
За теоретические фантазии ему немало доставалось.
Вспоминается один из диспутов, где рапповцы
разделывали Пиотровского под орех. Его били хлесткими
формулировками промеж глаз, он пробовал что-то возражать, но
цитаты сбивали его с ног. Он был не из тех, кто умел
говорить об искусстве, он только умел отдавать ему жизнь.
Немало кинематографистов с глубокой
признательностью вспомнят помощь Пиотровского, а вот названия его
должностей на киностудии, вероятно, ни у кого не
сохранились в памяти. Был он, кажется, поначалу в «литературном
бюро», состоял в каких-то коллегиях, советах, считался
потом заведующим сценарным отделом, заместителем
директора. Но каким он был заведующим и кого он замещал?
Он «горел» и «заболевал»; ни заведовать, ни замещать он
не умел.
Он приходил на студию совсем рано, до начала
рабочего дня. Секретарь — степенная седая женщина —
устраивалась за«столиком. Пиотровский диктовал строфы
переводов: вчера в трамвае по дороге с «Ленфильма» в
Публичную библиотеку удалось славно потрудиться, а потом
ночью пришли в голову хорошие строчки.
Стучала пишущая машинка. По коридору брели сонные
после ночной смены артисты, сдирая на ходу парики и
бороды; выходила на работу дневная смена. В комнате
появлялись режиссеры, писатели. И кто-то, даже не
поздоровавшись, еще с порога кричал привычным в киноделе
паническим голосом:
— Срывается съемка!..
Бывало и так, что, не давая продолжать, Пиотровский
просил только несколько минут для себя, совсем немного
внимания: уж очень хороши эти стихи!.. Он находил у
Эсхила те же священные вихри восстания, сквозь которые
шли у Блока двенадцать. Я приведу строчки
«Прикованного Прометея» в его переводе:
Ослепительных, огненных молний, змеясь,
Извиваются искры. Столбами ветра
Глава вторая
87
Крутят пыль придорожную. Вихри ревут
И сшибаются в скрежете, в свисте. Встает
Вихрь на вихрь! Свистопляска! Восстанье ветров!.. 66
Хорошо, когда рабочий день на киностудии начинается
с чтения Эсхила или Катулла. У Пиотровского были глухой
голос и плохая дикция, но восторг искусства одухотворял
речь, зажигал взгляд больших светло-голубых близоруких
глаз. А день этот часто был трудным, многое мешало;
обычными словами здесь были «переделки», «досъемки»,
«уходит натура», «простаивает группа». И вот отложены в
сторону Эсхил и научная статья. Адриан Иванович уже ходит
по накуренной комнате, среди гама многих голосов,
неторопливо рассуждает вместе с режиссером (или писателем),
уже как бы находясь в самом ходе его работы.
Он сразу что-то предлагает, пробует тут же сочинить.
Возникают и отвергаются рабочие гипотезы (ими
проверяется план), образуются какие-то конструктивные мысли,
дело уже вышло из тупика, работа спорится... Кто же это
придумал? Неужели не сам автор?.. Ну, значит, само
придумалось.
Если случится необходимость что-то записать,
положение затрудняется: бумага у секретаря такая, что чернила
расплываются, а пером кто-то пробовал открыть ящик
стола. Как-то так происходило, что в комнате
Пиотровского— самом сердце студии — почти не писали.
Ошибочно думать, будто он наладил кинопочиночную
мастерскую, драматургическую техпомощь (хотя и этим
приходилось заниматься). Ради «дотягивания» и
«выправления» не стоило бы откладывать в сторону научную
работу. Он был одним из людей, изо дня в день строивших
советскую кинематографию. Он занимался всем —
важным и мелким, трудился как только мог, потому что
чувствовал: кино мужает, становится настоящим делом.
И нужно объединять людей, привлекать новых, помогать
им в нелегкой работе.
Было у него излюбленное выражение — выслушав
сцену или просмотрев кадры будущего фильма, Пиотровский
нередко вздыхал:
— Не хватает ветра,— печально говорил он.— Это все
комнатное. Ветер не проникает за стены...
88
Глубокий экран
Ему хотелось, чтобы за каждой историей, пусть и
самой маленькой, показался горизонт больших дел, жизни
страны.
«Чертово колесо»
Наше знакомство началось очень давно. Еще во
времена «Женитьбы» Адриан Иванович заинтересовался,
пришел на диспут об эксцентризме. Терпеливо прослушав
доклады, он попросил слова и справедливо обругал нас.
Потом в одной из своих статей он неожиданно упомянул
«Похождения Октябрины». Хотя отзыв был похвальным,
нас он смутил: критик писал о каком-то «трамвае,
показанном как иероглиф мещанства». 67 Откровенно говоря,
ничего подобного на экране и в помине не было, но
Пиотровскому уж очень хотелось похвалить не просто
маленькую комическую, первую молодую работу, но и открыть
в ней философский смысл.
В 1925 году Адриан Иванович сочинил сценарий и
захотел, чтобы именно мы поставили его сочинение. Фабула
«Моряка с «Авроры» была крепко заверчена: призывник-
матрос накануне учебного плавания на гулянье в
городском саду познакомился с девушкой. Вокруг Вали сновала
темная компания, хотя сама девушка не принадлежала
к уголовному миру. Документы юноши оказались
украденными: их хотели использовать для провокации. Ваня
и Валя вырвались из блатного мира, помогли
ликвидировать шайку.
Уже много времени прошло, и вряд ли теперь я могу
быть критиком этого сценария. Слишком многое в нем было
нам дорого, оказалось важным и для того, над чем
пришлось задуматься в дальнейшем. Существенной была не
мелодраматическая фабула, хотя тогда именно она могла
показаться привлекательной. Пиотровскому удалось
показать какие-то черты времени, контрасты нэпа; нас увлекла
возможность резкости выражения сцен и типов. Кроме
того, здесь было где блеснуть нашим любимцам
Герасимову и Соболевскому. Для Жеймо в сценарии роли не было,
но можно было ввести маленькую беспризорницу, автор не
возражал.
Глава вторая
.89
Однако дело было не в фабуле. Впервые мы задумались
над сочинением, связанным с жизнью.
В самой реальности можно было увидеть все то, что
предстояло воспроизвести: аллеи городского сада на
Петроградской стороне; летнюю эстраду, где подвизался
заурядный фокусник; шашлычную в подвальчике; квартиру на
окраине, где ютились преступники. Описаниям в сценарии
уделялось лишь несколько строчек. Однако стоило нам
самим оказаться в этих местах, оглянуться вокруг, как
строчки оживали, появлялся особый характер: за каждым
словом эхом возникало множество других; мир ассоциаций
оживал, требовал своего выражения. Материал оказался
ярким, полным контрастов и динамики. Для впечатлений
не требовалось далеких поездок. Нужно было сесть на
трамвай и проехать несколько остановок.
В дни нэпа в Ленинграде сохранилось немало
полуразрушенных домов. Мертвые, закоптелые фасады торчали
среди жилых зданий. Чернели провалы окон; ворота и
двери были завалены, забиты, казалось, наглухо, но,
пробравшись через незаметный лаз между кирпичами, можно
было сразу же попасть в странный и уродливый мир.
Иван Васильевич Бодунов (работавший в угрозыске по
ликвидации бандитизма) консультировал постановку. Он
водил нас по таким дворам. На камнях валялись,
прикрывшись выгоревшим тряпьем, молчаливые люди.
Угрюмые глаза исподтишка следили за нами. Чумазые
беспризорники копошились в развалинах.
Вечера мы проводили в Народном доме на
Петроградской стороне: здесь начиналось действие сценария. Грохот
и визг доносились из парка аттракционов; среди столиков
под навесом официанты разносили на подносах пиво и
раков. Толпа окружала эстраду: под мутным бутафорским
фонарем мрачный малый, дымя окурком, перебирал струны
гитары, женщина в клетчатой кепке пела хриплым голосом.
Нэп доживал свои последние дни. По аллеям гуляли пары:
стриженные под скобку девушки в очень коротких юбках
и шнурованных ботинках до колен, парни в клешах. Теперь
кажется, что все это происходило сто лет назад.
Мы бродили всей мастерской, хохотали и визжали,
взлетая и падая в пропасть на тележках «американских
гор»; заходили в «Музей фантастических иллюзий» по-
90
Глубокий экран
смотреть женщину-паука. На молочном небе рассыпались
огни фейерверка; были белые ночи.
«Аврора» еще не стояла тогда на причале у
Нахимовского училища; мы отправились на ней в учебное плавание,
жили среди экипажа. Мы проводили время на улицах, где
могли бы бродить наши герои, толкались среди прохожих
в разных частях города. Это были, как принято говорить,
места действия будущего фильма. Однако само выражение
«место действия» казалось сухим, скучным: «улица
Петроградской стороны», «вход во двор», «жилой дом»... нет,
такие слова явно недостаточны, их нужно дополнить
множеством иных, превратить обозначение в картину, в образ.
Мы еще не знали, что только зоркость зрения способна
открыть в жизненном потоке образное, что интересное
обычно не обнаруживает себя броской внешностью, а
необыденное часто заключено в самом обыкновенном. Нам не
приходило в голову, что поэтичное неотделимо от
прозаического.
Мы старательно, изо всех сил глядели и мало что
видели. Чтобы увидеть, нужно было и задуматься
поглубже, и немало узнать. В искусстве зоркость нельзя усвоить,
до нее нужно дорасти. И вероятно, в самом этом понятии
заключена не только пристальность взгляда, но и сила
сострадания, и много других, нелегко определимых сторон
душевной деятельности. Такие качества по-разному
образуются и от несхожих причин ослабевают, а то и начисто
пропадают. В ликбезе дело лишь за желанием,
усидчивостью. Иное — душевное невежество, тут мало помогут
и круглые пятерки, и диплом с отличием. Разумеется, для
каждой профессии необходимо усвоить свои знания,
однако главная трудность иного рода: программу обучения «на
человека» каждый проходит по-своему.
Пока что мы изо всех сил учились «на
кинематографиста». По множеству раз перечитывался сценарий: вот
встречаются герои, обмениваются репликами-надписями,
переходят с места на место, завязывается фабула... Разве
существо режиссуры в том, чтобы, уяснив смысл и узнав
необходимые подробности, разбить сценарий на маленькие
части, а потом дать актерам разыграть перед съемочной
камерой каждую сцену, как это делается в театре (только
без слов), а потом собрать.все кусочки, уже снятые на
Глава вторая
91
пленке (как снятые? Ну, в фокусе, ну, по возможности
красиво), и склеить в последовательном порядке?
При одной мысли о такой работе опускались руки.
Разве для этого изобретено чудо кинематографии —
радость преображения мира? Фотографию необходимо
превратить из репродукции в средство воздействия. Переигры-
шу театральной игры мы противопоставим силу скрытой
эмоциональности, точность движений, выразительность
деталей, лаконичность характеристик. Фокусник-налетчик —
его играл Сергей Герасимов — по профессиональной
привычке поправлял рукой манжеты перед выступлением.
И когда он умирал, то, окровавленный, в грязном, нревра-
тившемся в лохмотья костюме, еще раз делал привычный
жест — оправлял несуществующие манжеты и падал.
В фильме, как тогда казалось, должно действовать все.
Определение «фон» — художественно убого,
бессмысленно: на экране не «места действия», а действующие места.
Улицы, палуба учебного судна, закоулки с шашлычными,
развалины — всё это артисты, пусть они заиграют вовсю!..
Предметы вовсе не «игровой реквизит», это играющие
вещи. Бильярдный шар влетает с треском в лузу не только
оттого, что был точный удар,— это решилась судьба героя.
Метафоры были еще простенькими, но важно было
вырваться из натуралистических связей, открыть
возможность иных сцеплений.
Разве экранное время совпадает с ходом часов? Минута
может продлиться час, а дни мелькнуть секундой. Удар
в челюсть (в реальности мгновение) монтировался,
кажется, из шестнадцати кадров.
Встречу героев среди толпы, круговорот праздничного
дня, темную компанию, возникшую подле Вани и Вали,
гибель преступников — все это хотелось выразить резкими
столкновениями контрастов, упругими ритмами так, чтобы
множество отдельных ниточек сплелось в единство
художественной ткани, где уже неотличимы отдельные частицы.
Что же создает сцену: человеческие отношения, игра
вещей, освещение, монтаж?.. Все вместе, воздействуя самой
своей слитностью.
Небольшая по сценарию сцена знакомства на гулянье
выросла в целую часть. Зрители должны были как бы
перенестись внутрь действия, увидеть события не со сторо-
92
Глубокий экран
ны, а глазами героев: закружиться вместе с ними, потерять
голову, позабыть про время.
Москвин укреплял штатив на тележке «американских
гор», на лодке карусели, взлетал на «аэропланах», снимал
в гуще толпы. Действие возникало в просветах между
спинами проходящих; позади исполнителей зажгли
фейерверк: кружились огненные колеса, рассыпались каскады
фейерверочного огня, а на первом плане продолжалось
действие. Стремительные куски — бурное движение как бы
вырывалось из кадра в кадр — приводили к последнему:
хохоча и крича, кувыркались, летели с «чертова колеса»
веселые посетители, одна лишь пара все еще удерживалась
в центре вращающегося круга, и вдруг круг превращался
(наплывом) в часы. Ваня и Валя неслись на огромном
циферблате с мелькающими цифрами и стрелками,
пытаясь удержать время.
Уголовщину было решено отделить от обыденной жизни
самой внешностью. Некоторые основания для этого давала
реальность. Что-то карикатурное и одновременно зловещее
было в отбросах нэповских времен; профессионалы-нищие
еще канючили, клянчили по рынкам; из чада пивнушек
вываливались криворожие парни с челками, начесанными
на глаза. Этот мирок должен был выглядеть в фильме
уродливым и страшным. Однако все должно убеждать
подлинностью фактуры. Даже малейший штрих грима
казался невозможным для экрана. Хотелось показать
своеобразную портретную галерею, воздействующую
натуральностью, жизненной достоверностью своих черт. И чем
более исключительными являлись характеры, тем более
необходимой казалась подлинность их внешности.
Во что мы превратили тихие коридоры «Ленинградки-
но»! Почтенные люди спотыкались о карликов, шарахались
от великанов; обладатели удивительных лиц и небывалых
фигур заполнили студию. Гнусавили чумазые попрошайки,
из-за угла высовывались такие физиономии, что и во сне не
приснится. Повсюду что-то пропадало, кого-то
обворовывали.
Все это общество приводил на студию помощник
режиссера Михаил Евгеньевич Гералтовский. Немало
анекдотов сочинено о кинематографистах: они кричат,
суетятся, торопятся. Гералтовский действительно громко го-
Глава вторая
93
ворил, ему хотелось, чтобы все выходило лучше, а многое
не получалось. Он суетился, приходилось работать за
многих; на свои слабые плечи он взвалил множество дел,
а времени всегда не хватало. У Михаила Евгеньевича
лежала в кармане потрепанная записная книжечка в
клеенчатой обложке. Когда для съемок требовалось нечто
необычное, Миша был счастлив. Он знал, где найти
дрессированных блох, кто коллекционирует старинные шитые
бисером подтяжки,— все было в книжке. Однажды,
полный восторга, он приехал на студию в экспонате
Конюшенного музея — золотой карете Екатерины Второй
(уговорил кучера свернуть по дороге на съемку); в случае
нужды он мог уговорить академика стать киноартистом
(лишь бы подходила внешность!). Он был романтиком
своей профессии, гордился ею, был в нее влюблен с
юношеской страстью. Низенького роста, неестественно
худенький, уже немолодой, он приходил на работу неведомо
когда, и никто не знал, когда он уходит, успевает ли он есть,
спать.
Поиски 20-х годов отразились не только в теориях
монтажа или типажа, но и в работе каждого из участников
съемочных коллективов. Эти люди — изобретатели,
выдумщики, фантазеры — неустанно искали новое; каждый
изгонял из своей области дух равнодушия и коммерции.
Если когда-нибудь разыщут книжечку в потрепанном
клеенчатом переплете, пусть поместят ее в киномузей.
Честь ей и место!
«Чертово колесо» стало для нас своего рода полем
сражения; несхожие стремления теснили одно другое. Это
была, по существу, наша первая профессиональная
работа. От эксцентризма осталось желание доводить
характерность до какой-то крайней степени, реальные черты при
этом нередко терялись, многое становилось условным.
Образы мы иногда выражали лишь общими чертами, не
задумываясь над бытом, жизненностью деталей. Одним из
таких кадров начинался фильм. На экране был остов
сгоревшего дома. И вдруг, как бы по сигналу, в каждом
провале окна появлялись пары — парни в клешах и
нахлобученных кепках, девчонки в коротеньких юбчонках,—
пятиэтажная развалина разом оживала, пары откалыва-
94
Глубокий экран
ли модный в те дни тустеп. Другой сигнал — и странная
танцулька шпаны исчезала в дырах закопченной
развалины.
В конце фильма пятиэтажная коробка рушилась,
обломки заваливали шайку.
Несмотря на увлечение типажом, главным для нас
оставался по-прежнему актерский коллектив. В
мастерской шли многочасовые, удивительно интересные уроки-
репетиции. Я возвращался домой поздно и мечтал, чтобы
скорее прошла ночь, побыстрее наступило время
следующего урока. Нас начали интересовать не только сгущенная
эмоциональность или подчеркнутые контрасты. Были в
сЧертовом колесе» и сцены, снятые уже по-иному. Валя
и Ваня проходили по утренним улицам: город просыпался,
оживали рынки, шли на занятия призывники. Я любил эти
кадры раннего утра, лиричность картин обыденной жизни.
Таких сцен было еще немного.
Фильм вышел на экраны, вызвал споры.
Эйзенштейн сразу же после просмотра в виде привета
прислал плакат «Броненосца «Потемкина»: три пушки,
нацеленные вперед. В жерла орудий Сергей Михайлович
вклеил фотографии из.последних фильмов «Ленинградки-
но», особенно ему ненавистных. Над пушками он написал
большой лозунг: в выражениях, мягко говоря, слишком
энергичных. Неособенно раздумывая, мы вывесили
послание в своей комнате на студии. Началось паломничество;
вокруг плаката бушевали страсти.
В кинотеатре «Светлая лента» фильм шел под
аккомпанемент совсем молодого пианиста, почти мальчика.
Вероятно, для него работа была тяжелой, утомительной:
приходилось играть подряд несколько сеансов. Что же касается
нас, то мы, откровенно говоря, не обратили внимания на
музыкальное сопровождение именно в этом кино.
Так в 1926 году впервые, еще не зная друг друга, мы
встретились с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем.
Свой человек у киноаппарата
А теперь мне хочется рассказать еще об одной встрече.
Но начну я с прощания.
Глава вторая
95
Утром 28 февраля 1961 года Москвин, Еней и я, как
обычно, спорили в маленькой комнате на киностудии. Хотя
мысль о постановке «Гамлета» казалась еще многим
нелепой и до утверждения шекспировской трагедии в плане
«Ленфильма» было далеко, мы работали. Еней показал
наброски, Москвин опять уговаривал меня отказаться от
широкого экрана, картине необходимы, так ему
представлялось, обычный формат, широкоугольная оптика.
Мы вышли из комнаты. В шумном ленфильмовском
коридоре Москвина подстерегали молодые люди: они
снимали свой первый самостоятельный фильм, Андрей
Николаевич опекал их. Операторы — седой шестидесятилетний
человек, один из создателей школы советского
операторского искусства, и двое юношей, только что окончивших
ВГИК,— отправились вместе в павильон.
Андрей Николаевич обернулся, помахал рукой: до
завтра.
Ночью в Пушкине — его любимом месте, где в детстве
он изъездил на велосипеде каждую дорожку, знал каждый
закоулок старого Царского Села, где среди покосившихся
крестов и памятников были и могилы его родителей,— он
умер.
Условия работы в первые годы Октября были для всех
одинаковыми. Красная Армия шла в бой с берданками,
патронов не хватало; врачи лечили без медикаментов;
транспорт не имел топлива. Советская кинематография
приступила к делу, имея ничтожно мало аппаратов —
устаревших на десятилетие — и ламп, вовсе непригодных
для съемок. Не было нужных объективов, прожекторов,
съемочной техники. Не было почти ничего. В таких
условиях начал работать Москвин.
Два севзапкиновских оператора недоумевали: на что
способен этот мальчишка; они не хотели доверить
Москвину даже таскания штатива (в этом состояли тогда
обязанности помощника). Под их взглядами — ну и
посмеемся над невеждой!.. — в ателье на первые же съемки
пришел не мальчик, а мастер, человек, совершенно
уверенный в себе, ни в чем не сомневающийся. Внешняя
сторона его работы поражала: точность отработанных
упражнений физкультурника, ни лишнего жеста — не-
%
Глубокий экран
сколько движений, и камера установлена. Световые
приборы каким-то чудом были уже на местах (осветители
получили схему расстановки накануне). Кадр за кадром
(точки еще невиданные) камера мгновенно меняла
положение — подымалась, опускалась на пол, наклонялась
набок. 68
С невозмутимым лицом, глядя куда-то поверх
происходящего, Москвин — в форме самой краткой — командовал
перестановками ламп, махом взлетал на вышку, сам
регулировал угли в приборе.
После смены он отправлялся в лабораторию и вступал
в спор с проявщиком: условия обработки пленки не
устраивали оператора, снявшего свои первые сто метров
негатива. Лаборант возмутился; однако спорить было трудно:
молодой человек отлично знал химию.
Оказалось, что Москвин многое знал. Он учился на
химическом факультете Технологического института,
потом перешел в Институт путей сообщения, работал на
строительстве железной дороги. К кинематографической
камере подошел уже не самоучка-фотограф, освоивший
дело подле такого же самоучки (как это обычно бывало),
а человек с привычкой к научному мышлению.
«Родился я в инженерной семье,— писал он в
автобиографии,— в крупном промышленном центре, в
окружении практической техники, где все прививало привычку
к точности, здравому смыслу, учету обстоятельств».
Он любил говорить о плановости и экономичности. На
первый взгляд у него была невозмутимая повадка
специалиста, презирающего какие-то там «муки творчества»,
повадка человека науки и техники. Таким очень хотелось
казаться Москвину. И менее всего он был таким.
— Приходите огорчаться,— слышался монотонный
голос в телефонной трубке. Формулировка приглашения на
просмотр снятого материала оставалась неизменной. И,
боже мой, как приходилось иногда огорчаться!..
Невообразимый брак бушевал на экране. Случалось и так, что это
был не просто провал съемки, неудача оператора, но и,
казалось бы, техническая неграмотность. Средний
профессионал никогда не допустил бы такого уровня.
Как же это могло произойти?.. И не только в давние
времена, айв последние годы его работы. Ведь Москвин
Глава вторая
97
обладал огромным опытом (к своему пятидесятилетию он
снял около полумиллиона метров негатива), его авторитет
был высок среди оптиков; киноконструкторы неизменно
советовались с ним; его доклады в Академии наук
вызывали интерес специалистов. И все же бывали случаи, когда на
экране творилось такое, что волосы вставали дыбом. Мало
кто видел эти кадры — пересъемка была необходимой.
Но как раз эти ужасающие неудачи обычно предваряли
лучшее, что удавалось снять Москвину. Вслед за браком
наступало время открытий, изобретений. Потом немало лет
другие операторы осваивали его опыт; молодые работники
воспитывались на этих кадрах, однако мало кому была
известна их предыстория.
Бывают у людей нелегкие романы: безрассудная
страсть сменяется отчуждением, нежность — грубостью,
счастье — отчаянием. У Москвина всю жизнь были особые
отношения с техникой. Были в этих отношениях периоды
блаженства и буйных ссор. Андрей Николаевич обладал
трудным характером, предмету любви жилось несладко.
Техника не оставалась в долгу: била Москвина по рукам,
когда он уж очень докучал ей. Так они и существовали
вместе много лет, сводя свои сложные счеты. Тут было
немало анекдотов.
Как-то перед войной одному из ленинградских постовых
милиционеров показалось, что он сходит с ума. Из ворот
дома на углу Песочной и Кировского выехало странное
сооружение: рулевое управление находилось, как в
Великобритании, справа, отдельные части принадлежали
машинам различных марок. Основу Москвин разыскал где-то на
автокладбище, добыл недостающие детали, сам все
отремонтировал, покрасил и несколько недель ездил по городу,
вызывая удивление прохожих, шутки водителей.
Сооружение автомобиля было для Москвина чем-то
вроде разгадывания головоломки. Свободное время он
посвящал таким техническим ребусам. Конструировал
собственные фотоаппараты и звукосъемочные камеры,
радиоприемники, экспонометры; занимался вивисекцией
малолитражки, превращая «Москвича» в «ЗИМ». Машины,
механизмы были для Москвина источником
непрекращающегося интереса, неизменными собеседниками, с которыми
Андрей Николаевич вел длительный спор, пробуя убедить,
У8
Глубокий экран
переспорить партнера, заставить его заняться чем-то
непривычным, несвойственным его характеру. Он торговался
с лабораторными автоматами, как на базаре; приставал
к объективам с невыполнимыми требованиями; подозревал
пленку в неверности ее собственных характеристик.
В его комнате стоял токарный станок, валялись
измерительные приборы, полуразобранные аппараты и
полусобранные конструкции. Интересно было смотреть, как Андрей
Николаевич работал: подняв очки на лоб, он бережно
подносил совсем близко к глазам какую-нибудь деталь
механизма; пальцы держали ее так осторожно и даже
нежно, будто это была не металлическая вещь, а
трепещущая бабочка и неосторожное прикосновение стерло бы
пыльцу с ее крылышек.
В такие минуты его лицо казалось мне по-особому
одухотворенным: выражение спокойной
сосредоточенности, совершенной ясности мысли, и только в светлых глазах
холодным голубым пламенем металось злое упрямство.
Если собрать фотографии одного и того же человека,
снятые в течение многих лет, и посмотреть все их разом, то
покажется, будто ретушер постепенно ослабил свои
усилия, стал халтурить, а потом — прошло еще десяток лет —
и вовсе бездельничать, и вот на лице обнаруживаются
морщинки, а потом глубокие морщины, сгущаются тени
под глазами, появляются какие-то припухлости, складки,
и только глаза сохраняют иногда свое прошлое выражение.
Конечно, годы многое переменили в наружности
Москвина. Такой же невозмутимой оставалась его повадка
на съемках, и так же быстро он взбегал на вышки, но
давалось все это не просто: сердце билось все тяжелее, с
перебоями. Здоровья уже не было. Его приходилось изображать.
Однако взгляд в часы работы оставался у Андрея
Николаевича прежним, неизменившимся: холодный голубой
пламень не погас, не стал пеплом.
Вероятно, в этом пламени таились причины достижений
и промахов. Разумеется, Москвин отлично знал
профессию, но только для того, чтоб опровергать свои знания. Он
в совершенстве владел техникой, чтобы не быть техником.
А был он художником, со всеми бесплановыми чувствами
и косматыми страданиями, присущими художникам. У него
была очень тонкая кожа, чувствительная ко многому. Ему
Глава вторая
99
хотелось выразить своим искусством не только то, что
представлялось ясным, что несложно было объяснить
словами, но и те трудно определимые ощущения, без
выражения которых искусство безжизненно.
Даже самые опытные зарубежные спецы, выписанные
на валюту, тогда мало нам помогли бы. Чем могли быть им
близки наши тревоги и волнения, ощущения,
переполнявшие нас?.. К камере — пусть и устаревшей, дряхлой, пусть
ни к черту не годной — должен был стать свой человек.
Таким своим человеком был Москвин.
Как известно, первая строчка всегда дается нелегко,
и значение ее немаловажно. Автор как бы устанавливает
интонацию рассказа, способ ведения действия. Наша
работа с Москвиным началась с одной из сцен «Чертова
колеса», нашего первого полнометражного фильма. Эти кадры
являлись такой своеобразной первой строчкой. Действие
происходило во время гулянья в парке. По мысли
сценариста, это была аллея небольшого окраинного сада. Нам
хотелось иного. Народный дом на Петроградской стороне
с огромной толпой посетителей, аттракционами,
ресторанами, эстрадой, фоном Невы привлекал нас и масштабом
жизни большого города, и особым настроением, присущим
таким гуляньям в петербургские белые ночи. Хотелось
выразить своеобразную городскую поэтичность места
событий — здесь начиналась любовь героя.
Согласно обычаям и возможностям такие сцены
снимались тогда днем (против солнца), а потом пленка
вирировалась синей краской. Окраску мы отвергли сразу
же. Съемка ночью потребовала бы передвижных
электростанций (их не было и в помине) и целого арсенала
осветительных приборов (лампы были наперечет).
Мы спорили, ругались, приходили в отчаяние. И вдруг
пришел выход, как всегда в таких случаях, совсем простой:
было решено натянуть над толпой проволоку и пригласить
цирковую артистку, а во время съемки просить и даже
умолять: курить, курить как только можно больше...
Москвин направил все имевшиеся лампы не на людей,
а казалось бы, в пустоту, выше голов — в воздух:
множество светлых дымков заклубилось, заструилось во мгле,
в тумане возникли силуэты деревьев, крохотная фигурка
100
Глубокий экран
циркачки заскользила по проволоке над головами зрителей
в сиянии кудрявых серебряных струек. Кадр был полон
поэзии, эмоциональности. Первая строчка оказалась
важной и для всего фильма, и для дальнейших наших работ.
Мы утвердились в мысли, что в свойствах самого
изображения, в зрительном качестве кадров заключено в
кинематографии нечто, схожее с авторской интонацией в
литературе, придающей рассказу особый тон и характер.
Нам хотелось передать на экране стремительность,
резкость столкновения зрительных образов.
Всего этого хотелось в пору полной неподвижности
съемочной кинокамеры, когда кадры в «Севзапкино»
еще строились по шаблонам фотографических заведений
с Невского проспекта или Фридрихштрассе: «групп»,
«портретов», «видовых»; когда фарфоровые вазы на первом
плане, плюшевые драпировки или одинокая скала на фоне
моря были единственной данью художественности. В эту
пору мы требовали от нашего оператора зрительных
образов, подобных вихрю. Москвин мрачно молчал. Он
продолжал молчать и когда я однажды застал его на заднем дворе
студии за странным занятием: прикрепив к плечам какие-
то салазки (собственного изготовления) и устроив на них
камеру, он приседал, крутился; то бежал, то, замедляя
движение, поворачивал по сторонам съемочный аппарат.
Так ручной камерой он стал снимать потом в «Шинели»,
подымаясь вместе с действующими лицами по винтовой
лестнице, догоняя их на ночных улицах.
Эдуард Тиссэ принес в художественную
кинематографию опыт хроникальных съемок: умение схватить масштаб
события, быстроту ориентировки; его стихией была натура,
солнечное освещение. Москвин с первых своих шагов был
оператором игрового кино; главным его оружием было
искусственное освещение. Эта область была еще совершен-,
но неразработанной.
Тогда все мы увлекались характерной внешностью,
многие роли исполнялись людьми, приглашенными в
ателье прямо с улицы. Москвин подчеркивал своеобразие
таких лиц светом, режимом съемки; на крупных планах
становилась отчетливой каждая морщина, фактура кожи.
Это была неплохая школа, она уводила от слащавости,
приучала к внимательному взгляду на подлинное. Актеров
Глава вторая
ΙΟΙ
Андрей Николаевич не только хорошо снимал, но и строил
вместе с ними образ, как бы играл вместе с ними. Его
любимой областью стало освещение лиц, это был особый,
движущийся, меняющийся в монтаже драматический
облик характера. Появился новый вид изобразительного
искусства — кинематографический портрет. С годами
образовалась система освещения Москвина, несхожая с
работой других операторов. Он начинал с установки
маленьких приборов: они были направлены снизу в глаза актера;
только после этого добавлялись иные, освещающие лицо,
фигуру, фон. Внимание направлялось прежде всего на
взгляд действующего лица. Оператор как бы заглядывал
в глубь глаз, в духовный мир человека.
С годами его труд становился на экране все менее
заметным для непрофессионала. В первые годы работы его
кадрам часто аплодировали на просмотрах; потом он
снимал не кадры, а фильм. Его увлекала тональность
изображения, глубина серо-черных оттенков. И
по-прежнему больше всего — лица людей. Иногда он ворчал: «Меня
хвалят — зрачки видны, а что с этого, глаза у артиста
пустые». Он не выносил красноречия, пустозвонства. Я
слышал его речь с трибуны только однажды — на
семидесятилетии Енея. Москвин не торопясь вышел на сцену и,
угрюмо посмотрев на юбиляра (их связывала многолетняя
дружба), сказал: «Поздравляю».70
Постоянство в привычках было одной из черт его
характера. Годами он занимал одни и те же постоянные
места: в машине, на заседаниях художественного совета,
в просмотровом зале. Во время работы я обычно следил за
репетицией через сквозную наводку камеры, Андрей
Николаевич (у него ухудшалось зрение) смотрел в боковой
видоискатель. Шепотом, продолжая наблюдать сцену, мы
советовались, спорили. Нам никогда не приходило на ум
разделять свою работу: разговор шел об актерах, свете,
диалоге, обо всем.
Образ времени
Ни во множестве статей о Тынянове, ни даже в
специальных монографиях, посвященных всему его творчеству,
102
Глубокий экран
я ни разу не встречал упоминания о работе Юрия
Николаевича в кино. Вряд ли в таком молчании таился злой
умысел. Причиной было, как мне кажется, вовсе не
презрение к труду литератора в кино или неуважение к сценариям
Тынянова. Дело обстояло проще. Вероятно, самих этих
сценариев теперь не найти.
Писатели по-разному работали в кинематографии.
Одни сочиняли сценарии как прозу, печатали их в журналах,
издавали отдельными книгами. Перед глазами
исследователей оказывался в таких случаях привычный материал.
Тынянов написал несколько сценариев, но никогда не
стремился их издать. Сочинения эти, на мой взгляд, были
отличными, однако не только ими измеряется труд
Тынянова в кино. Он, как и другие литераторы той поры, пришел
в здание бывшего кафешантана не писать сценарии, а
создавать кинематографию. Этих людей увлекали неведомые
горизонты нового дела. То, что кино выросло на улице,
являлось «низким жанром», как тогда говорили
(демократическим, как бы мы сказали теперь), особенно
привлекало. Академизм был тогда не в чести. Юрию Николаевичу
и в голову не приходило смотреть на экран с высоты
литературной культуры, снисходительно. Он пришел в «Севзап-
кино», чтобы учиться. Поэтому он смог учить.
Его интересовал не сценарий, а фильм. Он дописывал
и переписывал сцены во время съемки, устроившись в углу
грязного ателье, за декорациями. Сочинял в монтажной,
только что просмотрев снятые кадры. Приходилось писать
на чем попало: на обороте ведомостей, монтажных листов.
Хранить такие черновики никому не приходило в голову.
День за днем возводились леса. Самая грязная работа
казалась удивительно прекрасной. Работали на ходу. Это
не метафора.
«Несколько рассказов, написанных мною,
образовались по-другому,— писал позже Тынянов.— Для меня это
были в подлинном смысле рассказы; есть вещи, которые
именно рассказываешь как нечто занимательное, иногда
смешное. Работа в кино приучила меня к значению этих
«рассказов друг другу», с которых начинается создание
любого фильма».
Рассказывали друг другу обычно идя на работу или
возвращаясь домой. Тынянов придумывал, развивал свои
Глава вторая
103
мысли на Троицком мосту, набережных, Марсовом поле.
Может быть, просторы петербургского пейзажа сыграли
и свою роль в этих устных поначалу рассказах?..
Еще до замысла «Подпоручика Киже» Юрий
Николаевич с увлечением пересказывал случай с царским
солдатом, охранявшим голое поле: артиллерийский склад,
бывший здесь, упразднили, но приказ о снятии поста забыли
отдать, и вот на месте, где стоял некогда склад (а потом
и след его исчез), десятилетиями сменялись караульные.
Положение казалось Юрию Николаевичу
«занимательным». Он с увлечением рисовал картину, подробно
останавливаясь на деталях, как бы опасаясь, что слушатель
еще не до конца понимает прелести анекдота. В рассказе
с совершенной отчетливостью возникала степь, ни
крохотного строения вокруг. Часовой в полной выкладке
сторожит пустоту. Приходит другой солдат, по всей форме
устава происходит передача поста. Теперь другой часовой
несет охрану пустого места. Дежурный офицер проверяет,
нет ли упущений по службе.
«Занимательное», разумеется, было не только
курьезное. Идея охраны пустоты заключала в себе как бы
сгусток бессмыслицы бюрократической системы,
абсурдность выполнения буквы закона, лишенного содержания.
Из анекдота возникало политическое и философское
обобщение.
Не следует забывать, что анекдоты помогли Гоголю
написать «Ревизора» и «Мертвые души».
В сценарии «Подпоручик Киже» была сцена верховой
прогулки Павла I. Описана она была со всеми
подробностями. Слух о выезде самодержца облетал город.
Закрывались лавки, перепуганные прохожие забегали в
подворотни. Щелкали замки в дверях, занавешивались окна.
Город вымирал. И тогда по пустым проспектам Санкт-
Петербурга, бешено шпоря коня, мчался император.
Сцена не имела прямого отношения к фабуле. Режиссер
подсчитал метраж и, выяснив, что сценарий велик, решил
сократить кадры прогулки. Тынянов не на шутку
взволновался: если режиссер не понял силы как раз этого образа,
то, может быть, и фильма ему не стоит ставить.
Сумасшедшая скачка императора по вымершей среди
бела дня столице казалась Юрию Николаевичу чрезвычай-
104
Глубокий экран
но выразительной. В зрительном образе
сконцентрировались ужас и безумие эпохи. Не пересказ, а поэтическое
выражение — к этому тогда все мы стремились.
Пространство, движение, связь вещей — во всем этом хотелось
найти не бытовую, внешнюю связь, а внутреннее единство.
Вот почему приход Тынянова в «Севзапкино» был для нас
так важен. Он обладал в превосходной степени чувством
глубины зрительных образов.
К сожалению, не сохранился его сценарий «Обезьяна
и колокол», однако некоторые образы — основу
замысла — я попробую воспроизвести по памяти.
Дело происходило в середине XVII столетия. Несколько
подлинных документов — голландских и русских — стали
основой зрительных метафор. Царь и бояре за озорство
и безбожие решили свести со света скоморошье племя. За
Москвой-рекой полыхал гигантский костер, подъезжали
возы: в огонь летели шутовские гудки, сопелки, волынки.
Разыскали еще одного виноватого: колокол вдруг зазвенел
на веселый лад. Его приволокли на лобное место, палачи
нещадно били медного преступника плетями, вырвали
у него по царскому приказу язык и ухо. Затихла Москва.
Умолкли озорные песни. Однако прошло немного времени,
и защелкали, зазвенели по деревням ложки и бубенчики.
Скоморохи, бесправные и поротые, пошли по дворам.
Народное искусство спаслось от казни, удрало из боярских
хором, выжило.
Во всех этих замыслах был масштаб обобщения,
размах поэтической идеи.
В воспоминаниях не раз описывалось чтение
Тыняновым вслух, его талант перевоплощения — почти актерский.
И все же читал он свои произведения не по-актерски. Была
во всем его тоне особая густота, значительность, подчер-
кнутость ритма. Так в зависимости от величины зала чтец
не только меняет громкость, дикцию, но и сам посыл чувств
и мыслей становится иным в многотысячном амфитеатре.
Действующие лица Тынянова — от Пушкина до какого-
нибудь продажного журналиста или пустякового
чиновника — выходили в его произведениях на простор истории. И,
читая, Юрий Николаевич ощущал огромность, гул
пространства. Он как бы лепил из множества объемов единый
массив. Площади участвовали в действии: Сенатская,
Глава вторая
105
Адмиралтейская; было «томительное колебание
площадей» («Кюхля»); предметы одухотворялись, открывалась
внутренняя связь между людьми и вещами. Время бродило
в крови, проходило током сквозь камень и железо.
Юрий Николаевич ненавидел декламацию, был
совершенно естествен, в высшей мере обладал юмором, но, когда
он читал, лицо преображалось: строгость и важность
появлялись в его облике, тяжелый темный взгляд из-под
большого светлого лба устремлялся вдаль, мимо
слушателей, и даже если события происходили в небольшой
комнате, а слушатель был в единственном числе, автор
стремился передать в своем чтении огромность событий
и пространства.
Действие его сочинений происходило не только в
реальных, точно описанных местах: нумерах Демута на углу
Невского и Морской или в какой-нибудь неопрятной
полковой канцелярии, а и на просторе государственной истории.
Задача состояла не только в том, чтобы правдиво
воссоздать вчерашний день, но и в том, чтобы измерить прошлым
значение сегодняшнего.
«Мы живем в великое время,— писал он,— вряд ли кто-
либо всерьез может в этом сомневаться. Но мерило вещей
у многих вчерашнее, у других домашнее. Трудно
постигается величина».72
В каждый период есть у художников — при всей
несхожести дарований — и общие черты: поиски идут в
определенном направлении. Искусство первых лет революции
имело одной из своих отличительных черт и эту: поиски
величины. Революция как бы сразу же изменила точку
зрения. Открылась высота, с которой теперь только и
стоило видеть жизнь. Вот почему с такой непримиримостью
отрицалось тогда все бытовое в искусстве. Неужели
достойно стать художником в эпоху мирового переворота
лишь для того, чтобы копировать мелочное, пересказывать
обыденное?
Да и что представляла собой эта обыденность? Старое
расползалось на глазах, новое только устанавливалось,
каждый день приносил что-то иное.
Только не натурализм, только не быт!.. Под таким
лозунгом начало трудиться новое поколение
кинематографистов. Поначалу из-за возраста и беззаботности дело
106
Глубокий »кран
казалось простым. Сам угол зрения кинообъектива
создавал, как нам казалось, масштаб. С вышки Ростральной
колонны открывается еще большая панорама?.. Завтра
снимаем оттуда.
Величина, казалось нам, это комсомолка Октябрина,
выгоняющая вон врагов из пролетарского города,
сбрасывающая с крыши Исаакиевского собора хищного
капиталиста и зловредного нэпмана.
Детство прошло скоро. Оно закончилось на маленькой
комической. Стало понятно, что величина относилась лишь
к размеру чучел из тряпок, водруженных на первомайский
грузовик.
В «Чертовом колесе» мы изо всех сил старались
укрупнить фигуры, придать событиям значение. Налетчик (его
играл Сергей Герасимов) становился у нас чуть ли не
символическим образом какого-то короля темных сил;
к переживаниям мальчишки-призывника мы припутывали
кадры «Авроры» в октябрьскую ночь; шайку не просто
ликвидировали, а уничтожали в особом масштабе: сами
дома, где обитало жулье, разрушались до основания; под
каменными обвалами гибли последние остатки недоброго
прошлого.
Стремление к величине нередко приводило к
неправдоподобию, пережиму.
И все стало иным, когда в 1926 году началась работа
над «Шинелью».
«Киноповесть «Шинель» не является
киноиллюстрацией к знаменитой повести Гоголя,— писал Тынянов в
либретто фильма.— Иллюстрировать литературу для кино —
задача трудная и неблагодарная, так как у кино свои
методы и приемы, не совпадающие с литературными. Кино
может только пытаться перевоплотить и истолковать по-
своему литературных героев и литературный стиль. Вот
почему перед нами не повесть по Гоголю, а киноповесть
в манере Гоголя, где фабула осложнена и герой драматизо-
ван в том плане, которого не дано у Гоголя, но который как
бы подсказывает манера Гоголя».73
Речь шла, конечно, не только о внешних приемах, но
и о всем характере образности. Кинематографическое
перевоплощение этой образности противопоставлялось ил-
Глава вторая
107
люстрации; на экран должны были перейти не только герои
и отдельные положения, а и сам размах художественного
мышления автора. Даже теперь трудно приуменьшить
важность такой задачи.
Оценить сценарный замысел Тынянова можно лишь
в сравнении с экранизациями той же поры. «Великий
немой» был темным читателем. От классики на экране
оставались лишь фабула и антураж; остальное считалось
«некинематографичным». В особенной чести был быт.
Помещики с бакенбардами раскуривали длинные чубуки,
гусары в расстегнутых венгерках жгли сахарную голову на
скрещенных саблях; перед усадьбой гуляла барыня с
болонкой на поводке, строго поглядывая через лорнетку на
крепостных.
В этих лентах Тургенев не отличался от Пушкина,
Лермонтов походил на Льва Толстого, как'родной брат.
Тынянову хотелось показать как бы сгусток
петербургских повестей; в сценарии «Шинель» была объединена
с «Невским проспектом». При неверном свете фонарей,
когда все представляется не тем, что оно есть, когда все
лжет, на Невском проспекте начиналась эта история, а
кончалась она в мертвом департаментском мире.
Мечты Башмачкина — и молодого и уже потерявшего
возраст — сталкивались с жестокостью жизненного
порядка. Как писал Юрий Николаевич в либретто, это был
«порядок гротескной канцелярии с нелепыми бумагами, за
которыми шевелится чудовищная социальная
несправедливость, порядок Невского проспекта с фланирующими
щеголями и дамами, опустошенными до крайности, как бы
доведенными до одной внешности, страшный порядок
страшного гоголевского Невского проспекта, где царствует
кондитер и парикмахер, завивающие и подрумянивающие
улицу,— труп николаевской столицы».74
Тынянов виртуозно использовал черновики Гоголя,
отдельные положения, лица, детали из других его
произведений. Это была тончайшая и сложнейшая мозаика,
создать ее мог только историк литературы. В действии
участвовали провинциальные помещики; подобно Ивану
Ивановичу и Ивану Никифоровичу, они вели бесконечную
и бессмысленную тяжбу (шли и шли прошения, горы бумаг
росли в департаменте) ; в притоне гуляли чиновники (нуме-
108
Глубокий экран
pa содержал «иностранец Иван Федоров»);
незначительное лицо умело брало взятку и становилось значительным
лицом.
Все это занимало первые части, потом следовала
полностью и в почти неизмененном виде «Шинель». Мне
теперь трудно судить, имело ли смысл вводить в картину
молодость Башмачкина,— на это были у сценариста свои
соображения. Способы перенесения классики на экран
могут быть разными; нет порока и в объединении
нескольких произведений единого цикла. Думаю, что автор «Кюх-
ли» вряд ли отнесся к творчеству Гоголя с неуважением.
Для нас эта работа имела огромное значение.
Произошло, казалось бы, нечто странное; в период увлечения
стихией кинематографии, когда все наши интересы были
связаны только с этим искусством, мы углубились в
гоголевские страницы и уже не могли начитаться досыта.
Вчитываясь в книгу, сочиненную в век, когда о кино и
помину не было, мы открывали для себя новое в
возможностях экрана.
Совершенно этого не заметив, мы оказались за партой:
учились сложнейшему делу в режиссуре — умению читать.
Менее всего я имею в виду профессиональное чтение;
плохо, если кинематографист выискивает на страницах
лишь то, на что способен, по его мнению, экран; вероятно,
он, этот экран, способен передать многое. В преодолении
представлений о кинематографичном развивалось и
продолжает развиваться кино.
Книгу проходят в школе, узнают с пересказа,
рассматривают иллюстрации к ней художников; книгу листают,
проглядывают. Существует много способов общения с
книгой. Но есть особая глубина вчитывания, в которой только
и может образоваться бродильное начало замысла
постановки,— та степень пристрастия к произведению, которую
уже не удовлетворить пересказом или иллюстрациями;
насущной необходимостью становится воссоздать образы
в пространстве и времени, сделать их реально
существующими. Тогда кажется, что сама жизненная энергия автора
как бы переходит в другой вид творчества, движет уже
иным родом образов. Фигурально говоря, сложность не в
том, чтобы с возможной точностью перерисовывать столбы,
провода и изоляторы, но чтобы подключиться к току.
Глава вторая
109
Однако читателю (в том числе и режиссеру) лишь
кажется, что он вполне самостоятелен в таком, казалось
бы, личном деле, как чтение. Ему, этому читателю, только
представляется, что он может остаться наедине с автором.
Множество обстоятельств проникают в самый уединенный
угол, заставляют увидеть образы по-особому. Слова,
написанные столетие назад, воспринимаются уже по-иному.
Современная жизнь бросает отсвет на страницы; нет штор,
которыми можно было бы закрыться от света нового дня.
После нашего фильма «Шинель» ставилась не раз: ее
играли в Италии, во Франции, на «Ленфильме» сняли
новый, уже звуковой вариант. Вероятно, каждая из
постановок отличалась от другой не только дарованием
участников, но и тем, что режиссеры читали гоголевскую повесть
в несхожих жизненных условиях (даже Ленинград за
четверть века, прошедших между двумя постановками,
изменился до неузнаваемости).
Вероятно, в иное время фильм был бы и задуман и снят
по-другому. Многое тогда воздействовало на нас, и
сознательно и бессознательно примешиваясь к чтению.
Что же это были за влияния?
Джей Лейда в своей «Истории советского кино»,
разбирая нашу постановку, вспоминает экспрессионистов,
фильм «Последний человек» режиссера Мурнау.75 Сами
художники вряд ли достоверные свидетели, когда судят их
работу, однако в этом случае мне хотелось бы дать и свои
показания. Картину Мурнау мы тогда еще не видели — она
не шла в нашем прокате; что же касается немецких
фильмов той поры, то они своей театральностью были нам
совершенно чужды. Особенно не в чести у всех нас были
экспрессионистские ленты. Чем могли привлекать
любителей стихии кино густо загримированные маньяки и
лунатики, блуждавшие на фоне искривленных театральных
декораций?..
Киноведы в связи с нашим фильмом много лет спустя
писали о стилизации, влиянии Э.-Т.-А. Гофмана (одна из
участниц семинара в Брюсселе 76 вспомнила даже Кафку),
а на деле все обстояло гораздо проще. Лютой зимой
1920/21 года, после спектаклей Комической оперы,
приходилось возвращаться домой на Петроградскую, идти ночью
по пустынному городу через занесенную снегом Михайлов-
110
Глубокий экран
скую площадь, мимо призрачного видения покрытого
инеем Инженерного замка. Я выходил на огромное Марсово
поле, утопая в сугробах, брел мимо угрюмого особняка
с колоннами, казармы в целый квартал на Миллионной;
поседевший бронзовый Суворов, обнажив меч, сторожил
громаду Троицкого моста; приближались двуглавые орлы
на гранитных обелисках, орлы на чугунных решетках,
орлы на черных, давно погасших фонарях, бесконечная
замерзшая Нева. Было холодно так, что больно дышать,
казалось, что ты неведомым путем забрел в какой-то
заповедник мертвой империи; из-за ночи и стужи ты
оказался один в недоброй пустоте, среди обледенелых дворцов и
статуй.
Даже жулье чувствовало настроение этих пейзажей
и принимало особое обличье. В те ночи «попрыгунчики»
(название шайки), укутавшись в простыни, как в саваны,
выскакивали на ходулях из-за сугробов и с воем
набрасывались на прохожего.
Кадры «Шинели» — снежная площадь, пересеченная
тенями грабителей, Акакий Акакиевич, зовущий о помощи
среди безлюдья черных проспектов, грозные памятники
в метели, кривые тени печных труб на стене каморки —
были навеяны не немецкими фильмами, а самой
реальностью. Ощущение нежизненности, фантасмагоричности
пейзажей образовалось не только от ночного безлюдья и
морозной дымки,—- были и иные причины, углублявшие
зрительные впечатления.
Прошлое, по контрасту с современностью, казалось до
странности неправдоподобным. Нити, связывающие эпохи,
оборвались. Для молодых людей революцию от
самодержавия отделяло не несколько лет, а века. Восстание
гладиаторов представлялось событием более понятным,
даже в какой-то мере обыденным, нежели дворцовый
прием или служба в казенном присутствии. Не только идеи
монархии, но и весь ее быт отодвинулись в бесконечную
даль, отошли в область мрачных преданий.
Неужели были на самом деле крепостное право,
иерархия классов и чинов, департаменты, где армии чиновников
корпели над бессмысленными прошениями?
Прошлое уже трудно было представить себе как
реальность: оно казалось наваждением. И все же морок длился
Глава вторая
111
царствования; под дробь николаевских барабанов жили
люди. Какой же могла быть эта жизнь? Картина,
написанная Гоголем, поражала сочетанием ощущения
совершенной достоверности и одновременно кошмара; казалось
вполне убедительным, что бред действующих лиц часто не
отличался от их повседневного существования, а будни
напоминали бред. Форма возникала из самого содержания,
из его сути: для неестественных жизненных отношений
гротеск становился естественным способом отражения;
стирались границы между обыденным и фантастическим,
один план незаметно переходил в другой, и не казалось
странным, что покойник чихал от нюхательного табака,
а полиция приказывала ловить мертвеца «живого или
мертвого...» Кто тут был живой, кто мертвый, что
приснилось, а что было наяву?..
Жизнь представала как бы просвеченной. Сквозь лица
и события стало видным: общественное устройство —
подобно кошмару, государственный строй — мертвец.
Все это по-особенному отчетливо, картинно
представлялось в пустынные петербургские ночи начала 20-х годов.
Дни были полны жара работы, радости ощущения общего
дела, перед глазами было многолюдье сборищ, кипение
интересов, веселая суета, а ночью в сплошной черноте
возникало прошлое: проспекты «неких департаментов»,
вытянутые по линейке роты и линии; казалось, что лютый
петербургский ветер выгонит сейчас в трубу василеостров-
ского переулка вечного титулярного советника и погонит
его в куцем чиновничьем вицмундире сквозь строй колонн
и монументов.
Так крохотная фигурка сошла с гоголевских страниц
и шагнула в декорации из гранита и бронзы, будто
специально для нашего фильма сохраненные замороженными
среди живого города и кажущиеся поэтому особенно
выразительными рядом с этой новой жизнью.
Зам осел постановки петербургских повестей
образовался у нас в холодном и голодном Петрограде; это во
многом и определило фильм.
Пробуя восстановить в памяти прошлые работы, я
невольно пользуюсь словами, которые тогда не были в ходу,
понятиями, нам в те времена еще неизвестными. Но на-
112
Глубокий экран
правление поисков я стараюсь передать с возможной
точностью. Направление выявлялось в борьбе,
утверждалось в отрицании. Нередко мы еще смутно представляли
себе конечную цель, зато отрицательный опыт был перед
глазами. Бескрылость исторических лент, снимавшихся
в те годы, по-своему учила. Мы видели, что все в этих
лентах существует как бы по отдельности: колонны, предметы,
костюмы, парики подобраны согласно хронологии,
расставлены в ателье или напялены на актеров, а потом
механически воспроизведены на экране. Ничто не связано
внутренним художественным единством. Съемка, свет,
монтаж — лишь техника репродуцирования. Натурализм
«живой фотографии» еще и усиливал обычную тогда
театральность игры, грубость грима. На экране была
подделка, фальшь, липа.
Мы мечтали о зрительной поэзии. Нам казалось, что на
страницах петербургских повестей можно отыскать и путь
к поэтичности пластики. В художественной ткани повестей
мы находили пример совершенной слитности всех, даже
мельчайших частей изображения, объединенных не только
сюжетом, развитием характеров и отношений, но и самим
зрением писателя. Мы хотели одухотворить таким
видением кинокамеру: превратить объектив в глаза автора.
Впервые мы ставили исторический фильм. Новые
задачи появились перед всем нашим коллективом. Трудность
состояла не только в том, чтобы отыскать старинные, не
перестроенные улицы, пустить по ним музейные кареты
и дрожки, людей, одетых по давней моде, то есть
восстановить как можно точнее и правдоподобнее городскую жизнь
30-х годов прошлого века, но и в том, чтобы все приобрело
какой-то особый, гоголевский характер.
Мы погрузились в материалы. Однако стоило нам
заглянуть в современные Гоголю описания, гравюры,
старинные панорамы Невского, как обнаружилось
совершенное отличие всех этих изображений от гоголевских.
Проспект в действительности был невысоким, витрины
небольшими, да и само движение сравнительно тихим.
Перед нами было «вчерашнее видение», «домашние
мерки».
Какими же способами преображало зрение автора эту
обыденность в ослепительный морок?.. Еще в «Ночи перед
Глава вторая
113
Рождеством» столица возникала «вся в огне», огромная,
полная света и грохота, даже какой-нибудь ничтожный
«стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и
отдавались с четырех сторон». Все находилось в стремительном
движении, резком изменении форм: «дома росли», «мосты
дрожали», «стены громоздились», «кареты летели»...
Особые способы преображали реальность в
фантасмагорию. Прежде всего — и для нас это было чрезвычайно
важным — столица была видна при определенном
освещении. Стоило перечесть другие произведения писателя, как
характер такого света по контрасту становился еще более
отчетливым. Из-за крыш никогда не выкатывалось на
санктпетербургское небо веселое, ярмарочное солнце Ди-
каньки, никогда не забредала сюда ласковая луна
деревенских колядок. Вместо луны в сумерки загорались фонари,
сам дьявол зажигал их.
Неверный, призрачный свет искажал реальные
очертания, придавал всему обманный вид. Лампы иногда
накалялись до противоестественной яркости, тогда при этом
воспаленном свете казалось, что «мириады карет валятся
с мостов», «все превращается в гром и блеск».
Фонари были не столько масляными лампами, сколько
огнями лживой цивилизации, противоестественной,
враждебной всему человеческому. Город знатных и богатых был
враждебен бедному, «гром и блеск» оглушал, ослеплял
бедняка, и тот погибал, приняв гулящую девку за
«небесное создание», или, свернув в боковые переулки, он
попадал в мрак ледяной пустыни, где грабители срывали
с его трясущихся плеч чиновничье счастье с кошачьим
воротником.
Нам казалось, что путь от таких описаний до
расстановки осветительных приборов на съемке короток. В ответ
на все наши восторженные слова Москвин только пожимал
плечами: на студии было лишь несколько плохо
работавших «юпитеров», ламп, вовсе не приспособленных для
такого освещения.
Решено было достать военные прожекторы и
недостатки превратить в способ выражения. Ведь можно
высвечивать лишь контуры предметов и фигур? Попробуем
передать образ города отдельными сопоставлениями
масштабов, бликами и тенями. Ведь задача наша — не воспро-
114
Глубокий экран
извести в подробностях красоты старинной архитектуры,
а показать бесчеловечную мощь парадных фасадов,
одинокость, придавленность человека среди этих
пространств.
Кино было немым; эпичность мы искали в зрительных
образах. Ничтожность жизненного места вечного
титулярного советника хотелось показать самим соотношением
его фигуры с просторами столицы, громадами казенных
зданий, где под сводами скрипела армия чиновников и
бумаги на столе Башмачкина вырастали горами, заживо
погребая под собой людей. Фантастические кадры бреда
Башмачкина хотелось выразить лишь изменением
положений тех же действующих лиц в той же реальной обстановке
и сгущением теней: перед смертью Акакию Акакиевичу
мерещилось хохочущее Значительное лицо, вознесшееся на
верх канцелярского шкафа; толпы чиновников, гогоча,
швыряли в титулярного советника писчими перьями, с
головой засыпали его ворохами бумаг для переписки.
Характер многих зрительных образов непосредственно
вычитывался у Гоголя, мы пытались воспроизвести и
«бесконечную площадь... которая глядела страшной
пустыней», и сделать так, чтоб будка стрелочника «казалась
стоящею на краю света».
Взамен прошлого увлечения крупными планами мы
стали снимать далекие общие планы; Башмачкин казался
в кадре совсем крохотным. Таких пропорций фигуры и
пространства не знало кино той поры. Сцена ограбления
снималась с высокой площадки — на целину снежного
поля. Акакий Акакиевич возвращался с вечеринки,
укутавшись в свою новую, подбитую ватой шинель, он казался
в ней большим, полным, даже внушительным., вдруг путь
пересекала косая и длинная, во всю площадь, тень, потом
вторая, третья... Грабители срывали шинель и убегали.
Снимался совсем мелкий план: среди истоптанного
сапогами снега одинокая тщедушная фигура, трясущаяся от
ужаса. Башмачкин бежал по ночным улицам, кричал
в пустоту, призывая на помощь... В кромешной тьме
появлялись контуры колонн Казанского собора, силуэт
бронзового Кутузова с поднятой рукой, сфинксы на Неве
у Академии художеств. И среди всех этих — снятых
дальними планами — улиц, площадей, памятников блуждала
Глава вторая
115
маленькая фигурка, дрожащая на лютой стуже
петербургской зимы.
Огромное и прочное — гранит и бронзу — мы
соотносили с крохотным и хрупким «одним человеком»; крайнюю
меру мизерности — с масштабом столицы империи.
Москвин снимал Значительное лицо камерой,
лежавшей на полу: резкий ракурс снизу делал фигуру подобной
монументу, а когда сановник с высоты своего величия
бросал взгляд на Башмачкина, камеру подымали на
вышку, круто поворачивали объективом вниз: Акакий
Акакиевич выглядел в кадре еще более маленьким, прижатым
к полу.
В 1926 году такие приемы применялись впервые, только
начинали осваиваться. Большинство фильмов снимались
по старинке, камера почти не двигалась.
Сроки сдачи фильма приближались. Надо сказать, что
эту работу мы получили при обязательном условии снять
и смонтировать фильм за полтора месяца. Причина спешки
была своеобразной: картину почему-то хотели выпустить
к пасхе. То ли горести Акакия Акакиевича должны были
отвлечь верующих от церкви, то ли в это время
рассчитывали на лучшие сборы. Во всяком случае, срок необходимо
было выдержать. Съемки длились сутками, с маленькими
перерывами. В бывшем отдельном кабинете «Аквариума»
были горой навалены на полу николаевские шинели и
бекеши — гардероб фильма. Если выпадал свободный час,
спали здесь же, на бобровой шинели Значительного лица
или зипуне портного Петровича. Сил хватало, ничего,
кроме радостного возбуждения и веселого азарта, мы от
такого порядка работы не чувствовали. Монтажом удалось
заняться только несколько ночей: срок истекал.
Первого мая «Шинель», снятая и смонтированная
ровно в шесть недель, вышла на экран — единственная
советская картина в репертуаре декады.
«Радостная травля ленинградской критики на этот раз
превысила все, что может представить себе средний
читатель,— писал Тынянов, вспоминая выход фильма,— один
критик назвал меня безграмотным наглецом, а фэксов,
если не ошибаюсь, предлагал вычистить железной метлой.
Это был, кажется, студент вуза, в котором я преподавал.
116
Глубокий экран
Теперь он хвалит. Другой рассуждал так: классики —
народное достояние; сценарист и режиссеры исказили
классика: прокуратура должна их привлечь за расхищение
народного достояния. Где этот критик сейчас, я не знаю, но
боюсь, что он жив и работает». 77
Критика оказалась действенной. Проходя по коридору
студии, мы увидели приказ и нашли в нем свои фамилии:
нас уволили по сокращению штатов. Дирекция не
вкладывала в свое решение страсти, отношение к нам было скорее
хорошее. Мы договорились: нам дадут аппарат, пленку
(небольшое количество), и наш коллектив получит
возможность снять фильм с ничтожными затратами,
разумеется, не получая зарплаты.
Газеты тех дней были полны материалами о режиме
экономии. Сценарий «Братишка» — мы его сочинили
сами — был совсем прост: директор небольшого завода
списал в брак изношенный грузовик. Водитель, не согласный
с бесхозяйственным приказом, отыскал машину на свалке
и уговорился с друзьями отремонтировать ее.
Мы позабыли о фантасмагории гоголевского Невского
и оказались на ленинградских солнечных улицах.
Действующими лицами являлись водители, рабочие гаража,
трамвайная кондукторша (симпатия нашего героя). Грузовику
мы сочинили прошлое: в дни Октября он мчался по улицам,
красноармейцы с винтовками лежали на крыльях машины,
потом машина развозила пионеров по лагерям; «старик»
славно потрудился на своем веку.
Была в «Братишке» сцена, где герой после долгих
поисков попадал на автомобильное кладбище, среди
вросших в землю железных калек там стояла и сданная на лом
машина. Зрелище «раскулаченного» (как говорят теперь
шоферы) грузовика потрясло героя. Сцена представлялась
нам не менее лиричной, чем дуэты Ромео и Джульетты.
Снимали при заходе солнца; последний луч на мгновение
как бы зажигал помятые фары грузовика. На миг
вспыхивали фары и на всем кладбище: искалеченные машины,
казалось, ласково подмигивали.
Отсутствие средств нас не удручало. Режиссеры,
оператор, актеры пешком отправлялись на съемки, таща на
плечах камеру, подсветки. Управхоз дома на Невском —
любитель экрана — разрешил работать на крыше (павиль-
Глава вторая
117
онов нам не давали). Еней сам сколотил стенку с
переплетом окна; стол директора (его потешно играл С.
Мартинсон) получился на фоне улицы: вдали проезжали трамваи,
толпились прохожие.
Просматривая теперь старые рецензии, я нашел отзыв
П. Незнамова о «Братишке». Не могу отказать себе в
удовольствии привести его: «В печали шофера,
прикрепленного режиссерами к грузовику, так много мировой скорби,
что это выглядит почти карикатурно. Этот шофер
задумывается, как Гамлет... Злополучный грузовик показан на
улицах Ленинграда неким механизированным
Росинантом...» (газета «Кино», 1927, 17 мая).
Попробуй после этого не верить критическому
предвиденью.
Тынянов и Ю. Г. Оксман написали сценарий «Союз
великого дела» (С.В.Д.) о восстании Черниговского полка
и настояли, чтобы фильм поручили нам с Траубергом. Мы
вернулись в штат «Ленинградкино».
«Когда мы с Ю. Г. Оксманом писали сценарий этой
вещи, мы хотели в противовес мундирам, безвкусице и
параду, данным в «Декабристах», осветить крайнюю левую
декабристского движения,— писал Тынянов.— Фэксам в
этом сценарии понравилась романтика двадцатых годов,
и им удалась не хроникальная и не историческая сторона
дела, а нечто другое: кинематографический пафос.
Картина восстания, где использованы и обыграны все
ситуации бережно и расчетливо,— лучшее, что сделали
фэксы». 78
Многое в фильме нам совсем не удалось. Однако
благодаря авторам перед нами были новые задачи и
материал, с которым нам еще не приходилось иметь дела.
Приходила пора, и каждый из нас задумывался над
историей революции, воссоздавал так, как это ему
представлялось, сцены восстания, реакции, борьбы за свободу. Само
время как бы заставляло сдать такой экзамен.
Когда мне теперь приходится бывать на площади
у Зимнего дворца или проходить ворота Смольного, я
невольно останавливаюсь, смотрю на асфальт: нет ли дырок?
Мне кажется, здесь еще остались следы штатива канокаме-
ры Эйзенштейна и Тиссэ, Пудовкина и Головни, здесь
Москвин устанавливал кадр: Максим выходил из дверей,
118
Глубокий экран
шел мимо рабочих отрядов, пулеметов, костров,
грузовиков. 79
В «Союзе великого дела» (С.В.Д.) нам предстояло
показать один из эпизодов декабристского движения. Ге-
роичность и одновременно обреченность мятежа,
подготовленного людьми, далекими от народа; пламя, на
мгновение вспыхнувшее во мраке. Все это хотелось выразить
романтическим строем. Образ Тютчева: кровь, пролитая,
«чтоб вечный полюс растопить»,— пожалуй, наиболее
близок пластике, к которой мы тогда стремились и которую так
трудно определить словами.
Едва дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов. 80
В самой природе — в лютых морозах, кромешной тьме
бесконечных ночей, в снеге, льде, метели — мы искали
материал для своеобразной трагической графики. Мы
снимали полк до восстания: ровный четырехугольник
заснеженного плаца, передвижение геометрических фигур,
выровненные по линейке носки сапог, кивера, механический
шаг и взмах рук, единообразные лица, усы, бакенбарды,
подстриженные на один манер.
Монтаж — из кадра в кадр — выстраивал мертвое,
лишенное всего человеческого, движение, ход военного
механизма. Чередовались темные кадры каре рот и светлые
одинокие фигуры командиров (тоже на общих планах) на
утоптанном снегу.
По контрасту с геометрическими, как бы
обездушенными кадрами — огонь и вихрь мятежа. Ритмическим
мотивом всего монтажного эпизода стал ветер. На натурных
съемках теперь часто появлялись аэросани: метель неслась
по экрану. Москвин превращал снежный вихрь в
светящуюся пелену лучей. Трепетали огни факелов, росла
толпа бунтовщиков — ничего геометрического уже не
было в очертаниях,— веселый мальчишка-барабанщик со
счастливым лицом выбивал дробь; над штыками,
летящими в небо киверами появлялись фигуры главарей. Офицер
в очках давал команду, восставший полк уходил не то
в пламя, не то в метель добывать свободу. Тени идущих
Глава вторая
119
людей вырастали в крутящихся хлопьях снега, толпа
казалась огромной.
Наступало мутное, серое утро: перед мятежниками,
вышедшими на снежную равнину, стояли пушки, шеренги
правительственных войск, бездушные геометрические
формы -- черные на белом. Мы ставили себе задачей показать
одинокость восставших, ничтожность их сил сравнительно
с мощью империи.
Силуэты всадников из штаба карателей, взмах сабли
механической фигуры, залпы картечи один за другим —
дым закрывал кадр. Наступала ночь, иная, чем ночь
восстания. Рваные облака ползли по небу, над полем
клубился туман, обволакивая силуэты трупов, падаль, волка,
вышедшего на добычу. Медленное движение стелющегося
дыма создавало зловещий контраст с неподвижностью
мертвого пространства, ощущение гнетущей тишины.
Во времена немого кино мы нередко отчетливо
представляли себе звук, чисто звуковой контраст определял
и эту сцену. Среди занесенных снегом трупов возникало еле
заметное движение: раненый мальчик-барабанщик
приподнимался, из последних сил заносил над исковерканным
барабаном палочки, выбивал дробь, как бы призывая
мертвых к бою. Услышав призыв, шевелился еще один
человек: близорукий офицер шарил окровавленными
пальцами по снегу, находил раздавленные очки, опять терял
сознание. На другом конце поля ползла еще одна фигура:
тяжелораненый приподымался, выпрямлялся один над
полем боя — последняя живая душа, подымал руку, как бы
желая что-то сказать, и падал мертвым.
Короткую сцену отлично исполнил один из учеников
нашей мастерской; несколько движений и смерть,
сыгранные Олегом Жаковым, обратили на себя внимание
зрителей — это было его первое выступление на экране.
Мы продолжали осваивать особый вид декорации;
среду сцены образовывал сам воздух. Сон в «Шинели» (из
«Невского проспекта») начинался с пара: чайник кипел на
печурке, клубы пара заполняли каморку, появлялись
смутные очертания швейцара в ливрее, он протягивал бедняку
приглашение на бал. В «С.В.Д.» снималась сцена игорного
дома. Эрмлер в ту пору любил курить «с шиком»: глубоко
затягивался, выпускал дым плотными кольцами. Наш то-
120
Глубокий экран
варищ согласился помочь образности сцены. Будущий
постановщик «Великого гражданина», присев на корточки
перед кинокамерой, в течение долгой съемочной смены
затягивался и выпускал кольца дыма перед объективом,
иногда надевая одно на другое. Сквозь медленно
движущиеся, расплывающиеся круги дыма казались
призрачными огни свечей, смятые ассигнации на столе, лица
провокаторов, карателей, карьеристов. Кадры вышли удачными,
а Эрмлера долго мутило от непрерывного курения.
Фильм шел за рубежом. Французская фирма
переименовала его в «Окровавленный снег». Издательство «Гали-
мар» решило выпустить роман, написанной по нашей
ленте; молодой поэт, в ту пору сюрреалист, посмотрев
фильм, взялся выполнить заказ. Кажется, это было первое
кинематографическое сочинение Жоржа Садуля.
Несколько лет назад, за год до своей смерти, он сам, смеясь,
рассказал мне про это. 8|
Институт истории искусств предложил нашей
мастерской показать свои работы. В программе вечера были
пантомимы — подготовительные упражнения и репетиции
сцен из фильмов. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, А. А. Гвоздев,
С. С. Мокульский доброжелательно и серьезно обсуждали
наши опыты, игру учеников. Было решено открыть в
Институте киноотделение. Меня пригласили преподавать, вести
исследовательскую работу. Вместе со студентами (все они
были старше меня) мы разбирали фильмы, собирали и
систематизировали все то, что, как нам казалось, относится
к кинематографической выразительности, эстетике этого
искусства. Предметом особого внимания были ленты
Гриффита, Чаплина, Штрогейма. В нашем прокате шли тогда
комические Мака Сеннетта: мы открыли в них немало
интересного. Записи комических кинометафор, сделанные в то
время (потом я опубликовал их в статье о Чаплине),82
пригодились, они до сих пор приводятся в нашей
кинолитературе.
Прошел год, наступило время принимать зачеты,
ставить отметки. Лето было жарким, экзаменационную сессию
я перенес на ступеньки Исаакиевского собора (Институт
помещался напротив, в бывшем особняке Зубова).
Обстановка облегчала положение двадцатидвухлетнего педагога.
Глава вторая
121
Красноречие молчания
У каждого искусства своя особая история, путь
развития. В одни периоды плодотворно воздействие соседей,
в иные, напротив, необходимы границы собственной земли,
как бы запертые на замок, обследование прежде всего
своей области.
В наши дни переход со сцены к кинокамере нетруден.
В фильмах уже давно слышна речь, театр во многом
изменил свою эстетику: сдержанность выражения —
воздействие крупного плана и микрофона — присуща теперь
обоим искусствам. Оралы, как говорил еще Аркашка в
«Лесе», давно не в моде.
Иным было положение в начале 20-х годов. Общие
и неоспоримо разумные мысли об единстве природы
актерского мастерства тогда мало могли помочь
кинематографии. Так же мало, как эти истины оказались бы полезными
танцору, решившему ограничиться лишь ими: была бы,
мол, правда в душе, а танец приложится.
Бесспорно, между родами актерского искусства немало
общего; однако достаточно и различия. Начинать
приходилось с подчеркивания различия. Прививка театра
оказалась бесплодной, артисты, славившиеся естественностью
на сцене, карикатурно переигрывали в кино; Шаляпин
и Дузе почти не оставили следа своего гения на экране.
Случалось так, что театральные мастера при входе на
киностудию как бы сдавали в гардероб вместе с пальто,
шапкой и галошами талант и мастерство.
В чем же заключалась причина? В отсутствии текста
или, может быть, в непривычности играть отдельные кадры
вместо длительного существования в роли? Возможно, что
мешали сами условия труда? Причины были и такие, и еще
множество других. Но главной была иная: плуг искусства
еще не прошел по этой земле, пересадка даже лучшего из
других областей оказывалась бесплодной; чернозем еще не
был поднят.
Сама исходная точка, первое же свойство —
условность, присущая каждому виду творчества,
воспринималась по-одному театральными художниками, по-иному
молодыми кинематографистами. Для одних молчание было
бедствием, ограничением средств, для других — велико-
122
Глубокий экран
лепным своеобразием, задатком неисчислимых
возможностей.
Английский критик Поль Денн вспоминает в одной из
своих статей, как прославленного Гамлета — Форбс-Ро-
бертсона пригласили сниматься; артист походил перед
камерой, примерился, однако, когда скомандовали начать,
он остановился и закричал:
— Дайте мне стихи, черт вас возьми, мне же нечего
делать без слов!83
Горевать из-за отсутствия речи было, по нашему
мнению, так же неразумно, как живописцу плакать, что холст
плоский, или скрипачу жаловаться, почему инструмент не
может издать и трубных звуков.
Впрочем, театральные актеры вовсе не снимались тогда
без слов. Теперь даже трудно представить себе, какой ор
стоял в ателье. В «Севзапкино» любили произносить перед
объективом пылкие речи в голос. Режиссеры требовали от
исполнителей побольше жара: затраты на знаменитость
следовало оправдать. Пылкость на экране исчезала вместе
со звуком: «живая фотография» воспроизводила лишь
судорожные движения рта и неестественно выпученные
глаза.
Мы начали с совершенного отрицания всего
театрального и прежде всего громкой речи. Нашим ученикам,
кинематографистам чистых кровей, запрещалось
произносить хотя бы звук и на уроках и на съемке. Кино восхищало
всеми свойствами: молчание казалось прекрасным.
Неминуемо мы должны были начать с пантомимы. Так и
случилось: мастерская стала школой мимов.
Мало что можно теперь понять в молодых группах
начала 20-х годов, разбирая не их дела, а лишь слова их
руководителей. Чего только не писали! Эйзенштейн во
время постановки циркового спектакля утверждал в «Ле-
фе», что театры не нужны, их следует закрыть, заменить
«показательной станцией достижений в плане поднятия
квалификации бытовой оборудованности масс». 84 Какое
отношение такая теория имела к клоунаде «На всякого
мудреца довольно простоты»? Почему пролетариат должен
был учиться общественной организации быта, глядя, как
герои Островского ходят по проволоке или поют хором
Глава вторая
123
«У попа была собака*?.. Разумеется, в наши дни не стоит
труда объяснить нелепость такой постановки классиков,
в лучшем случае извинить озорство молодостью. Это
нетрудно. Сложнее ответить на вопрос: ну а если бы
Эйзенштейн поставил Островского по традициям Малого театра,
смог бы он потом, сразу же, снять «Стачку», «Броненосца
«Потемкина»?
Оборвать цепочку театральных традиций, на которой
все еще держалась на привязи кинематография, было
необходимо, а молодые художники проделывали это
обычно не так, мягко говоря, чинно, как разрезается ленточка
при открытии выставки.
Борьба с традициями часто оборачивается учебой у
традиций, только иных. Так было и в этом случае. Музам
хорошего, древнего происхождения пока нечего было
делать на съемках. Гадкого утенка учили делать первые шаги
няньки чудовищного происхождения. Я уже писал о
степени серьезности языка прокламаций 20-х годов. Однако,
несмотря на косноязычие эксцентрических манифестов,
было в них и положение действительно для нас важное.
Речь шла о так называемых «низких» жанрах.
Формулировки были нелепыми, а суть оказалась разумной.
Именноони, эти «низкие жанры», научили нас тому, что
молчание может стать золотом.
Крупицы золота уже были видны на экране. И
разумеется, менее всего их можно было обнаружить вг съемках
театральной игры.
Надо сказать, что отношение к истории кино было до
недавних пор достаточно невежественным. Только в
последнее время, да и то с трудом, определилась истинная
ценность многих явлений немого кино. Непросто было
увидеть в электрическом балагане элементы новой
эстетики. Левое искусство 20-х годов поняло и оценило поэзию
маленьких комических, феерий и приключенческих лент
задолго до того, когда в мире отпраздновали на
академический лад юбилей Мельеса и стали писать научные
исследования о Маке Сеннетте и Луи Фейаде.
Все мое поколение с детства влюбилось в мигающие
тени на полотне, в подпрыгивающих комиков и погони по
крышам. Не утренники в драматическом театре оставили
след в воспоминаниях, а «Вампиры» и Макс Линдер.
124
Глубокий экран
И путь в искусство (самый краткосрочный) у нас всех был
схожим: от живописи к театральным декорациям, от сцены
к экрану. В театр мы попали по ошибке: мерещилось нам
кино.
Наша мастерская постепенно стала лабораторией, где
в своеобразном сплаве левого искусства (все мы были
с детства «самыми левыми»!), опыта таких художников,
как Мак Сеннетт, Чаплин, Гриффит, а потом Штрогейм
и Кинг Видор, образовывалась система
кинематографической игры. Пожалуй, пристрастие левого театра к
пантомиме имело немалое значение. Именно тогда у нас впервые
гастролировали негритянская труппа «Шоколадные
ребята» (1926), театр Кабуки во главе с Итикава Садандзи
(1928). Пантомима играла важную роль в этих
представлениях. Ненависть к бытовому натурализму (я ее
испытываю и теперь) побуждала сгущать формы выражения,
стремиться к динамичности. Озорной дух 20-х годов —
буйство выдумки, страсть к контрастам и яркости, переход
границ жанров (любовь к цирку, эстраде, плакату
примешивалась ко всему) — сочетался с пристрастием к
геометричности, математической точности движения,
определенности форм: все мы прошли пору увлечения Сезанном
и кубизмом.
А экран учил многому. В комических царила
фантасмагория буффонады, гротескная пантомима; в мелодрамах
Гриффита заключалось иное, чрезвычайно важное —
герои действовали в реальной среде, на улицах, среди людей,
занятых обыденным трудом. В немых лентах уже была
«маленькая правда» физических действий: люди ели,
мылись по-настоящему, дрались в кровь, скакали на лошадях;
эти люди ходили в измятых житейских костюмах; лица
бывали потными, со щетиной небритости; в руках держали
настоящие вещи. Натуральность среды требовала и
естественности поведения людей.
Монтаж крупных планов и коротких кусков воспитывал
выразительность скрытой эмоциональности, силу еле
заметного движения, перемены взгляда, жеста.
Можно было, смотря на экран, учиться мощи такого
молчания. И мы прилежно учились. Не зря мы именовали
себя «фабрикой»: в названии заключалось не только
пристрастие тех лет ко всему индустриальному, но и ненависть
Глава вторая
125
к болтовне о «творчестве», «вдохновении», «святом
искусстве». Мы работали. Это был тяжелый и упорный труд.
Наши ученики начинали с освоения всех видов движения,
где дилетантизм невозможен, а совершенная точность
работы — первое условие. Бокс, акробатика,
жонглирование, танец определяли не только физическую подготовку,
но и стиль мастерской.
В самом начале наших опытов мы пробовали перевести
жизненные положения в танец, насытить пантомиму
акробатикой, учиться выразительности мельчайших движений.
Задача состояла в исследовании возможностей
пантомимы, в расширении ее пределов. Задолго до расцвета, уже
в наши дни, искусства мимов мы работали над теми
элементами походки, жестов, которые теперь нетрудно увидеть
в любом пантомимном спектакле.
В моей библиотеке стоит книга, особенно мне дорогая:
«Жюль Жанен. Дебюро. История двадцатикопеечного
театра». Это редкое издание 1831 года я купил у букиниста
на Литейном проспекте в 1921 году. После этого не верь,
что «на ловца и зверь бежит». 85 Немало часов я просидел
в Публичной библиотеке, изучая все, что мог найти о
Дебюро и Гримальди.
Недавно, перечитывая мемуары Чаплина, я нашел
рассказ о возникновении некоторых его замыслов. Чарли
имел обыкновение заходить на склад реквизита: предметы
наталкивали на мысль. Клюшки для гольфа, испорченные
часы, коньки на роликах — сколько этих предметов стало
основой комических. Ничего не зная о способе работы
нашего любимого мастера, мы иногда шли тем же путем.
Вещь в искусстве того периода — особая тема. В руках
артиста она часто становилась элементом сюжета, даже
символом.
Каждый урок приносил что-то новое. Изо дня в день мы
сочиняли свою «Тысячу и одну ночь»; все должно было
быть ясным и выразительным без слов. Повторений не
бывало, сцена игралась один раз; завтра было уже иное.
Немалое место отводилось развитию фантазии. В
нетопленой комнате, почти без мебели, на траченном молью
красном ковре (Сергей Герасимов — уже учитель
нескольких поколений кинематографистов — с нежностью
вспоминал это наследство купца Елисеева) разыгрывались целые
126
Глубокий экран
представления, где действовал только один артист, без
партнеров, декораций и бутафории. Янина Жеймо »Г
Андрей Костричкин исполняли целые программы цирка.
Средствами пантомимы они создавали совершенную
иллюзию циркового представления: вот скользит по проволоке
балансер, мчится на лошади наездница, перепрыгивая
через подставленный ей обруч, выходит парадом
чемпионат французской борьбы.
Сценки игрались со всеми подробностями: борцы
разного веса вступали в соревнование, вот один из них летит
через голову, схваченный ловким приемом, подножка,
свистит судья, силач прижимает другого к ковру. Все это
исполняет один человек. Но и этого мало: одновременно,
как бы в монтаже, возникают типы галерки, болельщики,
подвыпившие забулдыги, влюбленная в силача дама...
Пантомимный дар Герасимова, Кузьминой,
Соболевского был поразителен. Они могли воспроизвести целиком
фильм. Сыграть в одиночку детектив: убийство,
расследование, погоня; или комическую: потасовку с полицейскими,
пирожные с кремом, летящие в лица... Все исполнялось
в совершенном молчании, в прозодежде — форме
мастерской. Даже мельчайшее движение пальца становилось
выразительным.
На свойствах такой игры стоит остановиться. Задача
состояла не в имитации. Да и как можно было копировать
то, что невозможно воспроизвести даже целой труппе, без
специальных костюмов, декораций, бутафории, грима?
Целью являлось воспроизведение существа явления;
нужно было ухватить основное в подлиннике, вывести его как
бы алгебраическую формулу.
Недавно, перелистывая книгу рисунков Эйзенштейна,
я вспомнил наши композиции. Сергей Михайлович как
рисовальщик ставил перед собой схожие задания. В его
листах «Метерлинк», «Мелодрама», «Ибсен», «Азия» бег
линии выражал суть предмета, сгусток определенной
образности. Некоторые рисунки назывались «Упражнения на
выразительность».
В предисловии автор рассказывает, как в доме его
родителей один из гостей рисовал мелом на сукне
ломберного столика контуры потешных зверей, чтобы развлечь
ребенка. Эти рисунки и вспоминает с признательностью
Глава вторая
127
Сергей Михайлович: «Техника не допускает оттушевок
и иллюзорно наводимых теней.
Только контур». 86
Только контур характеров и происшествий искали и
мы. Никаких бытовых «оттушевок» и «иллюзорно
наводимых теней» психологии. Только энергия развития игрового
мотива, точность композиции.
Откуда же возникали основы мотивов, что определяло
композицию?.. Все, что попадало в пате зрения. Нужно
было только подсмотреть частицу характерного, выявить
и развить ее в действии.
Нередко либретто наших пантомим состояло лишь из
одного слова; оно могло относиться к чувству, предмету,
определению жанра, месту действия. Единственное слово
становилось исходной точкой ассоциаций.
Хочется привести строчки Анны Ахматовой:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит задорен, нежен,
На радость вам и мне.
Основой нашей работы являлась импровизация: из
чепухи, вздора возникали мгновенно сочиненные
характеры, положения, образовывалось действие. Пустяковое
уличное происшествие по дороге в мастерскую,
подсмотренная походка, жест, услышанный музыкальный мотив —
и тут же, на глазах, как бы «из ничего», игралась сценка,
полная фантазии, легкости, юмора, стройная и точная по
ритму и движениям. Сценка-стихотворение, на огромную
радость всем нам.
Надо сказать, что никогда в дальнейшем, работая даже
с превосходными артистами, я не испытывал такого
совершенного счастья, как от общего труда с нашими
учениками. Если бы тогда мне предложили для съемок всех
мировых «звезд», я предпочел бы Жеймо, Кузьмину,
Герасимова, Жакова, Костричкина, Соболевского. 88 Эти
фамилии известны кинозрителю, но мне хотелось бы вспомнить
128
Глубокий экран
и другие дорогие мне имена. Судьбы этих людей сложились
по-иному. Недавно я получил письмо. Добрые слова о
времени, про которое я пишу, а в конце длинная подпись:
Ваш, когда-то
крутивший сальто на красном ковре,
разбивавший носы на ринге в честь ФЭКСа,
потевший в медвежьей шкуре на лошади,
выпрыгивавший из разных этажей,
издевавшийся над Башмачкиным чиновник
девятнадцатого века,
позже —
главный конструктор систем атомохода «Ленин»,
ныне —
лауреат Ленинской премии
Павел Березин.
Милое курносое лицо улыбнулось мне на улице: «Вы
помните ФЭКС?» — сразу же воскликнула Галя
Шапошникова. Она стала хирургом, начальником госпиталя во
время войны.
Березин, Полина Понна, Венцель, Цибаровский были
хорошими товарищами, смелыми художниками.
Было у всех нас особое преимущество: мы умели быть
молодыми. Это непростое искусство. И дается оно не
только возрастом.
Школа стала давать свой результат. У наших учеников
воспитывалась быстрота и острота взгляда карикатуриста,
умение схватить на лету и выразить самое характерное
в предмете, развивался юмор, склонность к обобщению,
к красочной образности. Все это тренировало внимание,
наблюдательность, фантазию, чувство отбора и
композиции, эмоциональность. Понадобилось немного времени,
чтобы понять: пантомима — лишь школа, переносить ее на
экран нельзя. В кино — иные меры жизненности, своя
условность.
На стенах мастерской висели яркие плакаты немых
лент — комических и приключенческих. Но стены были
тонкими: жизнь шумела вовсю, а у молодых
кинематографистов был хороший слух. Многое менялось в наших
опытах, однако страсть поколения 20-х годов к клоунаде,
эксцентрике, пантомиме не была бесплодной.
Глава вторая
129
В своих мемуарах Эйзенштейн утверждал, что в первой
работе, пусть нелепой и неумелой, всегда заключена какая-
то клеточка того, что осуществится в дальнейшем: в
«Похождениях Октябрины», по мнению Сергея Михайловича,
уже находилась частица лент о Максиме. 89
«Шинель» во многом изменила характер нашего труда:
гоголевские образы должны были ожить на экране. Нас
увлекло перевоплощение чисто словесной ткани в
безмолвное действие. Мы сузили рамки задачи: каждая деталь
гоголевского описания казалась нам не только
драгоценной, но и возможной для пантомимы. Само косноязычие
Акакия Акакиевича, его неспособность изъясняться, пусть
и самыми простыми оборотами, путание в слове «того» —
стало для нас родом ремарок; цель заключалась в
выполнении их, как говорится, дословно, но без слов.
Андрею Костричкину было тогда лет двадцать, однако
он становился даже не стариком, а человеком без возраста,
с тусклым, ничего не выражающим взглядом, семенившим
мелкими шажками, с головой, безвольно наклоненной
набок. Эта актерская работа и теперь кажется мне истинно
талантливой.
В мастерской исполнялись полностью гоголевские
сцены: Башмачкин возвращается домой, перед сном снимает
копии с казенных бумаг «нарочно для собственного
удовольствия», и, «написавшись всласть, он ложился спать,
улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог
пошлет переписать завтра». Молодой актер с совершенной
точностью, в полном безмолвии передавал такие описания.
Часами репетировался немой диалог с шинелями — старой
и новой. Автор дал столько возможностей действия,
отношений человека и вещи. Непросто было надеть старую
шинель, она «имела какое-то странное устройство». Хотя
все игралось без предметов, шинель-капот становилась
у Костричкина отчетливо видной; он прибегал в ней со
стужи, окоченевшими пальцами снимал ее с озябших плеч,
рассматривал на свет: «сукно до того износилось, что
сквозило».
Слова перевоплощались в действие. И это были
гоголевские слова. Такие задачи уже далеко ушли от первых
опытов, когда мы пробовали выразить жизненные обстоя-
130
Глубокий экран
тельства танцем и акробатикой. Дарование наших
учеников стало видно не только нам. Правда, это произошло не
сразу. За учеников пришлось бороться. Руководители
сСевзапкино» нам не доверяли; постановка «Шинели»
была поручена скрепя сердце. Перед первыми съемками
сердце, очевидно, у них не выдержало. Неопытность
режиссеров было решено страховать актером с именем. Как
раз тогда, когда у нас стало выходить что-то путное,
пришло распоряжение: съемки разрешались только при
условии исполнения главной роли определенным артистом —
кандидатурой дирекции. Если мы откажемся, фильм
передадут другому режиссеру.
Сколько подобных дней мне пришлось пережить на
своем веку!..
Что было делать?.. После долгих обсуждений мы
решили просить пробную съемку. На это согласились.
Мы встретились с известным театральным актером.
Нам он казался неподходящим для роли. Коренастый,
толстощекий — чем он походил на Башмачкина?.. Ни о
каких репетициях перед съемкой тогда и речи не могло быть.
Гример напялил артисту лысый паричок, нарисовал
морщины на лбу, затемнил щеки коричневой краской — для
худобы. Уже в ателье перед камерой началась репетиция;
сразу же раздался громкий голос — артист входил в образ.
Может быть, для театра его игра и стала бы в дальнейшем
убедительной: это был талантливый человек. Мы
попробовали уговорить его отказаться от грубого грима, не
начинать работы с произнесения вслух текста. Артист с
недоумением посмотрел на нас, пожал плечами.
Москвин, мрачно глядя на происходящее, скомандовал
осветителям; мы сняли пробную сцену.
Костричкин посмотрел кадры и на следующей съемке
скопировал конкурента, лишь немного преувеличив его
промахи: он показал толстого человека, старающегося
выглядеть худым; нелепое шевеление губами без звука,
преувеличенность мимики. Потом он сам исполнил ту же
сцену, как она была срепетирована в мастерской. Играл он
почти без грима, побрив голову. Контраст на экране
оказался настолько убедительным, что дирекция, немало
посмеявшись над пародией, сразу же поверила неизвестному
юноше и перестала посылать театральных гастролеров.
Глава вторая
131
Прошло много лет. «Шинель» вошла в репертуар
мировых синематек. Анри Ланглуа, директор синематеки
Франции, рассказал мне, как однажды к нему пришел
знаменитый французский мим и попросил показать какую-
нибудь старую немую лейту. Посмотрев «Шинель»,
Марсель Марсо поставил и свою пантомиму по гоголевской
повести. Сложно скрещиваются дороги в искусстве.
Конец двадцатых годов
Мой рассказ подходит к поре, когда заканчивается
целый период советской кинематографии. Разумеется,
концы и начала в искусстве — понятия относительные,
нередко они так сплетаются, что трудно определить, где
завершается прошлое, а где — первые шаги будущего.
Тогда многое пробовалось впервые и многое пробовалось
в последний раз.
В фильме, о котором пойдет речь, все так переплелось,
что отделить одно от другого непросто. Следует
разобраться в событиях последовательно и хладнокровно. С такими
добрыми намерениями я не раз принимался за главу, но,
написав лишь несколько страниц, бросал их в корзинку.
Внешний порядок приводил только к путанице, а
последовательный разбор фактов вовсе обессмысливал их
значение. Из рассказа исчезало главное — время.
Это время, казалось бы, отошло в прошлое, а по срокам
кинематографической истории даже в далекое прошлое,
однако память о нем все еще не приобретает покойного
и академического характера. Куда там! До сих пор
сталкиваются крайности оценок, непримиримость отношений.
И обычно, если разговор заходит о 20-х годах, он
становится жарким.
Кинематография тех лет представляла собой опытное
поле. Милостей от природы не ждали. Чего только с чем не
скрещивали! Чудом, буквально в мгновение (что такое для
искусства год?) появлялись цветы небывалой яркости, но
иногда так же мгновенно они чахли, даже не успев как
следует распуститься. Случалось и по-иному. Из
причудливых, казалось бы, нежизненных форм через годы
образовывались стойкие виды: ими потом торговали в лотках на
132
Глубокий экран
каждом углу, а тогда первые всходы чуть не выпололи,
приняв за сорняки и чертополох.
Некоторые «неудачи» (что понимать под этим словом?)
надолго оплодотворяли экран; иные «удачи» (это
определить проще) почему-то не переходили за пределы одного
фильма. Именно в тот период трудились режиссеры,
которым удалось поставить лишь одну интересную работу.
Фильмы, пользовавшиеся мировым успехом,— «Турксиб»,
«Голубой экспресс» — не имели, к сожалению,
продолжения, не развились в следующие удачи.
Причиной не являлась туманность задачи. Напротив,
мало когда на словах все представлялось настолько ясным.
Уверенно провозглашали цель (самую нужную), способы
подхода к материалу (совершенно научные), утверждали
новую эстетику (теоретически неоспоримую).
«Эксперимент, понятный миллионам»,— писал
Эйзенштейн о постановке «Старого и нового».91 Фильм при
выходе вряд ли был доступен даже сотням.
Но время шло, менялись вкусы. И вот кажется, уже сто
лет минуло с тех пор, как Эйзенштейн причислен к
классикам. За что же признали его единогласно, во всех странах,
где смотрят фильмы, первым, лучшим из кинорежиссеров?
За прославление сепаратора?
Нет, это и теперь вряд ли оценят. Может быть, за то, что
открыл он основы кино как искусства? Такое утверждение,
пожалуй, в какой-то части более верно. Однако часть эта
сама по себе не главная. Существеннее иное: он выразил
революцию на экране, и это стало революцией киНо. В
особое время он начал трудиться: только начинался новый
век, пора величайшего обновления. Вот почему годы, о
которых идет разговор, оказались такими плодотворными
и в кино. Тогда по декадам менялся не репертуар
кинотеатров, а само понятие кинематографии. И вот почему
выход нового фильма нередко вызывал бурю.
Наш фильм, кажется, вызвал целый ураган.
С чего же все-таки начать рассказ о нем? Попробую,
как делается иногда в сценариях, начать с конца.
Передо мной раскрытая папка: вырезки из газет и
журналов, анонсы кинотеатров (в рассказе о прошлом обычно
добавляют «пожелтевшие», а эти почему-то сам черт не
Глава вторая
133
берет, не желтеют), статьи, рецензии... Впрочем,
«рецензии» не то слово, скорее это напоминает стенограммы
яростных речей, торопливую (не правленную еще
ораторами) запись бешеного спора, неразборчивую скороговорку,
выкрики с мест, общий шум, переходящий в скандал,
свалку, драку... Такое случается не на художественных
дискуссиях, а на стадионах, когда озверевшие болельщики
прыгают на поле, свистки, милиция...
Даже объявления о выходе фильма ни на что не
похожи. Старый консерватор кинопрокат вдруг размахивает
руками и вопит каким-то не своим голосом:
За или против Ставим
картины! «НОВЫЙ ВАВИЛОН» на голосование!
Вы можете быть против, но посмотреть картину
вы должны! J
Выдержки из критики:
«...Картина вредна. Ее нужно не допускать в рабочие
клубы. Нужно организовать общественный суд над
картиной и над авторами, которые надглумились над
героическими страницами революционной истории французского
пролетариата». 92
«...«Новый Вавилон» решительно порывает со старой,
привычной формой исторических фильмов, и первая его
заслуга в том, что в нем революционная тема воплощена
в достойной ее смелой революционной форме. Эта форма,
порвавшая с рабским протоколированием внешних
событий, дала возможность в картине вплотную приблизиться
к научному пониманию истории». 93
«...Все это дано так неубедительно, фальшиво и пошло,
что всякий социальный смысл для зрителя пропадает». 94
«...Глубокие исторические обобщения,
непосредственный марксистский анализ истории». 95
Таковы полюсы общих оценок. Примеры подобной же
крайности мнений можно умножить до размеров толстого
тома. Поражают не доводы, а накал страстей. Выступали
не только лица, но и целые коллективы. На фильм
обрушились работники Агитпропа КИМа, защищал РАПП
(первой стояла подпись А. Фадеева); рабочие
железнодорожного депо признавали «Новый Вавилон» непонятным,
коллективу ткацкой фабрики картина понравилась. «Ком-
134
Глубокий экран
сомольская правда» раскритиковала, газета
ленинградских комсомольцев «Смена» иллюстрировала номер
нашими кадрами, 96 призывала: смотрите этот фильм!..
Газеты нескольких городов завели специальный отдел:
«За и против «Нового Вавилона».
Различными были не только общие оценки, но и
понимание художественной формы.
«Это — мастерство живописных, неподвижных кадров,
не связанных между собой непрерывным движением...»
(Б. Алперс). 97
«Новый Вавилон» — чисто стиховые образы,
метафоры... таковы новые средства этой кинематографической
оды» (Ю. Тынянов).
Даже смысл одного какого-нибудь отдельного эпизода
понимался совершенно противоположно.
«...А чего стоит пошлейшая сцена... когда парижские
рабочие не находят другого способа агитации среди
солдат, как посылка к ним жен и матерей для соблазна их
всякими непристойными телодвижениями?!» "
«...Сцена эта одна из сильнейших и правдивейших
в картине. Жены и матери рабочих, желая задержать
пушки, которые хотят увести версальцы, поят солдат
молоком и шутят с ними. Это правдоподобно, это убедительно,
тем более что авторы картины подобрали хороший типаж,
дающий живых работниц, а не плакатных фальшивых
красавиц». ,00
Обсуждение фильма длилось неделями: свободных мест
в зале не бывало, люди стояли в проходах. Появились
лидеры противоположных групп. Сценарист Б. Бродянский
и кинокритик Ю. Кринкин вели между собой ожесточенные
бои; режиссер П. Петров-Бытов выступил с целой
программной статьей. ,01 Тему спора теперь уже трудно
понять— «Танька-трактирщица» или «Новый Вавилон»?..
Множество людей настойчиво утверждали обязательную
необходимость следовать по пути или одной, или же другой
ленты. Критики шли стенкой на стенку.
Мне почему-то запомнилось, как в пылу отчаянного
спора кричал Эрмлер: «Предлагаю предыдущего оратора
не считать оратором!»
На одной дискуссии так поносили фильм, что слова
очередного выступающего: «Нет, товарищи, я с вами не
Глава вторая
135
согласен, есть в картине и хороший кадр» — показались
мне солнечным лучом во мраке ночи: хоть один путный
кадр все-таки отыскался.
— Это кадр,— продолжал оратор,— где роют могилу.
Вот если бы положить туда режиссеров...
Масла в огонь подлила специально сочиненная музыка.
В жалобных книгах многих кинотеатров в дни
демонстрации фильма обнаружилась возмущенная запись, будто
занесенная одним и тем же человеком: «Сегодня дирижер
оркестра был пьян!»
Дирижеры кинотеатров организовали свои
обсуждения — композитора ругали нахалом, обвиняли в незнании
оркестровки. Здесь дело быстро пошло на лад: вернулись
к тем же попурри, что исполнялись до этого.
В самой ленте заключалось, очевидно, нечто настолько
противоречивое, что могли появиться оценки, казалось,
исключающие одна другую уже по политическим позициям.
«Картина представляет собой схематический монтаж
красивых кадров-гравюр,— возмущался один из
московских рецензентов,— живопись, эстетно-салонная
устремленность авторов картины бьют в глаза». ,02
Американскому рецензенту било в глаза иное:
«Новый Вавилон» слишком близок по материалу, чтобы
его смотрели спокойно,— писали в прогрессивном
американском журнале после демонстрации фильма в
Голливуде.— Москва — это Москва, но Париж — почти та же
Америка... Все это чересчур близко к дому: лица начинают
казаться знакомыми... Стало известным, что важные
личности угрожали владельцам кинотеатров расследованием,
признали «Новый Вавилон» развращающим,
разрушительным, опасным» («Experimental Cinema», 1929, № 3).
Годы не внесли ясности.
«Новый Вавилон» носил «формалистический
характер»,— утверждал 21-й том Большой Советской
Энциклопедии («Козинцев»). 103 Режиссеры «правдиво показали на
экране события Парижской коммуны»,— опровергал 50-й
(«СССР. Театр и кино»). ,04
«Хотя фильм непрерывно заставляет вспоминать о
Домье,— написано в каталоге юбилейной выставки
Парижского музея современного искусства,— трудно говорить
о его реализме. Еще менее того можно счесть фильм фор-
136
Глубокий экран
малистическим... «Новый Вавилон» — это Парижская
коммуна, рассказанная людьми, некогда громоздившими
баррикады русской революции 1905 года... Фильм небывалого
ритма, единственная кинематографическая транскрипция
хореографии... Он создан как подлинный балет, неустанно
воскрешающий в памяти красочные образы великих
русских балетов, самые страстные, переполненные самыми
бурными ритмами, характерные для первых сезонов
русского балета...»
Я привожу эти отзывы не с целью опровержения
отрицательных или же согласия с положительными.
Никогда во время работы над книгой не появлялась у меня
охота возобновлять старые споры. Иное представляется
важным: крайность мнений, странность сопоставлений.
И пусть не подумает читатель, что я утрирую типаж
критиков или же создаю эффектные контрасты подбором цитат.
Было и похлеще. Но именно в этом накале споров,
бешенстве, пристрастии и заключается, как мне кажется,
живая частица времени. Того времени в кино, когда
показывали революцию так, что можно было говорить о
«кинематографической транскрипции хореографии», и когда
такая «хореография» не помешала в Голливуде отличить
подлинную природу советского фильма.
Теперь хотелось бы вернуться к началу.
Мы трудились в кино уже целых четыре года. Отжили
свой шумный и недолгий век балаганные агиткарнавалы
в голодуху, «урбанизм» и «американизм», сочиняемые
в освещенной коптилкой комнате у дымящей «буржуйки».
Неистовые погони Сеннетта и мелодрамы Гриффита
утратили для нас свое очарование. Плакат перестал казаться
искусством «самым революционным», «самым
современным».
Уже вечность, как нет ни коптилок, ни «буржуек». Ушел
в историю военный коммунизм. Октябрь отпраздновал свое
первое десятилетие. Советское кино прогремело на весь
мир «Броненосцем «Потемкиным», «Матерью», «Концом
Санкт-Петербурга».
На студиях уже работали люди одного поколения.
Определялось оно не возрастом. Общей была ненависть
к натурализму, смелость поисков новой образности.
Глава вторая
137
Молодые режиссеры (ни специального образования, ни
опыта) приходили в кино 20-х годов, как к себе домой, хотя
в парадную дверь киностудий их не пускали. У них была
легкая и веселая походка.
Старое театральное правило: короля нельзя играть —
себя не всегда оправдывало. Ведь, согласно правилу,
сперва должны кланяться сановники, трепетать
окружающие, а потом, ничем внешне не примечательный, пусть
войдет «король». Только тогда его узнают.
Попробовали бы вы не заметить этого человека!.. Был
он ни на кого не похожим. Гордо посаженная голова,
прямой взгляд, загорелое лицо — как бронзовая скульптура.
«Звенигора» поразила нас всех. Казалось, что экран
разнесет на части: как вместить бедному полотняному
четырехугольнику напор такой выдумки. Целый мир, никому не
известный, ни на что не похожий, с собственным своим
юмором и пафосом, вдруг разом ожил, зашумел,
раскинулся на все четыре стороны света. Величавые украинские
песни, грязь окопов первой мировой войны, легенды
гражданской, самая что ни на есть быль и самые что ни на есть
сказки перемешались, понеслись гоголевским вихрем:
пришел Довженко.
«А в это время...» — как писалось в титрах немого
кино,— в Грузии на мосту шла киносъемка: в Куру
бросали чучело. Прохожий — веселый и юный забулдыга-поэт,
имевший обыкновение вопить свои заумные стихи с дерева
на Головинском проспекте,— остановился. Недолго
размышляя, он предложил прыгнуть в реку вместо чучела. Так
прыгнул в кинематографию Николай Шенгелая.
Потом в Тбилиси под открытым небом праздновали на
торжественный манер именины любимой артистки. Какими
только превосходными сравнениями не украшались тосты
в честь Наты Вачнадзе!
Никем не примеченный, Шенгелая перелез через забор.
После особенно цветистой речи в честь «жемчужины
Грузии» попросил слова непрошеный гость.
— Когда я буду режиссером,— начал он,— Вачнадзе
не будет сниматься у меня даже в массовке...
Ната вскочила. Нахала уволокли.
В «Элисо» — первом же фильме Шенгелая — открылся
большой национальный талант: народный эпос ожил в мо-
138
Глубокий экран
щи пейзажей, картинах горя и гнева горцев. Главную роль
в одной из следующих его работ играла Ната Вачнадзе;
она стала женой Шенгелая.
В новых фильмах многое еще не получалось, но были во
всем размах замысла, дерзость замаха.
Одним из руководителей «Госкино» был назначен тогда
П. Бляхин, участник восстания 1905 года, сценарист
одного из лучших приключенческих фильмов «Красные
дьяволята». Новый руководитель сразу же вызвал нас в Москву.
Не успели мы с Траубергом занять места в еще толком не
обжитом кабинете, как Бляхин сказал, что пора нам
браться за настоящее дело; есть для нас материал — нужный,
интересный: Парижская коммуна.
Решение было принято нами обоими, не сговариваясь,
без обсуждения, немедленно. Это было как раз то самое
«настоящее дело», по которому мы стосковались.
Нам уже были ясны грехи «С. В. Д.» — детские
увлечения эффектами мелодрам, романтической бутафорией.
Пришло время трудиться всерьез. Никаких пристроек к
истории, только подлинный материал. Диалектика
исторического развития, без сценарных ловкостей, казалось нам,
сама завяжет драматургические узлы, образует эпизоды,
выдвинет героев — представителей классов. Никакого
романтизма, выдумок, сочинительства.
Мы засели за Маркса. Однако в политических
сочинениях открылась для нас не только закономерность
возникновения и гибели первой диктатуры пролетариата.
Сам способ изложения — гневная ораторская речь и
сарказм памфлета —оказался необыкновенно близким к
художественной форме, которую тогда искали в кино.
Схватка классов нередко олицетворялась у Маркса
обобщениями, сгущенными до метафор.
«Лавочка всполошилась и двинулась против
баррикады, чтобы восстановить движение, ведущее из улицы
в лавочку». ,06
Это была не только характеристика июньских событий,
но и буквальные образы, куда более близкие тогда
кинематографистам, чем психологические характеристики.
Литературные эпитеты легко становились и
зрительными, это была эпоха расцвета карикатуры: Луи Филипп,
Глава вторая
139
серией рисунков постепенно превращавшийся в грушу,
фигуры Домье с большими головами на маленьких
туловищах, Робер Макер, ,07 звери-люди и люди-звери Гранвил-
ля, герои неисчислимых «физиологии» — все это, несмотря
на преувеличенность черт, казалось жизненным, реальным.
Карикатурные листки наводняли Париж, а сейчас они
были перед нашими глазами: неисчислимое множество
острохарактерных, зловещих, нелепых, причудливых,
невероятных фигур.
Попробуйте усомниться в реальности Робера Макера!
Сто один лист Домье, как фильм в сериях, рассказывает
о все новых и новых подробностях его великолепной
деятельности. Кто же может быть живее, чем этот прохвост
с черной повязкой на глазу, расчесывавший себе
бакенбарды кинжалом?
Нам казалось, что мы прилежно изучаем материалы. Со
всей строгостью, чтобы избежать прошлых грехов,
ограничиваем себя пределами политики и истории. Но образы уже
начинали свое существование. Художественный труд не
удается членить по частям. Первый же контакт с
материалом вызывает обычно пристрастие к каким-то его
сторонам. Отбор совершает не только разум, но и чувство. На
материал неминуемо переносятся собственные вкусы, в нем
отыскиваешь (бессознательно) «свое», то, что тебе как
художнику «по шерсти».
Однако с этого процесс только начинается. Материал не
пассивен: он воздействует, воспитывает. Границы «своего»
расширяются.
Фильм, по счастью, образовался не только в кругу
привычных представлений. Группу кинематографистов
командировали за рубеж для знакомства с кинотехникой
Европы. Эрмлер, Москвин, Еней и несколько работников
кинолаборатории направлялись в Берлин; нас с
Траубергом и кинооператором Е. Михайловым командировали
в Париж.
«Граница» — теперь понятие обыденное: недолгий
полет (где она там внизу, граница?), проверка паспорта,
поворот турникета — другое государство. В 1928 году
граница являлась для путешественников буквальным
понятием, как бы толстою чертой, проведенной по полю, до нее
140
Глубокий экран
предстояло долго добираться, маяться подле нее, как
томились в старину у полосатого шлагбаума, поджидая
команды: «Подвысь!»
А потом разом, без постепенных переходов, мир
менялся до неузнаваемости.
За окном вагона остались Негорелое, красноармеец-
часовой, столб с государственным гербом Советского
Союза. Первая ночь в кромешной тьме другого мира. Фонари
в поле: жандармы из буржуазной Польши (или прошлого
столетия?) в опереточных мундирах занимали вагон, на
пограничной станции выволакивали вещи, рылись в
чемоданах, с пристрастием изучали паспорта.
Шуцманы в лакированных касках — перед Эйдкуне-
ном, новый осмотр, бесконечная проверка паспортов.
Берлин — огромный, совершенно чуждый. Круговорот
толпы в слякоти и гари метро, яруса многоэтажных
магазинов, спрессованная трясучка дансингов, киностудия во
весь цеппелинный ангар (Штаакен); ,08 мертвый неоновый
свет, типажи Георга Гросса за столиками ночных
ресторанов, на перекрестке каждой улицы; потоки материй, леса
страусовых перьев, стада голых герлс в мюзик-холле
(ничего похожего на то, что представлялось! Скучно,
безвкусная роскошь). В Париже — премьера «Бен Гура».
Во время сеанса спускают огромный экран: бегут
колесницы (через много лет все изменилось в мире, но в Канне
опять огромный экран, колесницы «Бен Гура»).
Отвлеченные понятия неожиданно оказались людьми.
Особняк владельца Штаакена; маленький уродливый
человек живет один во множестве комнат, совсем молоденькая
хорошенькая артистка на неведомом амплуа в этом доме;
подлинный Гольбейн над камином... Боже мой, да ведь это
живой капиталист, тот самый, кого я прежде знал только
по плакатам РОСТА... Эмиграцию — настоящую,
реальную — можно увидеть в маленькой пивной на окраине.
Человек (за пластинками с его песенками охотятся у нас
любители) расспрашивает меня о Москве и Ленинграде,
у нас общие знакомые, а потом он ставит кружку с пивом
на мраморный столик, подходит к пианино и поет среди
шума и дыма про «бананово-лимонный Сингапур».
Пройдет много лет, дочь Александра Вертинского
сыграет у меня Офелию.
Глава вторая
141
Зарубежные впечатления, особенно самой первой
поездки, во многом зависят от людей, с которыми
встречаешься. В Париже все оказалось как-то ближе, человечнее.
Илья Эренбург водил нас по старым рабочим кварталам.
Его «лейкой» я снимал все, что может потом пригодиться.
Теперь я разыскал эти сотни снимков. Меня, очевидно,
интересовали не детали будущих павильонов (мы
располагали дома отличными материалами), а исходные точки
ассоциаций. Хорошо думать о работе, находясь в ее
реальном мире. По-особому, вероятно, думалось у этих
обшарпанных стен с подтеками плесени и вековой грязью, с
жалюзи на· окнах и жестяными вывесками на кронштейнах.
А вот букинист: я почти даром купил у него литографии,
выпущенные Коммуной, неожиданно отыскав их в папке,
а потом пошел дальше по берегу Сены...
И литографии, и эти крохотные снимки соединяются
в общее ощущение города, времени.
Нам удалось поработать в музеях, побывать во всех
местах действия. В крохотной квартире мы узнали своего
человека, он был своим для всех нас, советских
кинематографистов,— Леон Муссинак.
У нас появились и друзья — французские
кинематографисты: молодые Ренуар и Кирсанов.
Среди картин, которые тогда удалось посмотреть, мне
запомнился «Париж уснул» Рене Клера. Технический
трюк — размноженная печать одного кадра — образовал
и сюжет и образность. На экране появился
фотографически натуральный, но невероятный в реальности город:
замерли людные улицы, остановились все виды
транспорта. Положение, известное спокон веков по сказке. Но
в этом случае царство спящей красавицы
распространилось на Париж, динамику XX века. Фокус состоял в том,
что техника остановила технику. Молодой выдумщик Рене
Клер здорово использовал кинотрюк.
Однако о «трюках» и «сказках» разговор зайдет еще не
раз. И концовка рассказа о фильме «Париж уснул» еще
впереди.
При содействии французских друзей нам удалось снять
в Париже необходимые кадры: химер над городом,
панорамы старинных улиц; наклонив при съемке камеру набок,
изобразили падение Вандомской колонны.
142
Глубокий экран
Подумать только, мы стояли на «тех самых»
булыжниках, снимали кадры фильма о Коммуне, а ажан в накидке
следил, чтобы толпа не налезала на кинокамеру.
Стертая фраза «как бежит время» оживает,
приобретает смысл, когда сопоставляешь даты. В Париже я,
вероятно, не раз проходил мимо маленькой игрушечной лавки
подле вокзала Монпарнас. Жаль, что я не купил у старика
с седой бородкой клинышком какого-нибудь ситцевого
Полишинеля. Это была бы хорошая память: игрушками
и шоколадками торговал там тогда Жорж Мельес.
Теперь пора было браться за дело: мы не только узнали
этот мир по книгам и литографиям (моя комната стала
филиалом музея быта эпохи), но и ходили по улицам, где
жили наши герои, стояли подле стены кладбища Пер-
Лашез. Той самой стены. Все стало объемным.
А может быть, вернее сказать, точно ощутимым?
Ощущения способны уплотняться, сгущаться до определенной
степени, приобретая особую форму. Как это ни покажется
странным — ведь речь идет о немом кино,—
кинематографические образы возникали тогда более похожими на
музыкальные, нежели на драматические.
Эпизоды образовывались в сгустке чувств и мыслей как
части зрительной симфонии. Каждую из них отличал
прежде всего характер эмоциональности, ритм. Зловещее
скерцо краха Второй империи; медленное и скорбное
анданте (осада Парижа); радостная тема освобождения
(Коммуна); бурная мелодия борьбы; реквием конца. Так
постепенно появлялись реальные очертания замысла.
Однако пленке не было никакого дела до аллегро
и анданте. Она знала только свое: шестнадцать
моментальных фотографии, снятых в течение одной секунды,
проецируемых с той же скоростью на полотняный
четырехугольник, имитируют жизнь. И все. Какую жизнь? Ту самую, что
имитируют артисты перед объективом кинокамеры.
Но ведь имитация (да еще двойная!) никогда не
становится искусством. Особенно гнусна машинная
подделка «как в жизни», фотографический лубок.
Горький вспоминал, как Чехов не любил граммофонов:
— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя,—
объяснял Антон Павлович.— И все у них карикатурно
выходит, мертво... 109
Глава вторая
143
Ленты вроде «Таньки-трактирщицы», которую
наиболее яростные критики противопоставляли «Новому
Вавилону», и были, как нам казалось, видом зрительного
граммофона. Стоило ли отбирать у купцов кинокамеру,
чтобы заменять лишь сюжеты съемок? Натуралистичность,
безличие фотографии умерщвляли саму возможность
искусства.
Пленку нужно было заставить «чувствовать». Только
преодолев сопротивление материала — бездушие
техники,— полотняный четырехугольник мог стать экраном.
Начались съемки. С помощью искусства Енея
«Аквариум» вернулся к своему прошлому. В саду засветились
гроздья матовых шаров между деревьями, появились театр
под навесом, площадка с деревянным настилом: здесь
откалывали польку, галоп и, наконец, взбивалась пена
юбок, ноги взлетали выше головы, гремел канкан.
Сцена, происходившая здесь, монтировалась с
другими: распродажей в большом универсальном магазине,
отправкой солдат на фронт, патриотической
демонстрацией на вокзале. Я написал «сцена», но задача как раз
и состояла в том, чтобы уничтожить границы сцен,
объединить кадры различных мест и действий единством ритма,
убыстряющегося к концу, к катастрофе. Электричество
ажиотажа Второй империи, спекуляций, жажды наживы
должно было насытить сам воздух сцены: приближались
гроза, расплата.
По сценарию, в увеселительном саду завязывалась
фабула: владелец магазина получал здесь подряд на
правительственный заказ, используя связь своей любовницы-
артистки с депутатом парламента; журналист получал
депешу о разгроме армии под Седаном.
В «Штурме неба» (первый вариант сценария) все это
излагалось на множестве страниц. Постепенно мы теряли
вкус к хитросплетениям фабулы. Социальное обобщение,
образующееся в сочетании множества лиц, положений,
вещей,— коллективный портрет эпохи — интересовал нас
куда больше. Страницы сокращались, заменялись
«единым музыкальным напором» п0 времени, динамической
фреской.
А на экране получалась ненавистная историческая
лента. Взгляд безразлично скользил по подробностям об-
144
Глубокий экран
становки и деталям покроя платьев (без них костюмы
выглядели бы театральными). Были лампионы, турнюры,
шиньоны. Ни силы, ни энергии пластической материи
в кадрах не чувствовалось. Все выглядело скорее
декоративным, стилизованным, курьезным. «Электричества»,
«грозы» и в помине не было.
Мы снимали ночь за ночью. Менялись планировки;
Москвин пробовал новые способы освещения.
Днем раздавался звонок:
— Приходите огорчаться...
На экране были «жанровые картинки». У меня
опускались руки. Что же делать дальше?.. Целлулоидный товар
ни черта не желал чувствовать. Он годился только для
фотографий.
Знали ли мы, чего хотели?.. Речь шла скорее об
ощущениях, нежели о разработанной программе. Однако, как
я уже писал, они были достаточно определенны. После
кадров «Шинели» понятие кинематографической пластики
не являлось уже отвлеченным. Но теперь хотелось иного:
перенасыщенности пространства людьми, вещами,
движением. Еще жили в памяти ночные улицы Парижа.
Хотелось, чтобы площади, как в трагических поэмах
Маяковского, двигались, меняли очертания, растекались громады
зданий, улицы становились потоками.
Чтобы пояснить направление поисков тех лет, я приведу
строчки Пастернака. Есть в «Теме с вариациями» как бы
схема пейзажа, ее можно принять и за обозначение
изобразительной задачи: «Скала и шторм...» — так начинается
стихотворение (место, где остановился, задумавшись,
Пушкин).
Два слова взрываются изнутри каскадом ассоциаций,
сравнений, метафор:
В осатаненьи льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул, и полыханье
Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос. И1
Слова сцепились множеством внутренних связей, стали
плотью поэзии. Это уже не изображение скалы и шторма,
а само движение волн, налетающих на скалы. Движение
Глава вторая
145
стало реальностью. Оно не скопировано, а пересоздано.
Теперь оно само — реальность. Особая реальность поэзии,
а не копия дурной погоды на каменистом морском берегу,
исполненная с помощью слов.
И на экране может быть своя реальность, не только
похожая на жизнь, но и сама ставшая жизнью; такой
степени плотности и напряжения должна достигнуть
динамическая пластика. Все, каждая клеточка изображения
сцеплены, взаимосвязаны, живут, движутся внутренним
художественным единством.
Но как рассказать об этом человеку, труд которого
связан со степенями чувствительности пленки,
напряжением электроэнергии? Определения ускользают, они eiue
достаточно неопределенны, трудноуловимы. И сегодня все
это не представляется мне наглядным и ясным, а тогда еще
не существовали фильмы, где такие мысли и чувства стали
хоть в какой-то части реальностью, и не были в ходу слова,
с помощью которых определять становится хоть немного
легче.
Разумеется, мы внимательно вглядывались в искусство
второй половины XIX века. Чего только я не таскал
Москвину! Мы изучали тональность рисунков Гиса,
трепещущий свет импрессионистов; фигуры, будто вылепленные
светом, на холстах Домье; мерцание газовых фонарей
у Сера...
«Париж Тьера не был действительным Парижем... —
читали мы у Маркса,— он был фантастическим Парижем...
позолоченным, тунеядствующим Парижем...» "2 И еще:
«Это сборище — этот труп, представляющий собою всю
отжившую Францию,— продолжало жить призрачной
жизнью...» из
«Фантастический Париж» и «призрачная жизнь» — мы
вычитали эти слова не у Эрнста Теодора Амадея Гофмана,
а в «Гражданской войне во Франции».
Задача определялась: воплотить светом, движением,
динамикой взаимопроникающих форм лихорадочный,
зловещий образ. Он был необходим по контрасту со
следующей частью: тишиной, суровой сосредоточенностью дней
голода, осады.
Но как создать светом и ритмом, полетом пятен
зловещую чехарду, дьявольскую сутолоку изобилия?
146
Глубокий экран
Москвин угрюмо молчал.
Уже было снято порядочно материала, на мой взгляд,
брака.
— Попробую сегодня еще кое-что,— буркнул Андрей
Николаевич, проходя мимо меня. — Может, вовсе ничего
не получится.
Этого просмотра я уже никогда не забуду. В жизни
режиссера такие минуты искупают много горестей. Сидишь
в пустом просмотровом зале, тяжело вздохнув, со страхом
нажимаешь кнопку звонка в проекционную будку. Тухнет
свет. И вдруг...
Я увидел наяву то, что представлялось мне смутно
в Самых смелых мечтах: написанные густо-черным и
сверкающе-белым, как зловещие птицы, стояли люди во
фраках, а позади несся кавардак пятен: месиво юбок,
цилиндров, шляп. Призрачный, фантастический,
лихорадочный мир был передо мной, он жил, стал реальностью.
Несуществующий мир существовал.
Это была реальная жизнь. Но в ней не было ничего от
натурализма фотографической копии.
Был ли это «общий план»?.. Ночная сцена?.. Место
действия? Нет, я видел иное: «Париж — тревожного моря
бред. Невидимых волн басовые ноты» (Маяковский).
Черные пятна — басы, смутная, меняющая очертания
толпа — волны, и все это — зловещий бред, секунда перед
катастрофой.
Москвин снял общий план оптикой, предназначенной
исключительно для портретов (нерезкая глубина,
размытые края); актеров он поднял на помост (изменились
отношения статического первого плана и динамики
действия, происходившего вдали); осветил мглу /гуманной
ночи.
Множество проб (сколько было неудач!) освещения,
композиции, режима съемки — всего того, что позволило
в свое время Беле Балашу назвать «С. В. Д.» «оптической
балладой», ,15 — привело к результату. Пленка
«чувствовала». «Единый музыкальный напор» стал видимым. Так,
во всяком случае, казалось.
С этих пор я окончательно забросил краски и кисти.
Передо мной открылся тот род динамической живописи,
который и заменил мне прежние увлечения. Хочется доба-
Глава вторая
147
вить, что я никогда не рисовал и не рисую кадров,
задумывая сцену, как это прекрасно делал Эйзенштейн. Сцена
(речь идет об ее зрительном характере) всегда
представлялась мне скорее тональностью, движением светотени, а не
линиями.
Пиротехники изготовляли сорта дыма — от совсем
плотного до легкого. С помощью оптики и освещения мы
уже не фотографировали, а преображали фотографией.
Свет, .плотность теней, резкость частей изображения стали
основой наших композиций.
Не следует думать, что интересы ограничивались
только изображением. Я описываю подробно эту часть работы,
потому что изобретения Москвина многое значили.
Танцулька была на заднем плане, на переднем находились
люди. Крупные планы снимались не отдельно, как тогда
было принято, а как бы вдвигались в гущу действия.
Из тревожного, смутного мира появлялись на
мгновение человеческие истории. Ощущения материализовались
в определенных фигурах. Пожалуй, в своем роде это тоже
тема и вариации.
Девочка, торопясь, поедала кушанье с тарелки, а
уродливый старик взасос целовал ее обнаженное худенькое
плечо; воинственно орал, размахивал палкой злобный,
беззубый кретин в котелке; из-за омаров и фазанов
маячила морда обжоры; старуха прижимала к огромной дряблой
груди юношу; вопил и восторженно аплодировал зал, на
сцене играли патриотический спектакль: полуголая баба во
фригийском колпаке — Франция — наступала ногой на
другую полуголую бабу — поверженную Германию, в
каске и сапогах на толстых ногах, обтянутых трико. Из хохота
и топота, чавканья и ора выходила вперед, занимая экран,
бесстыдно нарумяненная девка с моноклем в глазу и
сигарой в зубах — идол космополитических мошенничеств и
оргий Второй империи.
В фигурах, появлявшихся на мгновение, внешность
являлась решающей, однако ни фальши, ни переигрыша
в исполнении не было. Несмотря на резкость
характеристики, это были люди, хотя они и состояли в ближайшем
родстве с героями литографий.
Одной из таких фигур, проходящих сквозь весь фильм,
являлся владелец универсального магазина (его играл
148
Глубокий экран
режиссер мюзик-холла Д. Гутман). Кажется, в сценарии
он был окрещен каким-то именем (не случайно оно не
сохранилось в памяти), но речь шла о Хозяине с большой
буквы. Образ строился по-особому. Житейским
отношениям не уделялось внимания; связи создавались на
монтажном столе. С первого же появления на экране образ должен
был стать обобщением.
Маленький сутулый человек с уродливым лицом
(бульдожья челюсть), во фраке и цилиндре, сидел за столиком
ресторана на открытом воздухе, углубившись в карточку
кушаний. Склонившийся лакей поджидал заказ. В
сумеречной дымке виднелась танцевальная площадка, неслись
в галопе пары.
Ритм танца передавался следующим кадрам —
сутолоке распродажи в большом магазине. Толпы покупателей
напирали на прилавки, сбившиеся с ног продавцы
разворачивали рулоны материи, крутились на стойках
кружевные зонтики, качались веера, вырастали горы пушистых
мехов.
Владелец этих богатств выбрал наконец закуски по
вкусу; лакей заносил заказ в книжечку. Сгущались
сумерки.
Сумеречный туман переходил в пар прачечной — сотни
женщин склонились над корытами.
Шеренги модисток крутили ручки швейных машин.
Сапожники — старики и дети, не разгибая спин,
готовили товар для обувного отдела.
Тот, на кого трудилась армия людей, неторопливо
объяснял лакею, как следует приготовить блюдо по
особому заказу.
Мгла сумеречного сада сменялась маревом пустыни:
шли караваны, на горбах верблюдов качались тюки (адрес
магазина) — ткани и ковры с востока.
Снега вытесняли пески: бежали в метели собачьи
упряжки, в санях находился груз (адрес магазина) —
драгоценные меха с севера.
Кадры сцеплялись не только смысловым обобщением,
но и многими элементами пластики (своеобразной
зрительной «аллитерацией») : кружева на прилавках и пена в
корытах прачек; танцевальный галоп и круговорот дня
в магазине; туман сада и пар прачечной. Схожесть одних
Глава вторая
149
элементов вступала в противоречие с контрастом
других: изобилие «распродажи» и пустоты, нищеты
мастерских.
Границы переходов не должны были ощущаться. Ритм,
почти музыкальный, тревожный, лихорадочно
взвинченный, выстраивался в монтаже иногда по кадрикам.
Задачей были зрительная поэзия, смысловое обобщение,
неотделимое от динамики светотени, ритма.
Верблюдов и собак снять в Ленинграде не удалось.
Эйзенштейн и Александров прислали письмо (ответ на
просьбу обследовать московскую синематеку); на лист
бумаги были наклеены цветные картинки: все виды
транспорта — вырезки из иностранных журналов. «Это Вам
подошло бы,— гласила надпись внизу листа,— но этого,
увы, нет».
Взамен караванов на экране появился Всеволод
Пудовкин, вложивший немало страсти в исполнение (по
дружбе) роли приказчика восточного отдела.
Если в первых частях Хозяин, несмотря на
упрощенность характеристики, был все же жизненной фигурой, то
в конце фильма открывалось его совершенное сходство
с одним из каменных чудищ на крыше собора
Парижской богоматери.
Дождливым вечером пленных инсургентов вели по
улице. Посетители ресторана оставляли столики и бильярд,
чтобы посмотреть на коммунаров. Д. Гутман, от природы
сутулый, низенького роста, размахивая зонтиком, подбегал
к пленным. Контрасты Марксовых эпитетов (Тьера):
«карлик-чудовище», «мальчик-с-пальчик... в роли Тамерлана»,
«обезьяна, которой на время дали власть удовлетворять ее
инстинкты тигра — обезьяны-тигра», — запомнились.
Маленький урод шнырял между людьми, которых вели на
расстрел, орал и хохотал, а потом останавливался
посередине улицы, высоко подняв зонтик над головой, а мимо
него проводили тех, кто посягнул на его богатство.
Кинокамера с каждым планом опускалась все ниже,
приближалась более близко к лицу человека под зонтиком:
на последнем кадре (снятом с земли, очень крупно) было
чудище в цилиндре, зловещее видение в вихре ночного
ливня.
150
Глубокий экран
Что же это, опять, как в дни «Похождений Октябрины»,
появился плакат на экране, запоздалая память о РОСТА?..
Нет. Думаю, что образ имел другое происхождение;
Берлин Георга Гросса еще был в памяти. После убийства
Карла Либкнехта и Розы Люксембург упыри Гойи
казались реальностью.
У динамической пластики было собственное время
и свое пространство. Трагический памфлет нередко бывал
нам ближе, нежели жизненная драма.
Версальский полк брал штурмом баррикаду. Солдат
(П. Соболевский) — темный деревенский парень —
убивал старика сапожника, коммунара, некогда приютившего
и накормившего его, отца девушки, которую он полюбил
и которую сейчас арестовали. Солдат с ружьем наперевес
взбегал на баррикаду; вокруг были трупы, горела улица.
А в следующих кадрах компания нарядных людей
устроилась у разостланной на траве скатерти с винами
и закусками: они любовались пожаром, наведя на Париж
бинокли и подзорные трубы. Мужчины сняли сюртуки,
женщины закрывались от солнца маленькими зонтиками.
Солдат на гребне разбитой баррикады оборачивался:
его лицо было замарано грязью и кровью, искажено
злобой, он тяжело дышал.
Люди на пикнике откладывали в сторону бинокли
и подзорные трубы, аплодировали.
Монтаж вел действие, не закрепленное ни временем, ни
пространством: жизненное событие, воспоминания,
сравнения не имели между собой границ, свободно
сопоставлялись. Кадры связывало лишь ассоциативное притяжение,
иногда по различным линиям.
В одной из сцен (кабачок в Версале) солдат убеждали,
что в Париже анархия, их близких насилуют, убивают.
Артистка, вскочив на бочонок, пела «Марсельезу». Шли
кадры музыкальных инструментов: сверкала медь, трубы
наезжали на аппарат, раз за разом ударяли тарелки (во
весь экран), бухал барабан. Появлялось лицо солдата, как
бы оглушенного, уже ничего не сознающего. Лицо темнело
(Москвин постепенно гасил приборы, меняя характер
освещения). Рядом коротких статичных кадров появлялась
девушка (Е. Кузьмина), которую любил этот солдат.
В каждом плане ракурс фигуры был более резким: получа-
Глава вторая
151
лось, будто неподвижная фигура поворачивалась.
Освещение от реального переходило к условному: свет
попадал в объектив, образовывались ореолы, лучи перерезали
кадр.
Люди, агитировавшие солдат, сменялись химерами над
Парижем.
Никаких переходов, облегчавших понимание зрителей,
не делалось.
Вместе с людьми действовали вещи. Они входили
в фильм как мотивы, метафоры, участвовали в событиях,
имели свое развитие.
Еще в «Шинели» немалую роль играл манекен в
каморке портного. Остов человеческой фигуры без головы
и ног пугал несчастного Башмачкина, когда Петрович
заламывал свою первую, невероятную цену. В порожней
форме — подобии человеческого существа — всегда
заключено что-то зловещее. Муляжи, каркасы фигур
представляются карикатурами, обессмысливанием
человеческого, тупым передразниванием живого. Пустота,
недвижимость вместо содержательного, одухотворенного —
оскорбительны.
Еней поставил в парижском магазине манекен,
наряженный в кружевное платье; под модной шляпкой
виднелось деревянное лицо, чурка с глазами. Вначале манекен
находился в глубине зала, вдали, за продавщицей, нерезко
видимый. Когда девушке угрожал расчет, кукла как бы
придвигалась ближе; отчетливо различимая, она занимала
теперь значительную часть кадра, огромная по сравнению
с тоненькой фигурой девушки.
В дни восстания улицу, ведущую к магазину,
перегораживали баррикадой. На груды вещей взгромоздили вместе
с магазинным прилавком и манекен. В момент разгрома,
когда озверелые солдаты добивали повстанцев и уже
горели дома, девушка-продавщица хватала наваленные на
землю ткани (ими перевязывали раненых) и кричала
в безумии среди руин и смерти:
— Продается!.. Продается!.. Дешево продается!..
Так зазывала она по долгу службы покупателей в дни
распродажи. А над ней, на фоне дыма и огня, высился
манекен: пламя охватило его платье, дым закоптил
деревянное лицо.
152
Глубокий экран
Солдаты хватали девушку, тащили ее, выворачивая ей
руки, затыкая рот.
Черный истукан коробился от жара, разваливался,
истлевала оболочка — открывался железный остов.
Были ли такие кадры символами?.. И что именно они
собой обозначали?.. Вряд ли интерес ограничивался лишь
нехитрой аллегорией. Многое заключалось для меня в
таких кадрах: человеческий гнев и страдание, жестокость
расправы, бездушие, высокий порыв коммунаров и
страшный своей деревянной тупостью идол торговли. Играли
роль и пламя, дым, густота светотени, коробящаяся,
обращающаяся в черные сгустки оболочка, распад материи,
неподвижное, вдруг двинувшееся в последней корче
смерти.
А сами эти куклы запомнились мне еще с детства. Я не
любил восковых бюстов, выставленных в маленьких и
низеньких витринах парикмахерских; на меня наводили страх
их желтые, призрачные лица, парики из настоящих
человеческих волос с аккуратным пробором и ресницы,
наклеенные вокруг голубых широко раскрытых глаз.
Недавно ко мне опять привязался такой образ. Еней
выстроил для «Гамлета» спальню королевы; Полоний в
момент смерти должен был схватиться за портьеру и, падая,
сорвать ее: открывалось пустое, холодное пространство,
каменный тупик. На съемке пустота показалась мне
условной. Чтобы помещение выглядело жизненным, я попросил
принести из костюмерной несколько платьев — сделать
гардероб; потом пришла мысль надеть платья на манекены.
Так появились безмолвные свидетели убийства, еще одни
граждане Эльсинора. С годами пришел некоторый опыт,
нелюбовь к подчеркиванию таких положений. Манекены,
чуть заметные, недолго маячили в глуби кадра.
Сродни этим мотивам была и охрана Клавдия —
наемники в латах, железные безглазые морды, устремленные
на безумную Офелию.
Мир героев Коммуны изображался иными способами.
Здесь не было ничего от зловещей призрачности. Образы
были куда понятнее, ближе. Женщина в переднике
приносила своему мужу, пожилому рабочему, защищавшему
баррикаду, миску супа. В момент затишья он закусывал,
а усталая женщина, присев на ящики, спокойно штопала
Глава вторая
153
его разорванную куртку. Перерыв был недолгим; миска
разлеталась на куски: начался обстрел. К ногам женщины
падал ее муж, убитый наповал. Она смотрела на труп, не
отводя глаз, потом неторопливо откладывала шитье,
подымала с земли ружье мужа, набивала карман передника
патронами, подходила к амбразуре баррикады, где стоял
прежде ее муж, тщательно целилась, стреляла,
закладывала новый патрон, опять стреляла.
Эпизод образовывался из крохотных новелл,
человеческих судеб, рассказанных на пространстве нескольких
метров.
Среди инсургентов была влюбленная молодая пара
(О. Жаков и А. Заржицкая); одинокий безвольный
человек — один из главарей Коммуны, во время передышки он
играл на рояле — печальная фигура с длинными волосами
в помятом сюртуке; журналист, любитель
прекраснодушных речей, призывов к миру и братству, впервые взявшийся
за оружие (Сергей Герасимов); дети окраинной улицы.
Способы исполнения этих ролей были жизненными..
Игра Е. Кузьминой — героини фильма — была зрелой
и сильной. Одна из сыгранных ею сцен кажется мне
особенно значительной. Коммунаров, приговоренных к
расстрелу, приводили на кладбище. Среди солдат, рывших
могилу, девушка-коммунарка узнала деревенского
парня, которого она полюбила. На очень долгом крупном
плане (непривычном для монтажа тех лет) актриса
сыграла сложнейшие переходы от потрясения к прозрению, горю,
гневу, мужеству, гордости. Это было не только талантливо,
но и смело. В исполнении заключалось то же, что находили
в пластике, монтаже, ритме: напряженная
эмоциональность, крутость контрастов, резкость форм выражения.
Сами условия съемки могли быть приемлемыми только для
«своей» актрисы. Она стояла в дожде, потоки воды
обрушивались на волосы, вода струилась по незагримированно-
му лицу, изорванное платье прилипло к телу. Никаких
театральных прикрас не допускалось: объектив на таком
крупном плане открыл бы малейшую условность. Это была
не только отличная кинематографическая игра, итог
школы немого кино, но и явление определенного стиля: во
внутреннем движении, в духовной ткани жил ритм искус^
ства тех лет.
154
Глубокий экран
Фильм снимали единомышленники; стиль еще весь
в движении, складывающийся в самых разных элементах,
отличал и пластику и исполнение. Москвин подхватил
и усилил игру Кузьминой: густота теней, сила лепки лица
были совершенным гримом для образа.
Как это ни покажется странным, но многие эпизоды
наших немых фильмов были звуковыми. Звукового кино
еще и в помине не было, а образы возникали не только
«видимыми», но и «слышимыми». В надписях «Чертова
колеса» цитировались бытовавшие тогда песни. Смысла
они ничуть не поясняли, но известный всем мотив помогал
атмосфере. Титр заменял гитару, гармошку. Я уже писал
о барабанной дроби над мертвым полем в «С. В. Д». Вьюга
в этом фильме занимала настолько существенное место,
что один из московских кинотеатров завел специальные
инструменты в оркестре, имитирующие ветер.
Дело было не только в таких внешних положениях, но
и в самом строении фильма, в его ритме.
Все мы монтировали свои фильмы сами.
Профессиональных монтажеров не было, да и кому можно доверить
сложнейшую часть авторского труда? Задача ведь
состояла не в том, чтобы привести в порядок снятые по сценарию
кадры. Записанное на бумаге мало напоминало снятое на
пленке. Речь шла не о господстве режиссера над
сценаристом, а о приоритете пленки над бумагой. Фильм
создавался на съемках и в монтажной.
В маленькой комнате (вместе с ассистентом Н. Кошеве-
ровой) мы проводили множество счастливых часов у
монтажного стола. Здесь же стоял небольшой проектор.
Иногда каждую склейку приходилось сразу же проверять на
экране. Играли роль даже отдельные клетки. Эпизод
монтировался как музыкальное произведение. Циклы кадров
казались подобными струнным, медным, деревянным
ансамблям. «Гибель Второй империи» состояла из множества
кадров: поезд с солдатами, бал, оперетта, «распродажа»,
патриотический спектакль, ресторан. Все это должно было
слиться, образовать огромную убыстряющую свое
движение волну, чтобы потом разом обрушиться, взорваться
катастрофой. К концу эпизода кадры поезда резко
скашивались, как если бы состав летел в пропасть, а бал и мага-
Глава вторая
155
зин были сняты ручной камерой — только отдельные
зрительные элементы были различимы. И тогда вступал
другой ритм: немецкая кавалерия мчалась на Париж.
Сталкивались не только ритмы, но и разный характер
пластики. Париж был снят в мягких оттенках серебристо-
серых тонов, сам воздух светился; кавалеристы появлялись
в ночи — огромные темные силуэты всадников. Ералаш
сумасшедшей танцульки и ровный, страшный своим
однообразием черный военный марш.
В ресторане вскакивал на стул, потрясая депешей,
журналист. Он кричал: армия разгромлена! Кадры
врезались в кутерьму бала так, чтобы создавалось впечатление
одного голоса, пробующего перекричать общий шум.
Крупный план журналиста — по нескольку клеток —
прослаивал сцену. Оборачивались посетители сада; увеличивалась
длина кадров журналиста (теперь его слышали). Тем же
ходом мчалась кавалерия: в ночи, как удары, вспыхивали
отсветы на пиках, касках, копытах. Останавливались
группы танцующих, проносился слух, уже отчетливый.
Приближалась немецкая кавалерия (уже сюита кадров). Сломя
голову разбегались посетители сада, и только одинокий
пьяница все еще отплясывал на пустой площадке. Нужно
ли удивляться, что фильму была необходима особая
музыка?
В музыкальном деле тех лет существовал свой порядок.
Дирижеры (первоэкранных театров) и таперы (обычных)
сопровождали ленты одними и теми же музыкальными
попурри. Чтобы долго не раздумывать, были изданы
альбомы «Киномузыка» (пособие для «киноиллюстраторов»).
Эмоции и ситуации объединили в циклы; их
перенумеровали и подобрали к каждому номеру ноты.
Я приведу несколько примеров из такого альбома:
№ 7 — Призраки — угрызение совести.
№ 16 — 1905 г. — революц. шествие — нападение
полиции — апофеоз.
№ 32 — Восток — ночь — предчувствие опасности.
№ 49 — Восток — торжественное шествие — историч.
лента.
№ 70 — Толпа торжествует — схватка соперников.
Несмотря на большой выбор (включая последний —
№ 95 — Непобедимая стихия), все это нас не вооду-
156
Глубокий экран
шевляло. Мы решили заказать специальную музыку.
Хотелось и в этой области начать жить по-новому.
И тут, как на счастье, пронесся слух о молодом
композиторе, который только что сочинил оперу по «Носу»
Гоголя. Лучшей рекомендации для нас, естественно, и быть
не могло.
Д. Д. Шостакович, по внешности совсем мальчик,
в круглых очках, с большим кожаным портфелем, ожидал
нас на студии. Посмотрев фильм (еще не окончательно
смонтированный), он согласился написать партитуру.
Мысли были общими: не иллюстрировать кадры, а дать им
новое качество, объем; музыка должна сочиняться вразрез
с внешним действием, открывая внутренний смысл
происходящего. Чего только не было напридумано!
«Марсельеза» должна была переходить в «Прекрасную Елену»,
большие трагические темы контрастировать с похабщиной
канканов и галопов.
Работа во многом предваряла звуковое кино: экран
менял свой характер. Я уже привел примеры монтажного
построения одного из эпизодов. Теперь хочется рассказать,
как звук вошел, на этот раз реально слышимый (хотя
только на нескольких просмотрах), в ткань фильма.
Музыкальная тема военного нашествия — еще далекая,
негромкая — слышалась на кадрах журналиста, читавшего
депешу; она становилась отчетливой, когда скакали
всадники, но силу она набирала, только когда на экране была
пустая танцевальная площадка: одинокий, вдребезину
пьяный человек выделывал какие-то глупые антраша, а в
оркестре грозная мощь разрасталась, переходила в
гремящие тутти.
Было и обратное сочетание: солдат-убийца стоял на
разгромленной, объятой пламенем улице, а издалека
доносился, усиливался томный и светский версальский
вальс.
Но, увы, путь от просмотрового зала «Совкино» до
оркестров кинотеатров был тернист. Партитуру встретили
в штыки. Жить по-старому было куда проще.
— Мало того, что молодой человек не понимает кино,—
возмущался дирижер «Пикадилли»,— он самонадеян: я
предложил помощь, хотел оркестровать его музыку, он
отказался.
Глава вторая
157
Через несколько дней затихли смущающие звуки.
Оркестр бодро исполнял «Восток — река — катание на
лодке».
Многое тогда было необычным. Даже репертком тех
дней вызывает особые воспоминания.
Просмотровый зал помещался в подвальном этаже;
дом ремонтировался. На цементном полу были лужи.
Стояло несколько разномастных стульев. Композитор,
балансируя подоскам, перешел через воду, присел к инструменту,
попробовал звук: на его лице появилось совершенное
недоумение.
Бывают разные просмотры: радостные, горестные.
Режиссеров неизменно огорчают плохой свет, неважная
копия, хриплый звук... Боже мой, каким ужасным был
экран, расстроенным — пианино, грязным — помещение.
И каким прекрасным кажется мне теперь этот просмотр,
где играл свою первую музыку для кино Шостакович...
Разрешительное удостоверение было написано в стиле,
казалось бы, несвойственном для официальных
документов: «Это поэма о Парижской коммуне,
продекламированная блестящим киноязыком. Фильм «Новый Вавилон»
Главреперткомом зачислен в первую категорию, то есть
поставлен в один ряд с лучшими советскими фильмами».
Это было написано в дни, когда раздавались
достаточно громкие голоса, требовавшие запрещения картины.
Один из западноевропейских историков кино как-то
попросил меня ответить на его вопросы, рассказать о своих
первых работах. О самом начале, сказал он мне, можно
и не говорить, так как «авангард» повсюду был одинаков:
артистические кабачки, эпате ле буржуа...
Я усмехнулся: вспомнились пайки 20-го года,
красноармейцы возле расписанной мною теплушки агитпоезда.
Как будто с артистическими кабачками сходства было
немного. Разумеется, в двадцать восьмом году все
выглядело иначе, но, пожалуй, без самого начала и дальнейшее
понять трудно. Конец десятилетия не напоминал его
первые шаги, и все же в окошко светила одна звезда.
Время поисков кинематографической речи — часто так
называют теперь это время. И действительно, в книгах
158
Глубокий экран
о киноязыке (изданных в разных странах) можно отыскать
много примеров из лент того периода; находил я и описание
кадров или монтажных ходов из фильмов, над которыми
сам трудился. Но, читая эти книги, я не узнавал
киноискусство тех лет. Приемы сами по себе, вытащенные из всей
ткани, кажутся сегодня устарелыми, схематичными,
нарочитыми, а киноязык напоминает не живую речь, а старые
письмовники. Кто теперь так объясняется в любви,
изъявляет соболезнование?
Одухотворяющая сила времени давала всему этому
внутреннее движение, смысл. Была пора крутых перемен;
менялись старые представления о жизни, истории,
географии, человеческие отношения приобретали иной характер,
по-иному читали книги, смотрели картины, оглядывались
на вчерашний день, ожидали завтрашнего. Наивно
считать, что революционное кино строилось неторопливо и
постепенно, по кирпичикам. Борьба шла с духом косности,
застоя, академической уверенностью; с «нечего мудрить»,
со «все известно». Ничего еще не было известно. Мудрить
было необходимо.
Вот почему чувства тогда нередко обгоняли мысли,
форма предваряла содержание, ритм опережал сюжет.
Все находилось еще в движении, в пути. В книге
Уолтера Ролли о Шекспире я нашел отличное определение
елизаветинской поэзии (эпохи ломки языка, создания
новой английской речи) : кто прочтет эти строчки на ходу, все
поймет; кто остановится и задумается — задохнется в
грамматической путанице. И8
Только так и можно понять первую
кинематографическую пятилетку.
В 1958 году мне довелось опять увидеть «Новый
Вавилон». Бельгийская синематека устроила семинар по
истории кино; меня пригласили на просмотр.
Утром я вылетел из Москвы. «ТУ-104» набрал высоту.
Игрушечные домики мгновенно стали точками, и вот уже
ни домиков, ни дорог, под нами мирно пасутся стада
облаков, потом огромное спокойное озеро, клочья белой пены
лежат на его голубом зеркале.
Нужно торопиться доесть завтрак: скоро Брюссель.
Вечером я сидел в зале Дворца искусств.
Глава вторая
159
...Боже мой, как мечтал я пробраться в проекционную
будку — схватить ножницы, резать повторения, кадры,
связанные лишь ритмом, темные снимки, утрированные
ракурсы... Потом доснять, ну совсем немного (неделя
съемок!), неторопливые актерские сцены, прояснить
отношения героев, смысл событий (Трауберг будет, разумеется,
такого же мнения, как и я, не может быть, чтобы, посмотрев
фильм, он не почувствовал того же). И все будет понятно,
легко смотреть.
Так просто это сделать.
И тут я задумался. Бесспорно, все будет лучше...
Только одно, показалось мне, уйдет тогда из фильма:
время.
Я не стал просить разрешения переделать картину.
Сергей Эйзенштейн
Случилось так, что те, кто были товарищами, вдруг
стали улицами. Я живу на улице братьев Васильевых,
а для них еще не наступила пора появиться на этих
страницах: они еще не родились в кино. Есть в Москве улица
Пудовкина.
Когда он в последний раз пришел ко мне, в Ленинграде
стояли морозы. Я обратил внимание на его легкое пальто.
Он усмехнулся, скинул пиджак, мгновенно стал вверх
ногами, на руки. Он занимался спортом со страстью.
Кинематографические дела мы тогда совсем не обсуждали. Он
горячился, бегал по комнате, жестикулировал. Нервный
подъем, обычный для него, доставлял ему удовольствие. Он
любил играть даже самые маленькие роли. Без умолку он
говорил о поездке в Индию, о любимой им поэзии Вильяма
Блейка, об астрономии.
Мужчина в профиль, изображенный на барельефе
дома, где жил Пудовкин, мало напоминает Всеволода
Илларионовича.
Улиц Довженко теперь, наверное, несколько. Довженко
стал не только киностудией, но и пароходом. Пароход
плывет по любимому им Днепру.
Пудовкина и Довженко я отлично знал, но дружил
я с Эйзенштейном.
160
Глубокий экран
Несколько лет назад в Париже открылась выставка
рисунков. Много любви и уважения было вложено в саму
экспозицию. Экспонаты-рисунки, часто наспех сделанные
на простой бумаге (а то и на полях книги или какой-нибудь
программы), положили в стеклянные витрины на парчу
и шелк; кругом разбросали как орнамент части первых
киноаппаратов. Для выставки отвели зал особняка XVIII
века с дверьми, расписанными Фрагонаром. Рисунки
покоились на старинных тканях, расшитых золотом и серебром,
как драгоценности.
Выставка путешествовала по мировым столицам.
Некоторые из этих рисунков были мне хорошо знакомы.
Я хотел бы рассказать обстоятельства, при которых я их
впервые увидел.
На потолке написаны концентрические круги черного
и ярко-оранжевого цвета, они похожи на мишень в тире
для стрельбы, только слишком большие. И почему мишень
помещена на такое странное место? Это потолок в
небольшой комнате Эйзенштейна на Чистых Прудах, юноши
22—23 лет, еще мало кому известного, как говорят в
искусстве, «подающего надежды». Хозяин жилища
рассказывает странно высоким, еще не установившимся голосом
о своих замыслах. Он подходит к углу комнаты и подымает
крышку большого сундука. Такие ящики, обшитые
потертой кожей и обитые железными полосами, были у
многих семей начала века: летом в них хранились
пересыпанные нафталином ротонды на лисьем меху и шубы на
кунице. Сундук доверху набит бумагами. Здесь — эскизы
акварелью и гуашью, рисунки (некоторые из них оказались
потом в Париже на парче), тетради с выписками на разных
языках, репродукции (что-то подчеркнуто, обведено
цветными карандашами). Это проекты постановок, замыслы
работ в разных областях: комедии, эстрады, трагедии,
танца. Здесь же коллекция японских гравюр, подбор
карикатур 1917 года на Гришку Распутина, старинное издание
фарсов Табарена и «Похождения Фантомаса» —
полностью, все тома (предмет моей страстной зависти).
Присев на корточки, Эйзенштейн рассказывает о своих
планах. В постановке пьесы Шоу он хотел бы выстроить на
сцене «движущийся тротуар», а по бокам — лифты; диалог
Глава вторая
161
должен происходить в идущих вверх и вниз кабинах, по
ходу эскалатора. Этот герой Джека Лондона (вот эскиз)
станет с помощью толщинок — кубом, а его противник
(другой эскиз) — шаром; все у него будет такой формы:
голова — шар, живот — шар, нос — шар, пальцы —
шарики.
Сотни листов извлекаются наружу. Это волшебный
сундук. Он набит выдумкой, наполнен фантазией. Буйная
сила необычных замыслов распирает стенки. Несмотря на
железные скрепы, он может взорваться, столько страстей
кипит, неистовствует в старом ящике. Сундук полон: еще
ничего не осуществлено. Жизнь только начинается.
Эйзенштейн умер пятидесяти лет. Исполнил он, как мне
кажется, только маленькую часть задуманного. Но и этого
было достаточно: образовалась глава не только
кинематографической истории, но и истории культуры.
Был период, когда во многих статьях охотно и подробно
описывалось, чего именно не хватает Эйзенштейну. Что ему
следовало еще усвоить, до чего полагалось дорасти, от чего
он обязан был отказаться. Время изменилось. Как-то
разом во всех статьях (часто тех же авторов) он до всего
дорос. И отказаться ему, оказывается, тоже было не от
чего. Все было в его хозяйстве не только отлично, но и
образцово: всем следует быть именно такими, каким был
он. Так постепенно утихли все страсти вокруг его имени.
И стал он классиком.
В библиотеке ВГИКа на стене висят фотографии
(размер 24X30) преподавателей. Когда кто-то из них умирает,
фотографии увеличивают (60X80) и перевешивают на
другую стенку. В центре второй стены — портреты
Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко. Их и вспоминают теперь
обычно вместе, чохом. «Традиции Эйзенштейна,
Пудовкина, Довженко». Как бы крестятся при входе в
кинематографию. Это, бесспорно, хороший обычай: отдавать честь,
платить дань. Но хочется, чтобы дань платили не
механическим жестом, а живой памятью. И чтобы честь отдавали не
отвлеченным понятиям, а людям. Эйзенштейн, Пудовкин,
Довженко были разными людьми: каждый из них был
особенным человеком, особенным художником.
Такие, как Эйзенштейн, рождаются раз в столетие.
Одухотворение человеческой природы достигает вершин
162
Глубокий экран
развития. Образуется инструмент удивительной силы
отзывчивости, единственный и неповторимый: духовный мир
человека, добавим, гения.
Если человек художник — духовный мир запечатлеет
реальный мир его времени, и победит время: эпоха,
схваченная в какой-то ее существенной части, будет
продолжать жить в искусстве. Такое отражение не напоминает
зеркального — это общеизвестно. Качество изображения
зависит от отражающей поверхности; величайший
мастер — время — шлифует ее. Это работа неизмеримой
сложности и тонкости. Обработка артельным способом,
согласно эталону, приводит лишь к порче амальгамы, а то
и к трещине стекла. Электрокардиограмма фиксирует
такую трещину.
Искусство Эйзенштейна было неотделимо от его
склонностей, простора его мыслей и фантазии, особенности
понимания им природы искусства. И особенности и
склонности откладывались во всем: в характере творчества,
в убранстве комнаты, в манере речи. Где бы он ни жил,
зайдя в его кабинет, можно было узнать, чье это жилище.
Все носило отпечаток хозяина. Начиная от прихожей
громоздились книги: на верху вешалки для пальто, на
полках (в два ряда, места не хватало), на столах,
стульях — повсюду: философия, живопись, психология, теория
юмора, история фотографии, словари сленга и арго, цирк,
карикатура... перечисление только отделов заняло бы
слишком много места. Эрудиция сочеталась со страстью
к потешной выдумке. Он все время во что-то играл: на
стене появлялся странный барельеф — распиленный пополам
глобус, вделанный в -пышную золоченую раму времен
Возрождения; серебряный семисвечник превращался в
вешалку для галстуков; боковую стенку книжной полки
заполняла галерея удивительных лиц с автографами — от
изобретателя безопасной бритвы Жиллета до этуали конца
прошлого века Иветт Гильбер; на верху шкафа стояли
фигурки китайского театра, русские деревянные ангелы.
На почетном месте — резиновая перчатка с дарственной
надписью «бешеного» комика Харпо Маркса (в мюзик-
холльном номере Харпо доил ее как вымя).
Юмор был не только излюбленной формой его
разговора, но и тренировкой ума. Он легко оборачивал фразу
Глава вторая
163
собеседника в каламбур, мгновенно находил в факте
комическую сторону. Он мог часами клеить потешные
фотомонтажи, приделывая лица знакомых (часто и свое)
к фигурам животных и зверей. Он собирал странные
объявления и карточки, чтобы потом писать на них письма.
Я получал он него послания то на огромном листе — меню
буфета Государственной думы, то на полях альбома
фотографий пляжной жизни начала века, то на открытке —
поздравлении к пасхе какой-то религиозной общины.
Эта способность не покидала его и в тяжелые дни.
В больнице он подарил мне монографию о миниатюрах
Фуке, надписав: «От всего инфарктного сердца».
Комнаты, где он жил, чем-то напоминали фрагменты
театральных декораций, а вещи — реквизит карнавала.
Никакого сходства с коллекциями любителей старины не
было. Все здесь было вразброд; стилистическим единством
и не пахло. Сочетания определялись контрастами.
Неуважение к эстетству было очевидным. Кресло, обитое парчой,
стояло рядом со стулом из никелированных трубочек;
подле бисерных вышивок валялись раскрашенные
карточки боя быков и стоял фарфоровый Будда с золотым
животом.
Книги были его страстью; библиотека находилась в
непрекращающемся движении; книги не имели покоя: тома
перепутаны, повсюду торчат закладки, книжные поля
испещрены заметками, иногда маленькими рисунками,
многие строчки подчеркнуты, часто цветными карандашами.
Предметы вовлечены в такой же круговорот (убранство
комнаты часто меняется). И вся эта махина трактатов,
репродукций, курьезов — от исследования пралогического
мышления до ребусов прошлого века — сбивается в какой-
то ком глины: скульптор мнет ее, стараясь превратить все
в податливый материал для работы. Без такого сплава не
понять питательной среды искусства Эйзенштейна.
Образы художника — труд многих лет — состоят
между собой в родстве. Старшие могут внешностью не
походить на младших, но это одна семья, и это сам художник:
его внутренний мир, движущийся, развивающийся,
меняющий свои черты. Однако это внутренний мир одного и того
же человека. Фильмы, жилище, рисунки, исследования —
это один человек. Складывалась его биография — путь от
8*
164
Глубокий экран
детства к зрелости. Он легко получил мировую слаьу
получить работу, закончить ее, как хотелось, было'труднее.
Теперь его нет. Но уже сложилась судьба его искусства.
А его искусство — это он сам, Сергей Михайлович
Эйзенштейн. Он до сих пор таскает за собой по свету большой
кожаный сундук с рисунками и гравюрами, страсть к
мировой культуре и к чудным видам юмора.
Только теперь все это принадлежит уже не ему, а
истории мировой культуры. И сундук, и любимые гравюры
(в них сохранился отпечаток его вкуса), и озорные
розыгрыши (по ним его можно ближе узнать).
Менее всего я гожусь в оценщики этого имущества.
Оно, разумеется, не равноценно. Смерть — строгий
пристав, писал Шекспир, арест производится без
проволочек, и обжаловать это нельзя. Дальнейшее менее
просто. У времени своя таможня; там дела обстоят
запутаннее: одно десятилетие, перетряхивая багаж художника,
часто выбрасывает то, что охотно пропускает следующее.
Истинную ценность сделанного Эйзенштейном мы еще
не знаем.
После выставки его рисунков мировая пресса писала:
перед нами большой рисовальщик, эти листы достойны
сравнения с набросками Тулуз-Лотрека, Домье, Матисса.
Он был ученым — утверждают серьезные исследователи,
прочитав его сочинения. На конкурсах кинорежиссуры его
имя неизменно выходит на первое место.
Значит ли это, что он был одинаково удачлив в
различных областях, не без приятности для себя менял их,
трудился то в одной, то в другой, что в его духовном мире
царила гармония? Нет, так мне не кажется. Об
олимпийском покое и классической уравновешенности не могло
быть и речи. Обратное было характерным:
неудовлетворенность, невозможность остаться в каких-либо пределах,
необходимость перехода границ. Все, что он сочинял,
рисовал, ставил, рвалось куда-то дальше, вперед,
перерастало формы, в которые он пробовал заключить свои
чувства и мысли. Так он и прожил жизнь: сшибая, руша,
переходя. Как он торопился! На его рукописях почерк
летел, мчался на всех парах, слова прерывались
рисунками, линия бежала, опять вписывались слова, но уже
английские, немецкие, французские... И внизу, завершая
Глава вторая
165
закрутившейся огромной заглавной буквой,— подпись, как
кривая ритма его мышления.
Ему было всюду тесно. Замысел не умещался на
бумаге: жест необходимо продолжить, костюм сшить,
надеть на человека... Значит, он был сперва театральным
художником? Нет, на изобретенных им площадках мог
поставить спектакль только он сам; другому режиссеру
нечего было делать с его диалогом человека-куба и
человека-шара... Стоило его пустить на сцену, как он влез в
зрительный зал: построил в Пролеткульте ринг. В
«Мексиканце» (первая его постановка) он разорвал театральную
ткань подлинным матчем бокса. Стоило ему взяться за
Островского, как ни от пьесы, ни от театра не осталось
и следа...
В толстых книгах по истории советского театра и кино
(издания 50-х годов) сценические постановки поминались
Эйзенштейну как отметки о судимости . Теперь о них стали
писать с ласковой снисходительностью: по молодости лет...
Годы идут. Толстые книги валяются запыленными в
лавках уцененных товаров, а все относящееся к
Эйзенштейну расценивается на вес золота.
Человек в юности иной, нежели в тридцать лет. Он стал
иным, но это тот же человек. Лев щенком еще не обладает
своей силой, но он львенок, не блеющая овечка.
Эйзенштейн «чудил» от силы чувств, переполнявших его. С этими
чувствами нельзя было тогда стать первым учеником в
школе Малого театра. Это уже относилось не к
Эйзенштейну, а ко времени. Время не позволяло этого. А что за
чувства переполняли Эйзенштейна, можно было понять
очень скоро, долго ждать не пришлось. Его пробовали
втиснуть в пределы Пролеткульта, ЛЕФа — перегородки
групп трещали, ломались. Что общего мог иметь он,
влюбленный в мировую культуру, с ее отрицанием? В чем
состояла утилитарность его цирковой пародии? ,2° Он
оставлял каждую работу, даже не успев ее толком
обдумать, и шел вперед. «Противогазы» (пьеса Сергея
Третьякова) играли уже прямо в цехе газового завода.
Спектакль не родился. Родился великий кинематографист.
Однако кинематографист не умещался в кино. Экран
зашатался от его замыслов. Первым же был проект семи серий
«От подполья к диктатуре»: все формы революционного
166
Глубокий экран #
движения — от нелегальной ячейки до победившей партии
(подпольные типографии, стачки, восстания), вся
революция — «целиком и полностью». Удалось снять одну
«Стачку». Но и это была не какая-либо отдельная забастовка,
а эпос: разгон забастовщиков монтировался с бойней.
Сперва замахнулся на весь 1905 год, по всей российской
империи. Итог сокращений — «Броненосец «Потемкин».
Ему всегда не хватало формата, смет, сроков. Не
существовало средств — во всех смыслах,— чтобы
выполнить задуманное. Им владела страсть к необъятному:
фарфоровые писанки, висевшие под иконами в царских
комнатах Зимнегодворца, дали ему повод к сопоставлению
всех религий («Октябрь»); колхозный бык уперся рогами
в облака как пантеистический символ («Старое и новое»);
задумывая показать Ферганский канал, Эйзенштейн
решил попутно заняться и Тамерланом.
Ассоциации — их мир был необъятен — прорывали
произведения. Так, не переходя от одного к другому, а
взрывая одно другим, двигалось, нет, не двигалось, а
рвалось вперед его искусство: рисунок, эскиз, декорация,
сцена, театр во весь заводской цех, экран. Но и экран
казался Эйзенштейну недостаточным, куцым.
Что же побуждало его к этому неутомимому поиску, не
давало ему покоя, гнало в путь?
«1924—1929 — первый период,— написал потом он о
кинематографической пятилетке,— под ведущим знаком
монтажных и типажных устремлений». ,21 Да, пожалуй,
это были главные средства выражения того времени. Но
образовывались они оттого, что «ведущий знак» был
совсем иным. Это был общий знак искусства тех лет:
открытие нового материала, ощущение его мощи, невозможность
выразить ее старыми формами. Сама огромность чисел
приобретала особый, патетический смысл.
150 000 000 мастера этой поэмы имя.
Пуля — ритм.
Рифма — огонь из здания в здание.
150 000 000 говорят губами моими.
Ротационкой шагов
в булыжном верже площадей
напечатано это издание. 122
Глава вторая
167
Эта интонация не только поэмы Маяковского, но и
кадров Эйзенштейна: эпос цифр — массовые сцены;
«булыжное верже площадей» — места действия; «огонь из здания
в здание» — монтаж.
Для понимания Эйзенштейном монтажа «огонь»,
пожалуй, слишком мирное слово. Вернее сказать «взрыв»
и вспомнить другие строчки (говоря об искусстве тех лет,
неизменно возвращаешься к Маяковскому):
Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка,—
и город
на воздух
строфой летит.
И действительно, строфы кадров летели. Действие то
стремительно набирало ход, то, в моменты наивысшего
напряжения, как бы останавливалось, секунда
превращалась в вечность: все замирало, и только двигались,
нащупывая цель, орудийные башни военного корабля. Четыре
десятка лет назад снимались кадры, а каждому человеку
в зрительном зале все еще кажется: это в него целят пушки,
на него с ружьями наперевес идет солдатский строй.
Трудно переоценить «Броненосец «Потемкин»:
Эйзенштейн показал, что содержанием фильма может стать не
любовное соперничество, но борьба народа за
справедливость. Масштаб истории возникал не в узком отражении,
а непосредственно во всем своем грозном величии. Все,
к чему он прикасался, оживало — море, брезент,
корабельные машины, ступени одесской лестницы,— все
становилось огромным, значительным, запоминающимся на всю
жизнь. Люди нашей эпохи запомнили совсем простые
предметы: детскую коляску, разбитое пенсне, свечу в руках
убитого матроса. Что для такого искусства время, границы,
цензоры? Кажется, уже весь мир увидел, как на высокую
мачту подымается раскрашенный от руки красный флаг.
168
Глубокий экран
Гоголь некогда писал: «Театр и театр» две разные
вещи, равно как и восторг самой публики бывает двух
родов: иное дело восторг от того, когда какая-нибудь
балетная танцовщица подымет ногу повыше, и опять иное
дело восторг от того, когда могущественный лицедей
потрясающим словом подымет выше все чувства в
человеке». 124
Эйзенштейн произнес это потрясающее слово. Стало
очевидным: есть «кинематография и кинематография».
Одно дело, когда умелый ремесленник развлекает зрителей
павильонными происшествиями и бутафорскими
страстями, и иное дело, когда оживает на экране во всей своей
реальности народная трагедия.
Удивление было первым чувством, вызываемым
кинематографом, ожившее на полотне движение само по себе
удивляло. Потом на полотне забегал гримасничающий
человек: его обливали водой из пожарного шланга, в лицо
бросали пирожное с кремом — киношка надрывалась от
хохота — крутили первые комические. Потом злодей
угнетал невинность — на глазах зрителей выступали
сентиментальные слезы.
Эйзенштейн научил кинематографию искусству
потрясать. Он создал в кино эпос. Масштабы, утраченные
театром века назад, вернулись на экран. Вновь — и уже
в ином качестве — возникли пафос, трагический ужас,
патетическое сострадание. Тысячные толпы людей — сами,
непосредственно, а не через протагонистов, стали героями
трагедии. В мире возник новый экран. Кино (недавно
киношка) не только заняло место как равное среди
высоких видов творчества, но и на какие-то годы оказалось на
кафедре учителя. Эпоха в какой-то период смогла
выразить себя сильнее всего на экране.
Искусство 20-х годов вышло далеко за пределы своего
времени, победило время. А Эйзенштейн перерос еще одни
рамки. Полный сил, окрыленный небывалым триумфом, он
рванулся вперед; позади остались не только ленты,
снимавшиеся в разных странах, но и само представление
о кинематографии. Уже был выброшен им на свалку
дряхлый театр: Сергей Михайлович во многих статьях научно
объяснял отсталость кустарного способа воздействия на
зрителей. Теперь, засучив рукава, он взялся за кино. «По-
Глава вторая
169
темкин» доказал возможность потрясти зрительный зал
без сценария, фабулы, артистов. Какое произведение могло
равняться с такой силой воздействия?
Эйзенштейну казалось: пришла пора планировать чудо
искусства. Еще усилие, и будет найден философский
камень. Любой материал превратится тогда в золото. И это
чистое золото — композиции, потрясающие души людей,—
не будет иметь ничего общего с тем, что называлось
художественной кинематографией. Новое искусство
образуется где-то на стыке науки и всех тех монументальных
форм искусства — фресок, симфоний, трагических
ритуалов древнего театра,— где жил строй патетики.
Чтобы понять искусство Эйзенштейна, нужно увидеть
в его фильмах незаконченные исследования, а в
исследованиях — неснятые фильмы. Может быть, из всего, что он
сделал, «Потемкин» являлся единственной законченной
работой, и то потому, что сроки жали: не хватало времени
как следует додумать.
Теперь мало уважают эстетические декларации, кто
сегодня в искусстве придает цену словам? Для нашего
поколения положение было иным: мало что сделав, уже
пробовали выстроить теорию, набирали учеников;
режиссеры были в какой-то степени и исследователями. Кругозор
не ограничивался постановками, а замыслы не умещались
в фильме. Исследования больше походили на монтажные
листы, дневник, стенограмму ощущений. Суть состояла не
столько в анализе, сколько в предчувствии. Разобраться
теперь в этих старых страницах нелегко. Даже язык
принадлежит уже другому времени.
Первые же статьи Эйзенштейна обладали особым,
только ему свойственным характером. Поражала
странность сочетания: дичайшие художественные идеи и
академически бесстрастный тон, научная фразеология.
«Основным материалом театра выдвигается зритель —
оформление зрителя в желаемой направленности
(настроенности) — задача всякого утилитарного театра (агит,
реклам, санпросвет и т. д.),— писал он в «Монтаже
аттракционов».— Орудие обработки — все составные части
театрального аппарата («говорок» Остужева не более цвета
трико примадонны, удар в литавры столько же, сколько
и монолог Ромео, сверчок на печи не менее залпа под
170
Глубокий экран
местами для зрителей) — по всей своей разнородности
приведенные к одной единице — их наличие
узаконивающей — к их аттракционности». |25
Это написано в 1923 году, и борьба с академизмом
низкими жанрами, и огорошивающие по контрасту
сочетания, культ трюка — все это уже имело за собой некоторое
прошлое. Однако к научной терминологии никто из
молодых не прибегал; спокойствия тона не было и в помине.
И трико примадонны пока никто еще не воспринимал как
«единицу».
Казалось бы, Эйзейштейн пользовался теорией ЛЕФа:
утилитарность, направленность, социальный заказ. Но и
сам термин «аттракцион» с его звонкими и нарядными
цирковыми ассоциациями, и предмет (мюзик-холл по
Островскому) имели мало общего с конструктивизмом.
В журнале, где напечатана статья Эйзенштейна, есть
фотография — практика ЛЕФа: два кресла составляются
в кровать. Нет, «единицы» Сергея Михайловича слагались
в иную сумму.
Тяжеловесные слова неведомым путем переходили в
бесшабашное зрелище. Думаю, что «оформление зрителя
в желаемой направленности» лампочками,
вспыхивающими в корсаже артистки Януковой, или прогулкой Григория
Александрова — Глумова в цилиндре и фраке по
проволоке не получилось. Да и самой «направленности» в
спектакле нельзя было разыскать днем с огнем: ни агит, ни реклам,
ни санпросвет.
Это было озорство молодого времени. И это была часть
внутреннего мира Эйзенштейна. И академическая тяжесть
формулировок тоже была часть этого мира: уже
вызревала, складывалась нешуточная, бесстрашная мысль.
Вчитаемся в эту трудную, бесконечно длинную фразу
(вдоль нее можно ехать на велосипеде, как писал Марк
Твен):
«Аттракцион (в разрезе театра) — всякий агрессивный
момент театра, то есть всякий элемент его, подвергающий
зрителя чувственному или психологическому воздействию,
опытно выверенному и математически рассчитанному на
определенные эмоциональные потрясения
воспринимающего, в свою очередь в совокупности единственно
обуславливающие возможность восприятия идейной сторо-
Глава вторая
171
ны демонстрируемого — конечного идеологического
вывода». ,26
Здесь нет пустых, лишних слов. И «опытно выверенные»
и «математически рассчитанное» вовсе не литературные
обороты. На это Эйзенштейн и размахнулся: выверить
опытом воздействие и вывести формулу расчета.
Воздействию полагалось быть на градусе потрясения, а
выверке — математической. Этим он и занялся.
Теперь обратимся к трудам, написанным не
«загибщиком» ранних 20-х годов, а доктором искусствоведческих
наук, профессором. Я раскрываю уже не журнал 1923
года — на обложке фотомонтаж: горилла нацеливается
стрелой в самолет-ЛЕФ, а с самолета в косматого приверженца
художественности летит, как копье, самопишущее перо,—
в толстые книги собрания сочинений Эйзенштейна. На
суперобложке третьего тома автор: огромный, уже
лишенный волос лоб; в петлице пиджака орден. Лицо
серьезно, сосредоточено, покой глубокой мысли.
Я перечитываю «Неравнодушную природу» —
исследование структуры экстаза и пафоса — итог многолетней
работы, захватывающей многие области культуры.
Несмотря на различие материала и способов исследования,
цель остается прежней. Вновь, уже во всеоружии науки,
раскрывается механизм эмоционального потрясения,
выводится формула. "
Но странно, в дни цирковых неистовств Эйзенштейн
писал об аттракционах академическим тоном, а теперь,
занимаясь наукой, тон нередко становится каким-то
другим. Каким?
Вчитываясь в эти сотни, а может быть, и тысячи
примеров, поражаясь эрудиции, вдруг начинаешь ощущать, что
предметы на страницах исследования появляются при
каком-то особенно ярком свете: загораются праздничными
цветами краски, все становится громким и нарядным,
кажется, будто гремят барабаны, поют трубы, в звоне
и блеске выступает великолепный парад. Каких только
аттракционов здесь нет!.. Актеры Кабуки в своих пышных
нарядах шествуют по дороге цветов; основатель ордена
святого Иисуса сам отец Игнатий Лойола учит «эксерцици-
ям» — гимнастике экстаза; произносит монологи Фреде-
рик-Леметр («в багряном с золотом царственном хала-
172
Глубокий экран
те...»); |27 вытягиваются мистические фигуры с полотен
Эль Греко; Уэбстер — автор кровавых мелодрам века
королевы Елизаветы Тюдор... Джованни Баттиста Пиранези
(«Нагромождение перспективных удалений граничит с
безумием наркотических видений»)... 128
И неожиданно— может же быть в науке, как и в
поэзии, лирический герой — сам автор начинает казаться не
только ученым, но и чародеем-фокусником,
вытаскивающим из бездонного цилиндра атласные ленты, яркие веера,
стаканчики с разноцветным вином, белых голубей,
китайские зонтики... Я чуть было не написал: поэмы Уитмена
и музыку Вагнера.
Не следует думать, будто легкомысленное сравнение
бросает тень на научную ценность исследования. Что же
в истории кинематографии называть наукой, если не труды
Эйзенштейна? Сравнение (уверен: Сергею Михайловичу
оно пришлось бы по вкусу) помогает лишь показать особое
свойство этого дарования, черты, казалось бы,
несовместимые: в режиссере «Мудреца» жил ученый, а в докторе
искусствоведческих наук — монтажер аттракционов.
На память приходит одна из сцен любима
Сергея Михайловича — Эмиля Золя: владелец «Дамского
счастья» обращает внимание на витрину магазина:
«Внезапно Мурэ вмешался.
— Зачем вы стараетесь щадить глаза? — сказал он.—
Не бойтесь, ослепляйте их... Вот так! Красный! Зеленый!
Желтый!
Он брал штуки шелка, низвергал их, мял, получая
ослепительные гаммы».
Мурэ в «науке выставок был основателем школы
резкого и грандиозного». 129
Однажды мне удалось увидеть Сергея Михайловича
(обычно спокойного, ироничного) в состоянии, близком
к тому самому экстазу, о котором он столько писал. Шла
примерка костюмов «Ивана Грозного». Выражение,
пожалуй, неудачно: стыдно опошлить высокое горение
художников обыденным словом «примерка». Я. Райзман (отец
известного режиссера) — истинный художник своего
дела — с подушечкой, утыканной булавками, прикрепленной
к запястью как браслет, ползал по полу на коленках перед
Черкасовым, а Сергей Михайлович с горящими глазами
Глава вторая
173
накидывал на плечи артиста огромные куски парчи и
бархата, драпировал (Райзман закреплял складки
булавками), отбегал, смотрел издали; хватал со стола шкурки
чернобурых лисиц, вышивки жемчугом, прилаживал меха
и драгоценности к потокам тяжелых тканей.
Так же рылся он в сокровищах мировой культуры,
выхватывал любимые вещи, сопоставлял их, наслаждался
контрастами. Часто это были вовсе не те явления, которые
необходимы ему как ученому, но скорее те, что он страстно
любил. Тогда исследование становилось объяснением в
любви, образы поворачивались, как драгоценные камни
перед источником света: пейзаж Толедо на холсте Эль
Греко, манера выговора Фредерика-Леметра, симфонии
натюрмортов «Ругон-Маккаров», иероглифы Кабуки...
Любовь совершала чудеса: она объединяла столетиями
не менявшийся ритуал японского театра с
импровизационным, злободневно плебейским искусством Фредерика;
натуралистический «экспериментальный роман»
соседствовал с исступленным католицизмом испанского
живописца... Любовь, как и всякая страсть, видела одни части
предмета и не замечала других. Сергей Михайлович роздал
двадцати своим ученикам по тому «Ругон-Маккаров» для
исследования законов патетической композиции, однако ни
характеры людей, ни картины жизни не попадали в поле
исследования. Больше всего интересовали крайности стиля
Золя.
Что же сближало, казалось бы, несближаемое?.. В
поражающих глаз гримах и нарядах, в преувеличенности
жестов и движений японских артистов, в романтическом
подъеме Фредерика — «Тальма бульваров», в
гиперболических каталогах «отца натурализма» и даже в
трагическом маньеризме Эль Греко существовали те самые черты
(среди многих иных), что являлись основанием «науки
выставок» господина Мурэ: резкость и грандиозность,
патетика чрезмерности.
Эти черты связаны с одним довольно древним
институтом.
Если задуматься над судьбой искусства Эйзенштейна,
сравнить его первые работы с «Иваном Грозным», то
может показаться, будто здание, разрушенное Сергеем
Михайловичем в «Противогазах» и «Стачке», как при съемке
174
Глубокий экран
обратным ходом, постепенно обращается в свой
первоначальный вид: обломки медленно возносятся в воздух,
втягиваются в формы крыши, стены, коробки дома,
деленной надвое; в меньшей части — возвышение, в
большей — стулья, между половинами — кусок материи.
Это занавес. Это театр.
И «разрушение», и «обращение в первоначальный
вид» — термины, разумеется, условные. Не таким уж
варварским было разрушение, и здание восстановилось
отнюдь не в первоначальном виде.
Теперь необходимо вспомнить еще одного доктора.
Не только Эйзенштейн имел это звание. Другой
режиссер без всякой аттестационной комиссии сам присвоил
себе такой титул. Правда, речь шла не о докторе
искусствоведения, а о маске комедии дель арте: ученом муже из
Болоньи с его тарабарской латынью.
Вытянутая, сутулая тень с горбатым носом и странными
движениями длинных рук вырастает за теориями
Эйзенштейна. Ну конечно же, это он присутствует здесь, вечно
молодой и прекрасный художник, сам доктор Дапертут-
то ,3° — учитель Эйзенштейна (учитель многих из нас) —
Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Разве могут эти
страницы обойтись без него?
Как-то мне выпала честь председательствовать на его
вечере. Память не сохранила доклада (кажется, о
Чаплине), но хорошо запомнилось, как докладчик, возмутившись
положением в театре и кино, высоко поднял руки и
воскликнул: «Надо немедленно пойти по городам и деревням,
бить в барабан и кричать: так ставить нельзя!»
Что можно понять в искусстве таких людей без жеста
и музыки?
Эйзенштейн не был первым, кто призывал разрушить
театр. Первым бил в барабан, объявляя смерть театра,
Мейерхольд. Он был, пожалуй, самым смелым
разрушителем. Вероятно, именно поэтому ему и удалось столько
построить.
Чего только он не разрушал! Переживания, иллюзию
жизни на сцене, драматургию... Перечитывая теперь его
старые статьи, историю и критику его постановок, диву
даешься: все перепутано, слова не соответствуют другим
Глава вторая
175
словам, дела дыбом встают одни на другие. Это не жизнь
одного художника, а целые эпохи театра. И каким-то чудом
это искусство одного человека. Только подумать: любимец
Чехова, лучший исполнитель роли Треплева |32 —
ненавистник литературы на сцене; вдохновитель Головина
уничтожал сценическую живопись; проповедник стилизации
всю жизнь мечтает о народном театре; тот, кто гнал театр
вспять к старинным традициям — итальянской,
японской,— оказался зачинателем «театрального Октября».
Это он считал слова лишь узорами на канве движений,
и это он прославил на русской сцене Лермонтова, а потом
Маяковского.
Чего только не писали о нем! И в каких только грехах не
обвиняли. А сегодня честь его труду воздают все театры
мира. Зайдите в любой: в «Берлинер ансамбль», театр
Жана Луи Барро, Королевский шекспировский, Большой
драматический имени Горького, Театр имени Маяковского.
В каждом талантливом современном спектакле живет
и какая-то его мысль. Сколько раз, вспоминая его
постановки, приводили пословицу: выплеснул из ванны вместе
с водой и ребенка. И действительно, так не раз случалось
на его веку. Пословица хорошая. Только необходимо
добавление: если бесконечно не менять воду, то ребенок
запаршивеет. Вот Всеволод Эмильевич и выплескивал
застоявшуюся воду. А ребенок, слава богу, живет. И театр,
и пьесы Гоголя, Островского, Лермонтова... Хорошо, если
бы все, кто ставит эти пьесы, так же страстно любили
искусство их авторов, как Мейерхольд.
Были у него главные, проходящие сквозь жизнь мысли:
площадное, народное начало театра (как его понимал
Пушкин), необходимость масштаба, обобщения образов.
Он видел жизнь, время, но не желал унизиться до быта.
В 1926 году он говорил: «...если так подходить к
пролетарскому театру, то получится, что вообще у нас СССР нет,
а есть сумма жилтовариществ...» |33 До революции он
противопоставлял пьесе спектакль; литературе — стихию
движения, жест, маску. В Октябре барабан Мейерхольда
забил на новый лад. Театр психологии и быта хоронился по
второму разу, спектакль становился митингом, рупором
революционных идей. Хаос творчества заменялся
математикой расчета движений тела в пространстве — биомеха-
176
Глубокий экран
никой. Всеволод Эмильевич учил молодых режиссеров
науке.
За партой ГВЫРМа (Государственные высшие
режиссерские мастерские) сидел Эйзенштейн. Здесь и
сложились первые положения его теории: мейерхольдовские
постановки (вместе с пролеткультовскими), писал он в
1926 году, «домчали театр до его границ, за которыми
театр переставал быть театром и должен был стать
реальным социально полезным аппаратом... Следующий этап: на
смену интуитивно художественной композиции
воздействий — научная организация социально полезных
раздражителей. Психотерапия зрелищными приемами». 134
Я видел «Великодушного рогоносца»: веселых и легких
Бабанову и Ильинского, танцевальный вихрь планировок,
эстетику оголенной сцены с по-своему красивыми
конструкциями и прозодеждами актеров. Прозодежды,
конструкции, биомеханика — во всем было «веяние времени»
(термин Аполлона Григорьева). С каким упоением
воспринимал это веяние молодой зрительный зал. Вовсю бил
барабан Мейерхольда. Это было прекрасное чудо
искусства: разом праздновали и поминки и крестины.
Действительно, умер (в какой-то своей части) старый театр,
и одновременно восторженным криком заливался только
что родившийся здоровый младенец (ему еще предстояло
расти и расти).
Походило ли это на институт бытовой оборудованно-
сти? Научную организацию социально полезных
раздражителей?.. Прошло много времени, доверять памяти
нельзя. И все же я решился бы утверждать: ничего такого
и в помине не было. Был театр. Было искусство.
На празднование юбилея академика И. П. Павлова
пришла и телеграмма Мейерхольда: «Мы, как
материалисты, поздравляем в Вас человека, который разделался
наконец с такой проклятой штукой, как душа...»
Иван Петрович ответил признательностью, однако
оговорился: «Что касается души, то давайте подождем
немножко». 135
Эйзенштейн не хотел ждать. Он торопился вывести
формулу.
История искусства раскручивала свои спирали. То, как
кинематографисты 20-х годов искали стихию кино, во
Глава вторая
177
многом напоминало поиски театральности Мейерхольдом;
освобождали экран от литературы и учились у нее;
провозглашали чистое кино и продолжали старинные
традиции. Разумеется, менялось время; движение было по
спирали, а не внутри круга, но и поиски «чистоты», и
обращения к науке не были новым, впервые открытым.
Чтобы понять статьи Эйзенштейна, нужно вспомнить
его определение сценария. Ученик Мейерхольда относился
к сценарию так же, как его учитель к пьесе. Есть только
один автор: режиссер. Спектакль пишется языком
мизансцен и жестов (литературный вариант — отправная
точка ассоциаций), а фильм — пластикой и монтажом.
Сценарий, по определению Эйзенштейна (конца 20-х
годов), стенограмма эмоционального восприятия событий;
режиссер расшифровывает ее пластическими образами.
Статьи Сергея Михайловича и есть во многом такие
сценарии. Случилось так, что его мысль, или, вернее,
чувство, обогнала реальность кино. И он, лихорадочно
торопясь, стенографировал неисчислимые рои ассоциаций;
мысль кружила вокруг какого-то нового, еще не
существующего искусства.
Сцену пуска сепаратора в колхозе («Старое и новое»)
он хотел выразить патетическим строем. Объясняя, почему
ведущая роль отводилась не колхозникам (они вели бы
себя слишком скромно), а «чистому кинематографу»,
выявляющему монтажом внутренний пафос события,
режиссер делал такое отступление:
«Вот если бы перед нами была бы сцена с Моисеем,
ударом жезла высекающим потоки воды из одинокой скалы
в пустыне, и тысячами умирающих от жажды людей,
бросающихся к этим потокам, или исступленный
пляс богоотступников вокруг библейского же «золотого
тельца».
Шахсей-Вахсей с сотнями исступленно иссекающих
самих себя саблями фанатиков,
или хотя бы хлыстовское радение,
— тогда было бы, чем и как разворачивать картину
толп, объятых пафосом через экстаз самого поведения!»
Обратите внимание на это скромное «хотя бы». Слово
«исступленное» в его статьях встречается, пожалуй,
наиболее часто.
178
Глубокий экран
Неразумно теперь оспаривать старые мысли, объяснять
большому художнику, что следовало бы ему обратить
внимание на людей, и т. п. В его мире еще ничего не
устоялось. И мы не знаем кинематографии, к которой он пришел
бы. Слишком часто, иногда и не по своей вине, он не
заканчивал фильм, обрывал исследования.
Он очертил огромный круг определенных видов
творчества. Современность — крайность опытов искусства
XX века (особенно живописи) — соединялась с вековыми
традициями. Это же характерно и для Мейерхольда. И
еще один художник знал такой масштаб подымания
пластов мировых культур: так проходили через живопись
Пикассо негритянская скульптура, Веласкес, Энгр, Мане.
Для выражения духа революционных переворотов
Эйзенштейн изучал все наиболее мощное, исступленное
в мировой культуре, он хотел разъять эти сгустки экстаза
и пафоса на части, открыть их структуру и, выведя
математическую формулу, образовать новое искусство. Какой-то
стадион потрясений, где тысячные аудитории приводились
бы в состояние гнева, ужаса, восторга аттракционами,
основанными на страсти и науке.
Здесь, в средоточии света, цвета, звука, должны были
возникать в динамических фресках миллионные толпы,
крутые повороты историй народов; предметом трагедии
становились бы категории философии; понятия вытесняли
бы образы. Даже экран «Потемкина» был мал для такого
кино. В этом искусстве были черты патетической
театральности, цветопредставлений витражей Шартрского собора,
великолепие и ужас балета на крови — корриды, мощь
хоралов, симфония натюрмортов Золя...
Попадала ли в это искусство самая сложная и
прихотливая «единица» — человек? Ответ на это непрост.
В его фильмах играли большие актеры. Они вложили
в исполнение и талант и труд, но его искусство
примечательно не человеческими образами. Только один
исполнитель, на мой взгляд, смог справиться с его заданиями:
мраморный лев. Но человеческая страсть заставила
зарычать мрамор. ,37
Он сам, автор своих фильмов, был в высокой степени
человеком. А огромность своего духовного мира он отдал
людям. Человечности в «Потемкине» больше, чем в тыся-
Глава вторая
179
чах так называемых жизненных лентах, где правдивые
артисты тепло разыгрывают бытовые происшествия.
Хочется привести стихи Евг. Винокурова:
О, состраданье!
Нет грознее силы
И силы беспощадней, чем народ,
Познавший жалость!
Он хватает вилы —
Спасать несчастных!
Он топор берет. ,38
Грозное и беспощадное сострадание одухотворяло
многие работы Эйзенштейна. Чем больше художник, тем
особеннее его внутренний мир. Искусство Эйзенштейна
было сродни речам трибунов революции, молниям их
сравнений, мощи обобщения. Для пристального внимания
к человеку возможности не было: уж больно круто
вздымался накал страстей, счет трагических аттракционов шел
на иные величины.
У Сергея Михайловича было немало учеников и
последователей, они восхищались его гением. Но сердце целиком
ему отдал только один человек. Теперь Перу Аташеву
помнит совсем узкий круг людей, а в 20-е годы с молодой,
веселой журналисткой дружили, кажется, все
кинематографисты. У Перы была милая и потешная наружность:
небольшого роста, полная, черноглазая, она заразительно
смеялась по любому поводу. Мы пригласили ее сниматься
в маленькой роли покупательницы в «Новом Вавилоне».
Уже тогда она была предана Эйзенштейну. Пера делала
для него все: подбирала нужные материалы, занималась
корреспонденцией, переводила отзывы прессы. Когда во
время подготовки к «Бежину лугу», роясь в старинном
церковном облачении, он заразился оспой («Довело ориги-
нальничание! — шутил Сергей Михайлович,— все-таки
единственный случай в Москве!»), Пера переехала в
больницу, чтобы ухаживать за ним.
Он уехал в Европу, потом в Америку, годами они не
виделись, но все равно она жила только им. В нелегкое
время его жизни они зарегистрировались как муж и жена.
А потом его не стало.
180
Глубокий экран
Все, что его окружало, она перевезла к.себе: рукописи,
библиотеку с пометками на полях, любимые предметы.
Теперь все это, и только это, окружало ее. Она жила в трех
маленьких комнатах на заднем дворе старого дома в
районе Арбата. Комнатки разрушались: дом давно не
ремонтировался. Сергея Михайловича уже не было в живых, но
Пера жила только им. Целыми днями среди гор рукописей
и навала предметов она трудилась — разбирала его
почерк, приводила в порядок огромный архив. Здесь
начинали исследовательскую работу Н. Клейман и Л. Козлов,
потом много сделавшие для подготовки собрания
сочинений Эйзенштейна, посвященных ему научных сессий. Здесь
бывали все, кто знал Эйзенштейна, любил его искусство.
Приехав в Москву, сюда сразу же приходили Леон Мусси-
нак, Айвор Монтегю, Джей Лейда, Анри Ланглуа, Жорж
Садуль, Ежи Теплиц. Всех не перечислишь. Пера тяжело
заболела; ухудшилось и зрение.
А дом разрушался все сильнее: трещины пересекли
потолок, мексиканские маски и японские гравюры висели
на стенах, покрытых плесенью и копотью. Но Пера видела
только его почерк; напрягая усилия, она разбирала новые
страницы. Отсюда, из маленькой заброшенной комнатки,
начинались и выставка рисунков Эйзенштейна, и
публикация многих его сочинений.
Ей дали новую квартиру, но мир вокруг нее не
изменился: все ограничивалось Эйзенштейном. Болезнь
заставила ее лежать; она почти ослепла. Но и лежа, пользуясь
специальными очками и лупой, она до последнего часа
разбирала рукописи.
В истории этой преданности я вижу не меньше пафоса,
чем в примерах патетического искусства, которое любил
приводить Эйзенштейн. ,39
Хата в Соснице
Я завидую людям, знающим, каким должно быть
искусство. Как расти листьям, чтобы они приблизились к
реализму? Как убрать из пения соловья штукарство, а из бега
кенгуру — трюкачество? Но как углядишь за природой:
все еще плавают рыбы — сплошной формализм, бабочки
Глава вторая
181
разносят по полям абстрактную живопись. И рождаются
художники, ни на кого не похожие.
Разумеется, я шучу. Совершенная нелепость таких
параллелей очевидна, но как рассказать о Довженко,
минуя причуды природы?
Несколько лет назад один писатель выступил со
статьей: фильм «Два Федора» пришелся ему больше по
душе, чем образность Довженко. Правдивость, схожесть
с жизнью, писал он, убеждает куда больше патетики и
легендарности. Началась полемика. Во множестве статей ему
приводили в пример «Тараса Бульбу» и упрекали за
односторонность вкусов. Несмотря на «Тараса Бульбу», я
сегодня скорее соглашусь с этим писателем, нежели с его
оппонентами. Но в искусстве важнее всего исключение из
правил. Им и был Довженко.
Из трех наших прославленных кинематографистов —
Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко — в профессиональном
смысле слова режиссером являлся, пожалуй, один лишь
Пудовкин: он в совершенстве владел всеми элементами
постановки. Он соединил кино с традициями русской
прозы. Не случайно его первой серьезной картиной была
«Мать»; «Конец Санкт-Петербурга» был задуман как
многоплановый роман. Многое в его работе зависело от
качества сценариев, по которым он ставил. Лучшие его
фильмы созданы в содружестве с Натаном Зархи.
Эйзенштейн был гением кино, режиссура (в особом понимании
образности его фильмов) была только частью труда, он
создавал саму кинематографию. Сценарий для Сергея
Михайловича был уступкой, вызванной определенными
требованиями к картине; само существо его искусства
опровергало литературную основу фильма. Кадры
образовывались из рисунков; отношения людей могли быть
выражены и диалогом шлейфов (сцена Ивана Грозного и
митрополита).
После «Звенигоры» трудно было сказать: «хорошая
постановка», «появился новый режиссер», и даже само
слово «фильм» как-то плохо вязалось с происходившим на
экране. Куда более подошли бы гоголевские выражения:
«невидаль», «швырнул в свет», «гром пошел по пеклу».
Казалось, что какой-то новый Рудый Панько ио развесил
поперек нашего бурного столетия беленый деревенский
182
Глубокий экран
холст, и в самом динамическом искусстве, плоть от плоти
индустрии, вдруг медлительно запели слепцы бандуристы,
седые деды с дальних хуторов повели неторопливый
разговор. Чудо состояло в том, что таким ладом — песнями-
думами, хитрыми присказками, лукавыми шутками —
заговорили с беленого холста гражданская война, пятилетки,
коллективизация.
Откуда взяться в кино таким интонациям? И откуда во
всем этом невиданном нагромождении оказался такой
величавый покой?
На Вьюнище — окраине городка Сосница на Черни-
говщине — и сегодня стоит хата, теперь ей уже больше ста
лет: отсюда все и началось. У земледельца Петра
Довженко родился сын Сашко. Детей всего было четырнадцать
человек. Родители были неграмотными. Земля не могла
прокормить семью, отец занимался и смолокурением и
извозом. Довженко считал необходимым упомянуть все это
в автобиографии. «У нас был изумительный сенокос на
Десне,— вспоминал он.— До самого конца жизни он
останется в моей памяти как самое красивое место на всей
земле». Потом он писал: «Я не видел его уже двадцать пять
лет. Я знаю, что он стал другим, ибо стал другим и я, и
смотреть мне на него не надо. Он живет уже в
творчестве». m
Природа вошла в духовный мир человека, она уже
неотделима от него, но человека не станет, а яблоки в
«Земле» все будут наливаться и роса будет покрывать их
каплями.
Трудно сказать, какое место самое красивое в мире, но
художники часто для того и родятся, чтобы доказать, что
земля, где они выросли, самая красивая; это не связано
с презрением к другим землям или слепотой к тому, что
происходит вокруг.
Хемингуэй назвал воспоминания о годах, прожитых
в Париже: «Праздник, который всегда с тобой». Фильмы
Довженко, пожалуй, можно было бы определить и так:
детство, которое всегда было с ним. Я имею в виду не
только воздействие первых впечатлений, а саму ясность
детского взгляда, радость открытия мира, где все одухотворено.
Довженко прожил нелегкую жизнь: странствовал, был
учителем, служил, работал за рубежом в посольствах,
Глава вторая
183
рисовал карикатуры в газете; кинорежиссером стал в
тридцать три года. После такого перечисления обычно
говорится: за плечами у него жизненный опыт. Но все дело
в том, что не опыт накопился у Довженко, а пришла
мудрость. И сохранилось одновременно в его искусстве во всей
своей чистоте детство. Так и совмещались они, причудливо
соединяясь, детство и мудрость. А все, чему полагалось
быть между этими полюсами — трезвая рассудочность,
практичность, житейская сноровка,— для него как бы и не
существовало.
Как-то я повстречался с Довженко и Фадеевым, они
задумывали фильм о Дальнем Востоке.
Александр Петрович только что вернулся с Украины,
счастливо улыбаясь, он рассказывал про Днепр, сады под
Киевом, облака на весеннем небе. Таким возвышенным
тоном никто не рискнул бы даже писать, а он произносил
вслух целую речь. Русские обороты переходили у него
в украинские, поэтические образы — в юмор.
— Ну как я могу написать сценарий для ребенка! —
воскликнул Фадеев, заслушавшись монологом. Они
дружили, относились с любовью друг к другу, но сценария
Фадеев так и не написал. У такого искусства мог быть
только один автор.
Народная мудрость вошла в его искусство не потому,
что он изучал фольклор. Запомнились ему не песни матери,
а ее плач; он часто слышал его. Состав семьи, как он писал,
был переменный: из четырнадцати детей выжило двое;
смерть и рождение были рядом, здесь, в хате, а хата стояла
посредине места, которое казалось ему самым красивым на
свете. Он не любовался природой, а жил в ней, вместе с ней.
Вырастали деревья, которые он босоногим мальчишкой
сажал вместе со своим дедом — незлобивым чумаком
Семеном Тарасовичем, и умирали братья и сестры. Он стал
художником, который вписал революцию на Украине в
пейзаж вселенной, показал на экране современное в вечном.
Все это он делал с шуткой, не боясь запросто
рассказать о великом. Так деревенский богомаз, изображая
мироздание, списывал деву Марию с чернобровой казачки,
а черта — с цыгана-конокрада.
У него был поразительной чуткости слух: он слышал не
только голоса людей, но и тишину лунной ночи, плеск
184
Глубокий экран
днепровской воды. Он говорил на особом, только ему
присущем языке, даже в его повседневной речи можно было
услышать гоголевские обороты, ритм почти музыкальный.
Он был превосходным оратором, но манера говорить была
такой же и в комнате: его мысли и чувства нельзя было
передать другим строем.
Он сказал мне, вернувшись из поездки то ли по
Франции, то ли по Италии:
— Жаль, рано уехал. Еще немного, и я бы заговорил
по-французски.
— Ты брал уроки? — спросил я.
— Нет,— ответил Довженко.— Но уж очень хотелось.
Если бы еще немного времени так же хотелось —
обязательно бы заговорил.
Однажды он сам придумал язык. Я видел материал
фильма «Прощай, Америка!», который он так и не
закончил. Некоторые сцены происходили в США. Ничего более
странного придумать было нельзя: герои разговаривали
по-английски, вернее, по-американски, но слова были
русскими. Довженко по-английски не знал ни слова, но он
в совершенстве уловил рисунок американской интонации и,
подчеркнув ее, построил русский диалог на однотонных
чечеточных скороговорках.
— Это похабный ритм капитала,— объяснил он мне.
Ему пришлось пережить много горя. «...Я был зачислен
в лагерь биологистов,— невесело перечислял он в
автобиографии,— пантеистов, переверзианцев, спинозистов». ,42
От него хотели отнять его детство, срубить деревья,
которые уже росли в его внутреннем мире. Деда Семена
Тарасовича, который был для него еще живым, яблоки, которые
все еще наливались, «одемьянили» (термин РАПП).
Демьян Бедный возмутился «Землей», нашел в ней пантеизм
и биологизм; из-за стихотворного фельетона фильм
пришлось переделывать, портить. Из-за сценария, который не
понравился, он должен был покинуть Киевскую
киностудию (теперь она называется «имени Довженко»).
Но что бы ни случалось, его искусство не могло
изменить своего существа.
В 1951 году, собирая материалы для сценария, он
остановился в селе Покровском. «На душе у меня —
полный покой и мир...— писал он в дневнике.— Все, что меня
Глава вторая
186
окружает здесь, дорого моему сердцу — мельчайшая вещь,
малейший звук... Встал я и прошелся по комнате. Потом
остановился, посмотрел в угол на образ пречистой девы
с младенцем... Я не молился ей. Я мать вспомнил свою.
Вспомнил, как она молилась ей когда-то за меня, когда
я был маленьким, еще таким, как у пречистой девы на
руках, и когда был взрослым, когда нес через жизнь все
свои страдания, все сомнения, все опасности, любовь и
радость. И еще увидел я в образе, который и виден-то еле-еле
(один лишь тихий темный силуэт в серебряном
обрамлении), будто я увидел еще в нем юную доброту с ребенком,
и доброта ее ласково, словно бы прикоснулась ко мне
прекрасной нежной рукой». мз
Далекое, святое, босоногое детство, как он его называл,
все еще было с ним, было в нем.
Ну а то, что причиняло ему горе, мешало трудиться?..
«Недавно в кремлевской больнице престарелый Демьян
Бедный встретил меня и говорит: «Не знаю, забыл уже, за
что я тогда разругал вашу «Землю». Но скажу вам — ни
до, ни после я такой картины уже не видел. Какое это было
произведение действительно большого искусства».
Я промолчал...» (Запись 1945 года). ,44
В 20-е годы слова «красота» боялись, как черт ладана;
оно казалось слащавым, сентиментальным. Довженко
показал силу красоты на экране.
И сам был удивительно красив. Мне он запомнился
в сером костюме, голубой рубашке, загорелый, с седыми
волосами, светлым, ясным взглядом.
Он не только создавал произведения искусства, но
и сам был произведением искусства.
Юлия Ипполитовна Солнцева нашла в его архиве мое
письмо.
«Дорогой друг, только что прочитал в газете о твоем
шестидесятилетии,— написал я ему в 1954 году.— Твои
работы всегда со мной; когда на душе тяжело—
вспоминаю их, и опять уверен, что искусство — благородный труд
и не страшны для него ни клейменый аршин, ни
торгашеские весы. И вновь мчатся на меня кони из «Арсенала» —
дух захватывает от радости! — «Гей вы, кони боевые!» —
кричит первый номер. И отвечают на скаку кони: «Чуем!
166
Глубокий экран
Летим во все наши двадцать четыре ноги!» (кажется,
так? ). Ты их пустил по свету, кому под силу схватить их под
узду, остановить на таком скаку? Сколько уже лет прошло,
а я вижу со всей отчетливостью, как выкатывает на сцену
пулемет батько Боженко, пляшет в лунную ночь
тракторист, лежит под яблоней старый дед, бредет на своих
нелепых ножищах «прогульник» в «Иване», сквозь ветер
и летящие рыжие листья идет Мичурин... Здорово ты
поработал.
И, черт возьми, неужели может тебя огорчать, что на
рынке толчея и пушкари-фотографы зашибают деньгу,
всовывая голову заказчика в дырку на размалеванном
полотне. Такие заработки — бумажные деньги во время
инфляции, ими скоро будут оклеивать стены вместо обоев,
а ты заработал огромное состояние; все оно в золоте».
Глава третья
«Одна»
Замысел новой работы возникает от множества причин.
Вряд ли возможно так уж четко определить, какое же из
обстоятельств оказалось для автора решающим, побудило
его очертить определенный круг материала, погрузиться
в него с головой, сделать именно это событие предметом
своего главного жизненного интереса.
Несколько строчек газетной хроники (начну с этого)
привлекли внимание Л. Трауберга. Сельская учительница
заблудилась в снегах, замерзла, тяжело заболела; врача
в округе не было; по решению правительства за больной
послали самолет.
В наши дни такой факт не кажется исключительным:
самолетов даже в дальних районах страны достаточно,
а вылеты для медицинской помощи давно вошли в быт.
В 1930 году событие представлялось значительным; эпопея
«Челюскина» была еще впереди. Сухая газетная
информация заставляла задуматься о многом. Судьба человека
стала предметом общей заботы; определялось величайшее
значение — даже в масштабах страны — одной
человеческой жизни. А в чем могла состоять эта судьба? Как
проходил через нее ток времени, как существовали вместе,
в сложном единстве, история и человек?
На этот раз было решено взять в герои не множество
людей, как это было в нашем последнем фильме, да и в
большинстве картин того времени, а только один главный
характер, вывести на первый план одного лишь героя —
обычную девушку. Заглавие фильма появилось еще до
того, как была написана хотя бы строчка сценария.
Как это ни покажется на первый взгляд странным,
прочертить путь от «Шинели» к «Одной» не так уж трудно.
При совершенной несхожести фильмов мысли в каких-то
точках соприкасались. И даже некоторые кадры —
маленькой фигуры среди огромности снежной пустыни (Баш-
188
Глубокий экран
мачкин после ограбления и учительница на замерзшем
Байкале) — были основаны на том же образе. Однако
внутреннее движение новой работы имело, разумеется,
иное, обратное старому, направление. Тема «Одной»
явилась как бы ответом на гоголевскую повесть. Ужас
обездушенного государства, где железным рядом вставали все
против одного,— и общество, основанное на положении:
все за одного, один за всех.
Положение представлялось нам вовсе не само собою
разумеющимся: право защиты одного всеми принадлежало
человеку не от рождения, его нужно было заслужить.
На долю девушки-учительницы выпала нелегкая
задача. Нам рисовалось дальнее село, где еще господствует
дикость, место, куда еще толком не дошла Советская
власть. Сюда должна была приехать на работу городская
девушка, только что окончившая педтехникум. Вокруг
школы начиналась борьба: владелец стада овец не
позволял детям учиться, ребята-подпаски были дешевой рабочей
силой. На сторону учительницы становились бедняки;
«одна» выяснила, что она совсем не одна. Наступало мщение:
ямщик-подкулачник во время поездки в другую деревню
выбрасывал девушку из саней. На помощь замерзшей
учительнице прилетал самолет.
Снимать мы хотели в самых дальних краях. Проехав
немало по железной дороге, потом в глубь районов на
телегах и, наконец, несколько дней верхом по узеньким тропам,
мы добрались до нужного места. Находилось оно
действительно за тридевять земель. Уже самое первое впечатление
оказалось достаточно сильным.
У входа в село висела на длинном, косо вбитом шесте
шкура, содранная с лошади, ветер шевелил ободранные
лошадиные ноги, полусгнившая морда смотрела пустыми
глазницами высоко в небо: «тайлга» отгоняла злых духов.
В деревне подвизался знахарь; то, что происходило в его
юрте, запомнилось надолго. Рябой бородатый мужик сидел
на корточках подле очага, закрыв глаза, он что-то
бормотал себе под нос, изредка ударяя колотушкой в большой
бубен (внутри обруча была деревянная башка какого-то
бога с медными бровями и носом). Заплаканная женщина
с больным ребенком на руках следила за колдуном. Ритм
бормотания убыстрялся, удары становились более частыми
Глава третья
189
и громкими, мужик вскакивал, кружился, топоча сапогами.
Раздувался очаг, юрта наполнялась дымом, бормотания
переходили в крики и истошный вой, на губах шамана
выступала пена. Дым ел глаза, причитала мать, заливался
плачем больной ребенок.
Только что мы снимали бал Второй империи и
баррикаду на парижской улице.
Иная баррикада сооружалась на глазах. Двигались на
восток бесконечные эшелоны, груженные
стройматериалами и машинами,— начинались огромные стройки; а на
проселочных дорогах, вдали от железнодорожных путей,
мы встречали обозы выселяемых кулаков. Было
неспокойно. В одной из деревень на наших глазах растаскивали
колхозное имущество. Нам выдали оружие. У входа в избу,
где хранилась съемочная техника, пришлось установить
дежурство.
Так называемое «изучение жизни» в этом случае было
поставлено неплохо.
Бывают периоды, когда необходимо и в жизни и в
работе круто «перегнуть палку» в обратную сторону. После
командировки в Париж следовало поехать в ином
направлении; окончив «Новый Вавилон», захотелось снять ленту
совсем другого толка.
В слове «Одна» теперь трудно услышать что-то
странное, привлекающее внимание, но по тем временам название
было полемическим. Мы вступали в спор.
Двадцатые годы — прекрасное время молодого
искусства — перешли свою высшую точку. Необходимость
перемены была в самом воздухе. Шесть лет прошло со съемок
«Похождений Октябрины», но, по сути дела, мы жили
в другом мире. Все стало непростым. Ни плакат, ни
мелодрама, ни символические метафоры рассказать об этих
изменениях уже не могли. Что можно было понять в
реальности, позабыв о духовной жизни людей?
И случилось так, что самые изощренные монтажные
ходы и смены ритмов вдруг показались простенькими. Все
решительнее возникал внутренний протест против замены
содержания лозунгами, человеческих образов — схемами.
Величайший успех «Броненосца «Потемкина» открыл
широкую дорогу киноискусству. Это явилось несомненным.
Но одновременно, как это ни покажется странным, дорога
190
Глубокий экран
довольно быстро приводила и к тупику. Массовые зрелища
на площадях прекратились не случайно; недолог был и век
героя-массы в литературе. Шло время, и становилось
ясным, что, позабыв про человека, мало что можно понять
и в истории. Решительные бои шли не только на
строительных площадках и колхозных полях, но и в духовном мире
человека. Проникнуть в этот мир, открыть его на экране
оказалось куда труднее, чем снять тысячную массовку или
смонтировать действие, происходящее сразу во всех
четырех частях света.
Все мы начинали с восхищения возможностями экрана.
Дзига Вертов с трепетом писал о киноглазе. 145 И
действительно, киноглаз многое мог увидеть. Но один объект
оказался непригодным, не поддающимся воспроизведению,
что ли говоря, «нефотогеничным», как тогда выражались.
Киноглаз не мог увидеть человеческих глаз. Поверхность
органов зрения снимали неоднократно и даже во весь
экран, но в глубь глаз ни киноглаз, ни «интеллектуальное
кино» (термин Эйзенштейна) 146 не умели заглянуть.
Мысли и чувства человека оставались за экраном.
Безграничные возможности кино на деле оказались
односторонними, ограниченными: разнообразие ракурсов
и планов стало действительно большим, однако внутренний
мир, духовная жизнь человека часто снимались общим,
«ханжонковским» и7 планом. Типажи переводили глаза
справа налево и слева направо, размахивали кулаками
(гнев), растягивали рот в улыбку (радость); запутанность
монтажной формы сочеталась с примитивом, когда дело
доходило до человека. Даже в коротких кадрах можно
было разглядеть неосмысленные лица и безжизненные
жесты.
Время обожествления ножниц в кино кончилось.
Религия монтажа переставала творить чудеса: открывалась
механика внешних приемов.
Гибрид художественного и хроникального кино
обнаружил противоречие самой своей природы: документальность
съемки обесценивалась дробным монтажом, содержание не
выходило за пределы общих положений, известных по
газете.
Двадцатые годы приучили ненавидеть подделку, папье-
маше, режиссеры и операторы научились выявлять съем-
Глава третья
191
кой подлинность материала, характер его поверхности.
Я вырос на пристрастии к фактуре — любимом слове
молодых живописцев. А теперь я все отчетливее чувствовал, что
человек, ограниченный на экране только внешним обликом
и знаками простейших эмоций, является поддельным,
бутафорским человеком. Это такая же неправда, как двери,
написанные на стене декорации: видно, что у них нет
объема. Подлинность человека, основное свойство его, условно
говоря, фактуры — одухотворенность.
В мемуарах Чаплина можно прочесть рассказ о его
первом столкновении с кинематографической эстетикой.
Вернее, с тем, что тогда считалось этой эстетикой. Опытный
кинематографист Мак Сеннетт сократил в кадрах Чаплина
все, казавшееся молодому артисту выразительным.
Разгорелся спор: Чаплин требовал восстановить купюры,
«король комедии» Сеннетт орал, что новичок ничего не
понимает в экране, главное в кинокомической — погоня, темп.
Чаплин не соглашался: основа фильма — комическая
игра, утверждал он. ,48
Спор касался существа. Дело было не только в
сравнительной важности монтажа или игры, а в понимании самой
природы кино, в месте человека на экране. Надо сказать,
что в развитии киноискусства поиски расширения
выразительных средств (прекрасный период!) были так же
необходимы, как и время их сознательного ограничения.
Когда-то стихией экрана казался монтаж поезда —
динамика мелькающих кадров колес, поршней, рычагов, пара,
дыма, расходящихся стрелок. С каких только точек не
снимали поезда! А потом в «Парижанке» одни только тени
вагонов прошли по лицу героини. Кто может сомневаться,
что это был истинный кинематограф?
В истории кино наступали годы, когда выяснилось
различие между зрелищным и зрительным. Ограничиваться
только зрелищным экран уже не мог. Задача усложнялась.
Таким усложнением нередко была простота. Разумеется,
это определение относительное. Задача состояла в сужении
внешнего поля исследования, зато взгляд вглубь
усиливался. «Угол зрения» камеры Москвина (уже достаточно
изощренный) хотелось сознательно ограничить. На этот
раз цель была особой: заглянуть вглубь, в духовный мир
нашей героини, открыть отношения «одной» и «всех».
192
Глубокий экран
Задача определялась в работе, сценарий, как это
всегда случалось, переделывался под напором нового
материала, а жизнь в далекой деревне поставляла его нам в
изобилии.
Среди обстоятельств, влиявших на замысел фильма,
было и ещеодно: кончался век немого кино. Звукового еще
не было, но Великого немого уже теснил совсем не великий,
косноязычный. На закрытом просмотре показали первые
зарубежные пробы; наши изобретатели Шорин и Тагер
открыли лаборатории звукозаписи.
Мы обязательно хотели снимать фильм звуковым. Опыт
музыки Шостаковича к «Новому Вавилону» необходимо
было продолжать. Как и все наши товарищи, мы были
против речи; диалог, казалось нам, вернет экран к сцене.
Добытого — силы зрительной поэзии — отдавать было
нельзя. Хотелось лишь усилить зрительные образы
контрастом со звуковым рядом.
Завязка сценария была нарочито простой. Девушка,
совсем еще юная, не сталкивавшаяся с какими-либо
сложностями жизни, закончила педтехникум. Она счастлива.
Она любит большой прекрасный город, где прожила всю
свою недолгую жизнь, свою профессию, любит веселого
парня-физкультурника.
Безбедное и бездумное существование нашей
героини — первую часть фильма — хотелось выразить особой,
иронически показанной поэтичностью обыденного. На
предметный мир как бы переносились внутренняя идиллия
девушки, наивная и пошловатая.
Темные, трагически напряженные тона пластики
«Нового Вавилона» сменились светлыми, в большинстве
случаев солнечными кадрами.
Надо сказать, что в те времена чисто белый цвет
считался для съемки по техническим причинам (ореолы)
невозможным. В гардеробе студии висели особые
кинорубашки и больничные кинохалаты, подкрашенные желтым.
Перед Москвиным была поставлена первая задача: снять
белое на светлом, белое платье на солнечной улице.
Иронически высветленным захотелось сделать и
звуковой ряд. Настроение девушки как бы переносилось
на шумы города, по-особому окрашивало их. Временами
должна была слышаться потешная песенка, не то мечты
Глава третья
193
героини, не то бездумное сочетание первых попавшихся
слов, пришедших ей в голову.
Кто же лучше Маршака (тогда все зачитывались его
детскими стихами) смог бы написать такую песенку?
Самуил Яковлевич согласился, стал импровизировать:
не зря названия плохих, холодных месяцев заканчиваются
дрожью — октяБРРР, нояБРРР, декаБРРР... И совсем
иное май, июнь, июль — легкие, ласковые слова. Может
быть, переименовать плохие месяцы, убрать из них БРРР,
и погода зимой станет теплее?
Но сложность в том, предупредил Самуил Яковлевич,
что пишет он медленно. Перед разговором о сроках он
хотел бы для примера прочесть нам стихотворение,
занявшее год работы. Правда, он сам остался им доволен.
Мы устроились поудобнее, приготовились слушать. Самуил
Яковлевич вытянул губы и торжественно, с чувством
прочел произведение полностью. Вот оно:
По проволоке дама
Идет как телеграмма.
С Маршаком мне удалось встретиться в работе позже.
Он прекрасно перевел для спектакля Большого
драматического театра имени Горького песни шута из «Короля
Лира».
А для «Одной» песенку написал Н. Заболоцкий (стихи
не вошли в собрание сочинений). Мне хочется привести ее
как пример тональности начала фильма,
пародийно-наивного, важного по контрасту с реальностью жизни,
открывшейся потом девушке.
Как хорошо, как хорошо,
Когда весна, когда светло.
Когда под вечер погулять,
Когда под утро крепко спать.
Когда одет, когда умыт
И чай на примусе кипит,
Проходит сон, проходит лень,
Приходит милый новый день.
Он очень-очень деловой,
Он очень-очень трудовой.
194
Глубокий экран
Но этот день, когда живешь,
Необычаен и хорош.
Когда хорош? Тогда хорош,
Когда ты вечером придешь,
Придешь гулять, придешь мечтать
И день весенний провожать.
Романс должен был впервые слышаться при особых
обстоятельствах, и исполнение его предполагалось
довольно своеобразное. Во время прогулки будущие молодожены
останавливались у витрины, выбирали предметы для
хозяйства. Прекрасный сервиз, как в сказке, обращал
внимание на молодую пару, вступал в разговор. Чайники
поворачивались к ним носиками и пели тоненькими фарфоровыми
голосами: «Как хорошо, как хорошо!..» Чуть звеня,
подпрыгивали и подпевали чашки и полоскательницы: «И чай
на примусе кипит...» Гудели в такт автомобильные гудки:
«Проходит сон, проходит лень...» Вызванивали трамваи:
«Приходит милый новый день». Улица гулом голосов и
всеми своими шумами подтверждала: «Но этот день, когда
живешь, необычаен и хорош».
Концерт витрин и улиц переходил в кадры мечтаний
яевушки: огромный парадный класс с выкрашенными
белой краской стенами, нарядные пионеры, учительница
в светлом платье у прекрасной географической карты,
только что принесенной из магазина,— все показательное,
опрятное, светлое. Она и он — веселая молодая семья
в стерильной кухне у сверкающего примуса, наконец, они
вдвоем едут на трамвае. Но это особенный вагон,
площадка разукрашена (как I Мая), убрана цветами. Когда они
вскакивают на подножку, городской концерт переходит
в торжественную кантату, вступают духовые и медные,
гремит хор, цветы на площадке загораются, мигают
яркими красками (кадры раскрашивали от руки), заливаются
певцы: «Придешь гулять, придешь мечтать и день веселый
провожать». Вагон уже не едет по рельсам, а летит высоко
в небе, мимо кудрявых белых облаков.
На этом заканчивалась пародийная образность, где
реальность переходила (без каких-либо наплывов или
шторок) в мечты, городскую сказку.
С неба девушка спустилась на землю.
Глава третья
19&
Кадр перехода был выбран тщательно.
Улицу делила надвое тень от дома. Белая фигура
перебегала улицу, скрывалась в подъезде Наробраза.
Вместе с дипломом девушка получала и назначение в далекую
деревню — там необходим учитель.
Иные звуки вступали в фильм: диктовка приказов,
слова, чередующиеся со знаками препинания, стук
пишущих машинок, металлический гул громкоговорителей,
усиленный эхом на больших площадях. Призывы и лозунги,
сводки, приказы, постановления.
Тема времени, долга человека возникала на экране
такой, какой ее воспринимала вначале героиня: назначение
казалось ей бессердечным. Но как ни коротка была жизнь
девушки, она сложилась в определенных общественных
условиях, и колебания были недолгими; соболезнования
гнусного старичка в приемной учреждения открыли глаза:
девушка не стала просить о перемене назначения.
Резко менялся стиль фильма. По пыльной степи, по
ухабам и выбоинам разбитых дорог трясся тарантас,
запряженный парой. Учительница, измученная долгим путем,
добиралась до места работы. Таким же путем, как и мы
когда-то (во время поисков места для съемок), она
подъехала к околице небольшого ойротского села. Возница
придержал лошадей, учительница вылезла из повозки.
Зловещая лошадиная шкура высилась над избами и
юртами. Девушка из современного города въехала в древний
мир. С городским чемоданом в одной руке и пачкой книг в
другой она шла мимо юрт. Деревянной кувалдой молотили
зерно, издали доносился истошный вой: занимался своим
темным делом шаман. Здесь была развалившаяся изба
с дырой в крыше — место для школы; поселковый
бюрократ с неподвижными глазами и бессмысленной
усмешкой (его отлично играл С. Герасимов) у входа в свой дом
неторопливо ваксил сапоги, пропуская мимо ушей
взволнованные слова учительницы.
Девушка недолго грустила, она была привязана к своей
работе; смышленые деревенские ребятишки пришлись ей
по душе. Дело пошло. Но местный бай — владелец отары
овец — нуждался в школьниках: пришла пора выгонять
стада на пастбища. Девушка вступала в сражение. Мечты
о картинной школе с игрушечными пионерами сменялись
196
Глубокий экран
реальностью труда в нелегкие годы, в условиях дикости и
равнодушия.
Бая играл китаец, торговавший на ленинградском
базаре бумажными игрушками. Его внешность отлично
подходила к образу. Работа с таким артистом оказалась
нелегкой, по-русски он понимал плохо. Но ничего, общий
язык мы нашли. Не надеясь на новую профессию, артист
продолжал в селе свою торговлю; бумажные веера и
шарики, подпрыгивающие на резинке, вошли в быт деревни.
Мы продолжали поиски «величины». Обыденный
случай хотелось вывести за бытовые рамки. Пейзаж в сцене
гибели учительницы должен был приобрести трагический
характер. Мы снимали на покрытом льдом Байкале. В
продолжение многих дней мы часами выжидали, когда солнце
выходит и прячется за тучами,— Москвин снимал в эти
короткие мгновения (обычно при такой погоде съемки
отменялись из-за неустойчивости освещения);
накапливались кадры — гигантские тени, как черные крылья,
проносились по замерзшему озеру, преследуя девушку.
Звуковая сторона была достаточно сложна.
Простейшие звуки получали в сценарии свое развитие, жизненные
шумы вырастали до обобщений.
Во дворе ленинградского дома, где жила девушка, по
утрам играла шарманка (тогда это было обычным).
Шостакович сочинил «галоп» (его переписали на валик);
шарманочная тема потом переходила в оркестровую
разработку. Вместе с девушкой, как бы ее сопровождая,
переезжала в далекую деревню и легкомысленная городская
мелодия: память о бездумном прошлом. Звуковая ткань
эпизода приезда учительницы была сложной. Девушка
устраивалась, разбирала вещи; неожиданно звонил
будильник, а потом слышался и далекий городской шарма-
ночный напев. В веселый мотив грубыми ударами
вторгался бубен и хриплый вой шамана (подлинная запись),
стучал и скрипел снаряд для перемолки зерна (подлинная
запись), и затем, как бы прошивая звуковую ткань,
возникала фраза деревянных и флейты — голос бая, сочиненный
Шостаковичем. Голос, дребезжащий и старческий, не раз
проходил сквозь фильм, усиливался, набирал мощь.
Музыка Шостаковича становилась для наших
фильмов такой же органической частью (самой плотью кине-
Глава третья
197
матографической образности), как и пластика
Москвина.
Были сцены, где звук вел тему. Возникал диалог
действующего лица (только изображение) и бездушной
силы (только звук).
Учительница в зимнюю стужу прибегала в избу
поселкового совета: только что угнали ребят, школа,
налаженная с таким трудом, закрылась. Сиял начищенный
самовар, женщина с безжизненным лицом монотонно
качала люльку; на печке спал под тулупом человек. Слова
учительницы — просьба о помощи — никого не трогали.
Их никто и не слышал. Храп, сперва обычный, житейский,
был единственным звуком сцены; потом храп становился
более громким, появлялись раскаты и присвисты (мы
пригласили специального имитатора), и, наконец, полный
состав симфонического оркестра подхватывал хриплое
сопение, превращал его в громыхающий храп какого-то
доисторического зверя. Учительница упрашивала и
умоляла, на ее глазах появлялись слезы, а медленное и тяжелое
музыкальное движение набирало силу, разрасталось
симфонией храпа.
Непросто говорить о «своей теме». Духовный мир
человека не может остаться неизменным. Жизнь меняет
его, если человек не слеп, не глух и если у него не
очерствела совесть. Но внутренний мир не напоминает пустого
помещения, гостиницы, где прописываются на время
образы авторов, как коечные жильцы, чтобы завтра, отбыв
в неизвестном направлении, уступить место новым
постояльцам. Без пристрастия к определенным явлениям, любви
к одним и ненависти к другим нельзя работать, да и жить,
вероятно, бесцельно.
Образ бесчеловечности проходит сквозь фильмы, над
которыми я трудился сначала с Траубергом, а потом и
один. Я не могу отделаться от удушливых и тошнотворных
картин оскотения, надругательства над человеческим:
гогот шпаны над молодыми героями «Чертова колеса»; пляс
чиновников вокруг Акакия Акакиевича; провокаторы и
карьеристы, издевающиеся над раненым декабристом;
расправа версальской черни над пленными коммунарами;
жандармы, сыщики и обыватели-добровольцы, охотящиеся
198
Глубокий экран
за бесправным, затравленным Максимом; вечный
обывательский крик: «Городовой!..»
Сколько этих кадров мне пришлось снять. Рев
черносотенной Думы; охотнорядцы с царскими портретами, тупое
«ура!» на вымершей улице; помои, выливаемые на голову
нищего идальго из Ламанчи, безумца, решившего бороться
за справедливость...
Теперь, поставив «Дон Кихота» и «Гамлета», мне легче
отличить черты таких образов и в старых работах. Я с
детства ненавижу эту силу — мерзкую смесь невежества
и жестокости, косности и злобы. Я узнал ее в царской
гимназии, видел своими глазами на улицах в дни
гражданской войны, когда торжествовала контрреволюция,
глумились погромщики и ерничали каратели. Это она, эта сила,
меняя обличья, веками втаптывала сапожищами в грязь
человеческое достоинство, чтобы, вышколив страхом,
взрастить безропотность, превратить человеческое существо
в дудку, на которой по казенным нотам смог бы
высвистывать нехитрый мотив любой чиновник.
Человек, восстающий против этой силы, всегда был
нашим героем. В «Одной» мы старались показать
благородство труда учителя, нежелание примириться с вековой
спячкой. Мы бесконечно любили неказистую девушку в
валенках и несуразном бабьем платке, деревенскую
учительницу (одну из первых в роду экранных учительниц),
защищающую право детей на свет и тепло. Эта обычная
девушка казалась истинной героиней, человеком нового
общества.
Последние части фильма совсем не удались. Тема
помощи государства была отвлеченной, схематической.
Мы не смогли найти ни жизненных положений, ни
характеров. Лозунги, передаваемые по радио; надписи-призывы
о помощи замерзшей учительнице; самолет, символически
пролетающий над лошадиной шкурой; сверкания
пропеллера и песни акына о прекрасной жизни — все это было
безжизненным. Без человеческих глаз экран казался
плоским, а зрелищные кадры — недостойными.
Хотя фильм и задумывался как звуковой (сценарий
писался в расчете на озвучание), планы наши оказались
чисто теоретическими. Мы уехали в далекую экспедицию
Глава третья
199
на несколько месяцев; признаков оборудования для зву-
косъемок еще нельзя было заметить.
Когда мы вернулись, знаки новой технической эры уже
были видны. Они ужасали. На самом шумном дворе «Лен-
фильма» в ателье с тонкими стенками монтировалась
громоздкая аппаратура. Люди неведомых специальностей
потребовали сценарий. Оказалось, чтобы получить в
фильме звук шагов, необходимы особые приборы; подлинный
удар палкой по полу или же звон реального будильника не
получается — утверждали специалисты по звуку.
Шумовики конструировали сложные аппараты, издававшие
странный скрежет и причудливое бренчание.
Администратора, игравшего когда-то в оркестре
кинотеатра, назначили осваивать новое искусство: умение
составить смету и читать ноты гарантировало,
по-видимому, успех. Приступили к озвучанию «Баб рязанских»:
трясли сбруей с бубенчиками, тренькала балалайка.
Сценарии стали делить на звуковые и немые. В первых
по ходу сюжета что-то должно было звучать. Особенный
успех вызывала ситуация побега из тюрьмы по сигналу
игры на гитаре; подходящая тематика в этом случае
органически сочеталась с новой техникой.
Мы приступили к звукозаписи. В нескольких сценах
хотелось усилить решающие места громко сказанной
фразой. Однако даже отдельные кадры не удалось снять
синхронно: шум камеры заглушал голос. На камеру надели
огромный полярный ватник: шум изменил характер, но
записывался не менее отчетливо. Тогда была сооружена
несуразная будка на колесах, она напоминала по
внешности пивной ларек. Внутренность будки обили толстой
стеганой байкой противного голубого цвета. В ларек с
трудом втаскивали камеру: снимать нужно было через оконное
стекло. Сперва долго уговаривались с звуковиками,
сидевшими в отдельной комнате, о сигналах начала съемки.
Зажигались панические красные огни, завывала сирена,
звуковики и мы расходились по своим помещениям (они
в комнату, мы с Москвиным — в будку); двери
задраивали, как вход в подводную лодку.
Легкая и быстрая камера Москвина (куда только ее
не втаскивали) стала неподвижной; агрегат-паралитик
на бесполезных колесах — вес людей и камеры не поз-
200
Глубокий экран
волял ему двигаться — вернул экран к «живой
фотографии».
Начались разговоры о необходимости
переквалификации киноактеров. Приглашали театральных
преподавателей постановки голоса, дикции и декламации.
Опять нас обвинили в «мудрствовании». То, что мы
старались сделать, оказалось невыполнимым: шаман (мы
его привезли с собой) для звукового кино казался слишком
громким, а пение чайника — чересчур тихим.
Пришлось пойти на уступки. Постепенно многое из
задуманного упрощалось. Особенно жалко было
иронически-сказочного звукового ряда первой части. Слова
романса нельзя было разобрать, увы, ограничились одной
фразой; деформировать звук так, чтобы он казался
игрушечным, фарфоровым, будто его поют чайники, тоже не
удалось — пригласили тенора. О перезаписи еще никто
и не думал — соединяли шумы во время записи.
Но были и счастливые часы. В шумном и грязном ателье
студент второго курса консерватории Николай Семенович
Рабинович (теперь профессор, дирижер всех наших
фильмов) стучал палочкой по криво установленному пульту;
оркестранты откладывали в стороны завтраки и утренние
газеты, брались за инструменты. Звучала во всю свою
мощь музыка Шостаковича. И уже ничего с ней нельзя
было сделать: ни обкорнать ее куцыми оркестрами «Пика-
дилли» и «Паризианы», ни заменить попурри из альбома
«Киномузыка».
Хотя попытка заглушить ее была; специалисты по звуку
составляли докладные записки: оркестровка, как они
утверждали, не учитывает техники звукозаписи. Звукового
кино еще и в помине не было, но уже получали
зарплату люди, отлично знавшие, что имеет право звучать и
чему звучать не положено. Им хотелось жить без особых
волнений, а балалайка и бубенчики не доставляли
хлопот.
Но скоро выяснилось, что страхи были излишними:
реальные шумы отлично получались. Звукооператор Илья
Федорович Волк, в прошлом мотоциклетный гонщик, один
из строителей первой радиостанции, оказался смелым
человеком и отличным товарищем. Музыка Шостаковича
звучала, да еще как!
Глава третья
201
Фильм вышел на экраны. Нас упрекали в мрачности,
пристрастии к драматизму. Видимо, вкусы в
кинематографии определялись, а мы не принадлежали к тем, кто видел
реальность как сияние улыбок, песни и пляски, легкую
и прямую дорогу к счастью. Как раз такой способ видеть
жизнь мы и пробовали пародировать в начале фильма.
За новую работу хотелось взяться сразу же.
Кого из художников не увлекала тогда тема первой
пятилетки? Мы видели своими глазами процессы
ликвидации кулачества как класса, жили в далеких деревнях.
Теперь необходимо было увидеть фронт строительства. Мы
сошли с поезда в Магнитогорске, когда вместо станции
стояла еще теплушка в поле, артели копали землянки,
сооружались «шанхаи», в белых коттеджах распаковывали
чемоданы иностранные специалисты. В странном городе
Верхнеуральске жили только старики и дети, взрослые
ушли на стройку... Мы переезжали с места на место,
знакомились со множеством людей. Перед глазами проходили
новые корпуса и цехи заводов, электростанции — все еще
в строительных лесах. После Днепростроя мы поехали на
Азовсталь, потом на другие новостройки. Мы исписывали
тетради техническими деталями, фактами, разговорами,
услышанными в Доме крестьянина, общежитиях. Словом,
делали то же, что и множество других кинематографистов,
литераторов, художников.
Появились наметки сценария об артели, пришедшей на
стройку, о сложных процессах изменения крестьянской
психологии, превращении артели в бригаду. Нам удалось
сочинить только первые части: все получалось слишком
трагичным, мрачным.
В это время мы увидели «Темп» (а вскоре и «Поэму
о топоре») Η. Ф. Погодина, поставленный А. Поповым
в Театре Революции. В пьесе, презрев все законы
драматургии, бушевала ватага новых героев: газетный очерк
заполнил сцену. Обрели человеческий голос котлованы,
плотины, доменные цеха. Характеры, вызванные к жизни
строительством, небывалой переменой уклада, заговорили
своим языком.
Пьеса была еще несовершенной, но в ней была
грубоватость, корявость подлинного материала,
казавшаяся привлекательной.
202
Глубокий экран
Мы договорились с Погодиным о встрече. Бытовые
подробности нашего разговора, вероятно, не так уж
существенны, но без них, мне кажется, потеряется колорит.
Еще на лестнице слышались звуки пластинки
Вертинского «Магнолия», пущенной через усилитель на полную
мощь. В квартире драматурга шел ремонт; стены были
оклеены газетной бумагой, в одной из комнат маляр, стоя
на стремянке, красил потолок, в другой, под гремящим
динамиком, подле кадки с пальмой, сидел в кресле
Погодин. Стояла жаркая погода, на Николае Федоровиче было
только нижнее белье; поднося к самому носу листки бумаги
и сильно щурясь (вследствие близорукости), он читал
нашу заявку.
— Трагическую ночь? — бормотал Николай
Федорович.— Дерьмо! Переживания девицы? А ну ее!
Перестройка психологии? Тощища!..
Критические замечания были именно такими. Только
форма выражения отличалась большей энергией и
живописностью.
Погодин не оставил от нашего замысла камня на камне.
Защищаться не хотелось, мы сами понимали, что ничего
хорошего не получается. Николай Федорович согласился
сочинить для нас сценарий, сохранив лишь общее
положение: артель становится бригадой.
Чего только не было в его сценарии «Путешествие
в СССР»! Старшой артели дед Алфей видел сон: играл
в очко то с чертом, то с ангелом (от снов зависело
настроение, а следовательно, и труд артели), силач Вязалин гнул
медные пятаки, Митроша Зуда имел привычку хвастать:
«Эх, кавалеры, кавалеры, работал я под Японией на самом
берегу!» Был еще какой-то дядя Степа, от одного голоса
которого птицы дохли (это показывалось) и колокольни
качались (тоже показывалось). Артель, перебравшаяся
в сценарий прямо из «Левши» или озорных сказок,
превращалась в бригаду. Эта часть не казалась убедительной, но
много занятного было в сценарии.
Безудержная выдумка гуляла в каждом эпизоде.
Что, казалось бы, лучшего могли отыскать для себя
организаторы ФЭКСа?
Но оказалось, что интересы сторон как бы поменялись
местами. Публициста и театрального драматурга интересо-
Глава третья
203
вала в кино именно та форма эксцентрической комедии,
которая прежде была для нас наиболее близкой. А нас,
кинематографистов, увлекал теперь совсем иной экран.
Время переменилось. Без ощущения глубины перемены,
без человеческого образа, без нового характера все
казалось нам неинтересным. Эксцентрическую комедию об этом
времени мы не могли бы снять.
«Путешествие в СССР» мы не поставили, но работа не
прошла зря. Резко переменить точку зрения, взглянуть на
все по-иному бывает иногда необходимым. И я с
признательностью вспоминаю картину, чем-то напоминающую
образы Нико Пиросманишвили: пальма в кадке,
оглушительная «Магнолия», веселый и молодой писатель в
нижнем белье, ругательски ругающий наши замыслы.
После «Одной» у нас установилась прочная репутация.
Мы считались художниками холодными, погрязшими в
стилизации и эстетстве. Комиссия, обследовавшая «Лен-
фильм», вынесла нам выговор «за проявленный в съемках
формализм». Но нам было не до обид. Мы уже работали
над новым сценарием. Условное название его было
«Большевик».
Смерть немого кино
На страницах истории советского кино, а также во всех
работах, посвященных трилогии о Максиме, обязательно
указывалось, что перед началом новой постановки мы
осознали свои прошлые ошибки, решительно
перестроились. Козинцев и Трауберг, отмечали исследователи,
решили закрыть ФЭКС; после этого перед нами открылась
прямая и широкая дорога реализма.
С годами терминология становилась несколько другой,
но сам факт ликвидации мастерской обязательно
упоминался.
На деле все было по-иному.
В 1927 году ИСИ (Ленинградский институт
сценических искусств) открыл киноотделение. Руководить им
пригласили Трауберга и меня, а вместе с нами в институт
перешла и вся мастерская. Занятия происходили теперь не
204
Глубокий экран
на Гагаринской улице, а на Моховой, однако действующие
лица были те же. Шло время, поступили новые студенты, их
учил уже Герасимов. Имена наших учеников стали
известны; их приглашали сниматься и другие режиссеры.
Так незаметно для нас самих окончила свое
существование Фабрика эксцентрического актера.
Прошло время. Мастерская, открытая в начале 20-х
годов, все еще привлекает внимание и интерес. И писать о ней
стали иначе; далеко в прошлое ушли выговоры по службе
«за формализм», серые слова-петли: «осознал ошибки»,
«перековался». Что осталось от целлулоидных эталонов,
утвержденных неведомой палатой мер и весов?
Как хорошо, что я могу добавить: никогда, даже
в самые сложные времена, ни один из товарищей нашей
молодости не отрекался от своего прошлого.
Что же касается «эксцентризма» в чистом виде, то вряд
ли он имел отношение к каким-либо нашим фильмам после
«Похождений Октябрины». Если же говорить об отдельных
чертах стиля, то, на мой взгляд, «эксцентрического» куда
больше в «Возвращении Максима» или «Дон Кихоте»,
нежели в «С. В. Д.» или «Одной». Обо всем этом речь еще
впереди.
Не в претензии я и к тем, кто пишет о ФЭКСе,
переменив терминологию и цитаты, по-старому. Такие киноведы
делают полезное дело. Их следует беречь. Они не историки
кино, а экспонаты по истории кино, учебные пособия к
главам, которые необходимо знать назубок, чтобы эти главы
никогда больше не повторялись.
Начало 30-х годов было временем величайших
изменений в кино. И переживал трудности не только один наш
маленький коллектив. Потрясены были сами основы
мировой кинематографии, ценности разом обесценились, вверх
тормашками полетели планы, знаменитости стали
безработными.
Умирало немое кино.
Переход к новому был ужасен. Вместо победоносной
кинематографии, уже завоевавшей мир высотами ее
пластической культуры, смелостью ее новаторства, вдруг
опять выползло на свет все то, в борьбе с чем и утвердилось
искусство экрана. Все перепуталось. Фильмы стали
существовать при песенках. Халтурщики потирали руки: при-
Глава третья
205
шла пора снимать пьесы — чего проще! Театральная бы-
товщина с ее длинными паузами, многозначительным
кряхтением и медлительным темпом (иначе не расслышать
текста, не дойдут слова) опять воцарилась в ателье.
Крутили неподвижной камерой диалоги, а то и монологи, сколько
хватит пленки в кассете. За монтажный стол (святая
святых немого кино!) сели узкие профессионалы, они
отсчитывали какие-то семнадцать кадров назад, чтобы склеить
изображение и звук так, чтобы не потерялась
синхронность.
Чаплин писал с гневом и болью: конец всему, что
создавалось с таким трудом. 149 Эйзенштейн (вместе с
Александровым и Пудовкиным) предавали анафеме
синхронную речь. 15°
Довженко высказывал мнение, что не только окончился
прошлый период кино, но и сам экран прекратит
существование, придет какое-то безэкранное кино (английский
журнал «Close Up», октябрь 1930 г.).
Еще теплилась надежда, что бедствие можно
ограничить, не дэть пожару перекинуться на весь дом, что звук
можно посадить на цепь и приручить, что можно жить
и дальше по-старому, а звуковое кино заменит и даже
усовершенствует оркестр в кинотеатре. Но жизнь уже
сделала свой выбор. Толпы осаждали кассы: чумазые
беспризорники из «Путевки в жизнь» распевали свои
блатные песни.
Жизнь сделала свой выбор не только потому, что
техника далеко шагнула вперед. Техника в кино многое
значит, но никогда не является решающей. Одни лишь
усилия изобретателей не привели бы к эстетическому
перевороту, если бы необходимость иных способов выражения
не назрела в самой реальности. Новые мысли и чувства уже
нельзя было высказать старыми способами.
Экран становился не лучшим или худшим вследствие
изобретения звукозаписи, а иным. Диалог ничуть не
усовершенствовал бы «Потемкина», а «Чапаева» не могли бы
снять во время немого кино.
Времена стали иными.
В юности мы видели революцию комсомолкой Октябри-
ной в буденовке, а ее врагов — капиталистом в цилиндре
206
Глубокий экран
и нэпманом в виде циркового Рыжего. Ничуть не
задумываясь, мы сооружали ей веселые памятники из фанеры
и кумача. Потом революция ворвалась в наши ленты
романтическим мятежом, факелами, вспыхнувшими в ночной
метели.
Когда в стране еще вчера были голод и сыпняк, холод
и тьма, а тебе только что исполнилось двадцать лет,
романтизм и патетика кажутся прекрасными. «Вихрь и
пламя» хотелось сохранить и тогда, когда вовсю торговал нэп.
Но это было уже гораздо труднее.
Искусство начала революции говорило высоким тоном
и очень громким голосом, его должны были расслышать на
площади: тысячи участников исполняли «Бой Труда с
Капиталом». На монтажном столе Эсфири Шуб лежала
пленка, снятая хроникерами: Лев Николаевич Толстой
гуляет по дорожкам Ясной Поляны, коронация Николая II,
империалистическая война, Февральская революция,
выступление Ленина...
Эсфирь Ильинична зачищала край пленки, склеивала
кадр с другим — глава истории умещалась в де.сяти-двад-
цати метрах. Такими категориями и начала мыслить
советская кинематография — эпохи, движения народов,
смены общественных систем.
Слова Пушкина о трагедии, судьбе человеческой,
судьбе народной, пожалуй, сильнее всего были воплощены на
экране.
«Пензенские... новгородские... тверские» — такой
надписью начинался «Конец Санкт-Петербурга»: со всех
концов Российской империи шли толпы, по немому экрану
проходили тысячи, миллионы лиц — единая ндродная
судьба.
Но пушкинские мысли не кончались на этом.
Следующие слова представлялись особенно значительными позже,
в начале 30-х годов. «В чертогах драма изменилась, голос
ее понизился,— писал дальше Пушкин.— Она не имела
уже нужды в криках. Она оставила маску преувеличения,
необходимую на площади, но излишнюю в комнате, она
явилась проще, естественнее». ,51
А тут еще в чертогах повесили микрофон.
И случилось это как раз в то время, когда искусству
пора было снизить тон и оставить маску преувеличения.
Глава третья
207
Возвышенная речь постепенно теряла свою поэзию;
патетика монтажа понятий вырождалась в риторику. От
монтажных обобщений величина явления вовсе не
повышалась. Они, эти обобщения, лишь шумели о величине.
Стыдно стало ораторствовать о труде, когда рядом жил
труженик. Это был хорошо знакомый, свой человек. И всем
своим отлично знакомым складом этот человек не подходил
к тому, чтобы его снимать каким-то особым ракурсом
снизу, наподобие памятника.
В эпоху пятилеток стали отчетливо видны и мера
труда людей, и степень напряжения усилий. Стало понятным
и то, что больше нельзя ставить фильмы о народной
судьбе, минуя судьбу человеческую. Кино уже научилось
отлично снимать самые общие и крупные планы, как раз
те, где человек не был различим полностью, отчетливо,
в рост.
Казалось, что именно теперь пора заняться поисками
угла зрения, наиболее выразительного именно для этой
величины — человека.
Разгорался спор.
Не думаю, чтобы его смысл можно было понять,
вспоминая слова и термины дискуссий тех лет. Общие понятия
немного значат в искусстве. Кто только не ратовал за
«живого человека» и «жизненность». Куда важнее было то,
как каждый художник воспринимал время, какие черты
нового он открывал в жизни и, следовательно, в себе.
Только свет времени помогает видеть. Если закрыться от него,
что откроешь?
Не думаю, чтобы я принадлежал тогда к какому-то
направлению. Прошлое — высокий ораторский тон немого
кино— уже не привлекало; еще менее прекрасным
казалось настоящее — внешнее жизнеподобие и «отепление»
героев-схем, чем стали усердно заниматься первые
звуковые ленты.
В конце 1929 года, ощущая резкое отличие своего
представления от того, что делалось на экране, мы с
Траубергом решили поставить фильм, идущий вразрез с уже
сложившейся традицией, показать революцию, начисто
оставив патетический тон. Нашей целью стало «понизить
голос» кино.
208
Глубокий экран
сО, копеечная!»
Толчком к образованию замысла было знакомство
с одним из новых руководителей кинодела. 152 Это был уже
немолодой человек, ходивший в теплом не по сезону
пальто, несуразно нахлобученной шапке и галошах. Что-то
глубоко прозаическое и обыденное было во всем облике
этого умного, много знавшего человека, в полной мере
одаренного чувством юмора. Со спокойной иронией он
разбирался во всех наших киноделах. Как-то зашла речь
об историко-революционных фильмах. Наш собеседник
в своей обычной, несколько шутливой форме припомнил
для сопоставления с одним из фильмов случай из своего
прошлого, за ним другой... Завязался разговор.
Не то чтобы факты, которые мы услышали, являлись
для нас новыми: нам была известна история
революционного движения, среди знакомых были и старые члены
партии, с ними не раз приходилось встречаться в
различных местах. Но только теперь из-за тона рассказа события,
даже известные, как бы приобрели иную окраску,
приблизились, а короткость дистанции, совершенная
человеческая понятность чувств и мыслей придали всему еще
большую силу.
За прозаическим обликом нашего собеседника
вырастала легенда: царские тюрьмы, подпольные типографии,
установление Советской власти в Сибири, бои с басмачами
в Азии, первая дипломатическая миссия за рубежом.
Обо всем говорилось спокойным, часто шутливым
тоном; о трагическом вспоминал он как бы вскользь, не
останавливаясь; в каждом, даже тяжелом факте
находилась и юмористическая сторона.
Речь шла о быте, повседневном существовании
профессионального революционера: место жительства — куда
пошлет партия; тюрьма — передышка для учебы,
университет; конспирация — черта профессии, укоренившаяся
привычка; бегство из ссылки — обыденное дело;
партийная работа — вся жизнь. Ничего внешне хотя бы немного
приподнятого, не говоря уже о патетическом, и в помине не
было.
К хорошо известному, связанному уже с множеством
ассоциаций, в том числе и самых возвышенных, понятию
Глава третья
209
«революционер» прибавилось самое что ни на есть
обыденное, затрапезное слово «профессиональный». А
соединение двух слов дало какой-то особый характер и людям
и событиям. Над обликом таких людей не могла появиться
прекрасная женщина в фригийском колпаке с красным
знаменем в руках — символ баррикады Делакруа. Против
сил старого мира, против его жестокости, тупой силы,
скотства выходил на бой спокойный, обладавший
удивительным терпением и выдержкой человек, умеющий шутить
в трудных положениях, переносить лишения для дела.
В облике этого человека не было ничего геройского.
Лица у человека пока еще не было.
Замысел вещи начинается с пристрастия к какой-то
одной, определенной стороне материала. Если все в
предмете равноценно интересно, то неоткуда взяться
двигательному началу, энергии художественного исследования,
стремительному движению в глубь материала, сквозь пласты
общеизвестного, к тому, что еще не открыто искусством,
что, может быть, именно ты, вследствие твоей силы
пристрастия, и способен выразить.
Только кровная, личная заинтересованность позволяет
понять предмет. «Перегиб палки» в рабочей гипотезе
является попыткой (часто слишком решительной,
неосмотрительно прямолинейной) пробить первый ход к существу.
Необходимо или утвердиться в выбранном пути, проверяя
его на все новом материале, или же обнаружить
предвзятость первого предположения, чуждость его предмету
и в отказе, отрицании напасть на новый след.
Какие обстоятельства влияют на такое пристрастие?
Многие: и отношение к жизненным явлениям (ненависть
к одним, любовь к другим), и продолжение спора в
искусстве (с другими художниками или с самим собой), и
необходимость закончить, завершить начатое в прошлых
рабо.тах или опровергнуть уже существующее.
Что касается экрана, то наши вкусы определились: так
называемая монументальность, жанр эпопеи, патетика,
герои-символы — все это стало чужим. Пафос хотелось
искать как раз в обратном направлении, в «сниженном
тоне» рассказа, как характеризовал это тогда Трауберг.153
Определялось противоречие, полное значения, новая золо-
210
Глубокий экран
тоносная жила: открытие прекрасного во внешне
неказистом, героического в обыденном, поэтического в
прозаическом.
Любовь к контрастам не только не утихала, но,
пожалуй, именно теперь разгорелась вовсю. Та проза, о которой
мы тогда столько говорили, была, как мне это теперь ясно,
самой что ни на есть поэзией. Только ее предмет понимался
уже по-новому. Вероятно, в начале 30-х годов я открыл для
себя то не просто уловимое определение истинно стоящего
в искусстве, которое имел в виду Б. Пастернак,
противопоставляя внешнепоэтическому будничное:
Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.154
Все это казалось заманчивым в пору, когда сценарий,
вызывавший наибольший интерес кинематографистов (его
ставил Пудовкин), начинался таким кадром:
«Необыкновенный человек идет по необыкновенной земле».155 А нам
представлялось необходимым (и наиболее трудным)
показать, как самый обыкновенный человек шагает по
обыкновенной грешной земле. А делал этот человек
необыкновенные дела. И самое время было, на наш взгляд, оставить
начисто осанку сладкогласца и взять для рассказа о
великих делах как самое поэтически прекрасное — интонацию
пригорода. Это была непростая задача: на «месте в третьем
классе» должна была ехать по России сама революция.
Теперь ее образ хотелось выразить по-особенному.
Есть в «Оде революции», написанной Маяковским
в 1918 году, эпитет, кажущийся мне (разумеется, в связи
с другими) удивительно сильным.
Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
Глава третья
211
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Слово, затрепанное по пустяковым поводам,
определяющее самое, казалось бы, незначительное, поставлено как
один из эпитетов к событию всемирно-исторического
значения. И именно это демократически-русское, ничтожно-
обыденное «копеечная», соседствующее с «великой»,
открывает какую-то важную жизненную черту явления, дает
ему конкретность, делает общее понятие по-человечески
близким, согревает слова оды.
«О, копеечная!» — определяло многое и в «Юности
Максима». Ведь о пламени, взметнувшемся до неба,
восторженно писалось не раз; хотелось сопоставить событие,
изменившее мировую историю, и ничтожно маленькие
начальные величины: рабочие гроши, складчину на
бастующих, единицы в подпольных кружках, десятки в вечерних
школах, грубую печать прокламаций на гектографе —
прекрасную, гордую нищету революции.
Труд неизменно состоит из усилий, преодоления
сопротивления различных материалов. Усилия можно описать
как внешние действия, последовательность движений. Но
всякому труду присуще и творческое начало, внутренний
смысл. Позабыв про это начало и этот смысл, можно
увидеть в любом занятии лишь телодвижения, жесты.
Читая о труде режиссера, даже статьи по-своему
толковые, где верно определены общие черты профессии, я
нередко вспоминаю оперу, описанную Толстым в «Войне
и мире»: крашеный картон декораций, ряженые мужчины
и женщины подходят к суфлерской будке, разводят
руками, раскрывают рты.
Стороны режиссерского дела, о которых часто идет
речь, обездушиваются, напоминают лишь выполнение
служебных функций.
«Режиссер,— написано в Большой Советской
Энциклопедии,— возглавляет весь процесс работы коллектива... Он
212
Глубокий экран
изучает материалы, касающиеся отраженной в пьесе
исторической или современной действительности, определяет
идейную направленность спектакля... Объединяет
творческие усилия актеров, художника-декоратора,
композитора... Он является организатором всех работ...» ,56
Возглавляет, изучает, объединяет, организует.
Значит, если ответственно возглавил, прилежно
изучил, правильно определил, толково организовал, то и
прекрасный итог несомненен, постановка удастся на славу.
Дело только в степени ответственности, прилежности,
правильности и толковости. К сожалению, жизнь не
подтверждает этого. Я не хочу сказать, что сами по себе слова
БСЭ неверны. Каждая постановка, бесспорно, требует
изучения материалов, но оно не схоже с вузовским;
определения в искусстве не исчерпываются даже самыми верными
формулировками, а организация в режиссерском труде
далеко выходит за рамки административной деятельности.
Сложность в том, что «изучение» приводит к открытию
нового не только в материале, айв себе; «определения»
появляются в столкновении материала и собственной
жизни; «организация» — не только объединение различных
профессий, но и сплав мыслей и чувств людей несхожих
душевных качеств.
Изучение материалов в архивах Истпарта и
неисчислимое количество бесед с очевидцами много дали нам.
Настолько много, что «изучением» такую работу не
исчерпать. Было иное: мы думали, дышали вместе с материалом,
он стал органической частью нашего мышления и перестал
существовать без нас в отдельности, вне фильма. Сущность
состояла не в том, что мы открыли что-то еще неизвестное
или же напали на факты, новые для экрана. Произошло
иное: пригород хлынул в фильм — песни, словечки, явка
в нищей квартире, вывески лавок, оркестрион в трактире,
маевка в Парголове, книжки о похождениях сыщиков,
гармошка, участок... Все это на первых порах без разбора
ворвалось в сценарий, стало самим воздухом фильма.
Дело было не в быте. Какой там быт, когда до сих пор я,
увы, не смог бы ответить на самые простые вопросы,
касающиеся жизненных обстоятельств и подробностей. Как
фамилия главного героя? Извините, не знаю. Отчество?
Кто его родители? Живы ли они? Где и как он живет?..
Глава третья
213
Столько лет мы работали, и достаточно усидчиво, а вот
всем этим так и не успели заинтересоваться. Максим, и все
тут. Живет за Нарвской заставой. А где? Понятия не имею.
Пригород стал не только материалом, а и чувством
легкости походки, вольности рассказа. Не только не
пришлось отказаться от своего грешного прошлого, но,
напротив, именно теперь оно и пригодилось: и детские раешники
«Царя Максимилиана», и шарманочный Петрушка, и
пристрастие к «низким жанрам», и привычка к работе,
основанной на импровизации. Фильм выстраивался сам по себе,
даже не спрашивая нас, пристрастие притягивало,
располагало части.
Пристрастие определяли и первые черты героя. Ничего
в нем не было монументально-мощного, величественно-
прекрасного, и даже в простые «положительные» он не
годился: ни белозубой улыбки, ни русых волос, ни статной
поступи. А был он тоже «копеечный»; вырос на том, что
и нам когда-то было по душе, на куплетистах в городских
садах, чемпионате французской борьбы и похождениях
храброго разбойника Антона Кречета.157
Начинал он свой путь под веселой, счастливой звездой.
Первой же его чертой была способность шутить. Мы ее не
сочинили; юмором обладал не только наш знакомый, о
котором уже шла речь, но и каждый из авторов тех мемуаров,
которые мы начали читать. Драматические события
описывались в них по-особому, люди умели отыскать смешное
в любых обстоятельствах. Во время молитвы в тюрьме
запускали на «Отче наш» петуха; с юмором вспоминали,
как их заковывали в кандалы. Я приведу для примера
отрывок из воспоминаний, названных «За Невской
заставой»: «Перекрестившись перед началом и попросив
божьего благословения, он так ударил молотком по заклепке,
что кандалы сорвались с наковальни и больно ушибли
ногу. Это возмутило меня больше, чем самая заковка живого
человека. Когда я выругал тюремщика старым чертом,
посоветовал ему плести лапти, а не портить заклепки, он
заговорил:
— Ты, сынок, нечистую силу не поминай... И так
погрязли в грехах... Я самоучка. Раньше настоящий кузнец
ковал, а теперь мне подспорье... Ох, житье наше тяжкое,
господи благослови...
214
Глубокий экран
Молоток вихлялся в руках старика, как язык у пьяного,
но заковка все же обошлась без возможного раздробления
костей.
— Ну вот и готово, носи на здоровье,— сказал он
и добавил: — Ступай с богом в камеру».158
«Они были веселые, сильные, озорные...— писала
Е. Драбкина, знавшая этих людей с детства.— В сказках,
которые они мне рассказывали, Змей-Горыныч
расхаживал в жандармском мундире, а Иванушка-дурачок,
женившись на царевне, говорил: «И на черта нам с тобой,
Марьюшка, это самое царство? Давай-ка лучше раздадим
его и пойдем гулять вольными людьми по белу свету».159
Так и шли они, вольные люди, по белу свету, где было
еще темным-темно, не сгибаясь и под тяжестью кандалов.
Когда пришла пора писать воспоминания, они называли
свои книги с неизменной скромностью: «Записки рядового
подпольщика», «Муравьи революции», «Жизнь рядового
большевика».
Одним из таких людей должен был стать наш герой.
Образовался его характер под многими влияниями.
Немало было и случайностей.
Надо сказать, что именно они, случайности, не
упомянутые в теориях режиссуры (а каких упомянуть?),
непредвиденные, неучтенные, неожиданно возникающие, ломающие
рамки и границы темы, идеи, жанра, всего
«возглавляемого, изучаемого,определяемого, организуемого»,
драгоценны в нашем труде. По «железному сценарию» можно
поставить только дубовый фильм. Человеческий
образуется от неожиданной индивидуальности артиста,
особенностей погоды в час съемки и тысячи тех мелких и крупных
явлений, что подбрасывает режиссеру сама жизнь. Она
подкидывает случайности, уничтожая выстроенную дома
схему, ставит заторы на пути чересчур уж стройно
придуманного, силой обстоятельств заставляет менять планы,
мгновенно сочинять новое. Все это и дает естественность
движению, пространство образам.
В сочетании случайностей есть, разумеется, своя
закономерность, ведь какие-то из них с радостью
подхватываешь, мимо других проходишь, обходя их, да еще чертыхаясь.
Вовсе не было обязательным, чтобы в «Одной» на
крохотный эпизод (болтливый парень, занявший телефон-
Глава третья
215
автомат) ассистент привел именно этого артиста Театра
юных зрителей. Ничего примечательного не было в роли:
человек нудно пересказывал, пока дожидалась телефона
наша героиня, что он ел на обед. И нельзя сказать, чтобы
молодой исполнитель проявил какое-то особенное
мастерство или блеснул талантом. Не было этого. Но он сам,
невысокого роста, не очень складный, с носом картошкой,
с ногами не такими уж прямыми, с каким-то дефектом речи
(не то простецкий акцент, не то бубнил под нос),— ничуть,
буквально ни одной чертой не похожий на актера,
показался на редкость славным.
В погодинском «Путешествии в СССР» он должен был
играть деревенского парня, читавшего наизусть «Дети
капитана Гранта». В образе не заключалось ничего
сколько-нибудь сложного, и на репетициях трудно было
особенно заинтересоваться таким характером.
Примечательным было обаяние исполнителя. Он оказался и отличным
товарищем, на редкость скромным, увлеченным работой.
Мы подружились. Иногда после репетиции он пел под
гитару. Ни голос, ни еще того менее игра на гитаре не
могли бы доставить радости слушателям. Но случалось
так, что после первых же нескладных аккордов некрасивое
лицо преображалось, негромкий напев одухотворялся
чувством. И становилось ясным: слава богу, что нет у него
огня в глазах и бархатного тембра голоса.
Можно ли было увидеть в этом артисте силу страсти?
Пожалуй, нет. Может быть, комедийное дарование. Да,
бесспорно, он обладал юмором, да и вообще был хорошим
артистом. Но заключался в нем кроме профессиональных
качеств особенный драгоценный дар: удивительная, чудо
какая задушевность.
В «Большевике» (первый вариант «Юности Максима»)
участвовали три парня. Дему мы пригласили играть этого
артиста — Бориса Петровича Чиркова.
А потом стало ясным, что Максим именно он.
И начались те самые репетиции, к которым я привык за
годы труда в мастерской. Роли в окончательном виде еще
не было, сценарий писался и переписывался на ходу.
Каждый день (несколько месяцев) мы трудились с Чирковым.
Скоро мы стали понимать друг друга с полуслова. Закон
притяжения образовал и труппу: второго парня, Дему,
216
Глубокий экран
играл Степан Каюков — прирожденный комик, да еще
с любовью к народному, грубоватому юмору; Наташу —
Валя Кибардина, с милым широкоскулым лицом, не
напоминающая картинных революционерок экрана, но
похожая, как родная сестра, на учительниц, обучавших
вечерами рабочих началам математики, а заодно и основам
классовой борьбы. Третий парень (Андрей) отыскался
прямо на улице.
Исполнителей такого происхождения в фильме было
немало: директор цирка играл мастера; антиквар с холеной
бородой (на экране борода нередко выглядела
наклеенной) — инженера.
Пуще огня мы боялись артистов на «положительные»
роли, «социальных героев» (есть такое амплуа). Михаил
Михайлович Тарханов играл старого подпольщика.
Небольшая роль не давала возможности Тарханову показать
силу своего искусства, но близкое знакомство и работа
с ним заставляли о многом задуматься. Он был, пожалуй,
самым смелым, рискованным артистом своего времени; он
играл Собакевича («Мертвые души»), Градобоева
(«Горячее сердце»), хозяина булочной («В людях») на грани
реального и фантастического, утверждал неоспоримую
правду самых, казалось бы, нереальных характеров. Рядом
с его дарованием выглядели куцыми и неглубокими
обычные определения жизненности в искусстве.
Работа над сценарием сливалась с репетициями, на
ходу выстраивались отношения, сцены, диалог.
А Максим все наглел. Ему уже не было удержу. Был
у нас в сценарии матрос — политический арестант. Он
лихо отвечал в камере тюремщику, давал сдачи палачу
околоточному. На репетициях стало ясно — моряка не
нужно, именно так должен поступать Максим. На каждой
репетиции Максим не только забирал себе все лучшие
реплики, но и теснил других героев: отходите-ка, братцы,
назад, на второй план.
Пусть читатель не поймет меня превратно, будто
Чирков отбирал роли у других исполнителей. Борис
Петрович — один из самых благородных и скромных артистов,
никогда бы он не позволил себе обидеть товарища. Нет, это
нахальничал сам Максим. В нем было сердце фильма.
И все, что придумывалось лучшего, естественно отходило
Глава третья
217
ему; ведь он был самым любимым, самым интересным,
самым своим. Ради него все и затевалось.
Хотелось наградить Максима и пением Чиркова. Но
песни, которые знал Борис Петрович, Максим не брал; он
был питерский, пролетарский чистых кровей, ничего
деревенского в нем не было. И печальная протяжность, стон
крестьянской песни не могли слышаться в пригороде.
Ежедневно ассистенты приводили из пивных города
гармонистов, разыскивали дряхлых эстрадников. Сколько
таких певцов я тогда прослушал! Сегодня комик с
распухшим от наклеек носом вспоминал куплеты, которые он не
исполнял уже полвека, ревматическими ногами он выбивал
на припев чечетку, щеголял древними фортелями. Завтра
слепой старик раздувал мехи баяна, пел хриплым,
пропитым голосом. На Литейном шла охота: букинисты
разыскивали песенники, лубочные картинки с романсами.
Дело было поставлено, что называется, на широкую
ногу. В свое время я мог бы похвастаться эрудицией в этой
области.
Было прослушано немало занятного, в своем роде
интересного, но того, что хотелось, не удалось еще
услышать. Чем проверялась пригодность песни для фильма?
Текстом, мотивом? В том-то и состояла сложность, что
словами объяснить это было трудно.
Возникали фавориты на время. Первой привлекла
удалая песня:
Полюбил всей душой я девицу.
За нее я готов жизнь отдать.
Бирюзой разукрашу светлицу,
Золотую поставлю кровать.
Любовь соединялась с отвагой; следовала и ревность:
С своей страшной ватагой поеду
И разграблю хоть сто городов
И с добычею к милой приеду:
На! Возьми это все за любовь!
Но когда ж подозренье вкрадется,
Что красавица мне не верна,
Наказанию мир содрогнется,
Ужаснется и сам сатана.
218
Глубокий экран
Но симпатия к песне быстро охладела: было в ней что-
то ненастоящее, лубочно-сытинское; на современный слух
слова казались пародийными. Потом пришло другое
увлечение:
Окрасился месяц багрянцем,
И море шумело у скал.
— Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал.
— С тобою поеду охотно:
Я волны морские люблю.
Дай парусу полную волю,
Сама я присяду к рулю.
— Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам.
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам...
Но все это не входило в фильм. Песни оставались лишь
украшением, к сути образа они отношения не имели.
И вот однажды, когда уже и вера в саму необходимость
песни проходила, подвыпивший гармонист заиграл вальс,
затянул сиплым голосом:
Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой.
Крутится, вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть.
Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня, что я влюблен?
Вот эта улица, вот этот дом.
Вот эта барышня, что я влюблен.
Ни секунды сомнения не было. Это была она, любовь
мгновенная, с первого взгляда, вернее слуха. В песне
открылся с удивительной полнотой и в словах и в напеве тот
самый истинный и искренний лиризм скопеечного», что
определял фильм. Теперь пригород имел и свою песню.
Впрочем, это была не песня, скорее голос Максима, совсем
юный, мило простецкий, немного лукавый, задушевный.
Может показаться странным, что я пишу об образе
большевика, а речь пока что идет обо всем, казалось бы,
Глава третья
219
незначительном, второстепенном, не имеющем отношения
к теме. Но смысл «Юности Максима> как раз и состоял
в том, что ничего там не было «для идеологии». И все было
только для нее. Суть фильма и заключалась в том, что
такой парень неминуемо должен был стать
революционером. Он был наделен лучшими чертами питерского
рабочего, умом и юмором, прирожденным чувством
справедливости, верностью товарищам, душевностью и
решительностью, смелостью и терпением. Он не мог примириться
с произволом и бесправием. Не было ему жизни без
революции. И революции оказалось нужным все в нем: и его
любовь к лукавым шуткам, и скрутится, вертится шар
голубой». Не было ему ни малейшей нужды
перестраиваться, сменять вехи, осознавать свои заблуждения (обычные
мотивы драматургии тех лет). И пропагандистом он стал не
только оттого, что умные и знающие люди дали ему
прочитать верные книжки: необходимость передать душевное
тепло другим людям была в его природе. Не существовало
по отдельности человеческого характера и образа
революционера. Был попросту Максим, и все тут.
Происхождение Максима являлось дважды
пролетарским: он был питерским рабочим и был плотью от плоти
чумазого «электробиографа», гадкого утенка,
вылупившегося на грязной улице, кино в самом его демократическом
понимании. Что делать, старинные, детские черты кино все
еще не утратили для меня своей привлекательности.
Я имею в виду не ставшие модными в 60-е годы стилизации
под немые комические или «Зигомара» — элегантную и
ироническую ностальгию по потешной чепухе старых
времен. Такие стилизации вызывают у меня чувство личной
обиды: я ведь свято верил в происходящее на экране;
полнота чувства одухотворяла тогда по-своему экран.
И простота динамической поэзии являлась вовсе не
архаическим курьезом, а прирожденной чертой, способной еще
развиваться (разумеется, в иных формах). На нашей
памяти случалось уже не раз, что проходили годы и в
клоунаде или мелодраме открывались и сила искусства и
ненавязчивая мудрость. Немые ленты Чаплина все еще
сохраняют свое значение. Можно только мечтать о фильме,
способном взволновать неискушенного зрителя, увлечь
220
Глубокий экран
ребенка. У кино много возможностей, и каждый режиссер
имеет свои пристрастия. Что касается меня, то, пожалуй,
и сегодня поэзия народной картинки представляется мне
более близкой кино, и даже, если угодно, более прекрасной
в кино, нежели экранизация абстрактной живописи.
Увлечение Сервантесом и Шекспиром только укрепило такие
вкусы.
Форма многосерийного фильма была нами выбрана не
только потому, что материал был обширен и не вмещался
в одну картину. Другие соображения являлись не менее
важными: уж больно хотелось пустить гулять по экрану
героя, новых похождений которого стали бы с нетерпением
ожидать молодые кинозрители.
Эйзенштейн (знаток жанра!) очень радовался, узнав,
что вторая серия называется, согласно всем канонам,
«Возвращение Максимам
Думая о многосерийном фильме и его героях, мы,
разумеется, не собирались взять за пример похождения
сыщиков. Совсем иной род героев казался не только
привлекательным, но и близким как раз тем детским сторонам
кино, о которых я писал выше. На память приходил
старинный приятель: легкий человек, странник с дырявыми
карманами, на первый взгляд простачок, а то и дурачок,
а на деле умница, хитрец, одурачивший барина и генерала,
перехитривший черта и даже саму безносую старуху с
косой заставивший убраться восвояси. Разными бывали
народные герои, нас увлекал не Илья Муромец, а младший
сын, у которого не было ни кола ни двора, один лишь
добрый нрав, светлая голова да веселые песни.
Из дали времен окликал нашего Максима петушиным
криком и барабанщик гёзов Тиль Уленшпигель. Речь,
разумеется, шла только об общих чертах. Нарвская
застава не напоминала Фландрии XVI века, и сказки
сказываются в каждый век по-особому. Имитация фольклора
никогда не была мне по вкусу; иное дело — урок у
народного искусства, его незамутненной ясности, фантазии,
которая часто куда более жизненна, нежели натуралистические
копии с реальности.
Особенно важно было вспомнить о такой образности
тогда: многое из того, что считалось «реализмом»,
вызывало у меня решительную неприязнь. Мещанские пьесы
Глава третья
221
нередко перелицовывались на производственные
конфликты. Кино не столько освоило звук, сколько развязало язык.
Да и с какой еще прытью! Текст решал все трудности.
Откликнуться на любые призывы стало несложным
занятием. Актуальность достигалась за счет слов, взятых из
передовой статьи. Для «занимательности» (понятие,
входившее в силу) фабулу замешивали на вредительстве;
схемы оживлялись, или, как принято было выражаться,
«отеплялись> семейными неприятностями действующих
лиц. На дискуссиях все яростнее громили прошлый период
за фрагментарность картин, недоступность их зрителям.
Упреки были, пожалуй, верными, но прикрывали они
дурные дела. На экране нередко появлялось лживое
изображение жизни: что имело оно общего с достижениями народа
и реальными трудностями времени?
Мнимый реализм был нам еще меньше по душе, чем
романтический пафос немых лент. «Занимательность» и
«отепление» казались словечками, унижающими
достоинство советской кинематографии. Что-то увертливое, хитро
пристраивающееся и к политике и к кассе, слышалось
в этих, все чаще раздававшихся теперь определениях.
В борьбе с таким стилем и задумывалась в самом
начале 30-х годов «Юность Максима». Откупаться от
времени текстом казалось нечестным делом. Не было и
причины сдавать экран в аренду театру.
Сценарий, как это у нас всегда случалось, до самого
конца съемок переделывался, на бумаге существовали
лишь варианты, «писался» фильм на репетициях и
съемках.
Организовать материал должна была не придуманная
фабула, а движение, заключенное в нем самом,— нужно
было его только выявить, выразить судьбой человека.
Простые положения — их легко можно было найти в
каждой книге воспоминаний — забастовка, демонстрация,
тюрьма, жизнь на нелегальном положении — естественно
выстраивались в эпизоды, образовывали жизненную
судьбу героя.
Никакого «отепления», что за пустяки, будто Максим
должен для жизненности выпивать или ревновать какую-
нибудь девицу. Никакой «занимательности». С первого
замысла мы отрицали такие удобные для драматургии
222
Глубокий экран
мотивы, как борьба с провокатором или подготовка побега
из ссылки.
Задача — самая главная и интересная — состояла в
ином: открытие душевной природы героя. Против
бесчеловечности старого мира должна была восстать личность,
полная человеческой прелести. Рассказать о герое
хотелось не способами психологического исследования или
натуралистического описания, а складом народного
искусства.
Как определить жанр, к которому мы стремились?
Трагедия? Нет, с патетической интонацией как раз и
хотелось спорить. Пудовкин называл «Юность Максима»
лирической драмой. Так ли это? Вряд ли. Мы избегали всего
сколько-нибудь психологически сложного. Хроника? Еще
того меньше: интерес сосредоточивался преимущественно
на человеке. Пожалуй, больше всего трудились мы над тем,
чтобы упростить ход фильма, сделать его самым что ни на
есть элементарным, приблизить кино к народному
повествованию, к притче.
И драматургии хотелось тоже «копеечной».
Несмотря на серьезность материала, действие
строилось наподобие книжек похождений. Трауберг был
великим их знатоком. Каждый эпизод предварялся надписью не
для уяснения смысла (и так все было понятно), а чтобы
задать интонацию рассказа простого, безыскусного.
Особенно важной являлась первая надпись, хотя, казалось бы,
ничего мудрого в ней не было:
«ЖИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЗА НАРВСКОЙ
ЗАСТАВОЙ, ТРИ ТОВАРИЩА*.
Это был новый для нас склад кинематографической
речи. Я хотел бы привести для сравнения начало
«С.В.Д.» — несколько строчек, написанных Тыняновым
после просмотра снятых кадров. Юрий Николаевич хотел
уловить стиль ленты, подчеркнуть его первыми же
надписями:
«В ТЕМНЫЕ НОЧИ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ,
КОГДА В ОЖИДАНИИ НЕИЗБЕЖНОГО МЯТЕЖА
ЗАСТЫЛИ БОЛЬШИЕ ДОРОГИ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
Глава третья
223
БРОДЯЧИМ ДЕКАБРЬСКИМ ВЕТРОМ
ЗАНЕСЛО В ТРАКТИР БЛИЗ ЮЖНОГО ГОРОДА
СТРАННОГО ПОСТОЯЛЬЦА».
В «Новом Вавилоне» надписи придумывались по
контрасту с кадрами, были откровенно публицистичны; слова
набирались курсивом во весь экран:
«ПРОДАЕТСЯ! ПРОДАЕТСЯ! ДЕШЕВО ПРО-
ДАЕТСЯ!..»
Теперь и поэтичность (в ее внешнем романтическом
виде), и еще менее того публицистичность уже не казались
нам привлекательными. Экранному красноречию хотелось
противопоставить совершенную простоту и краткость.
Надписи складывались, как фразы притчи:
«И ПЕРЕД МАКСИМОМ ОТКРЫЛАСЬ ДОРОГА
В ЛЮДИ».
Кадры тюрьмы предварялись обычным для
воспоминаний определением:
«И МАКСИМ ПОПАЛ В УНИВЕРСИТЕТ».
После выхода из тюрьмы:
«И СТАЛ МАКСИМ ЖИТЬ МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ».
Большинство надписей начиналось со сказового «И».
Некоторые эпизоды основывались на элементарном^
совсем примитивном положении. Так строились шванки,
фаблио, сказки про солдата или Иванушку-дурачка.
Особенно просты были такие положения в первых частях:
Максим с товарищами спасал девушку-революционерку,
направляя мастера, гнавшегося за нею, по ложному пути;
Максима вербовали в осведомители, он прикидывался
дурачком, набивал себе цену, а потом говорил, под
секретом, что прокламации мог подкинуть в цех во время
молебна поп.
Я чувствовал себя как рыба в воде, недаром я начинал
с увлечения лубками и раешниками, таскался по клубам
с Петрушкой.
224
Глубокий экран
Все это относилось, конечно, лишь к отдельным
сторонам образности, ограничить себя структурой похождений
было бы нелепым. Человеческая судьба по самому
материалу истории была неотделимой от судьбы народной: речь
шла о революции. Однако особое отношение к главному
лицу повлияло и на характер массовых сцен; и здесь
героический жест уступал место обыденному движению.
Несмотря на то, что картина была уже полностью
звуковой, музыки в ней почти не было. Я имею в виду
симфоническую музыку. Шостакович сочинил только пролог
(попурри из «шлягеров> 1910 года: танца «Ойра>,
малоприличной по тексту шансонетки «Я футболистка, в
футбол играк» и залихватского галопа). Драматические
эпизоды имели собственную музыку, заключенную в самой
сцене.
Роль большевика, заводского организатора исполнял
П. М. Волков. Оказалось, что артист отлично играет на
гармошке. У него был собственный, видавший виды
инструмент. Звучала его гармошка хрипло и визгливо, но
играл на ней Павел Михайлович как раз так, как играл бы
человек, роль которого он исполнял: музыке он не учился,
нот не знал, но уж зато умел вложить в грошовый
инструмент душу. И гармошка разговаривала у него
человеческим голосом. На репетициях мы с Волковым постепенно
вымарывали текст роли — важные места отдавались
гармошке. На заднем дворе, у помойки, рабочие приносили
Максиму собранные гроши — складчину на больного
товарища. Тут полагалось человеку, уже знающему путь
борьбы, сказать Максиму важные слова. Однако такие речи
были хорошо известны зрителю, слышал он их
неоднократно, еще раз повторять их не имело художественного
смысла. Текст был сокращен. «Погоди,— говорил рабочий
Максиму,— дай только время!..» Он с силой раздувал мехи
гармошки: грозные, гневные звуки говорили о
приближающейся расплате.
Звуковая пленка разгона демонстрации
монтировалась, как партитура. Труд был адским, перезаписывающей
аппаратуры еще не существовало. Я клеил кусочки шумов:
цокот копыт, завывание сирен, свистки, крик, гик казаков,
стоны. Образовывалась сложнейшая мозаика; особенно
увлекали меня резкие контрасты тишины и звука.
Глава третья
225
Эпизод начинался с кадров полиции: городовые
загородили улицу, преградили путь демонстрации. «Разойдись!
Предупреждаю!..» — угрожал пристав, стоявший в
пролетке. Толпа замолкала: прогрохотал вдали одинокий
извозчик, наступало полное безмолвие. Молчание
взрывалось визгом ухарской гармошки, широко растворив двери
пивной, вываливалась на мостовую пьяная компания.
Гармонист оборвал игру: полицейские и толпа стояли друг
против друга, загудела последняя нота гармошки.
Длинный, резкий свисток, цокот копыт, крики и стоны —
началось избиение. Казаки врезались в толпу. И тогда
вырвавшийся из рук полицейских рабочий (П. Волков)
выхватывал у пьяницы гармонь: раздавалось скорбное
и гневное «Вы жертвою пали». Доходные дома, увешанные
от подвала до чердака вывесками; надпись во всю глухую
стену пятиэтажного здания: «Пилюли Ара—лучшие в
мире!»; бегущая толпа, полиция, кони, прокламации,
кружащиеся над головами, свист нагаек и революционный
похоронный марш на хриплой гармони (усиленный
записью) — все эти элементы сцены захотелось сплавить
в «единый музыкальный напор» времени, создать
ощущение запаха «гари, железа и крови» (Александр Блок).160
В 1966 году на «Мосфильме» восстанавливали «Юность
Максима»: техника звукозаписи картины уже никуда не
годилась. Группа озвучания должна была повторить на
современной аппаратуре то, что делалось тридцать лет
назад. Но оказалось, что гармошку Волкова не
воспроизвести. Музыканты на дорогих аккордеонах не смогли
добиться силы чувства, которое неумелый любитель извлекал из
несуразной гармошки. Разгон демонстрации озвучали,
усовершенствовали, пробуя добиться синхронности шумов.
Все то, что я многими ночами клеил по кусочкам,
выбросили.
Как определить то, что исчезло из фильма? Только по-
старому: душа.
Определение действительно сложное, но, пожалуй, нет
более простого дела, чем вышибить из фильма эту самую
плохо определимую душу, так что и следа ее не отыщешь,
превратить одухотворенную ткань в пригнанные по
схеме колесики машины, на чертеже, может быть, и
выглядевшей хорошо сконструированной, а на деле работающей
226
Глубокий экран
впустую, ничего непроизводящей и. следовательно,
общественно бесполезной.
Первый вариант сценария («Большевик») был
разнесен в пух и прах. Я перечитал сохранившиеся отзывы: нет
ни истории партии, ни образа большевика; не к чему
показывать эпоху реакции (мрак, разгром); события следует
перенести в эпоху подъема; показать борьбу партии на два
фронта — против ликвидаторов (призывавших
ограничиться легальными возможностями) и отзовистов
(требовавших бойкотировать Думу, уйти только в подпольную
работу).
Увы. наиболее свирепыми нашими критиками
оказались некоторые из людей, мемуары которых и увлекли нас.
побудили взяться за этот фильм. По какой-то неведомой,
странной причине «веселые, сильные, озорные люди»
(Драбкина) хотели, чтобы о них поставили скучный фильм.
Но что делать, требования были настойчивыми. Мы засели
за переделки. Однако, как мы ни старались, Максим не
желал бороться ни с ликвидаторами, ни с отзовистами.
Причина состояла не в том, что недостаточно были изучены
материалы. Если бы меня ночью разбудили, я мгновенно,
еще не открыв глаза, смог бы прочесть лекцию о
ликвидаторах и отзовистах. И все же дело не шло. Материал
оказался против шерсти.
Люди, критиковавшие сценарий, отлично знали
материал, но они понятия не имели о нашей шерсти. Бесспорно,
мог быть поставлен фильм на тему, так отчетливо
представлявшуюся этим людям. Нужен был только другой
автор.
Случилось так, что, занявшись переделками, мы ровно
ничего не сочинили из того, о чем нас просили, но
усовершенствовали многое в своем хозяйстве; добавочная работа
не оказалась бесполезной. Труд был на виду, и нам наконец
поверили. Вероятно, это наиболее разумный способ
руководить нашим делом. Да и, как я уже писал, многое ли можно
было понять из наших сценариев?
Снятый фильм вызвал не менее жестокую критику. Нас
обвиняли во всех смертных грехах. Странным было то, что
самые, казалось бы, невинные кадры вызывали осуждение.
Максим, уходящий в конце фильма с котомкой за спиной,
Глава третья
227
сопровождался возмущенными репликами:
«Народничество!», и даже прощание Максима и Наташи, не имевшее
отношения к политике, получило низкую оценку: «Так мы
не прощались!»
Историю советской кинематографии трудно отнести
к бесконфликтной драматургии. Но на этот раз все
обошлось благополучно: фильм вышел на экран; и судьба его
сложилась удачно.
Мы отдали трилогии семь лет. Успех картин о Максиме
рос от серии к серии: зрители полюбили нашего героя,
пресса единодушно хвалила все три фильма. И нам самим
стало казаться, что, работая на одном и том же материале,
мы совершенствуем свой труд: выстраивается
драматургия, расширяется панорама исторических событий.
Теперь, посмотрев эти картины, я почувствовал совсем
иное. Что-то чужое, отличное от первоначального замысла,
стало примешиваться к кадрам следующих серий, то еле
заметным оттенком, то целой сценой, построенной уже по-
другому. Как определить качество такого изменения?
Видимо, случилось так, что, стремясь к элементарному, мы
стали принимать за него примитивное, тогда исчезала
поэзия, юмор подменялся карикатурой. В «Возвращении
Максима» отрицательных героев играли талантливые
артисты, но изображение борьбы нередко было
шаржированным. Некоторые сцены основывались на каламбурном
диалоге. Конторщик — «Король санкт-петербургского
бильярда»,—отлично сыгранный Жаровым, и теперь мне
по вкусу, а карикатуры в трактовке исторических событий
заставляют меня краснеть. Стройность драматургии
иногда достигалась за счет упрощения истории.
Горе было не только в ухудшении художественного
выражения — это являлось скорее следствием,— а в том,
что оценки многих явлений жизни и истории были уже
готовыми, и мы принимали их, не задумываясь.
Хорошо, что образа Максима все это коснулось в
меньшей степени.
А потом случилось так, что Максим отделился от нас,
зажил своей жизнью. В «Великом гражданине» нашего
старого друга Эрмлера Чирков играл роль под таким же
именем: хитро прищуривал глаз, напевал вполголоса
«Крутится, вертится». Теперь он (и это было естественным,
228
Глубокий экран
действие происходило через два десятка лет после
«Выборгской стороны») постарел, носил хороший джемпер,
надевал очки, чтобы читать. Все было на экране: Чирков,
упоминания о Наташе, песня, мнимая простоватость. А вот
Максима, на мой взгляд, не было. И даже его дальнего
родственника в этом человеке я узнать не мог. Было на
экране другое лицо в ином образном мире.
На студию приходили письма с предложением продлить
экранную жизнь Максима, показать, где он потом
трудился, его старость, жизнь сына. Сделать это было нельзя.
Он не мог состариться, как не могла состариться молодость
революции. Она такой и осталась навечно: полной
самоотверженности и задушевности.
Учебного пособия к изучению ее истории мы снять не
смогли бы.
Нам только хотелось сказать про нее негромким
голосом: «О, копеечная! О, великая!..»
Экран и люди
Нет художника, не заинтересованного в отклике на свои
мысли и чувства. Даже самые сокровенные дневники
пишутся со скрытой надеждой на опубликование, пусть
и через много лет. Разве можно общаться с пустотой?
Потребность в понимании, душевной близости с другими
людьми органична для человека.
Но природа такого общения не имеет ничего общего
с подлаживанием, потачкой чужим вкусам. Угождение
почтеннейшей публике, как выражались старые
антрепренеры, способно обеспечить выручку кассе, а не духовную
близость.
Недостойно художнику обращаться к другому человеку
не как к близкому, такому же человеку, как и он сам,
способному все понять, а как к недорослю, умственный
уровень которого требует особого подхода. Так плохие детские
писатели сюсюканьем приспосабливаются к своим
читателям. Если даже и удается им провести ребенка на мякине,
то пройдет время, человек вырастет, он полюбит искусство
и с презрением будет вспоминать дурацкие стишки и
сусальные картинки.
Глава третья
229
Общение художника и людей проходит многими
путями. Случается так, что художнику удалось высказать как
раз то, что уже назрело в самой жизни, почти что вертится
на языке у каждого человека, и способ художественного
выражения совпал с уровнем общего понимания. Бывает
и по-другому: автор находит своих читателей или зрителей
через столетие после смерти. Путей сближения
множество: чувство, неясно выраженное одним художником,
достигает отчетливости уже у других: образуется сложная
связь.
«Часто мысль, начатая великим поэтом,
договаривается самым посредственным...— пишет в «Русских ночах»
Одоевский,— поэты, разделенные временем и
пространством, отвечают друг другу как отголоски между утесами:
развязка «Илиады» хранится в «Комедии» Данте; поэзия
Байрона есть лучший комментарий к Шекспиру; тайну
Рафаэля ищите в Альберте Дюрере; страсбургская
колокольня — пристройка к египетским пирамидам; симфонии
Бетховена — второе колено симфоний Моцарта».161
Гомер, Байрон, Дюрер, Бетховен, Моцарт... Ну а какое
отношение может иметь к ним художество, которому без
году неделя? Разве экран — пристройка к Василию
Блаженному?
«Я считаю, что кинематография — пустое, никому не
нужное и даже вредное развлечение,— наложил
Николай II собственноручную резолюцию на проект
организации русско-американской кинопромышленной компании.—
Только ненормальный человек может поставить этот
балаганный промысел в уровень с искусством. Все это
вздор, и никакого значения таким пустякам придавать не
следует».162
Так считал не только последний русский царь:
дореволюционное кино трудно было отнести к явлениям
искусства. Ленты жили мнимым существованием; фигуры и
происшествия лишь мелькали на полотне, они не могли
проникнуть в духовный мир человека.
Зрителю сближаться пока было не с кем — автора
ленты еще не существовало. Пока что речь могла идти
о сбыте и потреблении, предложении и спросе. В кино не
ходили, а заходили; ленты не смотрели, их глядели,
просматривали. Тонкий на оттенки русский язык улавливал
230
Глубокий экран
в действии отсутствие усилий, поверхностность
впечатлений — основу нового вида развлечения.
В 20-е годы полотно стало экраном. На экране
открылась не только художественная особенность кино, но и его
общность с другими искусствами. Далекие связи
восстановились. Перефразируя Одоевского, теперь можно было бы
сказать: развязка античной трагедии хранилась в
«Потемкине», а тайна Гоголя — в кадрах Довженко.
Появились, да еще с какой отчетливостью, авторы
фильмов. Кто смог бы сомневаться в авторстве
Эйзенштейна?
Однако сказать только это было бы недостаточным.
В таких произведениях все обстоит сложнее. «Потемкин»
принадлежит не только Эйзенштейну, само время,
революция были его соавторами. Вот почему фильм потрясал
сердца.
В «Старом и новом» борьба автора за новое зрение, как
мне кажется, совпала в какой-то мере со слепотой: в
патетике модернизированных коровников не было ни частицы
народной жизни. Автором фильма — художником
огромного таланта и культуры был, к сожалению, только один
человек. На этот раз он не привлек к соавторству ни жизнь,
ни время.
Совершенная слепота постигла нас в последних частях
«Одной»: мы придумали отправку самолета за нашей
учительницей, уткнувшись носом в газетные схемы.
Съемки школы в этом же фильме были, как мне
кажется, удачнее: далекое село, где мы жили много месяцев,
было неплохим соавтором. Герасимов отлично играл
председателя сельсовета; его детство — жизнь в далекой
уральской деревне — трудилось вместе с ним.
Зрители — люди, выстрадавшие и совершившие
революционный переворот,— уже влияли на экран, а влияние
экрана на зрителей было еще очень маленьким.
Борьба в искусстве за новое зрение не бывает легкой.
В кинематографии 20-х годов закладывались основы
киноискусства, впервые подымались пласты нового материала,
ворошились глыбы огромных тем; новое зрение
вглядывалось в революцию. С легкой индустрией развлечений дело
пока обстояло из рук вон плохо. Молодые
кинематографисты утверждали важность места кино в народной жизни,
Глава третья
231
они мечтали открывать и воспитывать; развлекать
казалось им недостойным занятием.
И случилось так, что советское кино, завоевавшее
своими лучшими лентами мировую славу, действительно
становилось по значительности тем и художественной силе
самым важным из всех искусств. Однако «самое важное»,
представленное именно в этих лентах, занимало пока
сравнительно небольшое место на экранах. У входа в
кинотеатр, где крутили «Медвежью свадьбу», толпился народ;
«Конец Санкт-Петербурга» или «Арсенал» недолго
задерживались в программе. Большинство работ Дзиги Вертова
смотрели совсем плохо.
Наши отношения со зрителями складывались
различным образом. «Чертово колесо» шло при переполненных
залах; на «Братишке» зевали —любовь героя к старому
грузовику оставалась не разделенной публикой; «Шинель»
показывали недолго; на «С.В.Д.» стояли очереди; «Новый
Вавилон» вызвал споры, но большинству зала фильм был
непонятен; случалось и так, что лучшие кадры
принимались за дурную проекцию, зрители топали ногами:
«Сапожник в будке!.. Дайте фокус!.. Свет на экран!..»
Нелегкие мысли приходили в голову после таких
сеансов. Однако и кассовые успехи «Чертова колеса» или
«С.В.Д.» не казались привлекательными: было ясно, что
сборы обеспечивало худшее в постановке — мелодрама
и романтическая бутафория. Кинематографические
дискуссии-сражения были по-своему увлекательными,
однако удовлетворения они не давали.
Хотелось не аншлага, висящего у кассы (с детства
я презирал коммерцию в искусстве), и не
кинематографических похвал, а ответа, отклика зрительного зала.
В «Юности Максима» ничего не придумывалось для
публики. Ни материал, ни герой не заключали в себе ничего
«развлекательного»; фабула начисто отсутствовала,
любовь занимала крохотное место, и, да простят меня Ки-
бардина и Чирков, за красавцев они никак сойти не
могли бы.
И случилось так, что именно эта работа оказалась
близкой зрителям. Зал, это выяснилось на первых же
просмотрах, разделял наши мысли и чувства. Что же слу-
232
Глубокий экран
чилось? Просто больше не было «нас» и «зрителей». Время
сдвинуло две пленки: фильма и жизни, теперь они шли
синхронно. Человек на экране думал и чувствовал так же,
как люди в зале, родня героя занимала зал. Здесь
находились все свои. Как же было им не волноваться, когда
полиция выслеживала, тащила в острог этого близкого,
своего человека, как же было ему не сочувствовать, когда
он хотел свести со света шпиков и охранников, краснобаев
и чиновников.
И вел себя человек на экране по-человечески, не
принимал поз, не витийствовал, не агитировал и без того
все понимающих людей.
Начались 30-е годы. Разве в наши дни можно понять по
старым описаниям успех «Чапаева»? После патетических
композиций, вырождавшихся в ложную величавость, на
экране ожили люди, появились «Окраина» Бориса* Барне-
та, «Депутат Балтики» Зархи и Хейфица, «Учитель»
Герасимова, «Последняя ночь» Райзмана. ДелоЪыло не только
в том, что герои фильмов были жизненными, то есть
пришли на экран из жизни, они сошли с экрана в жизнь и их
приняли как своих — это куда важнее.
И не в том было главное, что в 20-е годы экран
экспериментировал, а в 30-е вернулся к простоте и ясности. В
первое десятилетие (вернее, пятилетку) зрители влияли на
экран, а теперь экран вернул зрителям то, что взял от них.
Многое заключалось в каждом из этих периодов — и
прекрасного, и дурного, но их нельзя понять, обрубив связи,
позабыв о продолжающемся движении.
Движение продолжалось. Оказалось, что хрупкая
пленка иногда долговечнее бронзы и мрамора. Стало видно, что
у фильмов, как и у людей, бывает не только биография, но
и судьба. Уходят в небытие коммерческие боевики. Кто
теперь вспоминает «Медвежью свадьбу»? Вновь оживает
искусство. Фильмы, в свое время снятые с проката после
нескольких сеансов, через годы вернулись на экран, чтобы
жить десятилетия, а может быть, и столетия. «Октябрь»
Эйзенштейна проходит сегодня премьерой по многим
странам; все чаще показывают «Землю» Довженко; вернулся
в кино Дзига Вертов,— где только теперь нет его учеников!
И даже срезки — остатки от монтажа незаконченного
«Бежина луга» — собрали, составили в сценарном поряд-
Глава третья
233
ке, подложили музыку Прокофьева. Фильм, состоящий
лишь из неподвижных кадров (смонтированный С.
Юткевичем и Н. Клейманом), не только смотрят, его обсуждают,
будто это завершенная работа; критики, оценивая
месячный репертуар, ставят ему три или четыре звездочки —
высшую отметку. Правда, в одном из европейских
киножурналов кто-то выставил ему жирную точку — самый
низший балл. Хорошо! Значит, даже срезки кадров
Эйзенштейна живут, способны вызывать и любовь и ненависть.
«Рукописи не горят»,— написал в своем романе М.
Булгаков. И кинопленка не горит, если ее одухотворяет
искусство.
Глава четвертая
Агитка
В начале 50-х годов я перестал быть
кинематографическим служащим и стал театральным «договорником».
Произошло это не потому, что кино вдруг показалось мне
неинтересным. Я разлюбил не экран, а путь к нему: уж
очень он стал долгим и сложным. Пускаться в такие
путешествия больше не было сил. Ни я, ни большинство моих
товарищей не добирались тогда до конечной станции.
Проще говоря, фильмы не столько снимались, сколько
переснимались.
Недобрый период начался для меня после трилогии
о Максиме. Три года были зря потрачены на сценарий
о Карле Марксе, картину не удалось снять. Неудачей стали
«Простые люди»; картину выпустили лишь через несколько
лет после ее окончания, неведомо кто ее перемонтировал.
Сходная судьба оказалась у «Пирогова» и
«Белинского» — я поставил их уже один: бесконечные поправки
и переделки обессмысливали замысел, делали труд
бесцельным. В конечном счете моего в этих работах
оставалось ничтожно мало.
В последний раз я прошелся по студии, которую знал
с юности: повсюду было непривычно тихо и чисто.
Трудился бутафорский цех: заготовляли впрок колчаны и
стрелы. Зачем? В сценарном плане появились
«Дмитрий Донской» и «Александр Невский» (последнего
собирались снять по второму разу — цветным).
Теперь я выздоравливал. Пожалуй, это были одни из
самых счастливых дней моей жизни. Всей семьей мы
ютились в крохотной дачке вблизи Ленинграда. Места было
мало. Книги громоздились на подоконнике подле моей
кровати и на двух табуретках. Я просыпался в шесть часов
утра и тихо, чтобы не разбудить жену и маленького сына,
брался за работу. Я приходил в себя, трудился, занимался
осмысленным делом.
Глава четвертая
235
Никто больше не заглядывает через мое плечо: внес ли
я исправления, понял ли, наконец, чего от меня требуют. От
меня больше ничего не требуют. Я сам от себя требую.
Слава богу, нет ни миллионной сметы, ни заказа на
памятник. Сравнительно с киномасштабами дело, которым
я занят,— небольшое. И как раз теперь я уверен в его
важности.
Оказавшись в одиночестве, я почувствовал связь с
множеством людей. Я тружусь вместе с ними и, следовательно,
для них. Для них я ставлю «агитку».
Вскоре я расскажу, что это была за работа, а пока мне
хотелось бы ненадолго отвлечься, задуматься над словом
«агитка». В наши дни оно не в чести; его и произносят
в осуждение. А для меня в нем тепло первых лет труда.
Доброе, честное слово. В нем молодость моего поколения,
гордая нищета революционного искусства, близость
художника и людей. Если люди валяются в сыпняке, долг
художника писать плакат: «Вошь — враг Советской
России».
Мне приятно вспомнить, что в детстве я расписывал
агиттеплушку, и я ничуть не стыжусь своего Кулиджа
Керзоновича Пуанкаре в клоунском цилиндре.
С первых дней войны я трудился над маленькими
фильмами. В Ленинграде горели бадаевские
продовольственные склады, начались бомбежки, а мы сочиняли
и снимали для фронта. Говорят, что бойцы охотно смотрели
«Случай на телеграфе», смеялись. Шутка тогда была
нужна людям. Действие фильма происходило у окошка
телеграфа. Расталкивая очередь, пробивался вперед,
оттиснув старичка пенсионера и домохозяйку с сумкой,
запыхавшийся человек в военном французском мундире
и треуголке (Е. Червяков сыграл эту роль и ушел в
партизаны). Торопясь, он протягивал бланк: «берлин гитлеру
тчк пробовал зпт не советую тчк наполеон». Наполеон
Бонапарт скрещивал руки на груди и бросал зловещий
взгляд на телеграфистку. «Два семьдесят,— подсчитывала
девушка, не обращая внимания на смысл слов и внешность
клиента.— Гражданин, не задерживайте, следующий!..»
«Сейчас я вспоминаю экраны военных лет — простыню,
повешенную в землянке на двух шомполах, воткнутых
236
Глубокий экран
в щель между бревен; выбеленную стену госпиталя, перед
которой сидели и лежали под черным южным небом
раненые бойцы...— пишет в «Комсомольской правде» А.
Юровский,— Максим в кожаной тужурке, с маузером у пояса —
такой, как в последнем кадре «Выборгской стороны»,
обращается к бойцам, сгрудившимся перед экраном.
Мотив «Шара голубого» — такой знакомый, такой веселый
и милый — звучит по-новому, сопровождая новые, за
сердце хватавшие слова:
Десять винтовок на весь батальон,
В каждой винтовке последний патрон.
В рваных шинелях, в дырявых лаптях
Били мы немца на разных путях...
Это был кадр «Боевого киносборника» — своего рода
киноплакатов, выпускавшихся в первые месяцы войны.
Забылись сейчас другие кадры этого фильма, но двадцать
четыре года помню я эти простые строчки. Мы отступали
тогда, от сводок Совинформбюро болела душа, и, боже
мой, как взяла за живое нас, державших в руках автоматы,
песенка Максима...
В мае 1945 года, после того как отгремели последние
бои, с тремя друзьями я вошел в рейхстаг. Мы увидели
возле закопченной стены еще не убранный труп в
гитлеровском мундире. Он лежал лицом вниз, неудобно согнув ноги;
рядом валялась фуражка с орлом. Солнце било откуда-то
сверху и сбоку, освещая крупную надпись на стене над
трупом: «Били мы немца на разных путях!» Не я один,
значит, запомнил тот фильм на всю войну!»164
Что может быть важнее в искусстве, чем личность
художника, особенность его духовного мира?
Пожалуй, только одно: совершенное подчинение своего
труда общему делу, главной цели, если дело — война,
цель — отпор фашизму.
Забылось многое, что делал в военные годы каждый из
нас: сценарии короткометражек; съемки на ходу (получив
задание — сразу в павильон), монтаж чужого материала;
сочинение надписей (срок исполнения—минуты). С кем
я только тогда не трудился вместе: с Самуилом
Яковлевичем Маршаком, Л. Арнштамом, В. Пудовкиным, Г. Раппа-
портом... Коллективы образовывались сами собой — два
Глава четвертая
237
человека, пять... те, что были сегодня свободны и оказались
на студии в момент получения новой сводки Совинформбю-
ро, на которую нужен был отклик. Пропали негативы
многих «Боевых киносборников», уже не отделить в памяти
свои кадры от съемок своих товарищей. Да и для чего этим
теперь заниматься? Важно было одно: экран, повешенный
в землянке на двух шомполах, воткнутых между бревен,
должен был воевать.
Теперь пришла пора другого экрана. Люди слишком
много пережили, чтобы не задуматься над самыми
сложными вопросами.165
Огромность понятия справедливости, правды,
милосердия вновь поражала поколения. Новое время наполнило
эти понятия новым жизненным содержанием: забыть
Освенцим, расизм, Хиросиму, культ звериного в человеке
было нельзя. Формы менялись, а существо вопросов,
которые некогда назывались вечными, опять становилось
современным. Сама жизнь человека является как бы
стремлением найти ответ на такие вопросы.
Человеческое познание никогда не движется по прямой
но всегда по спирали: в «Философских тетрадях» Ленина
можно найти примеры этого положения.1
Буря вырывает из земли дубы с корнями, но тростник
часто лишь сгибается от ее порыва. Паскаль называл
человека «мыслящим тростником».167 После самых
ужасных бурь этот тростник выпрямляется. Может быть оттого,
что он продолжал мыслить? Именно эта величина
оказывалась решающей: мыслящий человек. Кто же он?
Ничтожный фигурант в толчее бессмысленных массовок
истории или личность, способная изменить историю?
Ответственность человека за человечество, непримиримость
между правдой и ложью — все это по-новому
раскрывалось после войны. Наступило время яростной пропаганды
совести, защиты человеческого достоинства против всего
унижающего человека. Мне было просто необходимо опять
взяться за «агитку». И я нашел ее. Она была сочинена три
с половиной столетия назад, называлась «Гамлет». На мой
взгляд, именно теперь опять пришел ее черед.
Академический театр драмы имени Пушкина поверил
в мои планы, поручил мне постановку.
238
Глубокий экран
Подоконник и два табурета в дачке в Комарово были
завалены книгами Шекспира и книгами о Шекспире. Мне
уже давно так хорошо не работалось. Возникло столько
мыслей и чувств, что я не смог ограничить их сценой.
Собирались главы книги («Наш современник Вильям
Шекспир»), сразу же появились и контуры фильма: кино
казалось мне более близким поэзии Шекспира, нежели
театр.
В 20-е годы я учился кинематографическому зрению
у Гоголя, теперь я открыл экран, к которому стремился,
у Шекспира. Условно говоря, это было сложное и
противоречивое единство двух взглядов: общего и крупного; общий
открывал историю во всей ее материальной мощи,
крупный — духовный мир человека.
— Ты повернул глаза зрачками в душу,— говорила
Гертруда сыну,— а там повсюду пятна темноты, и их ничем
не смыть.168
Эти пятна открывались, когда становился виден мир,
загрязнивший духовное существование людей. Я не
находил в трагедии мистических туманов, Шекспир точно
и подробно описал обиход и нравы Эльсинора: закон здесь
олицетворял король-убийца; учили детей по примеру
Полония; Гильденстерн и Розенкранц показывали путь к
карьере; здесь не только отравляли или пугались призраков, но
и снаряжали посольства, готовились к войне, танцевали до
упаду на праздниках, натаскивали шпионов.
Театральные режиссеры часто увлекались словами
«Дания — тюрьма» и старались показать, что принц жил
на пустынной и сырой жилплощади. Мне смысл этих слов
представлялся иным: под нарядным и благозвучным
покровом скрывалась тюрьма для мыслей и чувств; дворец был
благоустроен, придворная жизнь налажена, все плыло по
течению.
Только один человек пошел против течения. Он мыслил.
В этом и состояло существо трагедии. Однако человек был
вовсе не так одинок, как принято было о нем думать. Как
раз это обстоятельство привлекало мое внимание. Я имел
в виду не только студенческую дружбу Гамлета с Горацио
или приветливость принца-мецената к артистам. Меня
увлекала общность героя с гораздо большим количеством
людей.
Глава четвертая
239
Принц датский, каким его написал народный драматург
Шекспир, стоял на подмостках «Глобуса» — несуразной
деревянной башни без крыши,— и две тысячи зрителей
следили за его судьбой.
— Кто же человек: существо, подобное ангелам, или
квинтэссенция праха? — спрашивал Гамлет.169
Вопрос он задавал, разумеется, себе. Но не только себе;
рядом с ним, окружая с трех сторон подмостки, толпились
зрители стоячих мест — матросы, подмастерья, студенты,
приезжие фермеры. Они заплатили грош за вход, чтобы
пережить вместе с героем его горе, ненавидеть вместе с ним
его врагов, испытать его тревогу перед будущим. И когда
он умрет, отдать ему, как приказал Шекспир (а не Фортин-
брас), воинские почести.
Жизнь, написанная Шекспиром, была сложной,
противоречивой, полной смятения, речь шла о людях, а не
пугалах, но разве не были ясны его чувства? Кто рискнул
бы утверждать, что Шекспир презирал датского принца,
сочувствовал Клавдию, преклонялся перед мудростью
Полония?..
Разве сонет 66-й, такой близкий по настроению
«Гамлету», не был обращен к людям, не требовал от них всей силы
душевного отклика?
...Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живется богачу,
И доверять, и попадать впросак,
И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,
И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывет,
И доброта прислуживает злу...
(Перевод Б. Пастернака)
И когда Гамлет обращался — не только к Гильден-
стерну и Розенкранцу, а к тысячам зрителей и говорил им:
человек не флейта, никому не дано право обращать его
душу в дудку, то это и была, если угодно, пропаганда,
яростная «агитка» в защиту человеческого достоинства.
240
Глубокий экран
Менее всего я собирался «правильно» поставить
трагедию. Да и есть ли смысл в таком определении? Кто хранит
в кармане доверенность от Шекспира? Правильность, если
уж пользоваться этим словом, состояла для меня только
в одном: жизненности.
Новые люди пришли в театр, Гамлет должен был быть
вместе с ними. И вовсе не какой-то академически верный
образ, а близкий человек, товарищ и друг в дни нелегких
мыслей. Шекспир и написал его, чтобы он жил с людьми.
Черты его лица никогда не застывали. В этом и
заключалось чудо искусства — в непрекращающемся обновлении.
Бессмертие «Гамлета» — это множество смертей и
множество рождений: что-то мертвело в трагедии, уходило в
прошлое вместе с вчерашним днем, и открывалось иное,
прежде неизвестное; наступала зрелость новых поколений.
Задача режиссера, казалось мне, устранить все, что
отделяет Гамлета от людей.
Перевод Б. Пастернака, возмутивший в свое время
наших шекспироведов своей вольностью, был для меня
истинным сокровищем; герои разговаривали современной
русской речью, лишенной стилизации.
Работа с Борисом Леонидовичем началась с письма,
оказавшегося для меня важным. Первые же строки
привели меня в изумление:
«Я поторопился, и в сопроводительном письме к
выправленному тексту «Гамлета»...— писал Пастернак,—
забыл сказать главное, для чего, собственно, я и писал
письмо. Режьте, сокращайте и перекраивайте, сколько
хотите. Чем больше вы выбросите из текста, тем лучше. На
половину драматического текста всякой пьесы, самой наи-
бессмертнейшей, классической и гениальной, я всегда
смотрю как на распространенную ремарку, написанную
автором для того, чтобы ввести исполнителей как можно
глубже в существо разыгрываемого действия. Как только
театр проник в замысел и овладел им, можно и надо
жертвовать самыми яркими и глубокомысленными репликами
(не говоря уже о безразличных и бледных), если актером
достигнуто равносильное по талантливости игровое,
мимическое, безмолвное или немногословное соответствие им
в этом месте драмы, в этом звене ее развития. Вообще
распоряжайтесь текстом с полной свободой, это ваше
Глава четвертая
241
право... Я ведь видел Ваши постановки, особенно в дни
«Вавилона». Чем круче Вы расправитесь с «Гамлетом», тем
будет лучше...» (27 октября 1953 г.)
Пастернак относился к Шекспиру с величайшей
любовью, и под «крутой расправой» он понимал, разумеется,
не лихое кромсание трагедии. Нужно было решать
сложнейшую задачу: словесную ткань перевоплотить в какую-то
иную, основанную на движении, безмолвии,
немногословном действии. Речь шла о сложном соотношении слов и
существа произведения, ведь можно было произнести все
слова и ничего не сказать. Лучшей из всех сценических
Джульетт была, на мой взгляд, Галина Уланова: она
сказала все, что написал Шекспир, но оставалась безмолвной;
ее танец являлся самой поэзией.
Свободу, которая казалась мне, как и Пастернаку,
необходимой, можно было достигнуть очень сложным
путем: не только сохранить существо трагедии во всей
полноте ее замысла, но и найти в другом искусстве
характер шекспировской образности. Доверие автора
перевода (скорее, русской версии трагедии), его добрые слова,
память о «Новом Вавилоне», где шли поиски «красноречия
молчания», помогали трудиться. Пустые изречения,
которые часто можно было слышать, вроде «каждое слово
Шекспира священно», заключали в себе не столько любовь
к автору, сколько нежелание думать над тем, что автор
написал.
Так зарождалась идея фильма: перевоплощение стихов
в кинематографическую поэзию, экран, где стали бы
реальностью образы государства и мечты Виттенберга, где
духовный мир человека противостоял бы камню, железу,
огню.
Экрана не было. Пока была сцена.
«Гамлет» был моей третьей шекспировской
постановкой. Перед войной я поставил в Большом драматическом
театре имени Горького «Короля Лира», а в 1943/44 году
в Пушкинском — «Отелло». Декорации к спектаклям
делал Альтман. Музыку к «Королю Лиру» и «Гамлету»
написал Шостакович, к «Отелло» — Г. Свиридов.
«На сцене было некое расширенное универсальное
средневековье, поднятое до значения старой истории во-
242
Глубокий экран
обще,— писал о моей постановке «Короля Лира»
Н. Я- Берковский.— Огромные безликие статуи железных
рыцарей стояли по краям сцены, недоброжелательные,
страшные, как всякая слепая сила, отделившаяся от людей
и только ложно сохраняющая человеческий образ. Дворец
Гонерильи был красный, кирпичный, цвета свежей крови.
Лир с шутом бежали из этого дворца, и за ними
затворялась высокая дверь в три человеческих роста... Интимные
сцены режиссер вынес на улицу. На каменном кирпичном
ложе, под золоченой архаической богородицей, на
каменном дворе возлежала Гонерилья, и Освальд, более
похожий на подмастерье палача, нежели на парикмахера,
расчесывал медно-красные волосы своей госпожи. Когда
по сцене прошла охота короля Лира, черное с красным,
когда пробежали страшные борзые и охотники,
согнувшись, едва поспевали за ними, появилась тень Брейгеля
Старшего... Превосходна и тоже в брейгелевском духе
была процессия колодников, которых гонят по степи...
процессия возникла где-то в глубине сцены из утреннего
тумана и снова исчезла в чаду и сырости. Битва между
войсками Корделии и Эдмунда была представлена тоже
смутно, сквозь транспарант...» m
Я перечитываю это описание и отчетливо вижу, что
задуманные образы нуждались не в сцене, а в экране.
Я многим обязан статье Берковского: критик, как это
теперь мне видно, справедливо упрекал меня в
односторонности замысла; споря с романтическими
представлениями о Шекспире, стараясь показать реальность «железного
века» во всей ее жестокости, я куда менее внимания уделял
силе добра, противления злу.
В своей статье Н. Я. Берковский писал о том, что
зрительные образы в постановке главенствовали над
речью, что трагическое было передано музыке
Шостаковича, а не актерскому исполнению.
«Спектакль Большого драматического театра дает
живописного, зрительного Шекспира и дает весь мрак и ужас
его трагедии,— заканчивал критик.— И спектакль этот не
тверд в шекспировской гармонии, в положительной стихии
шекспировских трагедий, в их героической морали». ,72
Слова Берковского заставили меня над многим
задуматься.
Глава четвертая
243
В театре я был еще совсем неопытен. Альтман и
Шостакович были не только большими художниками, но людьми,
с которыми меня связывали многие годы дружбы: мы
говорили на общем языке. Отношения с артистами
складывались хорошо, но добиться нужного результата бывало
сложно. Трудность состояла не в том, что я недооценивал
места артиста. В моей первой театральной постановке
(«Опасный поворот» Д.-Б. Пристли в ленинградском
Театре комедии, 1939) отлично играли И. Гошева, Л.
Сухаревская, Е. Юнгер, Б. Тенин. Мы понимали друг друга
с полуслова.
И все менялось, когда дело доходило до Шекспира.
В наших театрах уже сложилась традиция исполнения
трагедий. Чтение стихов со сцены иногда напоминало мне
декламацию князя Василия, описанную Львом
Толстым. ,73 Красиво поставленные голоса, возвышенная
манера произношения не совпадали с моими
представлениями о шекспировском мире. Актеры как-то особенно
величественно представляли себе королей и королев, злодеев
и любовников. В речи Гамлета к актерам все сказано о
таком стиле игры. Не привлекала меня и другая манера —
бытовая обыденность. Сложным явилось и распределение
ролей: нужных исполнителей в труппе не хватало.
Несмотря на свои трудности, работа над «Королем
Лиром» была удивительно интересной. Мне не забыть
одного особенно счастливого вечера: я захотел посмотреть
спектакль с галерки. Театр был переполнен, зал с
напряженным вниманием следил за трагедией. Мне казалось, что
сегодня по-новому, сильнее заиграли артисты, я ощущал
их волнение и волнение зала, кругом были молодые лица,
мне казались прекрасными краски Альтмана и ритмы
Шостаковича. Я был счастлив.
Это был последний спектакль «Короля Лира».
Началась война.
Во время блокады театр возобновил постановку. В
тяжелое время Шекспир был с людьми. На улицах рвались
снаряды, зрителям и артистам часто приходилось уходить
в бомбоубежище, и все же спектакли шли. Музыку
Шостаковича играли лишь несколько инструментов, часть
декораций сгорела; образ бури, которому я придавал такое
значение, уже не существовал. Но на улицах были железо
244
Глубокий экран
и огонь. Театр сотрясался от разрывов. Старый король
проклинал несправедливость, он требовал судить
бесчеловечность. Сцена напоминала экран, повешенный в
землянке на шомполах.
Особенное значение в первых театральных работах
я придавал атмосфере событий. Интересовал меня,
конечно, не быт определенной эпохи и не натуралистические
подробности. Мне казалось, что география и история
Шекспира особенные. Трагедии — не только пьесы, а и поэмы.
Я старался передать поэтическое единство героя и
окружающего его мира.
В «Отелло» Яго и Родриго появлялись из чада, грязи,
клубов табачного дыма. Прапорщик произносил свой
первый монолог в портовом кабаке, кругом копошился
сброд — наемники, пираты, девки, авантюристы; стучали
игральные кости, слышалась хриплая, пьяная песня.
Яго отлично играл К. В. Скоробогатов. Он сумел
совместить силу злобной философии и дух казармы. Это
был готовый на все человек железа и крови,
экспериментатор, утверждавший низменность природы человека.
Константин Васильевич никогда не говорил «вживаться в
роль». Он в нее «впрыгивал». «Не удается «впрыгнуть»,—
жаловался он, когда сцена не шла. Он увлекался конным
спортом, приходил на репетиции после манежа. В кожаном
костюме, сильный, резкий, пробующий все в полный накал,
готовый на самые необычные решения, он представлялся
мне истинным шекспировским артистом.
Носы фрегатов с деревянными скульптурами-рострами
заменяли занавес; в конце актов мгла окутывала сцену,
фрегаты двигались друг другу навстречу, как бы
сцеплялись абордажными крючьями, закрывая декорацию.
В «Гамлете» падала тяжелая деревянная решетка,
утыканная железными шипами; за ней менялись
фрагменты обстановки: золоченые химеры в несколько метров
роста держали в лапах факелы, освещая покои Клавдия;
в кабинете принца-мецената был дубовый стол с книгами
и рукописями, обломки античных статуй. Призрак
появлялся на пустой площади, погруженной в туман; на
сценический горизонт проецировались огромные тени
трепещущих траурных флагов.
Глава четвертая
245
В «Короле Лире» я перенес встречу отца и младшей
дочери на палубу корабля. Шли облака за высокими
парусами. Сочетание музыки (средневековая баллада)
Шостаковича и декораций (некрашеные доски палубы, суровый
холст парусов) Альтмана, казалось мне, перевоплощало
шекспировские стихи в звук и цвет.
После сражения победитель Эдмунд шел мимо
лошадиной падали, трупов солдат, обломков оружия. Я
зачитывался описанием Леонардо да Винчи: «И не следует делать
ни одного ровного места, разве только следы ног,
наполненные кровью» («Как изображать сражение»). ,74
Боже мой, как меня кляли заведующие постановочной
частью! Воспитанный на кино, я требовал объемов,
подлинных материалов: дерева и железа. Все написанное на
холсте, иллюзорное казалось мне несовместимым с
Шекспиром. Я городил немало вздора, без нужды тяжелил
постановку, из-за моих выдумок осложнялись
перестановки, приходилось удлинять антракты.
Кинематографический опыт помогал мне в работе со
светом. Мне посчастливилось трудиться с Н. Бойцовым
(Большой драматический театр имени Горького). Чего
только мы с ним не натворили! Стаи птиц накрывали
зловещей тенью землю; молния сжигала дуб высотой в сцену,
при перемене света силуэт дерева с вывороченными
корнями напоминал бегущего в ужасе великана.
Приспособиться к труппе бывало не всегда просто.
Когда Академический театр драмы имени Пушкина
пригласил меня поставить «Отелло», исполнитель главной
роли был сразу же намечен: Н. К. Симонов, на мой взгляд,
отлично подходил к образу и складом дарования и
природными данными. Устраивало меня и то, что артист ничем
не был связан с театральными традициями исполнения
Шекспира.
Однако вскоре меня ожидал сюрприз: мавра захотел
сыграть Ю. М. Юрьев. Случилось так, что Юрий
Михайлович уже давно не выступал, а Отелло был его любимой
ролью.
Откровенно говоря, мне показалось, будто земля
колеблется под ногами. Ну как мы могли сговориться? Он
был, пожалуй, последним хранителем театральных заветов
прошлого века; в труппу императорского Александринско-
246
Глубокий экран
го театра он вступил в 1893 году. Тогда специальные
кареты развозили актеров, блистательный
Санкт-Петербург занимал партер и ложи. Шли десятилетия, Юрьев не
покидал этой сцены, он стал неотделим от парадной
архитектуры Росси, красного бархата кресел, золоченой лепки
на белых стенах. Он уже не только артист, а и легенда. Это
перед ним, Дон Жуаном, расстилали ковры мейерхольдов-
ские арапчата, и он, меняя личины, не играл, а танцевал
роль; в «Маскараде» Головин обряжал его в великолепные
фраки и изысканные жилеты, и он, Арбенин, проходил
среди масок и завес.
Еще в детстве я оборачивался на странную, очень
высокую фигуру в котелке (уже давно не носили таких
головных уборов): Юрий Михайлович, опираясь на трость
с набалдашником из слоновой кости, неторопливо и
торжественно выступал по Каменноостровскому проспекту. Он
шел по тротуару, как по красному ковру; на указательном
пальце можно было увидеть большой перстень — на синей
эмали бриллиантовая буква «Н» и цифра «II» (царский
подарок к бенефису). Он принадлежал к театральной
эпохе, когда сама природа артистов говорила об их
амплуа. У героев можно было учиться благородству манер,
умению носить фрак; они владели искусством картинно
закинуть на плечо плащ, упасть на колени, объясняясь
в любви. У них был не голос, а орган, не походка, а поступь.
После Октябрьской революции Юрий Михайлович
играл в цирке Чинизелли трагедию Софокла; с галерки (по
описанию современников) кричали: «Не хотим Эдипа!
Давай Луриха (кумир чемпионатов французской
борьбы) !..» Юрий Михайлович не смущался; он был уверен, что
будущее за романтическим театром.
Теперь ему было больше семидесяти лет. Перед нашей
встречей мне живо припомнилась фэксовская «Женитьба».
Все-таки забавно складывается судьба!
Юрий Михайлович любезно встретил меня, с
вниманием отнесся к моим планам. Он и сам никак не хотел бы
повторить свой старый спектакль. Мы начали трудиться.
И случилось так, что любовь к пьесе объединила нас и
пришла та репетиция, ради которой и стоит работать. Мы
вдруг почувствовали интерес и доверие друг к другу,
радость от того, что встретились. Я позабыл про возраст
Глава четвертая
247
артиста и про стиль его игры. Другое стало главным:
большой художник в конце своего пути смог увлечься, всей
силой духовного существования зажить в шекспировском
мире. И мне не важно было ни «что», ни «как» (привычные
эстетические противоречия), а «кто» и «сколько».
Юрий Михайлович сказал мне тогда хорошие и добрые
слова. И для меня оказалось важным, что именно он
поверил мне. Вся труппа приходила смотреть наши репетиции.
На спектаклях он играл, разумеется, так же, как
и много лет назад: репетиции позабылись.
Потом, по просьбе театра, я ввел в постановку Ваграма
Папазяна. Знаменитый трагик играл Отелло несколько
тысяч раз на всех языках и, кажется, во всех странах мира.
Юрьев уделял особенное внимание произнесению стихов,
строго соблюдал метр; Папазян пересказывал текст
своими словами, немало добавляя к шекспировскому. Он
разгонялся по сцене и прыгал, как кошка, на спину Яго; платок
Дездемоны в его руках становился одушевленным; он
перерезал себе горло с совершенной иллюзией подлинности.
В спектакле появились (уже без моего участия) и
другие исполнители; от постановки мало что осталось.
Работа над «Гамлетом» сложилась для меня, пожалуй,
наиболее благоприятно. Тогда пробовалось многое, что
потом нашло завершение, хотя уже в другой форме, в
фильме: и манера исполнения, лишенная декламации, и
образы сцен. Гамлет (Б. Фрейндлих) произносил свои слова
о короле и червях перед государственным советом;
безумная Офелия (ее играла с большим успехом Н.
Мамаева) появлялась среди солдат и бунтовщиков; бродячие
артисты представляли во дворе замка, вместо сцены был
фургон с откидной стенкой. Главным местом спектакля, как
мне этого и хотелось, стал монолог о флейте.
В 1954 году, впервые после многих лет отсутствия
в репертуаре, «Гамлет» был показан зрителям. Для меня
работа над трагедией о датском принце только начиналась.
Алонсо Кихано, прозванный Добрым
Стрелы и колчаны заготовляли на «Ленфильме» зря.
До «Дмитрия Донского» черед не дошел; не успели поста-
248
Глубокий экран
вить и нового, цветного «Александра Невского».
Киностудии ожили, помолодели: на съемках можно было увидеть
новые, молодые лица.
Увеличился выпуск фильмов. У режиссеров старшего
поколения и только что окончивших ВГИК оказалось
множество планов. В сложные годы люди не опускали рук;
подготавливалось все то, что теперь можно было
осуществить. Начались съемки картин «Летят журавли», «Дом,
в котором я живу», «Коммунист», «Тихий Дон», «Сорок
первый»...
Директором «Ленфильма» был назначен Сергей
Васильев.
— В план экранизации классики включен «Дон
Кихот»,— сказал мне мой старый друг голосом, лишенным
сомнений.— Ты должен снять этот фильм.
В истории русской культуры датский принц и испанский
идальго сопоставлялись не раз. Работа, начатая на сцене,
могла быть продолжена на экране. Речь шла о том же
пласте мыслей и образов.
Рассказ о постановке «Дон Кихота» особенно сложен.
Речь ведь пойдет не просто о хорошей книге. Пожалуй,
другого такого же, равного по значению, сочинения не
назвать. И судьба романа Сервантеса складывалась и
продолжает складываться так, как не случается с книгами.
История нищего идальго из Ламанчи не существует для
людей в каком-то, что ли говоря, окончательном виде:
книга меняется, растет вместе с каждым человеком,
становится иной, так же как растет, становится иным человек.
Человек — маленький и книга — тоже маленькая: в ней
совсем немного страниц. Кто не узнавал ее в самые ранние
годы? Тощий и длинный чудак верхом на кляче въезжает
в маленький мир детства. Маленький человек потешается
над бреднями: тощий придумал надеть на голову
бритвенный тазик и поскакать на ветряные мельницы. Сколько ему
достается зуботычин, тумаков, колотушек! Маленький
человек в восторге: так тому, глупому, и надо. Получай за
дурь! Подумать только, какой он безмозглый!..
Маленький человек уверен в собственном
превосходстве над придурковатым — настолько он его взрослее
и умнее.
Глава четвертая
249
Человек вырастает. И книга вырастает вместе с ним:
в ней оказывается множество страниц, целых два тома.
Если человек недостаточно вырос, то книга остается для
него только смешной; если же он действительно
повзрослел, то, читая «Дон Кихота», смеяться ему хочется куда
меньше. Книга заставляет его задуматься; он начинает
понимать, что и сам когда-то скакал на ветряные мельницы
и надевал на голову тазик, идя в сражение. И книга
становится огромной; в ней жизнь, мир и сам человек. На глазах
у человека выступают слезы. Но плакать ему нельзя: он
уже взрослый.
«Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения,—
написал Ф. Достоевский.— Это пока последнее и
величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония,
которую только мог выразить человек, и если б кончилась
земля, и спросили там, где-нибудь, людей: «Что вы, поняли
ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?», то
человек мог бы молча подать «Дон Кихота»: «Вот мое
заключение о жизни, и — можете ли вы за него осудить
меня?» ,75
Когда меня спрашивали (а спрашивали множество
раз) : «Почему вы решили поставить «Дон Кихота»? (через
несколько лет так же начинался разговор о «Гамлете»),—
я терялся. Куда естественнее, по-моему, было бы задать
вопрос каждому режиссеру: «Неужели вам никогда не
хотелось поставить Сервантеса (или Шекспира)?..»
Надо сказать, что принятые ответы (необходимость
освоения классики, ознакомления с памятниками) ничуть
не объяснили бы моих намерений. Увы, не было у меня
склонности к «освоению» и «ознакомлению». И даты
юбилеев (помогавшие включению фильмов в план),
откровенно говоря, меня не вдохновляли. Как раз «наследства»
и «памятника» я хотел избежать. И трудиться нужно было,
на мой взгляд, не для торжественной даты, а для
обыденных дней.
Разве перестала быть жизненно важной трагикомедия
возвышенных мечтаний и бессмысленных представлений
о реальности благородства, оборачивающегося нелепицей?
Сервантесу и Шекспиру удалось открыть глубинные
противоречия истории, проникнуть в существо
человеческой природы. Отбросив догмы своей эпохи, они учили
250
Глубокий экран
каждую эпоху борьбе с догмами. Свобода художественного
исследования жизни позволила сплавить обыденное с
фантастическим, выражать философию гротеском, сделать
клоунаду мудрой; поэзия в этом искусстве была
неотделима от прозы, а пространство образа — огромно. Реализм
состоял не в копировании внешности явлений (бесплодной
для искусства)', а в материализации их существа.
Пожалуй, не вспомнить фигуры столь же
исключительной и неправдоподобной, как Рыцарь Печального Образа,
и, пожалуй, именно он наиболее знаком, отлично известен
каждому человеку. Фантастическая преувеличенность его
черт — внешних и духовных — сразу же делает образ
отчетливым, позабыть его уже нельзя. Даже по его
отдельным чертам опознают свойства людей. Сколько раз можно
услышать возглас: настоящий Дон Кихот!
Кажется, будто и на самом деле встречал его в
действительности. Но можно ли привести пример большей
небывальщины, крайности гротеска? Такого человека не могло
быть. А он, оказывается, есть, живет три с половиной
столетия, стал совершенной реальностью.
Эта реальность, на мой взгляд, не была схвачена
в знаменитых иллюстрациях. У Гюстава Доре я не находил
ни испанской сухости и жесткости, ни пламенного сердца.
Глубина образа, по-моему, ускользнула от французского
рисовальщика. Наиболее близки моим представлениям
были полотна Оноре Домье, рисунок Пикассо. Здесь можно
было найти как бы формулу образа, алгебраическую схему
трагикомедии. Эти произведения помогали думать. Я
повесил репродукцию Пикассо на стенку, напротив рабочего
стола; подолгу смотрел на картины Домье, глубина его
живописи стала для меня примером масштаба темы.
Но мера жизненности на экране иная, нежели на
холсте. Меня увлекало обобщение, мощь фигур Домье, но
мне не хотелось забывать, что Сервантес считал
необходимым точно описать гардероб идальго, его еду (по дням).
При уничтожении его библиотеки священник пощадил
один из романов: «Я вам правду говорю, сеньор кум,—
объяснил он цирюльнику,— по стилю это лучшая книга на
свете; рыцари здесь едят, спят, умирают в своих постелях,
перед смертью пишут завещания и все прочее, чего в
других романах этого рода вы не найдете». ,76
Глава четвертая
251
Фильм представлялся мне и жизненным и отвлеченным,
и испанским и русским (у каждого народа свой Дон
Кихот); связанным с веселой памятью детства и с нелегкими
мыслями поздних лет.
В Испании я никогда не был, но испанская культура по-
особому вошла в нашу жизнь. Революционный театр
начался для меня с «Фуэнте Овехуна», одним из самых
любимых художников стал Гойя, через несколько лет
я увлекся Эль Греко; подолгу стоял в Эрмитаже подле
Веласкеса, картин Моралеса... Разве не странно, что
задолго до гражданской войны в Испании Михаил Светлов
сочинил «Гренаду»?
А потом вошли в нашу жизнь военные сводки: Мадрид,
Толедо, Алькасар, Гвадалахара, Герника...
Я уже писал, что Дон Кихот растет с каждым
человеком, но идальго растет с каждым поколением, новым
обществом. В годы, когда народная Испания первой
приняла железный удар фашизма, в романе Сервантеса
открылся новый смысл. Рыцарь Печального Образа
приобрел для нас особые черты.
Тогда впервые мне захотелось поставить роман
Сервантеса. То, что именно в эти годы зародился замысел,
определило многое в фильме, который мне удалось снять лишь два
десятка лет спустя.
Когда план постановки сложился, я рассказал его
художественному совету «Ленфильма». Многотиражка
«Кадр» опубликовала стенограмму. ,77
— Постараемся прежде всего представить себе эту
историю по-жизненному,— говорил я.— Ничего
«испанского» на экране быть не должно, я имею в виду все то, чем
завлекают в эту страну туристов. Ни ярких красок, ни
танцев, ни кружевных шалей. Обыденный мир, поля,
выжженные солнцем, деревня в стороне от проезжей
дороги — скучное захолустье. Глиняные белые домики, заборы,
церквушка. Если хотите, своего рода Миргород: лужа на
краю света. Тусклое существование, но никому и в голову
не взбредет, что можно жить иначе. Здесь все знают, во
всем уверены. Да и знать, собственно говоря, нечего, разве
что-нибудь меняется? Случился неурожай на оливки, но
с голода никто не умер; высох фонтан на площади... Что
еще? Проходивший полк увел трех девок, но они вернутся
252
Глубокий экран
и выйдут замуж. Все будет в порядке. Сегодня священник
пришел в гости к цирюльнику, завтра цирюльник навестит
пономаря.
Алонсо Кихано только одно слово что помещик:
усадьба разваливается, буднями идальго носит платье из
домотканого сукна, яичницу с салом экономка жарит ему
только по субботам.
Все запылилось, выгорело от солнца. И все утратило
смысл, обездушено. Неподвижная, вечная обывательщина.
Лень, жара, бездумье.
Обитатели села добряки; их доброта и доводит сеньора
Кихано до смерти. Люди не видят дальше своего носа,
а нос у них короткий. Есть такое понятие «здравый смысл»,
с его помощью нетрудно дойти до полной бессмыслицы.
Если так продолжать жить, то обнаружится, что ходить на
четвереньках удобнее; потом люди порастут шерстью.
Алонсо Кихано — костлявый, высокий и тощий, но —
начнем с этого (только начнем!) — не чучело, а чудак,
свихнувшийся на чтении: рыцарские романы он принял за
правду. В наши дни такую беду можно определить и иначе:
сочинения про идеальных героев он счел реализмом. И
Кихано решил последовать их примеру — стать
странствующим рыцарем, что, разумеется, нелепо. Однако на
случившееся можно посмотреть по-другому: человек захотел
помочь угнетенным, защитить справедливость, что,
бесспорно, прекрасно.
В бесцветном и бессмысленном мире у человека
появилась цель жизни, смысл существования, красота. Все для
него стало значительным, прекрасным: погнувшиеся
доспехи, сломанное копье, кляча, слова клятвы.
Дон Кихот Ламанческий вместе со своим оруженосцем
выехал на рассвете из тесного захолустья, из мутной
миргородской лужи в огромный мир.
Пыльные дороги «плутовских» романов, постоялые
дворы — вшивые, пропахшие чесноком; торговцы, монахи,
шулеры, бродяги, проститутки. Среда, описанная в «Ласа-
рильо с Тормеса», жизнь, отраженная в «зерцале
мошенников», как сказано в заголовке романа Франсиско Кеве-
до. |78 Время жестоких перемен: перемешивались века и
уклады, корысть погнала людей в путь, по всему прошла
трещина, все, кроме наживы, утратило смысл.
Глава четвертая
253
Искать справедливости здесь еще нелепее, чем в Ла-
манче. Обыватели огорчались завиральными идеями
идальго, но к нему самому относились с любовью: заперли
его в клетку из сострадания, из жалости сожгли его книги.
На постоялом дворе издеваются грубо, шутки кончаются
побоями. Проповеди верности и добродетели вызывают
озлобление.
Гогот и пинки сменяются утонченным издевательством
в герцогском замке. Идеи справедливости и милосердия
настолько потешны, что могут стать развлечением: старые
шуты приелись. В холодном мире догматов католицизма
и придворного церемониала потеха напоминает обряды
ИНКВИЗИ4ШИ.
Старый человек, избитый и осмеянный, ничего не
достигнув, возвращается домой. «Вспоминайте не Дон
Кихота,— просит он перед смертью,— а Алонса Кихано, по
прозвищу Добрый».
Кихано умирает. Рыцарь Печального Образа седлает
коня, кличет верного оруженосца: бессмертные всадники
скачут на новые подвиги.
Это — порядок внешних событий, схема действия,
которую мне хотелось бы привести к совершенной
элементарности.
Внутреннее движение — «заключение о жизни»;
«самая горькая ирония» (Достоевский) раскрывается в
диалектике понятий безумия и разума.
«Шутники... были столь же безумны, как и те, кого они
вышучивали,— пишет Сервантес, заканчивая сцену в
замке,— ибо усердие, с которым герцог и герцогиня
высмеивали двух глупцов, делало их самих
придурковатыми». 179
Безумны идеи Дон Кихота, но и мир, где он живет,
лишен разума. А когда общественные отношения утратили
смысл, единственным мудрецом становится сумасшедший.
Это положение обычно для Возрождения. Шекспир
исследовал его на перекрещении судеб большинства героев
«Короля Лира».
В железный век мечты о золотом веке безумны. Но
может быть, именно они и помогают победить железо?
Подобные положения проходят через весь роман. Но
они проходят и через жизнь человека, историю.
254
Глубокий экран
Еще со времен съемок «Шинели» я невзлюбил слово
«экранизация»; в нем слышалось что-то
бездушно-ремесленное, относящееся не к живому делу, а к механическому
препарированию. Искать у Сервантеса «материал для
сценария», растаскивать роман на кадрики являлось бы
бесцельным занятием. «Дон Кихота» хотелось продолжить
на экране, а не обкорнать экраном. Чтобы сохранить то, что
казалось мне наиболее важным в книге,— «заключение
о жизни»,— нужно было дать образам иные формы
существования, кинематографическую плоть.
Мне был необходим друг, товарищ по работе, человек,
который мог бы чувствовать себя в причудливом
сервантесовском мире, как дома. Искать было недалеко, у меня не
возникло и минуты сомнений: друг жил рядом, на той же
улице, что и я.
Евгения Львовича Шварца теперь часто вспоминают:
выходят его книги, ставятся «Тень», «Голый король»,
«Обыкновенное чудо». С большим успехом прошел в
парижском Театре Наций «Дракон». Критики исследуют его
драматургию, опубликованы мемуары о нем. Но я уверен,
что большая судьба его произведений только начинает
складываться.
Время уже проверило жизненность его искусства.
Случилось так, что сказки Шварца все сильнее говорят о
реальности, а многое из того, что когда-то принималось за
реализм, сегодня выглядит глупыми сказочками.
При жизни ему никак не могли отвести места.
Литератору полагалось быть куда-то отнесенному. Ну а что было
делать с Шварцем? Его пробовали считать лишь детским
писателем, однако взрослые задумывались над его
образами. Его попрекали тем, что некоторые его сюжеты
повторяли Андерсена, но «инсценировщиком» был и Шекспир
(«Гамлет» и «Король Лир» писались, как известно, поверх
старых пьес). Его прорабатывали за уход от
действительности (кому теперь нужны сказки?) и за слишком близкое
к ней приближение (сказки, а похоже на жизнь!). Такая
критика, к счастью, выходит из обихода. Жаль только, что
и Шварца уже нет в живых.
Сочинять сказки трудное и неблагодарное дело, и они
постепенно переводятся на свете. Все меньше охотников их
сказывать. Главная трудность такого вида литературы
Глава четвертая
255
состоит, по-моему, в его неопровержимости. Правда
сказочной формы суждения о жизни неоспорима и безусловна:
это правда поэзии, выявившей существо явления. И от этой
правды уже никуда не деться.
Надо сказать, что в документальности, к которой
стремятся в наши дни многие художники, бесспорно есть своя
прелесть. Горе только в том, что понятие подлинного
становится иногда уж слишком неопределенным. Легкая ретушь
меняет фотографию; несколько слов, вычеркнутых из
стенограммы, искажают смысл речи. Неполная правда в этих
случаях легко оборачивается ложью. Есть документы,
которые лгут, как люди, предостерегал Юрий Тынянов,
знавший толк в документах. ,80 Чепуху и враки нетрудно
подтвердить свидетельствами: «Так было на самом деле»
или же «Это — действительный случай». В жизни, как
известно, многое бывает, что только не случается.
Однако ни показания свидетелей, ни вещественные
доказательства не придадут плохому искусству
убедительности. Тут уж ничего не поделаешь, как ничего не
поделаешь с правдой, ставшей искусством. Правда сказки
проверялась народом, утверждалась поколениями.
Кому под силу заглушить возглас ребенка: «Король
голый!» Существо жизненного явления открыто, стало
очевидным. Тихий голос не перекричать даже луженым
глоткам, слова мгновенно передадутся от человека к
человеку, из поколения в поколение. И затоварятся лавки
портретами короля в горностаевой мантии, после возгласа
ребенка их уже никуда не повесишь.
В сказочных сюжетах живет народная мудрость;
Шварц подхватывал их не по прихоти: сама жизнь требует
или продолжения старых историй, или же, напротив, их
забвения. Каждый художник по-своему наследует
прошлое. Но как открыть место, где таится клад? Развить
традицию, наполнить ее жизнью так же сложно, как ее
опровергнуть. Поди разберись, в какой из шкатулок
заперто сокровище.
Шварц выбрал ту, на которую уже давно никто не
обращал внимания, разве только какие-нибудь ветхие
старушки-сказительницы... Что, казалось бы, можно было
найти в ней людям середины XX века? Открывать ее, да
еще и искать в ней что-то ценное, никому не приходило
256
Глубокий экран
в голову. Еще в прошлом веке прекрасный поэт с болью
объявил о приходе новой эры:
Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
«Последний поэт» — назвал свое стихотворение Е.
Баратынский.
Шварц выбрал для себя «поэзии ребяческие сны».
Родом этого недуга хворал и герой Сервантеса.
— Знаете,— сказал мне однажды Евгений Львович,—
вчера я просто прелесть как поработал. Целый день не
вставал от стола. И наконец-то, после долгих мучений,
удалась мне реплика дерева.
Откровенно говоря, мне не показалось, что сочинять
текст для дуба или сосны представляло такой уж интерес.
Но проходило время, Евгений Львович читал мне свои
новые страницы — итог большого труда,— и
драгоценность таких слов становилась очевидной.
«В пяти годах ходьбы отсюда, в Черных горах, есть
огромная пещера,— говорит странствующий рыцарь
Ланцелот в «Драконе».— И в пещере этой лежит книга,
исписанная до половины. К ней никто не прикасается, но
страница за страницей прибавляется к написанным
прежде, прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир! Горы,
травы, камни, деревья, реки видят, что делают люди. Им
известны все преступления преступников, все несчастья
страдающих напрасно. От ветки к ветке, от капли к капле,
от облака к облаку доходят до пещеры в Черных горах
человеческие жалобы, и книга растет. Если бы на свете не
было этой книги, то деревья засохли бы от тоски, а вода
стала бы горькой». m
Такими книгами представляются мне «Дон Кихот»
и «Гамлет».
Театры иногда придают шварцевским фигурам и
словам злободневный смысл. Это нетрудно сделать. Зрители
Глава четвертая
257
на лету подхватывают намеки, хохочут, аплодируют.
Можно ставить «Тень» или «Обыкновенное чудо» по-разному.
На мой взгляд, искусство Шварца больше, выше
карикатур, это не только сатира, а поэзия, лирическая философия.
В музеях музыкальных инструментов можно увидеть
самые разные скрипки — и прекрасные экземпляры, и
странные раритеты. Но скрипки, описанной Шварцем, не
отыскать и в наиболее полных коллекциях. Она создана
в городе, порабощенном драконом (в трехголовом звере
нетрудно узнать фашизм); музыкальный мастер отдает ее
странствующему рыцарю, вызвавшему чудовище на бой:
музыка помогает сражаться. Это — особенный
инструмент, и звук у него ни на что не похожий. Случилось так,
что не было у мастера под рукой ни нужных сортов
дерева, ни струн. Ничего у него не было. Но музыка не могла
умолкнуть, и мастер «вылепил скрипку из черного хлеба и
сплел из паутины струны». ,82
Таким я вижу искусство Шварца. И черный хлеб
существа его поэзии, и негромкий, удивительной чистоты
и доброты звук человеческого голоса.
«Дракон» написан в 1943 году. Пьеса направлена
против самого основания фашизма, коверканья
человеческих душ. Дракон убеждает рыцаря Ланцелота, что
восставать против его власти бесцельно: стоит ли жертвовать
собой ради людей, воспитанных драконом?
Дракон. ...Мои люди очень страшные. Таких больше
нигде не найдешь. Моя работа. Я их кроил.
Ланцелот. И все-таки они люди.
Дракон. Это снаружи.
Ланцелот. Нет.
Дракон. Если бы ты увидел их души — ох,
задрожал бы.
Ланцелот. Нет.
Дракон. Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за
калек. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как
требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный,
очень живучи. Разрубишь тело пополам — человек
околеет. А душу разорвешь — станет послушней и только. Нет,
нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем
городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души,
258
Глубокий экран
иепные души, лягавые души, окаянные души... Дырявые
души, продажные души, прожженные души, мертвые
души...» ,85
Опережая на столетия многое в современном нам
искусстве, Гоголь первым произнес слова: «мертвые
души». Это был не только предмет купли Чичикова, но
и образ общества, название зловещего процесса обездуши-
вания жизни корыстью, общественным неравенством,
властью мертвых формальностей над всем одушевленным.
По свету пошел гулять потерявший нос майор Ковалев:
торжествующая пошлость пустяков, взошедшая на
дрожжах обессмысливания и обездушивания всего
человеческого.
Глубина художественного исследования жизни у
Сервантеса, Шекспира, Гоголя была неотделима от вольности
способов выражения. Легкость движения, возможность
выражать самые важные мысли, сдвигая планы реального
и фантастического, переходя от обыденного к гиперболе,
хотелось перенести и на экран. Драма должна была
перемешаться с комедией, высокие идеи высказываться в
невероятных положениях. Хотелось, например, чтобы главные
свои слова Дон Кихот произносил вниз головой. Бой с
ветряными мельницами был построен в сценарии как диалог
со злым волшебником Фрестоном. Когда крыло вместе
с копьем, которое вонзал рыцарь в мельницу,
подхватывало его и вздымало в воздух, рыцарь не сдавался:
— А я говорю тебе, что верую в людей! —
перекрикивал он скрип жерновов.— Не обманут меня маски, что
напялил ты на их добрые лица! И я верую, верую в
рыцарское благородство! — провозглашал он и оказавшись вниз
головой.— А тебе, злодей, не поверю, сколько бы ты ни
вертел меня,— я вижу, вижу! Победит любовь, верность,
милосердие... Ага, заскрипел! Ты скрипишь от злости,
а я смеюсь над тобой!
Черкасову нелегко достался этот монолог. Мы
привязали артиста к крылу мельницы; снимали с крана, двигаясь
вместе с крылом: за головой рыцаря вращалась,
перевертывалась земля.
Существо романа хотелось сохранить в
неприкосновенности, но сцены сочинялись заново. Финалом должна
Глава четвертая
259
была стать не смерть Алонсо Кихано, а бессмертие Дон
Кихота. Шварц, на мой взгляд, ее отлично написал.
— Ах, не умирайте, ваша милость, мой сеньор! —
упрашивал Санчо, пробравшийся через окно в спальню
идальго.— А послушайтесь моего совета и живите себе!
(Рыцарь подымал голову с подушки). Умереть — это
величайшее безумие, которое может позволить себе человек.
Разве вас убил кто? Одна тоска. А она баба. Дайте ей,
серой, по шее, и пойдем бродить по свету, по лесам и лугам!
Пусть кукушка тоскует, а нам некогда. Вперед, сеньор,
вперед! Ни шагу, сеньор, назад!
Два всадника скакали подлунным светом: в железный
век они защищали век золотой.
«На моих глазах проходила работа над сценарием «Дон
Кихота», и Шварц делился тем, что задумал, что делал, что
получилось, а что не вышло, от чего пришлось
отказаться,— написал Л. Н. Рахманов в своих воспоминаниях.—
Например, от привычной для Шварца сказочности начала
сценария его убедил отказаться постановщик фильма
Г. М. Козинцев, склонявшийся к тому, чтобы сразу, с
первого кадра, показать Испанию подлинную, чесночную,
в чем Шварц охотно с ним согласился».
Пролог, который прочитал мне Евгений Львович, был
полон поэзии: мальчик-паж взбирался на самый верх
высокого дерева: открывались дороги, скакал
королевский герольд, знатная дама ехала в карете, лакеи
стояли на запятках, а в кустарнике прятался от экономки Дон
Кихот.
Однако поэзия Сервантеса представлялась мне иной.
Это было, пожалуй, единственный раз, когда мы с
Евгением Львовичем поспорили.
«Шварц послушался не только из творческого азарта
и любопытства...— писал дальше Рахманов,— но и веря,
что Г. М. Козинцев искренне любит его. Недаром, когда
Шварц был уже болен, он написал мне: «Козинцев в Ялте.
Пишет необыкновенно смешные письма...» Шварц отлично
понимал, что Козинцев это делал, желая развеселить его,
удрученного не только болезнью, но и неопределенностью
судьбы сценария «Дон Кихота», который, как сообщил мне
сам Шварц, «залег в Москве, и наступил знакомый Вам
период таинственного молчания». |85
260
Глубокий экран
Но в этом случае рассеять козни волшебника Фрестона
оказалось куда более легким делом. Обстановка в
кинематографии в 1956 году изменилась до неузнаваемости.
Правда, проходя по коридорам нашего главка, я встречал
и старых знакомых, но они разговаривали уже как-то по-
новому. Среди них был и один очень старый знакомый.
Я было про него и забыл, а он, оказывается, сидел на своем
месте. Пожалуй, есть смысл задержаться на этом, может
быть, на поверхностный взгляд, и недостаточно интересном
характере, задуматься над его странной профессией и
судьбой, которая так благополучно сложилась в наш
неспокойный век.
Служил в нашем кинематографическом деле редактор.
Состоял он в нем так давно, что я не знаю, образовалось ли
сперва дело, а потом уже редактор, или же вначале
появился редактор, а кинематографию пристроили к нему
позже. Находился он здесь с незапамятных времен и стал
неотделимым от самого здания, как бы его частью,
подобной окошку для выдачи пропусков, дверям, обитым
гранитолем, телефонам на столе секретаря. Он являлся, по-
видимому, незаменимым: уходили начальники,
переименовывались управления, менялись порядки, а старый
знакомый все составлял свои бумаги: сократить, усилить,
акцентировать, переосмыслить. И стал он в
кинематографическом департаменте кем-то вроде Башмачкина. Думаю,
что, вернувшись домой после службы, он, как Акакий
Акакиевич, переписывал, счастливо улыбаясь, для
собственного удовольствия, полюбившиеся ему формулировки или
цитаты. Правда, содержали его лучше Башмачкина:
шинель у него была хорошая, капот она не напоминала. В чем
состояла тайна его незаменимости? Видимо, в том, что он
не работал, а опасался. То есть сам его труд заключался
в выделении опасений. Он обычно так и начинал свою речь:
«Боюсь, как бы не показалось... Тревожит меня одно...
Вызывает некоторый страх вот что... Следовало бы,
думается мне, опасаться...» и т. п.
Если страхи оказывались напрасными (фильм
одобрили), то с него не только не спрашивали, но, напротив,
хвалили его: вовремя предостерег, учли опасность. Если же
выяснялось, что боялся он не напрасно, тут уж и цены ему
не было. Так он и прожил свой век. Оступались братья
Глава четвертая
261
Васильевы, спотыкался Эрмлер, Эйзенштейн оказывался
плохо подкованным, а тот — ни разу не ошибся.
Теперь обсуждали сценарий «Дон Кихота». Сколько же
лет я здесь не был? Я оглянулся на зал — старый знакомый
сидел на месте. И стало мне до смерти интересно, чего же
он будет бояться? Все же целая вечность минула, может
быть, деятельность его приобрела иной смысл?
Выступавшие считали, что сценарий удался: пора
начинать постановку. Дошел черед и до старого знакомого. Он
посмотрел на начальство, встал, откашлялся.
— Опасаться как будто нет оснований,— сказал мой
Башмачкин,— боюсь только, не слаба ли линия
Дульцинеи?
Как мне хотелось его обнять и расцеловать! Теперь
я знал, понимал, был твердо уверен: на дворе весна, все
в цвету. Акакий Акакиевич требует: усилить линию любви!
В главке благоухали цветы, щебетали птицы.
Почти полгода я ежедневно встречался с Черкасовым
и Толубеевым (Санчо Панса). Других артистов еще не
было. Чтобы выстроить сцену, мне приходилось исполнять
остальные роли. Я даже рычал, когда дело доходило до
льва (что было лестно); перевоплощение в Росинанта меня
увлекало меньше. Мы не репетировали будущих кадров
(они омертвели бы до съемки), а входили в духовный мир
героев; создавали питательную среду ассоциаций;
пробовали — в наметке — средства выражения. Я знал
Черкасова множество лет. Совсем еще молодой человек — комик,
потешно плясавший на эстраде Пата, блистательно сыграл
старика Полежаева, затем кликушу царевича Алексея.
А потом повсюду запели куплеты его Паганеля: опять
новый характер, иной жанр.
Мне хотелось вернуть Николая Константиновича к
молодости: опыт исполнения царей и великих людей (сколько
он их сыграл!) в этом случае не мог пригодиться. Черкасов
по-детски доверял режиссеру. В фильмах Эйзенштейна он
безропотно принимал сложнейшие положения перед
камерой для воплощения пластических идей режиссера. Сразу
же он поверил и мне: все найденное им в свое время для
театрального Дон Кихота было позабыто. Даже
знаменитый черкасовский голос был переведен на другой, более
262
Глубокий экран
высокий регистр. Не колеблясь, Николай Константинович
отправился и в клетку нашего ленинградского земляка
льва Василия Цезаревича: дрессировщик Б. Эдер готовил
будущую сцену. Я шутил: диалог с таким партнером —
отдых для режиссера, внимание и собранность артиста
обеспечены.
В нелепой пародии на рыцаря мы хотели открыть
высокую человечность. В своих записках («Четвертый Дон
Кихот») Черкасов подробно описал наш труд.
Достигнуть черт гиперболичности образа было
непросто.
— Гротеск, шутка сказать! — воскликнул в свое время
Станиславский. На экране все становилось особенно
трудным: преувеличенное выглядело поддельным,
театральным. Гротескное обязано было быть неоспоримо
натуральным. Прежде всего это относилось к внешности
идальго. Черкасов в юности обладал прекрасными данными для
роли: играя рыцаря в ТЮЗе (это была незатейливая
буффонада), артист потешно обыгрывал свой рост и худобу.
Было это в незапамятные времена. В 1956 году Николай
Константинович мог бы подумать и о Фальстафе. Москвин
злился: идальго получался толстым. Ухищрения костюма
и грима не помогали.
На мое счастье, ассистенты отыскали для трюковых
съемок на дальних планах (скачки, драки) дублера. В.
Васильев обладал идеальной фигурой для образа. Оказалось,
что в прошлом он — цирковой комик. Я рискнул и на одной
из съемок подменил Черкасова спиной на общем плане
Васильевым: сразу же появились гротескные черты облика.
Васильев оказался талантливым мимом, отлично двигался.
Я осмелел: стал снимать его и лицом. А потом почти на
каждой съемке несколько кадров играл Васильев. В
монтаже я так перемешал исполнителей, что и сам перестал их
различать. Бой с бурдюками (и на крупных планах) играл
один только Васильев.
Озвучивал все, разумеется, Черкасов. Тайны из этого не
делалось. Николай Константинович в своих записках с
признательностью вспоминал труд и талант дублера.
О многом приходится думать кинематографическому
режиссеру. Иногда даже о том, чтобы голова артиста
академического театра срослась с туловищем клоуна.
Глава четвертая
263
Каждый фильм образует собственный мир: география
и история на экране лишь частично совпадают с
подлинными местами действия и исторической датой событий.
«Гамлета», вероятно, можно снимать во многих местах, замки
сохранились по всей Европе. Но вот одно место, на мой
взгляд, совершенно не подходит для этой трагедии:
реальный Эльсинор ничуть не напоминает шекспировский образ
замка.
Сама по себе натура, выбранная для съемок,— лишь
часть дела: вне кинематографического преображения
самые отличные места невыразительны на экране.
Натурализм в кино, как и в других искусствах, немощен.
Определить словами характер такого преображения сложно,
хотя для меня, пожалуй, именно слова значат больше
всего.
Ориентир я часто находил в литературе. Строчки,
казалось бы, вовсе лишенные зрительной определенности,
невозможные для пластического воспроизведения,
помогали мне найти тональность образа. Я ничего не смог
отыскать в изобразительных материалах, когда трудился
над «Шинелью» или «С. В. Д.», зато многим обязан стихам
Иннокентия Аненского:
Только камни нам дал чародей
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
От ощущения пустоты и холода, наполнявших эти
строчки, становилось трудно дышать. Образ сгущался,
приобретал определенность даже из одних отрицаний:
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки. ,88
«Дон Кихот», кажется, был моим первым фильмом
жаркого климата. Поэтому и нужен был цвет: рыжие,
сожженные солнцем пространства. Среди определений
пейзажа Испании, казавшихся точными, были стихи Пабло
Неруды:
264
Глубокий экран
Испания была сухой и напряженной:
бубен дня со смутным звуком,
равнина и орлиное гнездо,
тишина, исхлестанная непогодой.
Как я люблю — до слез —
Твою черствую землю...
Твое звериное одиночество,
твой ум, окруженный тишиной и камнем...
(Перевод Ильи Эренбурга) 189
Как не посочувствовать художнику, имеющему дело
с режиссером, который требует отыскать пейзаж,
напоминающий эхо удара в бубен. Все это Евгений Евгеньевич
Еней терпел от меня начиная с первой нашей картины.
Сколько стран создал этот прекрасный художник, сколько
городов выстроил. И только для того, чтобы на следующий
день после съемки все обращалось в щепки и прах. А на
экране именно его труд должен был остаться незаметным,
ведь возглас: «Посмотрите, какая хорошая декорация!» —
убивал фильм наповал. Еней смог добиться ощущения
подлинности многих достаточно нереальных сооружений;
он не занимался подделкой, копированием, он создал
декорацию из холмов, плоскогорий, моря, а не только из
деревянных щитов и штукатурки.
Изъездив множество мест, он остановился на крымском
поселке Планерское (Коктебель). Позади колхозных
виноградников в степи вырастала Ламанча: ветхая усадьба,
улочки, колокольня со шпилем. Это были странные здания,
у них была только передняя стена, позади, за изнанкой
деревянных щитов, торчали подпирающие балки. Двери
вели прямо в степь. Мы вырубали кустарник, выжигали
траву,— зеленый цвет был нашим врагом, красили поля
в нужные оттенки.
Подле фанерной Ламанчи расположился целый
городок. Борис Эдер воспитывал льва, женщина на белом коне
тренировалась брать барьеры. Но одного — важнейшего
участника фильма — все еще не было.
Мне придется прервать ход рассказа для несколько
легкомысленного отступления. Это будет вставная
новелла, «драма превратностей», как назывались такие истории
Глава четвертая
265
в старинные времена. Я хочу описать карьеру одной
«звезды». Боюсь, что, как и каждому пишущему о «звездах»,
мне не удастся миновать и ее личной жизни, сплетен.
Давно уже были утверждены главные исполнители,
шились костюмы, шли репетиции. Только на одну роль мы
не могли никого найти. Я отвергал все кандидатуры. Автор
прославил ее на века, мы не имели права на компромисс.
Одни претенденты не нравились мне фигурой, у других
отсутствовала грация, третьи не обладали обаянием.
Съемки приближались. Директор съемочной группы начал
разговаривать со мной сухим тоном: пора решать. Мы опять
рассматривали пробные фотографии, и опять я приходил
в отчаяние: разве можно было найти в таком облике
масштаб, высокую мысль? Куда там! Снижение, опошление
всего истинно прекрасного.
Самые опытные ассистенты опустили руки. Куда только
они не ездили, где только не искали. Видимо, режиссеру
нужно птичье молоко. За моей спиной началось
шушуканье: «сам не знает, чего хочет», «пусть поработает
гример, с нас хватит». Меня покинул сон. Все шло к дурной
развязке. Я был уверен, что без настоящего исполнителя
этого образа фильм получиться не может. Наступили
последние считанные дни.
Но все же судьба не отвернулась от нас. В самый
последний момент (уже была отправлена аппаратура в
экспедицию) пришла телеграмма Енея, строившего в Крыму
Ламанчу: «Найдено!»
Все произошло именно так, как описывается в книгах:
«звезду» открыли в скромной, будничной обстановке.
Ничто не предвещало ее будущего, славы, успеха на мировых
фестивалях, заработков.
Работники нашей группы ехали по Симферополю.
Администратор, дремавший в машине, проснулся от крика:
«Остановитесь! Стойте же!..»
Обычно спокойный и корректный Еней выпрыгнул из
машины, бегом помчался в переулок, куда сворачивала
тяжело груженная телега...
Индивидуальность, которую мы искали, была найдена.
Вкусу Енея я совершенно доверял. Началась переписка.
В ответ на приглашение пришла телеграмма. Документ
я привожу в подлинном виде:
266
Глубокий экран
«Орлик готов служить искусству тчк лучшего
Росинанта вам не найти председатель артели Ершов».
Так началась еще одна кинематографическая карьера.
Орлик сменил будни в симферопольской артели
«Строитель» на эфемерный мир экрана. Биографию Орлика,
к сожалению, не удалось узнать полностью, но, судя по
отрывистым сведениям, колесо фортуны в его жизни не раз
делало обороты в разные стороны. Белый чистокровный
араб оказался у немецких оккупантов, фашист-комендант
гарцевал на нем; потом крутой поворот — партизанский
командир стал его хозяином; затем наступили мирные
годы, он попал в упряжку: незаметный и скорбный труд
в похоронном бюро; потом (жестокая конкуренция
механизации) грузовики отбили у него работу, связанную с
лучшим миром; началась проза строительства, а затем, увы,
шли годы, опухли суставы, аллюр потерял резвость, ребра
вылезли наружу. Пошли простои и бюллетени...
Симферопольская артель с подозрительной легкостью соглашалась
расстаться с ним, а товарищ Ершов проявил, пожалуй, не
совсем бескорыстный интерес к воплощению образа
Сервантеса на экране. Боюсь, что, как это часто случается
в жизни, беспокоило выполнение плана, а не душа
работника. Еней отличил в этой душе сразу же и гордый
нрав и истинное (как ни укатывали крутые горки)
благородство.
Лучшие специалисты обследовали Орлика, применяя
все методы современной диагностики. Итог консилиума
был неутешителен: двадцать восемь лет, порок сердца,
эмфизема, ревматизм.
А какие подвиги предстояло ему совершить!
Трудность положения медицины заключалась и в том,
что жизненные силы Орлика нужно было укрепить, а
стройность фигуры он ни в коем случае не мог утратить. (Когда
он несколько прибавил в весе, я сам перед съемкой
подрисовал ему кисточкой тени между ребрами.)
Как-то мы снимали в Крыму на Ай-Петри. Ночью
разбушевалась гроза. Конюхи удрали в укрытие, а Орлик
порвал привязь, умчался в ночь: вблизи находился табун.
Били молнии, грохотал гром, а Орлик, выражаясь языком
древних, «познал кобылу».
Да, это был конь рыцаря.
Глава четвертая
267
Действующие лица расположились в сценарии по-
новому. Мы отказались от традиционного контраста
рыцаря и оруженосца. Санчо Панса был по-своему и мечтателем
и мудрецом. Толстый брюхом, но легкий на подъем, он
бросал хозяйство, пускался в неведомый путь. Разве
жадность гнала его из дома? Получая в оплату лишь побои, он
не оставил рыцаря. Потеха с губернаторством не
получилась: Санчо судил по всей мудрости народного понимания
добра и зла.
Рыцарь и оруженосец не походили друг на друга
внешностью и повадками, но какие-то стороны их
духовного существа были схожи.
Толубееву оказался близок и грубоватый юмор и
душевная простота. Нам хотелось совместить детскую память
о простаке на ослике и горечь мыслей о том, чем кончаются
на земле поиски справедливости.
По-иному нам представлялась и Альдонса. Ведь мечты
рыцаря при перемене угла зрения не выглядят нелепицей.
Как всякие мечты, они какой-то стороной соприкасаются
с жизнью. Нелепа мысль об оруженосце, но Кихано выбрал
по-своему умного и преданного крестьянина. И предметом
рыцарской любви стала не похабная девка (обычный
контраст Альдонсы — Дульцинеи), а милая и добрая
девушка. Студентка Института журналистики Л. Касьянова
казалась мне правдивой и поэтичной в этой роли.
Три образа сливались в своеобразное единство:
возвышенная мечта, смекалка и юмор, прелесть естественной
простоты. Тремя сторонами хотелось показать испанский
народ. Да и всякому народу присущи такие черты.
Бакалавр Караско, каким его написал Шварц и весело
и талантливо сыграл Вицин, был не только пройдохой, как
в книге, но и человеком своей идеи: все в мире было ему
ясно. Курс в Саламанке дал ответы на все. Ничего
сложного в жизни нет. Наука все открыла. «Настало новое время,
сеньоры! — проповедовал он окружающим.— Тысяча
шестьсот пятый год! Шутка сказать».
«Бакалавр! — отвечал ему в конце фильма идальго.—
Ваше благоразумие — убийственнее моего безумия».
Шварц не смог присутствовать на премьере фильма. Он
лежал тяжело больной. Я пришел его навестить.
268
Глубокий экран
— Я хочу написать сценарий,— приподнялся он с
постели.— Начало такое: ночная улица, тихо, прохожих нет.
Старый дом посмотрел на другой дом и сказал... Но
реплика дома у меня пока не получается.
Больше я Евгения Львовича уже не видел.
Мы начали постановку в период освоения широкого
экрана. «Одна» являлась первой звуковой картиной «Лен-
фильма», «Дон Кихот» — первой широкоэкранной. За
рубежом новый размер кадра становился средством
конкуренции с телевидением. Продюсеры взялись за Библию.
Внешний масштаб призван был отвлечь зрителей от
маленьких телевизионных экранов. В супербоевиках
показывали огромные сооружения, толпы статистов, табуны
коней; затраты поражали с первого же взгляда.
Все это меня ничуть не привлекало. Роскошь
постановки казалась мне убогой и на обычном формате. Новый
размер меня прельщал для целей, казалось бы, странных,
применимо к широте кадра. Я хотел подчеркнуть пустоту,
одиночество мудрого безумца.
Пустота, как представлялось мне, имела как бы два
полюса: степи и холмы, выжженные солнцем, безлюдие
Ламанчи, две фигурки — одна на коне, другая на осле;
карета, проезжающая в облаке пыли; цепочка
каторжников; оазис постоялого двора — и холодная, злая пустота
герцогского двора: монастырские стены, придворные в
черном, совершающие в заведенный час механический
церемониал. В ледяное пространство чопорных отношений и
догматических представлений попадает добрый безумец,
ищущий справедливости.
Это был мой первый цветной фильм. Меня привлекали
выгоревшие, бесцветные тона начала; рыжий,
раскаленный простор Кастилии; герцогский двор — черно-белое
кино в цветной картине. Только два цветных удара должны
были нарушать тональность: красный наряд шута и
ярко-желтый авантюристки Альтисидоры — зачинщиков
потехи, похожей и на театральное представление, и на
обряд казни.
Я уже писал, что «испанский колорит» меня ничуть не
прельщал. Однако черты испанского характера были
необходимы: общечеловеческое искусство всегда прежде
Глава четвертая
2Ç9
всего национальное. Разве мог быть Фальстаф — немцем,
Швейк — испанцем, Дон Кихот — шведом?
Знакомство с книгами и картинами — даже
основательное — не могло заменить живого представления. Мне
нужна была какая-то особая консультация. Однако как
определить ее область? Подсказывание деталей быта? Как
раз их и не хотелось показывать на экране. Может быть,
артистов следовало обучать специальным жестам и
манерам? Еще того хуже, все это и будет «клюквой», чуждой
исполнителям.
Мне был необходим консультант «по духу», а если не
бояться устарелого выражения, то «по душе» Испании.
Попробуй, отыщи такого!
В доме Эренбурга я увидел натюрморт: на некрашеном
столе — тарелка с селедкой, несколько головок чеснока.
Мгновенно можно было отличить испанца, настолько
аскетичной и одновременно духовной была живопись.
Оказалось, что он живет в Москве.
Я блуждал по бесконечным одинаковым улицам и
дворам Новых Черемушек. «Не знаете ли вы,— расспрашивал
я прохожих,— где живет товарищ Санчес?..» Такой
фамилии никто не знал; адрес оказался неправильным. Ребята,
игравшие во дворе, потребовали подробностей.
— Испанский художник?.. Альберто! — немедленно
раздался общий восторженный крик.
Потом я узнал, что по имени его называли не только
московские ребята.
«Мы все звали его Альберто, никто почти не помнил его
фамилии,— написал в предисловии к монографии о нем
Пабло Пикассо. — Альберто — только так, попросту,
этого было достаточно, ведь был только один Альберто». ,90
Я позвонил. Дверь открыл Дон Кихот. Это был он,
живой и подлинный. Его нельзя было не узнать сразу же.
И его прекрасную испанскую гордость, благородство души,
восторженную мечтательность. И это красноречие,
щедрые широкие жесты, пылкие восклицания, глаза то
поднятые к небу, то закрытые при какой-то особенно
важной мысли. И преданность идеалу, при совершенном
пренебрежении мелочными, пустяковыми заботами.
Каждый сарай был для рыцаря замком. Я попал не
в крохотную квартирку(комната и кухня) в Новых Чере-
270
Глубокий экран
мушках, а во дворец чудес. Чего только не было на
четырнадцати метрах жилплощади! Сидели на балконе с
чугунными перилами закутанные в шали сеньориты,
кастильские крестьянки несли кувшины на головах, изогнувшийся
тореро пропускал мимо бедра быка, проклятый дракон
Франко смотрел на Испанию мертвыми глазами. Здесь
была испанская земля, раскаленное солнце, белые селения.
Все это Альберто написал не только на холсте и бумаге,
но и на каждой из кафельных плиток, покрывавших стены
маленькой кухни. В его живописи сочетался реализм
(поразительный по совершенной точности деталей) и детская,
народная фантазия.
Его скульптуры (я увидел их позже) напоминали
зверей, птиц, сухие растения. Это было не изображение
природы, а как бы сама природа: новые ее виды, возникшие
в естественном скрещении пород. Современное
художественное мышление сочеталось с простотой и силой
древних скульптур Иберии. «В противоположность
истерзанному городскому миру, который я воспроизвел позже в
картинах, изображающих нищенские кварталы Мадрида,
свободные поля Вальекаса наполняли меня радостью,— писал
о своем искусстве Альберто.— Хотелось, чтобы каждый на
земле почувствовал эту радость, которую я получал от
созерцания свободной природы. Поэтому я считал
революционным то искусство, что ищет жизнь». ,91
В 1937 году на Всемирной выставке в Париже в
испанском павильоне (где висела «Герника» Пикассо) стояла
скульптура Альберто «У испанского народа есть путь,
ведущий его к звезде». Она была высотой в двенадцать
с половиной метров.
У него была та глубина душевного покоя, которую
редко встретишь у художника наших дней. Он даже не
признавал трагического искусства; «Подлинное,— сказал
он мне,— должно быть полно жизненной радости, мудрого
спокойствия и ясности».
Когда я впервые пришел к нему, он клеил макет
жилища испанской крестьянки со всеми деталями обстановки —
подарок Долорес Ибаррури ко дню рождения. Мельчайшие
предметы он воспроизводил по памяти. Он жил памятью.
Писал подмосковный пейзаж, а выходила Кастилия; ни
слова по-русски он так и не смог выучить.
Глава четвертая
271
Он и по-испански научился читать только в пятнадцать
лет. Художником он стал в тридцать, до этого был
свинопасом, пекарем, кузнецом, сапожником, штукатуром.
Альберто вместе с женой — доброй и благородной
Кларой — приехал в Ленинград. Он написал для фильма
несколько эскизов (материал для выбора мест съемки);
Еней и Альтман (Альтман занимался костюмами) подолгу
советовались с ним; мы смотрели вместе пробы артистов.
Альберто танцевал и пел испанские песни (лучший наш
гитарист Сорокин взмок от усилий: найти тональность
для пения было невозможно). Эскизы были хорошими,
советы ценными, песни красивыми. Но главным было иное:
он сам, Альберто. Общаясь с ним, я узнал про Испанию
то, что не узнаешь из книг, что нельзя рассказать словами.
Оказывается, консультант «по душе» все-таки может
быть.
Кроме «души», разумеется, существует и «тело»
фильма. Добрые глаза следили за тем, чтобы все на экране
выглядело должным образом. Начну с типажа. Даже
придирчивые испанские критики хвалили «Дон Кихота» за
подбор лиц, похожих на испанские.
В съемках участвовал театр «Ромэн»: цыгане
напоминали испанцев; но лица, о которых шла речь, не были
цыганскими. Тридцать человек — отдельная группа,
жившая коммуной в Крыму,— приехали к нам; они наполнили
жизнью сцены губернаторства Санчо Панса, они
снимались в фильме на многих крупных планах. У них было
особое отношение к «Дон Кихоту». Они не допустили бы ни
малейшей оплошности. Пожилые, серьезные люди
старательно учили крымских мальчишек играть в «корриду», как
ведет быка тореро и как, наклонив рога, бежит бык, и как
нужно кричать «Оле!» (несколько секунд на экране); они
стригли мулов и сооружали седла ослам... Чего только они
не делали!
Как-то во время перерыва участники съемки загорали
во дворе студии. Я обратил внимание на женщину: она
сняла кофточку, ее руки и плечи покрывали огромные
рубцы.
— Ее везли по городу, привязанную к спине осла,—
сказал мне один из этих людей,— и били, а потом бросили
на свалку, решив, что она умерла.
272
Глубокий экран
Тип их лиц действительно напоминал испанский. Это
были испанские революционеры, эмигранты, спасшиеся из
застенков фалангистов. ,92
Пророки и клоуны
В мае 1957 года «Дон Кихот» должен был быть показан
на кинофестивале в Канне.
Международные соревнования фильмов были мне пока
известны только по первому советскому кинофестивалю
1935 года. Приезжих было тогда сравнительно немного.
Приятно было повстречаться в Москве с Жаном Ренуаром,
увидеть новые работы Кинга Видора и Рене Клера. Андре
Дебри — на его аппаратуре все мы снимали — был вместе
с Пудовкиным, Эйзенштейном и Шумяцким в составе
жюри.
На банкете Довженко произносил вдохновенные речи
о воспитательной роли экрана, а сосед по столу,
внимательно выслушав Александра Петровича, утверждал, что
сделка с фирмой, которую он представляет, особенно выгодна:
пленку возможно закупить со льготами, получить кредиты.
Эйзенштейн шутил на трех языках, приезжие удивляли
москвичей непривычными для нашего обихода вечерними
туалетами. Премии получили «Ленфильм» (за «Чапаева»,
«Юность Максима» и «Крестьян»), «Последний
миллиардер» Рене Клера, Уолт Дисней.
Наша делегация уже была в Канне, я вылетел один.
Впервые после многих лет мне предстояло побывать за
границей. Самолет задержался из-за нелетной погоды
в Варшаве, изменил курс — где-то сгустился туман,
аэродромы не принимали. В Брюсселе пришлось пересесть на
самолет другой компании. Огни посадочной площадки
Орли показались значительно позже расписания. Меня
никто не встретил.
Водитель такси включил счетчик. На пустынных улицах
нескончаемой очередью стояли машины, оставленные у
тротуара. Не было людей, и нельзя было заметить
просветов между автомобилями: модели новые и давно
устаревшие, дорогие и малолитражки стояли впритык,
радиатор упирался в багажник следующей. Стада «фордов»,
Глава четвертая
273
«ситроенов», «кадиллаков», «рено», «бьюиков»,
«мерседесов» устроили привал на бульварах, окружили площади,
захватили Париж. Не было конца и края этому сонному
царству машин, как будто разом по всем предместьям
и округам рванулись по сигналу тормоза, мгновенно
заглохли тысячи моторов. Все то, что по самой своей природе
связано с движением, стало. Ни одна машина не
осмелилась нарушить запрета. Только такси, в котором я ехал,
единственное исключение, подтверждающее правило,
везло меня мимо табунов недвижимых машин, уткнувшихся
в кафе, замерших, завернув в подворотни.
Картина, проходившая перед глазами, которую я,
несомненно, никогда не видел (не мог видеть!) в
действительности — огромный, совершенно замерший город,—
показалась мне чем-то знакомой. Смотря из окон такси, я не
только удивлялся, но и узнавал. Где же я мог видеть все
это? Разве я когда-нибудь путешествовал ло таким
местам?..
Да, конечно же, все это я уже видел.
Мне вспомнился первый приезд в Париж много лет
назад. И не реальный Париж пришел мне на память, а его
образ, который я увидел тогда на экране. Это тогда,
десятилетия назад, молодой Рене Клер, озорничая
кинотрюками, мгновенно умертвил движение, остановил жизнь
города в фильме «Париж уснул». Тогда это казалось веселыми
кадрами, шуткой, мелькнувшей на экране,— теперь стало
реальностью. Ничего веселого не заключалось в
необозримом скопище машин на гигантском пространстве
вымершего города.
Стендаль описал романиста как человека с зеркалом,
странствующего по дорогам. ,93 И кинематографист тащит
это зеркало — глаз объектива. Включается мотор. Через
годы и страны бежит по лентопротяжному механизму
кинокамеры перфорированная целлулоидная лента. Что
только не отражает ее светочувствительный слой —
зеркало, вырастающее в экран.
И какие бывают странные связи между отражением
и реальностью. Случается так, что сперва возникает
отражение, а потом — через множество лет — становится
отчетливым в жизни и то, что отразилось. Отражение здания,
уже построенного (а то и уже разрушенного!), может
274
Глубокий экран
появиться в зеркале искусства, когда в жизни только
закладывают фундамент этой постройки. Все бывает.
Не думаю, чтобы в 1923 году Рене Клера занимало
отношение машинного производства и духовной жизни
общества. Пророчеством он тогда не занимался;
занимался он своим делом — искусством. А чего только не
примешивается к этому делу.
Утром я вылетел из Парижа.
В Канн я приехал еще раз, через три года, как член
жюри. Жорж Сименон тогда был нашим председателем,
моим соседом по столу был Генри Миллер — автор
«Тропика Рака».
Фестиваль 1960 года был примечателен грандиозными
скандалами. К ним, видимо, готовились заранее: зрители
принесли в сумочках и карманах смокингов полицейские
свистки, хотелось не просто пошуметь, показать свое
неодобрение, а оглушить, затюкать, устроить такой провал,
чтобы и оправиться нельзя было. Общественное мнение
Канна решило заявить о себе во весь голос. Уничтожению
подлежали двое: Микеланджело Антониони и Федерико
Феллини. Свистом и улюлюканием закончились просмотры
«Приключения» и «Сладкой жизни».
Какое удовольствие доставило мне поднять руку за
призы для этих фильмов.
На глазах Джульетты Мазины были слезы. Я видел ее
не на экране, снятую крупным планом, а на балконе
зрительного зала, она стояла возле ложи жюри и плакала, не
согласно роли, а просто по житейским обстоятельствам,
как горюет каждая женщина, когда, по ее мнению
несправедливо, оскорбляют близкого человека. А вокруг топали
ногами, шикали, выкрикивали оскорбительные слова. Под
кошачий концерт раскланивался на сцене плотный человек
с невеселым взглядом темных глаз. Вызывающе улыбаясь,
глядя на осатанелых зрителей с выражением, как
говорится по-русски, «накося выкупи», он отвешивал
иронические поклоны и прижимал к груди Пальмовую ветвь 13-го
каннского кинофестиваля. ,94
На моих глазах в Канне происходил особый бунт:
материал восстал против автора. По словам самого
Феллини, он начал задумывать «Сладкую жизнь» именно здесь,
Глава четвертая
275
на кинофестивалях. ,95 Теперь люди в зале, похожие, как
родные братья, на людей на экране, вопили: «Непохоже!
Нас оскорбляют...» Однако Феллини был менее всего
разоблачителем. За невеселыми пороками и глупыми
сенсациями ему чудилась возможность иной жизни. Искренность
автора являлась очевидной: речь шла не только о других,
но прежде всего о себе. Он не обличал, скорее
исповедовался.
Необходимо оговориться, что понятие исповеди в
современном мире стало уж очень обширным. Поэты
самовыражаются в стотысячных тиражах. Простая женщина
заходит в деревянную будку исповедальни, за ней деловитый
священник с портфелем под мышкой, похожий на
банковского клерка или адвоката, на несколько минут занавеска
задергивается — грехи отпущены. Живописец в
истерическом припадке швыряет краски на холст,— это тоже
относится к искренним признаниям. Одни из художников
жаждут исповедоваться на площади, рыдая и разрывая на
груди рубаху, другие предпочитают запутанные символы,
понятные лишь избранным.
Интонация исповеди Феллини ни на что не походила:
ужас перед грядущей катастрофой сменялся ухватками
профессора черной и белой магии; после задушевных слов
следовало нагромождение аллегорий, в которых сам черт
сломает ногу. В окошке исповедальни появлялось то лицо
человека, охваченного отчаянием, то гримасничающая
клоунская рожа.
Уже в конце прошлого столетия с гримасами случилось
нечто странное, несвойственное клоунаде. Критики,
писавшие об эксцентриках, заметили какую-то зловещую
черту, появившуюся в их оглушительно веселых
представлениях. Кажется, первым отметил такую черту Эмиль
Золя, разбирая игру знаменитых комиков братьев Ганлон
Ли. ,9*
Все это касалось не только небольшого пространства
цирковой арены или подмостков варьете. С Гоголя и
Достоевского стали гулять в большом искусстве особые
сочетания. Религиозные образы смешивались с шутовством,
пародия с глубиной философии. Подле Ивана Карамазова
оказался Смердяков, возле Ставрогина — капитан Лебяд-
276
Глубокий экран
кин. Над императорской столицей уже давно вырос нос,
наряженный в мундир, шитый золотом, и шляпу с
плюмажем, а майор, у которого этот нос сбежал с лица, никак не
мог его урезонить: нос и майор оказались в разных чинах.
Именно этого человека, майора Ковалева, Белинский
считал одной из самых жизненных, типических фигур в лите-
I 97
ратуре.
Фраза, начатая в комической интонации, могла
закончиться патетикой, даже слезами.
Все это появилось, разумеется, не на пустом месте.
Достоевский сам упоминал Фальстафа и принца Галя,
восхищался Сервантесом. Корни были еще более
глубокими. М. Бахтин — один из самых интересных
исследователей Достоевского— показал карнавальные и мистериаль-
ные мотивы в структуре его романов.
Какие только обобщения и переходы не появлялись
в искусстве нашего века! У Александра Блока
красноармейский отряд возглавлял Иисус Христос; Маяковский
назвал свою пьесу «Мистерия-буфф»; через десятилетия
проходили у Пикассо во все более причудливых связях
минотавр, клоун, замученная лошадь. Почти физически
ощутимая боль, страдание, гнев превращались в
симфониях Шостаковича в гротескные скерцо или пародийные
пасторали; материалом композитора мог быть и
пошлейший романс и какая-нибудь затрепанная полька. Я
вспоминаю, с каким удовольствием Дмитрий Дмитриевич
развивал в симфоническую тему песенку «цыпленок жареный»,
сочиняя музыку для одного из наших фильмов.
Новое содержание иногда вызывало опять к жизни
художественные формы и виды, считавшиеся давно
отжившими свой век, вульгарными, неспособными
сколько-нибудь серьезно выразить действительность. Теперь эти виды
и формы приобретали иной масштаб и смысл. Среди
формообразований современной кинематографии особое место
занимают картины Феллини. На экране начались ни на что
не похожие зрелища. Сам итальянский режиссер в одном
из интервью очертил границы своей образности. Говоря
о возможности постановки в США, он сказал, что Нью-
Йорк представляется ему отличной съемочной площадкой
для излюбленного им вида картин: «что-то среднее между
кладбищем и мюзик-холлом». 200
Глава четвертая
277
В таком пространстве он и качался на трапеции,
насвистывал цирковой галоп, провожая дорогих
покойников, и жонглировал цветными мячиками, поглядывая на
могилы.
Следует добавить, что площадь кладбища захватывала
многое из того, что он несомненно любил, а цирк был мно-
гоаренным: такая труппа и такой зверинец не снились
и Барнуму.
В конце монографии о Феллини, изданной Британским
киноинститутом, восстановлен послужной список
режиссера. В кино Феллини пришел в 1939 году. Первая его
специальность — гэгмен — выдумщик трюков, пожалуй,
так можно было бы перевести это слово. Однако гэг —
особое понятие. По английскому словарю это не только
актерская отсебятина, комический трюк, вызывающий
смех, но и кляп, которым заткнут рот. Все эти оттенки
и заключены в едином понятии. Речь идет о комедийном
положении, опрокидывающем логику, невозможном в
реальности и одновременно неопровержимо реальном на
экране.
Отрицая жизненный смысл, гэг по-своему неоспоримо
осмыслен. На гэгах были основаны немые комические
Мака Сеннетта. У Бена Тюрпена —одного из премьеров
Сеннетта — косили глаза. На экране в его ферме гуляла
косоглазая корова, и фары его автомобиля тоже косили.
Бандиты ворвались в салун. Команду «руки вверх!»
выполнили не только посетители, но и часы над стойкой: их
стрелки переместились с половины шестого на без десяти
час.
В этих маленьких лентах вещи приобрели осмысленную
жизнь, они совершали по-своему разумные поступки.
Одновременно люди были лишены разума.
Чего только не случалось в комических! Из пушки
стреляли по какой-то цели, но снаряд выбирал мишенью
одного человека и летел прямо в него. Человек бежал от
снаряда, но тот преследовал его по пятам. Человек
сворачивал в переулок, и снаряд, изменив траекторию полета, не
отставал. Человек бросался с берега в море, и снаряд вслед
за ним нырял в воду.
В другой ленте, когда фотограф, приготовившись
снимать семейство, произносил, чтобы занять ребенка, обыч-
278
Глубокий экран
ную фразу: «Смотри в объектив. Сейчас вылетит птичка!»,
отец-охотник бросался к стене, схватывал висевшее ружье
и открывал стрельбу по фотокамере.
Гэгом становились отношения, вывернутые наизнанку,
перемещенные причина и следствие, вещь, использованная
вопреки своему назначению, человек, приравненный к
предмету. Реальность оборачивалась метафорой,
метафора превращалась в действительность. Это был кляп,
которым затыкали глотку логике.
Феллини проработал гэгменом на нескольких картинах,
затем стал одним из сценаристов (пока еще не основным),
ассистентом режиссера, потом, видимо, смог придумать
столько гэгов, что их с излишком хватило на целый свой
фильм. Это случилось почти через тринадцать лет.
Пришла война, фашизм, мир изменился до
неузнаваемости. Можно ли было увидеть хотя бы отзвуки событий
в «Белом шейхе» (1952)? На первый взгляд фильм не имел
отношения к действительности. Фабула основывалась на
нехитрой пародии на кинематографический быт:
провинциалка, влюбленная по фотографиям в актера из фильма
«Белый шейх», попала в столицу, на съемки. Белый шейх
оказался глупым и пошлым комедиантом с ревнивой
женой, а быт кино — бестолковой и нудной работой. Но
Феллини снял карикатуру не только на съемки, но и на
жизнь. Обыватели, похожие то на манекенов, то на
умалишенных, казались еще более шаржированными, нежели
герои экрана. Гэги определили не только потешные
положения, но и весь ход фильма: город стал подмостками для
бурлеска в духе братьев Маркс. Под бравурные мотивы
Нино Рота (он стал постоянным композитором Феллини)
переход границ между действительностью, сном и
безумием совершался легко.
Сквозь бессмыслицу гэгов стала просвечивать
бессмысленность жизненного порядка. Полицейские управления,
погребенные под горами запутанных документов, тупые
обывательские семьи, сумасшедшие дома, куда попадают
нормальные люди, а психиатры не отличаются от
сумасшедших... Уже в этом, первом самостоятельном
фильме Феллини показал свою страсть к устройству
церемонных шествий и процессий в случаях, ничуть не подходящих
для торжеств. Из бедлама выходил целый парад: торжест-
Глава четвертая
279
венно везли клетку сложной конструкции, за решетками
уютно дымил сигарой виновник торжества — особенно
опасный сумасшедший.
В труппе Феллини уже нашелся потешный эксцентрик:
на окраинную улицу (без всякой связи с сюжетом)
выходила, пританцовывая чарльстон, маленькая проститутка.
Ночь напролет она готова глядеть, как местный
балаганщик глотает керосин и извергает изо рта огненные
фонтаны. Ее звали — Кабирия, скоро она займет центральную
арену цирка Феллини.
И тогда станет видным не только мюзик-холл, но
и кладбище.
В «Дороге» и «Ночах Кабирии» разговор о жизни
пошел совсем иной. На экране показались неравенство,
униженность, бесправие, духовное опустошение. Жестокий
свет вырвал из тьмы глухие стены домов окраинных улиц,
безрадостные, обезображенные лица. Но мрак
существования смягчен тенью надежды, отблеском милосердия. Зверь
Дзампано, плачущий после смерти замученной им дурочки,
еле заметная улыбка на губах всеми обманутой
проститутки Кабирии появились в кадрах Феллини как звенья
той «всесвязующей цепи», без поисков которой, по
словам Достоевского, не могло бы существовать
человечество.
Мотив очищения страданием отчетлив, но отчетлива
и балаганная эксцентрическая природа некоторых сцен
и образов. Режиссер по-своему загримировал блаженную
дурочку Джельсомину: у нее набеленное клоунское лицо
и грубо обведенные черным глаза. Клоуны, фокусники,
зазывалы врывались в действие, давали всему свой ритм
и тон.
Религиозная тема получила особое обличье.
Вспоминается старинное предание о жонглере, принесшем в дар
Мадонне все, чем он обладал: свое ремесло. Нищий
комедиант смиренно кувыркался и подбрасывал шарики у
статуи святой девы, вкладывая в работу всю свою
простодушную веру. Но наивность народных святых и
бесхитростного ремесла жонглера давно исчезла. На Всемирной
Брюссельской выставке в павильоне Ватикана показывали
скульптуру Христа из консервных банок, а в Музее
современного искусства Гугенгеймов в Нью-Йорке можно уви-
280
Глубокий экран
деть распятие, трактованное как свежевание мяса. Какие
дары может принести таким святым жонглер наших дней?
Кинематографисты Европы, задумывающиеся над
судьбой веры, любят балаганные персонажи и положения.
В «Седьмой печати» Ингмара Бергмана легенда о рыцаре,
играющем в шахматы со смертью, сопровождается
историей бродячего скомороха. В его же фильме «Лицо»
шведские обыватели прошлого века понимают, на опыте
отношений с заезжим престидижитатором, что с судьбой
шутки плохи. Клоун — частый гость на экране Бергмана.
Искусство, приносящее радость людям, появляется в
современной, часто безрадостной и жестокой образности
именно в таком обличье.
В какие только ракурсы не ставит религиозную тему
Бюнюэль. Классическая планировка «Тайной вечери»
использована в «Виридиане» для оргии бродяг, решивших
под конец пирушки изнасиловать ту самую монахиню,
которая полюбила их сестринской любовью. Типы Гойи
вдвинуты в полотно Леонардо да Винчи. Что это —
пародия или балаган, устроенный в храме?
В «Сладкой жизни» Феллини придумал гэг с Христом
Спасителем, парящим над Римом. Статую, подвязанную на
тросах, перевозит вертолет; в кабине репортер и фотограф
из бульварной газеты перемигиваются с неба с девицами,
загорающими на крыше небоскреба.
Мне хотелось бы задуматься над постоянством и
последовательностью больших художников, с какими они
разрабатывают свои излюбленные положения.
Если теперь посмотреть первые ленты Чарли Чаплина,
то трудно не поразиться сходству клоунад, снятых еще на
заре кино, с его зрелыми работами. Одинаковые мотивы
развивались, проходили через десятилетия. Трюк
доводился до философского обобщения, нелепая потасовка
становилась трагикомедией. В старой комической
«Удовольствия дня» немного смысла: семейство отправлялось
на автомобиле к пристани, чтобы провести на пароходе
воскресный отдых. Комизм возникал лишь от
единственного положения: неустойчивости. От поворотов заводной
ручки автомобиль сотрясался, #люди не могли в нем
усидеть. Наконец, мотор заработал, машину начало трясти,
Глава четвертая
281
тряслись люди в кузове, все вибрировало, дрожь
усиливалась, всеми овладевала какая-то пляска святого Витта.
Разваливающийся от тряски автомобиль сменялся
шатающейся палубой. Пассажиров швыряло из стороны
в сторону, никто не был в состоянии удержать равновесие.
Качка выматывала душу, выворачивала внутренности,
люди чудом не летели за борт.
В другой комической Чарли не мог попасть в ритм
движения эскалатора: он топтался на месте, напрягал все
усилия, чтобы удержаться на убегающих из-под ног
ступеньках.
Мотив уходящей из-под ног земли, скольжения, качки
существует во многих его лентах. В «Золотой лихорадке»
качнулся дом, где устроились золотоискатели. Оказалось,
что жилище висело над пропастью. Его удерживала
прогнившая веревка. Комната качалась, падала набок, люди
валились, кувыркались, им не за что было уцепиться.
Удержаться было нельзя. Земли под ногами не было.
А землей — глобусом — в «Диктаторе» играл как
мячом сумасшедший: он подкидывал земной шар и ловил,
отбивал его своим задом, крутил на пальце.
Уже в «Белом шейхе» Феллини одолевает образ
одиноких качелей. Любимый артист предстает перед
провинциалкой качающимся на качелях на головокружительной
высоте. Как удалось их привязать к верхушкам деревьев?
И почему в фарсе нужен сказочный образ человека в
атласных одеждах, раскачивающегося под самым небом?
Вероятно, чтобы потом показать его на земле обрюзгшим
мужчиной в дешевом маскарадном наряде.
Качели взлетят над гигантским плакатом, где
изображена Анита Экберг с полуобнаженным бюстом
(«Искушение святого Антония») — не то прозаическая реклама
молока, не то вавилонская блудница, идол похоти. Они
закачаются над сказочным лесом детства («Джульетта
и духи»). Качели будут различными: цирковой трапецией
и великолепно разукрашенной скамейкой.
Мне чудятся эти же качели — взлет под небо и
падение — и в рассказе режиссера о своих работах: кладбище
и мюзик-холл, о которых я уже упоминал, «нечто среднее
между бессвязным психоаналитическим сеансом и
беспорядочным судом над собственной совестью» (8'/г)· 202
282
Глубокий экран
Прошлое художников оживает на экране. Многое
можно понять в искусстве Ингмара Бергмана, узнав, что он сын
пастора, выросший в строгости религиозного послушания.
Феллини в интервью по Бельгийскому телевидению
рассказал о своем детстве: средневековая дисциплина в духовной
школе, наказания — стоять на коленях на рассыпанных на
полу бобах, длинные темные коридоры, мерцание
маленькой тусклой лампы, бормотание дежурного наставника,
«атмосфера похорон».
Однако рассказал все это не скандинавский художник,
а Феллини, и, говоря о священниках — своих учителях,—
он добавляет: «Они принадлежали к ордену «Чистейших»
и носили маленький белый воротничок, именно такой я
надел Аните Экберг в «Сладкой жизни». 203
Восьмилетнему Федерико однажды удалось удрать из
школы. На городской площади он увидел цирк-шапито.
Мальчик пробрался внутрь: качалась трапеция,
прекрасная девочка зашивала на себе трико, старый клоун
дрессировал зебру. Во всем было для него что-то родное.
Каким же представляется самому Феллини его экран?
Помесь истинного волшебника и мюзик-холльного
фокусника — раскачивается он между полюсами — уличного
зазывалы, продающего галстуки, и священника на
кафедре.
Началу такого карнавала предшествовал в
итальянском кино мировой успех картин, сила которых состояла
в совершенной обыденности людей — их облика и
характеров, бедности их платьев, скудности обстановки их жизни.
«Похитители велосипедов», «Рим, 11 часов», «Два гроша
надежды» открыли мир послевоенной Италии, еще не
показанные в кино конфликты, характеры, пейзажи.
Прекрасные художники Чезаре Дзаваттини, Роберто Россел-
лини, ДеСика и целая школа
кинематографистов-режиссеров, писателей, актеров оказали влияние на кино многих
стран. Вклад неореализма был значителен.
А затем случилось так, как, к сожалению, часто
бывает. Место, где нашлось золото, разбили на участки,
образовались компании, выработалась технология, в дело
пошли машины. А золота больше не было. Шла пустая
порода.
Глава четвертая
283
Реальность, подлинная жизнь, открытая новаторами,
подменилась у эпигонов способом обработки: стилизацией.
Тут, пожалуй, нашлось что-то новое. До этого умели
стилизовать кадры под гравюры XVIII столетия, под «конец
века» или под экспрессионистов, теперь научились
стилизовать «под правду». Обшарпанные стенки, кухня,
проходные комнаты, белье, развешенное на веревке, оказались по-
своему выигрышной декорацией, безработица — удобная
завязка фабулы; пошли сентиментальные истории
бедняков, помогающих друг другу, красоток-бесприданниц,
лишенных возможности поспать с любимым из-за жилищного
кризиса. И стали сходить с конвейера добренькие
характеры, незлобивый юмор, тихие переборы гитары, простенькая
песня — лейтмотив фильма. Жизненное выродилось в жиз-
неподобное, характеры — в амплуа, способ открыть
действительность превратился в штамп, чуждый жизни.
Жизнь за эти годы стала иной, образовались новые, более
непримиримые противоречия, извилистые переходы,
неожиданные тупики. Все усложнилось, запуталось.
И тогда из мешанины идей и путаницы чувств Европы
середины века выскочили на экран маски Феллини,
забушевал мюзик-холл его призраков. Полностью
представление было показано в «8 72», но отдельные гэги были готовы
уже давно.
В искусстве самых смелых новаторов, в их, казалось бы,
ни на что не похожей образности часто находишь
продолжение труда других художников. То, что пробовали
когда-то одни, вдруг оживает у других, загорается новыми
красками, набирает силу. Дело, конечно, не в
заимствовании. Нередко продолжатель и не слышал ничего о человеке,
мысли и чувства которого он подхватил, продолжил по-
своему. Многое заключено в самом воздухе времени; зреют
процессы, не чувствовать которые может только человек со
слоновьей кожей.
Бездумная простота существования, незыблемость
мира, созданного коммерческой кинематографией,
убеждавшей зрителя в том, что ровно ничего сложного в
действительности нет, разрушена уже многими
кинематографистами. Мысли о жизни стали на экране сложными, полными
тревоги. Тревожную мысль стали пробовать выразить и
даже изобразить в кино во всей ее непосредственности.
284 Глубокий экран
Драматургия событий постепенно заменялась
прерывистым ходом воспоминаний, связью ассоциаций. Появились
«Гражданин Кейн» Орсона Уэллеса, «Рашамон» Акиры
Куросавы, «Земляничная поляна» Ингмара Бергмана,
наконец, фильмы Алена Рене.
До всех этих режиссеров над тем же думал Эйзенштейн,
работая над сценарием «Американской трагедии» по
Драйзеру. Он первым хотел сделать «внутренний монолог»
структурой фильма. И он был первым, кто сразу же связал
такие опыты с литературой, казалось бы, по самому ее
существу не имеющей ничего общего с действенным
зрелищным искусством.
«Только киностихии доступно ухватить представление
полного хода мыслей взволнованного человека,— писал
Сергей Михайлович.— Или уж если литературе, то только
литературе, вышедшей за пределы своих ортодоксальных
ограничений... Недаром, встретившись со мной в Париже,
Джонс так интенсивно интересовался моими планами в
отношении «внутреннего киномонолога» гораздо более
необъятных возможностей, чем литературный... Ибо только
тонфильм способен реконструировать все фазы и всю
специфику хода мысли». 204
В 1932 году Эйзенштейн писал, вспоминая замысел
сценария «Американской трагедии»:
«Что это были за чудные наброски монтажных листов!
Как мысль, они то шли зрительными образами, со
звуком, синхронным или асинхронным,
то как звучания, бесформенные или звукообразные:
предметно-изобразительными звуками...
то вдруг чеканкой интеллектуально формулируемых
слов — «интеллектуально» и бесстрастно так и
произносимых, с черной пленкой, бегущей безобразной зрительно-
сти...
то страстной бессвязной речью, одними
существительными или одними глаголами; то междометиями, с
зигзагами беспредметных фигур, синхронно мчащихся с ними...
то бежали зрительные образы при полной тишине,
то включались полифонией звуки,
то полифонией образы». 205
Подумать только, что об Эйзенштейне приходится
иногда слышать, что его кинематография — вчерашний день,
Глава четвертая
285
немое кино! А я думаю, что многие из его мыслей будут
осуществлены лишь завтра.
В последних своих фильмах Феллини разрушил
решительнее других режиссеров драматургию
последовательных событий, заменил сценарий импровизацией, сдвинул со
своих мест и перемешал настоящее и прошлое,
существующее и выдуманное. Он последовательно вытеснил многих
героев одним-единственным — самим автором.
Однако было обстоятельство, придавшее всему особый
характер. Дело в том, что автор — бывший гэгмен. Кстати,
мне хотелось бы привести еще одно определение гэга: по
словарям сленга — это и обман, мистификация.
По-видимому, и критики и сам режиссер, говорящие
о значении психоанализа в его картинах, правы. Я не
берусь во всем этом разбираться. К этому автору я
пристрастен, искусство его я люблю за совсем другие свойства.
Черты, о которых пойдет речь, казалось бы, глубоко
национальны. Однако подобные им были и в нашем
искусстве. Образы легко переходят границы государств; узнать,
откуда они родом, не всегда бывает легко. Феллини, как
мне кажется, вероятно, об этом и не думая, продолжил
старинные традиции. И даже его борьба с неореализмом
заставляет вспомнить давние дела — эстетический спор
двухсотлетней давности.
Исторические параллели всегда относительны: время
идет, характер конфликтов меняется, но иногда антагонизм
тех же явлений открывается и в других эпохах.
Борьба Гольдони и Гоцци в итальянском театре
середины XVIII века привлекала к себе внимание многих
художников, стала как бы знаком схватки противоположных
театральных систем. Пьесы Гольдони завоевали сцену:
эстетика Просвещения с ее обращением к повседневности
и рационализмом побеждала. В ход пошли бытовые
морализирующие пьесы, вытеснившие с подмостков народный
театр масок и импровизации, комедию дель арте. Тогда,
вступаясь за это искусство, которое он считал «гордостью
Италии», написал свои «сказки для театра» (фьябы)
Карло Гоцци.
Меня интересуют теперь не романтические
изображения автора — венецианского аристократа, жившего почти
286
Глубокий экран
взаперти в разоалившемся дворце, общавшегося лишь
с комедиантами, и не его политические пристрастия. Гоцци
противопоставил семейно-бытовому театру Гольдони
фантастическую причудливость буффонады, мотивы
волшебства, переплетенные с пародийными, черты трагические
и рядом сатирические, свободу импровизации. Победила
стихия трагикомической сказки: зрители отвернулись от
театра, основанного на внешней жизнеподобности,
литературном качестве.
Срок победы был недолгим. Фьябы сошли с
итальянской сцены; умерли последние комедианты, игравшие в
масках.
Но в следующем столетии немецкие романтики
вдохновились искусством Гоцци, казалось бы, таким непрочным,
связанным лишь с Венецией своего времени. Под его
влиянием Гофман написал «Принцессу Брамбиллу», Тик
перевел его пьесы. Художественные идеи венецианского
сказочника повлияли и на французских романтиков. Историки
театра и литературы со все более возрастающим интересом
стали заниматься изучением его творчества.
И наконец, в канун первой мировой войны зачинатель
переворота в современном театре Мейерхольд сделал
знаменем своей борьбы со сценическим натурализмом
«Любовь к трем апельсинам» Гоцци; после революции
Вахтангов поставил его другую сказку — «Принцессу Турандот»,
спектакль оказал огромное влияние на мировой театр.
В статье Мейерхольда «Балаган» можно найти начало
многого, что видишь сегодня на сцене. В 1912 году
Мейерхольд уже писал об «очуждении», которое позже станет
основой эстетики Брехта. Центральное место статьи —
понятие маски. По мнению Мейерхольда, автор не исчезает
бесследно за фигурами действующих лиц: у героев и
автора особые отношения. «Дон Жуан для Мольера —лишь
носитель масок. Мы видим в нем то маску, воплощающую
распущенность, безверие, цинизм и притворство кавалера
двора Короля-Солнца, то маску автора-обличителя, то
кошмарную маску, душившую самого автора...» 206
«Нарядный балаган» — обозвал мейерхольдовскую
постановку «Дон Жуана» А. Бенуа. Мейерхольд ответил, что
это лучший комплимент, о котором только могли мечтать
художник (А. Головин) и режиссер. 207 Само слово «бала-
Глава четвертая
287
ган», кажущееся Бенуа бранным, Мейерхольд писал с
большой буквы. В статье есть место, касающееся
непосредственно экрана. «Теперь, когда царит кинематограф, нам
только кажется, что Балагана нет. Балаган вечен. Его
герои не умирают. Они только меняют лики и принимают
новую форму». 20ь
Кино — «это помесь истинного волшебника и мюзик-
холльного фокусника»,— утверждает Феллини.
«Арлекин — придурковатый простак, слуга —
пройдоха...— написал Мейерхольд.— Но смотрите, что скрывает
под собой его маска? Арлекин — могущественный маг,
чародей и волшебник...» 209
Если посмотреть эскизы художников, работавших с
Мейерхольдом, а позже с Вахтанговым, Таировым, таких,
как Сапунов («Шарф Коломбины», «Балаганчик»), Яку-
лов («Принцесса Брамбилла»), Нивинский («Принцесса
Турандот»), нетрудно увидеть трагикомический маскарад,
похожий на будущие кадры Феллини.
Почему же фьябы Гоцци вызвали интерес русских
режиссеров? Только ли оттого, что тех очаровали прелести
ушедших театральных эпох, как писалось в старых
статьях? Или, может быть, потому, что они, эти режиссеры, были
повинны в эстетстве, уходе от реальности, как пробовали
убедить уже более поздние учебники?
А не вернее ли предположить, что они искали способ
передать какие-то стороны жизни, не поддающиеся
простому копированию? Лица, похожие на личины, появились
в самой жизни, отношения стали призрачными, какие-то
старые драмы вызывали смех, а иной фарс оборачивался
трагедией. Русское искусство не боялось таких переходов
и сдвигов. То ли еще виделось в гоголевской «грозной
вьюге вдохновения», 2,° в масках, проносившихся в блоков-
ской метели. Гоцци у нас было легко ожить, потому что
никогда не умирал Гоголь, и уже высмеивались мистики
в «Балаганчике» Блока. Только наш маскарад шумел не на
южной площади, маски обычно возникали в стуже, от
которой леденела кровь, в жестоком снежном вихре. У
этого маскарада были свои, особые, ни на что не похожие
черты.
В 1966 году в США вышел перевод моей книги о
Шекспире. 2М «Подход господина Козинцева к Шекспиру осно-
288
Глубокий экран
ван на близком знакомстве с самыми последними
исканиями в литературе и театре,— напечатано на ее
суперобложке.— Ему хорошо известны Ионеско, Беккет и другие
представители «театра абсурда».
Авторы эти мне действительно знакомы. Но куда более
знакомы мне столкновение трагического и гротескного
у Гоголя и Достоевского, опыты Мейерхольда, сплав
реальности и фантастики в искусстве 20-х годов.
Мир нашей культуры огромен, издавна живет в нем
и такая образность. И то, что обрывалось,— не кончало
этим своего существования. «Мастер и Маргарита»,
недавно опубликованный и давно написанный роман М.
Булгакова, оказался не только не устарелым, но вызвал
огромный интерес.
Феллини, когда я познакомился с ним в Канне (после
«Ночей Кабирии»), выглядел замкнутым, хмурым. В
глубине его темных глаз затаилось, как мне показалось, что-то
недоброе. Джульетта Мазина рядом с ним выглядела
миниатюрной, хрупкой. Через несколько лет мы
повстречались в Риме в маленьком ресторане во дворе киностудии.
Феллини монтировал свой новый фильм. В комнату вошел
Энтони Куинн (игравший Дзампано в «Дороге»); актер
и режиссер неожиданно встретились, они хохотали,
резвились как мальчишки, ласково трепали друг друга по
щекам. Феллини был оживленным, легким, приветливым.
К моему удивлению, он любезно согласился показать мне
несколько еще не законченных частей «Джульетты и
духов». Некоторые кадры были еще без звука, мелькали
проклейки. Режиссеры редко показывают свои работы
в таком виде.
На экране маленького просмотрового зала я увидел не
«комплексы» и «вытесненные желания», а «нарядный
балаган», трагикомедию масок. Особенно поразил меня детский
маскарад: девочка в белом платьице среди трепещущих
язычков бутафорского пламени, представление, куда
врывались злые маски в монашеских рясах, но добрый
бородатый дедушка — дедушка каждого ребенка — побеждал
темные видения, он удирал с цирковой акробаткой —
любимицей всех детей — на самолете, бамбуковой
этажерке — детстве нашего века, а дрессированные лошадки,
Глава четвертая
289
украшенные нарядными страусовыми перьями, описывали
в честь влюбленных круги на арене. В кадрах было
ощущение детского счастья, незамутненная ясность взгляда на
мир, на зеленую траву, лес, небо, упоение яркостью красок,
игрою нарушенных масштабов. А потом взрослые люди
в личинах открывали парад притворства: церемонные
шествия обессмысленной жизни, церемонный ритуал
общества, где люди — манекены для нарядов и шляп,
отношения — фигуры кадрили, где все стало сложным и
запутанным, потому что внутри — пустота.
Вовсе не гнет подсознания я находил в этом
ослепительном калейдоскопе, где перекатывались, распадались и
собирались узорами осколки реальности. На экране
бушевала во всю свою площадную итальянскую силу фьяба —
трагическая и пародийная, сочиненная для экрана. Каким-
то чудом соединились новые Гоцци и Мельес и задали
такое представление. И разве Феллини был виновен в том,
что мир предстал в его фильме раздробленным? Не зеркало
искусства исказило какие-то стороны жизни, они были
искажены самой реальностью. На экране гуляли призраки,
потому что человеческие отношения в мире, показанном
режиссером, стали призрачными. Но сам режиссер вряд ли
верил в духов. Уж больно яркими цветами он их
намалевал. Нет, не тень профессора-психоаналитика виделась мне
за этим представлением, а горбатого и носатого
Пульчинеллы...
Даже в искусство Антониони, чуждого всему
театральному, тоже ворвались маски. «Увеличение» и начинается
и заканчивается карнавальными личинами. Мимы —
компания молодежи с набеленными клоунскими лицами —
вбегают в конце фильма на теннисную площадку. Они
занимают положенные по правилам игры места, и
начинается партия: есть бег по утоптанной земле, замахи рук
и движения, которыми посылают и отбивают мяч, но ни
ракеток, ни мяча нет. Это лишь призрак игры. Сцена
является одним из тех странных обобщений современных
явлений, о которых уже шла речь.
1964 год был для меня временем нелегких экзаменов.
Мы с Черкасовым были первыми советскими
кинематографистами, приехавшими после войны в Испанию. До своей
290
Глубокий экран
родины моему Росинанту пришлось долго скакать, он
побывал во многих странах, а вот до дома добрался лишь
через семь лет.
Все здесь было мне непривычным. Сан-Себастьян я
знал только по описаниям Хемингуэя. Потом вспомнились
мне и другие авторы. У входа в театр Виктории-Евгении,
где показывали фестивальные фильмы, прогуливались
жандармы в черных лакированных треуголках. Их я знал
по стихам Гарсиа Лорки.
Человек с безукоризненным пробором, одетый в
чересчур модный фрак, вышел перед экраном. «Советский
Союз,— объявил он,— показывает...»
Зал затих. Послышалась музыка Кара Караева.
Субтитры были на этот раз испанские. Однако дело было не
в одном лишь переводе текста. Мне уже не раз приходилось
замечать, что фильм меняется не только от восприятия
зала, но и от пейзажа страны, где идет просмотр. Я смотрел
какой-то новый, еще неизвестный мне вариант. Многие
сцены приобретали другой характер.
Дон Кихот сбил замок с клетки: лев открыл глаза.
— Что, мой благородный друг? — спросил его
рыцарь.— Одиноко тебе в Испании?
Василий Цезаревич из ленинградского зоопарка
мотнул гривой, зарычал.
— Спасибо, спасибо,— вежливо ответил идальго
словами Шварца,— теперь я совсем поправился. Но я много
раздумывал, пока хворал. Школьник, решая задачу,
делает множество ошибок. Напишет, сотрет, опять напишет,
пока наконец не получит правильный ответ. Так и я
совершал подвиги. Главное — не отказываться, не нарушать
рыцарских законов, не забиваться в угол трусливо...
Шли по нищей стране узники в цепях, злобный
духовник (в одежде, которую здесь можно было встретить на
каждом шагу) обличал рыцаря, ищущего справедливости,
надменный герцогский двор издевался над ним. Они
скакали, два знаменитых всадника, по дорогам и горам.
— Свобода, свобода — вот величайший дар,
посланный нам небом! — выкрикивал в зал русские слова
герой Сервантеса.— Ради свободы можно и должно
рискнуть самой жизнью, а рабство и плен — худшее из
несчастий...
Глава четвертая
291
Здесь были свои обычаи. Когда после премьеры мы
с Черкасовым спускались по лестнице, заиграли дудки,
ударили барабаны; юноши-баски выстроились у перил,
подняли над нашими головами шпаги. Почему-то мне
вспомнился заголовок статьи о нашем фильме в
«Фигаро» — «Сервантес-марксист».
В соборе святой Марии назначили мессу в честь кино.
Барочные скульптуры внутри церкви — смуглые
богородицы в белых парадных одеяниях и черных кружевах;
святые, искривленные в судорогах, в париках из настоящих
волос, с кровоточащими ранами на теле; Христос,
вознесшийся над бешеными языками пламени,— казались мне
участниками пышного и зловещего представления, где по
ходу пьесы будут сдирать живьем кожу с артистов и
призывать к смирению, облачившись в парчу и бархат.
Луис Перо — священник, член жюри кинофестиваля —
прервал мои размышления. Он успел переодеться: на нем
был наряд домениканца XIII века, именно такой, какой
можно увидеть на полотнах Сурбарана. Неторопливой
походкой он подошел к микрофону.
— Иисус Христос,— негромко и мягко сказал он,—
в числе своих милостей даровал нам и кино. Сан-Себастьян
стоит на море, и жизнь этого места некогда зависела от
рыбацкого промысла. Святой Педро, покровитель города,
благословил рыбаков на щедрый улов. Закиньте же и вы,—
обратился он к «звездам», продюсерам и журналистам,—
свои сети в человеческие души, и благословит вас господь
на добрую добычу.
Несмотря на спорность трактовки происхождения кино,
смысл речи пришелся мне по душе.
Незадолго до показа «Дон Кихота» испанцам я стоял
за кулисами кинотеатра «Одеон» на Лейстер-сквер в
Лондоне: Британский киноинститут впервые показывал нашего
«Гамлета». Праздновалось четырехсотлетие Шекспира.
Я услышал свою фамилию, произнесенную директором
Института Джеймсом Куином где-то вдалеке, и, глотнув
воздух, двинулся неверными шагами к выходу на эстраду,
чтобы сказать несколько вступительных слов. Прожектора
ослепили меня, разом открылось огромное черное
пространство, где англичане собрались, чтобы посмотреть
«Гамлета», снятого в СССР.
292
Глубокий экран
Об этой постановке я уже написал в другой книге —
«Наш современник Вильям Шекспир». Здесь мне только
хотелось бы привести из нее последнюю фразу:
«Гамлет» — для меня сочинение, где заключено все, что
я любил в искусстве в течение жизни, к чему стремился
с детства, еще бессознательно,— и формы выражения,
и чувства, и мысли (их я понял уже куда позже); от
бродячих комедиантов до темы человека и времени. В этом
фильме я оказался в кругу всех своих старых товарищей
и учителей: со мной первые любимые клоуны Фернандес
и Фрико и дорогой друг Юрий Тынянов.
Всем и всему есть место в тени Шекспира». 2|2
Когда меня приглашают заниматься с молодыми
режиссерами и говорят: «Передайте, пожалуйста, ваш
опыт», я чувствую себя неловко. Не вернее ли сказать:
«Поделитесь, пожалуйста, сомнениями»? Начиная новую
работу, чувствуешь недостаточность того, что знаешь,
умеешь, необходимость трудиться по-иному.
Вот почему страницы рукописи этой книги переходили
в кадры, а кадры в записи. И теперь — время перейти
к другой работе.
Очень старый человек занимает сейчас мое внимание.
Люди обожествили его, и он поверил в свою
непогрешимость.
Мне хотелось бы начать его историю так: люди
покидают свои жилища, они отправляются в дальний путь, они
берут с собой детей, ковыляют калеки, бредут, нащупывая
дорогу, слепцы. Пошел слух: бог покажется людям, а он
может все объяснить, всех осчастливить, исцелить.
На высоком каменном балконе — над горами, замками,
деревнями, озерами — появляется старый человек и его
дочери. Король Лир делает еле заметное движение рукой,
и государство меняет свои очертания: вбиваются в землю
пограничные столбы, межи делят владения. Страну
разрезают, как каравай хлеба. Король отдает первый ломоть —
гору, замок, деревни, людей, стада, озеро — старшей
наследнице...
Никто не понимает, что он совершил безумие, никто
кроме одного человека. Этот человек — дурак, шут.
Главу о клоунах и пророках я продолжу на экране.
Пора начинать съемки.
Приложение
Воспитание зрения 213
...Главное — изобрести новый бинокль, с его помощью вы заставите
увидеть людей и вещи сквозь увеличительные стекла, какими еще никто не
пользовался, вы покажете картины под углом зрения, доселе
неизвестным, вы создадите новую оптику...
Эдмон Гонкур. «Дневник»214
Летосчисление кино ведется теперь обычно не с 28
декабря 1895 года, премьеры лент Луи Люмьера в «Гран
кафе», как это делалось прежде, а с более давних времен.
Последние исследования начинаются с перечисления
различных изобретений, где уже можно увидеть какие-то
элементы фильма.
Что же, по мнению исследователей, полагалось бы
отнести к истории кинематографии? Одни находят эти
первые шаги в театре теней, другие вспоминают
волшебный фонарь, третьи отыскивают старинные детские
игрушки, основанные на оптическом обмане. В киномузеях
хранятся диски с выгоревшими от времени картинками,
наивные механизмы: «магический барабан», «колесо жизни».
Если вращать диск или цилиндр — рисунки как бы
оживают, нарисованный паяц прыгает через веревочку,
лошадь перебирает ногами. Сами названия таких игрушек
отдают стариной: «фенакистископ», «тауметроп»,
«стробоскоп».
Нашлись и более дальние родственники: на
итальянских гравюрах середины XVI века можно увидеть
оптические аппараты, камеру-обскуру. Все большее количество
предков обнаруживается у кино; однако коллекции
старинных курьезных изобретений и ярмарочных потех
объединяет лишь технический момент — имитация движения
или же сам факт проекции на полотне. Это предки не
фильма, а скорее проектора, пленки, кинотехники.
Киноискусство образовалось по-иному.
294
Глубокий экран
Новые виды творчества не возникают вследствие
случайных обстоятельств. Своеволие выдумки бессильно
создать переворот в способах художественного выражения.
Только существенные внутренние причины, заключенные
в самой жизни, приводят к изменению видения. Художники
начинают по-иному смотреть на реальность, потому что
сама она изменилась. Рост одних явлений и отмирание
других меняют и угол зрения на жизнь: старый взгляд уже
бессилен различить новое во времени.
Поколения писателей, живописцев, актеров XIX века
искали этот иной угол зрения, способный охватить новизну
происходящего; стрелки, развешенные профессорами,
приводили в тупик. Молодые художники настежь распахнули
окна академий: при солнечном свете гипсовые модели
выглядели мертвыми, классические полотна —
безжизненными. Тогда против «правил» бунтовали повсюду:
возмущались декламацией в театре, театральное на сцене
воспринималось как фальшивое; литераторы ломали каноны
жанров, мяли фразы как глину, чтобы передать правду
обыденного. Во всех искусствах накапливались открытия
новых способов выражения.
По-разному прокладывались дороги, но движение было
общим; развиваясь, оно вступило в конфликт с самой
природой каких-то отдельных родов творчества, внутри
каждого из них образовывались частицы иного качества.
Кинематография появилась не потому, что в такой-то
день гениальный механик сконструировал съемочный
аппарат, а потом талантливый химик усовершенствовал
светочувствительный слой целлулоидной ленты. «Живая
фотография» не стала искусством и когда догадались снять
крупным планом предмет, склеить кадры, снятые с разных
точек. Открытия — большие и сравнительно
незначительные, технические и эстетические — были только толчками,
ускорявшими и выявлявшими процесс, подготовленный
самим временем. Многое из того, что воспринимается
теперь как особенность киноискусства, его «язык»,
существовало задолго до того, как в первый раз завертелась
ручка съемочной камеры.
Столетия воспитывали человеческое зрение, оно
совершенствовалось, приобретало новые качества. В XVIII
веке Радищев писал: «Орел, паря превыше облаков, зрит
Приложение. Воспитание зрения
295
с высоты своего возлетания кроющуюся под травным
листием свою снедь. Человек не столь имеет чувствие
зрения дальновидно, как он; миллионы животных ускользают
от его взора своею малостию; но кто паче его возмог
вооружить свое зрение? Он его расширил почти до
беспредельности. С одного конца досязает туда, куда прежде единою
мыслию достигать мог; с другого превышает почти и самое
воображение». 2|5
Вооружение зрения казалось Радищеву удивительным,
достигшим предела. Астрономические открытия Гершеля
и наблюдения над микроорганизмами Левенгука как бы
образовывали два полюса. Телескоп и микроскоп
исследовали бесконечно далекое и невидимо крохотное. Но людям
хотелось видеть мир не только с помощью линз и
отражателей.
В театре уже столетия назад моралите и мистерию
вытеснила драма превратностей. Быстрота смены мест
действия и состояний героев отличала этот жанр. Особым
успехом пользовались «хроники». Государственные
события перемежались сценами частной жизни; Шекспир
рассказывал истории королей, перенося события из дворцов
в харчевни, с полей битв в городские закоулки.
Чередование картин было стремительным. Драматурги
просили зрителей представить себе в фантазии сражения,
морские бури, чужеземные города: эти сцены были
необходимы для сюжета. В искусство ворвались пространство и
движение.
Запылила дорога — излюбленное место действия
плутовского романа. По большакам и проселкам Испании,
мимо монастырей и харчевен бродил, охотясь на тугие
кошельки, пикарро.
Бродячий люд зашагал в офортах Жака Калло.
Оборванцы, балаганщики, солдаты — все, у кого нет жилья,
кого время погнало в путь, стали героями французского
художника. Калло показал новый характер изображения,
реальность в ее самом жестоком виде, действенность
отличала его образы. Он усиливал контрасты, яркие в самой
жизни, обострял движение, делал его фантастичным.
Преемственность от гротеска фламандцев была так же
отчетлива, как и отличие от их зрения. Это было и продолжение
их искусства и одновременно его отрицание.
296
Глубокий экран
Исступленный взгляд Иеронима Босха был
по-деревенски тяжел и медлителен; живописец сочинял ужасы ада,
останавливаясь на технических подробностях. Нищие
Босха предвосхищали бродяг Калло, но у фламандца
побирушки странствовали в пустоте. Босх показывал
реальность XV века, напоминавшую кошмар, но и сам художник
бредил, его зрение принадлежало средневековью, перемен
ждали только от Страшного суда.
У Брейгеля Старшего людей окружал покой природы.
Все было отделено друг от друга, очерчено контурами,
прочно вылеплено объемом, цветом; танцуя, крестьяне
застывали, подняв в воздух ноги, навечно. В деревни
врывалась война, черная смерть стучала в двери хижин, но
неторопливый живописец устраивался в тени и изображал
свой век без спешки.
Калло был горожанин и путешественник; он видел
жизнь Франции XVII века, сам находясь в толпе, суете
городских площадей. Его взгляд принадлежал новой
эпохе: он улавливал резкость изменений, размах перемен.
Перед ним проходила неустроенная, наспех сшитая из
клочков старого и нового жизнь больших городов, войны,
нищета. Он показал природу своего века: дуб, на каждой
ветви повешенные; уличную жизнь — палачи свежуют
тела на лобном месте; по площади, без особого интереса
к казни, бродят горожане; идет торговля, босяки просят
подаяние.
Даже балаганные ужимки комедиантов казались ему
медленными, он был захвачен стихией движения.
Исторические потрясения воспитали взгляд, он стал быстрым,
острым. Чтобы показать масштаб событий, Калло
расширил угол своего зрения.
«Виды кажутся как бы снятыми из большого отдаления
и высоты... — замечал Пауль Кристеллер.— Эта новая
микроскопическая манера изображения сложилась,
очевидно, под влиянием глубокой сцены итальянского
театра». 2|6
Мне кажется, что эта манера сложилась под влиянием
жизни. От театра Калло взял более, нежели удаляющуюся
перспективу декораций позднего Ренессанса; он усилил
действенность, драматичность положений, характерность
героев; искусство Калло, не похожее на живопись его
Приложение. Воспитание зрения
297
времени, образовалось где-то на стыке картины и
спектакля. В поисках выражения резкости жизненных контрастов,
драматичности художники переходили границы,
разделявшие искусства.
Страсть к театру владела Хогартом, художник не
скрывал этого: «Я старался разрабатывать свои сюжеты,
как драматический писатель»,— пояснял он. 217 Хогарт
дружил с Гарриком, был внимательным зрителем «Оперы
нищих» Джона Гея, шекспировских спектаклей. Однако
дело не ограничивалось выбором театральных сюжетов:
художник не переносил сценическое положение на полотно,
а превращал саму живопись в театр: «... картина была для
меня сценой, мужчины и женщины — моими актерами,
с помощью движений и жестов разыгрывающими
пантомиму». 2|8
Хогарт придумывал собственные пьесы и исполнял их
по-особому. Его картины (обычно они гравировались
позже) выходили сериями, каждое полотно являлось частью
истории героя. «Карьера мота» имела восемь таких частей:
светский повеса, получив наследство, пускался в разгул;
долговая тюрьма и бедлам кончали сюжет.
Я видел в Королевском балете Великобритании
постановку Нинетт де Валуа «Карьера мота». Оказалось, что
«танцевать» эти гравюры очень легко: ни балетмейстеру,
ни танцовщикам не пришлось досочинять сюжета,
характеров. Гравюры как бы ожили, стали пантомимой: это была
не стилизация под изображение, а естественное
продолжение состояния действующих лиц, выраженного
художником. Шесть картин «Модного брака» рассказывали о
любви по расчету, тоскливой жизни новобрачных, измене
в грязной комнате (любовник, застигнутый мужем, убив
его на дуэли, скрывался в окно, а в дверь врывалась
полиция); в финале графиня принимала яд; отец умирающей
снимал с ее пальца кольцо.
«Судьба потаскушки» начиналась с приезда в Лондон
провинциалки. На первой картине — крытый фургон,
доставивший девицу из Йорка на Вуд-стрит. У гостиницы под
знаком колокола, где вытряхивают белье и дают корм
коню, сводня подговаривает простушку познакомиться с
джентльменом, стоящим в дверях отеля. Вокруг — бочки,
баулы, обшарпанные стены домов; из чьей-то кошелки
298
Глубокий экран
высовывает голову гусь. Это — театр: положение, жесты,
выражения лиц по-театральному действенны, но это не
похоже на спектакль. Здесь «только такие сцены, в которых
актерами выступают живые люди,— писал Хогарт,— а
они, думаю я, не часто изображались так, как того заслу-
219
живают».
Как же следовало изображать этих людей? Хогарт
отрицал «правила», смеялся над канонами. Копирование
классиков, говорил он, так же помогает современной
живописи, как помогли бы доспехи Александра Македонского
трусу. Перед художником должна быть жизнь; ему
необходимо упражнять свою зрительную память, схватывать
действие на лету, необходима как бы стенография зрения.
«Очевидно, искусство быстрой фиксации условными
знаками целого потока житейских впечатлений играло для
него ту же роль, какую столетие спустя начали выполнять
для художников моментальные снимки фотографического
аппарата,— писал М. П. Алексеев.— Хогарт стремился
удержать в своей памяти художника жизнь во всех ее
проявлениях и по возможности в ее «цельном>, не
разложенном на составные части виде». 22°
Судьбы людей изображались в круговороте жизни.
Самая большая сцена Лондона не вместила бы декораций,
нужных Хогарту; все труппы Англии, объединившись, не
смогли бы предоставить ему нужного количества
исполнителей. В представления, которые бушевали на сюитах
хогартовских гравюр, входили тысячные массовые сцены:
жизнь города в часы дня и ночи; бесчинства на
парламентских выборах; драки деревенских джентльменов (в
пробитый череп лили воду прямо из кувшина); азарт любителей
петушиных боев; вербовщики у городских застав набирали
рекрутов; из окон выливали ночные горшки; в отбросах
копошились нищие в струпьях и язвах; пьяная побирушка
роняла на булыжник младенца. Все было действенно,
детали — грубо натуральными.
«Экспрессия улавливается всегда на лету, в
проходящем состоянии и в то мгновение, когда она становится
особенно выдающейся,— писал о Хогарте Хэзлит.— Он
пишет крайние формы характера и экспрессии». 221
Но театр, в который художник хотел превратить
живопись, в XVIII веке не обладал подобными качествами;
Приложение. Воспитание зрения
299
сцене Просвещения не были свойственны ни бурное
движение, ни натуральность среды. Хогарту мерещился какой-то
еще не существующий вид зрелищ. Живопись для него
была слишком статичной, сцена — ограниченной.
Реформаторы театра ощущали узость, условность
современной им драмы. Роман казался Дидро выразительнее
пьесы: романист передает жизнь не только диалогом, но
и множеством иных способов. Молчание, выражение
лиц — особо интересовало автора статьи «О
драматургической литературе»; он предлагал сочинять целые сцены
без слов. Дидро представлял себе по-иному и саму
драматургию, он хотел бы «переплетать» события, происходящие
одновременно. Вспоминая свою пьесу «Отец семейства», он
сожалел, что не смог осуществить этого «переплетения».
«Более искусный автор написал бы две одновременные
сцены: одну — на переднем плане, между Сент-Альбеном
и Софи, другую — в глубине, между Жермейлем и Се-
силь... Я попытался так разделить две одновременные
сцены Сесиль и Отца семейства, которыми начинается
второй акт, что их можно было бы отпечатать двумя
колонками, причем пантомима одной соответствовала бы
речи другой, а речь последней в свою очередь
соответствовала бы пантомиме первой». 222
Он считал необходимым вводить в драму эпизоды,
длящиеся мгновение: «Короткие, стремительные,
разорванные сцены, частью пантомимические, частью разго-
ворные».
«Показать место действия таким, как оно есть...
Театральная живопись должна быть точнее и правдивее
любого другого жанра живописи». 224
Этот театр будущего — с пантомимой, сменой коротких
сцен, параллельным действием и жизненно точными
декорациями — Дидро уподоблял «полотну, на котором
волшебной силой сменяются различные картины».
Сравнение, разумеется, нельзя понимать буквально;
в статье, написанной в 1758 году, бессмысленно искать
намека на экран. Речь идет не о кинематографичности
теорий Дидро или офортов Калло, но о направлении
поисков. Зрение художника приобретало особые черты,
становилось зорким, подвижным, стремилось охватить
обширные пространства, уловить быстроту движения.
300
Глубокий экран
Действенность и драматическая энергия проникали во
все искусства. Но театр, увлекший многих художников, не
напоминал театра их времени. Элементы какого-то иного,
еще не существовавшего вида драматических спектаклей
появились в изобразительном искусстве, литературе.
Пока это были только элементы. Однако они стали
настолько отчетливо различимы, что А. Сидоров, разбирая
«Прилежание и леность» Хогарта, попросту написал:
«В двенадцати кадрах он показал нам две параллельные
жизни», «его гравюры были чем-то вроде
кинофильмов». 226
Конечно, такие сравнения условны. Зрение Хогарта
принадлежало XVIII столетию. История еще
представлялась картиной нравов, а мораль набиралась курсивом;
способом изображения была сатира.
С конца века огромные социальные и промышленные
перевороты вызвали к жизни новые представления.
Развитие естественных и общественных наук изменило качество
зрения: зоркость орла была превзойдена во много раз.
Обнаружилась не только истинная форма предметов, но их
взаимосвязь.
В предисловии к «Человеческой комедии» Бальзак
писал: «Живое существо — это основа, получающая свою
внешнюю форму, или, говоря точнее, отличительные
признаки своей формы в той среде, где ему назначено
развиваться». 227 Улицы, их истории; дома, лавки, выставленные
в витрине товары, узор решетки на ограде; цвет плюща,
вьющегося по стене, становились предметом пристального
внимания писателей. Человек появлялся в романе — не на
фоне предметов, но во взаимосвязи с ними. Частность
становилась значительной, неотделимой от общего.
«Шерстяная вязаная юбка,— описывал Бальзак
внешность хозяйки пансиона,— вылезшая из-под верхней,
сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой,
воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик,
говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать
состав нахлебников». 228
Без описаний провинций и столицы, меблирашек и
аристократических особняков, единственного костюма
честолюбивого бедняка и туалетов светских дам не понять
и судьбы Растиньяка.
Приложение. Воспитание зрения
301
Зрение расширялось: кварталы и сословия входили
в роман со своими нравами, бытом, множеством вещей.
И в то же время взгляд автора сужался: крохотное
пространство становилось полем исследования.
«История души человеческой, хотя бы самой мелкой
души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого
народа...> — писал Лермонтов в предисловии к «Журналу
Печорина». 229 Противопоставление было полемическим:
исследование человеческой души было неотделимо от
времени, истории.
В продолжение всей жизни Бальзак стремился к театру.
Казалось бы, самой природой своего таланта, склонного
к напряженному драматизму, писатель был подготовлен
к сценическому успеху, но пьесы Бальзака проваливались,
зал скучал, критика бранила; даже друзья редко хвалили
его пьесы.
Трудно представить себе драматический талант сильнее
Достоевского. Какой драматург сочинял такие появления
героев, умел так писать концы сцен (под занавес!),
диалоги, характеры, настолько привлекательные для актеров.
Немало страниц Достоевского можно назвать
театральными, в полном значении этого понятия.
Однако Достоевский не писал пьес и считал
сценическую обработку своих сочинений малохудожественным
делом. Разве театр смог бы повести зрителя промозглым
петербургским днем, мимо толчеи Сенного рынка, по
грязным закоулкам проходных дворов, щербатым лестницам,
заслеженным котами?
Диккенс вывел множество ярких театральных фигур,
сколько драматических и комических положений он
сочинил, но и этот писатель не стал драматургом.
Причины во многом были общими. Директор
Исторического театра Гостейн приводил в «Рассказах и
воспоминаниях театрала» замысел «Мачехи», изложенный
Бальзаком:
«Речь идет не о грубой мелодраме, в которой предатель
сжигает дома и терроризирует их обитателей. Нет, я
мечтаю о драме салона, где все холодно, спокойно, любезно.
Мужчины благодушно играют в вист при свете свечей,
приподнятых над маленькими зелеными абажурами.
Женщины болтают и смеются, работая над вышивками. Пьют
302 Глубокий экран
патриархальный чай. Словом, все возвещает порядок и
гармонию. Но там, внутри, волнуются страсти, драма
тлеет...» 230
Романисты XIX века уделяли описаниям мест действия
сотни страниц; в пьесе они были вынуждены ограничиться
строчками. Вероятно, и эти скупые ремарки не
выполнялись декоратором-ремесленником. По роману становился
известен адрес портного, кроившего жилет героя, и судьба
ювелира — создателя моды на цепочки для часов; можно
было узнать систему учета векселей и законы
наследования — все это создавало истории, где были и цепочки
и кандалы; мир нельзя было отделить от вещей: на каждом
предмете отпечатались человеческие чувства; в душе героя
были слепки вещей. Без атмосферы салона не могла стать
реальной и драма его обитателей.
Сценическая техника мелодрамы была достаточно
высокой; тогда умели изобразить пожар, бурю, показывали
феерии. Дело было не в технике, а во взгляде на жизнь.
Жизненная среда не привлекала театральных художников,
атмосфера повседневных событий казалась им не
сценичной. Тогда мерили на других весах; сила крохотных
величин еще не была открыта, а именно эти еле ощутимые
измерения духовной жизни интересовали романиста.
«Однажды я явился в салон в час, когда там почти
никого не было, и увидел падчерицу,— писал Бальзак.—
Она как раз выходила и не заметила меня. Она смотрела на
свою мачеху. О, что за взгляд! Нечто вроде удара стилета.
Мачеха была занята тушением свечей за столом для виста.
Она повернулась в сторону падчерицы. Их взгляды
встретились, и самая грациозная улыбка вырисовалась на их
устах. Как только дверь за падчерицей закрылась, лицо
другой женщины быстро переменилось: оно было сведено
горькой судорогой. Все это заняло меньше мгновения, но
и этого было достаточно».231
В сцене, автор считал ее одной из основных, нет слов,
лишь изменения взгляда должны передать смысл драмы.
И весь этот безмолвный поединок должен занять
мгновение.
Театр тех лет не знал таких мер выражения. Пьесы
Бальзака, лишенные жизненной среды, ограниченные лишь
диалогом, превращались им самим же в мелодрамы (во-
Приложение. Воспитание зрения
303
преки его первоначальному желанию). Он хотел писать
для театра, которого еще не существовало. «Тлеющую
драму» некому было поставить, и никто не умел ее
сыграть.
Способы выражения жизни литературой и театром
были различны не только по природе этих искусств, но и по
уровню современного мышления.
«Первый — расширяется и растет...— приводил Золя
мнение современника о романе и театре,— второй —
исчерпывается и стремится спуститься к балаганам».232
Театр в этом состоянии устарел, казалось Золя;
необходима реформа всей сценической системы. Начинать, по
мнению писателя, следовало с декораций.
«Несомненно у театра своя оптика,— писал он,— но
разве мы не видим, что театр всегда повиновался
движению эпохи! В настоящее время точные декорации
представляют результат мучащей нас потребности в
реальности... Современные личности, индивидуализированные,
действующие под властью окружающих влияний, живущие
нашей жизнью на сцене, были бы смешны при декорациях
XVII века. Они садятся — им нужны кресла, они пишут —
и им нужны столы, они ложатся, одеваются, ходят,
согреваются — и им нужна полная обстановка... Точная
декорация — например, салон с его мебелью, жардиньерками,
безделушками — дает сейчас же понятие о положении,
определяет круг общества, который мы имеем перед
глазами, рассказывает о привычках действующих лиц».233
Гарнитуры мебели из модных магазинов перевезли на
подмостки. Вещи — крупные и крохотные — загромоздили
сцену; их расставляли как в «живой комнате»; зритель мог
оценить их подлинность, но пьесы Золя не пользовались
успехом.
Доде вспоминал, как в 70-е годы устраивались «обеды
авторов освистанных пьес». Кто же были эти неумелые
и неудачливые литераторы? За столом сидели: Флобер,
Золя, Э. Гонкур, Тургенев.234
Золя не ставил фамилии на театральной переработке
своих романов (хотя и принимал иногда участие в
инсценировке), считал эти переделки «ампутацией мысли». Что же
в них «ампутировалось» — согласно требованиям
современной сцены?
304
Глубокий экран
Конечно, прежде всего — массовые сцены, жизненные
панорамы, многоплановость действия. Множество мест
событий сводилось к актам, происходящим в нескольких
помещениях. Обычная драматургия бессильна была
передать и масштаб и глубину картин эпохи, написанных Золя.
А вместе с этими картинами уничтожался и сам метод
художественного мышления. «Потребность в реальности»
не удовлетворялась нагромождением безделушек.
Все на сцене казалось Золя маленьким, тесным:
«Неужели нас замуровали в современном драматическом
искусстве, таком узком, похожем на склеп, в котором не
хватает воздуха и света?» 235
Необходимы масштаб, натуральность. «Было бы очень
интересно поставить драму среди больших декораций,
скопированных с природы». 236
Какие же задники и кулисы хотелось увидеть Золя?
Писатель, не задумываясь, называл эти «копии природы».
Он с легкостью сочинял их, предлагая одну за другой:
«А сколько других декораций можно придумать для
народных драм! Внутренность завода, копи, ярмарка пряников,
вокзал, цветочный ряд, поле для бегов...» 2 7
Сценическая техника могла создать иллюзию
натуральности мест действия. Но театр был бессилен показать бег
коней, неистовство тотализатора, мелькание лиц и кипение
страстей; самые обширные помещения вокзала и цеха не
передали бы жизненного ритма железных дорог,
современных улиц.
Автора «Чрева Парижа» интересовала не
грандиозность построек, а масштаб событий, размах истории.
«Декорации», им перечисленные, менее всего декорации —
это скопления человеческих чувств, противоречивых
интересов, общественных стремлений. Золя хотел народной
драмы, она требовала иной жизни на подмостках.
«Не сумеет ли какой-нибудь автор так изменить
сценические условности, преобразовать и утилизировать их
таким образом, чтобы внести на сцену гораздо большую
интенсивность жизни...» 238
Представляя себе этот спектакль «больших декораций»
и «интенсивности жизни», Золя в своем воображении
уничтожал саму природу театра. «Я представляю себе, как
этот творец перешагнет через поставленные границы, раз-
Приложение. Воспитание зрения
305
рушит обязательные рамки, расширит сцену до того, что
поставит ее на один уровень с залой, придаст трепет жизни
деревьям, впустит через занавес свежий воздух реальной
жизни».239
Читателям «Ругон-Маккаров» нетрудно представить
себе, что понимал Золя под «воздухом реальной жизни».
Классовые бои, ажиотаж всемирных выставок, Париж
Османна в строительной пыли, баррикады Коммуны,
углекопы под кровавым небом «Жерминаля» — вот что
«ампутировал» театр в творчестве писателя. Для такого
изображения жизни нужно было ломать ограничивающие рамки,
перешагнуть установленные границы.
И, сломав, перешагнув, выйти за пределы самого
театра.
В письме к своему другу Антони Валлабрегу Золя
уподоблял искусство окну в природу, затянутому
прозрачным экраном. Классицизм и романтизм давали
искаженные изображения. «Реалистический экран,— писал
он,— последний в современном искусстве». Настало время
увидеть «самые верные образы, какие только может дать
экран».240
На этот раз сравнение, высказанное в 1864 году, можно
привести без оговорки. Речь, действительно, шла об
экране, хотя самого экрана еще не существовало.
Натуральность жизненного материала, чередование
общих планов массовых сцен и крупных —
психологического исследования; зрение, обращенное и в ширь эпохи,
и в глубь душевной жизни; энергия многоплановой
драматургии — все это было близко существу
кинематографического искусства.
Кино уже существовало, но киноаппарат еще не
изобрели.
Для кинематографии, в ее современном понятии,
необходима была не только кинокамера и съемочная техника,
но и особая профессия, развившаяся в театре сравнительно
недавно. Разумеется, режиссерское дело — в той или иной
форме — всегда существовало: кто-то объединял усилия
исполнителей, наводил порядок на сцене.
Нам, режиссерам, не приходится стыдиться предков:
некогда они заведовали святыми и дьяволами, распоряжа-
306
Глубокий экран
лись в пасти ада и запросто ходили по раю. Такой
человек — в мантии до полу, с книгой (вероятно, пьесой)
в одной руке и палкой в другой — изображен на
миниатюре XV века; вокруг кипит работа, по мановению его палки
гремит оркестр, пытают какую-то святую, беснуются черти,
шут вызывает смех малопристойным жестом. Это был, по-
видимому, тяжелый труд, приходилось торговаться с
гильдиями (купцы туго раскошеливались на костюмы), сверять
тексты с записями соседней округи и следить, чтобы дюжие
мастеровые, увлеченные сценической правдой, не содрали
бы кожу с мученика по-настоящему.
Труппу мог объединять первый актер, хозяин компании,
в феериях командовали декораторы. Наиболее разумным
было, вероятно, руководство драматурга. В какой-то мере
режиссерами были и Ганс Сакс, и Мольер, и Гете.
Желания писателей-режиссеров не были чрезмерными. Чтобы не
переиродили Ирода, умолял Шекспир, и чтобы шуты не
плели, чего им не положено.241 Гоголь собирал артистов,
читал роли за каждого исполнителя; составил планировку
финала «Ревизора»; он мечтал, чтобы спектакль
подготавливал первый актер и чтобы уж не было сбоку «прикле-
иша-чиновника».242
Писатели, артисты, декораторы занимались
режиссурой по совместительству. Позже появились и
профессионалы, но это были, скорее, ремесленники, нежели художники.
В XIX столетии начинаются перемены и в этой области:
режиссер становится значительной фигурой; постановка
занимает все более важное место в спектакле. Словарь
Брокгауза и Ефрона (в 90-х годах прошлого века) так
определял эту профессию:
«РЕЖИССЕР. ...В наше время автор хотя и
присутствует на репетициях, но уже не имеет больше надобности
заботиться о деталях постановки; это — забота Р., от
которого требуется не только основательное знание сцены,
литературы и археологии, но еще много такта и умения
ладить с артистами».243
В списке режиссеров еще нет Ленского,
Станиславского, Немировича-Данченко. В наши дни такое
определение кажется странным: почему главное для режиссера —
забота о деталях (а не о целом?), неужели в работе с
актерами основное — «много такта и умение ладить», и, на-
Приложение. Воспитание зрения
307
конец, почему именно археология необходима этой
профессии?
Словарь составлялся в свое время тщательно.
Действительно, постановки привлекали тогда особое внимание
деталями, материал для них часто давала археология; из-
за желания показать ее «основательное знание»
режиссерам непросто было «ладить с артистами». С середины
прошлого столетия историческая обстановка играла в
театре все большую роль. Чарльз Кин заказывал для
шекспировских спектаклей огромные движущиеся панорамы
Лондона, мебель, утварь по музейным образцам; толпы
статистов в исторических костюмах заполняли сцену.
Беззаботность Шекспира в отношении эпох и географии
исправлялась согласно последним данным науки.
Постановку обслуживали библиотекари, архивариусы, ученые
с раскопок. Место декоратора становилось особенно
значительным: ценилась не фантазия художника, а точность
имитации.
В 20-е годы прошлого века Париж был восхищен новым
видом представлений. Луи Дагерр — преуспевающий
театральный декоратор — открыл собственное дело.
«Диорама» показывала извержение Везувия, горный обвал, пожар
Эдинбурга, богослужение. Успех зрелища создавала
полная иллюзия реальности. Картины чудесным образом
сменялись: пейзажи были написаны по обе стороны
полотна, освещаемого то спереди, то на просвет.
Схожесть с реальностью не только вызывала
любопытство зрителей, а и способна была глубоко взволновать.
Описывая швейцарский пейзаж, сопровождавшийся
звуками альпийского рожка и далекой песни, посетитель
«Зала чудес» писал: «Мы все были растроганы, у мисс на
глазах появились слезы.— Это не только живопись... Здесь
чувствуется такое необычайное взаимодействие искусства
и природы, которое создает особенный эффект, причем
трудно определить, где кончается природа и начинается
искусство».244 Луи Дагерр вместе с литографом Ньепсом
изобрел фотографию.
Успех «панорам» и «диорам», вероятно, оказал свое
влияние на режиссуру Чарльза Кина. Ирвинг продолжал
развивать подобные постановочные приемы. В 60-е годы
придворная труппа герцогства Саксен-Мейнинген присту-
308
Глубокий экран
пила к постановке «Юлия Цезаря». Репетиции длились
семь лет. Спектакли мейнингенцев вызывали повсеместный
восторг; ими был увлечен Антуан.
«Их спектакли впервые показали Москве новый род
постановки,— писал Станиславский,— с исторической
верностью эпохе, с народными сценами, с прекрасной внешней
формой спектакля, с изумительной дисциплиной и всем
строем великолепного праздника искусства».245
Однако драматург и актеры не были главными лицами
таких праздников. Чарльз Кин, чтобы найти время для
сцен охоты, коронационных шествий или деталей
старинного судопроизводства, купировал текст; новшества мей-
нингенской режиссуры изрядно мешали шекспировской
поэзии; в труппе театра крупные актеры не задерживались.
Праздник искусства создавался иной профессией. Людвиг
Кронег был режиссером-декоратором: актеры, художники,
музыканты, работники различных специальностей
являлись лишь выполнителями замысла.
Новый род постановок прежде всего поражал
массовыми сценами. Старый драматический театр мало
интересовался фигурантами, они толпились на подмостках,
наряженные во что попало, обычно их нанимали по дешевке
в день спектакля. Новшества появились не случайно. Дело
было не в том, что появились режиссеры, обладавшие
деспотическим характером и малым уважением к тексту.
Искусство эпохи развивалось определенным путем,
процесс должен был захватить и театр. Смысл заключался не
в «правильности» или «ошибочности» именно такого
сценического выражения пьес Шекспира или Шиллера, а в
движении века. После Вальтера Скотта события прошлых
столетий уже нельзя было показать, минуя историчность
среды, без массовых сцен. Взгляд эпохи отвергал грубость
бутафории, беззаботную мешанину времен. Должна была
прийти и очередь театра.
Мало что в искусстве делается постепенно, не торопясь.
Правдивая обстановка заняла свое место на сцене
довольно сложным путем. Простой стул, жизненный костюм, хлеб,
который можно есть,— все это с трудом, в борьбе получало
право на место в спектакле. Новаторство, как это всегда
бывает, началось с решительных экспериментов; палка
была перегнута самым крутым образом.
Приложение. Воспитание зрения
309
В 1888 году Антуан записал в своем дневнике: «Стремясь
добиться характерности постановки, я развесил в
«Мясниках» настоящие туши, которые произвели сенсацию».246
Сенсацию производило теперь все натуральное."В
«Сельской чести» режиссер установил на сцене — в центре
деревенской площади — настоящий фонтан. «Фонтан... Не знаю
почему,— записал Антуан,— ужасно развеселил
зрительный зал». 247 Жизненный предмет на сцене воспринимался
как аттракцион. Реальность освистывали, настолько она
была непривычна. Чаны с кипятком в «Жервезе» привели
критиков в неистовство; клубы пара казались
«оскорблением хорошего вкуса». Золя удивлялся: сцена в прачечной,
вызвавшая бурю негодования, длилась всего несколько минут.
Когда еще в начале века Тальма вышел на сцену в
тунике, скопированной с римских статуй, началось сражение.
— Но у вас голые руки, Тальма! — возмутилась
актриса Вестрис.
— Но, Тальма, у вас нет штанов!
— Римляне не носили их,— ответил Тальма.
— Свинья! — закричала Вестрис и ушла со сцены.248
Гоголь не имел возможности вмешаться в постановку
«Ревизора», но, увидев на осветителе-ламповщике
замасленный халат, снял его со служащего и попросил
надеть на Осипа.
«Натуральная школа» вызывала нападки именно за
такие детали. Вкус, привыкший к условному, возмущался
описанием петербургских «углов» в альманахах
Некрасова. Наполеон Третий пришел в ярость, увидев на холсте
Курбе простолюдинок, не похожих на натурщиц салонной
живописи.
Историки театра любят описывать буйные премьеры
романтиков (бой «красных жилетов» с академиками),
наше время запомнило неистовство партера на спектаклях
футуристов, на «Параде» Пикассо в шведском балете.
Однако не меньшие скандалы вызвало и начало реализма.
В 1891 году Свободный театр поставил «Нелль Хорн»
Рони. «В третьем действии, в сцене митинга в одном из
лондонских скверов, я выпустил на сцену около пятисот
статистов с тремя оркестрами,— пишет Антуан.— Не знаю
почему, но это огромное нагромождение постановочных
эффектов привело зрительный зал в ярость, и так как шум
310
Глубокий экран
на сцене был очень силен и зрители чувствовали, что их
остроты и шутки среди этого гула не доходят до нас, то за
неимением лучшего они запели хором гимн Армии
спасения. Скрывшись в толпе статистов, я был охвачен
приступом бешенства, и по сигналу моего свистка триста
статистов на сцене устроили такую здоровую и
продолжительную бурю, что зрители, утомленные и удивленные, снова
успокоились».249
Сцена не вмещала широты жизненных панорам, напора
страстей толпы. Массовые сцены Станиславского, даже
в постановках любительского кружка, мало напоминали
театр: «... все присутствующие при новом кощунстве Ако-
сты бросились на него и стали рвать его на части. Летели
вверх куски разорванной одежды; Акоста падал, исчезая
в толпе с глаз зрителей, и вновь вскакивал, доминируя над
толпой и выкрикивая новые кощунственные слова. Скажу
по опыту этого спектакля: страшно в такую минуту стоять
среди разъяренной толпы».2
Для участия в сцене набирались «молодые, горячие
студенты, которых приходилось бы даже удерживать от
возможного членовредительства...»251
Чтобы достать подлинные материалы и вещи, театр
отправлял далекие, дорого стоящие экспедиции на поиски
старинных предметов и тканей. Требование «подлинности»
распространялось не только на вещи. Художественный
театр поручил роль певчего в «Мещанах» настоящему
певчему Баранову: на сцене появился «типаж». А. Сере-
бров рассказывает в своих мемуарах, как во время
репетиций «Детей солнца» Станиславский выгородил на сцене
конюшню и поставил лошадь. 2о2
Менялось до неузнаваемости не только все
происходящее на сцене, сам взгляд зрителя на сцену должен был
изменить привычный характер, стать подвижным.
В 1892 году, еще до «чихающего Фреда» 253 и феерий
Мельеса, снятых точно по планировкам театра Уден, как
пишут историки кино, с углом объектива,
соответствовавшим взгляду из среднего кресла первого ряда партера,
Антуан придумал изменение ракурсов. В «Ископаемых» де
Кюреля, где была, согласно указаниям автора, лишь одна
декорация (гостиная) на всю пьесу, режиссер построил три
павильона: ту же гостиную, но каждый раз с иной точки
Приложение. Воспитание зрения
311
зрения. «Комната как бы поворачивалась в каждом
действии...» — записал Антуан.254
В кино малевали на холсте не только стены помещений,
но и предметы, природу; в театре, переносили действие
вглубь, в обстановку реальности. «Обыкновенно на сцене
показывают одну комнату — мы делали целые квартиры из
трех, четырех комнат»,— рассказывал Станиславский.255
В сценической практике уже появились привычные для
более поздней зрелой кинематографии приемы построения
кадра: «Мы брали самые необычные разрезы комнат,
углами, маленькими частями, с мебелью на самой
авансцене, повернутой спинками к зрителю...» 256
Фильмы пока еще снимались на натуре, при безликом
прямом освещении; в театре свет уже стал средством
художественного выражения.
«На довольно ограниченное пространство я заставил
влиться через одну-единственную дверь около пятисот
статистов,— писал в 1889 году Антуан,— которые
просачивались медленно, как мрачный прилив, и, наконец,
затопляли всю сцену; полумрак, в котором то тут, то там
падали на колышущуюся толпу пятна света, производил
необыкновенное впечатление».
На одной из репетиций Станиславского привлек
световой луч: «Сцена была еще не освещена; где-то, из-за какой-
то декорации падал довольно яркий луч синеватого света
на пол... Все остальное тонуло в темноте. Актеры
собирались на репетицию, сходились на сцене, разговаривали,
нередко попадая в блик света; при этом продольные,
длинные тени от них ложились по полу и лезли на стены и
потолок. И когда они двигались, их тела казались силуэтами,
а тени их бежали, сходились, расходились, соединялись,
разъединялись, спутывались, а сами актеры терялись
среди них и казались такими же тенями».250
Станиславский немедленно отыскал осветителя,
записал расположение источника света: игра теней была
повторена в спектакле.
В области освещения эксперимент был так же
решителен. «Принято играть на свету, а мы мизансценировали
целые сцены (и притом, нередко,— главные) в темноте».259
Все привычное в театре разрушалось. «Мы спутали все
планы так, что зрители не могли разобраться в неожи-
312
Глубокий экран
данных линиях, какие мы знаем в природе...— писал
Станиславский.— Мы закрыли пол рисованными холстами,
уничтожили скучную плоскость его с помощью
всевозможных приставок и помостьев, построили целую сложную
комбинацию площадок, лестниц, ходов, переходов... мы
расставили на самой авансцене ряд стволов деревьев,—
пусть актеры мелькают иногда в просветах между ними».260
Фирмен Жемье уничтожил рампу, перенес выходы
и входы исполнителей в партер. Рейнгардт заставил
задвигаться сами подмостки: изобретение вращающегося круга
сделало возможным и непрерывность чередования
коротких сцен, и движение декораций.
Само театральное здание, казалось, кончало свой век.
Режиссеры стали выносить постановки в цирк, под
открытое небо, на фон реальных зданий.
Эйзенштейн решил поставить спектакль
«Противогазы» в цехе газового завода: здесь по пьесе и происходили
события. Переход к «Стачке» был почти незаметен.
Но напрасно казалось, что театр окончил свое
существование: начался новый подъем этого искусства. Так
случалось не впервые. Когда живописец Деларош зашел
в первое фотоателье Надара и увидел снимки, он
воскликнул: «Отныне живопись погибла!»261 Леонид Андреев
написал статью о кино, где предсказывал смерть сцены.
Кто не говорит в наши дни об угрозе телевидения? Но если
теперь посмотреть дагерротипы Дэвида Хилла, то его
портреты покажутся куда живописнее, чем многое в
современной живописи; на полотнах куда больше сходства
с фотографиями. В театре стали играть как на крупном
плане и перед микрофоном, а в фильмах Феллини ожила
комедия масок. Театр, живопись, кино не только живут
и здравствуют, но и находятся в сложной взаимосвязи;
менее всего это напоминает передачу эстафеты. Станет
искусством и телевидение, новое уничтожит устаревшее:
иллюзорные декорации на сцене, натурализм в живописи,
театральные фильмы. Возникают странные начала, иногда
в них открываешь причудливые продолжения, даже концы.
Перефразируя Одоевского, теперь можно сказать:
страницы Марселя Пруста ищите в «Прошлым летом в Мариенба-
де», краски Бонара — у Аньес Варда, а продолжение
Достоевского у Висконти и Куросавы.
Подготовительные материалы ко
второму изданию «Глубокого экрана»
Потешно сложилась история этой книги. В черные для
меня годы (послебелинские), когда я лишен был работы,
я жил у Эренбургов и от тоски стал записывать какие-то
картины давних лет. Илья Григорьевич тогда начал писать
«Годы, люди, жизнь». Я предложил ему показать (для
освежения памяти) киевские записи. Прочитав, он сказал,
что это стоит напечатать.
Книга началась из-за горя с «Белинским».
Пока я проходил (пробовал пройти с начала) по
лестнице нашей кинематографии, вокруг как бы вращалось
колесо: отношение к этой истории.
Целая тема: отношение к 20-м годам — полный
разгром, робкое упоминание с оговорками и извинениями,
полное признание. Ну, а чего?.. Тоже своя была
диалектика. Вот и нужно новое предисловие.
Эволюция критики, фэксоведение. Изменение качества
теней.
Глава первая
Один круг: шарманщик во дворе, дырявый коврик,
мальчик-клишник, гуттаперчевый мальчик, стук пятаков,
завернутых в бумажки. Или попка, вытаскивающий
«счастье»: медные обручальные кольца, предсказание
будущего на листке... «Контракты», звук, гомон, толчея,
пестрота...
Киоски с журналами, выпусками про сыщиков, про
героев-краснокожих...
Главный удар — Всероссийская выставка 1913 года.
Аттракционы «Вращающаяся комната» (вход в пасть
рожи дьявола); силомеры, эстрада: танцующие свиньи и эту-
аль под белым светом прожекторов...
314
Глубокий экран
Цирк Чинизелли. Чемпионат французской борьбы.
Марш гладиаторов. Кто под черной маской?
Клоуны.
Совсем раннее детство. Пуща Водица? Живые
картины: лестница, белые простыни; цветной бенгальский
огонь.
«Пан» с усами и эспаньолкой; звуки рояля из одинокой
дачи.
Сумасшедший в цилиндре, показывающий железную
дорогу.
Торговые ряды возле церквей: Печерской Лавры,
Владимирского собора (?); иконки, стеклянные бусы,
крестики, книжечки, кольца.
Любовь к яркому. Лубки. Коллекционерство.
Дом бабушки на Лукьяновке. «Тиль Уленшпигель».
Дюма.
Кино — «комическая» с губкой.
Я смутно помню первую книгу, которую я прочел, но
в моей памяти отчетливо сохранились первые
воспоминания кинематографа. Тогда он назывался «Синематограф»,
«Иллюзион».
Впечатления начинались от входа. К какому-то
оштукатуренному зданию пристроена на высоте второго этажа
будка. К ней приставлена шаткая лестница, магниевый
свет бьет из двери. Слышно громкое и странное
стрекотание. У входа в сарай маленькое окошко кассы. Оглашенные
звуки матчиша несутся из помещения. Я вхожу. Пианино
играет само. Выскакивают клавиши, деревянные звуки
вылетают из механической пианолы. На стенах плакаты,
глянцевитыми жирными красками изображены какие-то
фигуры, огромные буквы.
Наконец, я сижу на деревянной скамейке, а кругом
все топают ногами, хлопают, свистят, орут: «Мишка,
крути!» И грязная простыня, натянутая передо мной,
оживает...
Подробно описать «Царя Максимилиана».
Общий набор левого искусства: лубки, Ремизов,
Пикассо, вывески, Ларионов.
Написать диспут об эксцентризме.
Выступление Марджанова.
Подготовительные материалы ко второму изданию...
315
Сквозь ветки с почками молодых каштанов дома с
провинциальными балконами, огороженными узорчатыми
железными перилами и изукрашенными убогими
кариатидами и лепными виньетками — что-то старомодно
провинциальное было в этих улицах.
Ернические терема и купеческие ренессансы.
Стеклянные медведи, держащие голову толстыми
лапами. Майолика баранов, львов и чудищ. Благодушные
чудища с кроткими мордами и шершавыми гривами.
Расписные лари.
Украинское барокко. Пряники. Красные розы на черном
фоне.
Веселая и добрая поэзия. За что ее погнали и заменили
срисовыванием с натуры первых учеников?
Потешные деревенские черти. Глина стала
рассказывать сказки.
Пришли сухие люди и сказали: не похоже!
На кого не похоже? На баранов. Но это не таблицы
в ветеринарном учебнике, а веселые глиняные сказки.
И стало: похоже на барана. И не похоже на искусство.
В одной из теплушек сколотили прилавок.
Красноармейцы, политработники, паровозная бригада,
художники подходили к весам. Красноармеец сыпал в кулек крупу,
отрезал краюху хлеба, клал на весы селедку. Не деньги,
зарплату отсчитали,— а паек, чтобы жить как все.
Наравне. Делать общее дело. Нужное, потому что
искусство — всем нужно.
Проблем: искусство и жизнь, живопись и народ — я не
знал. Мне они и в голову не приходили.
Были прекрасные, яркие (только чистые!) цвета —
ультрамарин, краплак, лимонно-желтая. Я разводил сухие
краски в глиняных горшках на клею и большими кистями
клал краску на стену вагона. Я рисовал карикатуры на
капиталистов и генералов, прекрасные знаки, означавшие
театр,— маски, клоуна с ртом до ушей, намазанными
щеками, клетчатыми штанами, Петрушку с длинным
красным носом. Что еще я тогда знал?
Красноармейцы смотрели, как я раскрашиваю,
смеялись. Им это было по душе. Мы вместе жили, утром встава-
316
Глубокий экран
ли, мылись холодной водой, поливая из ковшика друг другу
на руки. Состав стоял в лесу.
Поезд ушел вдаль. Попал под обстрел? Сгорел?
Воспоминания — почему именно это сохранилось?
Через много лет я узнал новое течение в искусстве:
разгневанные молодые люди. Мы были обрадованные
молодые люди.
Проблемы искусства и народа тогда не было. Было
единство: народ— народное искусство (лубок —
«Максимилиан»). Не касса — со сборами, продажей билетов —
общее дело.
Конец 20-х — тоска по этому прилавку.
«Прежде характер времени едва чувствительно
переменялся с переменою поколений; наше время для одного
поколения меняло характер свой уже несколько раз, и
можно сказать, что те из моих читателей, которые видели
полвека, видели несколько веков, пробежавших пред ними
во всей полноте своего развития» (И. Киреевский).1
Разумеется, понятие «время», над которым мне так
много приходилось задумываться, работая над
шекспировскими трагедиями,— это одна из основных категорий в его
поэтически-философских образах — в реальности
исторических периодов никогда не бывало единообразным. В
одних и тех же годах заключалось неисчислимое множество
времен — концов прошлых эпох, их нетрудно было
объединить общим признаком, особой характерностью —
образовывалось поэтическое обобщение. Иногда в предисловиях
к романам это обобщение переходило через эпохи, и
читатели следующих поколений открывали для себя
прошедшую эпоху то «временем удивительной немоты» — после-
декабрьской империи Николая Первого, названной так
Юрием Тыняновым («Смерть Вазир-Мухтара»),2 то
«единым музыкальным напором» — ямбами Блока, то странной
слитностью нестерпимо жаркого лета — ритуальных
процессов, подстроенных царизмом, началом авиации,
повальным увлечением французской борьбой — кануном
войны. 3 То в «Двух городах», то в «Исповеди сына века»
появлялись эти страницы — столкновение деталей,
резких черт, несовместимость признаков, присущих годам
истории.
Подготовительные материалы ко второму изданию... 317
Вспоминая теперь первые годы работы, слившиеся для
меня, естественно, не вследствие их исторического
значения ( я тогда мало что понимал в таких понятиях) в
определенный период жизни, пробуя как-то не только
объединить то наиболее сильное или яркое — видимо, поэтому
и сохранившееся в памяти, но и как-то повлиявшее на
работу, я невольно вижу какие-то годы, скорее, как сон,
поразившую надолго небывальщину, нежели, как
обыденность, дни, последовательно собиравшиеся в недели,
месяцы, свой, ставший привычным быт. Нет, ни начало труда
в Киеве первых лет революции, ни Петроград начала
двадцатых годов не кажутся мне теперь такими, как я их
воспринимал, сам существовал в них — сколько-нибудь,
что ли говоря, «нормальными». Сшибались такие
контрасты, что трудно поверить в возможность их
единовременного существования, воздействия на одного и того же очень
молодого человека. Казалось бы, неминуем был какой-то
отбор, должны были запомниться явления одного рода.
Я не стал бы называть конгломерат таких впечатлений
словом «бред», хотя, казалось бы, такое может только
присниться. Нет, все было наяву, и ничего не только
давящего, такого, что проснешься от собственного крика,
и в помине не было. Пожалуй, характерно обратное: через
все проходило ощущение необыкновенного интереса,
радостного удивления. И все вовсе несхожее каким-то путем
обретало общность.
Через все проходило время.
Потом, через много лет, я прочитал воспоминания
людей самых различных характеров и положений, живших
в эти годы в Петрограде. В рассказе каждого из них
возникал свой образ города, угол зрения рассказчика менял
перспективу явлений, предметы появлялись в особом
освещении. Мне тогда было совсем немного лет, труд увлекал
меня настолько, что то, что являлось жизненными
сложностями, не только не печалило, но, напротив, казалось по-
своему романтическим. Характер склонностей и
пристрастий заставлял меня находить лишь яркую образность
даже в отсутствии электрического света или в нетопленых
печах.
Как я уже писал, «Царь Максимилиан» был моей
любимой пьесой. После киевской постановки на площади
318
Глубокий экран
я собирался (естественно, и не задумываясь над
возможностями осуществления) опять взяться за балаганное
представление.
Мне стало известно, что в городе живет знаток этой
драмы, автор ее нового варианта.
Тогда не ждали рекомендательных писем, не
разыскивали общих знакомых, и я поступал просто: брал папку
своих эскизов и отправлялся за советом.
Смутно ориентируясь в темноте, я добрался до
Троицкой улицы. Держась за стены домов, потом за перила,
чтобы не поскользнуться на обледенелых ступеньках
(видимо, кто-то вылил на лестницу нечистоты), я ощупью
добрался до нужной мне двери.
Загремели засовы: в свете коптилки появилось
курносое лицо с шишками на лбу, широко расставленными
глазами. На человеке было надето что-то огромное, не по
росту — не то шуба, не то тулуп.
Я начал, смущаясь, говорить про замысел постановки
«Царя Максимилиана», а хозяин, прервав, крикнул кому-
то в тьму: «Господи, какой замерзший мальчик, дай ему
скорее кипятку».
Мы сидели и пили, обжигаясь, чем-то подкрашенный
кипяток. Мигалка освещала странную комнату: на
веревочке, протянутой от одной стены до другой, были
развешены чертики, ведьмы, болотные жители — корявые фигурки,
сделанные из кусочков дерева, пробок, бумажек и тряпок;
тени от игрушек дрожали на стене.
Алексей Михайлович Ремизов не торопясь объяснял
мне на языке, который я смутно понимал, значение образов
народного представления. Он называл тогда себя Канцеля-
риусом Обезьяньей Великой и Вольной Палаты, произвел
своих друзей и знакомых в обезьяньи князья и раздавал им
какие-то знаки обезьяньих отличий разных степеней.
В маленькой газете «Жизнь искусства», примерзшей
к стенам, можно было прочесть очень короткие статьи
Шкловского, написанные языком афоризмов, полных
энергии. Я пришел к нему на Мойку. Шкловский лежал под
тулупом. Как всех тогда, его ничуть не удивил мой возраст,
он говорил со мной как с равным. Мне запомнился не
предмет разговора, но «Дом искусств» — не то Ноев ковчег, не
то паноптикум: тут было все, кроме обычного. Здесь в кори-
Подготовительные материалы ко второму изданию... 319
дорах можно было увидеть запросто такой маскарад, что
не мог присниться и самому Эрнсту Теодору Гофману:
могла появиться фигура в изысканной визитке, сшитой
лучшим портным императорской столицы, и валенках; из-
под шубы виднелась грязная ночная рубаха, голое тело;
а у кого-то солдатская шинель и черная профессорская
ермолка.
Мне захотелось как-то назвать свои странствования,
слова я не придумал, но мне пришла в голову старомодная
форма — «делать визиты» — вот отличное определение
моим скитаниям по самым фантастическим квартирам тех
времен. Время — отличный режиссер — в эти годы
создало такие контрасты, что следующим годам уже не удалось
стереть эти образы.
Низенькие комнаты в доме на Фонтанке: Анна
Андреевна Ахматова, кутающаяся в шаль, Артур Лурье — не
понимаю, как все это могло происходить! — играет мне
(почему он не сказал попросту: простите, нет времени?)
какую-то музыку, пригодную, как ему кажется, для того,
что я собираюсь поставить (но ведь это была полная
несуразица) ...
Много можно сказать самых сложных и
противоречивых вещей об этом времени, но одно проходило сквозь
отношения людей самых различных возрастов и культур:
интерес ко всему новому.
Мне хотелось бы закончить примером несколько более
позднего времени. Мы с Траубергом снимали один из
наших первых фильмов. В дверь нашего кабинета на
киностудии постучали. Факт по тем временам странный: кому
приходило в голову просить разрешения войти — дверь, не
раздумывая, с маху открывали, да еще обычно достаточно
решительным движением.
На пороге стоял Луначарский: «Как это случилось, что
мы еще не знакомы? — улыбнулся нам Анатолий
Васильевич.— То есть мы, разумеется, знакомы: я хорошо знаю
вас по экрану, вероятно, и вы меня знаете».
Между нами была огромная дистанция: опыта,
культуры, жизненного положения, но Анатолий Васильевич вел
себя так, что через несколько минут завязался живой
разговор о последних фильмах, наших планах на будущее.
Луначарский сам писал в это время какой-то сценарий, так
320
Глубокий экран
мы и обсуждали, как товарищи-кинематографисты,
положение дел в советском кино.
Такие встречи надолго запоминаются. И помогают,
особенно когда потом вспоминаешь, что твой собеседник
был не только сценарист, но и народный комиссар по
просвещению.
Глава вторая
Искусство двадцатых годов возникало из дружбы. Оно
было неотделимо от дружбы. Так было и у Пушкина
(среда Лицея).
.Потом компании, кружки. Киевский кружок.
Ленинградский. Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум. Диспуты
(диспуты футуристов. Маяковский).
Кино: Эйзенштейн, Кулешов, Пудовкин, Довженко.
Что тогда значило появление нового собеседника.
Искусство и среда искусства. Мансарда и Академия.
Исследовалась ли та эпоха?
Нет. Она обследовалась. От критика к критику
передавалась папка с одними и теми же вещественными
доказательствами — сборником «Эксцентризм», афишей двух
спектаклей. И все. Состав преступления был настолько
очевиден, что для обвинительной речи не требовалось ни
знаний, ни интереса к делу, ни стремления узнать, как было
дело в действительности. Приговор был заранее
предрешен.
Искусство — это приговор над жизнью. Но
надерганные цитаты из сочинений мальчиков 16—19 лет вовсе не
дают права критику выносить приговор над искусством.
Существенно вовсе не то, что было написано в
манифесте Эксцентризм. Интересно другое — путь, который
прошли эти люди. И к чему они пришли.
Часто писали о «скандалах» ФЭКСа. Это совершенные
пустяки. Никакими скандалами мы не занимались. Мы
унаследовали терминологию ранних выступлений
Маяковского (все относящееся к нему мы боготворили), но в зале
не было буржуа, которых можно было эпатировать. А я сам
Подготовительные материалы ко второму изданию... 321
по характеру скорее застенчив, публичные выступления
и теперь даются мне нелегко. Илья Эренбург, знающий
меня с детства, посмотрев «Гамлета», сказал: «И подумать
только, что это поставил человек с характером,
напоминающим самые старые трактовки «гамлетизма».
Потом о ФЭКСе стали писать наши артисты. Слова там
были хорошие и память доброй. Но я огорчался. Они
видели то, что происходило на каком-нибудь уроке, казавшемся
им удобным для описания. Я видел движение, перемену
всего — от недели к неделе.
Хочется задуматься над тем, как мы понимали в это
время «форму». Пожалуй, толком я тогда не смог бы
объяснить, что я под ней понимаю. Зато бесформенность мы
отличали безошибочно и страстно ненавидели. Надо
сказать, что терминология в искусстве мало что значит,
определения выцветают, изнашиваются до дыр, потом —
часто с одной только приставкой «нео» — вновь обретают
яркость, значение.
Словом «реализм» в начале 20-х годов прикрывалось
в кино бескультурье, лень, самоуверенность, нежелание
прислушаться к жизни, а часто самая обыкновенная
халтура. «Похоже на жизнь», «как в жизни» — с помощью этих
нехитрых слов режиссеры, ничего не умевшие, мало что
знавшие, пытались остановить советскую кинематографию
на уровне съемок «русской золотой серии».4
Для этих людей все, уже сделанное к этому времени
в театре (Мейерхольд), литературе, литературоведении
(что особенно было важно, потому что Тынянов,
Шкловский, Пиотровский пришли в кино), не существовало.
Режиссер Сабинский снимал «Леди Макбет Мценского
уезда». Он пришел в сценарное бюро (кажется, так оно
называлось?)и предложил назвать ленту «Оковы брака».
«Тогда уж лучше «Гей да оковы брака»,— немедленно
сказал Тынянов.
Форма была для меня понятие, антагонистическое
расхлябанности, имитации, чему-то грязному — грим,
театральная мимика, переигрыш.
Мы прежде всего стали искать совершенной точности
движений. Краткости, выразительности каждого жеста.
Человеческое тело воспринималось как крепко свинченная
конструкция.
322
Глубокий экран
С увлечением пантомимой стали образовываться и
какие-то частицы стиля. С детства я любил больше всего
карикатуры и стихи. Речь идет не только об этих двух
искусствах, что ли говоря, в чистом виде, но о влиянии
элементов поэтического и карикатурно-фантастического на
все, что мне приходилось делать. Поначалу это влияние
проявлялось в особых, совсем маленьких эпизодах, кадрах;
они работались с увлечением. В «Чертовом колесе» на
танцульке шпаны играл сумасшедший оркестр. Был
1926 год, и о комиках типа братьев Маркс еще и речи не
было. Три актера: Мартинсон (скрипач), Костомолоцкий
(барабанщик), Каплер (пианист) разыграли в немом
фильме гротескную пантомиму.
Это были фантастические фигуры, дикие движения
и буйный темперамент — род преувеличенной карикатуры
на пьяные трио нэповских времен (описать!).
Думаю, что без любви к поэзии и карикатуре я не смог
бы потом работать над образами Сервантеса и Шекспира.
И не только над какой-нибудь сценой спектакля бродячих
актеров, но и над самим образом героя.
Башмачкин был итогом пантомимной школы. Я учил на
маленьких комических (маска неудачника), на левом
театре (одухотворенный гротеск), рубеж жанров: цирк.
Сыграть фантасмагорический гротеск смог только
Костричкин, который уже несколько лет участвовал в
смелейших экспериментах. Маска? Конечно, маска, не
оправданная житейской логикой, а одухотворенная любовью
к Гоголю. Герой маленькой комической, закончившейся
смертью, с участием призраков, происходившей очень
холодной зимней погодой в городе-столице русской
империи. Каждое из значений смещалось следующим.
Мы были ученики клоунов. Тогда и Блока часто можно
было видеть в эстрадном театре Народной комедии. Он
слушал куплетистов.
Целый пласт похождений Башмачкина — упал,
вымазали с ног до головы. Наткнулся на лошадиную морду. Вот
какой трюк!
Упоение стихией движения. Походки, жевания губами,
как гоголевские раскаты букв, носовые (Набоков).5
Наслаждение произношением, игрой слов.
Подготовительные материалы ко второму изданию...
323
Игрой. Точностью движений, выразительностью
крохотного жеста.
Потом — ночная съемка. Мы видели огромность
черного. Дыру. Не ночь, а дыры. С натыканными монументами.
Когда что-то делаешь, меньше всего иллюстрируешь
значения. Настоящее дело выходит случайно, от помех,
оттого, что лишь так можно выкрутиться. Но до этого как-
то жил, что-то видел, что-то читал. Вот сколько что-то, как-
то. Ну чем не речь Башмачкина?
Нас интересовала ткань кино, немого кино: пантомима,
светотень, монтаж. Мы хотели не перелицовывать сюжет,
разыграть фабулу на театральный манер, а сшить на
экране саму «Шинель» — гоголевским покроем. Только из
других материалов. От смелости этого покроя голова
кругом ходила: причудливый юмор — и фарс, и гротеск,
невероятность ракурсов, сдвиги планов (то вечеринки у
чиновников, то мечта о теплой шинели-подруге, то рожа
какого-то генерала, занимающая все поле зрения, а самой
рожи нет — дырка, заклеенная бумажкой,— крышка
табакерки Петровича, то бред Башмачкина, то совершенная
натуральность департамента).
Странное положение: немое кино было тесно связано
с наукой о слове. Я говорю о себе, с первых лет работы
рядом был Тынянов. Тогда вышли первые рассказы Бабеля,
и сила слов — яркость красок, совершенная реальность,
оборачивающаяся фантастичностью,— поражала. Во
времена ФЭКСа мы соглашались перейти на московскую
киностудию, если нам дадут ставить «Короля» Бабеля.
Слова горели невиданной яркостью: Беня Крик носил
малиновые штиблеты и оранжевый пиджак, каждая его
реплика была словесной игрой. Все это привлекало, а кино
было бесцветным, безмолвным.
Немое кино у нас начинали люди, которые знали толк
в слове.
Был культ кино, прямо-таки религия экрана. И все же
в начале немого кино бе слово.
Фамилии, выдуманные Гоголем,— целая поэзия. Но
были герои, которых он крестить не хотел. Ни имени, ни
324
Глубокий экран
отчества. Значительное лицо — и все. Чин, место. Акакий
Акакиевич посягнул — перепрыгнул через множество
ступеней,— прибежал жаловаться кому? Чину, месту, на
которые ему и глядеть не положено было.
Так мы и сняли. Стол, за которым сидело Значительное
лицо, подняли на помост, а камеру положили на пол: так —
грозным монументом — видел его Башмачкин. Потом,
следующим кадром, показали Акакия Акакиевича, с точки
зрения начальства: втащили штатив на вышку (съемочных
кранов тогда и в помине не было), наклонили камеру
объективом вниз: и сняли общим планом ничтожную фигурку
с лысинкой на темечке.
Монтажный стык стал предметом внимания. О нем
много писалось в «Поэтике кино» (1927 г.).6 До этого
Кулешов склеил человека, идущего по московским улицам,
с Белым домом: получилось, что он шел в Вашингтоне.
Теперь это называют «эффект Кулешова». Думаю, что
монтажный стык двух ракурсов был тоже в каком-то
смысле «эффектом»: переводом литературного ряда в
изобразительный — разрушением единства точки зрения
(театральной) для единства смыслового. Тогда это называли
обнажением приема.
Если в последних работах я стараюсь скрыть прием, то
удается мне это потому, что учился его обнажать. Ну,
а почему его нужно скрывать? Вероятно потому, что мысли
лучше не навязывать, а пробуждать.
Два понимания времени: «обнаженные приемы»,
статика схем, движение наивных противопоставлений
(Мейерхольд — Станиславский; Маяковский — Ахматова).
Молодые щенки — райские птицы.
Или: начатое и продолжавшееся движение. Не
оборванное. И не застывшее, и поэтому не выродившееся
в академизм. Молодые щенки в сорок лет.
Тынянов, Андрей Платонов, Булгаков. И в первую
очередь* Шостакович.
Авангард. Новая волна — коммерческий фильм.
Стравинский, Пикассо.
Слава 20-м годам!
Но слава и тем, кто перерос их, сохранив себя, услышав
не утопию, а реальность.
Подготовительные материалы ко второму изданию... 325
Переписать «Красноречие молчания» — рядом с
«формальной школой».
Элемент движения, движение, разъятое на жесты.
Структуры: походка, одна рука, китайский и японский
театр.
Школа психологическая. Тогда к ней, в нее дверь была
закрыта эпигонами Станиславского. Как он сам писал об
открытии давно забытых истин.7
«Открытие Станиславского». Актеры, работавшие с
ним: «Константин Сергеевич говорил» и — поставленные
голоса, театральщина. То, с чем он воевал.
Свое. Только свое. Культ комиков.
SWD — объяснение в любви к Мейерхольду, маске —
игорный дом, авантюрист, бродячий цирк.
Низкий жанр — вот что тогда был «авангард».
«Левое искусство», «низкие жанры» — антиакадемизм.
Вообще эту тему — антиакадемизм — суть ФЭКСа —
энергичнее.
Защита территории Кино. Культ гордости.
И — десятилетия — «кино», подсечка коней.8
О ФЭКСе. Главным, пожалуй, было ощущение
необходимости завтра не только продолжить опыт, который мы
начали, но и двинуться куда-то в другом направлении —
испробовать что-то кажущееся необыкновенно
интересным. Эта безостановочность, огромность впечатлений,
ощущений, маячащих вдали кадров, совершенная
уверенность в том, что мы-то настоящее дело делаем, и те, кто
с нами — оператор, художник, артисты, они-то и есть
самые лучшие. Они-то не испугаются попробовать. Как
ловко они двигались, какое у них было отменное чувство
юмора, мгновенная эмоциональная возбудимость. В какую
точную форму — без мазанья, без любительщины, без
театра — все это выливалось.
Ну, а чего же мы хотели? К чему стремились?
Пожалуй, войти в общий фронт. Я был полон тех же
ощущений, когда в 13 лет расписывал теплушку
агитпоезда, репетировал «Царя Максимилиана» и учил
Герасимова, Жеймо, Кузьмину, Костричкина.
326
Глубокий экран
Главным, видимо, было то, что мы называли «низкими
жанрами», на что набросились. «Изголодавшиеся по
кино» — кажется, так назвал нас Тынянов, по кино «как
изобретению».9
В двадцатые годы была и безоглядность экспериментов,
и широта взгляда на историю культуры. Юрий Тынянов
написал «Архаистов и новаторов»; Эйзенштейн начал
исследование структуры пафоса. В наши дни Тынянов смог
бы дополнить свою книгу главами: неоклассицизм
Пикассо; циклы музыки Стравинского;· стихи Заболоцкого
(озорной лубок «Столбцов» сменялся высоким строем оды
совсем не потому, что поэт увлекся поэзией восемнадцатого
века).
Возвраты (всегда на новой основе) жанров и форм
являлись в серьезных работах не стилизацией, а открытием
тех сторон духовной жизни людей, которые не исчезали
бесследно вместе с переменами общественных форм.
Хотелось усложнить кинематографическую задачу.
Таким усложнением и была «простота», которую нам
хотелось достигнуть. Еще в пору крайних опытов монтажного
кино захотелось снять чисто актерский фильм. В. А.
Каверин согласился сочинить сценарий, действие которого
происходит в комнате, запертой на ключ. Способом
ведения действия должны были стать преимущественно
крупные планы артистов.
Задачу мы запутали чрезмерным аскетизмом. Тынянов
смеялся: бывают разные виды спорта: прыжки в высоту,
в длину, могут быть и иные — невысоко и недалеко, но
скажем, через помойную яму. Рекорда не поставишь, но
оступиться и оказаться в грязи — противно. Не ставите ли
вы себе такое задание?..
Во многом Юрий Николаевич был прав. И все же не во
всем. Дело было, разумеется, не в необходимости
ограничиться только запертым помещением и сценарием, где нет
ничего, кроме крупных планов,— поле исследования нужно
было сузить, чтобы научиться исследовать. «Броненосец
«Потемкин» открыл, казалось бы, широкую дорогу
кинематографическому искусству — и действительно, многое
началось этим фильмом. Но, одновременно, эта дорога вела
Подготовительные материалы ко второму изданию... 327
и к тупику. Гений Эйзенштейна одухотворил даже такие
кадры, как технологию передачи продуктов питания на
корабль, а эстетическая система не вышла за пределы
времени. Пафос цифр не долго питал революционное
искусство; массовые зрелища на площадях быстро
утратили интерес, недолог был век героя-массы в литературе.
Ленин говорил, что народ перерос зрелище.10 Можно
добавить: даже если оно было изысканно.
Штурмующее поколение.
Одержимость числом, масштабом, социальной
полезностью, общественным делом, тотальным уничтожением
старого, возведением нового на чистом месте.
Ненависть к пониманию сложного пути нашей жизни
как жактовской истории.
Масштаб постановки вопросов, ломающий загоны
известного.
Для этого поколения «соцзаказ» был чем-то вроде
клятвы на Воробьевых горах.
Что могло быть более прекрасного, чем трудиться для
заказа?
Вы скажете: как-то уж все это слишком прозаично. Но
все зависит от заказа. Перевернуть вселенную!
Сюда — надпись на книге Пудовкина.1'
Что нужно? «Нельзя судить, что нужно...»
Так называемое «утилитарное» искусство, то, что
художники делали, выполняя «социальный заказ», ровно
никакой пользы в то время не приносило. Никто не шил
пальто по фасонам Татлина, в быт не внедрились киоски
Лисицкого, и народ не включался в массовое действо.
Но заказ был выполнен — и с небывалой силой.
Заказ культуры, самосознания времени революции.
Смогли проверить пророчество.
«Зерно» умерло, но какой урожай сняли и продолжают
снимать.
«Джамперс» и «Женитьба».12
Есть ли фильм, в плоть которого не вошел Эйзенштейн,
Вертов?
Как Пушкин в русский язык.
328
Глубокий экран
Художественная совесть, не декларируемая словами,
заставлявшая неутомимо искать, вера в то, что ничего еще
не известно, что революционное кино еще сделало совсем
мало, все впереди; чтобы достигнуть прекрасного, нужна
прежде всего тревога, стремление к тому, чего еще не
существует. Предстоит не поставить вместо
«Таньки-трактирщицы», теми же способами, какой-нибудь полезный
сюжет, а размахнуться так, чтобы небу было жарко.
Помнить не о служебных радостях, а о размахе гоголевских
образов, о неуспокоившемся новаторстве искусства: о
вечно молодом Маяковском (не отобранном еще для учебного
пособия, а полном Маяковском), о Мейерхольде, которого
еще «усваивает» все мировое искусство, о красках Бабеля
и образах Пастернака, о том, что при нас на улице висела
наклеенная газета: «Двенадцать» Блока, и красной
спиралью ввинчивался в небо памятник Третьему
Интернационалу Татлина.
Чего нам, перед кем извиняться?..
Смотрите: на сером, наводящем тоску небе, вдруг опять
вспыхнула она, загорелась, подмигнула своим озорным
сиянием, веселая звезда двадцатых годов.
Смотрите же на нее!..
И опять странное издание тех лет, от которых я никак не
могу отойти настолько далеко, чтобы видеть их лишь в
прошлом, спокойно думать о них, пришло мне на память,
заставило вновь задуматься о спорах, принадлежащих,
казалось бы, лишь истории.
Журнал «Изобразительное искусство». Год издания —
1919. Репродукции Татлина, Альтмана, Штеренберга.
И главное, программная статья Осипа Брика. В свое
время я прочитал ее с восторгом. Приведу начало
«Художника и коммуны»:
«Сапожник делает сапоги, столяр — столы. А что
делает художник? Он ничего не делает, он «творит». Неясно
и подозрительно».13
Художественная программа, или, говоря языком
несколько более поздним,— установка, поражала прежде
всего рассеиванием, уничтожением всего туманного,
связанного с так называемой «художественностью»: «неясно
и подозрительно» ставило все на свои места. Творчество
Подготовительные материалы ко второму изданию...
329
было пожизненно приговорено к заключению в кавычки,
труженики отделены от тунеядцев, поставщиков опиума
для народа. Несколько позже я увидел на одной из
выставок лозунг: «Мир химикам, война творцам!»
Пафос статьи мне хотелось бы отделить от скучных,
наукообразных рассуждений об утилитарности,
печатавшихся потом в «Лефе». Сила программы была в
лапидарности, прелести первозданных противопоставлений.
Теорию вскоре без труда свели со света. Высокие слова
освободили от кавычек, зато в них заключили подобные
теории. Для увеличения меры наказания даже перевели
в уменьшительное число: «теорийки».
А. В. Луначарский отнесся ко всему этому по-иному.
«Несмотря на то, что я сильно поспорил с Владимиром
Маяковским,— вспоминал Анатолий Васильевич,— когда
он, перегибая палку, начал доказывать мне, что самое
великое призвание современного поэта — в хлестких
стихах жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице,
в душе я был им очень доволен».14
Что же обрадовало наркома просвещения?.. Ненависть
к «наплевизму» художников на жизнь, как выразился
Луначарский, облаченному в «выспренность» и
«жреческую гордыню».
Сочувствовал ли он положительной части программы?
Разумеется, нет. Он, в этом случае, не принимал ее всерьез:
«Я знал, что Маяковского в луже на Мясницкой долго не
удержишь...» 15
Такой ли уж новой была «утилитарность»?
В нашей печати долго спорили о том, с какого года
Маяковского следует зачислить в реалисты, а до какого
приходится считать футуристом. Я не литературовед,
и во всем этом мне никак не разобраться. Хочется только
вспомнить, что, думая о постановке «Отцов и детей»,
Мейерхольд хотел пригласить на роль Базарова Маяковского.
Вряд ли Всеволода Эмильевича привлекала лишь
внешность поэта.
Повадка и речи властителя дум прошлого века
непросто сочетались со свойствами его натуры, судьбой.
Обыденного в Базарове не было ничего. В
материалистической проповеди было немало романтического пафоса.
Романтизм в разные эпохи обозначает несхожие устремления.
330
Глубокий экран
Романтики во времена Базарова утрировали внешний
прозаизм.
Это традиция русской литературы, всегда искавшей
дела, а не слова, поступка, а не фразы, как о самом
прекрасном мыслящей о пользе людям, об участии в
реальности, если угодно, в борьбе за правду, иногда до тупика
(Гоголь, Толстой), и умеющей не стесняться «крайности».
До «Пощечины общественному вкусу» Пушкина
«сбрасывал с парохода современности» Писарев, Мусоргский
находил музыку в речах Феклы и Подколесина. |6
Но случались странные образования. Белинский был
первым, кто заметил, что за веселым рассказом о глупой
ссоре провинциальных помещиков скрыта щемящая сердце
тоска.
Явления оборачиваются своими противоположностями.
Разговор о том, что отношения мужчины и женщины —
лишь физиология, заканчивается смертью Базарова,
одухотворенной любовью.
Почему же мне захотелось привести старые слова,
вспомнить споры, казалось бы, давно уже решенные?
Время показало: мостовые ремонтируются и без помощи
поэзии, а что касается сапожников и столяров, то
искусство, напоминающее их труд — тачание сапог или
сколачивание стола,— оказалось им самим не по душе.
Слова и дела имеют свои судьбы; отношение между
словами и делами в искусстве не просто. В словах многое
существует между строк, интонация может изменить
смысл. Все неотрывно от своего времени, многое, переходя
в иное время, меняет черты, однако существо противоречия
не снято, движение, начатое давно,— продолжается.
И слова и дела вступают в новые отношения.
Чем грубее и обыденнее слова об искусстве,
произносимые молодыми художниками в первые революционные
годы, тем более возвышенными они казались. Призывали
к отмене живописи, кроили выкройки для пальто, модели
усовершенствованных печек, упраздняли театр во имя
утилитарности, а на деле расцветало романтическое
искусство. Устремление в будущее, как на крыльях, подымало
это искусство над землей, над бытом.
Вопрос об «утилитарности» этих произведений решить
и теперь не легко. Были вещи, сочиненные для своего дня:
Подготовительные материалы ко второму изданию... 331
частушка, плакат — они жили своим днем, казалось бы,
теряли свой смысл на следующий день, но и они перешли
через время, оказались искусством.
Время шло. И слова и дела продолжались в ином
времени. Слова были произнесены не на ветер: служение
народу и общественная польза были для художника не
пустыми. И если никого, разумеется, не сагитировал «На
всякого мудреца», то об общественной пользе
«Потемкина» даже и говорить неудобно. Слишком такое искусство
велико для этого определения.
Но время стало иным. В искусстве возникло не до конца
осознанное определение: нищий. И пошел по миру Иван
Бабичев |7 с подушкой, провозглашающий заговор чувств.
Юрий Олеша выпустил один из самых странных
романов.
Сундук Эйзена был чем-то похож на наволочку
Председателя Земного Шара.18
«Кушайте на здоровье» ,9 и реальность колхозов.
Монтажные фразы скорее не Пушкин (чего хотелось бы
ему!), а Хлебников.
Если будет 2-е издание «Глубокого экрана» —
написать главу ТВОРЯНЕ. Начать со срамного слова «творцы».
Эйзенштейна сравнивали с Леонардо. Красиво, но не
похоже. Не было у него и тени улыбки Джоконды. И
Мадонны Литты не могло быть. А вот на Хлебникова он,
действительно, похож. Словообразование. Особенно
выведение целого куста слов из одного корня. Пересмотр всех
традиций, новые способы смыслового выражения. Целое
стихотворение из слов одного корня.
Сама идея «Заклятия смехом».20
Мифология, древние корни языка и математические
пророчества.
Вихревые ритмы и интонации. Взрыв книжных
(экранных) интонаций и семантики.
Те же возможности спора о «зауми».
Те же космические утопии в разруху.
Поиски математических закономерностей, вычисления
«Досок судьбы» — цель: объективность конструирования
новой мифологии.
332
Глубокий экран
Мифотворчество «Старого и нового» — сплав науки
и поэзии.
Как ни странно, в этих двух искателях слов и значения
цифр куда больше общего, нежели в обычном (и я его не
раз употреблял) сравнении Эйзенштейна с Маяковским.
Если уж говорить о Маяковском, то «Потемкин» ближе
к гиперболам — библейским — дореволюционных его
поэм, чем к периоду ЛЕФа, когда отлучение Сергея
Михайловича от «неигровиков» было естественным.
Если угодно, это о нем писал Хлебников:
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим:
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти! 21
Сперва сеятелем очей пошел тот, кто называл себя
«киноком».22 В «Потемкине» урожай стал виден всем.
Потом Эйзенштейн понял, что он «никем не виден» — от
Голливуда до Москвы.
Это было особенно ощутимо в тридцатые годы. «Бежин
луг»!
Когда в 1920 году в Харькове пригласили Хлебникова
преподавать в литературной студии, «наконец после
настойчивых просьб поэт привстал, сухо сообщив, что им
обдуман и разработан план двух лекционных курсов для
студийцев. Один будет посвящен принципам японского
стихосложения. Другой — методам строительства
железной дороги через Гималаи... Слишком ошарашила всех та
будничность и деловитость интонаций, с какой он
«сопрягал» Гималаи, железнодорожное строительство и нашу
еще не родившуюся литературную студию» (А. Лейтес.
«Новый мир», 1973, № 1, с. 225).
Вот — весь Эйзенштейн. Комментарии к чтению,
«сопряжения». Такой курс он читал. Правда, про Гималаи,
кажется, не говорил.
Чтобы слово «творчество», затасканное, залапанное,
загаженное, превращенное в какое-то срамное
бахвальство, ожило, нужно вспомнить хлебниковское:
Это шествуют творяне,
Заменивши Д на Т. («Ладомир») 23
Подготовительные материалы ко второму изданию...
333
Об Эйзенштейне («Стачки» и «Потемкина») —
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.24
Единство революционной стихии и строгость научной
формулы. Только не той, что в уже добытом, а в прыжке
через логически последовательное к озаряющей догадке,
гипотезе, вычерчивающейся молнией.
«В тот же вечер я услышал от него слово «небоход».
Оно показалось мне настолько необычным, что даже не
задело моего сознания. Сейчас все мы привыкли к таким
словам, как «лунник» и «луноход». Но тогда?...
За полвека до наступления эры космонавтики он
усердно заготавливал для нее слова. Заготовками необычных
слов и необычных словосочетаний он вообще очень охотно
занимался» (Лейтес, с. 229—230).
Ср. Татлин.
В этом же ряду «заготовок» проходило и мое детство.
ФЭКС.
Откуда я мог знать, что появится «театр абсурда»? Что
жизнь потребует таких сочетаний, какие, не раздумывая,
мы нагородили в «Женитьбе»?
Что такое «заготовки»? Записи увиденных или
услышанных деталей? Случившихся историй? Сюжетных
положений? Да, все это.
Но главное — иное: стенограмма предчувствий. Ее
расшифровываешь потом, много лет спустя. И оказывается,
что казавшееся осмысленным — набор нелепиц, чепуха,
абракадабра, «заумь», а в них-то и есть главный смысл.
«Новый Вавилон». Замысел фильма — вовсе не
замысел сценария, который потом следует «интерпретировать».
Тогда, во всяком случае, так вопрос не стоял.
Первый вариант сценария был написан под влиянием
Золя. Редактор нового издания «Ругон-Маккаров»,
выходившего как раз в это время, М. Д. Эйхенгольц приводил
в конце каждого тома подготовительные планы и наброски
автора. Эта часть привлекала особенное внимание.
334
Глубокий экран
Лаборатория «экспериментального романа» открылась
перед нами, как обетованная земля. Биржа, рынок,
железная дорога, универсальный магазин — взятые не только
как материал, но и как громады социальных символов,
симфонии вещей, гиперболы натюрмортов и
прейскурантов — все это до удивительности совпало с поисками
кинематографистов.
Эйзенштейн — недавно взявшийся за педагогику —
роздал двадцати студентам по тому «Ругон-Маккаров»:
учитесь!
В киногазете и журналах спорили о «золаизме» на
экране.
Каждый находил у отца натуралистического романа
свое. Всех объединяло только одно: совершенное забвение
человеческих образов писателя. Как это ни покажется
теперь странным, привлекали лишь крайности стиля.
Я уже писал, что процесс чтения — дело в режиссуре
крайне важное. Читали мы по-особому. Сравнения, часто
пользуемые Марксом для наглядной социальной природы
явления, мы воспринимали как буквальные образы.
Именно те самые, что можно и должно показать на экране во
всей их красочности.
Герои нашего сценария были куда ближе к образам
Домье, нежели к психологическому реализму. На
баррикаде встречались герои, но прежде всего это была баррикада,
динамическая фреска.
Так хотелось (скорее чувством, чем рассудком) строить
фильм.
К чему велась эта работа? Что было в ней главное:
чистота ритма, непрерывная, неослабевающая
эмоциональность, напряженность каждой линии в своем ключе.
Катастрофы — нагнетения сплетенных линий бала,
канкана (припев Елены: «кувырком, кувырком полетит»25).
Неистовство канкана Второй империи, марша немецкой
кавалерии, поезда с солдатами, летящего в пропасть.
Кадры монтировались, как звуки: ноги, копыта, каски,
скок, вихрь юбок, волны юбок, пустились в пляс боги,
корона летит с Менелая. Уже присутствовал звук.
Напряженная эмоциональность. Натянутая струна.
Срезалось все, кроме кульминации.
Подготовительные материалы ко второму изданию... 335
Мой рассказ о кино той поры был бы неполным, если бы
не попало в него — хоть краем — место, без которого никто
из нас не обошелся. В 20-е годы Одесса стала
кинематографическим городом. Я чуть было не написал, как
выражаются в таких случаях, «нашим Голливудом», но уж очень
не похожими запомнились мне эти места. Правда,
Голливуд я увидел своими глазами в 1960 году: на пустынных
улицах не было прохожих, только машины двигались по
улицам. Для меня это было не посещение современного
города, а скорее возвращение в прошлое.
Чтобы стать тогда режиссером, необходимо было хоть
одну сцену снять в Одессе, чтобы особое солнце опалило
тебя. Одесса была не просто удобным по климату городом,
но местом встреч, перекрестком, где встречались
кинематографисты Ленинграда, Москвы, Киева, Тбилиси.
Мы снимали тогда сцены на версальском холме:
попытку разоружить национальную гвардию, увести пушки,
отлитые на собранные населением деньги.
В раскрытом окне первого этажа «Лондонской
гостиницы» сидит Кулешов, он показывает нового члена семьи —
жесткошерстого терьера Крысу. На столе фотография:
Лев Владимирович в кожаной кепке, куртке, крагах у
мотоцикла — все согласно эстетике конструктивизма.
Стук в дверь. Неторопливо входит Довженко.
Начинается один из его монологов. Он рассказывает о сценарии
«Царь».
Исаак Эммануилович Бабель требует, чтобы я отвез его
по адресу: такси нет, а я как раз осваиваю шоферское дело.
Вместо одного адреса оказывается несколько адресов.
Исаак Эммануилович не только эксплуатирует меня как
водителя, но и уличает: «Я ведь храбрец. Я рискую
жизнью, разъезжая с Вами. Благодарите: вы же на мне
учитесь. И мы поедем на Молдаванку. Вчера я там был.
Я понимаю, что этого не может быть, но все выглядит так,
как у меня написано».
Съемку массовой сцены прерывают грохот, гудки,
скрежет тормозов. «Товарищи! — сорванным голосом орет
человек, стоящий в кузове грузовика, подъехавшего к
толпе.— «Коммунары», все на киностудию! Мы же заплатим
больше, чтобы я провалился!.. В кузов! Вы что, не
понимаете: срывается съемка!»
336
Глубокий экран
Еще во время съемок «Нового Вавилона» мы
предложили Маяковскому сочинить для нас сценарий, где новые
жизненные отношения конфликтовали бы с бытом,
навыками прошлого. Владимир Владимирович согласился. Из
наших фильмов он почему-то одобрительно отзывался
о «Братишке»; думаю, что значение имели не достоинства
картины, а пристрастие ЛЕФа ко всему утилитарному,
машинному. Зато «Новый Вавилон» Маяковский заранее
ругал уже за то, что фильм был игровым.
— Вы хотите убедить меня,— говорил он, расхаживая
по номеру Европейской гостиницы,— что Арнольд,
которого я вчера обыграл на бильярде, парижский коммунар.
Артист играл в фильме иную роль, но ходил в жизни
с отрощенными для съемок усами и бородой.
Точно в назначенный срок Маяковский прочитал нам
рукопись. «Позабудь про камин» делилась на две части:
в первой были сатирические похождения рабочего парня,
ставшего мещанином, его заваливало во время пожара.
Дальше шла мультипликация — выполнение пятилеток,
действие переносилось в будущее: парня отрывали из-под
обломков, его выходки веселили людей нового общества.
Время меняет, иногда самым решительным образом,
отношение к произведениям искусства.
Мы от души смеялись над отличным диалогом комедии,
но ни мультипликация, ни картина утопии нас не увлекли.
Вещь казалась условной, безжизненной.
Владимир Владимирович не обиделся, мне кажется, что
и ему самому сценарий не казался удачным. Вскоре он
переделал его в пьесу.
В пятидесятые годы я увидел «Клопа», поставленного
В. Плучеком и С. Юткевичем в Театре сатиры. Спектакль
не только доставил мне радость, но и поразил: сатира
Маяковского ожила, многое казалось написанным сегодня.
Глава третья
К началу тридцатых годов необходимость обновления
экрана стала очевидной. В фильмах, даже лучших, хотя
и было немало интересного, но сам дух новизны, чувство
современности исчезли. Пропала и эмоциональная связь
Подготовительные материалы ко второму изданию... 337
с экраном. Прекрасные кадры и сильные монтажные фразы
не собирались в единое целое: фильм распадался на куски.
Начались споры. На словах были ухвачены промахи
прошлого периода: развал драматургии, слабость
человеческих образов. Но скоро выяснилось, что и драматургию
и образы людей каждый из нас понимал по-своему. Теперь
мне кажется, что сутью разногласий были не только формы
выражения: открывалась—многими сторонами —
несхожесть искусства и современной жизни, несоединимость
существа происходящего в реальности с тоном фильмов.
Не знаю, достаточно ли точны определения: существо
и тон, но я хочу сразу же сказать, что речь, во всяком
случае для меня, не шла о внешней похожести экранных
событий и лиц на жизненные. Что общего — на
поверхности — было между Украиной 1919 г. и «Фуэнте Овехуна»?..
Католические короли и инквизиторы не напоминали
петлюровские банды, а вилланы — красноармейцев. Но
жизненный подъем революции, переполняя марджановский
спектакль, делал современными его краски и ритмы. Сам тон,
интонация — были правдой времени.
Неоспоримой правдой являлся «Потемкин», хотя, как
известно, матросов не расстреливали под брезентом и
история в действительности была во многом иной. Но
броненосец, созданный Эйзенштейном, сам стал реальностью,
явлением революции.
«Потемкин» вышел за пределы не только подлинного
исторического события, но и эстетической системы. А сама
система зашла в тупик.
Конечно, и тупики и выходы из них в искусстве понятия
относительные. Двадцатые годы вовсе не исчерпали себя:
одухотворенный революционный труд, духовное
напряжение молодого поколения — прочный материал: еще не раз
найденное в те годы поможет выбраться из новых тупиков,
куда забредут и театр и кино. Но теперь, в начале
тридцатых годов, пришла пора решительного отрицания.
Сменялись вовсе не технические системы. Умерло великое
искусство немого кино.
Оратором — от имени группы — я никогда не был.
Впервые я взял слово в 1933 г. Об этом выступлении я
вспомнил, перечитывая стенограмму заключительной речи
338
Глубокий экран
начальника ГУКФа Б. 3. Шумяцкого: «вреднейшая
тенденция, выявленная прениями,— говорил Шумяцкий,—
это противопоставление прежних знамен новым... Эта
тенденция особенно резко была подчеркнута в речи моего
друга тов. Козинцева. Он так прямо и сказал:
«Встречный» — не знамя».26
Шумяцкий привез из Голливуда честное стремление
совершить и техническую и организационную революцию.
Киногород должен был строиться где-то в Крыму около
Байдарских ворот.
Мы верили в него, мечтали скорее переехать туда не
только работать, но и жить. Я произнес речь о «подушке
Бабичева», которую нужно оставить на старом жилье.
Я выступал против «Встречного» за знамя «Потемкина».
Мне аплодировали.27
«Литература была белый лист, а теперь он весь
исписан. Надо перевернуть или достать другой»,— пишет в
дневнике 1897 года Лев Толстой.28
Что значит это: достать другой,
перевернуть?
Непрекращающееся внутреннее движение — спор с
вещами, сделанными людьми, которых уже давно нет в
живых, существование — не фильмов, а самого движения
вперед, неустанного процесса обновления, борьбы за новое
зрение; кинематография, а не способ репродукции
технически усовершенствованной «живой фотографии», процесс
исследования жизни на глубине, сейсмографическая
отметка толчков времени.
В этой борьбе участвуют не течения, направления,
а только лица. Здесь грош цена в базарный день теории
«интеллектуального» кино, безбожно устарели «звуковые
заявки» и монтажно-типажные теории. И здесь живо
зрение Эйзенштейна, интонация Довженко, ярость Штрогей-
ма, здесь путь от Мельеса к Феллини куда ближе, чем от
Антониони.
Тридцатые годы для меня были не только ощущением
исчерпанности высокой ораторской интонации, но и
решительным неприятием всего, что именовалось тогда борьбой
за «драматургию», «живого человека».
Подготовительные материалы ко второму изданию...
339
Однако сам по себе герой не может вольно гулять по
экрану и делать, что ему придет в голову. Неминуемо
завязываются связи с другими людьми, появляются
определенные обстоятельства. Здесь — в средоточии связей и
обстоятельств — и образуется композиция фильма.
А вместе с ней обязательно начинается и спор о месте и
значении сценария.
Особенно яростным был он в начале тридцатых годов.
Прошлый период ожесточенно громили за распад фильма,
кусочечность, невнимание к человеческим образам.
Теперь на главное, почетное место должен был выйти
сценарий — основа фильма; характеры должны были
зажить полной жизнью уже на бумаге.
На словах все представлялось неоспоримо верным. Но
много ли значат слова, оторванные от дел?.. Каждый раз,
когда я дохожу до так называемых «творческих споров»,
мне становится не по себе. Ощущение мнимости
определений, маскировки хорошими словами дурных дел,
отсутствие широты представлений об искусстве, неумное
нетерпение, сведение итогов при помощи «ловкости рук» —
все это, к сожалению, чаще приходит на память, нежели
честный спор художников. И память опровергает простые
и, казалось бы, неоспоримые положения.
Начнем со сценария. Мне хотелось бы прочесть
исследование о сценаристе того времени А. Ржешевском. В
наших киноведческих работах фигурирует один сочиненный
им кадр, множество раз он упоминается как пример тупика,
куда забрело кино прошлого периода: «Необыкновенный
человек идет по необыкновенной земле». Действительно,
как снимешь такой кадр?.. Ответить трудно. Проще
ответить на другой вопрос: ну, а кто взялся бы снять сценарий,
написанный в форме таких описаний?.. Взялся Пудовкин;
он был не на шутку увлечен сценарием «Очень хорошо
живется», и как будто Всеволод Илларионович не был
простачком в кино. Нелепо также изображать
Эйзенштейна ребенком, которого нечистый (тот же Ржешевский)
попутал, вот и случился провал с «Бежиным лугом». Меня
сейчас интересует не качество (в нем теперь уже и не
разобраться) этих двух фильмов,, а иное: что увлекло двух
серьезных и глубоких художников в сценарной форме
Ржешевского. Не знаю, покажутся ли эти сценарии се-
340
Глубокий экран
годня интересными, но думаю, что какую-то частицу своего
времени они сохранили. В чем же она состояла?
Периоды искусства редко завершаются тихим
затуханием. Происходит многое: естественное окончание и
насильственная гибель, угасание и приканчивание.
Несомненным для меня являлась невозможность
непосредственного продолжения — прямым путем — эстетики немого
кино. Слишком велики были жизненные перемены. Но труд
двадцатых годов не оказался напрасен. Речь продолжала
идти об экране, открытом двадцатыми годами, а не о
пустом месте, которое следовало сдать в аренду (с
соблюдением некоторой технологии) театру или литературе.
И этого завоевания прошлого периода (как и других — они
оживут позже) нельзя было отдавать. Спор шел не только
с прошлым — риторикой немого кино, но и с настоящим:
нехитрым освоением «темы» и «материала» с помощью
разыгрываемой перед экраном мещанской пьесы на
актуальный сюжет.
Нередко два этих периода нашей кинематографии
противопоставляются: эксперименты, поиски новых средств
выражения первого и тенденциозность, консерватизм
формы — второго. Конечно, трудно огульно оценивать целые
десятилетия, но, говоря о наших фильмах, мне было бы
трудно согласиться, что работа над трилогией о
Максиме была для нас периодом беззаботности к вопросам
формы. Вовсю продолжалась и экспериментальная работа,
только направление ее стало иным; многое, как это всегда
бывает при утверждении новой темы, выражалось в споре
с традицией (в ее складывании принимали и мы свое
участие), уже неспособной выразить новые мысли, хотя
внешне эта традиция казалась еще смелой, «острой».
Именно такой пробой — со всеми перегибами и
излишествами — были для нас фильмы о Максиме. Мы воевали
против публицистичности, темы «курсивом». Нам хотелось
поэтичности обычного, человечности обыденного. Многое,
конечно, не получилось так, как это хотелось бы, но
делались эти фильмы вовсе не с предположением: «была бы
правда в душе — форма приложится».
Бесчеловечность монументов и проспектов «Шинели».
Подготовительные материалы ко второму изданию...
341
Оболванивание Максима в полиции. Чтение приговора.
Перечень губерний.
Две грани бесчеловечия: обезлюдивание и оскотение.
«Козлы и обезьяны» Отелло. Дворня герцога Корнуэль-
ского.29 Ворота, закрытые за Лиром.
Огромный (на мой рост) актовый зал Киево-Печерской
гимназии. Стерильный паркет. Первое нежилое помещение
на моей памяти. Директор в вицмундире. Молебен.
Построение парами — после семьи. Казенное место.
Чувство одиночества, затерянности.
Обесчеловечивание.
Все это я услышал потом у Шостаковича. Тупая медь.
Бесчеловечность — кошмар сыпного тифа. Какая-то
густая масса, надвигающаяся на человека. Месиво лиц,
ног, рук. Танцы чиновников «Шинели», светская чернь
игорного дома «С. В. Д.», буржуазия «Нового Вавилона»,
королевская улыбка — марш на «мышеловку».
Гойя, Энсор, Пикассо (карикатуры на Франко).
Бесчеловечие. Его маска. Черносотенный гик, свист
и гогот. Пьяное рычание и топот кованых сапог.
Гоголевские свиные рыла. В бога, в душу, в мать. Да с портретами
царя и царицы на вышитых полотенцах. Да с ерничеством.
Страшная машина погромов и издевательств.
Годы прошли, пока понял огромность человека. И
Максим пришел в банк. Гамлет на заседание государственного
совета в Дании.
Когда много лет спустя начались съемки «Гамлета»,
я больше всего опасался артистов, уже игравших
шекспировский репертуар: традиции мало привлекали. Точно так
же в «Юности Максима» хотелось избежать специалистов
по «положительным» ролям.
Старого подпольщика мы пригласили играть Михаила
Михайловича Тарханова. Его игра в «Горячем сердце»,
«В людях», «Мертвых душах» была гениальной. Я
стараюсь избегать восторженных, мало что объясняющих
оценок, но никакого другого слова найти не могу. Сила
концентрации образности — материализованной сути характера;
неожиданность внутренних связей, неоспоримость
явлений, казалось бы, невозможных в реальности; открытие
истинной правды фигур времени — превращала каждое
342
Глубокий экран
его появление на сцене МХАТа в событие, выходящее за
пределы всего виденного и известного.
И если говорить о новом, современном стиле
исполнения, далеком и от натурализма, и от игры в условность, то,
пожалуй, самым смелым, самым рискованным
художником, не боявшимся резких черт, крутых смен состояний,
игры на грани реального и фантастического, был именно
он, Михаил Михайлович Тарханов. Ничего подобного его
искусству мне уже не пришлось увидеть.
Этим же вечером должен был состояться решающий
просмотр; нам сообщили, что мы можем на нем
присутствовать.
В машине находился Борис Захарович Шумяцкий —
тогдашний руководитель кинематографии, один из его
помощников, мы с Траубергом. Минуя улицу Горького
(тогда еще Тверскую, не перестроенную, со старыми
домами), Манежную площадь, мы въехали на мостик, ведущий
к воротам. Машина притормозила: водитель обменялся
несколькими словами с дежурным и снова включил
скорость. Ворота остались позади. Разом, почти без перехода,
буквально за минуту мы очутились в другом мире. Только
что мы проезжали многолюдные московские улицы,
сновали трамваи и машины, вокруг был привычный быт страны,
где я родился, вырос, работал. Здесь же освещенная
холодным светом высоких фонарей открылась необозримая
площадь: по ней не проходил ни один человек. Громады
соборов белели на черном небе. Была совершенная чистота
и немота. Будто во сне, неожиданно возникали места,
которые когда-то я знал по фотографиям в журнале
«Нива» и давно забыл о них, а теперь они оказывались рядом,
я мог дотронуться до них рукой: царь-пушка,
царь-колокол.
Шумяцкий открыл бесшумные парадные двери:
огромный вестибюль. Не было ни одного человека. Мы шли
пустынными, стерильно чистыми залами, высокими и
узкими коридорами, ощущалась толщина стен, ковры делали
шаги беззвучными. Мы двигались в вакууме. Иногда в
раскрытых дверях далекого зала возникала фигура в
военной форме и пропадала, еще больше усиливая чувство
совершенной пустоты. Медленно, как приснившийся, поя-
Подготовительные материалы ко второму изданию... 343
вился человек: бесшумно повесил пальто на вешалку,
посмотрел на нас (сквозь нас) невидящими глазами,
прошел дальше. Исчез и опять появился Шумяцкий. С
встревоженным лицом он провел нас куда-то по лестнице
наверх. Здесь дышать стало легче: кинобудка.
— Будем ждать,— напряженным шепотом сказал
Шумяцкий,— нас вызовут.
Шел полнометражный документальный фильм.
Бесконечно долго тянулось время. Тогда я хорошо понял
справедливость требований снимать фильмы покороче.
Человек возник в дверях, лицо Шумяцкого стало еще
тревожнее.
— Пора,— быстро и тихо сказал вошедший,— идите за
мной. И опять мы двигались пустыми и беззвучными
коридорами. Шумяцкий остановился перед одной из дверей.
Помедлив, как это делают купальщики перед тем, как
броситься в ледяную воду, Борис Захарович взялся за
ручку.
«Юность Максима» показывали в большом зале. Фильм
звучал неважно. В те времена звук регулировался
микшером, вынесенным в зал: повороты рычага усиливали или
ослабляли звучность. На цыпочках я подошел к микшер-
скому устройству, задний ряд был занят военными.
Человек у микшера бесшумно уступил мне место. Пока я
разбирался в устройстве звукового пульта, глаза привыкали
к темноте. В зале стояло несколько мягких кресел.
Подлокотники были большими, спинки высокими: людей в
креслах видно не было. Из-за кресел доносились иногда слова.
— Авторы здесь,— услышал я голос с грузинским
акцентом,— критические замечания можно будет
высказать в конце.
Мы с Траубергом переглянулись.
Голос еще несколько раз возникал во время просмотра.
Я вслушивался в слова, стараясь понять их смысл. Это
было не просто: резкие, иногда даже возмущенные реплики
чередовались с одобрительными. Однако и гнев и похвалы
не имели отношения к качеству фильма. Постепенно я стал
осознавать, что Сталин смотрел картину не как
художественное произведение, а как действительные события,
дела, совершавшиеся на его глазах, деятельность людей —
полезную или вредную,— и он тут же давал волю раздра-
344
Глубокий экран
жению, если люди на экране плохо работали, хвалил их,
когда они поступали верно.
В зале зажегся свет. Сталин оказался непохожим на
свои фотографии: темная кожа, следы оспы, мешковатая
тужурка. Он и ростом был гораздо ниже, нежели
представлялось по портретам.
Фильм был одобрен. Но я уже плохо соображал: вся эта
ни на что не похожая ночь — пустынная площадь с
высокими фонарями и древними соборами, отгораживающая
бесшумные залы от обычной жизни, странный кинотеатр,
где зритель распекает и поощряет тени на полотне,— все
представлялось мне нереальным, непохожим на
действительность, где я трудился, жил.
В последние годы мне часто приходилось бывать в
Кремле: я был членом жюри Московского
кинофестиваля — шесть тысяч москвичей смотрели фильмы во Дворце
съездов; а потом в Кремлевском театре открылся Первый
съезд кинематографистов. Я проходил по большой
площади: толпились экскурсии, возле царь-колокола весело
играли дети, туристы фотографировали знаменитые соборы.
Шла жизнь.
Художник создает свое произведение для народа,
потому что он сам часть этого народа (Маяковский о земле,
с которой мерз30). Народ не заказчик, а художник не
исполнитель. Это все куда сложнее. И произведение
получается тогда, когда чувствуешь то же, что чувствует
зритель, а не тогда, когда думаешь, какими же приемами
вызвать эти чувства. Тогда штамп, ремесло.
А гений опережает читателя (Маяковский).
Мы вовсе не делали Максима для зрителя. Но мы
мерзли с этой землей вместе со зрителем.
Знание материала — это не быт, не жаргон, а
переживание того же, что переживал народ.
Глава четвертая
Когда в 1947 году мне предложили поставить
юбилейный фильм о Белинском, я растерялся.
Материал я знал хорошо: на полке стояли нужные
книги, даже полная, без цензурных пропусков переписка
Подготовительные материалы ко второму изданию... 345
Белинского; долголетняя дружба связывала меня с
литературоведами Б. М. Эйхенбаумом и Г. А. Гуковским.
— Соглашайтесь,— убеждал Эйзенштейн и, хитро
посмотрев на меня, добавил: — Одну сцену в вашем фильме
я уже знаю: премьера в Петровском театре, Мочалов —
Гамлет.31
Многое в биографии Виссариона Григорьевича
казалось мне интересным для экрана. Однако опыт постановки
прошлой картины — «Пирогов» — не был легким. Мы с
Траубергом взялись ставить сценарий Юрия Германа в
тяжелое для себя время: «Карл Маркс» был окончательно
снят с производства, работа нескольких лет оказалась
бесцельной. Только труд помогает в такие минуты. Съемки
«Пирогова» прекратила война. Снял этот фильм уже я
один, в первые послевоенные годы. Мы сдружились с
Германом, отлично понимали друг друга. Но мы плохо
понимали требования, которые стали предъявлять экрану люди,
мало разбирающиеся в искусстве. В одном фильме хотели
видеть все, что сделал великий человек. Хотели не только
дел, но и слов: великому человеку следовало в
возвышенной форме говорить о своей любви к народу, ненависти
к врагам народа. Требования становились все более
настойчивыми. Подсказывались и нужные тексты.
Область режиссерского труда все более суживалась.
На первый план выходило озвучание. Только не я
должен был озвучивать, а меня хотели озвучить. Задача
(я с ней плохо справлялся) состояла в том, чтобы
артикуляция моих губ сошлась с чужим текстом.
...Я стою в ателье с непрекращающейся головной
болью. Что-то давит на мозг, на глаза, на барабанные
перепонки. Я ничего не знаю и ничего не умею. Сейчас
я должен снять кадр. Куда поставить артиста, как он
должен произнести эти слова? На меня смотрит тяжелым
взглядом Москвин: он тоже ничего не умеет.
Кажется, необходимо, чтобы у артиста был гордый
поворот головы и чтобы слова он сказал с жаром. Но эти
слова вообще сказать нельзя. Люди так не говорят. И как
связать гордые повороты с внешностью Виссариона
Григорьевича Белинского? Ну а потом он скажет эту свою
цитату, а как смонтируется кадр со следующим, где он
346
Глубокий экран
скажет другую свою цитату? Кажется, нужно снять
крупнее, тогда склеится? Может быть, в этом кадре поднять
руку, а в следующем (с другой точки) ее опустить... Но
почему должна быть другая точка? И зачем поднимать
руку? Не знаю. Только бы прошла головная боль.
Кинематографист поколения 20-х годов, я теперь не
умею выбрать съемочную точку, не знаю, как склеить два
кадра, ничем не могу помочь исполнителю.
Я — полудурок, которому необходимо вдалбливать,
втемяшивать в башку, что он должен делать. И мне
вдалбливают, втемяшивают. Но я все еще ничего не понимаю.
Может быть, все это мне снится?
Вчера на «Ленфильме» смотрели кадры (теперь будут
смотреть каждый кадр, что мы сняли, а потом, когда их
наберется побольше, пленку повезут в Москву. Будет
смотреть главк, редакторы, художественный совет, какая-
то комиссия). Вчера меня ободрили: есть улучшения —
у Белинского стало больше величия. Потом выступил один
из руководителей «Ленфильма» и сказал, что, конечно,
всего не исправишь: у артиста не та внешность и одет он не
так. «Хотелось бы,— добавил оратор,— в самой
наружности Виссариона Григорьевича видеть что-то богатырское;
а бедный костюмчик принижает образ трибуна, просится
черный, солидный сюртук».
Читатель, как мне упросить тебя поверить мне?.. Я сам
понимаю, это трудно. Но так было, и, что самое странное,
человек, мечтавший, чтобы чахоточный и нищий Белинский
выглядел богатырем и щеголял в профессорском сюртуке,
был не каким-нибудь темным неучем, а получил в свое
время высшее образование. Вероятно, и Белинского он
в свое время читал. Но это было давно; теперь авторы
юбилейных статей повторяют лишь отобранные и
подобранные цитаты. И умозрительное становится почти что
зрительным. «Главное» — отобранные и подобранные
цитаты — выходит на первый план, а «несущественное» —
другие места тех же сочинений и сама жизнь критика —
как-то стушевывается, утрачивает отчетливость.
И теперь я стою в ателье, бессильный найти
правдоподобие в предписанных мне обстоятельствах. Как завидую
я писателю, живописцу: величайшим счастьем в жизни
кажется мне возможность выбросить рукопись в печку,
Подготовительные материалы ко второму изданию... 347
соскоблить ножом краски с холста. Но я служу на
кинофабрике; здесь я работаю уже много лет, и если фильм
запретят — огромная сумма денег пойдет прахом. У
скольких людей вокруг неладно с жильем, они годами ждут
комнаты, а я пущу на ветер стоимость целого дома. И я
готов на все, чтобы не стать растратчиком.
От меня требуют забыть все, что писали о Белинском
современники, что можно найти в его биографии,
переписке. Все это —несущественно. На экране должен быть
трибун, вождь, «истовый Виссарион».
Неясностью требований отговориться нельзя. Истори-
ко-биографический фильм — вид учебного пособия:
сообщаются главные деяния великого человека (все их
необходимо показать) и его наиболее важные
высказывания. Воспитательный смысл состоит не только в сообщении
этих сведений и цитат, но и в подтверждении ими
материала сегодняшней газеты. Великий человек поступал так, как
и должен поступать каждый гражданин, и высказывался
так, как должен каждый высказываться. Никакой
неясности допущено быть не может; отрицательным действующим
лицам великий человек должен давать немедленный отпор.
Отрицательные лица, в свою очередь, должны напоминать
отрицательные явления сегодняшнего дня. Никакой
сложности в этих явлениях не должно быть: общественный
порок выявляет себя с первого слова.
Деятельность великого человека следует показать
масштабно: перед ним трепещет сам государь император, зато
народ еще при жизни понимает его величие. Народ может
олицетвориться няней, или камердинером из крепостных,
или случайно повстречавшимся крестьянином. Смерть или
же болезнь великого человека показывать не нужно, как
малосущественное для темы.
Хотя великому человеку жилось нелегко (упоминать об
этом следовало вскользь), фильм обязан быть
оптимистическим. Дело режиссера оформить все это красивыми
кадрами, поставить с размахом. Рекомендовалось
снимать в красках, ввести в фильм побольше хоровых
песен.
Все полюбившееся нам в «Юности Максима»
—человечность экрана, естественность жизненного движения,
задушевность интонации — оказалось не только непригод-
348
Глубокий экран
ным, но и оскорбительным для стиля, в котором
предписывалось воздвигать монументы.
Мне хотелось бы вспомнить для сравнения одну
из сцен «Выборгской стороны»: в тяжелый год в райсовете
устраивают впервые крестины. Собрались хорошие люди,
но какое тут может быть торжество, даже подарить
новорожденному нечего. И заключить приветствие тоже трудно.
Оратор смущенно разводит руками и говорит с
недоумением, тихим голосом: «ура».
Как я радовался этому тихому «ура», лишенному
восклицательного знака.
А теперь требовалось оглушительное ликование, крики
энтузиазма, гром духовых оркестров.
Уже запланировали реконструкцию фасада
киностудии. Сам внешний вид должен был говорить о том, какие
фильмы нужно снимать. Запроектировали снести старую
железную ротонду — вход на «Ленфильм», сюда я пришел
мальчиком, здесь часами гулял с Эйзенштейном и
Тыняновым.
На разработку пошел проект нового, роскошного
здания с коринфскими колоннами и капителями.
Заседал Большой художественный совет. Можно было
услышать слова: «творчество», «раздумья», «создал»;
часто цитировали строчки Маяковского о необходимости
поэтов хороших и разных. Говорилось о том, что является
сущностью, а что несущественными деталями. Приводили
к случаю интересные мысли Стендаля или Чехова.
Практически же все сводилось к сравнению сценария
и юбилейных статей. Все, что было в статьях, предлагалось
внести в сценарий, все, что не упоминалось,— сократить,
как нетипическое.
Если Герцен писал, что «в этом застенчивом человеке,
в этом хилом теле обитала мощная гладиаторская
натура»,32 то на экране требовалась «мощная гладиаторская
натура», а про застенчивость и хилость упоминать не
следовало.
Редакторы расшифровывали стенограмму. Главк нес
бумагу на подпись: сократить, добавить, ужать,
подчеркнуть. Срок на переделки — две недели.
И разом приходили в движение все киноинстанции (их
становилось все больше). Каждый вариант сценария
Подготовительные материалы ко второму изданию... 349
(Юрий Герман написал их четырнадцать) рассматривался
уже «в свете решения».
Как камень на шею (про «творчество» и «раздумья»
в этом случае не говорилось) мне насильно навязали и
другой сценарий: оборотливый человек настриг и склеил
нужные цитаты из Белинского. Все там было.
Художественным это сочинение, правда, никто не рискнул назвать.
Говорили так: ваш сценарий «художественный», а тот
«правильный». Оба положить в шапку и перетряхнуть.
Срок — две недели.
Между экраном и людьми возник еще более
раздобревший, еще более уверенный в себе Терентий
Огурцов. Я узнал его во времена «Нового Вавилона». Как я
уже писал, споры тогда были запутанными, страсти
бушевали.
Но все же нашелся человек, способный разобраться в
делах искусства с легкостью. Высказался он в поэтической
форме:
Бьют в литавры, кличут массы,
Но не ходят массы в кассы.
Выкрутасы не для массы.
Терентий Огурцов — автор стихотворения,
помещенного в одном из журналов, писал не от своего имени. Он
опекал массы. Ему было отлично известно, какие фильмы
нужны массам. А если любители выкрутасов не одумаются,
то Терентий знал, как вправить им мозги:
Эх бы точечку над «и»
Без поклона и пардона,
Да взглянуть бы в кинолоно,
Да под своды «Вавилона»
Трезвым взглядом РКИ! 33
Теперь Огурцов решил раз и навсегда покончить с
выкрутасами.
Ужас состоял в том, что самого Огурцова, так
сказать в чистом, ничем не разбавленном виде, может быть,
и не существовало. Но он примешивался к множеству
совсем иных явлений и фигур, нарастал, надвигался,
наваливался, как сыпнотифозный бред. Он и командовал воз-
350
Глубокий экран
ведением целлулоидного монумента. Ну как я мог
угодить ему.
Однажды ночью я отчетливо увидел фильм, который
меня принуждали снять. Он назывался «Перо Белинского
отечество спасло»: автором сценария был Нестор
Кукольник, декорации воздвиг Карл Брюллов, в главной роли
выступал премьер императорского Александрийского
театра Василий Каратыгин.
А мы ничего не умели: Москвин снимал мрачно, я был
не способен обеспечить величие героя, в музыке не хватало
народных песен... И мы попали в штрафники. Шли
поправки и переделки, добавки и пересъемки, доработки
и проработки, фильм запрещали и опять, из милости,
давали переделки...
Мало что понимая, я возвращался домой со съемки. На
диване часто лежал Игорь Савченко (он снимал в
Ленинграде «Тараса Шевченко»). «Опять требуют
переделать,— говорил он мне,— нужно показать сестру
Шевченко, Чернышевского, слишком мрачна ссылка...»
Перекраивали «Адмирала Нахимова» Пудовкина,
«Мичурина» Довженко.
«Я должен отрицать созданное, ненавидеть то, чем
восторгались, то, что сложено из многих тонких
компонентов,— прочитал я в дневнике Довженко тех лет.—
И воссоздать произведение-гибрид — старую поэму о
творчестве и новую повесть о селекции. А сердце болит.
И часто, уходя от стола после целого дня трудов, я
оглядываюсь на сделанное — как его ничтожно мало».34
В ночь на 11 февраля 1948 года меня разбудил
телефонный звонок. Телефонистка предупредила: «Будет
говорить Москва». Я услышал знакомый голос Эдуарда Тиссэ:
несколько часов назад умер Сергей Михайлович; он
подошел к приемнику, вероятно, хотел включить его, потерял
сознание, упал.
Еще одна встреча с Эйзенштейном, о которой мне
хотелось бы рассказать: ее действие происходило за десять
лет до описываемых событий. Мы пообедали дома у Сергея
Михайловича; как обычно, он шутил, показывал редкие
книги.
А потом мы поехали смотреть его новый фильм.
Вернее, не фильм, а снятый материал.
Подготовительные материалы ко второму изданию...
351
Случилось так, что немало лет ушло у него зря. Поездка
в Америку оказалась бесцельной: «Парамаунт» испугался
его сценариев («Золото Зуттера», «Американская
трагедия») ; не удалось закончить одну из самых его прекрасных
работ, целые кинематографии — мексиканская,
греческая — вышли из кадров «Да здравствует Мексика!»;
потом он задумал комедию «МММ», сценарий «Москва»,
все не получилось, и, наконец, начал снимать этот фильм.
Мы ехали смотреть кадры, фильма уже не будет.
Во ВГИКе Сергей Михайлович усадил меня в кресло
в просмотровом зале, а сам неторопливыми шагами пошел
по проходу к экрану. Студенты затихли: началась лекция.
Спокойно и обстоятельно, педантичным профессорским
тоном он перечислял и подробно разбирал ошибки «Бежи-
на луга». Он рассекал на части труп фильма, анатомировал
умерщвленные образы, демонстрировал аудитории кадры,
как препараты. Духовный мир художника превратился
в морг. Ни тени чувства нельзя было уловить в разборе.
Совершенное спокойствие владело лектором. Не дрогнул
голос, не изменилось выражение лица. Профессор ни разу
не запнулся, не оговорился. Казалось, что лекция
относится к старому, много лет читанному курсу.
И действительно, выступление не было первым. Уже
несколько раз он показывал эти кадры, разъяснял, в чем
именно состояли его ошибки.
Был ли он неискренен? Не думаю. Дело обстояло
сложнее. Случилось так, как бывает в театре: утром
режиссерское управление вывесило распределение ролей
и одному из артистов досталась роль, играть которую он не
предполагал. Но авторитет художественного руководителя
незыблем, тетрадка с текстом уже в руках, жизнь артиста
неотделима от труппы. Нужно поверить в правду образа,
вжиться в предполагаемые обстоятельства и начать
действовать так, чтобы чужие слова стали твоими.
Договор с американскими кинокомпаниями
Эйзенштейну было нетрудно порвать: он и заключался на короткий
срок. А этот был подписан на всю жизнь.
И сам он, Эйзенштейн, утверждал когда-то
необходимость именно таких предполагаемых обстоятельств: «Мы
снова должны овладеть методом: директивное указание
воплощать в волнующие произведения».35 А теперь, и уже
352
Глубокий экран
не впервые, он не выполнил указания, и, значит, нужно
признать свою вину, помочь молодым кадрам извлечь
пользу из урока, чтобы они, эти молодые кадры, не
совершили ошибок, как случилось с ним, и создавали
волнующие произведения по директивным указаниям.
А на экране длиннобородые мужики в посконных
рубахах рушили под хоровое пение церковь, белые голуби
взлетали над черным пожарищем; убийца-подкулачник
как две капли воды походил на врубелевского Пана, а
пионер — на нестеровского отрока.
В перестройке уклада деревенской жизни Эйзенштейн
искал величие древних мифов, схватку тьмы и света,
ворошил библейские предания. Он не соглашался видеть
революцию как обыденность, историю как будни: трагический
размах чудился ему за каждым образом. Все в его работе
было еще в строительных лесах, думаю, что он и сам
переснял бы многое, а сколько еще было бы им сочинено...
Непросто было от ацтекских пирамид перейти к русской
деревне. Картина была еще впереди. Но он опять трудился
на своей земле. Он помогал ее переделать своими
фильмами, защищал ее достоинство в Сорбонне и Кембридже.
В скольких университетах США он был ее пропагандистом:
в Калифорнийском, Колумбийском, Гарвардском,
Чикагском, Принстонском, Йельском... Он рассказывал о
революционной культуре в негритянском Стрейт-Колледже
и в баптистской церкви Нью-Орлеана... Полиция срывала
его лекции, его высылали из Швейцарии, Франции,
мракобесы собирали подписи: гнать «красного» из Америки!..
Теперь он трудился дома, все в фильме еще впереди.
И вдруг разом все отошло в прошлое. Горы пленки
уничтожат, ничего больше не останется. Хотя как будто
целлулоид идет в переработку. Можно будет причесаться
гребенкой, в которой заключена частица сердца Эйзенштейна.
«Белинский» вышел в прокат только через несколько
лет. У меня не хватило душевных сил досмотреть фильм до
конца, я вышел из зала, долго ходил по улицам, не мог
прийти в себя.
В те годы шла в кинематографии и другая, мало
заметная на поверхности жизнь. Во ВГИК пришло новое
Подготовительные материалы ко второму изданию... 353
поколение режиссеров, большинство людей, сидевших за
партами, было в солдатских гимнастерках, у многих были
нашивки — знаки ранений. Студенты моей мастерской
приехали в Ленинград на практику. Я не скрывал от них
своих неудач. Молодые люди стояли возле меня на
съемках, они все понимали. На «Ленфильме» им отвели
общежитие. Я часто заходил к ним; студенты украсили стены
плакатами, шутливыми лозунгами, атмосфера напоминала
мастерские 20-х годов. Здесь становилось легче на душе.
Если бы основное внимание я обратил на эту часть
кинематографического дела, глава получилась бы менее
мрачной. Но даже самый ярый альтруист, попав в
больницу, мало утешается средней температурой больных в
отделении. Внимание сосредоточено на градуснике, что
держишь под мышкой.
Но независимо от сезонных формулировок накопляется
в труде художников что-то существенное, относящееся
к самому делу, общему труду поколения. И молодое дело,
кино, о котором пойдет речь, становится на ноги, а у
фильмов складывается своя целлулоидная судьба. Иные
снимали на века, а они жили один сеанс. Другие — все еще идут
премьерой. Время, не обращая внимания на слова,
выносило свое суждение. И время оставалось в фильмах.
Что-то я понял, до чего-то дошел. И это уже не уступлю.
Еней рассказал мне, как однажды при входе на «Лен-
фильм» он остановился, увидев странное зрелище. По
лестнице неторопливо спускался своей величественной
поступью один их трех маститых режиссеров, и вдруг по
перилам съехал мальчишка в нелепо скроенной и сшитой
прозодежде и, лихо свистнув, подошел знакомиться.
И вот теперь, кончая книгу, я всматриваюсь в этого
мальчишку, по-хулигански въехавшего в 1924 году в
кинематографию...
Воспитание зрения
Боюсь, что кроме множества других грехов есть в этой
книге и один — общий для наших фильмов двадцатых
354
Глубокий экран
годов — порок: фрагментарность. Сколько раз упрекали
нас: «кусочечность», отступления, разрушающие сюжет.
Приходится и в этой главе отвлечься от основного хода
рассказа. Подводя итог опытам времен немого кино
(«итог» относительный: многое еще продолжается, а
может быть, и забытое вспомнится), хочется еще раз
задуматься над странной историей этого искусства. Одна из
странностей, возможно, заключается в том, что, чем
больше очищали экран от чужеродных влияний (театр,
литература, позже живопись), тем больше фильмы впитывали
в себя именно эти влияния. Чем чище становился
«киноязык», тем больше обогащался его словарь за счет других
искусств. То, что на первый взгляд являлось оглашенным
новаторством, на деле часто продолжало традицию
другого вида творчества. То же, что считалось традиционным,
нередко было попросту невежественным, бескультурным.
Для того чтобы разобраться в таком запутанном
положении, придется прежде всего несколько передвинуть дату
начала кино. Правда, теперь это уже часто делают
киноведы. И в вводной главе истории кино, и на экспозициях
киномузеев...
В искусстве зрение не только физиологический акт.
Глаза художника — это и глаза его народа, времени, всего
человечества на каком-то этапе исторического развития.
Общественный опыт обостряет зоркость взгляда,
проникает в невидимое. Эпохи обладали своим видением жизни.
Смена способов производства, борьба общественных сил,
развитие естественных и исторических наук меняли зрение:
оно приобретало особые свойства, неизвестные прошлому.
Образование новых жанров, иной образности отражало
смену жизненных условий, борьбу идеологий. Это
выражалось во многом, в том числе и в перемене видения мира.
То, что в девятнадцатом веке видение приобрело особые
черты, нашедшие наиболее полное выражение в романе, и
что эти черты не могли быть применены на современной
сцене, вовсе не значит, что театр к этому времени исчерпал
свои возможности и должен был уступить место кино.
Дело обстояло значительно сложнее. Действительность
заключала в себе множество сторон и отражалась по-
Подготовительные материалы ко второму изданию... 355
разному. Роман не уничтожил существование драмы.
Трудность состояла не в необходимости театрального
выражения новых формальных приемов: коротких сцен, массовок,
натуральности среды,— изменилось не внешнее
восприятие жизни, но метод исследования. Однако гениальные
произведения не переставали интересовать оттого, что
ритм их был нетороплив, они делились на акты и в них не
участвовало много народа.
«Ревизор» не нуждался в «больших декорациях».
И Щепкин мог играть свою роль, будучи — по мнению
автора — идеальным исполнителем, именно таким, каким
драматург его хотел бы видеть. Пьеса, написанная в
классической форме пятиактной комедии, сохраняет и сегодня
всю небывалость новизны исследования жизни, смелости
средств выражения. Условное пространство сцены Гоголь
преобразил в целый мир и поселил в нем образы куда более
жизненные, нежели были их реальные прототипы — сами
чиновники николаевских времен. Подлинники сошли бы
теперь за карикатуру, а гоголевские герои продолжают
свое существование, сопровождая жизнь новых поколений.
Драматург оказался вровень с автором романа и
повестей. Нетрудно возразить, что мало схожего между
действительностью Второй империи, изображенной Золя, и
крепостнической империей Николая Первого. Однако
новое видение присутствовало у Гоголя в его самых
современных формах. Динамика пейзажей «Невского
проспекта» и чередование похождений Чичикова с
«птицей-тройкой».
Моя цель не полнота исследования, а лишь постановка
вопроса.
Дальнейшее развитие кино, его появление на свет уже
под своим именем шло не прямым путем. Техника вызвала
к жизни только новый ярмарочный аттракцион. «Живая
фотография» сразу же стала предметом сенсационного
интереса, а потом и споров. Одни ужасались машинному
варварству, которое, по их мнению, убьет театр, другие
видели в миг/ающих тенях на полотне поэзию будущего.
Прошло немного времени, и электрический балаган
стал искусством. Это произошло, когда техника
одухотворилась мыслями и чувствами людей. Тогда экран про-
356
Глубокий экран
должил коллективное усилие культуры. Не повторил на
пленке уже найденное театром или литературой (это
оказалось бесплодным), а продолжил,— но уже иными
средствами— выражение новых процессов жизни, повлиявших
на многие формы литературы, живописи, театра.
Однако явления, о которых идет речь, связывались одно
с другим вовсе не последовательно; связь была менее всего
непосредственной: передачи эстафеты от одного вида
искусства к другому не было. Скорее речь могла идти
о столкновении, отрицании. Родство явлений открывалось
лишь потом, и родовые признаки не были внешними. Экран
начал с отрицания сцены. Театральные режиссеры, близко
подходившие в своих сценических работах к
кинематографии, не трудились в кино, а если кому-нибудь из них
и довелось снять фильм, то значение такой работы для
экрана было незначительным. Влияние литературы не
состояло в том, что крупные романисты писали сценарии.
Кино становилось на ноги с помощью иных видов
творчества: Чарли Чаплин продолжил традиции мюзик-
холла и пантомимы, казалось бы, ничтожные по сравнению
с высокими видами творчества; Гриффит оживил на экране
мелодраму. Но вскоре открылись иные связи.
Камера — стило.
Гусиным пером — вечные мысли.
Глава о киноязыке «Все прочее кинематограф».
Может быть, киноязык начинать с Ломоносова?
Эпиграф: «Обращаться с словом нужно честно»
(Гоголь, т. VIII, с. 231).
Может быть, в эту главу «Воспитание зрения».
г
О СВОЕЙ РАБОТЕ
В КИНО И ТЕАТРЕ
О кино, фэксах и себе
1931
— Как вы начинали?
— В 1921 году мы объединились в театральную
мастерскую, целью которой было приспособить театральную
форму к возможностям максимального воздействия на
зрителя. Мы выступили с манифестом, который
завершался словами: «Лучше быть молодым щенком, чем старой
райской птицей». Спектакли, в числе которых была и
«Женитьба» по Гоголю, вызвали у одной части критики
одобрение неодновременно, у другой — протест. Многие были
с нами, но точно так же многие были против нас, в числе их
и Сергей Третьяков. Самым справедливым упреком,
который нам предъявляли, и что мы уже сами сознавали, были
формалистические тенденции.
Театр имел слишком тесные рамки для нашей
деятельности, и в 1924 году мы пришли в кинематограф, где нашей
первой работой был трехчастный киноплакат
«Похождения Октябрины». Это был эксперимент, усилия которого
были направлены на кинематографическое выражение
актуальных лозунгов, с тем чтобы они проникли в массы.
Главным художественным средством был монтаж, так же
как и в последующих фильмах. Несколько дальнейших
фильмов — «Чертово колесо», «Шинель» — также были
экспериментами по линии поисков чисто
кинематографической формы и собственных средств выражения. При нашем
вступлении в кино, так же как это было с нашей
театральной деятельностью, критика разделилась в оценке фильмов
на два противоположных лагеря.
В 1927 году в нашей работе происходит
знаменательный поворот. Кино — в значительной мере под влиянием
театра — находилось во власти натурализма, который
наиболее заметно проявлялся в исторических фильмах.
Тынянов сказал о них, что это «движущиеся портретные
галереи». ' Поэтому мы поставили себе задачу: работать в этой
О кино, фэксах и себе
359
области кино и бороться против натуралистических
исторических фильмов, организуя исторический материал в
фильме таким образом, чтобы создать настоящее
противопоставление этим «движущимся портретным галереям». Так
возникли два фильма — «С.В.Д.» («Союз Великого
Дела») и «Новый Вавилон» — исторические фильмы нового
типа, созданные новым методом использования истории
в художественном кино.
— При подготовке чешской версии фильма «С. В. Д.»
из опасений перед цензурой смысл его был «упрощен» так,
как будто бы все дело было в борьбе двух наследников
трона, а в титрах «Нового Вавилона» коммунаров
превратили в сброд, подонков, подозрительных элементов и т. д.,
исказив в обоих случаях истинный смысл фильма, тогда
как в любом учебнике истории можно прочесть
относительно приемлемое изложение событий. Знаете ли вы об этом?
— Да, Тынянов — автор сценария «С.В.Д.» —
рассказывал об этом после своей поездки в Прагу. В «С.В.Д.»
речь шла о столкновении двух социальных сил, но никак не
о личной борьбе двух наследников трона.
— Расскажите еще о своей работе над фильмом
«Новый Вавилон».
— «Новый Вавилон» значительно лучше, чем
«С.В.Д.». Мы нашли более точную, более удачную форму
для этой темы. Главная действующая сила в фильме — не
герои в костюмах, а столкновение классовых сил, его
причины и следствия. Мы хотели диалектически показать, что
абсолютно добрых или злых людей не бывает. Каждый
человек — представитель определенной классовой группы,
и это определяет его характер. Основным сюжетом был
показ трагедии Коммуны, заключавшейся в том, что
крестьяне еще не пришли к революции, не поняли ее
значения для себя и из-за этого оказались или вне, или против
нее. С одной стороны стоит революционный Париж, против
него — контрреволюционная провинция. Вскрыть с
помощью диалектического метода все противоречия данной
эпохи — вот что было основной задачей нашей работы.
Поступки солдата Жана, солдата из деревни, мы
показываем в их противоречии, а не с какой-то определенной,
односторонней позиции —лично солдат Жан был за
Коммуну, но социальные силы толкают его против нее. Тем, что
360
О своей работе в кино и театре
мы традиционному представлению о ясном, светлом и
радостном Париже противопоставили темный и борющийся
Париж Коммуны, мы хотели не только разоблачить
легенду о безрассудном, легкомысленном Париже, но также
еще сильней подчеркнуть основу нашего замысла, выявить
столкновение традиционных понятий и революционной
действительности Парижа, залитого кровью. Это то, что
касается замысла и его выражения со стороны
содержания.
Со стороны формы, тесно связанной с тем содержанием,
о котором шла речь, целью было показать стиль эпохи не
с помощью костюмов и портретов, но иным, гораздо более
правомочным способом. Замечательным сотрудником был
в этом оператор Москвин, искусство которого позволило
нам выразить эпоху самим качеством фотографии.
Фактура фотографии была тут одним из главных средств
требуемого выражения. Дело было не столько в снимаемом
объекте, сколько в способе подачи данного объекта. Из
материала, полученного исходя из этих требований, я
потом монтажно выстраивал весь фильм по принципу
противопоставления и сцепления кусков, сцен и эпизодов в
единое целое, подчиненное определенному плану.
— Какова программа фильма, который вы сейчас
снимаете?
— Снова прежде всего идея — только имея ее, можно
двигаться дальше. Идея нашего последнего, звукового
фильма сОдна» заключалась в том, чтобы показать
невозможность существования в период строительства
социализма человека, одинокого в обществе. Показать тесную
связь каждого человека как частицы коллектива, даже
когда его деятельность еще только начинает становиться
ценной для всех. Мы исходили из минимума
выразительных средств. В фильме будет несколько основных
ситуаций, которые — одни и те же — по-разному повторяются.
Поэтому из их различных взаимных связей возникает
множество различных смысловых выражений. Мы
стремимся сделать фильм максимально простой и
одновременно максимально выразительный. Можем даже сказать
так: предельная художественная экономия для
достижения наиболее воздействующего максимума
впечатления.
О кино, фэксах и себе
361
— Вы говорили, нто фильм «Одна» будет звуковым.
Чем вы руководствуетесь в отношениях звука и
изображения?
— Звуковой материал должен быть использован в
звуковом фильме не только как материал эмоциональный,
характернейшим примером которого является музыка, или
как материал чисто иллюстративный, но как материал
сюжетный. Это означает, что и звук должен быть сюжетом
звукового фильма в том же смысле, в каком им является
изображение. Собственная художественная форма
определяется в звуковых фильмах, так же как и в немых, только
после режиссерского монтажа, при котором нужно
учитывать вместо прежней одной составляющей две — звук
и изображение. Конечно, благодаря этому выразительные
средства монтажа многократно увеличиваются.
— Как конкретно строится ваша совместная работа
с Леонидом Траубергом?
— У нас полное взаимопонимание в работе. Не только
мы, два режиссера, но и весь коллектив ФЭКС это одно
компактное целое с полным взаимопониманием. При
работе над каждым фильмом мы совместно проводим анализ
данного сюжета и его идеи. Разумеется, бывают случаи,
когда в деталях мнения расходятся. Но потом на основе
взаимных объяснений мы приходим к единому решению.
На съемках фильма бывает все-таки, что один из нас
снимает кусок, с которым другой не согласен и делает его по-
своему. При тех огромных средствах, которые расходуются
у нас в СССР на культуру и искусство, в том числе и на
кино, сделать это легко, потому что стремление к
наивысшему качеству всегда воспринимается как что-то
совершенно само собой разумеющееся. Потом уже мы
используем в фильме тот вариант, который оказался наиболее
убедительным, лучшим. Ясно, что и это не обходится без
споров, но, очевидно, благодаря десяти годам неустанной
совместной работы, мы всегда находим такое единственное
решение, на котором сходимся. И точно так же весь
коллектив ФЭКС по-прежнему остается единым целым.
— Какой фильм вы предполагаете снимать после
«Одной»?
— Мы хотим снимать фильм сИстория большевика»,
фильм о развитии и формировании его характера.
(О работе над трилогией
о Максиме)
1937
Лекция первая
Я долго думал, как мне построить наши занятия.
Каждый из нас, режиссеров, развращен ораторством в
Домах кино: первая опасность превратить лекцию в содин
раз речь». Мне казалось, что и неправильным было бы,
рассказывая о работе над фильмами только что
законченными, попробовать сразу же обобщить, теоретизировать,
из собственного опыта вывести научную, для всех
обязательную теорию режиссуры. Другая: превратить лекции
в рецептуру, т. е. рассказывать, как в картине удался
такой-то момент, а сделан он так-то: плохую игру актера
заглушили музыкой, невысохшую декорацию сняли ее
настроением темно», смонтировали, глядишь, что-то вышло.
Интерес не в ремесленных приемах и не в том, что у
практиков-режиссеров за годы работы снабилась рука».
Что же хочется? Я решился на опыт: попробовать
честно прочесть вам как бы свои мемуары. Я разыскал
и разобрал черновики, первые сценарные варианты,
вспомнил прочитанные газеты и книги, разговоры с актерами,
репетиции. Попробовал вспомнить разные этапы нашего
труда времени «Юности Максима» и «Возвращения
Максима». Старался понять, как происходит работа
режиссера, образуется замысел, как часть замысла оказывается
лишней, как воздействует материал, как приходят те или
иные мысли в голову. Как из неоформленного ощущения
рождаются 10—12 роликов так называемого полезного
метража. Разобрать то, что лежит между двумя точками:
между ощущением впервые возникших образов,— которые
даже не всегда передашь словами,— и законченным
фильмом.
Для начала я позволю себе привести цитату. Вообще
цитат будет много; по ходу работы мы пользовались очень
большим количеством материала. Это особенность нашего
труда.
О работе над трилогией о Максиме
363
Существует очень интересная книга, изданная в
1748 году,—Ломоносов. «Краткое руководство к
красноречию».
Рекомендую вам, между прочим, читать учебники
красноречия — много интересного.
В «Учебнике красноречия» написано: «Сочинитель
слова тем обильнейшими изобретениями оное обогатить
может, чем быстрейшую имеет силу совображения, которая
есть душевное дарование с одной вещью, в уме
представленную', купно воображать другие, как-нибудь с нею
сопряженные, например: когда представив в уме корабль, с ним
воображаем купно и море, по которому он плывет, с морем
бурю, с бурей волны, с волнами шум в берегах, с берегами
камни и так далее». '
Вот процесс рождения картины, процесс, в первую
очередь связанный с рождением ряда ассоциаций.
Приходится кое-что сказать о своем прошлом, потому
что каждая картина есть какой-то итог прошлой
биографии, причем иногда это желание продолжить что-то
найденное в прошлой работе, а иногда наоборот, желание
отрицать, бороться с собственным прошлым. Но всегда
есть какая-то связь с прошлой биографией.
Есть ошибка трактовать линию развития художника
как какую-то внутреннюю, ему присущую линию, раз
навсегда заданную. Знаменитый вопрос о внутренней теме
это очень спорный для меня вопрос. Внутренняя тема это не
данность. Поскольку жизнь определяет мышление
художника, постольку эта внутренняя тема меняется, и
творческий процесс не проходит по точному графику.
Если мы возьмем наши прежние картины до «Юности
Максима», то там, безусловно, намечалась эта внутренняя
тема. И когда я думаю, что же нас волновало в этих
картинах, то эту тему я вижу. Вижу, как она развивалась, иногда
сознательно, иногда бессознательно. Во всяком случае,
какой-то стержневой осью она проходила. Это тема
человека и эпохи, и всегда она повернута следующим образом:
человек, раздавленный эпохой. Это тема от «Чертова
колеса» до всех остальных наших картин. Всюду эта тема.
И неудивительно, что период создания картин «Шинель»
и «С. В. Д.» был сопряжен в нашей работе с большой
творческой дружбой с Ю. Н. Тыняновым, создавшим в литера-
364
О своей работе в кино и театре
туре целый ряд вещей, построенных на этой теме —
человек, раздавленный эпохой.
При работе над картиной «Одна» на материале
сегодняшнего дня мы угнали героиню в самые глухие места.
Тема повернулась как тема жертвы, как тема
аскетическая.
И вот родилась тема «Юности Максима». Нам хотелось
показать, как мы тогда говорили, «героя нашего времени»,
попробовать сделать центральную фигуру, центральный
образ нашей эпохи. Началось увлечение этой темой вот
с чего: мы познакомились с одним человеком, очень
талантливым и честным работником, но человеком, что
называется, серой наружности, изрядно погрязшим в быту.
Какие-то нелады с квартирой, ворчливая жена, плохие
соседи. Однажды он рассказал нам свою биографию. Это
была обычная биография большевика, но нам она
показалась совершенно легендарной. Там были и тюрьмы, и
ссылки, и необычные побеги, была заграница, была
революционная работа в Туркестане, Персии и т. д. Развернулась
величественная биография. Нас страшно взволновал
контраст негероической внешности, прозаического вида
человека и его легендарной биографии. А так как мы были
людьми, воспитанными на эксцентрической школе, в
дальнейшем на школе романтической, т. е. на любви к
контрастам, к заостренности темы, положения, то нами этот
контраст и был воспринят в первую голову. И мы решили
попробовать развернуть биографию такого человека. Это все,
что мы тогда имели за душой. Три слова: «герой нашего
времени» и эту ситуацию прозы и легенды. И вот мы засели
за материалы. 2 Сразу же стало выясняться, что то, что нам
казалось необычайно образным, совершенно не
существенно. Мы увидели, что не в контрасте внешности и
легендарности жизни дело; дело не в невероятных побегах, ссылках
и тюремной романтике,— все это имелось и в истории
партии эсеров. Дело, говоря простым языком, в том, что это
история партии пролетариата, партии передового и
ведущего класса — история людей, ведущих пролетариат к
победам. И не в мелких контрастах дело. Материалы нас
взволновали; замысел стал меняться.
Начался процесс самодвижения материала: количество
изученного материала через какое-то определенное время
О работе над трилогией о Максиме
365
дает какое-то качество. Мы ринулись еще и еще в
материалы.
Первое, что мы стали искать, это образ нашего героя.
Кто он такой? Каковы его качества, особенности, каков его
образ?
Прежде всего относительно невероятной романтики,
всего того, что всегда показывалось в кинокартинах из
истории партии — загадочные провокаторы, побеги из
тюрьмы, романтические образы и характеры людей,
вообще* романтический наворот этого дела. Залезли мы
в мемуары.
В книжке Никифорова «Муравьи революции» мы
нашли: «Вот и заковали...— подумал я про себя.— Как все
просто и никаких особых ощущений».
Другой товарищ описывает нелегальный переезд
границы. Невероятное по смелости бегство в платяном шкафу.
Бегство человека, приговоренного к смертной казни. Вот
все, что он пишет о своих переживаниях: «Была
отвратительная погода. Слякоть. Шел мелкий дождь». 3 И все. Это
человек, которому угрожало повешение!
Большевик, профессионал-революционер бежит с
каторги. Побег через тайгу, погоня; даны сведения во все
города, обещана премия за поимку, указаны приметы.
Беглец вспоминает, что неподалеку от места, куда он
забрался, живет его дядя, родной человек. И вот он вбегает
в деревню, узнает хату, где живет его дядя, бросается туда.
В хате сидит дядя и пьет чай.
Дядя поворачивает голову, смотрит на него. Беглец
хочет броситься в объятия — это ведь родной человек,—
а дядя говорит: «Каторжник, бандит, ты же к нам
приведешь полицию. Уходи, нас всех арестуют из-за тебя. Вот
тебе десять рублей на дорогу». Тогда беглец спокойно
садится на стул и говорит: «Дай 25 рублей».— «Ты хочешь
меня разорить? Ну, возьми 15».— «25 и ни копейки
меньше!» Берет деньги и уходит. Переменилась ситуация — не
родственник, а поганенький обыватель. Черт с тобой!
Главное для партии, чтобы я был на свободе и мог
работать! 4
Возник характер совершенно иной формации, возникла
какая-то великолепная проза подполья. Стало ясно—
никакой эсеровской экзальтации, никакой жертвенности.
366
О своей работе в кино и театре
Когда одновременно арестовали большевика и эсера, на
вопрос производящего обыск жандарма: кто вы такой? —
эсер встал в позу и сказал: сЯ член партии социалистов-
революционеров, борющейся за свержение самодержавия»
и т. д. Когда спросили большевика, тот ответил: «Я бедный
конторщик, я первый раз об этом слышу». И вечером из
тюрьмы бежал конторщик, а эсер там остался. Возник этот
великолепный прозаизм, связанный с замечательным
юмором, с великолепной ориентировкой. Возник
замечательный и сложный образ спокойных и веселых в сознании силы
своего дела людей.
Задача, которая встала перед нами,— это показать
собирательные качества класса, показать пафос класса,
показать легенду класса, показать юмор класса.
Мы вспомнили о книжке, которую нежно любили в
детстве. Это — сТиль Уленшпигель». Книжка нам очень
помогла. Я боюсь литературных ассоциаций, они часто до
добра не доводят.
Сделать пролетарского сТиля Уленшпигеля» было бы
делом плохим. Тиль целиком связан с Фландрией, со своей
эпохой, со своим народом. Он совсем не русский. Но на
сТиле» мы научились жанру. Мы научились тому, что такое
революционная легенда.
«Уленшпигель будет вечно молод, никогда не умрет
и пройдет всю землю, нигде не осев. Он будет
крестьянином, дворянином, живописцем, ваятелем — всем вместе.
И так он станет странствовать по всем землям, восхваляя
все правое и прекрасное, издеваясь во всю глотку над
глупостью».5
Этот образ с зычным смехом и яростной ненавистью
к угнетателям, образ с настоящей легендарной лирикой,
образ барабанщика революции нам очень помог. Мы
поняли, в чем должна быть сила и прелесть подобных образов.
И прежде всего мы поняли, что в искусстве основное для
этого жанра — огромный заряд и запал внутреннего
оптимизма. Помните:
Слово «жить» на знамени я написал моем.
Пусть сгинут тоска и печали. 6
«И он пошел с ней, распевая свою шестую песню.
И никто не знает, когда он спел последнюю». 7
О работе над трилогией о Максиме
367
Мы решили попробовать создать такого героя. Как это
сделать? Мы решили попробовать понять среду, быт, все те
мелкие вещи, которые могли формировать такого парня,
увидеть хотя бы сначала даже натуралистически. Я месяц
провел с гармонистами Москвы и Ленинграда, которые
играли весь свой репертуар; мы читали комплекты газеты
«Копейка», почти всю бульварную литературу времени,
шатались за Нарвской заставой, где мог жить этот парень,
смотрели старые программы городских садов, где он мог
бывать, вспоминали цирк, чемпионат французской борьбы
того времени, словом, старались определить те вещи,
которые нас толкнули бы на какие-то дальнейшие ассоциации.
То есть то, о чем я говорил в начале: «С одной вещью, в уме
представленную, купно воображать другие, как-нибудь
с нею сопряженные».
Вы ощущаете, вероятно, и по отрывкам из мемуаров,
и по увлечению Тилем, и по материалу гармонистов и
куплетистов, что предпосылки образа Максима уже есть. Есть
прозаический юмор, лирика окраины, озорство, есть какой-
то внутренний романтический пафос и порыв. Эти качества,
эти грани характера уже появились. Нужно было еще
конкретнее почувствовать колорит и атмосферу вокруг
этого парня.
И здесь помогли нам песенники. Первая мысль о песне
родилась от актера. Чирков здорово поет. Он хорошо поет
русские песни и просил вставить какую-нибудь песню.
Когда мы слушали песни со специфической деревенской
лирикой, то не чувствовали в них Максима. Мы стали
искать песни, в которых был бы какой-то другой колорит,
не деревенский, и в то же время не было бы оперетки,
шантана.
И вот однажды какой-то гармонист сыграл «Крутится,
вертится шар голубой» — и Максим в этот момент был
готов. Сразу воображение поехало: сумерки за Нарвской
заставой; тьма, грязь, слякоть, кабаки, пивные, дым
заводов, городовые, отвратительная жизнь. И вдруг
замечательная лирическая песня. И выходит первый парень
Нарвской заставы. Первый хулиган, первый ухажер за
девушками, аматер французской борьбы, остряк, наизусть
знает «Антона Кречета»...
И вот парня жизнь начинает учить — жестоко и неумо-
368
О своей работе в кино и театре
лимо. Начинается история большевика. Начинается
история человека и эпохи.
Если мы нашли образ человека, нам оставалось найти
еще более трудное, найти концепцию эпохи.
Мы погрузились в соответствующие экономические,
политические и прочие материалы и стали заниматься
русской реакцией. Однако для нас было понятно, что
нужно сделать этот разрез не просто логически и
рационалистически, а надо найти ощущение эпохи, найти образ
эпохи. Это, по-моему, одно из того самого важного, что есть
в искусстве,— общее ощущение вещи, связанное с
ощущением эпохи.
Конечно, ощущение эпохи рождается не на голом месте,
а в итоге усваивания смысла эпохи. В итоге понимания
процессов, происходивших в данную эпоху. Это то, что
трудно иногда выразить словами.
Послушаем, что пишет Блок о 1911 годе.
«Уже был ощутим запах гари, железа и крови. Весной
1911 года П. Н. Милюков прочел интереснейшую лекцию
под заглавием «Вооруженный мир и сокращение
вооружений». В одной из московских газет появилась пророческая
статья: «Близость большой войны». В Киеве произошло
убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об
употреблении евреями христианской крови. Летом этого года,
исключительно жарким, так, что трава горела на корню,
в Лондоне происходили грандиозные забастовки
железнодорожных рабочих, в Средиземном море — разыгрался
знаменательный эпизод «Пантера — Агадир».
Неразрывно со всем этим связан для меня расцвет
французской борьбы в петербургских цирках...
В этом именно году, наконец, была в особенной моде
у нас авиация...
...Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что
знаменовало окончательный переход управления страной
из рук полудворянских, получиновничьих в руки
департамента полиции.
Все эти факты, казалось бы столь различные, для меня
имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять
факты из всех областей жизни, доступных моему зрению
в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают
единый музыкальный напор».8
О работе над трилогией о Максиме
369
Это очень важно — получить ощущение единого
музыкального напора эпохи.
Блистательно начинается «Броненосец «Потемкин» —
с гигантской волны. И здорово — «Чапаев»: степь и
тачанка.
Понять эпоху, понять так, чтобы она звенела у вас
в ушах! И вот годы реакции: «Санин» Арцыбашева,
полицейские участки, декаденты. Не смогу даже сказать
почему, но у меня эта эпоха связана с задней страницей
дешевых журналов со всеми этими объявлениями:
«Я, Жанна Гренье, прожила несчастную жизнь, потому
что у меня была плоская грудь, но обратившись к
доктору...» и т. д.
«Смерть лысым!»
Стихи «дяди Михея», рекламы лодзинских товаров
и карточек парижского жанра. Понять эпоху так, чтобы
зазвучал ее музыкальный ритм. Понять ее в великом и в
чепухе, в пафосе и в глупостях, чтобы во всем зазвучал
1910 год. Почему-то на меня очень сильное впечатление
произвели следующие стихи:
Папа деньги добывает,
Мама шляпы покупает.
Папа каждый день на службе,
Мама же с кузеном в дружбе.
Зовут папу старым хреном.
Мама все сидит с кузеном.
Папа горничных целует,
Мама папочку ревнует.
Папа часто в винт играет,
Мама глазками стреляет.
Мама часто нездорова,
Папа льет коньяк Шустова.
И еще механическое веселье самой глупой музыки на
свете — новинки этих лет — популярного танца «Ойра,
ойра».
Рядом с чудовищными образами тупости и пошлости
кровавый образ раздавленной революции.
И все это не раз использованный в литературе образ
черной ночи русской реакции. Незаметно для нас старая
тема человека, раздавленного эпохой, опять овладела
370
О своей работе в кино и театре
нами. Трагическая ночь стала основным образом
эпохи.
Пролог был сочинен. Большевик бежит из Сибири
в царский Санкт-Петербург. Он заходит в первый дом, ему
говорят, что его друг повесился. В другом доме — измена.
В третьем — его товарищ отошел от партии. Полный
разгром: мрак. Несутся лихачи. Хохот и крики: «С Новым
годом! С новым счастьем!» И оглушительная «Ойра»!
Человек затерян в Петербурге. Черная ночь реакции...
Когда мы пошли по этому пути, опять мы сели на свой
конек, и сценарий стал получаться как-то подозрительно
легко. Мы почувствовали, что выходит фальшь, мы поняли,
что шли по неправильному пути: не в разгроме революции
была наша тема, а в подготовке к бою. Мы засели еще
и еще раз за Ленина, и целый ряд ленинских положений
звучал и звучит для нас до сих пор как основные образы
нашей картины. Иногда зарядишься какой-то фразой и
идешь на съемку, целиком увлеченный, взбудораженный
этой фразой, например:
«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному
пути, крепко взявшись за руки». 9
Мы снимали лучшие сцены на ощущении этой фразы.
Ряд ленинских статей дали нам основные образы, основное
чувство эпохи. Образом эпохи сделалось:
«Никакие преследования, никакие расправы не могут
остановить движения, раз поднялись массы, раз начали
шевелиться миллионы. Преследования только разжигают
борьбу, втягивают в нее новые и новые ряды борцов.
Никакие покушения террористов не помогут угнетенным массам
и никакие силы на земле не остановят масс, когда они
поднимутся». ,0
От старого замысла картины остался только пролог.
Мы простились и, твердо надеюсь, навсегда со
всяческими «трагическими ночами», с «подавленными черной
эпохой одиночками» и прочими красотами отнюдь не
классического экспрессионистского наследия.
И главное и основное — мы простились с
пессимистической концепцией.
Тематические и стилевые задачи стали нам ясны.
Теперь перед нами встала задача драматургического
построения картины.
О работе над трилогией о Максиме
371
И немедленно начался ряд зловещих крахов.
Выяснилось, что известные нам законы драматургии
мало чем могут помочь. Приходится или все задуманное
нами выбросить вон, или искать какие-то новые приемы
оценки мыслей, образов, ситуаций.
В области историко-революционной тематики мы имели
картины двух планов. С одной стороны, «Красные
дьяволята», «Предатель», «Веселая канарейка», в которых фабула
авантюрного романа применялась к истории
революционного движения, события отбирались с точки зрения
возможности найти добротную драматургическую
пружину. Благодаря этому все, имеющее стержневое значение
для темы и материала истории революционного движения,
выпадало, зато оставались побеги из тюрьмы,
провокаторы, тайны конспирации. В итоге — пошлая романтика
приключенческой драмы не только обессмысливала, но
и искажала революционный материал. Вместо правды
о жизни революционеров получался «Красный
Пинкертон». "
Не приходится говорить, что желание втиснуть
революционную действительность в рамки приключенческой
картины было вызвано незнанием материала авторами этих
картин.
Зато картины другого плана — «Стачка», «Арсенал»,
«Конец Санкт-Петербурга» — были при всех их
недостатках явлением высоко культурным. В них были и уважение,
и любовь к материалу, и горячее желание сделать картины,
обладающие познавательным значением. В этих картинах
был и разрез эпохи, и локальность образов.
Однако одного в них не было. Не было захвата
зрительного зала. Несмотря на культуру и талант авторов, зритель
эти картины не смотрел. И одной из их бед являлось
отсутствие героя, которого мог бы полюбить зритель.
Если мы еще раз посмотрим эти картины, то мы, может
быть, почувствуем любовь к режиссерам, их поставившим,
но не найдем в себе ни капли любви к действующим в них
героям.
Ход авторов этих картин к замене драматургии
монтажом неминуемо привел к обескровливанию человеческого
образа. Образ может быть выявлен только во
взаимоотношении с другими людьми, взаимоотношении с событиями.
372
О своей работе в кино и театре
а не в монтажном сталкивании с архитектурой и
разнохарактерным ассортиментом вещей. Там, где есть
взаимоотношение с другими людьми, есть действие. Есть логика
поведения. Есть динамика человеческих чувств.
Все это может дать только конструкция всей картины.
Если нет конструкции, невольно детали вылезают на
первый план, основное теряется и герой превращается в
натурщика, существующего наравне с колонной, статуей
и облаками.
Итак, в наследство мы получили или традиции
революционного детектива, или систему приемов монтажного
кинематографа, систему, от которой мы отказались еще
при постановке «Одной». Уже задолго до «Юности
Максима» нам было ясно, что нужно делать не эпизоды, а
картину. Установка же на актерский кинематограф являлась для
нас основной, начиная с первой нашей картины.
И так как главным для нас являлась судьба Максима,
мы решили учиться не у Понсон де Террайля или Гюи де
Терамона и даже не у драматургии, а у прозы, и
попробовать создать роман-биографию. Причем сделать эту
биографию типической.
Совершенно отказаться от какой-либо идущей по
боковым линиям выдумки, заняться главным образом
конструктивным выстраиванием почти хроникального материала.
В своей драматургической работе поступить так, как
рекомендовал Золя, который писал о процессе создания
романа следующее:
«Положим, что один из наших
романистов-натуралистов хочет написать роман из театрального мира. Он
исходит из этого основного задания, не имея еще ни
фактов, ни персонажей. Первым долгом он вспомнит и запишет
все, что знает об этом мире, который он хочет изобразить.
Он был знаком с таким-то актером, присутствовал на
такой-то сцене. Это уже документы, и самые лучшие,
вызревшие в нем самом. Затем он отправится в поход,
вызовет на разговор наиболее осведомленных людей, станет
собирать выражения, анекдоты, портреты. Это еще не все.
Он обратится к печатным документам, будет читать все,
что может оказаться ему полезным. Наконец, он посетит
место действия своего романа, проживет несколько дней
в театре, чтобы изучить все его закоулки, станет проводить
О работе над трилогией о Максиме
373
вечера в уборной актрисы, по возможности пропитается
атмосферой кулис. И после того, как эти документы
собраны, роман, как я уже сказал, сложится сам собой.
Романисту остается только логически распределить события. Из
всего, что он слышал, выдвинется драматический эпизод,
происшествие, нужное ему, чтобы построить остов глав
книги. Интерес произведения не заключается уже в
необычайности этого происшествия, напротив, чем оно банальнее
и обычнее, тем более будет типичным. Заставить реальных
героев действовать в реальной среде, дать читателю ломоть
человеческой жизни — в том весь натуралистический
роман. Но если воображение перестало быть основным
качеством романиста, что же его заменило? Всегда должна
быть какая-то руководящая способность. В настоящее
время руководящей способностью романиста является
чувство действительности». ,2
Все это совпало с тем, что нам хотелось сделать:
попробовать не выдумывать невероятные истории, а взять
основные факты эпохи и связать их судьбой человека.
Выстроить образную систему по линии биографии. Мы
представили себе экранизированную хрестоматию истории
партии эпохи реакции. Что должно быть в этой
хрестоматии? Разгром старого поколения революционеров;
рождение нового типа революционеров,
революционеров-пролетариев, рождение массовой пролетарской партии;
забастовки, демонстрации, разгон полицией демонстрации,
учеба большевика в тюрьме, маевка за городом. Это и
есть основные эпизоды нашей картины. Их вы найдете
в любой книге по истории партии, в любом рассказе об этой
эпохе. «Аттракционы» наши не выдуманы. Их дал
материал.
Конструктивно картина должна была держаться не
загадкой и тайной, а интересом зрителя к дальнейшей
судьбе героя.
Любовь к Максиму должна была, по нашим
соображениям, сделать для зрителя близкой и дорогой его судьбу.
Полюбить Максима зритель должен был не за его
неслыханную красоту и не за вообще «хорошие черты
характера». А за то, что в Максиме заложены лучшие свойства
класса.
Сила класса. Юмор класса. Лирика класса.
374
О своей работе в кино и театре
Интерес картины должен был быть не в
исключительности ситуаций, а в их типичности.
Основным должно было явиться то чувство
действительности, о котором писал Золя.
Всяческое подобие «художественной хроники» и
агитпроп-фильма должно было быть уничтожено тем, что
в основе всего заложены судьбы людей, образы людей.
Три задачи стали для нас основными:
1. Познавательное значение картины. Сделать
картину, могущую стать пособием при изучении
соответствующих глав истории партии. Основными событиями картины
сделать основные события эпохи. Идею картины пустить по
магистралям действующих лиц и постараться найти
неразрывное единство темы и фабулы.
2. Показать людей и события в движении и развитии.
Все силы драматургии бросить на раскрытие и анализ
материала. Показать диалектику событий, приведшую
Максима в ряды партии, Андрея к гибели в машине, Дему
к анархическому убийству городового.
3. Создать образ одного из «героев нашего времени».
Героя, могущего стать для миллионов зрителей примером,
образцом.
И разрешить все эти задачи, сохраняя свое творческое
лицо. Есть куплетисты, которые поют куплеты и потом
говорят: «Не под рифму, а зато правильно*. И это «не под
рифму, зато правильно» у нас бывает в искусстве, т. е.
показано все правильно, а искусства нет. Искусство
начинается там, где есть не только правильно показанное событие,
но и свое собственное, авторское отношение к этим
событиям. Авторский взгляд на них. Нам хотелось сделать
картину и «под рифму, и правильно», т. е. работать методами
своего искусства.
Это означает работать только на том материале и
только на тех заданиях, которые при мысли о них рождают
творческое волнение, создают собственные творческие
ассоциации. Стараться не брать ни одно событие, ни одного
героя, ни один факт и ни одно положение, если от этого не
возникает тот музыкальный напор, о котором писал Блок.
Мы боролись с внедрением в картину той или другой сцены
«для идеологии». Мы говорили: для идеологии у нас вся
картина; идея картины в ее сердце, а не в ее орнаменте.
О работе над трилогией о Максиме
375
Разговоры, что «я буду делать это для души, а это потому,
что иначе картину нельзя будет выпустить», казались нам
грязными, спекулянтскими разговорами. И мы старались,
чтобы каждая сцена, каждый образ, кроме того, чтобы
двигать сознание зрителя вперед, был образом нашим, по-
настоящему волнующим.
Лекция вторая
Первое, что я хотел бы сегодня сказать: картина
делается на бумаге. Вся режиссерская экспозиция, все, что
будет в картине, должно быть на бумаге. Когда я говорил
о замысле картины, я говорил не только о сценарном
замысле, но и о режиссерском.
Какие же задачи, говоря узко, касаясь
преимущественно нашей режиссерской профессии, мы себе ставили?
К тому моменту, когда мы начинали ставить «Юность
Максима», кончался откровенно экспериментальный
период советской кинематографии, в котором и мы тоже,
я считаю, играли немалую роль. Этот экспериментаторский
период заключался в том, что нужно было как-то осознать
все элементы кинематографической выразительности и
понять, что же есть киноискусство. Причем был, конечно,
огромный перегиб палки и излишняя заостренность
эксперимента в том, что пробовали найти некий философский
камень кинематографа, т. е. пробовали каждый элемент
кинематографического искусства заострить до предела
кинематографически и осознать все его возможности именно
как элемента кинематографического искусства,
старательно изгоняя из него все, что могло бы иметь место и в других
искусствах.
Пробовали найти чистую кинематографичность.
Первый момент вам известен. Это гипертрофия монтажа,
т. е. стремление все процессы кинематографического
искусства свести к монтажу. Потом постепенно, картина за
картиной, монтаж подменял собой сценарий, монтаж
подменял собой драматургию, и отсюда пошла самая
страшная беда в кинематографе — распад конструкции картины.
Все картины последнего монтажного периода являлись
сборищем кадров, объединенных монтажными приемами.
376
О своей работе в кино и театре
Мышление художника, его ощущение и желание
воздействовать на зрителя распалось, конструкция пропала.
Дальше. Всем вам известен момент огромной
гипертрофии фотоискусства, искусства оператора, когда мы, в том
числе и я, в отдельных вещах считали, что фотография
обязана играть вместо актера. Отсюда возник
«эмоциональный свет», и я не забуду, как на фабрике у нас какой-
то режиссер сказал, что кулака он будет снимать в темных
тонах, а председателя сельсовета — в светлых тонах, и
свет будет работать «диалектически». Таким образом
фотография стала играть образ вместо актера. Актер
перестал изображать людей, а стал показывать отношение
к людям, и вместо того, чтобы играть образ человека, он
стал играть понятия, символы. Я помню дискуссию в одном
из Домов кино: кто-то говорил на страшном темпераменте,
что режиссер мыслит кадрами. А в дверях стоял какой-то
незаметный человек и задумчиво сказал: а я думал —
головой. Это очень хорошая мысль. Нужно, конечно,
вернуть элементам кинематографии их прямое и
логическое назначение, людей должен играть актер. Монтаж
является техническим средством изложения драматургии
вещи. В основу всего должна быть положена сценарная
конструкция. И не дело оператора играть за актера,
актера — играть за сценариста, а режиссера — играть за всех.
Т. е. пора вернуть все эти профессии с головы на ноги и
начать по-настоящему думать головой. И отсюда возникают
простые и ясные задачи режиссуры: нахождение ведущей
идеи произведения, содержания, людей, эпохи, раскрытие
всего этого с максимальным воздействием на зрителя,
причем основным и главным методом передачи являются
люди, их поступки, их взаимоотношения; никакой
непосредственной расшифровки идей в символах; никакого
вдалбливания в зрителя через специально направленные
монтажные приемы. Воздействие такое, какое должно быть
от художественного произведения, т. е. воздействие через
волнение.
Вот простые и ясные задачи, которые мы себе ставили,
о.тнюдь не считая, что «была бы правда в душе, а форма
приложится». Первое и основное, чем мы занимались
всерьез, это работа с актером. Надо сказать так: если мы
спросим любого режиссера, как должен актер играть, он
О работе над трилогией о Максиме
377
несомненно ответит: актер должен играть реалистически.
И будет это совершенно правильно и совершенно не
конкретно.
Если мы посмотрим историю театра, то увидим, что
каждое поколение провозглашало термин «реализм»,
осуждая с этой точки зрения предыдущее. Если вы
возьмете античную декламацию, то в каждом учебнике вы найдете
термин «естественность». Если вы возьмете любую поэтику
ложноклассического театра, то слово «натюрель» мелькает
в каждом руководстве по искусству драмы и сцены,
начиная с Буало. Если вы возьмете разговор Гамлета с
актерами, то он также говорит об естественности. Причем каждая
эпоха упрекала предыдущую в отсутствии реализма.
Поэтому термин «реализм» очень общ, а если мы скажем, что
актер должен играть в стиле социалистического реализма,
это слишком смело. Что такое социалистический реализм
в актерской игре, мы еще точно не знаем, и
сформулировать, что это должно быть так, а не иначе, мы еще не
можем.
Мне кажется, что мало что принесло такой вред
искусству театра, как внедрение терминов «естественность»
и «простота». Это дало возможность людям совершенно
безграмотным заниматься искусством. Это мы можем
наблюдать на съемках, где режиссер, не имеющий никакого
представления, как с актером обращаться и что он такое,
работает с актером. Он говорит: «Играйте проще, играйте
естественнее». У того не выходит. Он говорит: «Я вас
прошу сделать естественнее».
И рождается знаменитый крик, который можно часто
слышать в ателье:
— Больше жизни!
Но что стоит за этой естественностью и простотой,
известно еще очень мало. Во всяком случае, каждый
трактует это по-своему. Что касается термина «простота», то
в занятиях с актером он является термином не только
не полезным, а даже вредным, ибо простота в искусстве
есть итог огромной сложности, а не стремление играть
примитивно.
В этой связи несколько слов относительно мхатовской
школы. С мхатовской школой вышла невероятная
неразбериха. Нужно решительнейшим образом отделить работу
378
О своей работе в кино и театре
самого Станиславского от практики ряда театральных
педагогов.
Станиславский как человек гениальный в своей работе
ставил целый ряд проблем. И оставил людей, работавших
с ним 30—20—15 лет тому назад, причем каждый из этих
людей канонизирует тот момент, которым Станиславский
в порядке эксперимента занимался в это время. А с тех пор
много воды утекло.
Мне кажется совершенно безусловной вся «система»,
когда она касается подготовки к творческому процессу;
когда она касается разворачивания творческого процесса
каждого отдельного художника, она совершенно
замечательна и абсолютно верно дает все опорные пункты:
нахождение роли, нахождение состояния и т. д. А вот после
этого начинается следующее: система Станиславского,
вопреки тому, что он писал и проповедовал всю свою жизнь,
превращается его эпигонами не в вехи творческого
процесса, а в стиль игры. Возникает знаменитое
психологическое зануживание; натуралистическое обрастание
ненужными бытовыми подробностями; возникает пауза, и
возникает знаменитая методология «оправдания». Между
прочим, это приемы, абсолютно не свойственные лучшим
актерам МХАТа.
Давайте подумаем, что такое бытовой подтекст,
который актер так жаждет приспособить к каждому образу,
над которым ему надо работать.
Мы стали перечитывать статьи Белинского о Мочалове.
Помните, какими словами Белинский писал о Мочалове:
«Огнедышащий вулкан», «Волосы поднимаются дыбом от
его игры» ,3 и т. д.
Между прочим, актер Ленский, замечательный
реалистический актер, написал в своих мемуарах об одном
актере: «К этому времени этот актер — окончательно
испортился. В его игре появилась удручающая
естественность и простота, которая хуже воровства». ,4
Поговорим относительно того, какой же нам нужен
стиль игры и над чем же мы здесь попробовали работать.
Вот традиции «низкого» искусства. Если мы возьмем эти
традиции, то мы в них найдем традиции народного
искусства, прошедшие через века; традиции народного театра,
бывшего во все времена и у всех народов явлением глубоко
О работе над трилогией о Максиме
379
прогрессивным, потому что именно бродячие комедианты
на площадях боролись с церковью; именно бродячие
комедианты двигали революционные темы в противовес
государственному искусству. На площадях, в ярмарочных
театрах нарождался революционный протест. Причем эта
линия народного театра попорчена и испошлена начиная
с XIX века, где, может быть, последним блестящим
периодом этого искусства был театр Дебюро.
Возьмем такое, скажем, низкое искусство, как
мелодраму. Мы ее воспринимаем как сентиментальную
бульварщину, а мелодрамы Фредерика-Леметра — это потрясающие
вещи. Мы в них найдем соединение комического и
трагического, романтический трагизм и зычный юмор. Если мы
вспомним веселое и озорное комедийное мастерство
площадного театра, то мы увидим, что Тиль Уленшпигель
и есть эта традиция.
Опасность в том, что все это легко застилизовать. Дело,
конечно, не в том, чтобы пробовать в XX веке, в советской
России из наших актеров делать бродячих комедиантов;
это ерунда, и ничего из этого не выйдет. Это так же глупо,
как попытки мирискусников возродить в другом веке
ярмарочные балаганы на Марсовом поле. Я думаю, что вы,
видевшие наши картины, нас в этом не упрекнете. Дело
в том, чтобы подхватить традицию и вести ее дальше,
настолько дальше, чтобы истоки уже не были видны.
Теперь вопрос относительно стиля игры. Как это ни
странно, мало где я так научился искусству, как в музее
Ленина, и мне кажется, что музей Ленина является для
всех нас совершенно потрясающим учебником. В чем
огромная прелесть и огромное, порядка искусства,
впечатление, которое охватывает вас, когда вы заканчиваете осмотр
музея? Это сочетание огромных, величайших масштабов
и чего-то очень маленького и интимного.
Проекты первых декретов Совнаркома, научные работы
Ленина, его библиотека и рядом с этим — чего я никогда не
забуду — удостоверение на звание почетного
красноармейца, которое прислали Ленину на маленькой бумажке
с нарисованным от руки воздушным шаром; часы Ленина
и ключик, подвешенный на шнурке от ботинок; пальто
Ленина после выстрела Каплан, заштопанное Крупской.
Гигантские планы истории человечества монтируются с
380
О своей работе в кино и театре
очень крохотным, интимным и очень дорогим для нас
личным миром Владимира Ильича. Это как бинокль, вы его
повернете одной стороной — и все от вас очень далеко;
поворачиваете другой стороной — и все у вас рядом.
Ощущение огромного масштаба и личного мира — это
то, что в искусстве самое замечательное. Это то, на чем мы
учились.
Как же мы начали работать и как мы хотели подойти ко
всему этому? Нам казалось, что актеров нужно провести
тем же путем, который прошли мы сами, т. е. дать
возможность актеру накопить ассоциации такого же порядка, как
накопили мы.
В книжке о любви, по совсем другому поводу Стендаль
писал следующее: «В соляных копях Зальцбурга, в
заброшенные глубины этих копей бросают ветку дерева,
оголившуюся за зиму; два или три месяца спустя ее извлекают
оттуда, покрытую блестящими кристаллами: даже самые
маленькие веточки, которые не больше лапки синицы,
украшены бесчисленным множеством подвижных и
ослепительных алмазов. Прежнюю ветку невозможно узнать». ,5
Процесс кристаллизации это тот процесс, на котором,
собственно, по-моему, построена вся актерская игра.
Поэтому, что же мы сделали? Мы взяли наших актеров и
попробовали опустить их в Зальцбургские копи. Они
работали в прокатном цеху «Красного выборжца». И гармонисты
и куплетисты учили их петь. Они бывали бесконечное
количество времени среди старых рабочих. Они читали
множество мемуаров. Актеры очень честно относились к этому
делу. И вот начался процесс кристаллизации. Прежде
всего произошла абсолютная ломка амплуа. У нас нет ни
героя, ни любовника.
Мы искали две вещи: мы искали локальную образность,
т. е. искали в этом процессе кристаллизации образности,
мышления, поведения — образность, характерную для
нашего героя, для человека данного класса, данной среды,
данного времени. С другой стороны, мы хотели подхватить
традиции народного искусства. Но подхватить и повести их
дальше совсем на другой основе и совсем на другом
материале.
Если мы разберем по сценам первую серию, то увидим,
до какой степени и сценарная, и актерская, и режиссерская
О работе над трилогией о Максиме
381
работа как раз подхватила эту традицию народного
искусства, так называемых «низких жанров».
Давайте разберем начало первой части картины.
Начинается с того, что выходит Дема и читает монолог
репризного типа. Текст такой: «Приснился мне чудный сон,
будто выдали нам к празднику неразменный рубль,
хошь — ешь, хошь — пей, а рубль при тебе остается. И
потом ты мне приснился. Будто пошли мы с тобой на
Литейный проспект невест выбирать и попали в участок. Пристав
у нас рубль отобрал, а нас велел похоронить. Лежим мы
с тобой в могиле и поем: «Боже, царя храни!» Дальше
первое появление Максима, будущего героя: раздается
крик «кукареку», на забор кто-то выбрасывает лохматую
дворняжку, появляется Максим и в подчеркнуто
эстрадной манере поет: «Крутится, вертится шар голубой».
Появление горничной, которую они тискают, и их уход
с куплетами. Дальше сцена убегающей от мастера
Наташи; парни направляют его по другому пути и спасают
ее. Разговор с Наташей, прокламации и французская
борьба: «Прокламация — это нам не интересно, а вот
борьба!» Один изображает духовой оркестр, другой —
парад борцов. Приход в цех. Максима вызывает
заведующий, и начинается разговор совершенно в духе
Уленшпигеля, т. е. построенный на том, что якобы туповатый парень
оказывается хитрее хозяина. Типично фольклорная сцена.
В народных сказках таких сцен сколько угодно. Дальше,
после веселой сцены, вызывающей смех зрителя, когда
Максим декламирует «Антона Кречета»,— переключение
на драму. Приходит известие о том, что убили друга.
Резкое переключение с комического на трагическое.
Дальше — рабочая школа. Монолог Наташи о
подрядчике абсолютно на эстрадной традиции, где она пробует
цифры арифметики переключить на урок классовой
борьбы. Монолог Максима в тюрьме. Разговор с самим собой
с пением тюремной песенки. Охранка. Комбинация трюков.
Максиму говорят: «Скажи четко и разборчиво: кукуруза».
Максим говорит какую-то ерунду.
Везде фольклорная традиция, но не застилизованная,
а на другом материале и в другом качестве. Между прочим,
один мой приятель сказал о картине термин, который меня
очень устроил: «Картина грубых эффектов», т. е. никакого
382
О своей работе в кино и театре
интеллигентского шепотка, а зычный юмор и сильный
трагизм.
Приемы режиссерской работы. Если говорить о
приемах режиссерской работы, то основной прием
режиссерской работы с актером — это знание человека, потому что
каждый актер, с которым работаешь, не похож на других,
и весь подход к актеру заключается в индивидуальном
подходе. Картину, конечно, нельзя делать в ателье, и роль
актера нельзя приготовлять в ателье. Актерский образ
должен быть готов до первой съемки. Все должно быть
сделано в репетиционный период. Первые съемки можно
начать тогда, когда в актере вы уверены, причем с
актерами нужно работать по-разному. Одному актеру нужна
музыка для того, чтобы сосредоточиться. У него плохое
внимание. С другим актером нужно очень много
разговаривать. Третьего актера нужно каким-то образом зажигать.
К каждому актеру требуется свой подход, построенный
в конце концов на знании данного человека. Но для всех
актеров нужно одно: нужно бесконечное наворачивание
материалов на тему роли. Нужно вызвать в актере
процесс кристаллизации; дать ему поймать цепь ассоциаций,
и тогда линию роли он найдет. Он найдет ее локальность,
он найдет ее направленность.
Несколько слов о работе с массовками. Кулешов писал,
что, когда идет массовка, режиссер должен сидеть дома
и пить кофе; вся работа с массовкой заключается в том, что
нужно продумать всю линию движения массовки, и если
это продумано, то вы можете пить кофе, а ассистенты вам
все проделают.
Я абсолютно не согласен с таким методом работы.
Нужно обязательно воспламенять всех этих людей, с тем
чтобы все они в момент работы ощущали какой-то подъем
страстей. В работе с массовкой задача заключается еще
в том, чтобы уметь передать в абсолютно понятных словах
ситуацию сцены. Без этого ничего не выйдет. Мне попался
один неумный ассистент на картине «Новый Вавилон»,
который объяснял массовке задачу следующим образом:
«Вы, товарищи, изображаете коммунаров, а войска
Галифе на вас наступают из Версаля». Они ничего не понимали.
А в работе с массовкой уметь объяснять — это все. Нужно,
чтобы люди понимали ту задачу, которую вы им даете.
О работе над трилогией о Максиме
383
Заканчивая, я хотел бы сказать следующую вещь:
картина делается на бумаге. Работа с актером делается до
первой съемки. Рабочий сценарий может быть написан
только после репетиций. Только после того, как вообще
образ найден.
И следующая основная вещь — понимание и знание
каждого отдельного человека и электричества, которое
возникает между людьми. В этом секрет работы с актером.
Лекция третья
Недавно мы очутились в довольно печальном
положении. Нам надо было найти художника для картины. ,6
И когда мы попробовали говорить с различными
художниками о работе в кинематографе, то у нас ничего не
получалось. Они не могли понять, что нам нужно, а мы не могли
вразумительно объяснить, почему для них интересно
работать в кинематографе. Я говорил: имейте в виду, если вы
сделаете декорацию и на экране она будет видна, то я эти
куски выброшу вон; если вы сделаете подстройку к натуре
и это будет видно, это не годится, т. е. все, где будет виден
художник, плохо. Я пробовал объяснить, что дело не в
эскизах, ибо в кинематографе делать эскизы декораций
и строить те или иные павильоны это дело существенное, но
для всей картины и всего образа картины очень маленькое
и художнику нужно участвовать во всем процессе этого
дела и работать и над концепцией вещи, и над ее образом.
Относительно этого общего образа картины применительно
к пейзажу, применительно к декорации и т. д. я и буду
сегодня говорить.
Когда мы говорили относительно «чувства эпохи>, мы
говорили, каким образом оно возникает, как идет вначале
знание эпохи, знание и основных ее процессов, и мелочей,
и характерностей быта, потом возникает ряд ассоциаций,
которые в итоге дают какое-то общее ощущение. Как писал
Блок,— какой-то общий музыкальный ритм эпохи. Этот
ритм, этот общий образ эпохи решает и пейзаж,
и характер портретов героя, и все вопросы, связанные
с работой оператора, художника и режиссера. Поэтому,
когда я буду говорить о пейзаже, я буду говорить не только
384
О своей работе в кино и театре
о пейзаже, но и о трактовке сцен. Методика,
применяющаяся в кинематографе для выбора места съемки, кажется мне
очень часто неверной. Как это делается? Действие
происходит в таком-то месте. И начинают искать для этого
подходящий дом, подходящий фон. Но фон — это одно, а среда,
в которой протекает действие, это совершенно другое.
Когда мы работали над второй серией, у нас была
сцена баррикады, и трактовка баррикады в литературе нас
очень интересовала. Мы посмотрели ряд образов
баррикады.
Я прочту три отрывка: из «Отверженных* Гюго,
«Сентиментального воспитания» Флобера и «Разгрома» Золя,
трактующие один и тот же мотив, разрешающий одну и ту
же сцену:
«Изрытая, искромсанная, петлистая, изрубленная, в
огромных дырах, словно оттого, что ее прогрызли гигантские
зубы, с нагромождениями, превращениями в бастионы,
выступая туда и сюда, могуче опираясь на выступы
бывших зданий,— она высилась циклопическим сооружением
в глубине этой страшной площади, уже пережившей
14 июля... Довольно было взглянуть на нее, чтобы
почувствовать степень агонии страданий, стремящихся бешеным
темпом к катастрофе... Выступали камни мостовой, брусья,
лохмотья и клочья, имущество нищеты и несчастий. Это
было грозное братание обломков вещей, чуждых друг
другу... Сизиф накидал сюда свои скалы, а Юпитер
подбросил черепков. Сочетание получилось наводящее жуткий
ужас. Это был босяцкий акрополь» (Гюго.
«Отверженные»). ,7
«Громадная баррикада перегораживала улицу Валуа.
Дым, клубившийся над ее гребнем, рассеялся; видно было,
как по ней бегали люди, широко размахивая руками; потом
они скрылись, и возобновились ружейные залпы...
Около Фредерика какой-то человек в фригийском
колпаке и вязаной фуфайке препирался с женщиной в платке.
Она говорила ему: «Да пойдем же, пойдем».— «Оставь
меня в покое,— отвечал он.— Ты и одна управишься за
привратника. Гражданин, ну скажите, ради бога: разве это
справедливо. Я всегда исполнял свой долг,— и в 30 году,
и в 32-м, и в 34-м, и в 39-м. Нынче дерутся, нужно драться
и мне. Убирайся».
О работе над трилогией о Максиме
385
Продолжая разговаривать с Фредериком, он заряжал
ружье и стрелял с таким спокойствием, с каким работает
садовник. Юноша в переднике увивался около него, чтобы
получить от него патрон и пустить в ход свое ружье,
прекрасный охотничий карабин, который подарил ему «какой-
то господин» (Флобер. «Сентиментальное воспитание»). ,8
«Баррикады защищал спереди ров, наполненный
застоявшейся водой, в которой плавал труп коммунара. Через
пробитую в ней брешь были видны дома на перекрестке
Сент-Оноре; они догорали до конца, хотя из предместья
приехали пожарные насосы, хрипенье которых доносилось
издалека. Раздавались громкие крики, так как пожарные
нашли только что в подвале семь жильцов одного из этих
домов, наполовину обуглившихся» (Золя. «Разгром»). ,9
Если мы возьмем решение пейзажа, то увидим, как
в неистовую романтическую картину превращена
парижская улица у Гюго, как по существу дела она —
нейтральный фон для Флобера, просто спокойный момент,
спокойный фон, спокойное описание места, где происходит
действие, и как она — нагромождение физиологических и
натуралистических подробностей у Золя. Если вы посмотрите
историю живописи, то увидите, что всегда пейзаж являлся
не только фоном действия, даже не только средой действия,
а в большинстве случаев продолжением характера. Если
вы возьмете почти все вещи Джотто, то вы увидите, что
пейзаж трактован так же, как и люди,— тот же аскетизм,
голые скалы, какие-то тоненькие абрисы деревьев,
чередующиеся ритмически с фигурами святых. Характер,
заключающийся в образе данного героя, продолжен в пейзаже.
Поэтому пейзаж для нас существен не только в связи
с образом происходящего действия, но даже с образом
героя.
Мы имеем прекрасные образцы трактовки пейзажа
в американской кинематографии, где в этой области
созданы замечательные вещи: это понимаешь, читая
американский роман. Мы моментально представляем себе его
пейзаж, потому что он дан американской кинематографией.
При выборе места съемки делается еще одна огромная
ошибка: ищут дома, а не ищут улицы. В чем же разница?
Дом есть фон, а нужно искать не фон, а ритм улицы,
движение улицы, ибо улица мыслится неразрывно с тем, что на
386
О своей работе в кино и театре
ней происходит, ездят ли по ней автомобили, ездят ли по
ней ломовики, переносят ли по ней вещи, какие ходят люди,
какого класса и т. д. Только в связи с этим бесконечным
количеством разных характеристик людей и способов
передвижения воспринимаются и дома. Нужно искать улицу
внутри ее движения, а не искать формы и абрисы ее домов.
Здесь очень многому мы можем научиться на Хогарте.
потому что на листах Хогарта улица всегда решена
движением. Если возьмете «Ярмарку», «Пьяную улицу> — улица
решена всем движением, а наша ошибка в том, что когда
ищут дом, то снимают два-три места — вид на
Адмиралтейство, Троицкий мост, Исаакий. На тротуаре возле этих
мест, вероятно, уже есть дырки от штатива.
Попробуем конкретно, на примерах разобрать
несколько образов Петербурга. Мне придется читать целый ряд
с детства известных вам вещей, давайте их вспомним:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла. 20
Прозрачный застывший Петербург. Ясность. Холод.
«Тротуар несся под ним, кареты со скачущими
лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на
своей арке, дом стоял крышей вниз, будка валилась ему
навстречу, и алебарда часового, вместе с золотыми
словами вывески и нарисованными ножницами, блестела,
казалось, на самой реснице его глаз... Он лжет во всякое время,
этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь
сгущенною массой наляжет на него и отделит белые и
палевые стены домов, когда весь город превратится в гром
и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы
кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает
О работе над трилогией о Максиме
387
лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем
виде». 2|
Гоголевская фантасмагория, помчавшийся,
полетевший куда-то к черту город. Бредовый мираж. Реально не
существующий город.
«Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой
части города особенное множество, и пьяные, поминутно
попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили
отвратительный и грустный колорит картины... Духота
стояла прежняя, но с жадностью глотнул он этого
вонючего, пыльного, зараженного городом, воздуха». 22
Достоевский. Ощущение Петербурга переходит с
зрения на запахи.
В июле пропитан ты весь
Смесью водки, конюшни и пыли.
(Некрасов) 23
«Запах пыли, капусты, рогожи и конюшен»
(Тургенев). 24
«Несчастные каналы, помойные ямы и склады разной
пакости в грязных домах родного города — дышат, дышат
и отравляют воздух миазмами и зловонием, а в этом
зловонии зарождается мать-холера, грядущая на город с
корчами и рвотой...» (Помяловский).25
«Здесь еще прямо в нос бьют разнообразные запахи:
пахнет солью морской, селедкой, канатами, кожаной
курткой и трубкой и прибрежным брезентом» (Белый).26
Три Петербурга. Прекрасный город, город
александрийского стиха, стройность и ясность. Какой-то
совершенный чертов кошмар и, наконец, жуткая вонь: мир
распивочных, бакалейных лавок, страшных трущоб, Сенного
рынка, помойных ям и т. д.
Три Петербурга, а в искусстве их, вероятно, можно
насчитать тридцать три, хотя город один и тот же и на
вокзалах туристам продают те же открытки излюбленных
мест. Следовательно, искусство начинается не с выбора
объекта, а с его трактовки. Вопрос в трактовке, вопрос
в образах и даже в линии характера героев.
Для нас все это имело громадное значение, ибо дело
было не в том, чтобы снять красивые кадры, а в том, чтобы
нашего героя впаять в среду, найти верную и совершенно
388
О своей работе в кино и театре
локальную среду, которая была бы не фоном, а, если
хотите, действием, одним из центральных образов нашей
картины. Три серии нашей картины не зря проходят в
Петербурге, и мы хотели дать три образа этого города.
Лучшее из того, что мы имели в кинематографе,—
трактовка Пудовкина и Головни в «Конце
Санкт-Петербурга»,— нас не устраивало, хотя художественно это было
сделано очень сильно. Это Петербург, где люди
символически сдвинуты с нарочито ракурсами подчеркнутой
архитектурой. И опять Петербург того же репертуара, т. е.
Петербург Казанского собора, Петербург чугунных
памятников, Петербург оград, опять Петербург Росси, Захарова
и т. д., только трактованный с помощью съемочной техники
в подчеркнуто символических тонах.
Нам нужно было впаять героя в атмосферу города
таким образом, чтобы город подчеркивал, что делает
герой, но отнюдь не играл за него, т. е.
непосредственной символической расшифровки нашего образа нам не
хотелось.
Что же представляет собой Петербург 1910 года?
Абсолютную нелюбовь вызывала у нас живопись «Мира
искусства», картины Лукомского, Лансере, Лебедевой.
Было бы так же нелепо поместить в этот фон Максима, как
пустить по Невскому человека в лаптях или человека
в цилиндре снимать на фоне Охты.
Самое интересное в Петербурге 1910 года заключалось
в том, что материал, который нам давал город, был
материалом не эстетическим, что, по-моему, очень хорошо, ибо
эстетический материал не является наилучшим для
художника. В частности, съемка прекрасной архитектуры нас
увлекала очень мало. Нам стало понятно, что съемка
ампирного Петербурга нам ничего не даст. Эти кадры вне
нашей картины. Нам нужен Петербург буржуазный и
Петербург рабочих окраин. Когда мы стали думать о
буржуазном Петербурге, то стали искать образ 1910 года.
Совершенно другой Петербург 1914 года, который уже
начинает переделываться под Берлин. Образом
Петербурга 1910 года отчасти является витрина фальшивых
брильянтов Тэта.
Когда у нас родились первые ассоциации, мы стали
думать, кто же нам поможет. Мы хотели найти будничную
О работе над трилогией о Максиме
389
прозу, и мы наткнулись на рассказы Бунина, и с ним у нас
смонтировалась обложка «Солнца России», старые
фотографии «Огонька» и «Нивы».
Прочтем Бунина:
«С панели Лиговки он с непонятной серьезностью
смотрел на лоснящийся от сырости памятник
Александра III, на вереницу трамвайных вагонов, описывающих
круг по площади, на черные людские фигуры, на
извозчиков и ломовых, двигающихся к вокзалу, на огромный
почтовый автомобиль, выезжающий из-под вокзальной
арки, на дроги, увозившие куда-то среди этого движения
нищенский, никем не сопровождаемый ярко-желтый гроб.
Стоя на Аничковом мосту, он сумрачно заглядывал на
темную воду, на посеревшие от нечистого снега баржи, бродя
по Невскому, внимательно изучал товары на окнах
магазинов.
Яркое освещение Невского подавлял густой туман,
такой холодный и пронзительный, что у полицейского
офицера, управляющего на углу Невского и
Владимирского водоворотом надвигающихся друг на друга карет,
пролеток и глазастых автомобилей, были завязаны черной
атласной полоской уши и усы казались седыми. Возле
Палкина отчаянно бил и ерзал по скользкой мостовой
копытами, силясь справиться и вскочить, упавший на бок,
на оглоблю, вороной жеребец, которому торопливо и
растерянно помогал бегавший вокруг него лихач, очень
странный в своей чудовищной юбке, и кричал, махая рукой
в нитяной перчатке, разгоняя народ, краснолицый великан
городовой, плохо двигавший одеревеневшими от стужи
губами...
...От электрических столбов падали в дым тумана
угольные тени. Густо, с однообразным топотом катились
в этом дыму заиндевевшие извозчичьи лошади, рысаки
неслись среди них, выделяясь силой и нахальством, кидая
из ноздрей пар, мешавшийся с летевшими по ветру
дымными волнами, вихрем промелькнула бешено мчавшаяся
пара — молоденький офицер, необыкновенно легко и
нарядно одетый, с торчащими из экипажа ножнами шашки,
с необыкновенным бесстыдством охвативший талию дамы,
тесно прижавшейся к нему и спрятавшей лицо в
каракулевую муфту... Соколович замедлил шаги и долго глядел
390
О своей работе в кино и театре
вслед этой паре, туда, где в ледяной мути огромного
потока, которым казался Невский, терялась бесконечная цепь
винно-красных трамвайных огней и вспыхивали
зеленоватые зарницы».
Если вы посмотрите, как же сделан этот образ, вы
увидите, что он силен прежде всего разрешением ритма
улицы, всеми этими вереницами ломовиков, двигающихся
к вокзалу, трамваями, упавшей лошадью, мчащейся
пролеткой с офицером и дамой и т. д. В этом движении и
был верно найденный ритм улицы. Ритм жизни города.
Конечно, мы совершенно не собирались точно
инсценировать это описание в кинематографе. Но надо было
поймать какую-то ассоциацию, на которую моментально
нарастут свои собственные. Это описание дало нам какой-
то толчок. Далее мы стали искать, каким образом начать
картину так, чтобы с первых же кадров зрителю было ясно,
в какое время года и где происходит действие. И у нас
возник образ Нового года, причем я говорю о пейзаже,
потому что я эти вещи мыслю в едином контексте, это в
конце концов то же разрешение конкретной среды, в которой
происходит действие. Мы хотели начать картину с галопа
лихачей. У нас было такое желание: приходит зритель,
садится в кресло, гаснет свет, и вдруг раздается голос:
— Милостивые государи и милостивые государыни!
Разрешите поздравить вас с 1910 годом! Ура!
В этом возгласе «Милостивые государи и милостивые
государыни!» уже есть ощущение эпохи. Затем, мы думали,
нужно не действие, а какое-то ощущение действия, дать
вначале только какую-то среду, какой-то музыкальный
ритм. Горе заключалось в том, что еще не было аппарата
для перезаписи. Нам хотелось записать одновременно с
пяти пленок пять разных музык, характерных для 1910 года:
«Ойру», цыганский хор, пение какой-нибудь шансонетки,
может быть, краковяк. Вы представляете, сидит человек
в зрительном зале, гаснет свет, и вдруг раздается:
«Разрешите вас поздравить с 1910 годом! Ура!», и понеслась
чудовищная какофония 1910 года? А в это время на экране,
может быть, слабо заметные, летят какие-то фигуры, люди,
характерные для этого времени. Если вы хотите показать
эпоху, вам важно показать не только то, что было в то
время,— вам надо найти то, чего в наше время уже нет.
О работе над трилогией о Максиме
391
Прежде всего вспоминался лихач с лошадьми,
покрытыми сетками. И конка. Мы хотели показать галоп лихачей
и какие-то характерные фигуры. Полет лихачей и пять
одновременно звучащих музык. К сожалению, это не
вышло, и Шостакович просто смонтировал эти вещи и сделал
некое попурри. Вы помните, идет небольшой кусок полета
лихачей, музыка стихает. Идет прозаический фон какой-то
булочной, где стоит елка. Если — Новый год, то не будем
давать ни одного кадра, где не было бы какой-то грани
этого образа, и тогда в итоге получится большой образ.
Елка и чтение газеты: «Что желает на Новый год депутат
Пуришкевич, звезда оперетты Кавецкая, что пророчит
Крыжановская-Рочестер? 1910 год пройдет под
астральным знаком козерога, что сулит миру нирвану».
Прошло 60 мстров вместе с лихачами. Здесь мы уже
дали «Ойру», шансонетку, лихачей. Сами слова:
Пуришкевич, звезда оперетты Кавецкая,
Крыжановская-Рочестер — уже немного эпоха. Конечно, немного, но уже
1910 годом должно запахнуть в зрительном зале.
Выходит большевик Поливанов. Конка. Причем первый
человек, который подходит: «Подайте инвалиду русско-
японской войны». Конка, и возникает дом, «каких много на
Петербургской стороне». Дом с фигурой дворника у входа.
Лестница, по которой проходит Поливанов. По лестнице
бегут люди, спешат на встречу Нового года: «С Новым
годом, с новым счастьем». Гармошка. Опять
контрапунктически проходит «Ойра». И вот он входит в подпольную
квартиру. Здесь хотелось попробовать передать
впечатление от посещения Музея Революции: лампа, дающая
мягкий свет, картина Бёклина «Остров мертвых», серые
обои, мещанская обстановка, и под этим находится
динамит, под этим находится подпольная типография. Скоро
будет облава в этой типографии, полицейские свистки,
а сейчас нам выгодно показать это ощущение покоя.
Отсюда ребенок, лампа, приглушенные слова, старые
фотографии. Но как это будет вязаться с прошлым и будущим? Как
не потерять образ? И тогда мы даем в звуке встречу Нового
года за стенкой. Вся сцена в типографии идет на фоне
далекой гармошки, топота ног, выкриков и т. д., то есть
тема Нового года не прерывается. Ощущение, что где-то
рядом идет встреча Нового года. Облава в типографии.
392 О своей работе в кино и театре
Сразу переход на очень резкие звуки, свистки, крики и —
погоня. Когда она проходит, опять проносятся лихачи,
держа ритм, заданный началом. Лестница буржуазного
дома, по которой поднимается Поливанов. Это очень плохо
сделано — не вышло. Мы искали образ, а вышел типичный
павильон. Это пример нейтрального павильона, который
ничем не помогает, и это вещи, лежащие вне искусства.
Передняя, куда он приходит. Там дело обстоит лучше,
это тот жанр декораций, который я обожаю; декорации со
средою, вещами: набросанные шубы, калоши, а за стеною
вальс, голос: «шанже вотр дам»... И на фоне этого шума,
вальса, набросанных шуб, калош то, что происходит. Он
уходит. Бег ряженых. Они не очень удались. Мы не нашли
этого пошлого маскарада. И конец пролога, кончающийся
очень прозаично,— подворотня, и дворник говорит:
— Какая хорошая ночь, господин.
На этом подчеркнуто музыкальном ощущении эпохи
сделан пролог. На то он и пролог, чтобы в нем показать все
в наиболее сконцентрированном виде. Таков пролог,
нарочито контрастно построенный по отношению ко всей
последующей картине.
С прологом мы разделались. Теперь двинемся дальше.
Одна из наших задач — стилистическое несовпадение
пролога со всей последующей картиной. Пролог держится
на какой-то музыкальной основе, на ощущении ритма, если
хотите, на поэтичности, всю же картину мы хотим держать
на прозе,— это интересовало нас и в режиссуре, и в
фотографии, и во всех элементах нашей работы,— найти
спокойную прозу великих дел. И сразу же с начала
картины, после всех этих невероятных галопов лихачей, криков
«С Новым годом, с новым счастьем», бегущих ряженых,
пробегающих на встречу Нового года людей, после
сутолоки и суматохи центральных кварталов,— очень спокойно
и прозаично показанная окраина.
Рабочая окраина того времени — это деревянный
нарост на каменном теле столицы. Если посмотрите Волынку
около Путиловского завода, рабочие предместья за любой
из застав Петербурга, то вы увидите деревню. Как
возникли рабочие окраины? Какие-нибудь зажиточные мастера,
люди в какой-то степени осевшие, строили себе домики,
возле домиков заводили огороды и по-деревенски жили.
О работе над трилогией о Максиме
393
Начали сдавать даже не комнаты, а углы. Возникли в
большом количестве пивнухи, и родилась странная,
прицепленная к городу и не входящая в ритм города деревня. Нам же
хотелось, чтобы в каждом кадре картины был именно
петербургский образ, а не Сормово или другое место. И мы
еще знали, что, хотя огромное количество рабочих жили
в этих деревнях, на окраинах появились и огромные
каменные казармы, занимавшие иногда целые улицы.
Страшные дома, с обвалившейся штукатуркой, с маленькими,
ровными окнами.
Мы без конца бродили по этим окраинам и решили
взять деревянные дома как задний фон фабрики. Таким
образом, задний фон завода в сочетании с деревней даст
ощущение большого города.
Здесь мы и наснимали бесконечное количество сцен. То,
что я хочу вам продемонстрировать,— не выбор кадров.
Таких фотографий у нас около двухсот. Они просто
снимались в попытке найти образ этой деревни. Здесь вы увидите
и каменный вариант, но всюду в поисках места — желание
сочетать все это с задним фоном фабрики.
Первая часть у нас начинается сценой двора. Двор,
какие-то деревянные галереи, сзади видны трубы. Эти
трубы заднего фона присутствуют почти все время в
картине. Но сочетание деревянных галерей с трубами еще не
давало того, что нам нужно. И пришла идея комбинации
имеющейся натуры с некоторыми вещами. Мы взяли и
повесили одеяла, характерные для рабочих семей того
времени: одеяла из лоскутков. На фоне этих пестрых одеял, труб
завода на заднем плане, деревянных галерей и построили
кадры начала.
Далее мы имели следующее: три молодых парня, очень
веселые, очень жизнерадостные. В какую среду их
поместить? Мы выбрали солидную помойную яму, на фоне
которой происходит их первая встреча. Разные элементы
декорации здесь работают на разное. Завод работает на
тему рабочего предместья, развалившиеся деревянные
галереи и помойные ямы работают на быт, а одеяла, как это
ни странно, на лирику,— они очень милы, эти одеяла из
лоскутков!
Наши три парня в эту среду очень хорошо вписывались,
и среда очень помогла и играть и строить характеры.
394
О своей работе в кино и театре
Мы пробовали трактовать пейзаж монодраматически,
т. е. найти в пейзаже подкрепление состоянию героев.
Поэтому какой-нибудь склад лома на заднем дворе завода
мог оказаться вполне лирическим закоулком; цех в какой-
то момент мог работать на образ смерти, т. е. продолжить
состояние героя. Таким образом герой вписывался в
пейзаж и составлял с ним общую картину.
Это первое прозаическое вступление, построенное на
желании соединить рабочую слободку с образами
большого заводского города.
После этой сцены, где отработали и помойная яма,
и одеяла, и галереи, мы выходим на завод. Мы смотрели все
ленинградские заводы, и ни один нас целиком не устроил.
Мы решили создать некий общий завод. Поэтому у нас
один кадр завода снят в предместье Петербурга, на Ижор-
ском заводе, а рядом кадр Путиловского завода и еще
дальше — Выборгский завод. Завода, который снят в
первой серии, в природе не существует.
Дальше задача продолжения линии героя. Если
вспомнить довольно уютный закоулок, где начинается любовь
Максима и Наташи, когда он ее подсаживает на забор, то
это лирическое окружение, но без нарочитого
подчеркивания. Без того, что если это место должно быть страшно, то
я его сниму при нарочито жестком свете; если это должно
быть величественно — я снимаю ракурсом снизу.
Приемами обнаженной режиссерской подачи пейзажа мы не
пользовались и пользоваться не будем.
Кроме того, мы пробовали разрешить ритм завода. Все
время проходят кукушки, какие-то краны вертятся, идет
пар или дым. Впечатление, что завод живет, завод дышит,
двигается, идет ритм заводского труда, в который впаяно
действие.
Самый цех. Вначале у нас цех был механический. Мы
отказались от этого, потому что тему страшного труда
и смерти Андрея, ощущение ада легче найти в литейном
цехе, где есть огонь, есть ощущение непосредственной
опасности, есть выливающийся металл.
Потом идет сцена в конторе завода в уленшпигелевской
традиции, но с павильоном ничего не вышло. Если бы тогда
была рирпроекция, надо было бы строить кадр на каком-
нибудь окне, за которым идет жизнь завода. А эти стены
О работе над трилогией о Максиме
395
с пестрыми обоями совершенно нейтральны. Поэтому в
сцене с директором кадры для меня в смысле образов мертвые
и неудачные. Нет среды вокруг героя. Поэтому нет
настоящего портрета героя, а есть декорация, на фоне
которой снимается сцена. Поэтому я считаю павильон
неудачей.
Затем идет сцена смерти Андрея. Помните: бежит по
двору Максим, к нему бросается Дема: «Андрей в машину
попал!» И в это время, обволакивая их паром и ревом,
проносится паровоз.
Дальше идет история в рабочем обществе, где мы
пытались дать петербургский заброшенный двор.
Затем идут один или два кадра, которыми я очень
горжусь, но вы, вероятно, их даже не заметили. Это
похороны Андрея. Поиски образа этой сцены мне очень много
дали. Это сцена, где Андрея, который попал в машину,
хоронят на каком-то петербургском кладбище. Товарищи
собираются на его похороны, потом расходятся, и Максим
идет на завод.
Я потратил месяца полтора на то, чтобы найти образ
смерти. И никак не мог его найти. Когда я ходил по
кладбищам, меня потряс классовый образ смерти. Умер
человек — сгинул, а оказывается, социальная разница
существует. Лежит генерал-майор, и над ним плита, памятник
огромный, из мрамора высеченный. Умерла какая-то
девушка, ей поставили мраморного ангелочка. Умер зубной
врач — ему прибили его вывеску. Разные образы смерти.
Я понимал, что Андрея похоронили по самому
последнему разряду. Его, конечно, схоронили на окраине кладбища.
Но все эти окраины утопают в зелени. И даже если вы
возьмете скромную могилу, вы увидите забор, деревья —
спокойную могилку. А мне нужно было сделать так, чтобы
Андрею и после смерти не было покоя. Мне пришла
безумная идея — впаять эту сцену в фабричный фон. Я стал
искать такое кладбище в Ленинграде и его не нашел. Тогда
мы решили его построить. И мы его построили на холме
около Путнловского завода. Там ситуация такая: ровное,
голое место, ни одного дерева; кресты и завод. И самая-то
смерть какая? Зарыли, а кругом гудки, прет дым, кукушки
гудят, и все эти звуки висят над могилой. Это надо было
дать не символически, потому что здесь есть грань, пере-
396
О своей работе в кино и театре
шагнув которую, можно было скатиться в пошлятину. Мне
эти кадры доставляют удовольствие, потому что кажется,
что какую-то задачу я здесь решил.
После этого сцена, где Максим идет в цех. И опять
человек попал в машину. Я вспомнил, что при осмотре
фабрик часто бывает: солнечный луч проходит через верх
крыши и дает полосы. Это было очень трудно снять. Мы
задымили весь верх и через дым светили.
Кадры построены на том, что в темном цеху стоят люди
над трупом и сверху эти полосы света. Они характерны для
завода, и в то же время это образ, работающий на смерть.
После этого похороны убитого человека и — начинается
демонстрация.
Вот над чем нам пришлось поработать. Что мы «хотели
сделать с демонстрацией? Какая была тактика
демонстраций? Прорваться к центральным улицам. Окраина,
которая пошла на город. Поэтому все первые кадры
демонстрации мы строили на заводском фоне и соединении
заводского фона, суровых лиц без грима, тяжелых костюмов,
больших рук, чтобы затем эту демонстрацию впаять в
Петербург 1910 года. На кого наталкивается демонстрация?
Мясники, приказчики, торговый люд, середина между
окраиной города и центром. Весь этот мир бакалейных
лавочек, распивочных, портерных, кухмистерских. Как
показать Петербург на этих домах, чтобы дать 1910 год?
Я напал на след дома, сохранившего название Пскопского
дворца. Этот Пскопский дворец и стал для меня очень
дорогим и нужным образом, потому что я в нем мог найти
и город, и эпоху. На его фоне мы сняли всю демонстрацию.
И здесь мне пришла мысль: а что если написать во всю
стену какое-нибудь объявление. И мы написали: «Пилюли
«Ара» — лучшие в мире». Дом оснастили вывесками,
чтобы придать ему торговый колорит. Вы представляете
себе — идет демонстрация, ее разгоняют нагайками,
скачут казаки, Максима стаскивают с фонаря — предельная
динамика. И над этим неподвижное объявление: «Пилюли
«Ара» — лучшие в мире», под этим мечущаяся толпа
и нагайки. Мизансцена построена на том, что крупные
планы показаны на фоне планов общих, на заднем плане
построено действие массовки, а на первом плане история
Максима.
О работе над трилогией о Максиме
397
После этой сцены идет тюрьма. Как найти контраст?
Мы пробовали эту сцену построить на бешеной динамике,
на криках и шуме, показать героя как человека
предельного темперамента, предельной жизненной силы, а потом
хлоп — поймали, посадили в клетку, и человек превращен
в номер. Первая сцена тюрьмы — это антропометрическое
бюро. Я вспомнил старые фотографии. Занимались
старательно тем, что пробовали обыдиотить человека такой
фотографией. Когда я снимал «Новый Вавилон», то я
много работал над Мане и Ренуаром, а здесь решил
попробовать работать над фотографией охранки. Я много видел
полицейских фотографий, и мне хотелось стилистику этих
фотографий перенести в строение кадра. Это даже
чересчур гротесково сделано. Идет плоскостная
композиция: стоит Максим, его за плечи держит человек, не
смотрящий на него. Никто не смотрит друг на друга — все
смотрят в аппарат. В кадре никто не двигается. У
Максима смотрят зубы, делают отпечатки пальцев. И в свете
мы пробовали найти эту серость, этот идиотизм. Несколько
минут тому назад мы видели этого человека, кричащего
с фонаря. В нем впервые проснулся революционный
протест. И этого человека превращают в номер.
«Глаза серые, зубы хорошие, рост такой-то...»
Абсолютная схема, кретинизм и мертвенность казенной
фотографии. И камера, где он остался один,— стена,
решетка.
Выход из тюрьмы недостаточно фотографичен. Я хотел
снять черную стенку, черные ворота тюрьмы, черный кадр.
Затем открываются ворота и — масса света, Нева. Но это
не вышло.
Еще из сцен, на которых мне хотелось бы остановиться,
надо бы отметить сцену конференции, где решение очень
простое и ясное. Люди находятся за пределами Питера,
простор, воздух, и сразу внедрение большого количества
белого цвета.
Депо. Проезд, погоня. И в комнате Наташи —
светленькие стеночки, занавесочки, самоварчик. А под этим
подполье. Будни революционной работы.
И — последний кадр, по поводу которого было много
разговоров. Нам инкриминировали в нем страшные грехи
и в том числе народничество. Это кадр, который я очень
398
О своей работе в кино и театре
люблю. Юность Максима окончена, и перед ним лежит
огромная, пустая, плоская Россия. Он с котомкой и палкой
идет в эту плоскую Россию делать новую жизнь. Я считаю,
что кадр нужно рассматривать не сам по себе, а лишь
в контексте всей картины. В «Максиме» трудно найти
народнические черты.
Мне хотелось поговорить немножко о звуке, потому что
для меня совершенно неразрывны среда и звук картины.
Это для меня одно и то же. Я не могу думать о декорации,
если не представляю себе звука. Мы поставили перед собой
задачу, чтобы не было ни ноты написанной музыки. Нам
казалось, что для прозаического, повествовательного
стиля, который мы хотели взять, написанная музыка не
годится, потому что для прозы нужна локальность эпохи.
Настоящая музыка эпохи будет лучше того, что напишет
Шостакович. Поэтому мы заказали музыку только для
проезда лихачей.
Но и это пришлось сделать потому, что не было
аппарата для перезаписи. Больше в картине написанной музыки
нет. Мы взяли революционные песни. Это «Варшавянка»
и «Вы жертвою пали». Затем окраинные песни —
«Крутится, вертится шар голубой» и т. д., причем ставили себе
задачей возвратить этим песням их подлинную эмоцию,
убить стилизаторство. Затем «Ойра». старый вальс и т. д.
Над чем мы много работали и что нас очень
интересовало — это гармошка. Гармошка входит в образ окраины
неотъемлемой частью, и мы хотели эту гармошку поднять
до высоты трагедии. У нас гармошкой наделен партийный
организатор на заводе, он все время ходит с гармошкой.
И вы помните то место во дворе рабочей школы, где
гармошка поднимается до угрозы. Мало того, на ней играют
«Вы жертвою пали», во время разгона демонстрации
гармошка поднимается до пафоса. И эта гармошка, которая
проходит через всю картину, то грозная, то веселая, то
лирическая, то трагическая,— вот эта линия гармошки
впаяна в образ.
Кроме того, на этой картине мы объявили решительную
войну так называемому шумовому кабинету. Мы записали
весь звук на натуре и монтировали его.
Это работа совершенно каторжная. Мы сняли все
заводские шумы и потом монтировали их как эмоциональ-
О работе над трилогией о Максиме
399
ное сопровождение. Если вы послушаете звук сцены
смерти парня в цеху, то услышите звук наезжающего крана,
потом крик «шапки долой» на паузе, затем комбинация
шумов мотора, лязга железа, гудков... Эта сцена на точной
партитуре звука. Все заводские шумы играли, как
музыка.
Над сценой демонстрации я сидел два месяца в
монтажной. Что мне хотелось сделать? Я ненавижу такую
вещь, которая называется «хай»,— когда все бегут, кричат
и т. д. Я пошел по очевидцам: скажите, когда вы в первый
раз попали в столкновение с полицией, что вы
запомнили? — Стук копыт и пронзительные свистки. Мы
попробовали это передать. Два основных шума — это цокот копыт
и свистки, а кроме того (на что никто не обращает
внимания),— туда включены все звуки, способные хорошо
ударить по нервам, звуки, которые к демонстрации не
относятся. Например, тревожная сирена, хотя это происходит
не на море. Все это дает довольно сильное ощущение,
причем его обостряет резкое соединение громких звуков
с паузами. Идет демонстрация, поют «Вы жертвою пали».
Полиция. Хор замолкает, пауза. Стоит молча
демонстрация, и стоит молча полиция.
Слышен голос пристава:
— Господа! С миром и по-хорошему идите по домам,
мертвые тела мы сами доставим в больницу.
— Ваше благородие, мертвецов не лечат.
— Молчать! Приказываю разойтись.
Пауза. Никто не расходится.
— Приказываю разойтись!
Опять пауза. И вдруг оглушительная гармошка. Из
соседнего трактира выходит пьяный Дема. Видит рабочих,
полицию и на резком звуке прерывает гармошку.
Опять пауза. Пронзительный свисток. Цоканье копыт.
Бегущая толпа. Морская сирена. Бегут люди, на секунду
пауза. Выбегает парень, выхватывает гармошку у Демы
и оглушительно громко играет «Вы жертвою пали». Все
время страшно эмоциональная партитура звука, куда
входит пауза, гармошка, цоканье копыт, крик, свистки.
Кончается картина той же гармошкой, где звучит тема
простора.
На этой теме — выход Максима в Россию.
400
О своей работе в кино и театре
Лекция четвертая
Сегодня мы будем говорить о второй серии —
«Возвращение Максима».
Трудность нашей картины заключалась в том, что тип
сериальных картин не имел никаких хороших образцов
и примеров. Сериальные картины, которые были до сих
пор,— американские детективы и ковбойские картины, где
переходы от серии к серии качественно не существенны,
потому что они разбивались на двухчастные эпизоды.
Бульварные романы, на основании которых делались
детективы, печатались обычно из номера в номер журнала
или газеты и были приспособлены к тому, что каждая
отдельная новелла могла существовать и сама по себе,
и как продолжение целого ряда прошлых похождений.
Таким образом, шесть-семь серий «Тайн Нью-Йорка» или
«Маски, которая смеется» распадались на двадцать-трид-
цать эпизодов, сцепленных между собой общей линией
единоборства сыщика и преступника, причем
принципиальной разницы между сериями не было.
Наша же задача заключалась в том, чтобы каждая
последующая серия показывала качественное изменение
дальнейшего этапа исторического процесса. Каждую
серию нам приходилось делать наново, по-новому решая
и концепцию эпохи, и роль героя, и все стилистические
задачи, которые мы, казалось бы, уже разрешили в
прошлой картине.
Прежде всего надо было найти ключ к показу эпохи
подъема. Мы взяли наивысшую точку этой эпохи —
1914 год. Особенность эпохи подъема понятна. Эпоха
реакции — это партия, собирающая свои ряды, партия,
очищающаяся от трусов и предателей, и начало роста
новой партийной армии, армии уже в основном
большевиков-пролетариев. Образ разбитой армии, собирающей свои
силы, пополняющейся новыми бойцами и выходящей на
новую дорогу. Эпоха подъема — это партия и рабочий
класс, переходящие в наступление. Основные элементы,
которые входят в образ эпохи,— это прежде всего
массовость рабочего движения. Если хотите, революционное
движение уже как быт, т. е. каждодневные забастовки,
ответы на локауты, демонстрации. Цифр у меня под рукой
О работе над трилогией о Максиме
401
нет, но они гигантские. Забастовки становятся бытом
рабочих; это не какое-нибудь явление на вершине
событий — это явление каждого дня. Быт.
Далее — соединение в огромных масштабах легальных
и нелегальных методов борьбы. Если легальные и
нелегальные методы борьбы были и в эпоху реакции, то в эпоху
подъема, в частности в 1914 году, масштаб применения их
огромен.
Забастовки, перерастающие во всеобщую забастовку.
Демонстрации, когда на улицы Петербурга вышло сто
тысяч рабочих. Наконец, возникновение баррикад как
высшая форма революционной борьбы, т.е. вооруженное
восстание.
В области легальной работы — газета «Правда»,
дальше думская большевистская фракция. С трибуны
Таврического дворца через голову цензуры — настоящее
революционное слово в огромном масштабе. Т.е. огромные
масштабы событий и легальных и нелегальных.
Дальше — слова Блока в моем любимом предисловии
к «Возмездию»: «Запах гари, железа и крови», т.е.
ощущение надвигающейся войны. Страна накануне гигантских
сдвигов и переворотов.
И вот возникает образ Петербурга и России 1914 года,
образ необыкновенного интереса, который в нашей картине
нам удался только частично. Образ, построенный на
огромных контрастах. Накануне 1914 года было проведено
празднование 300-летия дома Романовых, также
составляющее для меня один из основных образов эпохи.
Чудовищная смесь Европы и Азии. К этому времени начинает
внедряться и входить мерной и жестокой поступью
последнее слово европейской и даже американской
эксплуатационной техники. На заводах появляются инженеры
с секундомерами. Начинается хронометраж. Появляются
новые машины. Внедряется иностранный капитал.
Появляются французские, бельгийские, немецкие концессии.
Русский директор Плотников и французский промышленник
Лаваль делят между собой моря. В России начинают
делать мины Уайтхэда. Настоящая Европа и Америка с
настоящей техникой и с настоящей хищнической
эксплуатацией начинают входить в жизнь. Причем эти формы
приобретают дикий характер.
402
О своей работе в кино и театре
Я работал в архиве завода Свердлова и нашел в папке
небольшой циркуляр совета горнопромышленников южной
России. Это телеграмма из Харбина, посланная совету
горнопромышленников, в которой предлагают за дешевку
вывезти на шахты китайцев.
Какие рабовладельческие масштабы и пафос в этом
деле. Азиатчина, дошедшая до такой степени, что
становится страшно: что это — средневековье или 1914 год?
Пышным цветом расцветают «Союз русского народа»
и «Союз Михаила-архангела»,28 весь этот прообраз
фашизма к этому времени возникает в огромном масштабе.
И все время вы видите контраст: с одной стороны, начинает
расти и заявлять о себе авиация, и одновременно с этим
становится абсолютным героем дня Распутин, вся сложная
клика которого огромной сетью покрывает страну.
Министр Протопопов выписывает из Стокгольма специально
для себя хироманта Шарля Перена, который указывает
ему счастливые дни и составляет гороскопы, причем
одновременно с указанием счастливых дней Протопопову Перен
занимается шпионажем для немцев.
Каждый день газеты заполнены описанием новых и
новых мощей, которые открываются по всей стране.
Одновременно с открытием мощей Петербург охватывает мания
танго. Танго становится эпохой. Вспомните костюмы танго,
оранжевый цвет танго. И невероятный восторг,
национальное событие — в Петербург приезжает Макс Линдер.
Незадолго до этого было дело Бейлиса. В Киев
привозят огромные средневековые фолианты, по которым ксендз
Пронайтис доказывает употребление евреями
христианской крови и ритуальные убийства.
Кинематограф охватывает все большие и большие слои
населения. На этом фоне возникают фигуры как дух
времени и стиль времени. Возникает патетическая фигура Мана-
севича-Мануйлова, человека, в котором эпоха русской
буржуазии выразилась с наибольшей силой. Это шпион,
спекулянт и темный человек, вершивший огромными
делами, по сравнению с которыми вся деятельность
Рокамболя 29 была игрушкой. Он, будучи евреем, был
представителем русской церкви при папском дворе. Понять это
невозможно. Это был человек, через которого проводил свои
дела Распутин и целый ряд министров. Это был жулик,
О работе над трилогией о Максиме
403
который вертел банками, занимался шпионажем, и хотя он
попадался в делах, за которые даже в царской России
предавали суду, его каждый раз освобождали, потому что
вокруг него была сеть придворных интриг. Возникает
фигура князя Андронникова. также жулика, который по
окончании очередной аферы обязательно дарит своему
клиенту чудотворный образ. Возникает знаменитый
Воейков с жульническим производством минеральных вод «Ку-
вака». Какая-то фантасмагория жуликов, изуверов,
шпионов, смешавшихся в чудовищном котле. Фантасмагория,
возникающая на базе подготовлявшейся войны.
Одновременно с этим гигантской поступью идет
революционное движение. Кончает жизнь самоубийством
рабочий Стронгин на заводе Леснера, затравленный мастером.
В ответ на это вспыхивает забастовка, которая длилась сто
три дня. Происходит феерическая по масштабам
провокация: на заводе «Треугольник» произошло массовое
отравление работниц, вызванное тем, что, желая употреблять
бензин более дешевой марки, пустили в производство
бензин, обладающий ядовитыми свойствами. Работницы
падали в обморок, а двери были заперты для того, чтобы
они не могли выйти. Идут разговоры, что якобы эти
работницы были отравлены не бензином, а какими-то
загадочными шариками, которые подпольная организация
подбрасывала на завод. Совершенно фашистская организация
дела.
В ответ идут думские запросы, кампания «Правды»,
и еще и еще раз рабочий класс выходит на улицу. Взрыв на
Охтинском заводе с огромным количеством жертв.
Партия выходит, как армия, и начинается диспозиция
огромного боя с капитализмом. «Правда» выбрасывает
революционные лозунги в массы, и, наконец, армия
рабочего класса огромными забастовками и уличными
демонстрациями переводит дело в канун революции. И летом 1914
года весь этот Петербург в огне — вулкан.
Как видите, картина, совершенно непохожая на образ
первой серии.
Когда мы столкнулись с этой задачей, нам стало просто
страшно. Каким образом вместить эти гигантские
масштабы, эти грозные ощущения надвигающейся войны и
революции, этот Петербург в огне, этот вулкан в нужные нам
404
О своей работе в кино и театре
формы? Как найти драматургические и режиссерские
формы для того, чтобы какие-нибудь грани этого образа,
ощущение эпохи можно было бы передать зрителю?
Если «Юность Максима» в какой-то своей
стилистической части могла быть лирической драмой, то вторая серия
должна была стать романом, отражающим масштабы
эпохи, т. е. романом, в котором как действующее лицо должны
были возникнуть не только фигуры тех или иных
рабочих — должен был возникнуть класс.
Когда читаешь легальные и полулегальные рабочие
газеты того времени, то непрерывно встречаешь:
литейщики, текстильщики, токари — там локаут, там забастовка,
там протест, там сбор денег в пользу высланного товарища.
Организация страховой кассы, организация
просветительного кружка. Котел профессий и бесконечные названия
петроградских заводов, так много говорящих каждому
человеку: Путиловский,. Леснер, Айваз, Парвиайнен,
Охтинский — все это бурлит и ждет момента к настоящему
наступлению.
Путь Максима и дальнейшая его судьба представляли
для нас огромные трудности. Надо сказать, что наиболее
удобно и для кинематографа, и для театра,— потому что
это в наибольшей степени связано с прошлыми
традициями,— когда образ изменяется, когда образ и характер
героя в начале один, а в конце другой. Показать в герое
накопление новых качеств, показать изменения героя —
всегда заманчиво и легче. Гораздо труднее дать героя
с уже готовой характеристикой.
В 1914 году Максим появляется в нашей картине уже
с опытом революционера. Он является уже не рабочим,
ощупью ищущим — где же правда, а профессионалом-
революционером, профессиональным большевиком. За его
спиной тюрьма, за его спиной абсолютное понимание
классовой борьбы, понимание, что такое эксплуатация. За его
спиной прекрасный учитель — старшее поколение
большевистской партии, за его спиной ссылка — университет
революционера. Поэтому изменяться ему некуда. Он может
только расти. А так как промежуток времени очень
небольшой, то и наглядно расти ему трудно. Характер не
меняется, но нужно каждой последующей сценой, каждым
последующим событием показывать новую грань данного
О работе над трилогией о Максиме
405
характера, раскрывать данный характер наиболее полно.
Здесь было не изменение характера, не перерождение, а его
раскрытие.
И вот Максим на новом этапе. Причем задача — через
Максима показать типичный образ профессионального
революционера, большевика эпохи царизма. Каковы грани
этого образа? Конспиратор прежде всего. Революционер,
не обладающий искусством конспирации, провалился бы
не только через несколько дней, а через несколько часов,
потому что система полицейской провокации была
доведена до виртуозного совершенства. Теоретик, который может
разобраться не только в том факте, с которым ему
приходится иметь дело сегодня, но и в цепи фактов, и может
понять движение этих фактов. Организатор, видящий
смысл своей работы, в основном, в организации рабочих
масс. Трибун, который своим словом может воспламенить
массу. Командир, т. е. человек, который может повести
массу в бой.
Если вы попробуете оторвать какое-нибудь из этих
качеств, то вы не получите полного образа большевика.
Если вы скажете — конспиратор и только, то получится
эсер, ибо основное качество большевика заключается в
том, что большевик, находящийся в глубоком подполье,
тем не менее многими нитями был связан с рабочим
движением, с организацией масс.
Надо сказать, что Максим у нас не главный человек
в партии. Он средний комсостав партии, но в то же время
в нем основные черты большевика, основные черты партии.
Вот те общие задачи, которые перед нами стояли.
Первый вариант сценария написал очень талантливый
драматург Л. И. Славин. Он стал искать в материале
конфликт — драматургия начинается там, где есть
столкновение. Кроме того, у нас было два задания: буржуазный
Петербург 1914 года и Петербург подполья и рабочего
движения. Славин выдумал замечательную фигуру под
именем Игнатий Порфирьевич Старокопытов. Его
прообразом был Манасевич-Мануйлов. И весь сценарий
заключался в единоборстве Максима с Игнатием Порфирь-
евичем.
В Сормове на заводе был получен заказ на шаровые
мины, причем якоря для этих шаровых мин должны были
406
О своей работе в кино и театре
делать в сверхурочное время, и заказ проталкивал
«толкач» при банке Игнатий Порфирьевич.
Сценарий начинался с того, что он очень ловким
образом давал взятку и получал от министерства
преимущественное право на изготовление этого заказа. Эти сцены
были написаны Славиным блестяще. Попробую
рассказать.
Начиналась картина следующим образом: лестница
буржуазного дома, по которой поднимается человек в
котелке, насвистывая танго. Поднимается на второй или
третий этаж. На двери надпись: «Ателье дамских шляп
«Идеалист». Он звонит. Ему открывают дверь, и он
попадает в царство пернатых. Шляпы с перьями, плерезами,
эспри. Он просит вызвать хозяйку. Ходит по ателье.
Останавливается около стола, на котором лежит книжка Игоря
Северянина. Он ходит и читает «Ананасы в шампанском».
Входит хозяйка.
— Игнатий Порфирьевич! Какими судьбами?
— Шел мимо. Думаю: дай заверну.
— Ну, как дела?
— Какая наша жизнь? «Ананасы в шампанском», как
писал Бальмонт.
— Простите, это писал Игорь Северянин.
— Нет, Бальмонт.
— Нет, Игорь Северянин.
— Давайте пари.
— На что?
— На сто тысяч рублей.
Зловещая пауза. Она делает недоуменный вид и берет
книгу со стола. Он, не глядя на книгу, вынимает бумажник.
— Позвольте чеком? Кстати, вы его
превосходительство увидите сегодня вечером?
— Я думаю, увижу.
— Изволите видеть, наш завод заинтересован в
поставке на якоря для шаровых мин. Я прошу вас, передайте
его превосходительству от меня (передает ей чек) мое
глубочайшее почтение.
Сразу после этого завод, который работает якоря для
шаровых мин, причем заказ выполняется в сверхурочное
время. Рабочие заявляют:
— Не будем работать!
О работе над трилогией о Максиме
407
— Не будете?
Увольняют семь токарей. Подпольный комитет. В
комитете Максим, работающий в Сормове.
— Забастовкой на этих минах мы дадим сражение. Мы
не дадим выполнить заказ. В ответ на увольнение встанет
завод. А следовательно, сорвется и заказ.
Следующая сцена — управление завода, куда
приезжает Игнатий Порфирьевич протолкнуть заказ. Ему
говорят, что на заводе забастовка. Он говорит: «Необходимо
прекратить, надо вызвать войска, полицию». Ему
отвечают, что это нельзя, не то время, что возмущение рабочих
будет еще больше. Что делать?
— Тогда этот заказ мы от вас заберем и перебросим
в Петербург.
Опять подполье, где получают известие, что заказ
переброшен в Петербург. Решают послать делегата от
сормовских рабочих в Петербург. Делегатом выбирается
Максим. В поезде в одном купе едут двое: Максим, который
выдает себя за коммивояжера, и Игнатий Порфирьевич.
Они приезжают в Петербург, и начинается история борьбы
за этот заказ. С одной стороны Игнатий Порфирьевич,
который проталкивает заказ, а с другой стороны Максим,
который организует рабочий класс для сопротивления
выполнению этого заказа.
Но в сценарии произошло следующее: все, что касалось
Игнатия Порфирьевича, получалось волшебно, а все, что
касалось рабочего класса и Максима, получалось хуже.
Потому что данная схема сценария, будучи чрезвычайно
лакомой, тем не менее была построена на выдуманном
конфликте. Горе заключалось в том, что все время
драматургию вещи нужно было притягивать к тому, чтобы
Максим и Игнатий Порфирьевич встречались, а по роду
своей деятельности встречаться они не могли. Вы
представляете себе, что, конечно, не могли встречаться
Свердлов и Путилов, не могли встречаться подпольщик и
конспиратор Максим и спекулянт Старокопытов. Приходилось
делать такие надуманные вещи — Максим приходит в
«Правду», а Игнатий Порфирьевич приходит напротив
в «Земщину». Причем чем дальше, тем эти узлы были
мучительнее, т. е. весь сценарий состоял из прекрасных
сцен, с большим юмором, которым обладает Славин, но
408
О своей работе в кино и театре
конфликт был выдуманным. Мы долго мучились и,
наконец, пришли к решению, которое очень плодотворно в
работе,— когда от вещей, которые вам кажутся очень
хорошими и эффектными, отказываешься во имя правдивости.
Мы решили всю линию Игнатия Порфирьевича со всеми
блестяще написанными сценами и остротами изъять и
вернуть все это Максиму, среде вокруг Максима.
Славин нам очень помог в этом деле тем, что дал
замечательную идею. Он взял небольшой случай, одну из
забастовок, и отсюда родился образ снежного кома, образ,
который абсолютно верен. Происходит небольшая
забастовка, увольняют семь человек. В ответ на эту
забастовку встает завод. Заказ перекидывают на другой
завод. На другом заводе через «Правду» узнают, что заказ
под бойкотом. Возникает вторая забастовка. В ответ на это
устраивают локаут. В ответ на локаут бастует целая сеть
заводов.
Дело переходит в Думу. В Думе депутата-большевика
лишают слова. Масса выходит на улицу. Демонстрацию
разгоняют войска. Демонстрация вырастает в баррикаду,
баррикада прекращается из-за войны.
Так, из крохотных событий, постепенно нарастая и
нарастая, дело выходит в мировые масштабы.
Этот образ снежного кома мне кажется очень верным
и правильным. Это как из искры пламя. Страна в 1914 году
представляла собой пороховой погреб, и стоило бросить
спичку, как раздавался взрыв.
Перерастание борьбы в более высшую ступень вплоть
до вооруженного восстания, безусловно, является
центральным образом эпохи.
Мы хотели сделать то же, что и в первой серии:
построить фильм так, чтобы сами реальные образы, сам материал
в своем логическом развитии дали драматургию, чтобы
ощущалось, что, может быть, вся картина — это хроника,
все не выдумано.
Когда мы отказались от линии Игнатия Порфирьевича,
у нас сразу освободился метраж, и мы стали думать, как
делать Максима. Вначале Максим был вне среды. А
характер его можно было раскрыть только во
взаимоотношениях с другими характерами. И мы решили искать среду
вокруг Максима. Мы опять пошли к подпольщикам, к ста-
О работе над трилогией о Максиме
409
рым рабочим и опять стали с ними разговаривать. В
результате родилась бильярдная, р©дился старик ворчун
токарь, родился холуй-приказчик. Горе заключалось в том,
что ввести этих людей в невыдуманные события нам не
удалось. Конструктивно связь эпизодов у нас не
держалась, и нам пришлось прибегнуть к помощи старых и уже
поржавелых традиционно-драматургических пружин, что
я считаю нашим горем, нашей бедой, отсутствием у нас
достаточной выдумки и таланта. Отсюда — малоудачная
история с ложной смертью Максима. Это типичный пример
драматургии, идущей не от главного замысла,
раскрывающего идею вещи, а от выдуманной занимательной интриги,
где фабула развивается в стороне от центральной темы.
Прежде всего перед нами возникла проблема: как нам
связать первую серию со второй, потому что хотелось сразу
же ввести зрителя в мир первой серии. Мы дали некую
увертюру, до заглавной надписи. Это слова «Жили-были
три товарища», гармошка с «Крутится, вертится шар
голубой» и опять выход героев первой серии.
Затем мы начали, как и в первой серии, датировать
время действия. Сразу же возникает совершенно
определенное и довольно существенное отличие от образа первой
серии. Если буржуазный Петербург первой серии — это
разнузданная ночь, ночь летящих лихачей и т. д., то вторая
серия начинается с военного марша. Ряды идущих солдат,
быт улицы, какой-то всадник в котелке, с бородкой, какие-
то черты эпохи на фоне военного марша.
Затем сцена Думы. Причем образ Думы мы решили
разбить на две части. Так как мы знали, что вторая Дума
у нас будет бурная, то вначале мы дали заседание, которое
называлось «вермишель» — абсолютно никому не
интересная нуда, какие-то неинтересные законоположения. Это
Дума, где вся жизнь идет в фойе, а в зале сидят пять-шесть
человек, и нудный голос читает текст «Вспомоществование
дворянскому банку» и перечисляет пайщиков. Соединение
военного марша со спящим залом Думы и после этого
бурные кулуары, где масса народа, где толчея и где
возникает номер «Правды», которую приносит Тураеву Наташа.
Затем попытка собрать подписи под протестом против
увольнения семи токарей, и сцена переходит в подполье.
Мы решили показать заседание на кухне. Так бывало
410
О своей работе в кино и театре
в Сампсониевском обществе образования, где в комнате
пели песни или читали лекции, а в это время на кухне
собирался подпольный комитет. Сидя на плите, руководители
петербургского комитета большевиков организуют
события. Огромный Таврический дворец, улицы — и крохотная
кухня.
Максима все время нет. В петербургском комитете
стоит вопрос о забастовке. Уволено семь токарей, и об этом
хочет говорить депутат Государственнойг Думы, этим
интересуется комитет партии. Это абсолютно естественно для
методики работы партии. Судьба семи токарей имеет
огромное значение. Кроме того, выясняется, что заказ
военный. Партия на этом дает бой. Кто же будет руководить
этим боем? Товарищ, который прибыл из далеких краев,
товарищ из Сибири, товарищ Федор. Кто же этот товарищ?
Он просит явку в район и гитару с хорошим звоном. Вот
окончание ввода в картину. Начинается история Максима.
Начинается показ его новых качеств, новых граней
характера. Грань номер один — конспиратор. В расшитой
рубашке, с лихой гитарой в трактир входит Максим. У
зрителя должна возникнуть мысль: прошло столько времени,
а ты, сукин сын, ничему не научился, все тот же. Идет
Максим и распевает идиотскую песню «Очаровательные
глазки», подходит к какому-то человеку. Выясняется, что
песня — это пароль. Тот говорит: «В шестой комнате».
Максим идет наверх, и начинается сцена спора с
меньшевиками, сцена, с которой мы очень много возились.
Насчет образа меньшевика. Нас упрекали в том, что
этот образ недостаточно серьезно сделан. Я не могу с этим
согласиться и этот упрек принять. Меньшевики 1914 года
это сила грозная, не в своих представителях, не тем, что
обладали какими-то сильными личностями,— это сила
грозная предательством.
(Голос с места: «Количеством».)
Нет, не количеством. Если вы возьмете диаграммы
роста подписчиков газеты «Правда» и газеты «Луч»
(меньшевистская газета), вы увидите чудовищную
диспропорцию. Количество денег, которое шло в «Правду» от
рабочих масс, было во много раз больше, чем шедшее в «Луч».
Мы имеем стенограммы заседаний меньшевистской
фракции, где они говорили: «Мы изолированы, от нас ушли
О работе над трилогией о Максиме .
411
лучшие представители рабочего класса». Это — разгром,
гниение партии. Дать образ меньшевика .сильным,
драматическим, нам казалось, было бы неверно. Мы
воспринимали его как подленького. Но отказаться от юмора по
отношению к этой фигуре трудно. И мы вспомнили ленинскую
фразу: «Герои оговорочки». 30 Мы решили сделать сцену
с меньшевиками на споре о резолюции. Если не прошел их
план, то примазаться к большевистской резолюции и
обессмыслить ее поправками и оговорками. Тут мы можем
показать вторую грань характера Максима.
Если мы первой сценой хотели показать Максима
конспиратора, то здесь мы показываем Максима как
теоретика. Это Максим, овладевший в какой-то степени
революционной теорией, Максим, которого не обведешь вокруг
пальца. Причем там же трюк, очень типичный для
меньшевиков,— демагогическое извращение цитаты Маркса. Она
читается до половины, а во второй половине весь смысл.
Мы попробовали на извращении цитаты и на споре о
маленькой оговорке построить всю сцену, что для
кинематографа очень трудно. К этой сцене я еще вернусь, когда
мы будем говорить об актерской игре.
После того, когда меньшевики разбиты и принята
резолюция, которую выдвигает Максим,— начинает расти
снежный ком. Он начался с истории об увольнении семи
токарей, которая дошла до Думы. Собрать подписи для
протеста не удается. Подполье направляет на руководство
этой забастовкой опытного большевика. К забастовке по
поводу семи токарей уже примазались меньшевики. Идет
спор о двух тактиках: о том, чтобы смазать эту забастовку
или чтобы ее продолжать дальше.
Забастовка будет продолжаться дальше. Но в этот
момент приходит известие, что заказ перекинут на другой
завод. Отчаянное положение,— никто не знает, куда. Знает
только играющий внизу на бильярде конторщик.
Начинается история с конторщиком.
Третья грань характера Максима — хитрость и
блестящая ориентировка. Мы уже имели конспиратора,
теоретика, и сейчас мы имеем практика. Практика хитрого,
ловкого, блестяще ориентирующегося. История выяснения,
куда передан заказ, чтобы не дать возможности его
выполнить.
412
О своей работе в кино и театре
Дальше идет статья Максима в «Правду»: «Товарищи,
бастуйте!» Действие движется. Ком растет. Встреча
Максима с Наташей. Максим становится сразу своим
человеком в редакции. Он может и стихи поправить, и статью
объяснить, и наставить мальчика-газетчика, как лучше
обмануть полицию.
Дальше сцена завода. Максим — организатор масс.
Максим, который непосредственно агитирует рабочих. Вся
драматургия построена так, чтобы каждым эпизодом
показать еще какую-то грань характера Максима.
После этого идет убийство Максима, сцена, которой мы
не может гордиться. Дальше развертывание темы —
казалось бы, убрали организатора и забастовки не будет, делу
конец. Но даже смерть большевика является
революционизирующим событием. После убийства забастовка делается
неминуемой. Она происходит.
Идет вторая сцена в редакции «Правды» — это линия
Наташи. Деревня Волынка, быт забастовки, быт рабочего
класса. Квартира Ерофеева, воскрешение Максима,
облава. События расширяются. Дело идет к локауту. Рабочих
выбрасывают на улицу, выгоняют из занимаемых ими
квартир.
Дума. Развивается симфонический строй темы,
вступают медные инструменты. Если были до сих пор деревянные
и струнные, то с началом Думы вы ощущаете, как входит
в оркестровку медь.
Массовая демонстрация. Опять штаб на кухне. Мы
монтируем многотысячную толпу с крохотной кухней.
Масштабы демонстрации сравнительно с первой серией: там
кучка людей, а здесь тысячи. Разгон демонстрации
полицией и опять параллель с первой серией. Там от полиции
рабочие разбегались. Здесь в ответ на разгон идет атака
колонны Максима. Максим, бегущий с толпой, для нас
стержневой образ картины и стержневой образ третьей
серии. Это атака рабочего класса.
Кто-то обвинил нас в том, что это взято из авантюрных
картин. Товарищ, который это говорит, ничего не понял.
Эта сцена — главный политический образ нашей картины.
Рабочий класс, который не только не даст себя бить, но
переходит в наступление. Здесь начинается то, что в
оркестровке называется «тутти», вступает весь оркестр барри-
О работе над трилогией о Максиме
413
кады. Разгром. Война. И... партия жива. Максим жив.
Работа партии переходит на новый этап. Партия идет
к крестьянству, идет на фронт. Крестьяне в солдатских
шинелях. В их рядах находятся люди, которые им покажут,
против кого надо повернуть винтовки. Очень удачно в
драматургии получилось это расширение масштаба. Это
нарастание снежного кома.
Но личная линия, мне кажется, нам в этой картине
удалась меньше, чем в первой серии. Искусственный ход
ложного убийства снизил картину. Здесь мне вспоминается
один идиотский анекдот. Сидит совершенно голый человек,
но в воротничке. Его спрашивают:
— Почему ты сидишь голый?
— Потому что никто не придет.
— А почему же ты в воротничке?
— А вдруг, думаю, кто-нибудь придет.
С одной стороны, мы смело строили всю драматургию
на узловых сценах эпохи, а с другой стороны —
воротничок: «а вдруг будет неинтересно?», так употребим в дело
добрую пружину — героя убьем, а потом окажется, что он
жив.
Либо здесь все нужно было делать на фронтальных
событиях, либо, если уж это выдумка, то выдумка должна
быть блестящей. Если давать ложное убийство со
сложными приключениями, то надо это делать с блеском
авантюрных романов.
Относительно новых людей, которые у нас появились
в картине. Почему мы включили токаря Ерофеева? Что
очень характерно для забастовок 1914 года? Большинство
забастовок в это время было не на экономической основе,
а на политической. Если вы возьмете забастовки эпохи
реакции, там большинство их вызвано экономическими
факторами: понижение зарплаты, работа в сверхурочное
время и т. п. Огромное большинство забастовок 1914
года — это забастовки солидарности.
Интересно, что в забастовке принимают участие не
только слои рабочих низко оплачиваемых и
подвергающихся грубой эксплуатации, но и слои рабочих
относительно зажиточных.
Мы хотели показать коренной питерский пролетариат,
лишенный связи с деревней. Отсюда и возникают образы
414
О своей работе в кино и театре
этих двух стариков: Ерофеев в мягкой шляпе и Мищенко
в котелке, пролетариат уже европейского типа. Почему мы
взяли стариков? Во-первых, потому что в первой серии
в основном молодежь, а нам хочется, чтобы три серии
давали много образов пролетариата. Кроме того, участие
стариков в забастовке сплошь и рядом решало ее судьбу,
потому что молодежь принимала участие в забастовках
легко и каждодневно, вывести же старую гвардию было
делом посложнее, но было известно, что когда старая
гвардия вышла с завода, то забастовка идет.
Хотелось убрать всякую сусальность и попробовать
сделать Ерофеева с чертами Санчо Панса, Фальстафа —
какую-то смачную, колоритную фигуру. К сожалению,
центральная сцена выпала. Это была история с пиджаком,
который продал Ерофеев. Она заключалась в том, что
Ерофеев во время забастовки продает свой пиджак, причем
страшно стыдится этого. Он продает пиджак рабочему
такого же типа, как он, а потом этот рабочий узнает, что
купил пиджак у бастующего товарища, и возмущенный
приходит к нему. Они чудовищно ругаются. Была показана
огромная нежность этих людей под маской невероятной
грубости. Эта история выпала из-за метража. Причем
здесь мы хотели использовать рабочий фольклор. В первой
серии у нас были сказки Демы, его сны. Здесь фольклор
был в речах Ерофеева, в своеобразном арго, своеобразном
жаргоне, на котором он говорил. Была задача показать
хороший внутренний мир человека под ворчливой, грубой
маской. Это для рабочих-стариков характерно,— я очень
много знаю старых путиловцев,— они вечно всем
недовольны, вечно ворчат, вечно со всеми ругаются и больше всех
страдают за дело.
Теперь фигура конторщика. Мы хотели показать
задворки большого города, образ этих задворок — какой-то
гнусный чертополох, который взошел на этом навозе —
эпохе почитания танго, Макса Линдера, «Союза русского
народа».
Мы бросились на наши любимые материалы: сонники,
песенники, журнал-фарс, на бильярдные, пивные,
загородные сады. Высшим классом элегантности для такого
конторщика являлся какой-нибудь куплетист, который
выступал на эстраде сада. От него он брал лихие остроты
О работе над трилогией о Максиме
415
и изящные манеры. Это формировало его. Нам интересно
было попробовать сделать героя Сампсониевского
проспекта, про которого можно было бы сказать, что это
«смерть горничных и швей». Неслыханной элегантности
и шика человек! Шика задворков цивилизации.
Песня. Если для Максима и всей рабочей среды мы
искали настоящую, нефальсифицированную лирику,
человечную, глубоко поэтичную, то для конторщика мы
искали нечто среднее между шансонеткой и романсом.
Здесь были роскошные вещи, например:
Марфуша, приди, откушай,
Со мною в кабинете
Шикарное меню.
Какое чудовищное сочетание: Марфуша и шикарное
меню. И там же мы нашли:
Менял я женщин, как перчатки,
Носил всегда я шапо-кляк.
Бросал людям на чай тройчатки
И пил три звездочки коньяк.
Какое чудовищное хамство: «Бросал на чай людям
тройчатки». И я понял, что эта песня должна его убить. Это
его мечта, светлая мечта, недостижимый идеал: «бросал на
чай людям тройчатки».
У этого героя Сампсониевского проспекта,
представляли мы себе, неслыханная элегантность и шик сочетаются
с темной силой изуверства. Когда мы стали работать над
этим, возникла опасность, что это будет один из тех
комических персонажей, из разряда конторщиков, приказчиков
и т. п., которые часто попадают на эстраду. Нам же
хотелось сделать фигуру страшную, хотелось дать прообраз
фашиста. У Платона Васильевича две стороны характера.
С одной стороны, светский лоск, заимствованный из
загородных садов, и неслыханное изящество обращения,
чарующее все пивные, и, с другой стороны, страшная, темная,
изуверская сила внутри него, изуверская сила дикаря,
некультурного человека. И кроме того, он самая мерзкая
социальная прослойка — холуй у буржуев. Поэтому мы
планировали его роль так: вначале он держится в
комическом плане, а когда дело движется к убийству, когда
416
О своей работе в кино и театре
приближается война, то он становится страшен. Светский
лоск пропадает, и появляется дикая, звериная рожа, и
возникает это мрачное «ура, ура» — как все, на что он
способен.
Депутат Тураев. Мы имели в виду Бадаева. Мы читали
о нем, разговаривали с ним, очень внимательно на него
смотрели и старались его понять. Он был рабочим
железнодорожных мастерских и вдруг делается депутатом Думы.
Он привык, что его по всякому поводу тащат в участок,
а тут он личность неприкосновенная. У него квартира,
у него секретарь. Но что для него совершенно страшно,—
необходимость носить крахмальный воротничок. Хотелось
найти человека, которому этот крахмальный воротник и
пиджак мешают жить, давят со всех сторон. И кроме того,
он один в стане врагов. Здесь ясное понимание своей
судьбы: «вы идете с думской трибуны в министры, а мы идем
с думской трибуны на каторгу!» Поэтому у него такое
великолепное хладнокровие — от уверенности в правоте
дела, абсолютное отсутствие беспокойства за свою судьбу,
ибо она ясна. Есть юмор: его хотят растерзать, а он
спокойно ждет, когда кончится шум.
Относительно меньшевика я говорил, что вряд ли верно
было бы делать его сильным и умным. Развернуть характер
меньшевика нам помешало то, что, в конце концов, у него
нет среды. Меньшевики были одиночками, но вокруг них
была своя среда, а у него в картине среды нет, и поэтому он
все время приходит и говорит лишь то, что нужно автору
сценария.
Основным принципом нашего решения был принцип
симфонический, т. е. постепенное включение групп
инструментов, чтобы в конце зазвучал весь оркестр. И еще:
бинокль, поворачиваемый то одной стороной, то другой.
С одной стороны историческая панорама с
монументальными сценами, а с другой стороны личные, интимные сцены.
Я нашел в одном архиве анкету с целым рядом
вопросов, и один вопрос был такой: «В чем заключалась Ваша
партийная работа на заводе?» И был такой ответ: «В моей
жизни». Это совершенно замечательно сказано. Так нам
хотелось показать историю жизни Максима в 1914 году.
Теперь о режиссуре картины. Хотелось поймать этот
образ вулкана, кипящего котла. Какая-то невероятная
О работе над трилогией о Максиме
417
толчея, кадры насыщены людьми, событиями.
Разнообразие миров, фактов — бурлящий Петербург. Эпоха
подъема, эпоха наступления рабочего класса. Хотелось, чтобы
эти слова превратились в образ. Поэтому всюду насыщение
людьми, движением, страстью. Приподнятый
эмоциональный тон актерской игры, в воздухе «пахнет гарью, железом
и кровью». И прием, о котором я говорил в прошлый раз,—
прием крупного плана на фоне общего. Все кадры
построены на бурлящем человеческом фоне. В картине очень много
пара, дыма. Хотелось, чтобы даже воздух принимал
участие в этом бурлении. Хотелось дать ощущение
лихорадочности этих дней. На специфику кино мы абсолютно
махнули рукой, и с точки зрения кинематографической
грамотности актеры делали ужасные вещи. Они как угодно
быстро мотались на первых планах, разговаривали на
чудовищной скороговорке — лишь бы это было в ритме
всех событий. Все время резкая смена контрастов.
Диапазон от лирического шепота до речи на заводе. Открытый
пафос, открытая революционная речь как элемент быта
этого времени. Ожившей становится хрестоматия, т. е.
какие-то события истории партии показаны совершенно как
хроника. И рядом с этим очень личные, сугубо камерные
сцены взаимоотношений Максима с Наташей. Нам очень
жалко, что не удалось сделать эпизод ссылки, потому что
образ снежного кома с эпизодом ссылки получился бы
лучше. Картина в сценарии начиналась с того, что
показывалась Сибирь, огромный снежный простор, и по
занесенной снегом деревушке шли семь человек во главе
с Максимом, которые пели «Марсельезу». А кончалась
картина — тысячная толпа выходит на улицу с тем же
Максимом, с пением «Марсельезы». Контраст семи человек
и тысячи.
Теперь о людях в картине. Когда мы написали сцену
спора с меньшевиками, мы безумно испугались, потому что
она представляла собою страниц шесть сплошного
диалога. Кроме того, она была построена на очень сложных
и тонких чисто словесных фокусах, т. е. на споре из-за
слова «но», на исковерканной цитате и т. д. Нам казалось,
что это будет очень скучно. Но мы решили, что если удастся
сделать какие-то типические фигуры этого времени, то спор
будет интересен. Поэтому возникли два образа меньшеви-
418
О своей работе в кино и театре
ка: дергающийся студент и тот меньшевик, который у нас
играет основную роль.
Я очень много работал над образом
студента-меньшевика. Мне хотелось показать какие-то стороны
меньшевистской партии, доведенную до тупости схоластику. Я
начал думать об этом студенте: каким он должен быть?
В тексте ничего почти не было. Студент только время от
времени вставляет латинские цитаты и говорит:
«Прекратите эту гитару». Почему-то я представил себе его конуру,
стал думать о его жизни: я представил себе чердак,
заполненный клубами дыма и не проветривавшийся с времени
смерти Павла I. Все завалено окурками. Лежат на какой-
то табуретке шкурки колбасы, коробки из-под консервов,
и на чудовищном ложе из табуреток, покрытом одеялами,
лежит нечесаная, небритая, немытая личность в ботинках
и штудирует Каутского. Какой-то семинарист, бурсак от
марксизма, который знает наизусть все цитаты и ничего не
понимает в них. Оттуда он приходит на рабочие собрания,
которые его раздражают. Во-первых, он ощущает, что
никто этих цитат не знает так точно, как он. Он смотрит на
всех свысока. Идет спор совершенно для него
бессмысленный, о каких-то семи токарях. И я хотел, чтобы он все
время жевал. Остался во рту кусок какой-то гадости, и он не
может его дожевать. Кроме того, он не выпускает папиросы
изо рта, как только кончается одна, он зажигает другую.
Он сильно немыт и поэтому чешется все время. Ощущение
заталмуженной головы, раздражение от всей этой среды.
Но в то же время он хитрый. Вот такой образ.
Когда показываешь человека на экране, то важно,
чтобы вы ощущали его биографию. Если ее не знает
зритель, то ее обязан знать режиссер. Надо знать среду
и жизнь каждого человека, который появляется на экране.
Только тогда можно понять, что играть. Если этого не
знать, а знать только текст диалога, то характеристика
будет мертвой и поверхностной.
В сцене отдельного кабинета для нас важно, что сзади
Максима есть окно, за которым виден бильярд, т. е. линия
игры на бильярде, которая есть в первой сцене, не
пропадает. Мотив бильярда все время присутствует, таким
образом, вся сцена держится на нем. Кроме того, скороговорка
и движение по заднему плану. Все время атмосфера жгуче-
О работе над трилогией о Максиме
419
го спора. Все кадры построены на действии. Все время
движение. Движется дым от папирос, движутся люди,
движутся бильярдисты за окном. Вся сцена в движении.
И Максим — единственный спокойный человек. Среди
суетящихся и мелькающих меньшевиков — спокойный и
умный Максим с хитрым глазом. И тема непримиримости: не
только за слово — за букву будем драться с вами, господа
меньшевики.
После этого — балаганная сцена с конторщиком в
бильярдной. Ясно, что нужно было строить эту сцену на
классических образах — Давид и Голиаф. Зрителю всегда
приятно, когда маленький человек оказывается хитрее
большого. Поэтому конторщика мы подбирали и одевали
так, чтобы он был абсолютно контрастен по отношению
к Максиму. Он выше его ростом, плотнее. По сравнению
с ним Максим кажется маленькой фитюлькой.
Когда начинаешь снимать сцену, то, кроме того, как ее
снять, важно себе представить, как в себе самом и в
участнике съемки найти то ощущение, которое нужно для
этой сцены. Если снимать сцену без учета эмоциональных
раздражителей, которыми вы будете пользоваться, ничего
не может получиться. Нам хотелось снять эту сцену весело,
так как вся она — на грани балагана. А балаган хорош
тогда, когда он сыгран с изяществом. Я подумал: попробую
прогнать ее с веселым темпераментом и без дублей. Мы ее
срепетировали и без напряжения сняли в феноменально
быстрые сроки. Максима мы здесь целиком сделали на
фольклоре. Это немного придурковатый парень из русских
сказок.
Те удары, которые нам были нужны, актеры никогда не
сделали бы на бильярде. Поэтому я думал, каким образом
это смонтировать так, чтобы зрители не догадались, что
играет не Чирков. Трюк с врезанием на крупном плане
ударов профессионального игрока уже всем известен. Я
решил воздействовать на зрителя психологически: Максим
сам кладет нетрудный шар, затем на крупном плане два
шара кладет специалист этого дела. Зритель скажет
моментально, что это не Чирков. А третий план будет общий,
где Максим положит нетрудный шар. Так смонтирована
эта сцена. После комбинации шаров, которые кладут на
крупном плане, всегда какой-нибудь общий план. Зритель
420
О своей работе в кино и театре
обращается к сидящей рядом девушке и говорит: это не он
играл, я знаю, как это делается,— в это время на экране
общий план, и сам актер кладет шар.
Кроме того, мне было ясно, что образ конторщика
должна играть среда вокруг него, потому что если играть
чудовищное хамство, заключенное в этом образе, то будет
переигрыш и фальшь. Надо было окружить его нужной
средой. Мы устроили так, что у него свой лакей,
несчастный, с флюсом, но свой, который раболепно
подбегает к нему с кружкой пива. Я хотел, чтобы он приносил свой
кий, у него должен был быть флирт с хозяйкой трактира,
которой он, приготовляясь к удару, говорит: «Посвящаю
вам». Я задумал массу таких трюков. Осталось только
небрежное пение и питье пива во время игры.
Кроме того, во внешнем виде его хотелось дать какие-то
контрастные вещи. Синяк на морде — и галстук бабочкой.
Жесты от изящества до похабщины. Например, он
вынимает платок, плюет в него и кладет в карман. И кроме того,
хотелось сделать так, чтобы конец был неожиданным.
Я знал, что в конце будет азартная игра с Максимом.
Начать играть надо было на неслыханной легкости. Он играет
изящно, не напряженно, не тревожно и не глядя кладет
шары. А когда начинает класть шары Максим, то в нем
просыпается зверь. И здесь мы пробовали использовать
приемы малых и «низких» жанров. Что такое конец
номера — категория, известная в мюзик-холлах. Стилистику
этого дела мы знали хорошо. Четко пригнанные формы, где
все знаки препинания необыкновенно подчеркнуты,
т. е. точка, так точка, запятая, так запятая,— здесь
абсолютная точность этого дела, идет профессиональная
эстрадная работа.
В следующей сцене мы искали, как показать
психологию пьяного, и давали историю, как выпытывают, где
размещен заказ. Хотелось сделать это с легкостью. Все
построено на распределении ролей: Максим конторщику
неслыханно льстит, а рядом сидит скептик, который
сомневается в силе конторщика. Тот свирепеет — ему кажется,
что он в жутком стане врагов, и только один хороший
человек — Максим. Максим играет, что он и не хочет,
чтобы конторщик ему рассказал, где заказ.
— Нет, только тебе скажу.
О работе над трилогией о Максиме
421
После этой комической сцены возникает тема
«Правды». Рабочие спрашивают, как другой завод узнает про
заказ. Максим отвечает им.
— Так и узнает, для этого существует она, наша
дорогая, золотая, любимая...
В это время входит Ерофеев и спрашивает:
— Что, разговор про девиц? За здоровье твоей девицы,
парень!
— За здоровье моей девицы,— говорит Максим очень
хорошо и трогательно.
Встречу Максима и Наташи хотелось сделать поэтично
и с большой нежностью. Самая ситуация вышла, а сцена не
вышла. Мы не смогли найти жест встречи. Снимали ее
шесть или восемь раз. Первый момент, когда они видят
друг друга, так и не найден.
«Правду» мы хотели показать через людей.
«Правда» — это не помещение, это люди, которые ее делали. Мы
взяли фигуру рабочего-поэта, другие фигуры рабочих.
В «Правде» висел огромный гвоздь, на котором была
нанизана огромная пачка заявлений от штрейкбрехеров.
Заявления штрейкбрехеры писали непрерывно, и не было
места их печатать. Здесь также видна эпоха 1914 года.
Штрейкбрехер возмущен, что не напечатали его
покаянного заявления.
Сцена в «Правде» с цензором. Цензор — без
злодейства, это уже машина.
Разгром «Правды» относится к тому разделу, который
я назвал бы иллюстрациями к хрестоматии. «Правда»
разгромлена, но на рассвете номер «Правды» все же
вышел. Крик мальчика: «Рабочая газета «Правда»!
Завод. Нам хотелось показать масштабы. Большой
питерский завод.
Относительно убийства Максима. Здесь есть то, что я не
люблю. Когда среда не участвует в создании образа, когда
она не является тесно и органически связанной с образом,
а когда она грубыми эффектами начинает подыгрывать
сцене. Мне не нравятся в сцене убийства мрачные заборы.
Было бы гораздо страшнее, если бы ничего мрачного в
декорации и свете не было.
Пейзаж деревни Волынки. Мы пробовали трактовать
забастовку бытово. Проходы Ерофеева, гармошка, кото-
422 О своей работе в кино и театре
рая исполняет на заднем плане «Измученный,
истерзанный», деревянные домики, заросшие пруды. Обычно в
кинематографе показ забастовки ограничивался тем, что с
пением и криками рабочие уходили с завода. А мы хотели
попробовать показать быт забастовки. Пустые деревянные
домики накануне выселения. Голод и солидарность
рабочего класса.
Теперь относительно Думы. Проблема, которая встала
перед нами, когда нужно было снимать Думу, это проблема
создания образа социального Петербурга. Создать
характеры здесь мы не могли, потому что для этого не было ни
специальной сцены, ни материала, да и не было задачи
показа развернутых характеров людей. Надо было сделать
портреты. В лаконичной манере надо было дать портреты
представителей социальных группировок.
Первая проблема, которая встала, это воссоздание
Пуришкевича и Маркова 2-го. Мы собрали все
карикатуры, и по карикатурам, описаниям и стенограммам можно
было понять и характер их движений, и как они себя вели.
В частности, много дало то, что Марков 2-й работал под
Петра и в кулуарах именовался «Медным всадником».
Хотелось показать дворянского шута — Володьку
Пуришкевича, показать его шутовские жесты, браслет на руке.
Мы ему сильно повысили голос, этому фигляру со
свистком, причем свистит он не в свисток, а в ключ от
часов. Значит, у нас появились две основные фигуры этих
зубров: с одной стороны, монументальная глыба мяса и
тупости, затиснутая в черный сюртук,— это Марков 2-й.
А с другой стороны, по контрасту с ним, вертлявый
фигляр — Пуришкевич. Затем необычайно деликатный
П. Н. Милюков, который никогда не станет стучать и
свистеть. Когда идет обструкция, он просто читает и слегка
улыбается. И затем портрет меньшевика. Когда
большевики начинают хлопать Тураеву, он думает — не похлопать
ли и мне, я ведь революционер. Но все же смущается. Так
решался социальный портрет на полутора метрах пленки.
В эпизодах Думы надо отметить два профессиональных
момента, которые мы применили. Нас смущала
невозможность постройки декорации Думы полностью. Мы должны
были строить либо правый сектор, либо левый, иначе это
было бы слишком велико для павильона. Поэтому мы
О работе над трилогией о Максиме
423
построили только правый сектор, а левый снимали в
зеркало. Дешево, просто и экономно. Массовку удалось снять
необыкновенно быстро и организованно, потому что мы
применили билеты для рассаживания людей. У нас были
группы кадетов, октябристов и т. д. Мы распределили
у себя все фотокарточки и одновременно с вызовом на
съемку посылали билет с указанием места, так что всякий
человек по приходе в павильон без суеты садился на свое
место, как в театре.
Относительно демонстрации и баррикады. Для нас
было ясно, что массовые сцены получатся тогда, когда
какие-то характеры пройдут лейтмотивом через эти
массовые сцены. Там есть целый ряд пар, которые имеют свою
судьбу,— прислуга и трубочист, Мищенко и Ерофеев,
Максим и Наташа. И эти линии держат всю сцену.
Если в первой серии нам казалась музыка ненужной, то
во второй была стилистическая потребность в
симфонической музыке, которую очень удачно написал Шостакович.
В особенности два номера — бегущая колонна Максима
и похоронный марш.
Нам было интересно смонтировать музыку с бегом
толпы, не обращая внимания на то, что делается на экране.
Чередуются такие кадры: бегущие колонны Максима,
избивают демонстрацию, колонны Максима, опять избивают
демонстрацию. И затем колонна Максима ломает
шлагбаумы на пути. Когда идут кадры колонны Максима, музыка
звучит в чистом виде. Когда идут кадры избиения
демонстрации, музыка заглушается шумом, свистками, топотом
копыт, криками и т. д., но она прозрачно звучит сквозь это,
т. е. дает ощущение бегущей колонны; когда колонна
Максима возникает, вместе с ней оглушительно звучит музыка.
Впечатление, что колонна ворвалась и вместе с ней
ворвалась музыка.
Баррикада. Вся баррикада сделана под похоронный
марш. Риск заключался в том, что похоронный марш очень
доходчивая музыка. Она наводит на величественные,
печальные мысли, а мы дали задание Шостаковичу
похоронный марш сделать гневным. Здесь прием, который не
всегда можно применять, но который в этом случае удался:
смена света со сменой характера музыки. После смерти
Ерофеева вся сцена вылазки Максима снята в другом
424
О своей работе в кино и театре
свете, т. е. если в начале свет солнечный, то конец идет на
свинцовых облаках. Чтобы связать сцену с музыкой, с
оркестром, который играет гневный похоронный марш,
хотелось, чтобы кадры были бы такими же величественными —
здесь солнце помешало бы. Образ смерти Ерофеева звучал
как тема похорон, но и как тема гнева.
После этого мы хотели написать патриотическую
музыку объявления войны, но поняли, что это не нужно, и
сделали войну на криках «ура» и на солдатском шаге. Два
коротких и сухих звука.
Война была совершенно блистательно показана в
«Конце Санкт-Петербурга», но показана как образ
патриотического ажиотажа: девушки в белых платьях, цветы,
флаги, солнце. А мы решили дать империалистическую
войну как страшное и тупое дело. Идут с царским
портретом. Зверские, тупые рожи. Ура — это крик восторга,
а мы попробовали эмоцию убрать. Дается сигнал, и толпа
механически кричит: «Ура», «ура». И для того, чтобы
сплотить это в один образ, «ура» проходит и в кадрах
квартиры Тураева. Когда здесь разговаривают, то слышен
крик «ура» и военный марш, который звучал в начале
картины.
И отправка на фронт: это сделано точно и сухо. Нет
провожающих — никого. Погода выбрана — слякоть.
Стук шагов, военная команда, мокрые флаги и одинокая
фигура жандарма на вокзале.
И конец картины — солдатский хор, который исполняет
песню Максима. Она звучит по-другому, с солдатским
свистом и гиком, и сквозь нее звучат трубы. Трубами
будущей победы кончается картина.
Вот все то, что я хотел вам изложить.
(О фильме
«Выборгская сторона»)
1938
Товарищи, разрешите прежде всего поблагодарить всех
выступавших сегодня за те очень хорошие и сердечные
слова, которые они говорили по поводу нашей работы, их
было необычайно радостно и приятно слышать. Но все же
должен сказать, что, как очень трудно и сложно ставить
картину, так же трудно и сложно организовать дискуссию
и выступать по картине. Я это знаю по собственному опыту,
ибо не раз сидел на месте Эйзенштейна ' в Ленинграде,
когда приезжали москвичи с не менее хорошими
картинами, чем наша, и было не менее трудно организовать
дискуссию. Приезжали товарищи, им говорили хорошие слова,
и было впечатление банкета, но невыгодно от него
отличалось тем, что речи есть, а харча нет. Банкет без харча
ощущаем здесь и мы.
Закончен восьмилетний весьма тяжелый труд, и хочется
думать, что же делать дальше, хочется думать о путях
и судьбах нашего искусства. И конечно, работа каждого из
нас есть не только его достояние, а и какой-то общий итог.
Сегодня Донской говорил о работе нашей и Сергея
Михайловича. Будем говорить откровенно: не будь
картины Сергея Михайловича, не будь картины «Мы из
Кронштадта», не было бы и этой картины,— есть какой-то
взаимный опыт. Понять этот опыт и переработать его
творчески, мне кажется, является делом, которое
настоятельно необходимо и которое нужно научиться
организовывать.
Поэтому я позволю себе говорить относительно тех
творческих задач, которые стояли перед нами, стараясь, по
возможности, не говорить о вещах только тематических,
ибо они кажутся ясными, о них говорилось и писалось.
Я буду говорить о том, как тема рождала то или иное
творческое решение. Я боюсь, что я перевру цитату, но в
постановлении Жюри комиссии по поводу создания учебника
426
О своей работе в кино и театре
истории СССР был абзац, что пора заменить статьи с
восклицательными знаками и письменными декларациями
конкретным изложением фактов 2. И этот простой тезис
явился для нас основным. Вам он может казаться сейчас
тоже простым и ясным, но дальше вы увидите, что это
вопрос дискуссионный.
Перед искусством стоит такой вопрос: звонкий лозунг
или анализ происходящих событий, восклицательный знак
или повесть, декларация или рассказ? Мне кажется, что
это вопрос необычайно важный. Что мы хотим от зрителя?
Хотим ли мы исторгнуть из него аплодисменты или слезы?
Зритель у нас очень хорошо, абсолютно патриотически
настроен, и страшно легко эти аплодисменты от него
получить. Хотим ли мы, чтобы зритель ушел с нашей картины
умнее? Т. е., по сути дела, решается вопрос о
содержательности картины, о том, чтобы тема являлась для картины не
только предлогом для вызывания в зрителе самых лучших
чувств, но и обязательным, необходимым являлся анализ
этой темы.
Когда перед нами встал вопрос о третьей серии
картины, об Октябрьской революции, прежде всего мы выбрали
тот участок тем, который, по сути дела, в искусстве, в
кинематографии до сих пор показан не был. В большинстве
случаев картины о 17-м годе начинались с июльского
расстрела или Февральской революции и заканчивались
взятием Зимнего дворца, т. е. наиболее эмоциональным,
наиболее удачным моментом для эмоционально
насыщенной картины. Мы попробовали оставить за экраном взятие
Зимнего дворца и показать следующий день рождения
нового государства. И у нас картина в каком-то отношении
сделана нарочито примитивно, она начата с речи Ленина,
т. е., по сути дела, с эпиграфа: «В корне будет разбит
старый государственный аппарат и создан новый аппарат
управления в лице советских организаций» 3. Мы ставим
эпиграф и после этого пробуем всей образной системой
картины это положение развернуть, не в порядке
декларативном или лозунговом, а в порядке максимального
вскрытия этой темы, каждого ее положения, каждой детали.
Когда мы поставили перед собой задачу, мы сразу
выбрали и материал. Нам материал нужен был двоякий,
с одной стороны, старый государственный аппарат, идущий
О фильме «Выборгская сторона»
427
в ломку, с другой стороны, нам нужны были
первоначальные и основные элементы новой власти — Советы. Поэтому
все действие картины (и в этом огромная ее
драматургическая сложность и целый ряд ее недочетов) пущено по двум
колеям — банк и Советы.
Отдельные товарищи и здесь, и в Ленинграде упрекали
нас, что картина менее выигрышна по линии банка, чем это
было написано в сценарии. Это произошло не случайно.
Дело в том, что события, происходящие в банке, решались
не в банке. Саботаж чиновничества был сломлен не только
благодаря тому, что внутри банка были приняты те или
иные репрессивные меры, а потому, что росла новая власть.
И эта линия составляла драматургию картины. Герои у нас
лишены профессии. В этой картине Максим и банкир,
и чекист, и прокурор, и исполнитель целого ряда
разнообразных функций, что является в достаточной степени
характерным для быта ответственного работника того
времени.
Картина выросла из ощущения какого-то хаоса и
вихрей первых дней новой жизни. Так сделан весь Совет, когда
еще прибивают вывеску, вносят мебель, еще не сняты леса.
Все это должно пахнуть штукатуркой. Начинается день
новой жизни. Из нагромождения смешного, лирического,
крохотного и, может быть, личного, из всего этого
вырастает огромного масштаба новый мир.
Мне хочется немножко поговорить относительно стиля.
У нас сейчас в искусстве возникает некий всеобщий МХАТ,
то есть творческий процесс актерской игры, блистательно
разработанный в мхатовской системе, но являющийся
подготовительным творческим процессом, превращается
в стиль игры. То, что делается в кинематографе, есть МХАТ
не очень первого сорта, взятый из вторых рук. Нам
казалось, что гораздо больше нам поможет урок не столько
этого жанра театрального искусства, сколько низкого
жанра, потому что в низких жанрах театра можно скорее найти
традиции фольклорного искусства и народного героя. Если
вы внимательно смотрели картину, вы увидели, что в
области актерской игры здесь есть неприкрытая мелодрама,
неприкрытый водевиль, фарс и т. д., не говоря об эстраде,
на которой построен целый ряд приемов. Вся стилистика
актерской игры, не снимая серьезности темы, требователь-
428
О своей работе в кино и театре
ности и правдивости мотивировок, шла от фольклорного
искусства низких жанров театра. Это вопрос
принципиальный, ибо мы предполагаем в этой области продолжать
работать, и здесь интересно с товарищами на эту тему
поспорить.
Положение в кинематографии таково, что мы на
сегодняшний день можем не только давать отметки плохие
или хорошие, но и поднимать творческие споры. Ибо мы
сейчас имеем в целом ряде картин внутри одного метода —
социалистического реализма, по сути дела, видимые
зачатки различных направлений. Выпускаемые в последнее
время картины являются дискуссионными по отношению
друг к другу. Дело не в том, чтобы говорить — эта лучше
или хуже, или противопоставлять их друг другу, нужно
начать разбираться в творческих путях и что куда идет.
Пора прекратить говорить друг другу комплименты. Их
выслушивать очень приятно, но надо просто начать
спорить. И мне кажется, что сейчас назрело время в форме ли
конференции или проведения ряда вечеров попробовать
поставить вопросы и актерской игры, и другие. И все
хором, я уверен, поддержат это, и я буду очень рад принять
в этом участие. Мне кажется, что наша картина, как и
целый ряд последних картин, дает основание и для
настоящего творческого спора.
А до этого спора разрешите от имени всего коллектива
поблагодарить вас за очень приятный и очень
трогательный банкет.
Люди «Выборгской стороны»
1938
Не о людях рабочей окраины Питера, не о героях нашей
трилогии хотим мы сейчас говорить. Еще, кажется нам, не
время: хочется остыть, выслушать критику, проверить
картину «на зрителе».
Закончен почти восьмилетний труд. Вспоминается
многое. И почему-то прежде всего ночи, улица Красных Зорь,
позже Кировский проспект, знакомая дорога — из студии
домой, особенно ночные прогулки — сразу после съемки,
после монтажа. Еще в голове невыносимая путаница: все
смешалось — неудающиеся куски, сквозняк в ателье,
фальшивый текст диалога, метраж... В такие минуты
меряешь шагами пустынной ночью проспект и думаешь о труде
своем с ожесточением, без радости. Но это только минуты.
Многое держит в постоянной рабочей готовности, бодрит,
радует — и прежде всего мысль о товарищах по картине,
о коллективе людей самых разных профессий, спаянных
уже много лет общей работой.
И сейчас, после окончания последней серии трилогии,
нам прежде всего хочется говорить о тех, чьи имена лишь
промелькнут на экране в самом начале фильма.
Семь человек прошли с нами — от начала до конца.
Молчаливый человек в очках — оператор Андрей Москвин
возглавляет эту семерку. Из картины в картину он работал
до изнеможения. Он и нас заставлял скупыми, редко
хвалебными замечаниями работать лучше, не уступать
понятному часто желанию оставить плохой кусок: «Авось
сойдет!»
Для Москвина особенно трудными казались наши
последние работы. Ему, мастеру блестящих кадров,
эффектов света и оптики, пришлось «убрать себя» из картины,
добиваться внешне непримечательной выразительности.
Не знаем, удалось ли это, но упорство, с которым он
работал, учило нас не гнаться за «легким хлебом».
430
О своей работе в кино и театре
Высокое искусство другого художника украсило нашу
трилогию. Мы искренне радуемся, что Дмитрий
Шостакович работает с нами уже десять лет, что его музыка звучит
во всех сериях. Особенно хочется вспомнить музыку
демонстрации, похоронный марш во 2-й серии и финал 3-й.
Работа с Шостаковичем приятна для режиссера и потому, что
этот композитор обладает такими качествами, как
быстрота, тщательность, умение правильно понять, почувствовать
атмосферу фильма, эпизода, куска.
В наших фильмах, увы, мало музыки и много иногда
тихого диалога; отсюда огромные трудности для
звукооператора. Илья Волк, зачинатель звукозаписи «Ленфильма»,
предпочитал не приспосабливать к себе звук, а, наоборот,
приспосабливаться к требованиям текста. Обидно, что
мастерство Волка, в условиях чудовищной проекции наших
кинотеатров, остается малозаметным.
Меньше всего здесь возможно говорить об актерах;
много их прошло через три серии, и хочется писать о них —
о Тарханове, Жарове, Ужвий, Штраухе, Геловани,
Чистякове, Каюкове, Бонди, Зражевском, Ванине, Толубееве,
Кузнецове, Назарове, Жуковском и других — отдельно. Но
два имени должны быть здесь упомянуты. Имена эти
известны не только в Союзе — имена Максима и Наташи. Об
.этих актерах, подлинных создателях первых образов
нашей трилогии — о Борисе Чиркове и Валентине Кибарди-
ной хочется говорить, не только анализируя их совершенно
своеобразную, обаятельную игру, но и вспоминая, как
самоотверженно, пламенно работали эти люди на
протяжении шести лет. Максим и Наташа заполняют первый план;
сзади толпится просто неисчислимое количество фигур:
прежде всего, больше всего — рабочие, солдаты, а затем
самые разнообразные — шпики, городовые, меньшевики,
члены Думы, банковские деятели, адвокаты, анархисты...
Организовать исполнителей этих ролей, найти их,
провести с ними зачастую сложнейшие съемки можно было
только при наличии слаженной группы ассистентов. Двое
из них — Надежда Кошеверова и Илья Фрез прошли
с нами все три серии. Именно благодаря им, так же как
и ассистентам А. Гурвичу и В. Сухобокову и штату их
помощников — Л. Карасевой, Иванову, Еленской, Громзи-
ной, Изаксон и Гримблат,— можно было провести такие
Люди € Выборгской стороны»
431
съемки, как съемки демонстрации в первой серии,
Государственной думы, учредилки, погрома, провести сложный
монтаж картин. Хочется тут же упомянуть об ассистенте,
прекрасно работавшем на двух сериях и умершем
незадолго до третьей,— Мих. Гералтовском.
Так работали люди над трилогией: восемь лет — это
огромный срок, включающий самые разнообразные
перемены в жизни людей — женитьбы, смерти, рождение детей,
прощание, новые встречи. Когда оглянешься, начнешь
пересчитывать,— видишь, что огромное количество людей
делало трилогию. Мы не упомянули еще ни пришедшего
в 3-ю серию молодого, многообещающего художника Вас.
Власова, ни оператора Филатова, работавшего по
«Выборгской стороне» вместе с Москвиным, ни мастеров грима
Анджана и Соколова, ни администраторов Морковкина, Ва-
синкевича, Левицкого, обеспечивших быстрое проведение
съемок. Мы не сказали ничего о людях, тесно спаянных с
нашим коллективом, хотя и не входящих в него: о костюмере, о
бухгалтере, о чудесных осветителях — Лапочкине,
Леонтьеве, Малаховском, о всех помогавших нам рабочих
орденоносной студии. Что же! Всем им хочется от души
сказать по-товарищески: «Спасибо!» Трилогия о
Максиме — это не наша только, это и их работа. Хочется
работать вместе и дальше, работать по-большевистски, с волне-
нением за свое дело, организованно и легко.
Только в конце приходится упомянуть о человеке, от
которого во многом такая работа зависит: о директоре
нашей группы Михаиле Шостаке. Мы только можем
радоваться, что во главе группы стоял человек, прекрасно
знающий кинематографию, авторитетный, всегда
оптимистически настроенный, ободряющий.
Эти качества — человеческие качества работников, с
которыми ежедневно сталкиваешься в будничной
работе,— не могли не отразиться на самой трилогии, на
фильмах. Трудна была работа над этими фильмами, потому что
это были рассказы о самом трудном, о самом интересном —
о людях. Плохо или хорошо — мы рассказали в трилогии
о людях рабочего класса, о людях старого Питера. О своих
товарищах мы еще будем часто и любовно говорить, а
главное, не перестанем мечтать о дальнейшей такой же
радующей работе над следующими постановками.
Фильм о Карле Марксе
1939
Старый бородатый человек с львиной гривой волос
стоит, заложив руку за борт сюртука. Мы знаем эту
фотографию наизусть. Миллионы ее репродукций,
увеличений, перерисовок висят на стенах учреждений, библиотек,
квартир.
Слова этого человека перевернули всю историю мира.
И каждый день миллионы людей в нашей стране
превращают эти слова в реальность.
Имя этого человека — Карл Маркс.
Этим именем названы лучшие улицы, площади,
фабрики, театры Союза. Тысячи памятников из бронзы и
мрамора стоят в разных городах.
И еще один памятник — памятник из самого легкого
материала должен быть поставлен человеку с львиной
гривой волос: памятник, весом всего лишь в несколько
килограммов и длиной в три с половиной тысячи метров
кинематографической пленки.
«Карл Маркс» — так будет называться фильм, к
постановке которого приступает наш коллектив.
Над свежей могилой Маркса Вильгельм Либкнехт
говорил: «Было бы неуместно произносить здесь красивые
речи. Ведь не было более страстного врага фразы, чем
Карл Маркс. Ведь в том и состоит его бессмертная заслуга,
что он освободил от фразы пролетариат, партию
трудящегося народа, и дал ей твердую, несокрушимую основу
науки» '.
Перед нами — работа огромной ответственности,
неисчислимых трудностей. Меньше всего хочется говорить,
начиная ее, красивые речи.
Твердая, несокрушимая основа науки, марксистской,
ленинской науки, дана и советским художникам. Именно
потому, что мы стремимся к созданию волнующих
произведений искусства, все бол ыи с и больше привыкаем мы
Фильм о Карле Марксе
433
вносить строгость, точность, ясность науки в свои замыслы,
в свои дела.
Метод, которым мы уже пробовали работать над
трилогией о Максиме, помогает нам и теперь.
Пожелтевшие комплекты газет, стершиеся
дагерротипы, изодранные прокламации 48-го года и Коммуны,
донесения бисмарковских шпионов, мемуары современников и,
главное, блистательная, потрясающая переписка Маркса,
Энгельса, Женни Маркс,— целые дни мы проводим среди
этих материалов, упорствуя в отборе самого
существенного, стараясь проникнуть в смысл эпохи.
И, как всегда, из вороха материала возникают видения,
встают образы, исследователь уступает место художнику,
исследователь открывает перед художником дверь в
оживающий мир, и художник входит, становится
современником.
Мы идем по грязным трущобам Лондона, по улицам
тоски, отчаяния, холеры. Сквозь мутный туман мы с трудом
находим дом на Мейтлэнд-Парк-Род. Мы входим в
комнату, заваленную книгами, рукописями, газетами, видим
пепел от десятипенсовых сигар на ковре, протоптанную по
полу дорожку — по ней ежедневно, от стены к стене,
неустанно ходит взад и вперед владелец комнаты.
Он — перед нами, большеголовый, плотный, заросший.
Не так аккуратно, как на памятниках, причесаны волосы.
Нет сюртука; сюртук снесен в ломбард. Но не из-за
этого — гневная речь и ходьба взад и вперед, от стены к стене.
Вокруг не только свирепая нищета, вокруг —
предательство, клевета, измена.
Становится понятным прозвище: «мавр». Становятся
понятными строчки памфлета, еще в юности написанного
Энгельсом:
То Трира черный сын с неистовой душой.
Он не идет,— бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,
И руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод2.
И день за днем, словно живя рядом, мы видим все
нового и нового Маркса. Вот он рассказывает детям сказку
о Гансе Рэкле, у которого были замечательные игрушки, но
434
О своей работе в кино и театре
дьявол забрал их и снес в ломбард, вот он с неукротимым
бешенством громит «бараний социализм» Вейтлинга, вот
он забыл о сне и еде и от захода солнца до рассвета,
окруженный материалами на всех языках, вдохновенно
выписывая сложные формулы, строит великое здание
«Капитала».
День за днем растет нужда и бушуют булочник,
зеленщик, хозяин квартиры; все, что только годно в заклад,
снесено в ломбард и к ростовщикам; умирает голодной
смертью ребенок, больна оспой жена, мутная жижа
травли, клеветы, ненависти все сильнее окружает уже старого
человека с львиной гривой волос.
Но ни на час не останавливается яростная работа; ни
карбункулы, ни Фогт, ни угрозы ареста, ни Дюринг не
могут погасить пламень гениальной мысли.
Рядом, в Манчестере, Энгельс изнемогает от «собачьей
коммерции», пытаясь выкроить хоть какие-нибудь гроши
для Маркса. Великий Энгельс, может быть, гениальнейший
из полководцев, благороднейший из людей — приказчик,
а потом компаньон какого-то Петера Эрмена с противной
харей хорька. Великий революционер, вынужденный ради
Маркса стать членом манчестерской биржи. Величайший
образ человеческих чувств. Величайший образ дружбы.
Рядом — Женни, потомок герцогов Аргайл, баронесса
Женни фон Вестфален, первая красавица Трира,
партийный разносчик и переписчик. Величайший образ
человеческой любви.
Все, к чему прикасалась буржуазия, было осквернено
ею. Ее лучшие открытия были опозорены аферами,
шумихой, преступлениями. Семья, мораль, право — загрязнены
и обесчещены. Но три человека — Маркс, Энгельс,
Женни — проходят через свою эпоху как ее свет и доблесть, как
предвестье другой, грядущей эпохи, эпохи социализма.
Великою была эпоха, в которую жили и работали эти
люди. Она началась, когда только что умер Наполеон,
началась в дни дилижансов, романтиков и ручного труда.
Она закончилась в годы, когда уже знали имя Ленина,
в годы открытий Дарвина, Менделеева и Эдисона, в годы
бурских, китайских и кубинских войн.
Фильм о такой эпохе не может быть «камерным
фильмом», картиною о нескольких, пусть с исчерпывающей
Фильм о Карле Марксе
435
полнотой и интимностью описанных днях в комнате на
Мейтлэнд-Парк-Род.
Законно и полновластно должны войти в этот фильм
пейзажи широкого мира. Из лондонских смрадных улиц
Маркс и Энгельс с изумительной ненасытностью тянулись
к миру — к большим городам, к далеким колониям, к
диким селениям Боснии, к рынкам Китая. Письма наполнены
географическими наименованиями, пылкими дискуссиями
о судьбах сибирских крестьян. Люди эти создали
международное товарищество рабочих.
Жизнь этих людей протекала в мелких городках
Германии, в романских странах и на британском острове.
Классические пейзажи парижских улиц, на которых еще витает
тень Марата, лондонских закоулков, замечательно
нарисованных Доре, средневековых маленьких площадей Трира,
Бонна и Кельна — должны ожить в будущем фильме.
Фильм этот не может быть фильмом только о трех
людях. В дело двинуты массы — на июньских баррикадах,
на фортах Коммуны развевается красное знамя миллионов
трудящихся, из черных шахт Крезо и Сент-Этьена выходят
бастующие, не побеждаемые углекопы, на конгрессах I
Интернационала встречаются и сливаются для победы
пролетарии всех стран. А между ними, между великими армиями
и великими полководцами, стараясь удержать, оклеветать,
уничтожить,— подлые, кромешные фигурки всяческих
Штиберов, Кинкелей, Фогтов, сыщиков, провокаторов,
ренегатов, путают и путаются под ногами трагически нелепые
Лассаль и Бакунин, а где-то сзади — тяжелые,
архаические Бисмарк и Пальмерстон.
И, несмотря на все это,— пусть пейзажи, пусть галерея
фигур,— это будет фильм о Марксе. В этом его смысл — не
стать альбомом исторических иллюстраций, не
превратиться в калейдоскоп бессвязных сцен, хотя бы и
виртуозных по качеству, не задавить зрителя цитатами, городами,
персонажами.
Это будет фильм о Марксе, и в этом его задача. Со всей
доступностью, на которую способны советские киномастера
со времен «Чапаева», со всей серьезностью, с
влюбленностью в своего героя — показать его жизнь так, чтобы
растопился лед памятниковой бронзы, чтобы фотография
стала не украшением, а памятью о самом близком, родном
436
О своей работе в кино и театре
человеке,— что может быть радостнее этой задачи для
людей, работающих в Стране социализма?
Неисчислимы трудности, стоящие перед нашим
коллективом. Ведь в конце концов только три с половиной тысячи
метров пленки, только два часа времени — как мало для
авторов и как много для зрителя, если не увлекательно
изложение! Весь смысл жизни — в долгой, кропотливой,
почти неизвестной современникам, без блеска, без труб
работе. Один, в нищей квартире, как часто вдали от тех,
кому отдана эта жизнь! Весь блеск, все трубы — в слове,
в статье, в книге со сложными формулами,— как передать
это в кино?
Но уже готовится в гримерной «львиная грива
волос», и записываются на улице люди с внешностью
боннских студиозусов и лондонских ростовщиков. Отступления
нет.
Величайшим счастьем для всех нас было то, что мы,
рискуя, стискивая зубы, брались за самые «лобовые» темы,
ныряли в самый ответственный материал. В работе над ним
все мы прошли университет, равного которому не найти. От
доски до доски перечитывался Ленин, штудировались
труды историков, философов, мемуары. И великий дух
пролетарской революции входил в нас, вел через срывы и
трудности, помогал нам так же, как помогали наши современники,
дававшие нам маршрут для плавания.
27 томов в синих обложках стали сейчас нашими
настольными книгами, и из них мы черпаем силы для
будущей, далеко не легкой работы. Пусть нет в биографии,
облюбованной нами, внешнего драматизма,— дорогу
другому, скрытому драматизму великой жизни!
Жизнь Маркса, гордая и великая жизнь человека,
отказавшегося от всех подачек ненавистной ему
буржуазии, жизнь, полная всесторонней жадности к знаниям,
нечеловеческой работоспособности, подлинно
человеческого юмора и гордости за мир, учит нас, подымает нас,
и боевой задачей нашей собственной работы становится
показать эту жизнь на экране такою же по-настоящему
увлекательной, какой представляется она нам.
В дни, когда имя Маркса вновь разделяет мир, когда
предметом лютой ненависти сделали его одичавшие
главари фашистских банд, фильм о Марксе должен войти
Фильм о Карле Марксе
437
в боевую шеренгу советских фильмов, голос которых
слышен далеко за пределами нашей страны.
Существует в Лондоне когда-то неизвестное миру,
теперь вошедшее в историю кладбище. Скромные
могильные плиты скрывают прах человека, о котором с полным
правом сказала родная дочь: «Он воистину был человек во
всем значении этого слова» 3.
Трепет и робость охватывают людей, подходящих к
великим могилам. Но в дни, когда идут решающие бои за
дело этих людей, возникает у посетителей кладбищ, молча
стоящих перед гладкими плитами, и другое чувство —
страстное желание встречи с дорогими людьми.
С трепетом, с робостью, с воспитанным великими
вождями революции чувством решимости бороться с любыми
трудностями готовится наш коллектив к предстоящей
волнующей встрече — встрече с Карлом Марксом и
Фридрихом Энгельсом.
(О спектакле «Опасный поворот»)
1939
Моя работа в вашем театре над пьесой «Опасный
поворот» не была вызвана ни чувством алчности, ни
чувством честолюбия. Работа эта для меня принципиальна,
ничем по подходу к ней не отличающаяся от работы моей
как одного из авторов трилогии по истории партии или от
будущей моей работы над картиной о Марксе. Поэтому
итоги этой работы являются для меня тоже делом
принципиальным, весьма существенным и важным, и я хотел
поговорить с труппой театра, с тем, чтобы нам разобраться
в оценке нашего спектакля критикой, в том, как его принял
зритель, и постараться самим понять, что мы сделали
хорошего и что плохого. Кроме интереса чисто
теоретического, я думаю, это представляет интерес практический,
ибо если в кинематографе у нас горе с чрезвычайной
изнашиваемостью фильмов и плохим настроением
киномехаников, то в театре не меньшее горе с плохим или хорошим
настроением актерского состава и с изнашиваемостью
отношения актера к тому, что он играет. Поэтому
понимание итогов какого-то отрезка жизни спектакля
должно явиться для всех нас неким способом по
возможности сохранить спектакль в том виде, в каком мы его
делали.
Я считаю, что с этой работой лично мне очень повезло.
Мне давно хотелось работать в театре, и мне удалось
поставить этот спектакль в очень хорошем, на мой взгляд,
театре, удалось поставить, на мой взгляд и вкус, очень
хорошую пьесу, и затем, в итоге всего лишь одной
театральной постановки, мне удалось ознакомиться со всеми
видами, сортами и родами театральной критики — отлику-
ющнх кликов восторга до брани.
Нужно сказать, что с оценкой критики в театре дело
обстоит не совсем благополучно. Есть два в корне
противоположных подхода участников спектакля к критике. Пер-
О спектакле «Опасный поворот»
439
вый заключается в том, что стоит появиться какой-нибудь
критической статье, как мгновенно начинается экскурс
в глубь веков: «А, это писал тот самый критик, с которым
я в 1923 году играл в двадцать одно и выиграл у него
триста рублей! Все понятно!» «А, между мной и тем
критиком на узкой дороге стояла женщина, она предпочла меня*
и т. д. Второй подход заключается в немедленной и
страшно проникновенной учебе у критика. Стоило критику что-
нибудь написать, как актер жарит уже по нему всю свою
роль от начала до конца. Оба эти подхода абсолютно
неверны.
Ни с одним из тех критиков, которые писали о нашем
спектакле, не соглашаясь с нашей трактовкой, я не имел
никаких отношений, в жизни никогда не играл в двадцать
одно, и никогда не стояла между мной и Левидовым
женщина. Поэтому я считаю, что эти статьи отстаивают свою
точку зрения, но не обязательно делать из этого
немедленные оргвыводы, потому что если мы — не Мочаловы, то
и эти товарищи — не Белинские '.
Для спора необходима какая-то исходная точка. Этой
исходной точкой является подтекст. «По-моему», «мне так
кажется». С этим «по-моему» и будем спорить.
Когда-то в детстве в журнале «Ежегодник» я прочел
статью какого-то актера под названием: «Гамлет, как я его
вижу очами души моей» 2. Теперь мне хочется поговорить
относительно Пристли, как его видит Малюгин «очами
души его».
Ильф и Петров когда-то давали такой совет: критикуя,
прежде всего нужно взять под сомнение все предприятие,
например, статью о «Горе от ума» назвать: «Горе ли от ума
ли?» О «Последнем из Удэге» — «Последний ли из Удэге
ли?» Малюгин идет гораздо дальше: он сразу опровергает
все наше предприятие, назвав свою статью «Безопасный
поворот» 3. Это сначала не совсем понятно, но сразу же
как-то обидно.
Попробуем разобраться в очень интересной и
внимательно написанной статье тов. Малюгина. Он пытается
в какой-то степени сблизить отношение к людям,
участвующим в пьесе Пристли, с отношением к героям фильма Рене
Клера «Под крышами Парижа», о которых он пишет:
«Было в этих людях очень много привлекательного: чув-
440
О своей работе в кино и театре
ства большой дружбы, настоящего товарищества,
искренних увлечений. Было в них много человеческого...»
Малюгин с охотой повторяет отзыв зрителя,
приведенный в статье Коварского , определяющий тему пьесы
как «Нора, не ушедшая из кукольного дома». И он
добавляет: «Фреда не уходит из дома Кэпленов, но это не
дает оснований для того, чтобы весело подсмеиваться над
ней».
Эта трактовка, конечно, вполне возможна и может
опираться на монолог Олуэн, когда она говорит, что
существует правда и полуправда; полуправда — это факты,
настоящая же правда — это то, что творится внутри у
каждого. Настоящая правда нестрашна, страшна полуправда.
Таким образом, пьеса разделяется на следующие легко
членимые куски: все начало пьесы — элегантная гостиная
Кэплена и люди, в ней сидящие,— ложь; полуправда —
середина пьесы. Полуправда — это факты, это то, что
Стэнтон украл деньги, Гордон — педераст, то, что Бетси
жила со Стэнтоном. Правда — то, что, по сути дела, это
несчастные люди — вот настоящая правда. Таким
образом, мы имеем счастье, преступления и пороки,
человеческое горе. Так по философской системе получается прямо
Гегель: положение, отрицание, отрицание отрицания.
Итак, человеческое горе мнимых преступников.
Малюгин характеризует пьесу следующими словами:
«Пристли написал пьесу умную, жестокую по своей
беспощадной правдивости и изящную по форме».
Следовательно, речь идет о жанре психологической драмы: основным
материалом психологического анализа в этой пьесе
является природа человеческого несчастья. Это точка зрения не
только Малюгина, но и других товарищей, и критиков,
и просто зрителей. Причем каждый из защищающих эту
точку зрения вначале излагает ее очень стройно, но потом
начинает чувствоваться какой-то небольшой затор, потому
что предстоит логически ответить на один вопрос. Ну,
хорошо, несчастные люди, не преступники, а люди,
страдающие от неразделенной любви, находящиеся в состоянии
отчаянного горя и подавленности. Но почему же они
несчастны? Если бы был один несчастный человек — тут
может быть какой-то частный случай. Но перед нами
сборище несчастных людей. Очевидно, кто-то сделал их не-
О спектакле «Опасный поворот»
441
счастными. Кто понаивнее, тот отвечает: их такими
сделала жизнь. Кто покультурнее, отвечает: их такими сделал
общественный строй, капитализм. Это уже понятно. Если
трудно спорить с «научной» терминологией, что «их такими
сделала жизнь», то с «их такими сделал общественный
строй» — спорить можно и следует.
Итак, общество Пристли сделал несчастными
капитализм. Теперь я обращаюсь с вопросом ко всем товарищам,
защищающим данную точку зрения. Я им предлагаю за
солидное вознаграждение указать мне в пьесе Пристли
хотя бы в одной из реплик, в одной ситуации какую бы то ни
было социальную причину или социальное обстоятельство,
сделавшее этих людей несчастными. Категорически
утверждаю, что таких вещей в пьесе Пристли нет. Ни одной
строки, указывающей на какое бы то ни было
формирование человеческого несчастья закономерностями,
заложенными в капиталистическом обществе, в пьесе Пристли нет.
Вместо этого существует именно неразделенная любовь.
Но тут начинается следующий пункт. Обычно, доходя
до этого, пишут: но Пристли слаб как мыслитель, поэтому
он не мог показать, каким образом эти люди стали
несчастными (мы дальше поговорим о том, такой ли уж
слабый мыслитель Пристли). Не приходится говорить о
том, что для нас интересен процесс, для нас интересна вся
диалектика развития, которая сделала человека
несчастным. Если этого процесса нет, почему же товарищи
считают, что именно трактовка, проходящая сквозь эту
линию, является для пьесы правильной? Почему мы
должны ставить слабые места Пристли, а не наиболее
сильные?
Попробуем встать на такую точку зрения: сама сила
Пристли такова, что он не мог показать все это как
мыслитель, но как художник блестяще показал образы
человеческих чувств. Малюгин так и пишет о монологе Олуэн, что
это «страшный рассказ о поединке грязного и развратного
человека с целомудренной и чистой девушкой». А на самом
деле монолог Олуэн — это третьесортный кусок из
бульварного романа; даже Морис Леблан стеснялся писать
такие вещи. Так пишут в самых дешевых журналишках для
чтения в вагонах железной дороги. Она говорит, что
пришла к нему, он нанюхался кокаина, потом стал показывать
442
О своей работе в кино и театре
порнографические картинки, пробовал сорвать с нее
платье, они стали бороться, у него был револьвер, раздался
выстрел, он не был ранен — он был мертв. Где здесь
«моральный поединок?» Где здесь вообще сила
психологического анализа? Это дешевый отрывок из детективной
новеллы.
Если мы посмотрим любой кусок из относящихся к этой
человеческой теме неразделенной любви, мы увидим то же
самое. Все куски объяснения Стэнтона с Олуэн в
значительной степени построены тоже на примитивных и
литературно-традиционных, в достаточной степени вульгарных
мотивировках и уликах вроде: «Полиция позвонила мне,
я нашел клочок платья, мы подъехали к дороге, которая
разветвляется, на автобензиновой станции мне сказали,
что вы там были». Диалог ведется не по линии
человеческого внутреннего своеобразия и силы, а по линии
расшифровки внешних улик, и никакой речи о
психологических глубинах или моральном поединке здесь быть не
может.
Таким образом, как показ психологического процесса
все это очень слабо. «Психологическая драма» Пристли,
если ее рассматривать с этой точки зрения, не выдерживает
никакого сравнения не только с Чеховым и Ибсеном,
которых совершенно зря припутывают к этому делу, но, на мой
взгляд, даже с Афиногеновым. Но мы не можем сказать:
«Ах, Пристли, какой он бездарный». Потому что этот же
Пристли в своих пьесах «Корнелиус», «Время и семья
Конвей» первоклассно владеет именно этим самым
психологическим диалогом. Следовательно, я не очень не прав,
защищая свою точку зрения, что никакой «беспощадной
правдивости» психологических страстей в пьесе нет. В ней
есть шаблоны детективной новеллы.
Теперь поговорим относительно того явления, которое
Малюгин называет изяществом формы. Возникает вопрос:
почему для психологической драмы выбрана такая
странная форма, зачем для нее нужно повторение в конце, зачем
нужно радио и, что совершенно уж непонятно, зачем
самоубийце Роберту, горю которого мы должны сочувствовать,
танцевать в конце фокстрот?
Далее, почему Фреда и Олуэн, у которых есть явление,
именуемое Малюгиным как «женски сокровенное», после
О спектакле «Опасный поворот»
443
этого «женски сокровенного» бросаются друг на друга, как
цепные собаки?
Почему в самом конце пьесы такой «слабый
мыслитель», как Пристли, повторяет реплику, касающуюся
«опасного поворота»,— «говорить правду так же полезно,
как заворачивать на крутом повороте при скорости
в 60 миль в час», а не повторяет монолога Олуэн, подведя
конец пьесы к теме горя и преступления?
Поэтому если рассматривать пьесу как
психологическую драму со сложной темой, вопросами и трактовкой,
т. е. делать из «Опасного поворота» некоего «Гамлета», то
пьеса действительно никуда не годится, а Пристли —
плохой мыслитель.
Но стоит нам понять, что Пристли написал не
психологическую драму, а памфлет, как возникает другой вопрос:
кто же из двух — товарищ Малюгин или гражданин
Пристли — является плохим мыслителем?
Я утверждаю, что пьеса Пристли памфлет — так она им
написана. Попробуйте к любой статье Тарле подойти с
точки зрения «Войны и мира». Исторический кусок,
написанный Тарле в памфлетной манере, как отрывок из
психологического романа никуда не годится. Пьеса
Пристли как памфлет написана поразительно; стоит
посмотреть на нее как на психологическую драму — это будет
ужасно.
Как памфлет пьеса Пристли построена на очень
простом, ясном и в значительной степени убедительном
приеме: в обществе происходит катастрофа от одного случайно
сказанного слова правды. Моральная картина этого
общества — основной и главный материал Пристли. Поэтому
пьеса называется «Опасный поворот», а не, предположим,
«Бедный страдающий брат», как назвал бы ее по малюгин-
ской трактовке любой русский интеллигент конца XIX века
и что совершенно неуместно по отношению к жестокой
и отнюдь не изящной по форме пьесе Пристли.
Даже минимально образованному человеку ясно, что
строй заключен в людях, частица общественного строя есть
в каждом человеке. И как частица социалистического
строя есть в каждом из нас, точно так же и частица
капиталистического строя есть в каждом из персонажей Пристли.
И Пристли совсем не плохой мыслитель, не раскрывший
444
О своей работе в кино и театре
общественных процессов,— эти процессы он показал в
каждом из характеров. Сборище общества Пристли и есть
в какой-то степени, может быть небольшой, но картиной
капиталистического общества, и в этом-то, и единственно
в этом, ценность пьесы и резон для того, чтобы мы ее
ставили.
Разговор о памфлете отнюдь не обозначает того, что
в какой-то степени я снимаю человеческую сложность,
довольно неглубокую, этих персонажей. Никакой трагедии
в пьесе Пристли нет. В лучшем случае есть кусочки драмы
очень маленького, очень узкого мирка.
Что же должно интересовать советского режиссера при
работе над этой пьесой? Проблема неразделенной любви
как массового явления человечества или моральное лицо
капиталистического общества? Я решительнейшим
образом утверждаю, что я как режиссер, наши актеры и
наш зритель не в состоянии будут лить слезы над
неразделенной любовью педераста Гордона и кокаиниста
Мартина.
Примерно то же самое, о чем писал Малюгин, только,
по-моему, менее интересное, есть и в статье Левидова °,
плюс одна вещь: Левидов пишет, что в моей работе имеется
не то безумие, не то произвол, заключающийся в том, что
по мере разоблачения этих людей меняется и их поведение.
Точная цитата: «Манеры лиц средне-высшего круга». Что
же такое поведение лиц «средне-высшего круга» в пьесе
Пристли? Вот образчик разговора мужа с женой:
Роберт (резко). Фреда, ты не в своем уме!
Гордон (в бешенстве, пронзительно-резким тоном).
Это все ревность, ревность...
Фреда {в злобе). Ты мне отвратителен!
Прекрасная сцена в английской гостиной лиц средне-
хорошего тона! Левидов убежден в том, что Бетти ведет
себя так, как ни при каких условиях не практикуется в
английских салонах. А известно ли товарищу Левидову, что
в английских салонах может быть и такой разговор: «Вы
пожелали вытащить все это наружу, ну так, черт возьми,
получайте же то, что вам причитается. Да, я ночевала в ту
ночь у Стэнтона, и я проводила с ним и другие ночи... Этот
наш проклятый брак, из-за которого вы все разводили
О спектакле «Опасный поворот»
445
такие сантименты,— это был самый большой обман,
который когда-либо существовал на свете».
Что касается поведения Роберта, то вот ремарки
Пристли: «Залпом выпивает полстакана чистого виски».
«Берет другой стакан и пьет». «Наливает себе новый стакан
виски». «Резко поворачивается, идет к столу за новым
стаканом виски».
Я думаю, что даже лучшему знатоку всех норм
поведения в английских салонах все приведенные места
покажутся очень недалеко стоящими от того, что происходит
у нас на сцене. Нужно сказать, что разговор критиков об
англичанах, английском салоне, нормативах поведения
всех этих людей кажется «сильно интересным». Была еще
статья Финка 6 (я не могу заняться серьезной полемикой
с ней, да и вряд ли это нужно, потому что никак не могу
сравнить ее со статьями Малюгина и Левидова), где тоже
сказано, что в Англии так себя не ведут. У Аверченко есть
чудный рассказ о том, как человек, позванный к обеду,
высморкался в скатерть и сказал: «Бывает, что едят рыбу
ножом. Но я-то уж ножом есть не буду!» Он проливает суп
на колени сидящей рядом женщины, но говорит: «Человека
можно узнать по тому, как он ест рыбу». Потом он увидел,
что подают мороженое. «А что же рыба?» — «А рыбы нет».
Так же и тут случилось — рыбы тут нет, нет того, насчет
чего критики хотели показать свое образование: «А
посмотрим, как Тенин будет играть англичанина». Так вот,
англичанин Пристли, очевидно, не так хорошо знающий
английские салоны, как Финк с Левидовым, но все-таки
более или менее их знающий, заставил своих людей в
присутствии дам не только курить трубку, но кричать
«сволочь» и «мерзавец», заставил изящную девушку кричать:
«Я ночевала у него» и т. д.
Я хочу обратиться к актерам. Вспомните наши
репетиции. Был у нас хоть один момент, когда бы мы ощущали
сами внутреннее насилие над текстом Пристли, когда бы
мы ощущали, что мы хотим каким-то противоположным
подтекстом вывернуть ситуацию наизнанку? Такого случая
не было. Наоборот, мы все время работали над тем, чтобы
текст Пристли звучал елико возможно логично.
А чтобы раз навсегда покончить спор об англичанах,
нормативах высших салонов, светских манерах и т. д.,
446
О своей работе в кино и театре
скажу еще, что в достаточно серьезной книге «Классовая
борьба во Франции» Маркс написал: «По способу своего
обогащения, как и по своим наслаждениям, финансовая
аристократия есть не что иное, как возрождение люмпен-
пролетариата на верхах буржуазного общества» 7.
Под маской общества изящного салона книгоиздателя
Кэплена показать нормативы морали и нормативы
поведения люмпен-пролетариата — это то, что мы хотели
сделать и от чего я не собираюсь отрекаться.
Теперь поговорим о нашей работе.
Существует три типа взаимоотношений актера и
режиссера. Первый, встречающийся чрезвычайно редко и,
может быть, даже не всегда хороший,— это единство
замысла, когда то, чего хотел режиссер, то, как он себе
представлял трактовку данного образа, совпадает с
желаниями, какой-то внутренней конституцией и стилистикой
актера.
Обычно бывает другая ситуация — ситуация
столкновения, когда замысел режиссера в какой-то степени
сталкивается с желанием, внутренней природой и замыслом
актера. Мне кажется, это даже обязательно и должно
быть, потому что трудно — и даже глупо — выдумать
какую-то концепцию у себя в голове и требовать буквального
воплощения этой концепции от человека, обладающего
своим достаточно серьезным творческим механизмом.
Замысел всегда меняется от взаимоотношения с актером,
и если режиссер что-то понимает в актерской игре, он
никогда не будет стараться сломать актера. Либо он
возьмет замысел актера как приемлемый для себя, либо
он постарается найти в нем какие-то вещи, родственные
со своим замыслом, и тогда они каким-то образом этот
замысел изменят. Все три ситуации были у меня в этом
спектакле.
Я не совсем хорошо знаю нормативы поведения в
театрах, но думаю, что у нас создались такие товарищеские
отношения, что вы не будете на меня в претензии, если
я буду откровенно говорить вещи, которые не особенно
приятно слушать.
Полное совпадение моего замысла, моих
стилистических стремлений и моих мыслей было у меня с Сухаревской,
с ее внутренним творческим аппаратом. Нужно сказать,
О спектакле «Опасный поворот»
447
что я прекрасно понимаю, что у Сухаревской есть многое,
что очень мешает ей играть Бетти. Прежде всего, внешне
Сухаревская не похожа на Бетти, которая должна быть
меньше ростом и должна быть больше куколкой. Мне
кажется, в первой части спектакля куколки мало, мало
того, о чем я вам говорил: образов медового месяца,
глуповато-счастливой молодости, безмятежного счастья,
сыгранных при этом абсолютно всерьез. Этого мало.
Но зато весь 3-й акт кажется мне сделанным ею на
таком высоком актерском уровне, примера которому я
даже не сразу могу найти. В игре Сухаревской в 3-м акте есть
то основное, что есть в этой пьесе,— смешное и страшное.
И прежде всего — высочайший градус нервного
напряжения. Все это бормотание под нос и знаменитое общение,
связанное с пьесами конца XIX века, сломало прекрасное,
звонкое и веселое актерское искусство. В этом отношении
труппа Театра комедии кажется мне труппой хорошей.
И дальше: у Сухаревской есть гипербола образа,
целиком связанная со стилистикой памфлета Пристли. Меня
упрекали, что Бетти садится на колени к Стэнтону ради
комического трюка. Но это страшно комический спектакль,
который она задает английскому обществу; она, самая
юная, прекрасная и самая чистая, говорит им: вы хотите
правду, так смотрите эту правду, я брала у него деньги,
я была его любовницей и т. д. С ненавистью сорвана маска.
Дело не в неразделенной любви, а в какой-то бабьей тоске,
смешанной со злостью и отчаянием. Все это сыграно
блестяще, и ни в одном месте, где зрителю не нужно
смеяться, он не смеется. Зрительный зал молчит, через секунду
смеется и снова замолкает — это самое замечательное, что
может сделать актриса.
Пантомимный кусок ухода — очень маленькая пауза
с едва уловимыми изменениями лица — сыгран
великолепно.
Мне кажется очень хорошей работой и то, как Юнгер
играет Фреду. Горе заключается в одном. На московских
спектаклях я заметил, что то, что было замечательно
найдено Юнгер вначале, стало куда-то уходить. Что
случилось? Был целый ряд мест, в которых мы искали
определенную тему, искали свое отношение и делали это отнюдь
не для того, чтобы вызвать аплодисменты или смех у зри-
448
О своей работе в кино и театре
тельного зала. Например, разговор мужа с женой: мы
понимали, что драмы никакой нет, есть юмор
опустошенности, юмор порвавших между собой связи людей, которые
пробуют сохранить приличный вид. И эти вещи
получались. Но когда сейчас Юнгер играет эту сцену, она заранее
начинает бояться: а вдруг не дойдет. Поэтому ищется не
тема, не мысль, а реакция зрительного зала, и начинается
огрубление приемов игры. Поэтому целый ряд хороших,
тонких кусков пропал. Были сцены, где громкий голос
звучал один раз,— сейчас этого громкого голоса уже
много. Если раньше элементы грубости возникали на какие-то
минуты, то сейчас в некоторых сценах она становится уже
просто мадам Сан-Жен 8 и появляются «руки в боки». Мне
хотелось бы убедить Юнгер немножко поуняться и
сохранить то хорошее, что у нее было.
С Гошевой у нас была совершенно разная трактовка
Олуэн. Хотя амплуа — вещь условная, мне казалось, что
в пьесе Пристли нет роли героини, все роли характерные.
И в Олуэн тоже нужно искать характерность, искать
основное для драматургической манеры Пристли, то есть
контраст. Скромнейшая, тишайшая, застенчивая девушка,
какой-то синий чулок из английского колледжа, вечная
секретарша издательства, стала убийцей. В этой
чудовищной гиперболе и заключается манера Пристли.
Как только я стал работать с Гошевой, я увидел, что
мой замысел никак не близок актрисе. Но я знаю Гошеву
давно, знаю, как она хорошо работает, ее замысел мне
показался убедительным, и я старался ей помочь елико
возможно. И по-моему, получилось очень хорошо. Прежде
всего, Гошева — абсолютно не врущая актриса, у нее
никогда нет фальши. Оттого, что она проделала большую
внутреннюю работу, у нее по-хорошему стабильная роль.
Из всех исполнителей «Опасного поворота» в наилучшем
виде роль сохранилась у Гошевой. У нее нет ни
прибавлений, ни убавлений.
Тенин играет очень здорово. Правда, когда я думал над
Пристли еще до того, как я знал, кто кого будет играть, мне
казалось (хотя все эти национальности очень условны),
что Стэнтон — немножко француз, в нем есть что-то от
Мопассана, есть какая-то горечь иронии. Но как только
я столкнулся с Тениным, я почувствовал, что у него полу-
О спектакле «Опасный поворот»
449
чается не нечто французское, а нечто, опять же условно
говоря, американское, что меня устроило, мне понравились
все его предложения, и я с полным воодушевлением стал
с ним работать.
У Тенина есть одно замечательное свойство — я не
помню ни одной репетиции, которую он проводил бы не
в творческом состоянии, у него подход к работе в театре не
как к службе, а как к искусству. У него всегда есть
настоящее высокое волнение художника, поэтому у меня
возникал отзвук на то, что он делал. Прелесть его — в яркости
игры, в полном диапазоне актерских средств, нет глубоко1
мысленной игры шепотком и так называемой благородной
простоты и естественности — двух самых страшных вещей,
которые я знаю в искусстве театра.
Мне хотелось бы только включить в его игру какую-то
каплю горечи. Например, в сцене, где он отбивает
горлышко бутылки. У Тенина роль в таком состоянии, что он может
ее совершенствовать, ибо основа заложена очень верно.
Не могу согласиться с упреком, что «самое ценное место
выбросили». Купюра у нас такая: Стэнтон говорит, что он
не кончил университет, а начал с клерка. Мы это выкинули
потому, что нет смысла из-за одной реплики, не влияющей
на сюжет, членить это общество. Оттого, что он вышел из
низов, ничего не изменилось.
Наиболее уязвимое место спектакля — Ханзель.
Большинство критиков, и доброжелательных и
недоброжелательных, нападает на него, и, очевидно, здесь есть какая-то
моя вина. На одной из предпоследних генеральных
репетиций Ханзель играл великолепно. Но на спектаклях он стал
играть значительно слабее. Обычно, когда появляется
зритель, актер пробует все сделать более доходчиво. С Хан-
зелем .случилось обратное: появился зритель — он все
убрал в себя. Роль страшно загнана вовнутрь, затишена.
Я считаю это одним из самых главных грехов нашего
спектакля; очевидно, хотя ни один из критиков этого не
говорил, в первую очередь в этом повинен я.
Что такое Роберт в этой пьесе? Это тот школьник из
английской сказки, который вызвал духов, потом ничего
сделать с ними не мог. Роберт вызвал духов, вызвал правду
и погиб. У нас Роберт плывет по течению, он менее активен,
чем все остальные, а между тем он должен быть самым
450
О своей работе в кино и театре
активным. Поэтому не получается одной из основ пьесы:
ты хотел правду — вот, получай. У нас же Роберт не очень
хочет эту правду. Здесь одна из самых сложных ситуаций,
которые могут быть для актера: субъективно положение
драматично, объективно — комично. Роберт обязательно
должен быть смешон, я уверен, что зритель не должен
плакать над Робертом. Но его субъективное состояние, его
жажда правды, нелепая в пределах данного общества,
страшно загнаны Ханзелем вовнутрь.
Мне хотелось, чтобы Роберт был как бы последний
сентиментальный деляга. Этого соединения деловитости
с сентиментальностью не получилось. Может быть, мы еще
поработаем, и мне кажется, что Ханзель как актер
обладает всеми данными для того, чтобы прекрасно это сыграть.
Должен решительным образом взять под защиту Фло-
ринского. Для актера нет более противного дела, чем
играть такую личность. А у Флоринского существует целый
ряд мест — сцена его перебранки с Фредой, его уход с
Бетти,— сыгранных очень хорошо и тонко. Но значительно
слабее первый акт. Очевидно, тоже моя вина. Дело в том,
что игра Флоринского вызывает мало ассоциаций. Я
говорил Флоринскому, что мне бы хотелось, чтобы в Гордоне
была частица Бердслея, частица прерафаэлитов, чтобы он
был больше от искусства. Гордон — единственный человек
из них, для которого это интеллектуальное издательство
художественной литературы может быть прямой
профессией. Если бы мы «навели» на него Бердслея, если бы в нем
было что-то от художественной богемы Англии, было бы
лучше и образ не был бы немножко плосковат. Сейчас он
вообще молодой человек.
Малюгин назвал свою статью «Безопасный поворот»,
потому что он считает, что мы взяли сложную
психологическую пьесу и повернули ее на памфлет и легкую комедию,
что сулило нам легкий успех у зрителя. Я должен сказать,
что в этом я действительно виноват. Когда я ставил эту
пьесу, я все время думал о зрителе. Пренебрежительное
отношение к зрителю абсолютно неправильно. Я хорошо
знаю зрителя, я с ним сотни раз встречался и
разговаривал, и он очень нехудо разбирается. Попробуйте последить
за реакцией зала. Зритель воспринимает именно тему. Ни
один из чисто комических трюков не имеет успеха у зрите-
О спектакле «Опасный поворот»
451
ля. Он хладнокровно смотрит первый акт, второй акт —
повнимательнее, а начиная с третьего акта буквально
каждая из фраз действующих лиц дает мгновенную
реакцию, и не потому, что кто-то что-то смешно делает,
а потому, что разворачивается тема, потому что он видит
моральное лицо всего этого общества. И меня очень
радует, что понятие «Опасный поворот» становится
поговорочным. Зритель не воспринимает это как непробудный
балаган, он не смеется ни над монологом Бетти, ни над
монологом Олуэн.
Очень многое даже в тех статьях о спектакле, которые
были написаны положительно, меня обижало: там
говорилось, что я сделал что-то по-кинематографически. Я не
хотел приносить в свою театральную работу какие бы то ни
было приемы, которыми мне приходится работать в
кинематографии. Но даже о мизансцене, где Фреда и Олуэн
выходили на авансцену, что я считаю сугубо театральным
приемом, мне сказали, что я применил крупный план.
Я страшно обиделся.
От кинематографии в эту работу я принес две вещи. Во-
первых, главное и основное,— это четкость концепции
вещи. Во-вторых, помня об этой концепции, думать о
зрителе, чувствовать огромную аудиторию, понять ее и нести ей
что-то ясное, простое и конкретное, хотя бы это и было
очень сложным по форме.
(Режиссерская экспозиция
спектакля «Отелло»)
1943
Самое трудное в работе над Шекспиром — остаться
с ним наедине, работать с ним без посредников. При
произнесении слова «Отелло» возникают привычные образы,
созданные исполнителями, художниками. Очень трудно
пробраться к Шекспиру. Отелло — неистовый мавр, с
чалмой на голове, с ятаганом за поясом; Дездемона —
бледная девушка, которая стоит перед сенатом; Венеция с
гондолой, венецианский Кипр и т. д.
Первое желание — остаться наедине с Шекспиром.
Понять основную мысль Шекспира, а не плестись в хвосте
традиций. Чтобы сделать Шекспира другом, надо вначале
ощутить воздух средневековья. Черная, холодная стена,
которая закрывает мир от человека. Жизнь грязна,
скорбна. Единственная возможность жить — стремиться к
чему-то ввысь (готические соборы). Вдруг взрыв — черная
холодная стена рушится. Наступает Возрождение.
Ширятся горизонты, растет ощущение все более широкого
мира, эпоха тянется к красивому: греческая скульптура
как символ красоты, греческая драма. Как контраст — быт
эпохи. На Лондонском мосту головы казненных. Виселицы,
казни. Когда у Елизаветы спросили о судьбе любовника,
она вынула из роскошной шкатулки его череп. Кровь и
необычайная роскошь; необычайная грязь и отсутствие прозы.
Сплавить все контрасты могла только поэзия. Даже
история пишется в стихах. Причудливая форма стиха. Люди
почти разговаривают стихами. Эпоха была поэтом. Только
поэзия могла создать героя этой эпохи — героя с
неистовством чувств, с буйством плоти. Велик человек — для него
нет преград. Новый герой появился впервые у Марло —
Тамерлана везут пленные цари мира '. Буйная молодость
века, богохульный пир на могиле средневековья. Момент
появления Шекспира — уже не молодость века.
Появляется лондонская биржа; стоимость, норма — стали зако-
Режиссерская экспозиция спектакля сОтелло»
453
нами жизни. В мемуарах того времени пишут о
поставленных печках, о застекленных окнах. Достоинство
человека начинают мерить количеством скота. Люди живут не в
замках, а в удобных жилищах. «Время вправляется в
суставы» 2. Вместо страстей вползают страстишки.
Кончается мир поэзии, начинается мир прозы. Герой
Возрождения должен погибнуть, как поэт, попавший в мир прозы.
Мавр Отелло или негр? Вопрос не имеет значения. Он
такой же мавр, как Юлий Цезарь — римлянин или
Гамлет— датчанин. Это — сплав высоких качеств человека.
Мечта эпохи о человеке. Чернота кожи Отелло нужна
Шекспиру для контраста, как знак неведомой земли. На
той земле, где он появился, нет людей, которые гнут спины,
нет ростовщиков. Отелло мореплаватель, воин. Человек
мира, гражданином которого могли стать Гамлет, Отелло,
Эдгар. Шекспир — автор величайшего автопортрета.
Чтобы понять внутренний мир Отелло, надо понять внутренний
мир Шекспира.
Отелло думает стихами, не только говорит. Это человек
мастью в молнию. Против Отелло обвинение в колдовстве.
Он начинает оправдываться, защищать свое счастье. Тут
надо услышать мечту, увидеть ненасытными глазами
горизонт необычайного мира. И Дездемона за это полюбила
Отелло, за то, что он видел другой мир (а не за муки).
Человек, который не может жить в цивилизованном
мире, уходит на лоно природы — обычный ход в
произведениях Шекспира (Тимон,4 Лир и др.). «Отелло»
единственная пьеса, в которой обратный ход.
Словарь Шекспира огромен— 15 000 слов, богатая
разнофактурность слова. Автор, обладающий таким
богатством языка, ни разу не употребляет слов,
характеризующих экзотику Востока, ничего специфического восточного
нет. Откуда же чалма? У Отелло нет специфической
африканской страсти. Африканский темперамент Отелло не
более силен, чем «белый» темперамент Гамлета, Макбета
и др. Вращение белками, ор — все это только сценическая
интерпретация. Портрет Отелло: черный человек с седыми
волосами, в высоких сапогах. Никакой леопардовой
походки. Совершенный образец мужчины. Полноценный
гражданин Венеции. Он ничего не боится. Он все уже взял
от цивилизованного мира, и от него он взял счастье. Но
454
О своей работе в кино и театре
этот человек не имеет права на счастье в этом мире. Он
обречен на гибель. И умрет он не от меча, а от укола
булавкой. Гулливер, которого укололи булавкой с капелькой
яда на конце. Гору разрушила мышь.
И если Отелло родился на лоне природы, то Яго
родился в кабаке. Яго — неудачник. Таких было много —
храбрые вояки. Когда они вернулись из завоеваний, они
увидели, что все их подвиги — зря. Лучшие места заняты
другими, им брошена полушка. Остается жить без
предрассудков. Черная гангрена цинизма поползла по веку,
микроб гниения. Яго — кабацкий Гамлет. Скука в мире,
без иллюзий, все уже известно. В трагедии три
мотивировки для ненависти Яго к Отелло: 1) чин, на который
рассчитывал Яго, получил из рук Отелло Кассио; 2) он
предполагает, что Эмилия изменяла ему с Отелло; 3) Яго
сам любит Дездемону. Это все неубедительно, особенно две
последние причины. Яго ненавидит Отелло, как неудачник
счастливца, как пигмей великана, как проза поэзию.
Встретились — молодость века и разочарование века.
Это борьба обычного с великим. Сила Яго в том, что за ним
целая армия, а Отелло — одинок. Яго не исключение из
общества, а его правило. Исключение — Отелло. Яго умен.
Все его предположения оправдываются. Отелло —
великий человек и полководец, а стоит намекнуть — он будет
ревновать, как лавочник, стоит Кассио дать два стакана
вина — он станет буянить, как последний пьянчужка. Бра-
банцио, Родриго — все поступают по его плану, все
выполняют его замыслы. Яго знает законы мира. Кончился
мир страстей, наступил мир страстишек. Отелло гибнет,
потому что эта эпоха уже не нуждается в титанах.
В 66-м сонете — картина этого мира, каким его видел
Шекспир:
Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк.
И как шутя живется богачу.
И доверять, и попадать впросак,
И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,
Режиссерская экспозиция спектакля «Отелло»
455
И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывет,
И доброта прислуживает злу 3.
Яго разрушитель любой мечты. Стоит ему прикоснуться
к мечте, как она становится грязной. Гибель многих
великих людей поразительно похожа на гибель Отелло, на
историю столкновения Яго и Отелло. Пушкина погубила та
же пошлость. Пошлость не очень меняется в веках.
Шептуны, подглядыватели окружают Отелло («носы, уши,
губы»). Отелло может мыслить, но не может размышлять.
Погубить его может любой человек. Если бы не Яго —
нашелся бы другой. Важно, что он погиб от мелочи
(«замучь его ты мухами»). Первая капля яда — частица
сомнения. Между внешностью и сущностью он не видит
различия. Он видит мир прямо, не может воспринимать через
сомнение. Сразу яд еще не попал в кровь, но когда Отелло
возвращается на сцену — яд уже в крови. Начинается
«линия ревности». Только ли это ревность?
Шекспир всегда начинает трагедию с маленького
конфликта (например, месть за отца), но постепенно этот
конфликт разрастается. История ревности Отелло не
только история ревности, а протест против грязи, пошлости,
против системы. Рушится не только вера в Дездемону,
а рушится вера в целую систему. Не стоит жить, если мир
таков. Вместо второй капельки яда — капелька грязи.
Грязь и похабщина магически превращают все чистое
в грязное, высокое — в низкое. Слова, как комья грязи,
облепляют Дездемону. Отелло видит, как его любовь,
грязная, идет сквозь улюлюкающую толпу, видит свое
счастье запачканным. Великан на какие-то минуты стал
обычным, он стал «мужем», рогатым черным чудовищем.
Любовь превратилась в брак. Муж устраивает жене
некрасивую сцену ревности. Льва выучили подавать лапу. Он
сам стал одним из «козлов и обезьян». У Шекспира люди
сравниваются с животным миром. Но в «Короле Лире»
люди сравниваются с крупными хищниками, в «Отелло» —
низший мир пресмыкающихся и насекомых, копошащихся
и терзающих друг друга. История Отелло — история льва,
которого хотят превратить в обезьяну. Отелло с кровавым
456
О своей работе в кино и театре
сарказмом играет сцену из жизни козлов и обезьян (4-й акт
в спальне Дездемоны). Страдания Отелло невыносимы. Не
зеленоглазая ревность, а мир грязи обрушился на Отелло,
любящего и доверчивого. Ему привили ревность и
сомнения. Отелло пытает вся система века. В начале трагедии
Отелло велик как воин, завоеватель, в конце он еще более
велик как человек. Чем больше мучают его, чем больше
яда, тем больше он любит Дездемону. Трагедия Отелло —
трагедия любви. Любовь победила. Последний поцелуй
Отелло сильнее смерти. Козлы и обезьяны убили их, но не
их любовь. Отелло убивает Дездемону не потому, что так
требует месть, он не может допустить, чтобы любовь жила
с обманом.
Дездемона — не ангел, а женщина Возрождения.
Это — золотой приз Венеции, самая прекрасная
венецианка. Полнокровная, подъем страстей. Невероятно
роскошно одета. В спектакле должно быть две Дездемоны.
Одна — закована в золото и парчу. Все богатство оттенков
и красок. Какая-то туча вдруг находит на ее жизнь, она не
знает, что случилось, но счастье уходит. Пришло к
Дездемоне невидимое одноглазое лихо-горе. В 4-м акте из
золотой раковины выходит маленькая, простоволосая
шестнадцатилетняя девушка и поет деревенскую песню —
воет вместе со своим горем.
Брабанцио — старый мир.
Дож и сенаторы — никакой сказки, коршуны
разбойничьего гнезда. Слова Отелло зажигают им глаза, это их
молодость.
Родриго — провинциальный помещик с бычьей шеей
(аналогия с купчиком из Островского).
Бьянка — это то, во что хочет Яго превратить
Дездемону. На сцену выходит блуд. Метафора философии Яго
о любви. Весомое и зримое. Женское начало в неприкрытой
форме. Все тайны и покровы сняты. Показать жестоко.
Лодовико — светская чернь.
Монтано — если Отелло человек и воин, то Монтано —
только воин.
Кассио и Эмилия — два нормальных человека. Средние
люди эпохи. Кассио не любовник. При исполнении иметь
в виду, что он — будущий губернатор. Простой человек со
всеми человеческими слабостями. Эмилия — одна из неу-
Режиссерская экспозиция спектакля «Отелло»
457
дач Яго — его женитьба на ней. Она ниже его, ближе
к кормилицам. Сначала она затерта на задний план, в
конце неожиданно выходит вперед. Она здесь значительнее
Отелло. Ее голос — голос разумной прозы.
Задача спектакля — регрессивное борется с
прогрессивным. Не сказка. Шекспир — грубый, неприкрытый.
Поэтическое обобщение вырастает из реального, весомого,
конкретного. Борьба с приглаженным ватным темпом.
Шекспир, прочитанный глазами нашей эпохи, когда
видели, что такое кровь, что такое горе. Без баюкания
сказочными персонажами на фоне сказочных пейзажей.
Не Я, не Я и Шекспир, не Шекспир и Я, а Шекспир!
Мысли о картине
1946
Требовать от меня режиссерской экспозиции, какая
обычно дается в театре, не стоит. Это будет очень скучно.
В театре экспозиция делается для актеров, которые пьесу
знают назубок, и та или иная интерпретация каждой
роли им очень интересна. Но в данном случае
необходимости в этом нет.
Перед каждой картиной биографического жанра
возникают две опасности. Первая — это то, что картиной хотят
поставить памятник великому человеку. Памятники очень
уважают, но любить памятники трудно. Перед памятником
часто снимают шляпу, но толком не понимают за что. За то,
что он памятник!
Вторая опасность — это то, что делают американцы.
Они в своих биографических картинах рассказывают
историю «домашним образом». Это анекдоты, собранные о
великом человеке. Исходит это из той правильной доктрины,
что все великие люди в чем-то и маленькие люди, и это
маленькое отбирается в великих людях и легко постижимо
зрителем, но остается только «домашним образом».
История пропадает. И вот, с одной стороны,— угроза этого
чугунолитейного, бронзового памятника, с другой
стороны,— угроза маленького мирка.
Решает вопрос, мне кажется, в работе над
биографической картиной прежде всего отношение к материалу,
т. е. каким образом писатель, режиссер, актер, все люди,
участвующие в кинематографическом коллективе, берут
материал, как они относятся к материалу жизни того
человека, которого они берутся изобразить.
Часто получается такая история: берется портрет,
фотография великого человека, берутся какие-то его
высказывания и монтируются — портрет и высказывания;
собираются какие-то грозди цитат, и получается
высказывающийся портрет, портрет, который прогуливается, иног-
Мысли о картине
459
да похожий, а иногда, как в картине «Адмирал Нахимов»,
непохожий. И вот, ходит портрет и высказываются отрывки
из тех книг, которые мы читали о Нахимове. Вместо
действия, вместо драматического хода событий получается,
я бы сказал, картина упоминаний и обозначений. Перед
нашими удивленными глазами оживает портрет и сведения
из энциклопедии на соответствующую букву.
Я просматривал материалы Художественного совета по
старому варианту «Пирогова». ' Каким образом они
родились? Товарищи, призванные высказываться по этому
поводу, с жадностью набросились на «Советскую
энциклопедию», благо она вышла на букву «П», и, вооруженные
мощными этими знаниями, набросились на Юрия
Павловича. 2 Есть ли в этом сценарии эти упоминания или нет? Если
их не находили — очень обижались.
Первая вещь, которую нужно принять как аксиому
каждому человеку, который хочет серьезно работать, это
то, что любой исторический материал, который вы
привлекаете для своей работы, может быть вами взят на веру
условно. Любой исторический материал в документах
эпохи очень часто фальсифицируется, извращается и т. д.
Если вы возьмете материалы по Пнрогову и будете
пытаться включить все эти упоминания, высказывания
и обозначения всех официальных источников в сценарий,
хотя бы «Историю Военно-Медицинской академии», вы
столкнетесь с тем, что сам Николай Иванович, упоминая
Военно-Медицинскую академию, называл ее
«военно-учебным болотом». Как же мы можем брать материал
историков «военно-учебного болота?» Очевидно, мы можем брать
этот материал только как какой-то толчок.
Нетрудно установить, что вся история семейных
отношений Пирогова сфальсифицирована женой. Кроме того,
материал этот редактировался тенденциозно, и эта
сентиментальная идиллия Пирогова, которая была ярко
выражена в рассказе «Чудесный доктор» Куприна, очень легко
рассыпается, как только вы соприкасаетесь с материалом
всерьез, как только вы подвергаете материал
перекрестному допросу.
Так выясняется, что один материал опровергает другой.
Таким образом, материал, нужный для Германа, для меня
был скорее эмбрионом образа, но никак не страницами
460
О своей работе в кино и театре
сценария. Какие же цели стояли передо мною? Не
иллюстрировать известное и не компилировать опубликованное,
а создать гипотезу и защищать ее приемами искусства. Не
дать портрету высказываться, а превратить портрет в
образ, превратить даты в эпоху, превратить факты в судьбу,
сделать не главы из истории хирургии, а главы из истории
человечества.
Когда сталкиваешься с биографией Пирогова, то
возникают две сложности драматургического построения,
два гигантских противоречия. Мы говорим — гениальный
хирург. И мы читаем статистику смертности операций
Пирогова в Севастополе. Гениальные операции и смерть
в тех случаях, когда рядовые современные хирурги спасли
бы жизнь! Операции делались в грязнейшем сюртуке,
и врачи нарочно надевали платье похуже, чтобы не жаль
было его испачкать. Дело идет об антисептике. Это
гениальное открытие сделал Листер, но накануне его был
Пирогов. Вот первая сложность образа, которую Герман
разрешил очень хорошо.
Вторая сложность. Пирогов великий учитель, но
учитель, который почти не имел учеников. За исключением
Боткина, который работал очень короткое время в
Севастопольской кампании, мы не знаем среди учеников Пирогова
какого-то громкого имени в истории русской медицины,
и в то же время вся русская хирургия, а может быть и
русская медицина — ученики Пирогова. И тот образ, который
хочется получить,— это мысли, брошенные в будущее.
Что же проходит красной нитью сквозь биографию
Пирогова? Прежде всего, необыкновенная
целеустремленность жизненного пути. В детстве он уже играл в лекаря,
в 14 лет он студент, доктор в 18, профессор в 26.
Анатомические театры мира, сквозь которые он проходит,— все
войны эпохи: Кавказ, Крым, Эльзас, Балканы, и последнее,
что написал Пирогов, последние строчки, написанные его
рукой,— собственный диагноз, то, от чего он умер.
В жизни Пирогова не было большой любви. Надо
сказать, что письма его ко второй жене с точки зрения
лирической ужасающи. Николай Иванович пишет, скажем
(я буду говорить на память, цитатно), к невесте: «Дорогой
ангел, твое замечательное письмо, такое нежное, такое
трогательное, так меня обрадовало, но если бы не ужасаю-
Мысли о картине
461
щая орфография, если бы не чудовищные обороты,
которые ты себе позволяешь употреблять. Такие слова — «сей»
и «оный» хороши для канцелярии, но не для девицы».
С полной точностью он пишет письмо своей жене: «Цель
твоей жизни воспитывать моих детей» и т. д., и т. д.
В биографии Николая Ивановича не было большой
любви, не было большой дружбы, не было и любимого
ученика и была лишь единая страсть — наука.
Позволю себе привести несколько слов из письма
Николая Ивановича: «Что были бы годы жизни,
проведенные мною, если бы в них не было тех сладких мгновений
и часов, которые доставляли мне занятия наукой; они
заставляли меня забывать ничтожную мелочность
предрассудков, с благородной гордостью смотреть на низкие
пошлости света и с внутренним сознанием собственного
достоинства презирать бессмысленные толки черни. Наука
поставила меня выше толпы, наука заставила меня любить
истину, наука послужила к развитию во мне святой идеи
о долге и обязанности до такой степени, что я самое
чувство подчинил этой идее и готов умереть хладнокровно,
когда этого будет требовать долг, возлагаемый на меня
наукой». 3
Единая страсть — наука.
Он обучался грамоте не по букварю, обучался грамоте
по карикатурам, по листкам карикатур времен
Отечественной войны. Учась в университете, с редкой злостью
и беспощадностью изображал всех профессоров. Это —
сборник блистательных шаржей.
Степень раздражительности была такая, что целый ряд
вещей, происходящих с ним, нужно относить не только
к его новаторству, но, безусловно, к какой-то невероятной
колючести характера, какой-то сухости, если хотите,
злобности. Когда он ехал в Севастополь и смотрители не давали
ему лошадей, он бил их палкой, о чем он сам с элементом
пафоса пишет в письме: «Я нашел чудное пособие для
добывания лошадей. Это — трость-швейцарка, которая
лежит у меня...»
Суровое милосердие, а не сентиментальная доброта.
Если говорить применительно к живописи, это не акварель,
а масло; или бронза, если говорить о материале; или,
может быть, скорее всего нечто родственное деревянной
462
О своей работе в кино и театре
скульптуре готики, где соединялись очень причудливо две
крайние противоположности: с одной стороны, предельная
одухотворенность образа, с другой стороны,— какая-то
предельная жестокость всего
физиологически-натурального. Но менее всего к Пирогову подходят слова: «Не от мира
сего». Это отнюдь не одинокая фигура, он всегда с
народом, а может быть, и не он с народом, а он — народ.
У Германа был взят для сценария эпиграф из
Соловьева: «Народы любят ставить памятники своим великим
людям, но дело великого человека есть памятник,
воздвигнутый им своему народу». 4
Жизнь Пирогова памятник народу. Отсюда возникает
жанр — народная драма, то, что Веселовский очень точно
писал о Шекспире: «Сильный характер на фоне громких
событий народно-исторического характера». 5
Какова палитра народной драмы? Пушкин говорит
о трех струнах, которые должны волновать наше
воображение в народной драме,— смех, жалость, ужас. 6 Я буду
пробовать эти три струны и давать их в крайних формах.
Я бы не хотел сделать картину полутонов, полуигры. Все
действие этой картины должно развиваться на фальста-
фовском фоне: кучера, шарлатаны, выжившие из ума
придворные старики, купцы — все это должно возникать
как какие-то памфлеты. Должна быть крайняя степень
характера и экспрессивности в игре актеров. Это один
мир, и другой мир — солдатская легенда о Севастополе,
лихие и печальные песни, какой-то коллективный портрет
народа; горе народа и веселый звон масленицы, какая-то
Фламандия, резкое столкновение страшного со смешным,
нежного с грубым.
Два образа определяют картину и притягивают другие
образы. Это, как ни странно, два экипажа: карета
Иноземцева и дрожки Пирогова. Две жизни! Жизнь на мягких
рессорах и жизнь с одной рессорой — вторая сломана.
Карета Иноземцева эхом, отзвуком превращается в
несколько сот карет петербургских улиц. На мягких рессорах
катиГся этот мир Петербурга. Эта жизнь, если мы будем
брать ее по той эпохе,— интернациональна, потому что
этот мир говорит по-французски, одевается у английского
портного, лето проводит на немецком курорте и
приобщается к красоте в Италии. Это фон и среда жизни Иноземце-
Мысли о картине
463
ва; с ним происходит то же, что произошло с Петером
Шлемелем,7 который продал свою душу черту, после чего
начались с ним разные неприятности. «Портрет» Гоголя,
если хотите.
Иноземцев имеет карьеру, Пирогов — судьбу. Ухабы,
ямы, непреодолимая грязь и жизнь на одной несломанной
рессоре — вот ритм и среда образа Пирогова. Мне
хотелось, чтобы был некий лейтмотив этого образа: закрытая
дверь, за которой возникает свет и в ней фигура Пирогова,
так он появляется в госпиталях, на полях сражений и
прочее.
Пирогов начинает одиночкой. Один человек приезжает
в Петербург, когда там холера. Марш, которым кончается
картина, это движущаяся огромная армия милосердия и во
главе ее генерал этой армии — Пирогов.
Я хотел окончить свои краткие соображения по поводу
эмбрионов образов этой картины кусочком из последней
речи, которую произнес Пастер незадолго до смерти на
юбилее. Мне хотелось, чтобы эти слова незримо
присутствовали над всеми кадрами картины. Это — прекрасные
слова, и я чувствую огромное счастье, что мне придется
работать, чтобы доказать правильность этих слов.
«Я непоколебимо верю, что наука и мир
восторжествуют над невежеством и войной, что народы сойдутся друг
с другом не для разрушения, а для созидания и что
будущее принадлежит тем, кто сделал более для страждущего
человечества». 8
Все это и хотелось бы воплотить в картине о Пирогове.
(О замысле фильма «Белинский»)
1948
Мне бы хотелось, чтобы остался документ о
«Белинском», чтобы через определенные промежутки времени
проследить, как идет процесс мышления от только что
сформировавшейся темы, через первый вариант
сценария, до первого просмотра фильма, т. е. проследить, как
движется процесс мышления и каким законам он
подчинен.
Я стараюсь строить свою педагогику на интонации
человеческого разговора, т. е. не навязывать железных
слов и не считать, что я знаю все, а вы ничего. Не надо
создавать ореол непогрешимости вокруг педагога,
взлезающего на кафедру якобы для того, чтобы его слушали
и ему верили, а надо излагать все так, как в жизни бывает,
ибо замыслы получаются в жизни не по графику.
На первых курсах мы говорили о грубых процессах:
собирания материала, сортировки материала и первой
кристаллизации образа. Тогда мы тоже говорили о
замысле, вернее, о схеме подхода к замыслу.
Этот сложный процесс обуславливается целым рядом
противоречий, и путь его очень извилист.
Проследив все этапы будущей картины, постараемся
проследить закономерности этого извилистого пути, ибо
искусство в творческом процессе всегда идет путем
извилистым, так как художник никогда не бывает наедине с самим
собой, а всегда в беседе с материалом, с жизнью. Художник
должен видеть все по особенному. Это и создает
перекрещивающиеся влияния и сталкивающиеся воздействия.
Я всегда исповедую истину: невежество никогда еще
никому не помогло.
Процесс узнавания начинает формировать и
кристаллизовать образ замысла. Замысел «Белинского» еще не
выкристаллизовался, но скоро его можно будет записать
на бумагу. Запись это не только производственный, но
О замысле фильма «Белинский»
465
и творческий акт, так как художник впервые формулирует
для себя некоторые вещи.
Когда мне предложили взять тему «Белинский»,
я загрустил и стал от нее отбиваться. За нее не хотелось
браться потому, что, как только назвали фамилию
Белинского, возник ряд ассоциаций и образов. В этой эпохе я не
мог считать себя своим человеком, но и нельзя сказать, что
я ни разу не заходил в нее.
Я прочел энное количество книг об этой эпохе и имел
с ней дела вплотную при работе над «Марксом» и «Пирого-
вым». Знал и о Белинском, но общеобразовательно.
И вот от слова «Белинский» мозг автоматически стал
производить ряд образов, и прежде всего в голове
задвигалась лента бесконечных разговоров. Стоят Станкевич,
Герцен и другие исторические персонажи, они говорят
цитаты из своих произведений, и их учит Белинский.
Аскет, проповедник, великий учитель. Чахотка, рано
начавшаяся и сведшая его в могилу в тридцать семь лет,
бедность, нищета, голодуха, штаны с бахромой и ботинки
с драными подметками. Какая-то грусть и тоска, в которой
есть величие, но есть скорее величие преклонения перед
жертвенностью, нежели радость от какой-то сильной и в
конечном итоге радостной человеческой жизни. Ощущение
нестерпимо грустной человеческой истории. Портрет
Белинского с провалившимися щеками и запавшими глазами.
Ощущение риторических проповедей, грустной жизни,
увенчанной чахоткой, чего-то нестерпимо тоскливого.
Но сразу задвигался и другой режиссерский винтик,
винтик ремесленника. Бывают в жизни потрясения,
которые не проходят. Раз ожегшись, всегда боишься огня.
Такое сильное потрясение произвел на меня фильм
«Поэт и царь», где великий Пушкин подошел к конторке,
почесал за ухом, макнул гусиное перо в чернила, чуть
задумался и на экране возникло: «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный»...
Я был воспитан на святости имени Пушкина, и эти его
упражнения вызвали во мне звериную ненависть. Совсем
как в «Сказании о земле Сибирской», где Дружников
делает приличествующие композитору глаза и идет
сочинять мелодии, что логически оканчивается той музыкой,
которую он пишет.
466
О своей работе в кино и театре
Я понимаю необходимость святого подхода к
художнику в момент творчества. Насколько же трудно показать
процесс творчества не автора, а критика, и вообще, как
можно средствами кино, искусства пластического и
динамического, передать образ критика?
С Эдисоном просто. Лампочка сначала не хочет гореть,
потом все-таки загорается — это всем видно. С Пироговым
дело было несколько хуже, но там все-таки была операция,
спасение жизни, само сердце профессии, которое таит
в себе движение. Даже несложная ситуация с приходом
врача к больному включает в себя борьбу за жизнь против
смерти, что несет в себе драматургию.
В чем же драматургия творчества критика?
Кого-то обругал и похвалил, только уже не за
конторкой, а за письменным столом. Показывать рукописи на
экране неинтересно, а читать критику вслух только что
написанные произведения — от этого тоже мало толку.
Я знал неглубоко и личную историю Белинского.
Поздняя женитьба на скучной женщине, типа классной
наставницы из Смольного института. Она тоже не дает
возможности почувствовать искру образа.
Я стал сопротивляться этому предложению. Но тут
я заболел. Недели три пролежал. И от нечего делать решил
повнимательней посмотреть, в чем там дело было. И,
продолжая отказываться от этой темы, я, в порядке
развлечения и для гимнастики мозга, обложился десятками томов
книжек. Когда я стал собирать отдельные впечатления
от эпохи применительно к Белинскому, получилось
следующее ощущение: шахматное поле, на нем фигуры, и эти
фигуры движутся на разных квадратах. Движение каждой/
из фигур необыкновенно интересно и значительно, но
партия не может получиться, ибо плоскости квадратов
различны и пересечения не получается.
Мною овладело некоторое любопытство, когда я
увидел, что это сплошные короли и королевы. Карточная,
колода эпохи состоит из козырных тузов. Каждая из этих
фигур имеет в себе все, чтобы о ней был сделан
потрясающего интереса фильм, ибо в каждой есть величие темы,
сложность и глубина задачи на выявление концепции
и абсолютная действенность судьбы.
Рядом с Белинским выдвинулся длинный нос Николая
О замысле фильма «Белинский»
467
Васильевича Гоголя, в фигуре которого есть сверхинтерес
для любого художника. Это из гениев гений, потрясающего
трагизма судьбы, со странным сочетанием самого
прогрессивного с самым регрессивным, со странными взлетами
и падениями в судьбе и с трагическим мотором внутри всей
истории его.
Я всегда думаю о зрителе, как о самом себе.
Специально для зрителя нельзя ничего делать. Если мне смешно —
должно быть смешно и зрителю. Если мне интересно —
должно быть интересно и зрителю. Я проверяю каждое
впечатление через сейсмограф своих ощущений.
Мне самому стало страшно интересно, что можно
ощущать гениев не в величии и статике признания после
смерти, а в их жизни, быте, в их становлении.
Я попробовал прикинуть, как история Гоголя вяжется
с историей Белинского. До этого я знал кое-что: читал
статью «О повестях Гоголя» и знал о письме Белинского
к Гоголю. Эге, подумал я, тут что-то есть. Что же здесь
есть? Тут есть то зерно, которое драгоценно и из которого
может произрасти злак. Есть сплетение отношений и судеб.
Признание Гоголя великим писателем и любовь к нему.
В первом письме Белинский писал: «Вы это единственно
то, из-за чего мне стоит жить... Вы нравственная основа
моего существования». ' И после этого — знаменитое за-
льцбургское письмо о том, что Гоголь совершил
величайшую гнусность, которую мог позволить себе художник.
Есть две оси отношений: огромная дружба и любовь и не
менее огромная ненависть. Там, где есть столь сложные
построения, огромной амплитуды колебания от белого
к черному, там всегда лежит мотор действия, стержень
столкновения, возможность драматического движения
вещи. Есть два туза и психологическая глубина свыше той
меры, которую можно ожидать.
Третий козырной туз — Лермонтов.
Биография поразительного драматизма. Тоже из гениев
гений. Ранняя смерть, и непонятно, как этот мальчик мог
написать произведения непостижимой силы. И опять он
существует как бы на другом квадрате.
У Белинского абсолютный восторг и принятие
Лермонтова. Но по мемуарам видно, что Лермонтов никогда не
говорил серьезно с Белинским. И вдруг неожиданный
468
О своей работе в кино и театре
разговор в Ордонанс-Хаузе. Этот разговор должен был бы
окончиться дружбой, но Лермонтов уехал и на Кавказе его
убили.
Некрасов, нищий сочинитель, под псевдонимом «H. Н.»
написавший «Мечты и звуки», которые Белинский ругает
последними словами. Тогда Некрасов пишет водевили под
псевдонимом Феоклист Боб, и так, сменяя псевдонимы, он
зарабатывает себе гроши и вдруг обретает свой язык —
появляется Некрасов тех вещей, которые знает мир.
История огромного интереса, но движется тоже на другом
квадрате.
Прасол Кольцов приезжает по торговым делам в
Петербург. Они уже почти друзья с Белинским, но не успевает
дружба окрепнуть, как Кольцов умирает. Тургенев
появляется на своем квадрате, и гремит слава «Записок охотника»
и т. д. Колода козырных тузов, нет не только двоек или
десяток, но даже и валетов. Каждая фигура грандиозного
интереса движется по параллельным квадратам, и в
различные моменты их квадраты пересекаются с квадратом,
где самостоятельно движется фигура Белинского. Эта
шахматная партия получается необычайно интересной, не
может быть, чтобы нельзя было с этими козырями сыграть
игру. Я задал себе детский вопрос,— очень уместно бывает
иногда задавать себе вопросы для второго-третьего класса,
т. к. любая, самая сложная задача имеет внутри себя
основную задачу, которая может быть сформулирована
двумя-тремя фразами. Итак: чем был собственно велик
Белинский?
Когда-то я читал одно интервью, в котором сообщалось,
что режиссер Пудовкин собирается ставить картину о
гениальном русском адмирале Нахимове. Режиссера
Пудовкина спросили: «Что вы хотите показать в картине?»
«Гениального русского адмирала Нахимова»,— ответил
Пудовкин. С моей точки зрения, именно это в картине не
получилось, т. к. генеральная задача никогда не лежит
в лозунге.
То, что Белинский — великий русский революционный
демократ, это правильно, но драматургии здесь нет. Я не
могу сказать, что он был велик тем, что был великий
русский революционный демократ. Тут мысль не работает,
тузы не приводятся в движение.
О замысле фильма «Белинский»
469
И вот мне попались стихи Некрасова о Белинском,
которые не так уж понравились мне как стихи, но там есть
слова:
Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было.
Скончался Пушкин; без него
Любовь к ней в публике остыла...
В боренье пошлых мелочей
Она погрязнув поглупела...
До общества, до жизни ей
Как будто не было и дела...
Не все ль они признать готовы
Его учителем своим?.. 2
Фигуры вдруг задвигались вместе. В чем же его
величие? Ответ, конечно, будет относительным, т. к. вокруг
любой генеральной темы идут разветвления
взаимодействующих тем, но грубая задача должна быть все-таки
ясна.
Один из старых профессоров, к которому я обратился за
справками, взялся исполнить за меня мой непосильный
труд: написать за меня сценарий. Начал он так: «В Чемба-
рах живет мальчик Белинский, около его дома тракт, по
которому идут ссыльные. Это ужасное зрелище запало
с детства в душу маленького Виссариона, будучи в
Московском университете, он пишет антикрепостническую пьесу
«Дмитрий Калинин», за это его изгоняют из университета,
и он влачит жизнь в нищете; кружок бар, как-то:
Станкевич, Герцен и прочие хотят набить его пролетарскую голову
немецкой философией, но он отбросил все барские
учения...»
И тут мне захотелось добавить: и пошел на завод,
и устроил забастовку. Но он не пошел на завод, что
делать?
Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было.
Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели...
470
О своей работе в кино и театре
О! Сколько есть душой свободных
Сынов у родины моей...
Не все ль они признать готовы
Его учителем своим?
Вот и получается тема, ясная и простая: организатор
и учитель русской литературы, и какой литературы,
литературы Гоголя, Тургенева, Некрасова и т. д.
Я к тому времени завел у себя тетрадь, куда выписывал
все для меня интересное, а заодно выстраивал хронологию.
Выписывал наиболее существенные и поворотные для
тузов даты. И в какой-то день составил общую хронологию.
Получилась поразительная картина.
Начало тридцатых годов: все тузы существуют в мире,
даже не как двойки, это гении в пеленках. В Московском
университете учатся Белинский и Герцен, из Московского
университета переходит в офицерское училище Лермонтов,
Гоголь — домашний учитель, Кольцов — по торговым
делам, Некрасов бедствует и т. д. Литература в состоянии
полного застоя, и вдруг, «гром идет по пеклу», появляется
Гоголь. Его встречают сложно. Он не вызывает восторга,
он просто нравится, о нем говорят: «Занятные рассказики...
Автор не лишен таланта». Он возникает как сочинитель
смешных сцен и украинских анекдотов. И вдруг Белинский
пишет статью «О повестях Гоголя»,m которой сразу
открывает поразительный взгляд на Гоголя. Придравшись к
фразе: «Скучно жить на этом свете, господа», Белинский
уничтожает комедийную тему Гоголя. Тема смеха сквозь
невидимые миру слезы придумана не Гоголем, а
Белинским. Гоголю на трагическую основу его вещей указал
Белинский, и Гоголь, будучи гением, из четырех строк все
понял.
Лермонтов. «Герой нашего времени» вызвал скандал.
Как говорили, герой получился безнравственный и
аморальный. Николай во дворце сказал, что с отвращением
читал это произведение. И тут Белинский пишет, что
Печорин герой положительный, так как это человек с большими
внутренними стремлениями, которые не могут найти себе
применения и порождают тоску и уныние. Белинский пишет
О замысле фильма «Белинский»
471
главное: современная литература это литература истины
и правды и ей нужна не восхваляющая ложь, а показ язв
общества, правдивый и точный показ того, чем является
русское общество этого времени. Странно соединяются
в одном аспекте две темы: Гоголь вовсе не комический
писатель, а писатель, показывающий язвы, разъедающие
силы общества. И Лермонтов показывает язвы — не в
кунсткамере гоголевских героев и не в картинах быта, а в
душе героя этого поколения.
Одновременно с этим с неслыханной бранью
накидывается Белинский на самого модного тогда поэта
Бенедиктова. В то время, когда его тираж был в десятки раз больше
тиража Пушкина, Белинский пишет, что имя его забудут
лет через пять, и пророчество сбылось.
Нахальный недоучившийся студент берет в руки плеть
и с наглостью, подобной той, с какой Маяковский выступал
в салоне футуристов, начинает громить знаменитые имена.
В то же время превозносит Гоголя, о котором писали в
доносах в Третье отделение: «Безнравственные сочинения
Гогиля». Это нравится мне чрезвычайно, получается тема,
ради которой можно не щадить живота своего: нельзя
отдавать литературу и искусство в руки разбойников.
Против кого выступают Белинский, Некрасов, Лермонтов?
Официальная литература того времени состояла из людей,
которые в свое время гремели, а теперь забыты
окончательно. Бенедиктова, Кукольника мало кто теперь помнит.
40-е годы это эпоха, когда Россия стала на промышленный
путь развития. XIX век — это век корысти, торговли; все
покупается и продается. Литература приобретает новый
характер. В пушкинские времена старались скрывать, что
получают гонорар за свои произведения. Теперь
начинается журнальная литература, литература как товар.
Выходят журналы «Библиотека для чтения», «Северная пчела»
и т. д., которые торгуют чтивом, печатают любую смесь.
Русскую литературу сдали на концессию иностранной
литературе, гремит Поль де Кок в русском переводе.
Последние представители подлинной литературы говорят, что
искусство окончилось. Вот что пишет Баратынский:
Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
472
О своей работе в кино и театре
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы. 3
Наступил век, о котором писал Гейне: «Я приветствую
новый век, вместе с ним я приветствую и бакалейного
торговца, который будет из моих стихов делать фунтики
для товара». 4
Белинский понимал, что в этом веке формой борьбы за
литературу является журнал, т. е. он борется средствами
нового времени. Возникает то, что сейчас кажется вполне
обычным, но тогда было потрясающим новаторством —
журнал с направлением. Это не альманахи друзей, где
печатают что попало. Подбор материала шел во имя
великой цели. Интересы искусства и политики переплелись.
Я понял, что Белинский никакой не критик, а помесь поэта
и революционера. Поэта по структуре жизни и характера
и первого революционера в близком нам представлении.
Фигуры движутся, появляются лагери. Разбойничий
лагерь циников, желающих торговать литературой:
Булгарин, Сенковский, Греч. Это умные, образованные люди.
Булгарин был другом Грибоедова. Они не открываются
простым ключом. Цинизм, расчет, предпринимательство.
Современный промышленный строй существует в
литературной форме. Булгарин шантажировал купцов постоялого
двора тем, что в свои повести вставлял названия фирм,
ради рекламы. «Северная пчела» борется за монополию
частных объявлений. Попирают Пушкина, сидя за обедом.
Этот процесс в литературе связан с общественным строем,
вытекает из системы этого строя, убившего Пушкина,
Лермонтова, Кольцова. Пусть не буквально убившего, но
условия строя были таковы, что смерть их была неминуема.^
Гоголь выслан за границу. И один человек, плебей безве-'
стный, организует новую литературу, почти как
политическую партию. Цель партии — сказать внятно: так жить
нельзя, когда быт такой, как у Гоголя, когда души такие,
как у Лермонтова, когда у Герцена в «Кто виноват?»
лермонтовский герой в гоголевской среде, когда появляется
О замысле фильма «Белинский»
473
Тургенев с темой крепостного права, Некрасов со своей
лирикой. Так жить нельзя, а как нужно? Начинается
типичное для человека русской истории мучительное
стремление найти истину. Находится она ценой чахотки. У
Белинского есть одна интересная фраза о том, что в журналах
часто задают вопросы: а что такое человек, а что такое
жизнь? И они не понимают, что только для того, чтобы
поставить этот вопрос, на это уходит целая человеческая
жизнь.
Когда тема стала так выстраиваться, получилось
кольцо, которое определяет начало темы и ее конец.
Начало пути Белинского — Россия молчит, нет русской
литературы. В «Литературных мечтаниях» Белинский
пишет, что литература это самосознание народа, а не
собрание отдельных гениев; Россия имеет четырех гениев:
Ломоносова, Державина, Пушкина, Крылова, но русской
литературы нет. А Бенедиктов и иже с ним — последняя дрянь.
Конец — смерть Белинского. Великая русская
литература выходит на дорогу мировой литературы.
Самосознание народа выражается с исключительной силой.
Единственная цель Белинского — объединить разрозненных
гениев и дать им единое направление. На это ушла его жизнь,
и за это ему надо поставить памятник. Доказать эти вещи
силами искусства представляется для меня не только
важным и интересным, но и чем-то необходимым. У меня
в руках материал и тема, которые дадут возможность
защитить драгоценные для меня идеи. Это очень хорошо,
когда это имеешь.
Следующий этап работы начался с того, что я стал
думать, как сделать, чтобы судьбы людей не поглотили
тему; как найти для нее, для этих абстрактных понятий,
пластику. Как сделать то, за что я всегда борюсь,— чтобы
за первым планом появился план второй. Поле боя мне уже
понятно, это литература. Как же заставить понятие
литературы стать пластическим? Тут появился новый герой
в картине — типографский вал. Черт его знает, откуда он
возник, вероятно, от накопления материала и впечатлений,
которые в результате вспыхивают образом.
Косная государственная форма, Николай со всем своим
Третьим отделением, со всеми Бенкендорфами, шпиками,
цензурой и прочим (что он основательно усовершенство-
474
О своей работе в кино и театре
вал) были бессильны перед словом. Можно убить
Пушкина, но немедленно появляется стихотворение Лермонтова
«Смерть поэта», которое было распространено в
десятках тысяч рукописных списков. Не успевают рассыпать
набор какого-либо произведения, как оно начинает жить
в подполье. На письме Белинского к Гоголю выросла
подпольная литература, его узнала вся Россия. Это —
ощущение вечности, непокорности, непобедимости,
борющегося во имя прогрессивных идей человеческого слова, когда
оно является искусством. Во всем процессе литературы нет
мертвых писателей, они не умирают, их нельзя убить.
Писатель живет, и бесконечно будет жить вся эта эпоха в
истории русской национальной культуры. Солдат Лермонтов,
больной Гоголь, недоучившийся студент Белинский — они
побеждают всю николаевскую Россию. Это потрясающе!
Не обладая ни одним видом силы, кроме силы
человеческого слова, эти люди делают то, что перед ними становится
ничтожным гигантское государство. Отсюда ощущение
типографского вала, он — плацдарм боев.
Я заказал материал по типографиям того времени и был
поражен — одна машина печатает Белинского,
Лермонтова, переводы Поль де Кока, журналы мод, как будто
бесстрашный типографский вал делает все что угодно.
И вот из-под него выходят листы и гуляют по свету, и,
в результате того, что в них заключено, происходят сдвиги
в судьбах человечества. Но тут появилось новое
затруднение, с которым, я испугался, будет много возни: письмо
Белинского к Гоголю было написано в Зальцбурге, где
в первый раз Белинский увидел, что такое немецкая
нищета и пауперизм. Как же показать нищету и пауперизм?
И тут пришел ход, в котором, я думаю, заключено зерно
успеха. Надо лепить тему литературы, но как это сделать,
чтобы это было понятно? Чтобы эту вещь вылепить, надо
сделать героя с примитивным сознанием, который и
покажет, что такое литература. Выдумали героя. В каждой
типографии есть ряд акционеров, которые вносят средства
на ее содержание. Один из акционеров вносит крепостных,
их учат на наборщиков, так как пролетариата тогда не
было и крепостные шли на оброк на фабрики. В
типографию попадает крепостной, туповатый парень, который не
понимает, что кругом происходит, как это буквы соедини-
О замысле фильма «Белинский»
475
ются в слова, слова в фразы, из фраз получается страница,
а потом кто-то смеется, кто-то плачет; он не понимает, как
простые буквы типографского набора порождают это, и
воспринимает все, как чертовщину. У него есть приятель-
коробейник, который разносит по России лубочную
литературу: несет ересь и глупость, но, с другой стороны, все же
и букварь. Спрос на литературу растет, и ей бесконечно
доверяют. У коробейника есть оракул, у которого можно
узнать судьбу, сонник, по которому можно разгадать сны,
письмовник, который говорит, как надо писать жалобу
уряднику.
Парень из типографии начинает понимать силу
человеческого слова, выучивается читать.
Каждый наборщик в типографии имеет своего автора,
почерк которого он хорошо знает. Этот парень —
наборщик Белинского. Белинский вовсе его не просвещает.
Парню просто нравится, что Белинский болезненный,
парень начинает его любить, ставит ему самовар. Так как
парень довольно смышленый, он делает небольшую
карьеру в типографии, завороженный странной властью слов.
А типография все растет и растет. К концу картины у
одного немца типография покупает большие машины. Немцу
понравился парень, и он хочет увезти его с собой в
Германию.
Все счастливы. Крепостной будет свободным
человеком, чего же лучше. Он уезжает, но по приезде в Германию
оказывается, что типография немца прогорела. Парня
выталкивают вон, и он попадает в поток нищеты. За
шелуху от картошки он нанимается в угольные шахты, где
Белинский и видит его, запряженного в один ворот вместе
со слепой лошадью. Белинский на немецком материале
понял всю механику капитализма, а на русском материале
всю механику крепостного права. Парень так ничего и не
понял, он понял только силу слов и мощь слова. Сила
литературы, первые бои за нее, первые номера
«Отечественных записок» показываются через путешествие
Белинского со Щепкиным по России через некоторое
количество лет, когда выясняется, что на далекой почтовой
станции ждут номер «Отечественных записок». Также
возмущенное письмо читателя, пришедшее черт знает
откуда, в котором читатель ругается на несвоевременную
476
О своей работе в кино и театре
доставку литературы и говорит, что почтмейстер, наверное,
фитюк. Белинский в восторге: гоголевское слово в далеком
Омске. Слово начинает пробиваться, идет слово по России.
Вот как тема обретает свою пластику. Картина будет
начинаться как-то в этом духе. Об этом надо говорить не только
реалистично, но и как о чем-то грязном. О задавлении
литературы хочется говорить как о мокром деле. Начало
пошло почему-то от некрасовских стихов:
Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин.
Три строчки дали три сцены. Это вам не монтажное
переложение пятистопного ямба.
Грязная, мертвая типография. Печать с николаевским
орлом на двери. Грязный подвал, где все опечатано. Видно,
что произошло это давно, паутина, крысы, грязь. Все
неподвижно. Опечатали типографию за какую-то
крамольную литературу. И вот, в отвратительный, дождливый день
подъезжают к ней дрожки. Люди чертыхаясь и сморкаясь
распечатывают типографию. Приехали ее новые
владельцы с человеком из Третьего отделения. Разговор идет как
будто не о теме, о погоде. Спотыкаются о крыс, грязь на
полу. Через чертыхание, кашель и насморк становится
понятным, что говорят о каком-то болване, который владел
типографией, а теперь сидит где-то в Сибири, так ему
и надо. Дворник выбрасывает на улицу весь хлам и грязь
и вместе с ними пук книг, завернутый в старое объявление.
На объявлении стоит: вдова камер-юнкера Пушкина
сообщает об отпевании тела мужа. И тут же идет разговор
о том, что Поль де Кок содрал бешеные деньги за
последний перевод, а также о необходимом количестве модных
картинок. И смотрят на все это с точки зрения емкости
типографии. Это типография, которая в дальнейшем
заработает, и первым знаком появляется в ней имя Пушкина.
Все это переходит в рев восторга, идет премьера
Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла». Вид дается со
стороны сцены, чтобы дать всю закулисную грязь, с
обозначениями «верха» и «низа» и чертиков на декорации. Чтоб
видно было, что все сделано из картона, что лица
безобразно накрашены. И тем не менее публика в восторге, Куколь-
О замысле фильма «Белинский»
477
ника венчают венцом. А внизу в буфете, рыгая и икая, идет
разговор о литературе. Слышно только: «Гогиль... Поручик
Лермонтов — так ему и надо». Все театральное
представление освящено большим событием: вдова
камер-юнкера Пушкина появляется в первый раз с новым женихом
генералом Ланским. Все это оскверняет память
Пушкина.
И вдруг, мученическое лицо, искаженное лицо
Белинского. Аппарат отъезжает — он на пейзаже осени. В
грязных штанах идет по грязи, с гримасой боли на лице. Рядом
с ним идет светский молодой человек, который
обстоятельно рассказывает ему детали дуэли. Это место называется
Черной речкой.
«Молчите, ради бога, молчите»,— говорит ему
Белинский. Они выходят на дорогу, где греются у костра мужики.
Мимо идет коробейник, несет литературу из Петербурга по
России. Белинский смотрит книжки.
Таково будет его первое появление.
Теперь стал вопрос, как делать персонажи? Тут должна
быть совесть. Нельзя спекулировать на похожем гриме.
Надо найти решение. Либо показывать зрителю истоки
творчества, либо истоки характера, либо элементы
биографии.
Загримированные люди с цитатами в устах это не
характер. К примеру: Белинский со Щепкиным
путешествуют по России, заезжают к приятелю Щепкина,
подъезжают к помещичьей усадьбе. Бегут навстречу дворовые.
Выбегает молодой человек с собаками, как видно с охоты.
Все вместе идут гулять. «Красивый луг»,— говорит
Белинский.— «Да, он называется Бежин луг». Таким образом
Тургенев возникает в своем пейзаже.
Или Некрасов. Мы будем держать его без фамилии
четыре части картины, он все время будет менять
псевдонимы, и будет показываться отношение Белинского к его
стишкам, водевилям; и когда в первый раз он прочтет свою
«Тройку», Белинский потребует шампанского и скажет:
«Сегодня у нас великий праздник, умер Н. Н., умер Фе-
оклист Боб, родился Некрасов!»
Гоголю мы хотим дать его собственный текст.
Театральный разъезд после премьеры «Ревизора», проходящие
мимо люди говорят гоголевскими текстами.
478
О своей работе в кино и театре
Это все наметки и гипотезы. Надо найти прием показа
каждого из них. Кольцов должен быть Кольцовым, а не
человеком с похожей на него прической.
Драматургический мотор всего фильма — это
эстафета; смена персонажей при единстве цели; падают бойцы —
наступление продолжается. Драматургическое развитие —
поиски истины, сначала внутри литературы, потом по всей
России,
Ну, я думаю, что на этом мы можем кончить наш
первый разговор о «Белинском».
(Режиссерская экспозиция
фильма «Дон Кихот»)
1956
Я прошу прощения — я как оратор сегодня не в форме,
у нас подряд идут съемки.
Я попробую собрать мысли, которые были у меня перед
постановкой, и рассказать их вам.
Всякая постановка есть процесс утраты иллюзий. Я
скажу об иллюзиях, с которыми я начинал эту постановку.
Меня часто спрашивают: «Вы ставите «Дон Кихота» на
широком экране?» Я отвечаю: «Я очень хочу поставить его
на глубоком экране».
Что я под этим понимаю? Наш экран — плоский. Его
плоскость не только плоскость проекции, но плоскость
мышления, изображенного на экране. Это ощущение
плоскости усиливалось за последние годы, и даже люди,
для которых искусство не является предметом жизни,
ощущали ее, видя наши картины с их однозначными
мыслями, отсутствием подтекста, текстом-лозунгом,
моральными назиданиями, набранными курсивом.
Я взялся за постановку «Дон Кихота», потому что это
современное произведение, а все последнее время я
работаю только на современной тематике — над трагедиями
Шекспира. Ничего современнее нет, хотя герои их и не
одеты в косоворотки и пиджаки, потому что, может быть,
никогда еще мысли Шекспира не были так современны, как
теперь. И точно так же совершенно современно, жизненно
и важно искусство Сервантеса.
Задаешь себе вопрос: в чем величие классики? Почему
зрители до сих пор заполняют зал на представлениях
трагедий Шекспира и слушают его слова с
необыкновенным волнением? Мы можем ответить: «Это правдивое
изображение своего времени». Но скольких зрителей
интересует правдивое изображение елизаветинской
Англии? Вряд ли даже десять человек. Может быть,
интересуют образцы совершенного мастерства? Нет. Это абст-
480
О своей работе в кино и театре
рактное понятие. Совершенное мастерство в
изображении чего?
Попробуйте одной фразой ответить: а почему
классика — классика? И тогда найдете очень простой и понятный
ответ: потому что классическое произведение является
всегда современным произведением, потому что это
произведение обладает чудодейственной силой соединения с
каждой последующей эпохой и образования нового
содержания в стыке с этой эпохой.
Ничто не доставляет мне такого веселья, как когда
какой-нибудь штатный критик газеты «Вечерний
Ленинград», имеющий образование ниже уровня
церковноприходской школы, начинает критиковать мысли Гёте о
«Гамлете» ' и прорабатывать Гёте за то, что он считал датского
принца слабым, в то время как нам очевидно, что Гамлет —
сильный характер.
Все величие гётевского Гамлета заключалось в том, что
после Великой французской революции для
раздробленной, феодальной Германии XIX века появление именно
такого Гамлета было современно. Это был гётевский
Гамлет, но и шекспировский, потому что Шекспир соединился
с последующей эпохой. А например, произведение Сурова
устарело, ушло во тьму веков еще до того, как какой-то
нанятый писака дописал конец пьесы.
Эта чудодейственная способность соединения с
последующей эпохой, где нет ровно никакого понятия
«правильного» или «неправильного», а есть понятие, связанное
с историческим процессом,— наиболее для нас интересная
вещь в классике.
Поэтому содержание классического произведения
необыкновенно просто. Классическое произведение проникает
в тот центр человеческой души, который труднее всего
меняется. Этот душевный склад, эта душевная
организация человека, для каждой эпохи вновь и вновь интересна
и своевременна.
В чем же основной конфликт всех великих классических
произведений? Прежде всего — в поисках справедливости.
Если очень грубо, топорно разделить все человеческие
идеалы, чувства, мысли, то топор прошел бы по такой
линии: жить для себя или для всех. Здесь конец всякой
мимикрии. Негодяй нашей эпохи — это тот же старинный
Режиссерская экспозиция фильма «Дон Кихот»
481
негодяй. Ему наплевать, справедливо или несправедливо
то, что происходит в жизни. Он хочет, чтобы шкуру его
хорошо содержали, хочет вкусно жрать и получать
большую зарплату. Это старинный негодяй, которого можно
проследить на бесконечном пути человечества,— у него нет
стремлений к уничтожению эксплуатации немногими
многих. А это стремление — путь к социальной
справедливости.
Но трудность заключается в том, что великие герои
типа Гамлета, типа Дон Кихота попали на тот рубеж эпохи,
когда поиски справедливости были очень сложны. И тем не
менее именно эта эпоха живет в гораздо большей степени в
последующих эпохах, нежели эпоха молодости мира.
В предисловии к «Критике политической экономии»
Маркс написал о том, что очень легко определить причины
возникновения античного искусства. Это причины
экономические, политические, классовые. Но гораздо труднее
определить, почему античное искусство до сих пор нравится...
Оно нравится потому, что античное искусство было
молодостью мира. И каждый человек хочет вновь пережить
свою светлую, ясную, чистую молодость и потому
наслаждается ясностью и гармонией античного искусства.2
Ренессансные герои, очевидно,— не герои молодости
общества, но зрелости, когда человек утрачивает наивные
мечты и иллюзии юности и хочет узнать истинный смысл
жизни, хочет знать, что правда и что неправда. Из-за этого
умирает Гамлет, из-за этого умирает Дон Кихот, из-за
этого продал душу черту Фауст. Но когда мы говорим
о жизненной сути каждого из этих героев, то мы
обнаруживаем, что эти герои продолжают нас интересовать по-
прежнему, хотя общественные условия, в которых они
существовали, давно уже сменились. Однако герои,
которых мы называем вечными, описаны с необыкновенной
точностью и подробностью именно в своей эпохе, в
окружающей их среде и времени.
Шекспир написал в одном из своих сонетов:
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле. 3
Эта земля тщательно описана в любом из произведений
эпохи Возрождения. Давайте присмотримся к этой земле,
482
О своей работе в кино и театре
к этой среде, и тогда мы поймем, в чем секрет героев и как
надлежит поступать, чтобы этих героев выразить в нашем
искусстве.
У нас часто, вспоминая Возрождение, приводят слова
Энгельса об эпохе, которая нуждалась в титанах. Но вся
трагедия и Шекспира и Сервантеса была в том, что они
жили в эпоху, которая уже перестала нуждаться в титанах.
Король Лир и Дон Кихот попали не в свою эпоху.
Титаны Возрождения, оказавшиеся на сломе эпох,
когда феодальные отношения рухнули, а
капиталистические еще не сложились, стали свидетелями жизни, в
которой люди, едва освободившись от одних форм рабства,
попали в другие, еще более жесткие и бездушные.
И с ужасающей силой рухнули иллюзии.
Эти прекрасные иллюзии возникли с началом новой
эпохи, когда географические открытия, книгопечатание,
компас и порох изменили мир, когда вместо средневековой
ограниченности схоластических учений человек увидел
горизонты мира и начал понимать, что счастье человека
здесь — на земле, которая вовсе не греховна, а прекрасна.
И лучшие люди наивно считали, что вопрос решен.
Каждый титан Возрождения представлял изменение
жизни как что-то очень простое: найдется просвещенный
монарх, гуманисты расскажут ему о величии античного
искусства, о неограниченных возможностях человека,
освобожденного от церкви, и все будет прекрасно. Для
гармонического общества будет звучать, как писал
Шекспир, «музыка небесных сфер». Но скоро оказалось, что
человек не освобождался при помощи даже самых
благородных мечтаний и прекрасных мыслей. Люди услышали
постановление церковных соборов, увидели костры
инквизиции. При Шекспире пуритане закрывали театры с такой
же ненавистью, с какой это делали отцы церкви. Народ из
одних колодок попал в другие.
Человек увидел, что больше иллюзиям верить нельзя.
И герой позднего Возрождения переживает крах иллюзий,
но священный погребальный колокол, «который звонит
и по мне», остался. И в этом трагедия.
Каждый из титанов Ренессанса испытал это прежде
всего на своей шкуре. И полностью испытал это Сервантес.
Этот сухорукий солдат, покалеченный в бою, который
Режиссерская экспозиция фильма «Дон Кихот»
483
писал бесконечное количество прошений о пенсии, в
ожидании ответа брался за любые дела, чтобы прокормить
сестру, хорошо знал, что такое иллюзии и что такое жизнь.
Переходя к «Дон Кихоту», прежде всего представим
себе реальную Ламанчу конца XVI века, представим себе
всю эту историю так, как если бы мы были ее очевидцами.
И тогда вдруг увидим, что мы этот мир знаем; перед нами
встает не Испания, сверкающая пестрыми красками,
красотою черноглазых красавиц, звуками сегидилий и
исступлением боя быков, а обыкновенный неяркий мир,
реальность которого мы знаем, как знаем Гоголя. Мы
увидим лужу на краю света, знаменитую миргородскую
лужу. И неожиданно обнаруживаем стык — Сервантес и
Гоголь.
Что такое Ламанча? Это — бессмысленное захолустье.
Здесь тощие виноградники, с которых собирается
ничтожный урожай, здесь нет пастбищ и не может быть
скотоводства. Это место, сожженное солнцем, где живут ленивые
люди, не желающие изменить свое положение,
удовлетворенные тем, что, может быть, не умрут завтра с голода. Это
вшивая, грязная, в тряпье, в зевоте от нудности
существования Ламанча, где цирюльник ходит к священнику
развлечься, а священник ходит к цирюльнику; где есть
помещик, у которого «очень много амбиции и никакой
амуниции», живущий в покосившемся, полуразвалившемся
доме и экономка которого говорит: «По субботам мы
позволяем себе яичницу с салом», у которого есть одни
приличные штаны для выхода, а другие — малоприличные —
для дома.
Здесь нет красок — все выгорело от солнца. Идальго —
Дон Кихот вместе с цирюльником и священником влачит
бессмысленную жизнь. Эту неподвижную, вечную
обывательщину обязательно нужно показать на экране. И когда
на экране мы увидим цирюльника, священника и идальго,
мы узнаем героев Гоголя. Они все родственны.
Здесь безделье не от зажиточности, здесь безделье от
лени, жары и безнадежности. Здесь нет злодеев и негодяев.
Они все добряки, но Дон Кихота их доброта доводит до
смерти. Это мирные люди, но они не видят дальше своего
носа, а нос такой короткий! Если несколько столетий
пожить по такой системе, люди опустятся на четыре ноги,
484
О своей работе в кино и театре
потому что так удобнее ходить. И пропадет все, что сделал
человеческий прогресс.
В этом мутном Миргороде XVI века живет тощий
идальго — не карикатура, не чудище, но обыденный
деревенский чудак, который начитался рыцарских романов.
И не то важно, что он решил стать рыцарем (э~о десятое
дело), а важно то, что у него появилась идея cnf аведливо-
сти. Он решил, что так жить нельзя и «если звонит
похоронный колокол, то он звонит и по мне». Он взял копье,
щит, на котором изображено пламенное сердце, и поехал
на поиски, но не только на поиски рыцарских подвигов, а на
поиски утерянной справедливости.
Дон Кихот не безумец; он добр и он справедлив. Здесь
исходная точка зрения на эту фигуру. Здесь лежит решение
фильма.
Если удастся сделать не сумасшедшего Дон Кихота, не
карикатурного безумца, но деревенского чудака
необыкновенной доброты и наивности души, я думаю, что мы
передадим то основное, сервантесовское, что наиболее важно
в этой фигуре.
И вот из этого захолустья, из этой мутной миргородской
лужи Дон Кихот отправляется в мир за восстановлением
справедливости. И тут все меняется. Герой входит в новое
время.
Что же случилось? Произошла смена общественных
взглядов, произошла смена эпох. Трещина пошла по всему,
Испания сдвинулась. Огромные дороги, по которым
движутся люди, охваченные духом авантюры,
бродяжничества. Постоялые дворы, где купцы и оборванцы, монахи
и проститутки, где все перемешалось, потому что ветер
времени двинул всех в путь. Ушло старое, но еще не
установилось новое; нужно было идти. Этот дух движения так
изумительно выражен в плутовском романе, где героем
стал пикарро, плут, которому наплевать на все.
Если первый образ «Дон Кихота» — обывательская
лужа, то второй — постоялый двор.
Искать справедливости там так же бессмысленно, как
в ламанчской луже. Только издеваются там грубее. Если
над идеалами Дон Кихота, над идеей справедливости
в Ламанче и смеются, то к нему самому относятся
сочувственно, жалеют его, хотят лечить, хотят уложить в по-
Режиссерская экспозиция фильма «Дон Кихот»
485
стель, дать молока. Тут же издеваются злобно. Этим людям
смешна идея общественной справедливости в эпоху, когда
начинается волчий закон, когда звук костяшек купеческих
счетов разносится по всему миру, когда речь идет не о
справедливости, а о том, как идет мануфактура на
антверпенской бирже.
Третий образ — Дон Кихот при герцогском дворе. Мы
попадаем в мертвый мир католицизма, где издеваются
вежливо, тонко, с улыбкой. Всем очень скучно. Идеи Дон
Кихота здесь воспринимаются как идеи шута, который
говорит, что любовь может быть только к одной
женщине,— и это смешно; что люди могут жить справедливо,
а несправедливость должна быть разрушена,— и это еще
более смешно.
Крах иллюзий гуманизма проходит через новые
опосредствования. Эти иллюзии развеиваются как дым, и герой
возвращается в свою лужу, где ему остается только
умереть, сказав перед смертью: «Ну, хорошо, не вспоминайте
Дон Кихота, а вспоминайте Алонсо Доброго».
В чем движение произведения, в чем его развитие?
Его развитие в том, что сумасшедший становится
мудрецом. Эта тема общая для Возрождения. Ее исходная
точка понятна: если мир безумен, то, может быть,
единственный мудрец — безумец или дурак.
«Ты горький шут» — говорит король Лир шуту, потому
что шут был единственным человеком, который понимал,
что Лир идет к гибели.
А Гамлет? Наивные люди представляют, что Гамлет
прикидывается сумасшедшим. Они забывают о ряде мест,
где Гамлет говорит мудрые мысли именно в форме
сумасшествия.
Когда Лир хочет понять, в чем смысл жизни, он говорит
страшную фразу: «Вот наш век — слепых ведут
безумцы». 4
Разве разумные люди издеваются над Дон Кихотом?
Сервантес в спокойном тоне пишет о всех издевательствах
над Дон Кихотом. Он кончает так: и герцог, и герцогиня,
и придворные с таким увлечением предавались этим
шуткам, что становилось непонятным, кто же более безумен:
они, развлекающиеся этими шутками, или сам безумец?
Поэтому безумие Дон Кихота не такое простое.
486
О своей работе в кино и театре
Перехожу к другой части нашего замысла.
Мне кажется, что в картине не один герой, что картина
не состоит в противопоставлении Дон Кихота
окружающему миру. И я не согласен со всеми знаменитыми
трактовками, противопоставляющими Дон Кихота Санчо Панса, при
котором Дон Кихот является мечтателем, а Санчо мужик
с толстым брюхом.
В романе Сервантеса один герой в трех образах: Дон
Кихот, Санчо Панса и Дульцинея. В этом мне
представляются три черты испанского народа (и всякого народа), три
прекрасные черты: народ возвышенный, мечтательный,
практичный. И какая-то общая мечта народа воплощена
в этих трех образах. Как бы карикатурны они ни были, это
мечта народа, доброта народа и это прелесть народа, это
возвышенные, прекрасные черты народного склада.
Дон Кихот добр, мечтателен. Так же мечтателен и
Санчо Панса, ибо что заставляет его, мужика, таскаться по
дорогам, где он получает только одни колотушки?
Если нет прелести и чистоты в Дульцинее Тобосской, то
это есть в мечтах Дон Кихота. И мы постараемся
изобразить мечты Дон Кихота о Дульцинее Тобосской, крестьянке
из Тобоссо. Здесь мечта народа, прелесть народа оживает
на экране в своем единстве.
В каком жанре должна ставиться эта вещь?
Все, что я сказал, я постараюсь забыть к началу
постановки. Забыть не потому, что я это передумал, или
потому, что мне это кажется неверным. Забыть потому, что
это мои исходные позиции, а сделать я хочу комедию. Хочу
сделать народную комическую эпопею, историю человека,
расстающегося с иллюзиями, прекрасного человека,
который при помощи сломанного копья и тощей клячи не мог
ничего добиться. Но мы с ним всей душой, потому что он
добр. А смеемся мы над его попытками восстановить
социальную справедливость при помощи средств, которыми он
располагает.
Мне кажется, что в наших исследовательских работах
о Возрождении опираться только на слой ученых,
античность — значит недооценивать народные слои
Возрождения.
Я убежден, что Дон Кихот — это народный герой,
связанный с фольклором, с комической эпопеей. И мечта
Режиссерская экспозиция фильма «Дон Кихот»
487
нашего коллектива — создать комедию, иногда очень
веселую, иногда печальную, иногда очень печальную
комическую эпопею о добром человеке, который хотел
восстановить на земле справедливость совершенно нелепыми
средствами в тот век, когда эта справедливость могла явиться
только предметом для шуток.
Что происходит с широким экраном, или, как сказал
Москвин, двухспальным вариантом? У меня впечатление
такое: все-таки какая-то прелесть в нем есть. Прелесть
в том, что нет террора актеров, которые все время выходят
из кадра.
У нас пока получается так: чем меньше монтажа, тем
лучше. Но весьма возможно, что я ошибаюсь.
Мое впечатление: когда камера стоит — широкий экран
это зеркало сцены. По опыту театра знаем, что
пользоваться целиком этим зеркалом не приходится — его суживают.
Мы сейчас пробуем снимать с непрерывно, но не грубо
меняющейся рамкой изображения.
Мне кажется, что выигрыш от широкого экрана
появится тогда, когда будет тема одиночки. Если мы сумеем
изобразить выжженную солнцем Испанию и тени, нам этот
размер поможет. Он поможет, когда происходит диалог на
осле и лошади.
Что касается стереозвука, я хорошо понял: на лбу
у актера вместо тени одного микрофона — тень от трех
микрофонов.
Теперь о Зулоаге.5 Зулоагу я знаю хорошо, но я мечтаю
сделать не под Зулоагу, не под Гойю, не под голландскую
живопись, а вообще нейтрализовать живописную часть.
В костюмах мы пробуем нейтрализовать цвет. Все не
ярко, в тоне черноватых оттенков, чтобы не было под
живопись.
О разнице эпизодов. Герцогский двор — весь черный.
Нет цветных костюмов. Все — черно-зеленое,
черно-коричневое, черно-красное; в основном — черный цвет.
Постоялый двор будет пестрее. Ламанча — рыжая.
Все в пределах неяркого цвета. Но тем не менее они
другие.
Какими приемами мы думаем делать видения Дон
Кихота? Только в одном месте — превращение бурдюков
в лица. Возимся бесконечно. Хочется многое, получается
488
О своей работе в кино и театре
мало. Нам хочется превратить людей, которые издеваются
над Дон Кихотом, в химер, а не делать сказочные
чудовища. Здесь немножко преувеличенный реальный мир,
который видит Дон Кихот. Но это реальный мир, попавший
в зрение воспаленных глаз.
Нам хотелось бы, чтобы мельницы возникали в тумане
неясными очертаниями, чтобы его видения не были бы
целиком бессмысленны.
(Режиссерская экспозиция
фильма «Гамлет»)
1962
Я не буду делать научного доклада; я расскажу об
основной задаче, которая ставится при постановке этого
сценария.
Кроме всех общеизвестных качеств классических
произведений — образцов художественной гармонии
глубокого содержания и формы,— имеется еще одно самое
важное качество — эти произведения, во всяком случае
главные из них, живут вместе с человечеством. И в каждую
новую эпоху каждое новое поколение находит в этих
произведениях живой, жизненный, современный интерес. Вот
отсюда и возникла идея ставить «Гамлета».
Шекспир — писатель, который в каждую эпоху
участвует в жизненных боях. И поэтому бессмысленно
сейчас нам обсуждать, было ли правильным понимание
«Гамлета» Гёте или Мочаловым. В свое время при помощи
«Гамлета» Мочалов, Белинский и Герцен выражали
мятежные идеи своего века. Всегда это произведение было на
переднем краю борьбы. Но здесь необходима одна
оговорка — под современными интересами я меньше всего
подразумеваю попытки использовать классическое
произведение для злободневных ассоциаций. Под современными
интересами я понимаю те большие темы, которыми живет
каждая эпоха. В каждую эпоху идет борьба идей,
защищающих человека, с человеконенавистническими идеями. Но
мне кажется, что ни в одну эпоху активность и
убежденность этих двух идеологий — защиты человека и унижения
человека, в особенности после войны и после того, что мы
пережили, не приобретали такого значения и не вставали
с такой ясностью.
Если не усложнять тему «Гамлета», а усложнять ее
можно было бы бесконечно, потому что об этом прозведе-
нии написана целая библиотека, то основным является
именно это положение: человек говорит «нет» всем видам
490
О своей работе в кино и театре
неправды, хотя он и не знает способов борьбы с этой
неправдой. Но обнажение лжи во всех общественных
отношениях, обнажение неправды общественного строя, неправды
человеческих отношений — это уже борьба.
Вот так я и понимаю эту вещь.
История мне представляется очень простой. Молодой
человек, воспитанный на благороднейших идеях
гуманизма, верящий в величие человека, верящий в высокое
назначение человека, в его беспредельные возможности,
попадает в реальный мир, где все эти идеи втоптаны в
грязь, поруганы — государство построено на том, что на
троне убийца, человеческие отношения построены на том,
что женщина забывает мужа через месяц после его смерти,
карьеру в этой жизни можно сделать только путем убийств
и доносов. Он открывает этот мир и себя в этом мире. Идеи
прекрасны, а применить их он не может, в этом его
трагедия. Но он отрицает со всей силой человеческой мысли, со
всей силой человеческой стойкости все те жизненные
отношения, которые предстают перед ним. В этом факте и
заключается, с моей точки зрения, действенная сила
трагедии.
Настоящее искусство делает читателя или зрителя
своим соавтором. И в «Гамлете» как великом произведении
искусства есть всегда еще одно действующее лицо, это
действующее лицо — люди, которые сидят в зале, их этот
виттенбергский студент вовлекает в свою жизнь и
заставляет ожить их совесть. И в этом я представляю воздействие
будущей картины: пробуждение добрых чувств в людях,
пробуждение совести, душевного благородства, правды
и необходимости оценки всего этого каждым человеком,
если он хочет быть человеком.
Не являются ли эти идеи отвлеченными?
Недавно в Ворошиловграде нашли дневники Ули
Громовой. В дневнике были и фразы из «Гамлета». Какие же?
Те, которые уже вошли в поговорки на всех языках? Они
есть, но записана и такая: «Я должен быть жесток, чтоб
добрым быть». 1
Если вдуматься в запись этой девочки — ей было тогда
лет семнадцать — и вспомнить судьбу Ули Громовой, то вы
увидите, что семена искусства Шекспира упали на
хорошую почву и дали хороший урожай.
Режиссерская экспозиция фильма «Гамлет»
491
Быть жестоким, чтоб добрым быть — эта мысль
проходит через всю историю войны с фашизмом.
Если мы можем сказать, что человек не флейта, на
которой играет каждый любитель, что человек прекрасен
и благороден, но на его пути стоит бесчеловечность, с
которой он должен бороться, и должен бороться самым
жестоким образом, то мы попадаем в сферу современных мыслей,
в которой слова человечество, человечность, совесть,
правда уверенно заняли свое место. Выяснилось, что если люди
не хотят считаться с этими понятиями, завоеванными
трагедией поколений, если поставить под сомнение такие
понятия, как совесть, правда, то они получают Освенцим
и Бухенвальд.
Некоторые товарищи, поддерживая постановку
«Гамлета», исходили из тех соображений, что, может быть, и эта
картина, как «Дон Кихот», пойдет на экспорт и даст
валюту,— я не вникаю в это дело. Эта тема нужна нам, нашему
народу, нашей молодежи. Продадут ли эту картину за
границу или не продадут — меня не интересует.
Те постановки «Гамлета» за рубежом, которые я знаю,
с моей точки зрения, часто сильны художественно, в них
играют прекрасные актеры, но все то, о чем я говорил, они
не показывают. В великолепном в своем роде фильме
«Гамлет» Лоуренса Оливье я вижу трагедию сына, матери и ее
любовника, остальное его не интересует. Он купирует
монолог о флейте, линию Розенкранца и Гильденстерна.
Меньше всего я хочу упрекать за это Лоуренса Оливье —
он живет в другом мире.
Может возникнуть вопрос — почему же надо ставить
«Гамлета» в кинематографе, может быть, его стоит ставить
только в театре?
Как это ни странно, но театральная постановка
«Гамлета» очень сложна, потому что Шекспир писал для театра
своей эпохи, этот театр не имел декораций. Жизненная
среда «Гамлета» существует в самой поэзии. Это и холод
ночи, и появление призраков — все это есть в поэзии и не
нуждается в декорациях. Однако поэзия Шекспира во
многом декламационно-риторична, и сегодня это
затрудняет доступ к человеческим сердцам, к народным сердцам.
Если брать Шекспира в подлиннике, то исключительно
сложная речь героев не проходит сквозь толщу представле-
492
О своей работе в кино и театре
ний, уже существующих у советского зрителя, который
привык к жизненной среде на сцене, привык к
нериторической игре.
Шекспир сложен и в кинематографе, где умозрительное
можно сделать зрительным, однако возникает особая
трудность,· возникает купированный стиль.
Я видел много русских и иностранных Джульетт, но
лучшей Джульетты, чем Уланова, я не видел. Она не
говорила ни одного слова, но все умозрительное в поэзии
Шекспира, что не получалось, когда выходила та или иная
актриса на сцену и читала стихи, вдруг получилось в этом
соединении музыки Прокофьева и образа, созданного
Улановой.
И мне кажется, что если на экране будет не картонное,
а настоящее государство, если эта история будет вписана
в жестокую враждебную северную природу с морем и
скалами, где человеку трудно жить, если Гамлет из огромного
мира, где пашут землю и рожают, как всегда пахали и
рожали, попадет в проклятое пространство, огороженное
стенами, то, может быть, все то, что есть в глубине
шекспировской мысли, в поэтическом ощущении,— все то, что
скрыто в театре, оживет и, что особенно для меня важно,—
станет народным. Я считаю, что нельзя делать ставку на
знатоков, наша цель — сделать фильм интересным по
фабуле, волнующим, эмоциональным для каждого зрителя,
чтобы этот фильм могли смотреть в каждом далеком
колхозе. Философия должна выражаться в образах Шекспира,
в человеческих характерах, в остром ощущении
действительности.
Не позволяя себе придумывать за Шекспира, не делая
современными диалоги, мы дополняем текст музыкой,—
музыку пишет Шостакович, и, конечно, он сделает это
изумительно,— и пластическими образами. Надо найти ту
форму поэтического реализма, который бы нигде не
превращался в натурализм исторических костюмов. Надо
заставить зрителя смотреть эту картину и эту историю как
историю жизненную.
При купировании текста, безусловно, будут большие
потери в стихах. Это меня волнует, и по этому поводу были
самые разные мысли. Чтобы было меньше купирования,
стих перевести в прозу, найти прозаическую форму, с тем
Режиссерская экспозиция фильма сГамлет» 493
чтобы сохранить стих, когда он идет потоком, когда идет
волна стиха. Многое здесь меня еще не удовлетворяет —
над этим придется еще думать.
Поэтому я прошу быть строгим в критике и иметь
в виду, что задача, которую мы ставим, ничего общего не
имеет с каким-то теоретическим шекспироведением. Все то,
что мы знаем о Шекспире, очевидно, поможет, но наша
цель показать на экране жизнь в ее движении, в ее
противоречиях, которые существуют сегодня — не в своих
внешних формах, но в их сути — и над разрешением которых
работает и наше время.
О людях, делавших «Гамлет»
1964
Мы все — люди, которые собирались делать этот
фильм,— не имели в виду чему-то учить Шекспира,
наоборот, мы хотели, чтобы Шекспир научил нас. Мы выяснили,
что он все знает, все понимает, что он в курсе нашей жизни,
в курсе нашего дела, что он в курсе нашего киноискусства,
в курсе того, что такое современная форма в искусстве
и т. д. и т. д. Нужно только внимательно его прочитать,
и все встанет на свое место. Мне трудно понять, почему,
например, актеры, играющие Клавдия в театре, редко
читают шекспировские слова об его улыбке (она сводит
с ума Гамлета). Почему актрисы, с таким старанием
игравшие клиническую картину сумасшествия Офелии,
просмотрели строчки: «Безумию она придала очарование».
Слушать — не то же, что услышать! Пресловутый полный
текст Шекспира, который играется хорошо (в особенности
в Англии), это поток стиха в быстром темпе, который дает
возможность услышать монолог о флейте, а то, что это
монолог о человеке, о том, что придворный — губка, из
которой король выжимает соки, услышать не удается.
И тут мы взяли толстовское правило — заострить,
чтобы проникла шекспировская мысль.1
Само собой разумеется, что «Гамлет» для нас не
трагедия промедления, гамлетизма, не трагедия
рефлексии. «Гамлет» — это трагедия совести.
Мы обратились к Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу,
у которого уже была музыка к спектаклю в Пушкинском
театре, и мы считали, что он лишь оркеструет ее по-новому
и кое-что допишет. Однако, посмотрев нашу работу, он
заявил: «Ни одной ноты из этой музыки я не возьму!..» И он
все сочинил заново, здесь нет ни одной ноты из его прошлой
музыки.
Работать мы с ним начали так. Мы условились, что
никакой мистической темы духа, темы Призрака у Шекспи-
О людях, делавших «Гамлет»
495
ра нет, а есть тема разбуженной совести. И месть Гамлета
не в том, что он убивает энное количество человек и,
наконец, убивает короля, а в том, что он заставляет ожить
совесть у этих людей. Шекспир поразительно написал эти
роли. У каждого из них — у Клавдия, у Гертруды — где-то
еще теплится совесть. Животную страсть, которой
охвачена Гертруда, неистовое властолюбие, которым поглощено
все существо Клавдия,— все это настигает удар Гамлета.
И тогда тема духа — основная — возникает в музыке, она
бьет, как молния. Тут тема вовсе не старинной мелодрамы
с наемными убийцами и отравлениями и не то, что
считалось молитвой, а то, что на самом деле написано
Шекспиром как разговор с совестью. Если бы Гамлет был убит
всеми ядами и кинжалами, все равно не вернуть счастья
Гертруде, не вернуть покоя Клавдию, все равно это все
разрушено. Вот почему «Гамлет» меньше всего трагедия
бездеятельности, трагедия рефлексии.
Шекспир писал свою пьесу для народного театра,
который вмещал две с половиной тысячи человек.
Половина зрителей — лондонская босячня — стояла внизу, и
монологи Гамлета обращались к ним. Это никак не были
размышления человека наедине с собой, если хотите — это
были агитационные речи! Две с половиной тысячи человек
под открытым небом слушали слова Гамлета не о том —
быть или не быть, нет такой постановки вопроса, а вопрос
в том, достойно ли человеку мириться с мерзостью, с
бесчеловечием карьеристов Гильденстерна и Розенкранца, с
государственным правом Клавдия, с воспитанием детей по
системе Полония, с тем, среди чего он живет. Трагедия
Гамлета это вовсе не трагедия одинокого мыслителя, это
трагедия человека, который не желает примириться с
окружающей подлостью.
Шекспир для нас — в героическом масштабе личности,
пусть одиночки, пусть не обладающей никакой силой,
оружием, но говорящей «нет!». Идея Шекспира —
противление злу.
Я был восхищен постановкой «Короля Лира» Питера
Брука с Полом Скофилдом в роли Лира и считаю, что это
самый поразительный из шекспировских спектаклей,
которые я видел, по совершенству формы, талантливости,
вкусу. Но я абсолютно не принимаю философии этого
496
О своей работе в кино и театре
спектакля, потому что король Лир это бунтарь, это
мятежник, который тоже говорит: «Не согласен!» Пусть никто
его не слышит, он уходит в поле и говорит молнии и буре:
«Пусть мир разлетится на куски, но таким я его не
принимаю!» Это шекспировская трагедия, которую нужно было
так показать, а иначе не стоит этим всем заниматься.
Для того, чтобы показать то, что есть у Шекспира, а не
то, что можно придумать, нужно было пройти через
гигантские трудности и пропасти, которые подкарауливали нас на
каждом шагу.
И мне хочется хоть немного рассказать о людях,
которые делали фильм.
Много лет тому назад я начал заниматься
режиссерской работой, и если бы сегодня я ответил себе совершенно
честно, чему же я научился за это время, то сказал бы:
научился доверять людям, с которыми работаешь.
В титрах вы читаете: художник Сулико Багратионович
Вирсаладзе — костюмы. Но только назвать, кто это
сделал, значит ничего не сказать. Нас подстерегало страшное.
Ведь «Гамлет» это так называемый костюмный фильм,
историческая картина. Нужно создать эпоху, одеть
действующих лиц в костюмы, верные этой эпохе, одновременно
нужно было показать историю Гамлета совершенно точно
в его времени и победить это время. Вирсаладзе сделал
это. Он взял контур — силуэт XVI века, приблизил к
современному платью женщин, к современной одежде
мужчин, и, в результате, вы забываете об историческом
фильме.
Я не могу говорить о Евгении Евгеньевиче Енее. Мне
стыдно хвалить его, потому что он — это я; мы провели
вместе всю жизнь, мы все делаем вместе, как это было
и с Москвиным. Евгений Евгеньевич создал
шекспировский мир, в котором фальшь и подделка вызвали бы
отвращение.
Молодой оператор Грицюс снял фильм. Годами здесь,
на его месте, стоял Андрей Николаевич Москвин, которого
мы не забыли, которого часто вспоминаем и говорим: «Он
поступил бы так!» И Грицюс, работая на месте Москвина,
очень хорошо сделал серо-черного «Гамлета», без всякого
стиляжества в выразительных приемах; достиг всей
глубины пластичности.
О людях, делавших сГамлет»
497
Но конечно, главное, о чем нужно говорить: все то, что
мы придумали и сделали, от всего этого мало что осталось
бы, не будь на экране Гамлета! И постановка двинулась
тогда, когда мне, по долгу руководства молодыми
режиссерами, довелось присутствовать на репетиции фильма «До
будущей весны» режиссера Соколова, где снимался
Смоктуновский.
Я вернулся домой и знал, что Гамлет есть! И никаких
сомнений, колебаний, фотопроб, кинопроб не было! Был
Гамлет только такой и никакой другой! Проблема моя как
режиссера заключалась в одном — мне нужно было
успокоить его, добиться того, чтобы он не сомневался. Как мог,
я пытался это сделать и считаю, что награжден за это сверх
меры.
Юрий Владимирович Толубеев, большой актер, с
огромным успехом играл роль Полония в Театре им. Пушкина,
а на экране ее совершенно перестроил. Он явно был
поставлен в неудобное положение: у него был сильно
сокращен текст, но, когда я ему говорил: «Давайте вставим
реплики», он отвечал: «Для картины это не нужно».
Восемь лет мы ждали постановки этого фильма,
дождались и не будем вспоминать того, что было. Потому что
если у нас действительно что-то получилось, то стоит ли
вспоминать, что и где происходило в каком-то
делопроизводстве!.. Да бог с ними!..
От автора сценария
1967
Тему, на которую написана та или иная трагедия
Шекспира, нельзя определить одной или даже несколькими
фразами. Жизненное содержание этих произведений
неизменно шире, глубже таких определений.
И все же возможно, хотя бы условное, обозначение
главного интереса автора, основного предмета
исследования.
«Король Лир», на мой взгляд, трагедия неравенства.
Существо конфликта не в том, что у старика оказались
неблагодарные дети, а сам он обладал вздорным
характером. За отношениями героев видны исторические силы. Их
столкновение неминуемо.
На одной, меньшей стороне — «обожравшиеся
благополучием»,1 на другой — огромной — «бездомные, нагие
горемыки».2
Среди действующих лиц нет «злодеев». Властолюбие,
алчность, жестокость, предательство — вовсе не свойства
патологических натур старших дочерей, Эдмонда или Кор-
нуэла, а типические черты характеров людей, борющихся
за власть в мире неравенства.
Лир — не безумен. Безрассудна общественная система,
в центре которой он находится. Но король сам ее создал.
И он сам восстает против нее. В силе опровержения,
мятежа против ее философских или нравственных основ
и вырастает образ главного героя.
И хотя Лир и Корделия обречены на гибель, их
духовная сила делает ничтожной физическую силу
победителей.
В этом героический, эпический масштаб трагедии,
ставить и играть которую нужно совсем просто и жизненно.
ПРИМЕЧАНИЯ
Принятые сокращения:
AK — Архив Григория Михайловича Козинцева (хранится у
В. Г. Козинцевой, Ленинград)
ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии
ИК — журнал «Искусство кино»
НМ — журнал «Новый мир>
ПСС — Полное собрание сочинений
СС — Собрание сочинений
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и
искусства СССР
Глубокий экран
Книга «Глубокий экран» была выпущена издательством «Искусство»
в 1971 г. До этого отдельные главы ее публиковались в журналах НМ
(1961, № 3) и ИК (1966, № 4, 5, 10, 11; 1967, № \ч 5, 9; 1969, № 4; 1971,
№ 1). Кроме того, главы и отрывки из будущей книги печатались
в газетах «Кадр» (киностудия «Ленфильм», 1966, № 3, 4, 5), «Советское
кино» (1966, 17 окт.), «Неделя» (1967, 29 апр.), в журналах
«Советский экран» (1967, № 7; 1970, № 23), «Екгап» (ПНР, 1961, № 38,
39, 40), «Filmwissenschaftliche Miteilungen» (ГДР, 1962, № 4),
«Sight and Sound» (Великобритания, 1962—1963, Winter), «Kunst
und Literatur» (ГДР, 1967, № 8) и в других периодических изданиях.
Создание книги связано с рабочими тетрадями Козинцева. Первая
запись первой тетради, датированная 29 января 1949 г., посвящена
воспоминаниям о детских годах в Киеве; далее записи мемуарного характера
чередуются с теоретическими заметками, размышлениями, связанными
с работой над фильмом «Белинский», мыслями о просмотренных фильмах
и прочитанных книгах. В начале 50-х гг. Козинцев показал свои тетради
И. Г. Эренбургу. «...Илья Григорьевич тогда начал писать «Люди, годы,
жизнь». Я предложил ему показать (для освежения памяти) киевские
записи. Прочитав, он сказал, что это стоит печатать» (запись в рабочей
тетради, 20 октября 1971 г.).
Начиная готовить материалы для будущей книги, Козинцев
отказывается от жанра мемуаров. Это хорошо видно по рабочим тетрадям
середины 50-х гг., в которых все больше места занимают размышления
о судьбах искусства в 20—30-е гг. Одновременно меняется и характер
«мемуарных» записей — теперь это уже, как правило, записи не о себе,
а о других, в первую очередь о С. М. Эйзенштейне, Д. Д. Шостаковиче,
А. П. Довженко.
В это же время Козинцев впервые выдвинул понятие «глубокий
экран», которое стало названием будущей книги. В рабочих тетрадях
неоднократно повторяется мысль о том, что значение произведения
искусства для зрителя определяют не внешние, технические характеристики
кинозрелища, а глубина постижения жизни, глубина мысли авторов
фильма. Вот характерная запись:
«Звуковая картина. Цветная картина.
Интересен звук? Интересен цвет? Интересен смысл!» (март 1950 г.).
Козинцев снова возвращается к этой теме в связи с открытием
в середине 50-х гг. первых широкоэкранных кинотеатров:
«Новинка сезона: глубокий экран.
Картина цветная и картина со смыслом (необходимо начать
экспериментальную работу в этой области)...
...Надо бы в городах открыть хоть по одному кинотеатру для
глубокого экрана» (26 апреля 1955 г.).
502
Примечания
Более развернуто мысль о «глубоком экране» была сформулирована
в одноименной статье, напечатанной в ИК (1959, ЛЬ 2) в рубрике
«Письма за рубеж». Статья была перепечатана ведущими
кинематографическими журналами мира и вызвала многочисленные отклики (см.
комментарии к этой статье в т. 2 наст. изд.).
С этого времени введенное Козинцевым понятие «глубокий экран»
широко используется в советской и мировой кинолитературе.
Окончательный план книги сложился к концу 50-х гг.; тогда же
были написаны первые главы. 15 ноября 1960 г. Козинцев прочел их на
вечере в Ленинградском Доме кино, а в заметке о своих планах на 1961 г.
(«Сов. культура», 1961, 1 янв.) впервые рассказал о работе над книгой
на страницах печати. В том же году в журнале НМ (ЛЬ 3) под рубрикой
«Дневники. Воспоминания» были напечатаны первая и начало второй
главы.
Определение жанра публикации принадлежало редакции журнала
и не соответствовало общему замыслу книги. Уже через месяц в одном из
интервью Козинцев подчеркнул, что «Глубокий экран» — «...это своего
рода эссе, посвященное вопросам кинематографического творчества»
(Glos Rabotniczi, Лодзь, 1961, 27 апр.). Летом 1965 г., когда работа над
книгой подходила к концу, он снова говорил об этом: «Эта книга не
мемуары. Она об опыте работы кинорежиссера, о том, как, испробовав
разные свойства экрана, докапываешься до истины». (Московский
комсомолец, 1965, 6 июня).
Для понимания подхода Козинцева к «мемуарным» главам книги
существенно его выступление на вечере воспоминаний об А. Н. Москвине
в Ленинградском Доме кино 25 октября 1961 г. Прочтя только что
законченную главу о Москвине из «Глубокого экрана» и обратившись к
собравшимся с просьбой помочь ему в сборе материалов для дальнейшей работы
над главой, Козинцев добавил: «Имеет огромный интерес все, что
касается точных вещей. Мне не хочется превращать этот образ в
сентиментальный... Андрей Николаевич был прежде всего художник, и мне хочется
передать его образ именно как художника... Поэтому личные
воспоминания менее интересны». И далее, возражая на замечание, что в главе не
чувствуется трагизма потери (А. Н. Москвин умер в феврале 1961 г.),
Козинцев сказал: «...мне хочется говорить... о нем, а не о себе. Ему было
бы неприятно, если бы он счел, что я буду писать об отношениях его ко мне
и моих к нему... Я хочу в главе о Москвине изложить не то, что я
переживал, а то, что переживал Андрей Николаевич, хочу убрать себя как
рассказчика» (цит. по стенограмме, хранящейся в Информбюро
киностудии «Ленфильм»). Принципиальная установка Козинцева, изложенная
в этом выступлении, относится, естественно, не только к главе о Москвине,
но и к книге в целом.
Работая над окончательным текстом книги, Козинцев еще и еще раз
возвращался к уже опубликованным главам, ибо был неудовлетворен
написанным и постоянно стремился добиться большей лаконичности.
Поэтому текст книги местами отличается от журнального.
Книга печатается по тексту издания 1971 г. При подготовке текста
составители заново выверили включенные в книгу цитаты, а также
исправили некоторые фактические неточности, вкравшиеся в книжный текст.
Наиболее интересные, по мнению составителей, фрагменты
журнального текста и сохранившегося в АК промежуточного между журналь-
Примечания
503
ным и книжным машинописного текста, не вошедшие в окончательный
текст книги, приведены в комментариях.
1 В журнальном тексте далее следовало: «Память сохранила эти
картины, они пригодились для «Выборгской стороны» (НМ, 1961, № 3,
с. 142. В дальнейшем в ссылках на этот номер журнала будут указываться
только страницы).
2 Из стихотворения В. В. Маяковского «Приказ по армии искусств»
(1918).
3 Национализированный в 1919 г. театр H. Н. Соловцова был назван
Вторым государственным драматическим театром УССР им. В. И. Ленина
(в настоящее время — Киевский русский драматический театр им. Леси
Украинки).
4 В журнальном тексте далее следовало: «Очевидно, какая-то особая
сила заключалась в этой высокой требовательности. Актеру было
непросто уйти из театра, не дождавшись веселого блеска в глазах Марджа-
нова.
Хочется рассказать о последней репетиции этого режиссера. Она мне
стала известна недавно.
...Сцена была чертовски трудной. Исполнитель не справлялся с
ролью. Нужно было еще много работать, а времени, как всегда в театре,
не хватало. Режиссер не смог больше репетировать... Пров Садовский
стоял у гроба Константина Александровича. Смотря в лицо мертвому
режиссеру, актер еще раз прочитал ему поставленный им монолог. (Это
было формой последнего прощания.) Раньше эта сцена «Дон Карлоса» не
шла, вспоминал Садовский, теперь шиллеровские слова зазвучали по-
иному. Константин Александрович, наверное, был бы доволен.
Надпись на вагоне: «Для устриц» — сделала встречу гроба Чехова
схожей с рассказом самого писателя. Память о Пушкине хотели украсть
у народа. Империя провожала тело поэта тьмой, охапкой соломы под
гробом, жандармами.
Несхожи голоса людей, и различно их последнее молчание.
У театра свои привычки. Жерар Филип завещал похоронить его
в костюме Сида. Артисту хотелось выступить на прощание в любимой
роли. Марджанов украл у смерти еще одну репетицию» (НМ, с. 144—
145).
5 Вишневский В. В. Двадцатилетие советской
драматургии. — В кн.: Вишневский В. В. Статьи. Дневники. Письма. М., 1961,
с. 218—219.
6 Гвоздев Α. Α., Пиотровский А. И. Петроградские
театры и празднества в эпоху военного коммунизма.— В кн.: История
советского театра. Л., 1933, т. 1, с. 272.
7 Рожицын В. Строительство пролетарского искусства.— В кн.:
Революционное искусство. Киев, 1919, с. 3.
8 «Пути творчества», Харьков, 1919, № 2, с. 8.
9 Там же, с. 63.
10 Там же.
11 Там же, с. 1.
504
Примечания
12 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС. М,
1954, т. 1, с. 375—376.
13 Текст телеграммы воспроизводится по кн.: Письма трудящихся
к В. И. Ленину. 1917—1924. М., 1960, с. 75. Обнаружить журнал, на
который ссылается Козинцев, к сожалению, не удалось.
14 Маяковский В. В. Вравшим кистью.— ПСС. М., 1939, т. 1,
с. 353.
15 Б л о к А. А. Интеллигенция и революция.—СС. М.—Л., 1962,
т. 6, с. 20.
16 Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья
пятая.— ПСС. Пг., 1917, т. 11, с. 370.
17 Там же.
18 Там же, с. 372.
19 Из стихотворения В. В. Маяковского «Левый марш» (1918).
20 Текст «Балаганного представления четырех клоунов» сохранился
в архиве С. И. Юткевича и публикуется в т. 3.
21 Э ρ е н б у ρ г И. Г. Люди. Годы. Жизнь. Кн. 1 и 2. М., 1961, с. 473.
22 В журнальном тексте далее следовало: «...на стене моей
ленинградской комнаты, подле письменного стола, висит, наклонив бородатую
голову и вытянув прямые коричневые руки, артист из кукольной труппы.
Было время, как бешеный крутился он над створками ширмы и свирепо
вопил: «Я цыган Мора из хора, говорю басом, запиваю квасом, заедаю
ананасом!» Моль съела его бархатную поддевку, выцвела кумачовая
косоворотка, и обтрепался золотой позумент. Немало времени прошло
с тех пор, как он попал из рук киевского шарманщика в мои. Многим
я обязан ему. Ведь именно они: петрушки, глиняные украинские звери,
благодушные чудища с кроткими зелеными и коричневыми мордами
и шершавыми гривами, лубочные картинки, где парадом выступали
мыши, хоронившие на саночках кота, или вылетал из трубы прокутившийся
купчина с цилиндром в руке,— были друзьями детства; с ними я
побывал в веселой стране народной фантазии, где следует побывать всякому,
мечтающему об искусстве» (НМ, с. 153).
В АК сохранился несколько расширенный машинописный фрагмент
этого текста, в котором после слов «купчина с цилиндром в руке»
следовало: «...были моими первыми друзьями и настоящими учителями в
искусстве, а потом — в продолжение всей жизни, где бы я ни оказывался —
появлялись новые приятели, расширялись границы веселой страны
народной фантазии: в Тбилиси Нико Пиросманишвили рассказывал о
добрых и жизнерадостных людях на вывесках, прославлявших живопись...
В Мехико и Гваделупе играли свои концерты расписанные золотом и
причудливым орнаментом ансамбли скелетов, огромные фигуры стреляли
петардами, и ангелы, сплетенные из пальмовых лиан, били в барабаны
и трубили в трубы».
23 Сведения о работе Вакса-Висцинского, записанные Козинцевым
с его слов, не совсем точны. Из Киева М. Вакс попал в Германию, где
действительно был ассистентом Ф. Мурнау. Фильм «Голем» поставил
в 1920 г. режиссер Г. Галеен. В середине 20-х гг. Вакс переехал в Польшу,
где принял новое имя — Михал Вашинский. После второй мировой
войны работал в Италии.
Примечания
505
. 24 Сейчас — Кировский проспект.
25 Сейчас — Невский проспект и улица Бродского.
26 Имеется в виду выдвинутая в 1920 г. В. Э. Мейерхольдом
программа перестройки театрального дела.
27 Ρ е й с н е ρ Л. M. Фронт.— В кн.: Рейснер Л. М. Избранное. М.,
1965, с. 22.
28 Из пролога к «Мистерии-буфф» В. В. Маяковского (1918).
29 Неточный перевод эпиграфа к гл. VIII романа М. Твена
«Простофиля Вильсон». Правильно: «Лучше быть молодым навозным жуком, чем
старой райской птицей» (Твен М. СС. М., 1960, т. 7, с. 370).
30 Шкловский В. Б. О рождении и жизни ФЭКСов.—В кн.:
Недоброво В. В. ФЭКС. М.—Л., 1928, с. 3—4.
31 Александров (Серж) А. С. О жанре наездников-жокеев.—
В кн.: Советский цирк. 1918—1938. М., 1938, с. 100.
32 В АК сохранился текст диалогов «Женитьбы». Фрагменты текста
будут опубликованы в т. 3.
33 В подписанном Г. Козинцевым, Г. Крыжицким и Л. Траубергом
«Манифесте эксцентрического театра» драматургу дается «свисток» —
стать «сцепщиком трюков». «Манифест» был написан к диспуту об
эксцентризме, состоявшемуся 5 декабря 1921 г. Машинописная копия
манифеста хранится в АК. Часть текста, включающая «свисток
драматургу», была напечатана в кн.: Эксцентризм. Пг., 1922, с. 2.
34 На афише спектакля «На всякого мудреца довольно простоты»
(композиция С. М. Третьякова по комедии А. Н. Островского),
поставленного С. М. Эйзенштейном в 1923 г., было обозначено: «Монтаж
аттракционов Эйзенштейна». Смысл этого определения Эйзенштейн разъяснял
в одноименной статье (см.: Эйзенштейн СМ. Избр. произведения.
М., 1964, т. 2, с. 269—273. В дальнейшем при ссылках на это издание будут
указываться только номер тома и страница).
35 Объединение московских художников (П. П. Кончаловский,
А. В. Лентулов, И. И. Машков, Р. Р. Фальк и др.), живопись которых
часто строилась на обостренных цветовых контрастах.
36 Спектакль «Женитьба» шел в зале Дворца Пролеткульта.
37 Гоголь Н. В. Невский проспект.— ПСС. М., 1938, т. 3, с. 19.
38 Герой повести Н. В. Гоголя «Вий».
39 После премьеры «Женитьбы» Козинцев послал письмо своей
сестре Л. М. Козинцевой-Эренбург с описанием спектакля и рисунками
декораций и костюмов. Письмо публикуется в т. 3.
40 Бытовое название императорского Александрийского театра,
переименованного после революции в Академический театр драмы (с 1937 г.
им. А. С. Пушкина).
41 В журнальном тексте дальше следовало: «Среди старших
художников были и эпигоны футуризма, и эстеты из «Мира искусства»,
и заумные путаники, и талантливые люди, отдавшие все свои силы
революции. Молодежь — еще совсем зеленая — попадала в сложное
скрещение влияний. Борьба рождающегося и умирающего в искусстве тогда не
напоминала сражения двух армий, отличимых одна от другой знаменами
и формой одежды» (НМ, с. 158).
506
Примечания
42 См.: Виноградов А. К- Три цвета времени. М., 1931, с. 507.
43 M о г a η d P. L'Europe galante. Paris, 1925, p. 30.
44 Из поэмы В. В. Маяковского «Хорошо!», глава 13 (1927).
45 Название кинотеатра (сейчас кинотеатр «Октябрь»).
46 Сейчас улица Чайковского.
47 В журнальном тексте далее следовало: «Ни съемки с движения, ни
световые эффекты не могли изменить положения. Ленты дряхлели
мгновенно, подобно тому, как забывались выпуски похождений сыщиков или
выходил из моды романс. Смысл этой массовой продукции и заключался
в быстроте оборачиваемости: товар должен был приносить доход
немедленно; потам скоропортящиеся продукты выбрасывали — их и не
выдавали за вечное. Хозяева торопились: улица покупала, времени раздумывать
не было — конкуренты не спали. Вклинившееся между лавками,
бесстыдно освещенное и размалеванное плакатами, это подобие творчества,
казалось, от рождения получило желтый билет» (НМ, с. 164).
48 Луначарский А. В. Беседа с В. И. Лениным о кино.— В кн.:
Самое важное из всех искусств. М., 1973, с. 163.
49 Эйзенштейн СМ. Средняя из трех.— Т. 5, с. 54.
50 Довженко А. П. О воспитании кадров кинорежиссеров.— СС.
М., 1969, т. 4, с. 394.
51 Фильм «Похождения Октябрины» не сохранился. Сценарий
имеется в АК и опубликован в кн.: Киносценарии. 1979. Вып. 1. М., 1979,
с. 234—243.
52 В журнальном тексте вся следующая часть подглавки «Паризиа-
на» и «Севзапкино» была выделена в самостоятельную подглавку,
названную «Коллективное усилие». В начале ее была приведена большая
цитата из предисловия С. М. Эйзенштейна к альбому «Советское
киноискусство» (М., 1940, с. 5) о тех, «на чью долю выпали счастье и честь
строить первые двадцать лет социалистической кинематографии». Затем
шел текст Козинцева: «Хррошо, что каждый из нас участвовал в этом
строительстве по-своему, шел своим путем. Еще лучше, что все мы
ощущали общность усилий. Никто не работал в одиночку; каждый слышал
удары кирки товарища. Удар за ударом — на самых разных участках —
начала взрыхляться земля» (НМ, с. 166).
53 В журнальном тексте далее следовало: «На голливудских улицах
не видно прохожих. Освещенные витрины, каре автомобилей. Кажется,
что в них нет людей и это механизмы, управляемые по радио...
Вспоминаются павильоны игр; в Америке их встречаешь на каждом шагу.
Множество застекленных ящиков; бросаешь в отверстие пять центов — и
приходят в движение фигурки: скачут плоские лошади, бомба падает с
самолета, жестяная гадалка выбрасывает бумажку с предсказанием будущего...
Может быть, весь этот город — ящик-автомат? Кто-то бросает монету,
и начинают двигаться коробочки автомобилей, фигурки среди декораций
делают свой цикл шарнирных движений, кран поворачивает кинокамеру,
коробки с пленкой движутся по конвейеру... Кончился завод пружины —
все замирает, пока кто-то опять не бросит в автомат монету...
Подле кинотеатра в ложнокитайском стиле следы, вдавленные в
тротуар: ноги, руки, предметы... Большие подошвы, вывернутые в стороны;
мелкий шаг: это пробежал в своих стоптанных башмаках веселый комик
Примечания
507
Чарли. Пробежал когда-то давно. А потом убежал отсюда — невеселым,
совсем седым человеком... Оттиск круглой оправы очков. Помните, как
висел над Нью-Йорком, уцепившись за уличные часы, клерк в очках
и канотье — Гарри Ллойд?..
Так хранят камни, выброшенные прибоем, следы древних эпох.
Теперь артисты —желанные гости в «Беверли Хиллс». «Звезды» стали
продюсерами, дельцами. На асфальте следовало бы выдавить только
цифры доходов. Таких следов не могли оставить Лилиан Гиш, Гриффит,
Штрогейм...
Наш спутник склонился над асфальтом, что-то ищет. Он говорит, что
недавно одна из актрис оставила здесь отпечаток своей груди. «Звезда»
прославлена этой частью фигуры. Может быть, джентльмен пошутил? Не
знаю. Думаю, что затруднение могло состоять лишь в технологии» (НМ,
с. 167—168).
й Π у ш к и н А. С. Письмо К. Ф. Рылееву от 25 января 1825 г.—
ПСС. М., 1937, т. 13, с. 135.
55 Имеется в виду театр «Фарс» (Петербург, 1896—1905),
организованный актером и антрепренером С. Ф. Сабуровым.
56 Тынянов Ю. Н. О фэксах.—Сов. экран, 1929, № 14, с. 10.
57 Сейчас улица Фурманова.
58 В журнальном тексте далее следовало: «Было особое время, и,
когда вспоминаешь его, многое кажется неправдоподобным. Куда я
годился в свои двадцать лет в педагоги? Но почему-то никто из этой группы
(они пробыли вместе с нами немало лет) не покинул нас и даже потом,
много времени спустя, не вспоминал эти годы как потерянные зря. Может
быть, в педагогике многое делает любовь педагога к ученику? Наши
ученики казались нам не просто талантливыми, но самыми лучшими
актерами на свете. Никого и ни за что мы не стали бы снимать вместо них. Если
ролей в сценарии не было, присочиняли сами. У Жеймо была характерная
внешность, маленький рост — это не смущало. В «Шинели» мы ввели
какую-то подручную портного; в «Братишке» (события происходили
в автобазе) Жеймо играла «девочку при гараже за мальчика». Конечно,
все это было плохой педагогикой и неразумной режиссурой. Хочется
сделать только одну оговорку: дарование нужно не только направить,
но и согреть. Может быть, этим мы смогли помочь талантливым людям,
с которыми нам посчастливилось трудиться?..
Когда я стараюсь вспомнить наши занятия, память оказывается как
бы двухслойной; в верхнем пласту — множество крохотных пестрых
кусочков: поиски какой-то чистой стихии киновыразительности, культ
пантомимы, крайности в физкультуре, отрицание «театрального»... И
одновременно под всем этим — важнее всего этого — ощущение
внутреннего развития каждого из нас и, что главное, всех нас вместе. Рост того, что
движет каждым делом коллектива. В этом была суть. Общим достоянием
становилась каждая прочитанная книга (читали мы запоем), новая
программа в кино, жизненное событие... Все входило непосредственно
в самую работу: воздействовало, учило. Во все вкладывалась истинная
страсть. Любительщину здесь презирали. После урока бокса вытирали
кровь; акробатика не выглядела бы смешной и на арене. Дело было не
только в физкультуре. Юрий Николаевич Тынянов охотно читал главы
рукописи «Смерти Вазир-Мухтара» этой молодежи — они умели слушать.
508
Примечания
Приехав в Ленинград, сюда часто заходили Эйзенштейн, Пудовкин...
Образовывалась та атмосфера труда, неустанных поисков, коллективного
дела, в которой люди взрослеют. Корь проходила» (НМ, с. 170—171).
59 Из поэмы H. Н. Асеева «Маяковский начинается» (1940).
60 Герасимов С.А. [Без назв.] — В кн.: Лицо советского
киноактера. М., 1936, с. 104.
61 Хотя Козинцев в своих рабочих тетрадях практически не делал
записей дневникового характера, 6 июня 1971 г. он записал: «Умер Еней.
В «Глубоком экране», заканчивая главу о Москвине и Енее, я написал:
«Вот мы и собрались все вместе».
Вот я и остался совсем один».
62 Τ ы н я н о в Ю. Н. О Хлебникове.— В кн.: Архаисты и новаторы.
Л., 1929, с. 582.
63 Из стихотворения В. В. Маяковского «Послание пролетарским
поэтам» (1926).
64 Шкловский В. Б. Конец барокко.—Лит. газ., 1932, 17
июля.
65 В ИК (1962, № 12, с. 41) далее следовало: «В этом не было
риторики. Название выражало для Адриана Ивановича совершенную
реальность: он сам жил на этой улице и, вероятно, выходя поутру из дому, видел
не сугробы и замерзшие здания (какое это имело значение!), но алые зори
Революции; они разгорались над улицей, над Петроградом, над РСФСР,
над всем миром...»
66 Эсхил. Прикованный Прометей. Л., 1935, с. 89.
67 Анализируя «Похождения Октябрины» в статье «Несколько слов
о советском кино» (в кн.: Б а л а ш Б. Культура кино. Л., 1925, с. 91),
А. И. Пиотровский писал: «...наполненный пассажирами трамвай катится
как иероглиф мещанства».
68 В ИК (1966, № 4, с. 81) далее следовало: «Ко мне подходит
старший (намного старший!) коллега.
— Молодой человек,— снисходительно говорит он мне.— Так
нельзя. Получится искажение. Уровень горизонта давно установлен: 1 метр
20 сантиметров. Выйдет брак».
69 Москвин А. Н. Быть пропагандистом советской
действительности.— В кн.: 30 лет советской кинематографии. М., 1950, с. 320.
70 В ИК (1966, № 4, с. 91) далее следовало: «С интересом и
доброжелательством он относился к товарищам по профессии. Я вспоминаю,
с каким уважением он говорил в молодости об А. Левицком; много лет
дружил с А. Головней; в последние годы его радовали успехи С. Урусев-
ского».
71 Тынянов Ю. Н. Автобиография.—В кн.: Юрий Тынянов.
Писатель и ученый. М., 1966, с. 20.
72 Тынянов Ю. Н. О Хлебникове.— В кн.: Архаисты и новаторы,
с. 584.
73 «Шинель». Киноповесть в манере Гоголя. Л., 1926, с. 1.
74 Там же, с. 2.
Примечания
509
75 Le i d a J. Kino. A History of the Russian and Soviet Film. N. Y.
1960, p. 202. Фильм Φ. Мурнау «Последний человек» демонстрировался
в СССР (под названием «Человек и ливрея») с 1927 г.
76 Семинар, организованный Бельгийской синематекой, состоялся
31 января 1958 г.
77 Тынянов Ю. Н. О факсах.—Сов. экран, 1929, № 14, с. 10.
78 Там же.
79 Имеются в виду съемки на Дворцовой площади и у Смольного для
фильмов «Октябрь» (1927), «Конец Санкт-Петербурга» (1927),
«Выборгская сторона» (1938).
80 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «14 декабря 1825 года» (1826).
81 В ИК (1966, № 5, с. 64) далее следовало: «На «С.В.Д.»
закончилась наша общая работа с Тыняновым. Однако влияние его на наши
фильмы сказывалось и дальше. Задумывая «Юность Максима», мы
вспоминали его любовь к подлинным документам, невыдуманным историям.
Работая над шекспировскими постановками, я не раз перечитывал его
романы и повести.
Думаю, что и «Гамлета» мне было бы ставить гораздо труднее, если
бы много лет назад я не работал и не дружил с Тыняновым. Пожатие его
дружеской руки помогает мне всю жизнь».
82 Народное искусство Чарли Чаплина.— В кн.: Чарльз Спенсер
Чаплин. М., 1945, с. 53—100. Статья печатается в т. 3.
83 См.: Dehn P. The Filming of Shakespeare.— В кн.: Talking of
Shakespeare. London, 1954, p. 49.
84 Эйзенштейн СМ. Монтаж аттракционов.— T. 2, с. 269.
85 В машинописном тексте далее следовала фраза: «Позже
Эйзенштейн подарил мне программу представления Дебюро, напечатанную при
его жизни».
86 Эйзенштейн СМ. Как я учился рисовать.— В кн.:
Эйзенштейн С М. Рисунки. М., 1961, с. 15.
87 Из стихотворения А. А. Ахматовой «Мне ни к чему одические
рати...» (1940).
88 Далее в ИК (1966, № 5, с. 68) следовало: «Вероятно, эта
необыкновенно сильная любовь и являлась моим главным педагогическим
преимуществом. Ведь учить — значит не только передавать людям, менее
искушенным, чем ты, свой опыт, но и согреть их талант. Помочь ученикам
верой в них. Есть и такая немаловажная категория в педагогике».
89 В ИК (1966, № 5, с. 68) далее следовало: «Думаю, что на уроках
ФЭКСа образовывались и первые клеточки стиля «Дон Кихота» и
«Гамлета». Высказывание С М. Эйзенштейна см. т. 1, с. 319.
90 В машинописном тексте далее следовала фраза: «При первой
встрече с Марсо я подарил ему старинную программу Дебюро;
разумеется, она должна была быть у этого замечательного артиста».
91 Эйзенштейн С. М. Т. 1, с. 144.
92 Химера вместо коммуны (Письмо группы работников Агитпропа
КИМа).— Коме, правда, 1929, 29 марта.
510
Примечания
93 Кнорре Φ. Φ. «Новый Вавилон».— Смена, Л., 1929, 24 марта.
94 Цит. по: У э и τ и н г. «Вавилон».— Веч. известия, Одесса, 1929,
28 марта.
95 Рафалович Д. Л. Серьезная и умная лента.— Кино, 1929,
18 марта.
96 Смена, 1929, 17 марта. Номер посвящен Дню Парижской
коммуны.
97 А л π е ρ с Б. В. Путь ФЭКСов.— Кино и жизнь, 1929, № 14, с. 3.
98 Τ ы н я н о в Ю. Н. О фэксах.— Сов. экран, 1929, № 14, с. 10.
99 Д Ε Б Е. Канкан в тумане.— Коме, правда, 1929, 21 марта.
100 Фадеев Α. Α., С у τ ы ρ и н В. Α., Ε ρ м и л о в В. В., А в е р-
б а χ Л. Л., К и ρ ш о н В. М. Против унтер-офицерских приемов
критики.— Коме, правда, 1929, 23 марта.
101 Имеется в виду статья П. П. Петрова-Бытова «У нас нет
советской кинематографии».— Жизнь искусства, 1929, № 17, с. 8.
102 Глух М. Картина — не для массового зрителя.— Коме,
правда, 1929, 29 марта.
103 Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. М., 1953, т. 21, с. 543.
104 Там же, 1957, т. 50, с. 634.
105 300 années de cinematographie. 60 ans de cinema. Paris, 1955,
p. 200. «Новый Вавилон» дважды (9 августа и 28 сентября 1955 г.)
демонстрировался в цикле просмотров «Шедевры немого кино»,
организованном в связи с выставкой Французской Синематекой. В этом же цикле
была показана также «Шинель» (31 июля).
lüb M а ρ к с К. Классовая борьба во Франции.—Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. М.—Л., 1931, т. 8, с. 29 (2-е изд.: Υ. 7, с. 36).
,07 Созданный актером Фредерик-Леметром тип дельца-пройдохи,
в котором были сатирически обобщены черты финансовой аристократии
времен Июльской монархии.
108 Ангар для дирижаблей «Цеппелин» в пригороде Берлина Шта-
акен после первой мировой войны был переоборудован в самый большой
в мире кинопавильон.
109 Горький М. иЧехов А. П. Переписка, статьи,
высказывания. М., 1951, с. 133.
110 Блок А. А. Предисловие к поэме «Возмездие» (1919).
111 Из стихотворения Б. Л. Пастернака «Тема», входящего в цикл
«Тема с вариациями» (1918).
112 Маркс К- Гражданская война во Франции.—Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. М., 1940, т. 13, ч. 2, с. 324 (2-е изд.: т. 17, с. 354).
113 Там же, с. 323 (2-е изд.: т. 17, с. 353).
114 Маяковский В. В. «Мистерия-буфф». Д. I, явл. 1.
115 Б а л а ш Б. Русская фильма и ее критика.— Кино, 1928, 12 авг.
116 Маркс К. Гражданская война во Франции.— Маркс К-,
Энгельс Ф. Соч. М., 1940, т. 13, ч. 2, с. 296, 308 (2-е изд.: т. 17, с. 324, 327).
117 Киномузыка. Пособие для кино-иллюстраторов. Вып. 1 —
6. 1928—1929.
Примечания
511
118 См.: Raleigh W. Shakespeare. London, 1907, p. 221.
119 Шекспир В. «Гамлет». Акт 5, сц. 2.
120 Одной из установок ЛЕФа (литературное объединение,
существовавшее в 1923—1928 гг.) была утилитарность, прямая полезность
искусства. Цирковая пародия — поставленный С. М. Эйзенштейном
спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» (см. примеч. 34).
121 Цитата не вполне точная; см.: Эйзенштейн С. М., т. 2, с. 95.
Характерно, что, цитируя текст по памяти, Козинцев поменял местами
слова «типажных» и «монтажных», хотя Эйзенштейн двумя абзацами
ниже специально пишет: «Я на первое место ставлю вопрос типажа». Эта
непроизвольная перестановка показывает разное отношение Козинцева
и Эйзенштейна к проблеме типажа в период немого кино.
122 Из поэмы В. В. Маяковского «150 000 000» (1919—1920).
123 Из стихотворения В. В. Маяковского «Разговор' с
фининспектором о поэзии» (1926).
124 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями.—
ПСС. М., 1952, т. 8, с. 277.
|2Г' Эйзенштейн С. М. Т. 2, с. 270.
126 Там же.
127 Э й з е н ш τ е й н С. М. Т. 3, с. 130.
128 Там же, с. 169.
129 Золя Э. ПСС. М.—Л., 1928, т. 11, с. 73.
130 Псевдоним В. Э. Мейерхольда, под которым он издавал журнал
«Любовь к трем апельсинам» (1914—1916).
131 Козинцев был председателем на вечере В. Э. Мейерхольда
в Ленинградском Доме кино 13 июня 1936 г. Мейерхольд прочел лекцию
«Чаплин и чаплинизм». В опубликованной стенограмме лекции (ИК, 1962,
№ 6, с. 113—122) приведенные Козинцевым слова отсутствуют.
Вступительное слово Козинцева на этом вечере см. в т. 2.
132 В. Э. Мейерхольд исполнял роль Треплева в первой постановке
«Чайки» А. П. Чехова в МХТ(1098).
133 M е й е ρ χ о л ь д В. Э. Статьи. Письма. Речи..Беседы. М., 1968,
т. 2, с. 105.
134 Эйзенштейн СМ. Два черепа Александра Македонского.—
Т. 2, с. 281.
135 См.: Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Т. 2,
с. 279—280.
136 Эйзенштейн СМ. Неравнодушная природа.— Т. 3, с. 82.
137 Имеется в виду монтажная фраза из фильма С. М. Эйзенштейна
«Броненосец «Потемкин» — три коротких кадра мраморных львов —
спящего, приподнимающего голову, поднимающегося.
136 Из стихотворения «О состраданье! Нет грознее силы...» (1959).
139 В АК среди подготовительных материалов к «Глубокому экрану»
сохранился фрагмент варианта текста, посвященного П. М. Аташевой,
который начинается следующим абзацем: «Пера Аташева рассказывала
мне, что вышла заминка с оплатой труда скульптора, снимавшего по-
512
Примечания
смертную маску. Нужно было писать какие-то заявления, ждать
резолюций. Но положение облегчилось: пришла его последняя зарплата, он еще
не успел ее получить. Сергей Михайлович сам оплатил свою посмертную
маску. Он ведь собирал маски».
140 Вымышленный Н. В. Гоголем издатель повестей, вошедших
в «Вечера на хуторе близ Диканьки».
141 Д овжен ко А. П. СС. М., 1966, т. 1, с. 33.
142 Там же, с. 51.
143 Там же, т. 3, с: 645 — 646.
144 Там же, т. 2, с. 550.
145 Слово «киноглаз» Д. Вертов впервые использовал в статье
1923 г. Козинцев называет этим словом созданный Вертовым метод
съемки «жизни , врасплох» и монтажной организации хроникального
материала.
146 Теория «интеллектуального кино», созданная С. М.
Эйзенштейном в конце 20-х гг., основывалась на стремлении синтезировать в кино
язык понятий и язык образов.
147 Здесь в смысле «идущий от дореволюционного кино» (А. А. Хан-
жонков — владелец крупнейшего кинопредприятия дореволюционной
России).
148 Приводя этот эпизод по памяти, Козинцев приписал Мак Сеннетту
слова Г. Лермана — режиссера первых фильмов Чаплина. См.:
Чаплин Ч.-С. Моя биография. М., 1966, с. 143.
149 Чаплин Ч.-С. Самоубийство кино.— В кн.: Чарльз Спенсер
Чаплин. М., 1945, с. 182—183.
150 Эйзенштейн С. М., Пудовкин В. И., Александров
Г. В. Будущее звуковой фильмы. Заявка.— Сов. экран, 1928, № 32, с. 5.
151 Пушкин А. С. (Заметки о народной драме и драме «Марфа
Посадница». М. П. Погодина).— ПСС. М., 1937, т. 9, с. 174.
152 Имеется в виду Б. 3. Шумяцкий, назначенный председателем
Всесоюзного кинофотообъединения («Союзкино») в конце 1930 г. Его
биографию см. в кн.: Б а г а е в Б. Борис Шумяцкий. Красноярск, 1974.
153 См. кн.: За большое киноискусство. М., 1935, с. 56.
154 Из стихотворения «Поэзия» (1922).
155 Сценарий А. Г. Ржешевского «Очень хорошо живется», по
которому В. И. Пудовкин поставил фильм «Простой случай» (1930).
156 БСЭ, 2-е изд. М., 1955, т. 36, с. 250.
157 Герой бульварно-приключенческого романа М. Раскатова «Антон
Кречет».
158 В.Ф.Г. За Невской заставой. Записки рабочего Алексея Бузинова.
М.—Л., 1930, с. 162.
159 Д ρ а б к и н а Е. Я. Удивительные люди. М., 1965, с. 56—57.
160 См. примеч. НО.
161 Одоевский В. Ф. Русские ночи. М., 1913, с. 243.
162 См.: Зильберштейн И. С. Николай II и кино.— Сов. экран,
1927, № 15, с. 10.
Примечания
513
163 Булгаков M. А. Мастер и Маргарита.— Москва, 1961, № 1,
с. 91.
164 Юровский А. Я. Экраны мужества.— Коме, правда, 1965,
7 мая.
160 В журнальном тексте далее следовало: «Они никуда и не
пропадали надолго, эти вопросы. Куда им было деваться? Разве люди могут
окончательно решить их? Каждая смерть и каждое рождение опять
напоминают о них. Случались годы легких ответов, сами вопросы тогда как бы
теряли свое значение, выходили из обихода: что проку в старых словах?..
Но время шло, слова менялись, а существо вопросов, которые некогда
называли вечными, опять становилось современным. Людям хотелось
жить, а не существовать* (ИК, 1969, № 4, с. 69).
166 См.: Ленин В. И. К вопросу о диалектике.— ПСС, т. 29, с. 322.
167 Π а с к а л ь Б. Мысли. М., 1905, с. 49.
168 Ш е к с π и ρ В. «Гамлет». Акт 3, сц. 4 ( перевод Б. Л. Пастернака ).
169 См.: Шекспир В. «Гамлет». Акт 2, сц. 2.
170 Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.
171 Б е ρ к о в с к и й Н. Я. Трагедия Лира.— Искусство и жизнь, Л.,
1941, № 5, с. 23.
172 Там же, с. 25.
173 См.: Толстой Л. Н. Война и мир.—СС. М., 1961, т. 4, с. 9.
174 Книга о живописи Леонардо да Винчи, живописца и скульптора
Флорентийского. М., 1934, с. 155.
175 Д о с τ о е в с к и й Ф. М. Дневник писателя за 1876 г.— ПСС.
М.—Л., 1929, т. И, с. 235.
176 Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий.
М.—Л., 1935, т. 1, с. 86—87.
177 Полный текст режиссерской экспликации фильма «Дон Кихот»
публикуется в этом томе, с. 479—488.
178 Название романа Ф. Кеведо-и-Вильегаса «История жизни
пройдохи по имени Дон Паблос, пример бродяг и зерцало мошенников»
(1626).
179 С е ρ в а н τ е с М. Цит. соч., т. 2, с. 819.
180 См.: Тынянов Ю. Н. Как мы пишем. В кн.: Юрий Тынянов.
Писатель и ученый. М., 1966, с. 196.
181 Шварц Е. Л. «Дракон». Д. 2.
182 Там же, д. 3.
183 Там же, д. 2.
184 Мы знали Евгения Шварца. Л.—М., 1966, с. 79.
185 Там же, с. 79—80.
186 Черкасов Н. К. Четвертый Дон Кихот. Л., 1958.
187 См.: Станиславский К. С. СС. М., 1959, т. 6, с. 256.
188 Из стихотворения «Петербург» (опубликовано в 1910 г.). В
машинописном тексте против этих стихов сделана приписка на полях: «А сколь-
514
Примечания
ко раз приходил на память блоковский ветер: «Черный вечер, белый
снег...» (первые строки поэмы А. А. Блока «Двенадцать»).
189 Из стихотворения «Какой была Испания», входящего в книгу
П. Неруды «Испания в сердце» (1936).
190 Альберто. Будапешт, 1966, с. 6.
191 Там же, с. 17.
192 Далее в журнальном тексте следовало: «Наш фильм дал повод
Уильяму Сарояну сочинить «В стране полуночного солнца». Иностранец,
приехавший в маленький норвежский городок,— так начинается
новелла,— разговорился с девушкой, кассиром кинотеатра; оказалось, что она
сама еще не видела эту программу. Они уговорились встретиться на
последнем сеансе. Русская картина с норвежскими субтитрами, снятая по
испанскому роману, сблизила на какую-то минуту людей двух разных
национальностей и биографий; американца взволновало, что норвежская
девушка заплакала над судьбой рыцаря, похожего «на спокойную и
величавую лошадь, которой еще не довелось встретить другую».
«Люди во всем мире чокаются разбитыми сердцами»,— написал
в «Моби Дике» Герман Мелвилл (ИК, 1969, № 4, с. 97. Новеллу У. Сароя-
на см.: Лит. газ., 1963, 13 мая. См. также: Мелвилл Г. Моби Дик, или·
Белый Кит. М., 1962, с. 25).
193 См.: Стендаль. Красное и черное,— СС. Л., 1937, т. 1, с. 349—
350.
194 В машинописном тексте далее следовало: «В летопись искусств
занесено немало скандалов. Сразу же приходит на память желтая кофта
Маяковского. Однако сравнение не выглядит уместным. Между
Маяковским и его дореволюционной аудиторией лежала пропасть, дело было не
в одном лишь различии эстетических вкусов: зал и эстрада напоминали
стороны баррикады. В жандармском управлении уже были подшиты
к делу особые приметы поднадзорного поэта, донесения агентов.
Одиночество Маяковского не было позой. Вспоминая свист в Каннах, мне не
кажется, что я присутствовал при чем-то подобном. Сама обстановка —
облик зрителей, толпы фотографов и репортеров, вспышки ламп, улыбки
артисток на сцене — мало отличалась от кадров премированного и
освистанного фильма».
190 См.: Феллини Ф., Мастроянни М. О фильме «Сладкая
жизнь».— В кн.: Федерико Феллини. М., 1968, с. 185—186.
196 Zola. Le Naturalisme an théâtre. Paris, 1881, p. 329.
197 См.: Б e л и н с к и й В. Г. ПСС. Спб., 1901, т. 4, с. 73.
198 Бахтин M. М. Проблемы поэтики Достоевского. Л., 1929.
199 Фильм «Выборгская сторона».
200 См.: Неделя, 1965, 12 дек., с. 16.
201 Budge л S. Fellini. London, 1966.
202 Цит. по: Богемский Г. Д. В поисках человека.— В кн.:
Федерико Феллини, с. 36.
203 Fellini F. Interviews on Belgien Television.—In.: Budgen
S. Fellini. Op. cit., p. 85.
204 Э й 3 e h ш τ e й h СМ. Одолжайтесь! — T. 2, с 77—78.
Примечания
515
205 Там же, с. 78.
206 M е й е ρ χ о л ь д В. Э. О театре. Спб., 1913, с. 162.
207 Там же.
208 Там же, с. 164.
209 Там же, с. 158.
210 Гоголь Н. В. Мертвые души.—ПСС. М., 1951, т. 6, с. 135.
2" Kozintsev G. Shakespeare: Time and Consciense. N. Y., 1966.
212 Козинцев Γ. M. Наш современник Вильям Шекспир. Л.—М.,
1966, с. 338.
213 В основу статьи «Воспитание зрения» положен текст доклада,
прочитанного Козинцевым в ГДР в 1961 г. и опубликованного в
Filmwissenschaftliche Mitteélungen (1962, № 4, S. 913—930) под названием
«К генеалогии киноискусства». В феврале 1966 г. доклад был повторен
в Ленинграде на симпозиуме «Творчество и современный научный
прогресс» и под названием «Сцена, книга, экран» был напечатан в сб.
«Содружество наук и тайны творчества» (М., 1968, с. 225—269).
Включив статью в «Глубокий экран» в качестве приложения, Козинцев
переработал (главным образом сократил) текст и написал новое
заключение.
214 Гонку ρ Э. и Ж. Дневник. М., 1964, т. 2, с. 183.
215 Радищев А. Н. О человеке, о его смертности и бессмертии.—
ПСС. Л., 1941, т. 2, с. 52.
216 Кристеллер П. История европейской гравюры. М., 1939,
с. 358—359.
217 Цит. по: Алексеев М. П. Вильям Хогарт и его «Анализ
красоты».— В кн.: Хогарт В. Анализ красоты. Л.—М., 1958, с. 27.
218 Там же.
219 Там же.
220 Там же, с. 17.
221 H a ζ 1 i t t W. On Hogarth's Marriage a-la-mode.—In.: Haz-
litt W. The Round Table. Edinburg, vol. 1, 18.17, p. 87.
222 Д и д ρ о Д. О драматической поэзии.— СС. М.—Л., 1936, т. 5,
с. 402—403.
223 Там же, с. 409.
224 Там же, с. 416.
225 Там же, с. 427.
226 С и д о ρ о в А. А. Уильям Хогарт. М.—Л.,
227 Бальзак О. СС. М., 1951, т. 1, с. 2.
228 Бальзак О. Отец Горио —СС. М., 1952, т. 3, с. П.
229 Л е ρ м о н τ о в М. Ю. СС. М.—Л., 1957, т.
230 Цит. по: Г е ρ б с τ м а н А. Театр Бальзака. Л.—М., 1938, с. 111.
231 Там же, с. 112.
232 3 о л я Э. Натурализм в театре.—ПСС. Киев, 1903, т. 15, с. 219.
233 Там же, с. 65—66.
1946,
1952,
. 6, с.
с. 16,
т. 3,
249.
3.
с.
516
Примечания
234 См.: Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX
и XX столетий. Л.—М., 1939, с. 9.
230 3 о л я Э. Натурализм в театре.— ПСС, т. 15, с. 6.
236 Там же, с. 71.
237 Там же, с. 93.
238 Там же, с. 70.
239 Там же, с. 6.
240 Zola Ε. Les oevres completes. Paris, [1928], vol. 48, p. 255.
241 См.: Шекспир В. «Гамлет». Акт 3, сц. 2.
242 См.: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с
друзьями.— ПСС, М., 1952, т. 8, с. 270.
243 Энциклопедический словарь «Брокгауз и Эфрон». Спб., 1899,
т. 26, с. 474.
244 Источник цитаты, к сожалению, не обнаружен.
245 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС. М.,
1954, т. 1, с. 129.
246 А н τ у а н А. Дневники директора театра. М.—Л., 1939, с. 96.
247 Там же.
248 См.: Золя Э. Натурализм в театре.—ПСС, т. 15, с. 88.
249 А н τ у а н А. Цит. соч., с. 188.
2о° Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС, т. 1,
с. 149.
251 Там же, с. 148.
252 С е ρ е б ρ о в А. (Тихонов А. Н.). Время и люди. М., 1955,
с. 114—115.
253 «Чихание Фреда Отто» — фильм, снятый в 1893 г. У. К. Л.
Диксоном для «Кинетоскопа» Т. А. Эдисона.
254 А н τ у а н А. Цит. соч., с. 221.
255 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС, т. 1,
с. 190.
256 Там же, с. 191.
257 А н τ у а н А. Цит. соч., с. 115.
258 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС, т. 1,
с. 160.
259 Там же, с. 191.
260 Там же, с. 190.
261 См.: Ε d е г I. М. Geschichte der Photographie. Halle, 1932, vol. 1,
S. 482.
Подготовительные материалы
ко второму изданию «Глубокого экрана»
После сдачи рукописи «Глубокого экрана» в издательство в
1966 г. Козинцев продолжал трудиться над книгой. К сожалению, заклю-
Примечания
517
чительный этап работы издательства над рукописью совпал с разгаром
сложных натурных съемок «Короля Лира» (1969), и Козинцев не имел
возможности внести все накопленные поправки и дополнения в
окончательный текст. Поэтому он начал думать о втором издании и стал
готовить его еще тогда, когда книга печаталась в типографии, используя
для этого имевшийся у него экземпляр верстки.
После выхода книги из печати на рабочем столе Козинцева постоянно
находился ее экземпляр, специально предназначенный для внесения
поправок и дополнений. На полях этого экземпляра имеются
многочисленные пометки, показывающие, в каком направлении автор предполагал
вести работу над отдельными страницами книги. Так, на стр. 57 против
абзаца об Е. Е. Енее написано: «Мало», на стр. 123 у начала главы об
Эйзенштейне имеется пометка: «Скороговорка» и т. д. В экземпляр
вложены листки с заметками о необходимости более серьезных изменений
и дополнений вплоть до включения новых глав. Об этом же есть и записи
в рабочих тетрадях, например: «Глубокий экран». Глава «Нестреляющие
ружья» — искусство нашего века. «Выразительность», «лепка», «объем»
в искусстве мелодрамы, детектива, даже у Бальзака. И потом «Дама
с собачкой». Все «как бы не вылеплено», «лишено цвета». Это же у
итальянцев. «Парижанка» и фильмы самого Чарли». (На полях записи сделана
пометка: «К.Я» — «Киноязык», что означает возможность использования
этого материала и в готовившемся Козинцевым исследовании по теории
кино).
Параллельно с записями в рабочих тетрадях (как правило, с
пометкой «ГЭ») шло накопление материала в виде заметок и записей на
отдельных листах, машинописных и рукописных фрагментов нового
текста, который Козинцев раскладывал по папкам, названным по главам
книги. В папках встречаются также заметки и фрагменты текстов, не
вошедших в первое издание (на некоторых сделана пометка: «2 изд»).
Публикуемые в качестве приложения к основному тексту книги
подготовительные материалы ко второму изданию охватывают только
незначительную часть общего их объема, находящегося в АК. Отбирая
тексты в пределах, определяемых структурой и объемом 1-го тома,
составители стремились отразить основные направления дополнений и
изменений текста книги. Поэтому публикуемый текст содержит как более или
менее законченные фрагменты (чаще всего напечатанные Козинцевым на
машинке), так и небольшие заметки, которые иногда имеют характер
плана или тезисов.
Так как почти все включенные в эту публикацию тексты написаны
в относительно короткий срок (1971 — начало 1973), а тексты,
написанные ранее, носят в большинстве случаев следы правки, сделанной в это
же время, составители расположили их не в хронологическом, а в
тематическом порядке с разбивкой по главам, что должно облегчить читателю
соотнесение подготовительных материалов ко второму изданию с текстом
издания 1971 г.
1 Киреевский И. В. Девятнадцатый век.— ПСС. М., 1911, т. 1,
с. 86.
2 Цитата приведена по памяти. У Тынянова: «Время вдруг
переломилось... Лица удивительной немоты появились сразу...»
(Тынянов Ю. Н. Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1935, с. 3).
3 См. примеч. ПО к «Глубокому экрану».
518
Примечания
4 Название серии фильмов, выпускавшихся в 1912—1917 гг.
кинофирмой «Торговый дом Тиман и Рейнгольд».
5 См.: Nabokov V. Nikolai Gogol. Ν. Y., 1961, p. 150.
6 Поэтика кино. Сб. ст. под ред. Б. М. Эйхенбаума. М.—Л., 1927.
7 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС. М.,
1954, т. 1, с. 295.
8 Трюковой прием, с помощью которого заставляют лошадь упасть
на полном скаку.
9 Тынянов Ю. Н. О фэксах.—Сов. экран, 1929, № 14, с. 10.
10 Имеются в виду слова В. И. Ленина, приведенные в
воспоминаниях К. Цеткин: «Право, наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то
большего, чем зрелищ».— В кн.: В. И. Ленин о литературе и искусстве.
5-е изд. М., 1976, с. 660.
11 В библиотеке Козинцева находится книга В. И. Пудовкина «Актер
в фильме» (М., 1935) с надписью: «Дорогому Григорию Козинцеву,
товарищу по клятве сделать кино самым передовым искусством. В. Пудовкин.
16.1.1935».
12 «Jampers» (англ.) — «Прыгуны». Спектакль по пьесе Т. Стоппар-
да Козинцев видел в Лондоне в июне 1972 г. По поводу этого спектакля он
писал С. И. Юткевичу 8 июля 1972 г.: «...очень забавно, ей-богу, дико
напоминает нашу «Женитьбу». Артисты лихие, на сцене помесь пародии
на философию и бурлеска, телевизор во всю декорацию: проецирует
людей на Луне, военные парады, смены английских министерств, а пока
какой-то дурак переделал зал университета в гимнастический и штук
девять(!) акробатов все время образуют пирамиды, жена профессора
философии, бывшая звезда мюзик-холла, лечится психоанализом. И тут
же застрелили одного из акробатов... и это лишь ничтожная и
самая поддающаяся пересказу часть пьесы и спектакля».
13 Изобразительное искусство, 1919, № 1, с. 25.
14 Луначарский А. В. Вильгельм Гаузенштейн.— СС. М., 1967,
т. 7, с. 377.
15 Там же.
Ib Имеется в виду не завершенная М. П. Мусоргским речитативная
опера «Женитьба» по комедии Н. В. Гоголя.
17 Герой романа Ю. К. Олеши «Зависть» (1927).
18 В. В. Хлебников, объявивший себя одним из Председателей
Земного Шара в стихотворении «Только мы, свернув ваши три года
войны...» (1917), по воспоминаниям современников, носил свои рукописи
в наволочке.
19 Шуточное переименование статьи С. М. Эйзенштейна
«Одолжайтесь!» (1932).
20 В стихотворении В. В. Хлебникова «Заклятие смехом» ( 1906—
1908) все слова были образованы от корня «смех».
21 Из стихотворения «Одинокий лицедей» (1922).
22 «Киноком» (от «кино-око») называл себя Д. Вертов.
23 Из поэмы В. В. Хлебникова «Ладомир» (1920).
Примечания
519
24 Там же.
25 Прекрасная Елена. Опера-фарс Оффенбаха. Перевод с франц.
В. А. Крылова. 3-е изд. Спб., 1870, с. 60.
26 Коренные вопросы советской кинематографии. М., 1938, с. 161.
27 В сокращенной стенограмме выступления Козинцева (см. т. 2 наст,
изд.) высказывания о «подушке Бабичева» и «Встречном» отсутствуют.
28 Τ о л с τ о й Л. Н. О литературе. Статьи, письма, дневники. М.,
1955, с. 316.
29 Персонаж трагедии У. Шекспира «Король Лир».
30 См. поэму В. В. Маяковского «Хорошо!» (гл. 13).
31 См. об этом: Белинский В. Г. Гамлет, драма Шекспира.
Мочалов в роли Гамлета.— ПСС. Спб., 1901, т. 3, с. 186—283.
32 Г е ρ ц е н А. И. Былое и думы. Ч. 4.— СС. М., 1956, т. 9, с. 31.
п Ревизор. Л., 1929, № 7, с. 2.
34 Довженко А. П. Из записных книжек и дневников.— СС. М.,
1968, т. 3, с. 565. Об описываемых Довженко и Козинцевым явлениях
в «Истории советского кино» сказано: «Период 1946—1952 годов
необходимо рассматривать в контексте развития всего советского кино —
свершений 30-х годов, углубления реализма в военные годы и того
стремительного подъема, который начался в середине 50-х. Тогда становится
очевидным временный характер тех отступлении от реализма, которые
возникали в киноискусстве послевоенных лет наряду с определенными
завоеваниями и которые хотя и нанесли советскому киноискусству
несомненный ущерб, но не могли изменить его природу, не могли прервать
высокую традицию революционного искусства, ставшую основой успехов
последующего времени» (М., 1975, т. 3, с. 97).
'^Эйзенштейн СМ. Одолжайтесь! — Т. 2, с. 61.
О своей работе в кино и театре
О кино, фэксах и себе
Интервью чешского кинокритика Любомира Лингарта,
встретившегося с Козинцевым в Ленинграде в ноябре 1930 г. Текст был опубликован
дважды: в газете «Berlin am Morgen» 12 февр. 1931 г. и в журнале
«Studio» (Прага), 1931, № 2 (сент.), с. 43—44, 49. В более полном чешском
тексте отсутствует упоминание о фильме «История большевика». Как
сообщил составителям Л. Лингарт, абзац, в котором Козинцев говорил
о намерении поставить этот фильм, был исключен по требованию издателя
журнала О. Штух-Марзена, опасавшегося цензурных осложнений.
Печатается по тексту журнала «Studio» с дополнением исключенного абзаца
по тексту газеты «Berlin am Morgen». Перевод Я. Л. Бутовского.
'Тынянов Ю. Н. Об основах кино.— Поэтика кино. Л., 1927,
с. 84.
520
Примечания
<0 работе над трилогией о Максиме)
Лекции, прочитанные осенью 1937 г. для слушателей курса Академии
режиссуры, работавшей на базе ГИКа. Опубликованы в сб. «Из истории
«Ленфильма», вып. 4. Л.— М., 1975, с. 93—126. Печатаются по
правленному Козинцевым тексту стенограмм, хранящихся в АК.
Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию. Кн. 1.
Спб., 1748, с. 17.
2 В АК хранятся тетради 1930—1933 гг. с многочисленными
выписками из книг, периодики и архивных документов. По ним видно, что
некоторые эпизоды трилогии были подсказаны фактами, приведенными в
мемуарах старых большевиков. Прочтя книгу П. Никифорова «Муравьи
революции» (М., 1932), Козинцев записал: «Много полезного! Очень хороша
история стачки... Первомайская демонстрация в тюрьме. В одиночке
начинают петь «Вихри враждебные», и это подхватывает вся тюрьма.
Продолжают петь, пока их тащат по коридору, и поют в темном карцере...
Описание проводов смертников». (Последняя фраза подчеркнута
красным карандашом). Из книги Н. Семашко «Клочки воспоминаний* (М.,
1930) сделана выписка: «Поэтому во время фотографирования в
жандармском управлении я сделал такое свирепое бандитское лицо, что даже
видавший виды жандармский фотограф сказал: «Ну и физиономия».
3 См.: Михайлов И. К. Четверть века подпольщика. М., 1957,
с. 62—64. Цитаты из этой книги и книги П. Никифорова приведены
Козинцевым по памяти.
4 См.: Фишелев М. От харьковской голубятни до ангарской
ссылки. М., 1932, с. 146.
5 Де Костер Ш. Легенда об Уленшпигеле. М., 1935, с. 18.
6 Там же, с. 418.
7 Там же, с. 457.
8 Б л о к А. А. Предисловие к поэме «Возмездие».— Соч. М., 1955,
т. 1, с. 477—478, 765—766.
9 Л е н и н В. И. Что делать? — ПСС, т. 6, с. 9.
10 Л е н и н В. И. Начало демонстраций.— ПСС, т. 20, с. 75.
11 Пинкертон — сыщик, герой детективных рассказов анонимных
авторов, печатавшихся до революции отдельными выпусками. В 20-е гг.
предпринимались попытки создания «Красного Пинкертона».
12 Золя Э. Чувство действительного. (В современном переводе:
Золя Э. Чувство реального.— СС. М., 1966, т. 24, с. 406).
13 Приведено по памяти. См.: Белинский В. Г. ПСС. Спб., 1901,
т. 3, с. 190—283.
14 Л е н с к и й А. П. Пережитое.— В кн.: Ленский А. П. Статьи.
Письма. Записки. М.—Л., 1935, с. 64.
15 Стендаль. О любви.—СС. Л.—М., 1935, т. 7, с. 25.
16 Постоянно работавший с Козинцевым и Траубергом Е. Е. Еней не
смог принять участия в работе над фильмом «Выборгская сторона».
17 В современном переводе: Гюго В. СС. М., 1955, т. 8, с. 9.
18 В современном переводе: Флобер Г. Воспитание чувств.— СС.
М., 1956, т. 3, с. 249.
Примечания
521
19 В современном переводе: Золя Э. СС. М., 1964, т. 15, с. 517.
20 Π у ш к и н А. С. «Медный всадник». Вступление.
21 Г о г о л ь Н. В. Невский проспект.— ПСС, М., 1938, т.З, с. 19, 46.
22 Достоевский Φ. М. Преступление и наказание.— ПСС. Спб.,
б.г., т. 8, с. 5, 220.
23 Из стихотворения «О погоде», ч. 2 (1865).
24 Тургенев И. С. Призраки.—СС. М., 1955, т. 7, с. 33.
25 Помяловский Н. Г. Брат и сестра.— ПСС. М.—Л., 1935, т. 2,
с. 215.
26 Белый А. Петербург. Пг., 1916, с. 24.
27 Б у н и н И. А. Петлистые уши.— Слово Сб. 7. М., 1917, с. 219,
224—225.
28 Черносотенные монархические организации, образованные в
1905 и 1907 гг.
29 Герой приключенческого романа Понсон дю Террайля.
30 Название статьи В. И. Ленина, написанной в 1910 г.—
Л е н и н В. И. ПСС, т. 20, с. 90.
<0 фильме «Выборгская сторона»)
Выступление на обсуждении кинофильма в Московском Доме кино
2 декабря 1938 г. Печатается по стенограмме, хранящейся в ЦГАЛИ,
ф. 2923, оп. 1, ед. хр. 31, лл. 28 об.—35.
1 С. М. Эйзенштейн был председателем на этом обсуждении.
2 См.: Постановление Жюри Правительственной комиссии по
конкурсу на лучший учебник для 3-го и 4-го классов средней школы по
истории СССР.— Правда, 1937, 22 авг.
3 Л е н и н В. И. ПСС, т. 35, с. 2.
Люди «Выборгской стороны»
Написано совместно с Л. 3. Траубергом. Печатается по тексту газеты
«Кино», М., 1938, 5 дек.
Фильм о Карле Марксе
Написано совместно с Л. 3. Траубергом. Печатается по тексту
журнала «Искусство и жизнь», Л., 1939, № 7, с. 18—19.
1 Цит. по: Энгельс Ф. Похороны Карла Маркса.— Маркс К-,
Энгельс Ф. Соч. М., 1933, т. 15, с. 656 (2-е изд.: т. 19, с. 353).
2 Энгельс Ф. Библии чудесное избавление от дерзкого
покушения...— Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., М.—Л., 1929, т. 2, с. 206 (2-е изд.:
т. 41, с. 304).
522
Примечания
3 Этими словами Гамлета дочь К. Маркса Э. Маркс-Эвелинг
закончила свои воспоминания «Карл Маркс (беглые заметки)».—
Воспоминания о Марксе. М., 1940, с. 145.
0 спектакле «Опасный поворот»
Выступление 8 сентября 1939 г. на совещании в Театре комедии,
посвященном обсуждению спектакля. Печатается по частично
правленной Козинцевым стенограмме, хранящейся в АК-
1 Ассоциация со статьей В. Г. Белинского «Гамлет», драма
Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838).
2 ХодотовН. Гамлет, каким я его «души моей глазами» вижу.—
Ежегодник императорских театров. Вып. 3. Спб., 1911, с. 16—102.
3 Искусство и жизнь. Л., 1939, № 7, с. 28.
4 Сов. искусство, 1939, 27 июня.
5 Лит. газ., 1939, 20 авг.
6 Лит. газ., 1939, 5 июля.
7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1931, т. 8, с. 6 (2-е изд.: т. 7,
с. 11).
8 Героиня пьесы В. Сарду и Э. Моро «Мадам Сан-Жен».
Режиссерская экспозиция спектакля «Отелло»
Режиссерская экспозиция спектакля Академического театра драмы
им. А. С. Пушкина. Печатается по машинописному тексту, датированному
27 ноября 1943 г. и хранящемуся в АК-
1 M а ρ л о К. «Тамерлан Великий», ч. 2, акт 4, сц. 4.
2 Ассоциация со словами Гамлета: «Век вывихнут... О проклятое
несчастье, что я родился на свет, чтобы вправить его» («Гамлет», акт I,
сц. V, прозаический перев. M. М. Морозова).
3 Перевод Б. Л. Пастернака.
Мысли о картине
Выступление на читке литературного сценария Ю. П. Германа
«Лекарь Пирогов» в Ленинградском Доме кино 13 мая 1946 г. Под
заглавием «Мысли о картине» частично опубликовано в газете «Кадр», Л.,
1946, 25 мая. Печатается по правленной Козинцевым стенограмме,
хранящейся в АК.
1 В конце мая 1941 г. Козинцев и Трауберг начали работу над
режиссерским сценарием «Великий лекарь», но не завершили его.
2 Юрий Павлович Герман — автор сценария.
3 См. письмо к Е. Д. Березиной (осень 1842).—В кн.:
Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания. М., 1950, с. 468—469.
Примечания
523
4 Соловьев СМ. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1872,
с. 121.
5 Приведено по памяти. См.: ВеселовскийА. Н. Историческая
поэтика. Л., 1940, с. 65.
6 См.: Пушкин А. С. (Заметки о народной драме и драме «Марфа
Посадница» М. П. Погодина).— ПСС. М., 1937, т. 9, с. 173.
' Герой повести А. Шамиссо «Необычайная история Петера Шлеме-
ля» (1814).
8 См.: В а л л е ρ и-Р а д о Р. Жизнь Пастера. М., 1950, с. 413.
<0 замысле фильма «Белинский»)
Стенограмма лекции^ прочитанной студентам ВГИКа 17 апреля
1948 г. Печатается по тексту, хранящемуся в АК.
1 Приведено по памяти. См.: Белинский В. Г. Письма. Спб.,
1914, т. 2, с. 310.
2 Из стихотворения Н. А. Некрасова «Белинский» (1855).
3 Из стихотворения Е. А. Баратынского «Последний поэт» (1835).
4 Приведено по памяти. См.: Гейне Г. Лютеция.—ПСС. Спб.,
1904, т. 2, с. 10—11.
(Режиссерская экспозиция фильма «Дон Кихот»)
Выступление на заседании художественного совета «Ленфильма»
24 марта 1956 г. Частично опубликовано в газете «Кадр», 1956, 7 апр.
Печатается по частично правленной Козинцевым стенограмме,
хранящейся в АК.
1 См.: Гете И.-В. Годы учения Вильгельма Мейстера.— СС. М.,
1935, т. 7, с. 248.
2 См.: Маркс К. К критике политической экономии.— Маркс К.,
Энгельс Ф. Об искусстве. М.—Л., 1937, с. 38.
3 Шекспир У. Сонет 130. Перевод С. Я. Маршака.
4 ШекспирУ. «Король Лир», акт IV, сц. I.
5 В ходе обсуждения режиссер А. В. Ивановский спросил Козинцева,
знает ли он живопись Зулоаги.
(Режиссерская экспозиция фильма «Гамлет»)
Выступление перед обсуждением режиссерского сценария на
художественном совете «Ленфильма» 19 июля 1962 г. Печатается по
стенограмме, хранящейся в АК.
1 См.: Громова У. Из записной книжки,— В кн.: Свет пламенных
сердец. Донецк, 1970, с. 55.
524
Примечания
0 людях, делавших «Гамлет»
Козинцев дважды, по одним и тем же тезисам выступал на эту тему:
30 марта 1964 г. на обсуждении фильма художественным советом «Лен-
фильма» и 16 апреля перед премьерой в Ленинградском Доме кино,
Выступление частично опубликовано в газете «Кадр», Л., 1964, 8 апр.
Печатается по стенограммам, хранящимся в Информбюро «Ленфильма»
1 Имеются в виду слова Л. Н. Толстого: «Надо заострить художе*
ственное произведение, чтобы оно проникло». Дневник за 1890 г.^-
Толстой Л. Н. ПСС. М., 1952, т. 51, с. 13.
От автора сценария
Предисловие к литературному сценарию по трагедии У. Шекспира
«Король Лир». Печатается по тексту, хранящемуся в АК.
1 «Король Лир», акт I, сц. II.
2 «Король Лир», акт III, сц. II.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Летопись жизни и творчества
Г. М. Козинцева.
1905
22 марта. В Киеве родился Григорий Михайлович Козинцев. Мать —
Анна Григорьевна Козинцева, отец — Михаил Исаакович Козинцев,
врач.
1913
Поступает в гимназию в Киеве, где учится до 1919 г.
1919
Март — апрель. По вечерам посещает школу живописи А. А. Экстер.
Участвует в росписи декораций к спектаклю «Фуэнте Овехуна» по пьесе
Лопе де Веги (постановка К. А. Марджанова). Премьера спектакля
состоялась 1 мая, в бывшем театре Соловцова.
Июль. Премьера спектакля «Балаганное представление четырех
клоунов» в театре «Арлекин», организованном в Киеве Козинцевым и
С. И. Юткевичем,— первая театральная постановка Козинцева.
1920
Январь. По командировке Киевского Союза работников искусств
приезжает в Петроград. По предложению К. А. Марджанова начинает
работать режиссером в студии при Театре комической оперы.
Одновременно поступает в Петроградские государственные свободные
художественно-учебные мастерские, в мастерскую Н. И. Альтмана, которую
посещает до 1922 г.
Весна. Знакомится с Леонидом Захаровичем Траубергом, вместе
с которым затем работает многие годы.
1921
5 декабря. Первое публичное выступление — доклад «Театр
разорванных ритмов» на диспуте об эксцентрическом театре в петроградской
Вольной комедии.
Летопись жизни и творчества Г. М. Козинцева
527
1922
Первое выступление в печати: статья «АБ! Парад эксцентриков» в
книге «Эксцентризм» (Пг., 1922).
9 июля. В Петрограде начинает работать Фабрика эксцентрического
актера (ФЭКС) под руководством Козинцева и Трауберга.
25 сентября. На сцене Петроградского Пролеткульта премьера
первой постановки ФЭКС «Женитьба».
1923
4 июня. Премьера спектакля ФЭКС «Внешторг на Эйфелевой башне»
в зале Музыкальной комедии (Петроград).
Осень. Совместно с Траубергом пишет заявку на «киноагитку»
«Женщина Эдисона».
1924
5 мая. Кинофабрика «Севзапкино» принимает сценарий Козинцева
и Трауберга «Похождения Октябрины».
6 мая. Театральный коллектив ФЭКС преобразуется в
киномастерскую ФЭКС. В состав организационной группы входят Козинцев,
Трауберг, А. Я. Каплер, С. А. Мартинсон.
Май. Зачисляется в штат кинофабрики «Севзапкино» в качестве
режиссера.
9 декабря. На экраны выходит первый кинофильм Козинцева и
Трауберга «Похождения Октябрины».
1925
23 мая. На экраны выходит фильм «Мишки против Юденича»
(сценарий И. Куниной, Козинцева и Трауберга, режиссеры Козинцев
и Трауберг), работа над которым положила начало многолетнему
сотрудничеству и личной дружбе Козинцева с художником Евгением
Евгеньевичем Енеем.
Лето. Совместно с Траубергом работает над фильмом «Чертово
колесо». С этого момента начинается многолетнее сотрудничество и
личная дружба Козинцева с кинооператором Андреем Николаевичем
Москвиным.
1926
13 января. Кинофабрика «Ленинградкино» поручает Козинцеву
и Траубергу постановку фильма «Шинель» по сценарию Ю. Н. Тынянова.
16 марта. На экраны выходит фильм «Чертово колесо».
10 мая. На экраны выходит фильм «Шинель».
528
Приложения
14 июля. Кинофабрика «Ленинградкино» принимает сценарий
«Ремонт» («Братишка») * и поручает его постановку Козинцеву и
Траубергу.
22 октября. Ленинградская фабрика «Совкино» поручает Козинцеву
и Траубергу постановку фильма «С.В.Д.» по сценарию Ю. Н. Тынянова
и Ю. Г. Оксмана.
Октябрь. Завершается работа над фильмом «Братишка».
1927
30 апреля. На экраны выходит фильм «Братишка».
Лето. Работа над фильмом «Чужой пиджак» по сценарию В. А.
Каверина. Фильм завершает ассистент Козинцева и Трауберга Б. В. Шпис; на
экраны фильм не был выпущен.
23 августа. На экраны выходит фильм «Союз Великого Дела»
(С.В.Д.).
Начинает преподавать в Ленинградском институте сценических
искусств, в который влилась киномастерская ФЭКС.
21 октября. Запускается в производство фильм «Новый Вавилон»
(режиссеры Козинцев и Трауберг).
1928
Январь — февраль. Вместе с Траубергом находится в служебной
командировке в Берлине и Париже. В Париже производятся съемки
натуры для фильма «Новый Вавилон».
15 февраля. Премьера фильма «С.В.Д.» в кинотеатре «Тауэнциен-
палас» в Берлине, на которой присутствуют режиссеры.
1929
Январь. Начало многолетнего сотрудничества и личной дружбы
Козинцева с композитором Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем,
который работает в это время над музыкой к фильму «Новый Вавилон».
18 марта. На экраны выходит фильм «Новый Вавилон».
30 июля. Начинается работа над фильмом «Одна» (режиссеры
Козинцев и Трауберг).
1930
3 октября. Начинается работа над звуковым вариантом фильма
«Одна».
* Если в летописи отсутствуют сведения об авторах сценария, это
означает, что ими являются Козинцев и Трауберг.
Летопись жизни и творчества Г. М. Козинцева
529
1931
12 февраля. В газете «Berlin am Morgen» опубликовано интервью
с Козинцевым, в котором содержится первое упоминание о замысле
трилогии о Максиме.
10 октября. На экраны выходит фильм «Одна» — первый звуковой
фильм ленинградской кинофабрики и первый фильм, в котором была
записана музыка Шостаковича.
1932
19 февраля. Входит в состав художественного совета, созданного на
ленинградской кинофабрике «Союзфильм».
Весна. Козинцев и Трауберг готовятся к съемкам фильма
«Путешествие в СССР».
Лето. Начинают снимать фильм. Фильм не был завершен.
3 декабря. В многотиражной газете ленинградской кинофабрики
«Союзкино» «Кадр» публикуется заявка Козинцева и Трауберга на
кинотрилогию «Большевик».
1933
Работает совместно с Траубергом над сценарием и готовится к
съемкам первой серии трилогии.
25—30 июля. Участвует в работе I Всесоюзного совещания по
тематическому планированию художественных фильмов на 1934 г., выступает
в прениях.
Осень. Выступает с инициативой организации актерской мастерской
при ленинградской кинофабрике «Союзкино».
1934
16 февраля. Запускается в производство фильм «Юность Максима».
25 ноября. Закончена работа над фильмом «Юность Максима».
1935
Работает совместно с Траубергом и Л. И. Славиным над сценарием
«Возвращение Максима».
// января. Награждается орденом Ленина.
27 января. На экраны выходит фильм «Юность Максима».
2 марта. Жюри Первого международного кинофестиваля в Москве
присуждает 1-ю премию киностудии «Ленфильм» за фильмы «Чапаев»
(режиссеры братья Васильевы), «Юность Максима» (режиссеры Г.
Козинцев и Л. Трауберг) и «Крестьяне» (режиссер Ф. Эрмлер).
530
Приложения
Июнь. Назначается художественным руководителем актерской
мастерской киностудии «Ленфильм».
1936
26 апреля. Запускается в производство фильм «Возвращение
Максима».
1937
Работает совместно с Траубергом над сценарием «Выборгская
сторона».
Вступает в Союз советских писателей СССР.
Февраль. Закончена работа над фильмом «Возвращение Максима».
23 мая. На экраны выходит фильм «Возвращение Максима».
1938
Январь. Запускается в производство фильм «Выборгская сторона».
30 мая. Первый выпуск двенадцати актеров, окончивших актерскую
киношколу под руководством Козинцева.
1939
Работает совместно с Траубергом над литературным сценарием
«Карл Маркс».
/ февраля. Награждается орденом Трудового Красного Знамени.
2 февраля. На экраны выходит фильм «Выборгская сторона».
9 июня. Премьера спектакля «Опасный поворот» по пьесе Д.-Б.
Пристли в Ленинградском театре комедии.
1940
Козинцев и Трауберг завершают работу над двухсерийным
сценарием «Карл Маркс» и начинают подготовку к съемкам фильма.
20 сентября. Включен в состав редакционной коллегии журнала
«Искусство кино».
Осень. Начинает работу над спектаклем «Король Лир» по трагедии
У. Шекспира в Ленинградском Большом драматическом театре
им. М. Горького.
1941
15 марта. Г. М. Козинцеву, Л. 3. Траубергу и Б. П. Чиркову
присуждается Государственная премия СССР 1-й степени за создание
трилогии о Максиме.
Летопись жизни и творчества Г. М. Козинцева
531
24 марта. Премьера спектакля «Король Лир».
17 мая. Приказом Комитета по делам кинематографии при СНК
СССР прекращена работа над фильмом «Карл Маркс».
2 июня. Запускается в производство фильм «Великий лекарь» по
сценарию Ю. П. Германа (режиссеры Козинцев и Трауберг). Фильм не
был завершен.
2 августа. На экраны выходит «Боевой киносборник» № 1, в составе
которого киноновелла «Случай на телеграфе» (сценарий Л. О. Арнштама,
режиссеры Арнштам и Козинцев).
Август. С группой кинематографистов работает над сценарием
и снимает ряд эпизодов для короткометражного фильма «Это и есть
Ленинград». Фильм не был завершен.
Октябрь. Решением Комитета по делам кинематографии при СНК
СССР направляется в Алма-Ату вместе с другими ленинградскими
кинематографистами.
iß ноября. Назначается членом Художественного совета вновь
организованной Центральной объединенной киностудии по производству
художественных фильмов (ЦОКС) в Алма-Ате.
Декабрь. Начинает преподавать режиссуру во ВГИКе.
1942
Зима. Работает совместно с Траубергом над сценарием «Город
в кольце».
/9 марта. Запускается в производство короткометражный фильм
«Юный Фриц» (сценарий С. Я. Маршака, режиссеры Козинцев и
Трауберг).
Май. Завершается работа над фильмом «Юный Фриц».
Лето и осень. Работает над короткометражным фильмом «Однажды
ночью» (сценарий А. Ольшанского, режиссер Козинцев).
1943
Работает совместно с Траубергом над сценарием «Буря» («Простые
люди»).
14 июля. Выступает на заседании художественного совета
Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в
Новосибирске с сообщением о замысле постановки трагедии У. Шекспира «Отелло».
1944
Апрель. Премьера спектакля «Отелло».
30 мая. Вновь зачислен в штат киностудии «Ленфильм».
21 июня. Во ВГИКе организуется режиссерская мастерская Г. М.
Козинцева.
7 июля. Запускается в производство фильм «Буря» (режиссеры
Козинцев и Трауберг).
532
Приложения
1945
Начало ноября. Завершается работа над фильмом «Простые люди»
(«Буря»).
1946
25 апреля. Выступает с докладом «Сценическая концепция «Отелло»
на 8-й Шекспировской конференции в Москве.
20 августа. Запускается в производство фильм «Пирогов» (сценарий
Ю. П. Германа).
4 сентября. Опубликовано Постановление ЦК ВКП(б) «О
кинофильме «Большая жизнь» (2-я серия), в котором содержатся критические
замечания в адрес фильма «Простые люди».
1947
16 декабря. На экраны выходит фильм «Пирогов».
2 апреля. Г. М. Козинцеву, Ю. П. Герману, К. В. Скоробогатову,
А. Н. Москвину, Е. Е. Енею присуждается Государственная премия СССР
за фильм «Пирогов».
Совместно с Ю. П. Германом работает над сценарием «Белинский».
1949
12 ноября. Запускается в производство фильм «Белинский».
1950
6 марта. Козинцеву присваивается звание заслуженного деятеля
искусств РСФСР.
1951
Завершает работу над фильмом «Белинский».
1952
Вместе с И. Г. Эренбургом работает над литературным сценарием
«Большое сердце» по роману Эренбурга «Буря».
10 декабря. Запускается в производство фильм «Большое сердце».
1953
// мая. Приказом министра культуры РСФСР прекращается работа
над фильмом «Большое сердце».
Летопись жизни и творчества Г. М. Козинцева
533
4 июня. На экраны выходит фильм «Белинский».
12 октября. Выступает в Академическом театре драмы им. А. С.
Пушкина с режиссерской экспозицией спектакля «Гамлет» по трагедии
У. Шекспира.
1954
31 марта. Премьера спектакля «Гамлет».
27 августа. В план киностудии «Ленфильм» включена
экранизация романа М. Сервантеса «Дон Кихот». Постановка поручена
Козинцеву.
1955
18 августа. Запускается в производство фильм «Дон Кихот».
1956
25 августа. На экраны выходит фильм «Простые люди».
1957
2—15 мая. Присутствует на X Международном
кинофестивале (МКФ) в Канне (Франция), где демонстрируется фильм «Дон
Кихот».
23 мая. На экраны выходит фильм «Дон Кихот» — первый
полнометражный цветной широкоэкранный фильм режиссера и киностудии
«Ленфильм».
Лето. Начинает работу над литературным сценарием фильма
«Гамлет» по трагедии У. Шекспира.
9 августа. Награждается орденом Трудового Красного Знамени.
10—18 декабря. Участвует в работе конференции кинематографистов
социалистических стран в Праге.
1958
27 февраля — 4 марта. Участвует в работе Всесоюзной творческой
конференции работников кинематографии в Москве.
Март — ноябрь. Присутствует на премьерах фильма «Дон Кихот»
в Западном Берлине, ФРГ, Голландии, Бельгии.
4 июля. Удостоен второй премии за режиссуру фильма «Дон Кихот»
на I Всесоюзном кинофестивале (ВКФ) в Москве. Фильм «Дон Кихот»
удостоен третьей премии.
5—20 июля. Участвует в работе XI МКФ в Карловых Варах (ЧССР)
в качестве члена жюри.
534
Приложения
1959
Апрель. Участвует в работе II ВКФ в Киеве в качестве заместителя
председателя жюри.
Сентябрь. Возглавляет делегацию советских кинематографистов на
Неделе советского кино в Англии.
Декабрь. Посещает Мексику.
15 декабря. Награждается Почетной грамотой Советского Комитета
Защиты Мира.
1960
4—20 мая. Участвует в работе XIII МКФ в Канне в качестве члена
жюри.
Май. Посещает США по приглашению фирмы «Юнайтед Артисте».
9 июля. Решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
утверждается в ученом звании профессора по кафедре «Кинорежиссура».
27 сентября. Киностудия «Ленфильм» принимает литературный
сценарий «Гамлет».
1961
Март. В журнале «Новый мир» (№ 3) опубликована первая глава
книги «Глубокий экран».
Октябрь. Назначается художественным руководителем первого
творческого объединения киностудии «Ленфильм».
20—30 апреля. По приглашению Общества польско-советской
дружбы посещает Польшу. Награждается золотым почетным знаком
Общества.
8—17 октября. Посещает Германскую Демократическую Республику
по приглашению Академии искусств.
1962
9—24 июня. Принимает участие в работе XIII МКФ в Карловых
Варах (ЧССР) в качестве члена делегации советских кинематографистов.
19 июля. Первое творческое объединение киностудии «Ленфильм»
принимает режиссерский сценарий «Гамлет».
Август. Запускается в производство фильм «Гамлет».
Сентябрь. Выходит из печати книга Козинцева «Наш современник
Вильям Шекспир».
21 декабря. Начинаются съемки фильма «Гамлет».
1963
Работает над фильмом «Гамлет».
Летопись жизни и творчества Г. М. Козинцева
535
1964
30 марта. Художественный совет и дирекция киностудии «Ленфильм»
принимают фильм «Гамлет». На просмотре присутствуют артисты
Королевского Шекспировского театра (Англия), находящиеся на гастролях
в Ленинграде.
24 апреля. Премьера фильма «Гамлет» в Москве в кинотеатре
«Россия».
27 апреля. Козинцеву присваивается почетное звание народного
артиста СССР.
3 мая. Присутствует на премьере фильма «Гамлет» в кинотеатре
«Одеон» в Лондоне, приуроченной к 400-летию со дня рождения У.
Шекспира.
Июнь—ноябрь. Присутствует на премьерах фильма «Гамлет» и
принимает участие в работе МКФ в Испании (Сан-Себастьяно), в
Чехословакии (Прага), Италии (Венеция), США (Нью-Йорк), ФРГ (Висбаден),
Польше (Варшава).
Î4 ноября. Выступает в Париже на юбилейной Шекспировской сессии
ЮНЕСКО.
В 1964—1966 гг. фильм «Гамлет» был удостоен на Международных
и Всесоюзных кинофестивалях более трех десятков призов и наград.
1965
Март. Под руководством Козинцева начинают работать
двухгодичные Высшие режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм».
22 апреля. Г. М. Козинцеву присуждается Ленинская премия за
постановку фильма «Гамлет».
5—20 июля. Участвует в работе IV МКФ в Москве в качестве
заместителя председателя жюри конкурса художественных фильмов.
Осень. Начинает работу над сценарием фильма «Король Лир» по
трагедии У. Шекспира.
1966
Январь. Читает лекции в Швеции по приглашению Академии
киноискусства.
Март. Участвует в работе МКФ в Мар-дель-Плата (Аргентина)
в качестве члена жюри.
Май. Выходит в свет второе издание книги «Наш современник
Вильям Шекспир».
1967
Завершает работу над литературным сценарием фильма «Король
Лир».
536 Приложения
22 февраля— 11 марта. Присутствует на премьерах фильма «Гам*
лет» в Японии.
Апрель. Возглавляет делегацию советских кинематографистов на
Неделе советского кино в Лондоне.
5—22 июля. Участвует в работе V МКФ в Москве в качестве
заместителя председателя жюри конкурса художественных фильмов.
Октябрь. Посещает Англию по приглашению киноклубов.
4 ноября. Награждается орденом Ленина.
1968
Март—июль. Работает над режиссерским сценарием фильма
«Король Лир».
Август. Запускается в производство фильм «Король Лир».
Декабрь. Начало съемок фильма «Король Лир».
1969
Работает над фильмом «Король Лир».
1970
10 ноября. Художественный совет и дирекция киностудии «Лен-
фнльм» принимают фильм «Король Лир».
1971
Январь. На экраны выходит фильм «Король Лир».
10—20 апреля. Посещает Венгрию по приглашению киноклубов.
20—25 апреля. Участвует в Шекспировском конгрессе в Веймаре
(ГДР).
22 июня. Награждается орденом Октябрьской революции.
Июль. В журнале «Искусство кино» (№ 7) начинается публикация
глав из книги «Пространство трагедии». Отдельным изданием книга
вышла в 1973 г. после смерти автора.
Июль. Участвует в работе VII МКФ в Москве в качестве
председателя жюри конкурса художественных фильмов.
Август. Участвует в работе Шекспировского конгресса в Ванкувере
(Канада).
Выходит из печати книга «Глубокий экран».
1971 — 1973
Сценарно-режиссерская разработка задуманных фильмов «Гоголиа-
Летопись жизни и творчества Г. М. Коэилцевд
537
да» по Н. В. Гоголю, «Буря» и «Как вам это понравится» по У. Шекспиру,
«Маленькие трагедии» по А. С. Пушкину, «Уход» и др.
1972
22—27 февраля. Посещает Финляндию.
Апрель — ноябрь. Фильм «Король Лир» удостоен премий на МКФ
в Тегеране, Чикаго, Лондоне, Сорренто.
6 мая. Козинцеву вручается Золотой знак испанского ордена
«Сервантес».
. 18—25 мая. Участвует в работе специальной сессии университета Ка-
Фоскари в Венеции, посвященной ФЭКСу.
Июнь. Участвует в закладке нового здания театра «Глобус»
в Лондоне.
1973
5—14 апреля. Участвует в работе Шекспировского конгресса в
Веймаре (ГДР).
// мая. В Ленинграде умирает Григорий Михайлович Козинцев.
14 мая. Похоронен на Литераторских мостках на Волновом кладбище
в Ленинграде.
Работы Г. M. Козинцева в кино и театре
1919
БАЛАГАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ КЛОУНОВ. Текст
Г. Козинцева. Театр «Арлекин». Киев. Постановка и оформление Г. Кот
зинцева и С. Юткевича. В ролях: А. Каплер, Г. Козинцев, С. Юткевич и др.
СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ. Кукольное
представление по А. С. Пушкину. Театр «Арлекин». Киев. Постановка
и оформление Г. Козинцева и С. Юткевича. Исполнители: А. Каплер,
Г. Козинцев, С. Юткевич.
ЦАРЬ МАКСИМИЛИАН И НЕПОКОРНЫЙ СЫН ЕГО АДОЛЬФ.
Народное действо. Киев. Постановка и оформление Г. Козинцева. В
ролях: А. Каплер, Н. Масс и др.
1922
ЖЕНИТЬБА. Совершенно невероятные похождения Н. В. Гоголя.
Трюк в 3-х актах. ФЭКС. Петроград. Текст и постановка Г. Козинцева
и Л. Трауберга. Оформление Г. Козинцева. В ролях: А. Александров
(Серж), Таурек, А. Каплер, П. Юморской и др.
1923
АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФЭКСа. Текст КаТэ (Г.
Козинцев и Л. Трауберг). «Свободный театр». Петроград.
ВНЕШТОРГ НА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ. Агитбоевик в 3-х актах,
ФЭКС. Петроград. Текст и постановка Г. Козинцева и Л. Трауберга.
Оформление Г. Козинцева. В ролях: Р. Зеленая, А. Александров (Серж),
Ф. Кнорре и др.
ТРИ ТРИЛЛИОНА ИЕН. Американская оперетта в 1 действии КаТэ
(Г. Козинцев и Л. Трауберг). «Свободный театр». Петроград. В ролях:
С. Мартинсон, Л. Утесов, А. Александров (Серж), Ф. Кнорре и др.
1924
ПОХОЖДЕНИЯ ОКТЯБРИНЫ. Севзапкино, ФЭКС-фильм. 3 части.
Авторы сценария и режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг, операторы
Ф. Вериго-Даровский, И. Фролов. В ролях: 3. Тарховская, Е. Кумейко,
С. Мартинсон, А. Цереп, Ф. Кнорре и др. Фильм не сохранился.
Работы Г. M. Козинцева в кино и театре
539
1925
МИШКИ ПРОТИВ ЮДЕНИЧА. Севзапкино. 2 ч. Сценарий И. Куни-
ной, Г. Козинцева и Л. Трауберга, режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг,
оператор Ф. Вериго-Даровский, художник Е. Еней. В ролях: Шура
Завьялов, П. Понна, С. Герасимов, А. Костричкин, Е. Кумейко, Е. Галь,
Я. Жеймо и др. Фильм не сохранился.
1926
ЧЕРТОВО КОЛЕСО. Ленинградкино. 7 ч. Сценарий А.
Пиотровского, режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг, оператор А. Москвин, художник
Е. Еней. В ролях: П. Соболевский, Л. Семенова, С. Герасимов, Э. Галь,
А. Цереп, С. Мартинсон, Е. Кумейко, Я. Жеймо, А. Костричкин, А.
Арнольд, А. Каплер и др.
ШИНЕЛЬ. По мотивам повестей Н. В. Гоголя «Невский проспект»
и «Шинель». Ленинградкино. 7 ч. Сценарий Ю. Тынянова, режиссеры
Г. Козинцев и Л. Трауберг, операторы А. Москвин, Е. Михайлов,
художник Е. Еней. В ролях: А. Костричкин, А. Еремеева, С. Герасимов, А.
Каплер, Я. Жеймо, В. Лепко и др.
1927
БРАТИШКА. Ленсовкино. 6 ч. Авторы сценария и режиссеры
Г. Козинцев и Л. Трауберг, оператор А. Москвин, художник Е. Еней.
В ролях: П. Соболевский, Я. Жеймо, С. Мартинсон, А. Костричкин, С.
Герасимов и др. Фильм не сохранился.
СОЮЗ ВЕЛИКОГО ДЕЛА (С.В.Д.). Ленсовкино. 6 ч. Сценарий
Ю. Тынянова и Ю. Оксмана, режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг,
оператор А. Москвин, художник Е. Еней. В ролях: С. Герасимов, П.
Соболевский, С. Магарилл, А. Костричкин, К. Хохлов, Я. Жеймо, М. Мишель,
Н. Мичурин и др.
ЧУЖОЙ ПИДЖАК. Ленсовкино. 6 ч. Сценарий В. Каверина,
режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг (фильм завершен Б. Шписом), оператор
А. Москвин, художник Е. Еней. В ролях: А. Костричкин, С. Герасимов,
Н. Красоленко, Т. Макарова, Я. Жеймо, А. Арнольд и др. Фильм не
выпущен на экраны.
1929
НОВЫЙ ВАВИЛОН. Ленсовкино. 8 ч. Авторы сценария и режиссеры
Г. Козинцев и Л. Трауберг, оператор А. Москвин, художник Е. Еней,
композитор Д. Шостакович. В ролях: Е. Кузьмина, П. Соболевский,
Д. Гутман, С. Магарилл, С. Герасимов, В. Пудовкий, Я. Жеймо, А.
Арнольд, О. Жаков, А. Заржицкая и др.
1931
ОДНА. Ленсоюзкино. 7 ч. Авторы сценария и режиссеры Г. Козинцев
и Л. Трауберг, оператор А. Москвин, художник Е. Еней, композитор
540
Приложения
Д. Шостакович, звукорежиссер Л. Арнштам, звукооператор И. Волк.
В ролях: Е. Кузьмина, П. Соболевский, С. Герасимов, М. Бабанова, Ван
Люй-сян и др.
1932
ПУТЕШЕСТВИЕ В СССР. Ленсоюзкино. Сценарий Н. Погодина,
режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг, оператор А. Москвин, художник
Е. Еней. В ролях: М. Бабанова, М. Тарханов, Э. Гарин, Б. Чирков, С.
Каюков и др. Фильм не был закончен.
1935
ЮНОСТЬ МАКСИМА. «Ленфильм». 9 ч. Авторы сценария и
режиссеры Г. Козинцев и Л.Трауберг, оператор А. Москвин, художник
Е. Еней, композитор Д. Шостакович, звукооператор И. Волк. В ролях:
Б. Чирков, В. Кибардина, М. Тарханов, С. Каюков, И. Гошева, В. Блинов,
П. Волков и др.
1937
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА. «Ленфильм». 12 ч. Сценарий Г.
Козинцева, Л. Славина и Л. Трауберга, режиссеры Г. Козинцев и Л.
Трауберг, оператор А. Москвин, художник Е. Еней, композитор Д.
Шостакович, звукооператоры И. Волк, Б. Хуторянский. В ролях: Б. Чирков,
В. Кибардина, А. Кузнецов, М. Жаров, А. Зражевский, А. Чистяков,
В. Ванин, С. Бонди, В. Меркурьев, Ю. Толубеев и др.
1939
ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА. «Ленфильм». 12 ч. Авторы сценария
и режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг, операторы А. Москвин, Г.
Филатов, художник В. Власов, композитор Д. Шостакович, звукооператоры
И. Волк, Б. Хуторянский. В ролях: Б. Чирков, В. Кибардина, М. Штраух,
М. Геловани, Л. Любашевский, Н. Ужвий, А. Кузнецов, М. Жаров,
А. Чистяков, Ю. Толубеев, Б. Жуковский и др.
ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ. Пьеса Д.-Б.Пристли. Ленинградский театр
комедии. Постановка Г. Козинцева, художник Н. Акимов. В ролях:
И. Ханзель, Е. Юнгер, Г. Флоринский, Л. Сухаревская, И. Гошева, Б.
Тенин, Е. Волкова.
1941
КОРОЛЬ ЛИР. Трагедия У. Шекспира. Большой драматический
театр им. М. Горького. Ленинград. Постановка Г. Козинцева, художник
Н. Альтман, композитор Д. Шостакович. В ролях: В. Софронов, А. Лари-
ков, Г. Мичурин, Г. Самойлов, Е. Копелян, В. Полицеймако, А. Ефимова,
3. Карпова и др.
Работы Г. M. Козинцева в кино и театре
541
КАРЛ МАРКС. «Ленфильм». Авторы сценария и режиссеры Г.
Козинцев и Л. Трауберг, оператор А. Москвин, художник Н. Суворов,
композитор Д. Шостакович. В ролях: М. Штраух, Н. Черкасов, С. Пиляв-
ская и др. Фильм не был закончен.
ВСТРЕЧА С МАКСИМОМ. Новелла в «Боевом киносборнике № 1».
«Ленфильм». Сценарий Г. Козинцева и Л. Трауберга, режиссер С.
Герасимов, оператор В. Яковлев. В ролях: Б. Чирков и др.
СЛУЧАЙ НА ТЕЛЕГРАФЕ. Новелла в «Боевом киносборнике № 2>.
Сценарий Л. Арнштама, режиссеры Л. Арнштам и Г. Козинцев. В ролях:
Е. Червяков и др.
1942
ЮНЫЙ ФРИЦ. Центральная объединенная киностудия (ЦОКС).
Алма-Ата. Сценарий С. Маршака, режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг,
оператор А. Москвин, звукооператор И. Волк. В ролях: М. Жаров,
М. Штраух, Ю. Глизер, В. Пудовкин, Л. Атманаки и др. Фильм не
выпущен на экран.
ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ. Новелла в киносборнике «Наши девушки».
ЦОКС. Сценарий А. Ольшанского, режиссер Г. Козинцев, оператор
А. Москвин, художник Ф. Беренштам, композитор Г. Попов,
звукооператор И. Волк. В ролях: Н. Петропавловская, М. Кузнецов, А. Ячницкий,
Юра Боголюбов. Фильм не выпущен на экран.
1943
ОТЕЛЛО. Трагедия У. Шекспира. Ленинградский академический
театр драмы им. А. С. Пушкина. Новосибирск. Постановка Г. Козинцева,
художник Н. Альтман, композитор Г. Свиридов. В ролях: Ю. Юрьев,
К. Скоробогатов, О. Лебзак, Н. Рашевская, Б. Жуковский и др.
1945
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ. «Ленфильм». 8 ч. Авторы сценария и режиссеры
Г. Козинцев и Л. Трауберг, операторы А. Москвин, А. Назаров,
художники Е. Еней, Д. Винницкий, композитор Д. Шостакович, звукооператор
И. Волк. В ролях: Ю. Толубеев, О. Лебзак, Б. Жуковский, Ф. Бабаджа-
нов, Е. Корчагина-Александровская, Л. Емельянцева, В. Колчин, Т.
Пельтцер и др. Фильм выпущен на экран в 1956 г.
1947
ПИРОГОВ. «Ленфильм». 10 ч. Сценарий Ю. Германа, режиссер
Г. Козинцев, операторы А. Москвин, А. Назаров, Н. Шифрин, художники
Е. Еней, С. Малкин, композитор Д. Шостакович, звукооператоры И. Волк,
Б.· Хуторянский. В ролях: К. Скоробогатов, В. Честноков, О. Лебзак,
С. Яров, И. Новский, Н. Черкасов, А. Дикий и др.
542
Приложения
1951
БЕЛИНСКИЙ. «Ленфильм». 10 ч. Сценарий Ю. Германа, Е. Се-
ребровской, Г. Козинцева, режиссер Г. Козинцев, операторы А. Москвин,
М. Магидсон, С. Иванов, художник Е. Еней, композитор Д. Шостакович,
звукооператор И. Волк. В ролях: С. Курилов, Г. Вицин, А. Борисов,
B. Честноков, М. Афанасьев, Ю. Толубеев, Ю. Любимов, В. Белокуров,
К. Скоробогатов, Н. Мамаева, М. Названов и др.
1953
БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ. По мотивам романа И. Эренбурга «Буря».
«Ленфильм». Сценарий И. Эренбурга, Г. Козинцева, режиссер Г.
Козинцев, оператор А. Москвин, художник Е. Еней. В ролях: А. Попов
и др. Фильм не был закончен.
1954
ГАМЛЕТ. Трагедия У. Шекспира. Ленинградский академический
театр драмы им. А. С. Пушкина. Постановка Г. Козинцева, художник
Н. Альтман, композитор Д. Шостакович. В ролях: Б. Фрейндлих, К.
Скоробогатов, Н. Рашевская, Ю. Толубеев, Н. Мамаева, Г. Мичурин, В. Эрен-
берг, А. Дубенский и др.
1957
ДОН КИХОТ. По роману М. Сервантеса. «Ленфильм». Цветной,
широкоэкранный, 10 ч. Сценарий Е. Шварца, режиссер Г. Козинцев,
операторы А. Москвин, А. Дудко, художник Е. Еней, композитор К.
Караев, звукооператор И. Волк. В ролях: Н. Черкасов, Ю. Толубеев, С.
Бирман, В. Максимов, В. Колпаков, Л. Касьянова, Г. Вицин, Г. Волчек,
Б. Фрейндлих, Л. Вертинская, А. Вениаминов, О. Викландт и др.
1964
ГАМЛЕТ. По трагедии У. Шекспира. «Ленфильм».
Широкоэкранный, 2 серии, 16 ч. Автор сценария и режиссер Г. Козинцев, оператор
И. Грицюс, художники Е. Еней, Г. Кропачев, С. Вирсаладзе, композитор
Д. Шостакович, звукооператор Б. Хуторянский. В ролях: И.
Смоктуновский, М. Названов, Э. Радзинь, Ю. Толубеев, А. Вертинская, В. Эренберг,
C. Олексеенко, В. Медведев, Иг. Дмитриев и др.
1970
КОРОЛЬ ЛИР. По трагедии У. Шекспира. «Ленфильм».
Широкоэкранный, 2 серии, 14 ч. Автор сценария и режиссер Г. Козинцев, оператор
И. Грицюс, художники Е. Еней, В. Улитко, С. Вирсаладзе, композитор
Д. Шостакович, звукооператор Э. Ванунц. В ролях: Ю. Ярвет, Э. Радзинь,
Г. Волчек, В. Шендрикова, О. Даль, К. Себрис, Л. Мерзин, Р. Адомайтис.
В. Емельянов, А. Вокач, Д. Банионис, А. Петренко и др.
f
УКАЗАТЕЛИ
Указатель имен
Авербах И. А. 10
Авербах Л. Л. 510
Аверченко А. Т. 445
Адомайтис PB 542
Акимов Н. П. 540
Александр Македонский 298. 51 i
Александр III 64, 389
Александров (Мормоненко) Г. В. 77. 149.
170. 205. 512
Александров-Серж А. С. 51, 52. 54, 61,
505. 538
Алексеев М. П. 22, 298, 515
Алперс Б. В. 134, 510
Альтман Н. И. 46, 61. 241. 243. 245, 271,
328. 526. 540—542
Андерсен Х.-К. 254
Анджан А. И. 431
Андреев Л. Н. 312
Андреева (Юрковская) Μ. Φ 85
Анненков Ю. П. 57
Анненский И. Ф. 262
Антоннони М. 274, 289, 338
Антуан А. 307, 309—311. 516
Арагон Л. 74
Аргайл 434
Аристофан 85
Арманд 78
Арнольд А. Г. 236. 336, 539
Арнштам Л. О. 78, 531, 540, 541
Арцыбашев М. П. 369
Асеев Η. Н. 72, 78
Аташева П. М. 179. 180, 511
Атманаки Л. Г. 541
Афанасьев Η Л 542
Афиногенов А. Н. 442
Ахматова (Горенко) А. А. 23, 127. 319,
324, 509
Бабаджанов Ф. 541
Бабанова М. И. 176, 540
Бабель И. Э. 323, 328, 335
Багаев Б. 512
Багрицкий Э. Г. 49
Бадаев А. Е. 416
Байрон Дж.-Г. 229
Бакунин М. А. 435
Балаш Б. 146, 508, 510
Бальзак О. де 300—302, 515, 517
Бальмонт К. Д. 406
Банионис Д. Ю 542
Баранов Н. А. 310
Баратынский Е. А. 256, 471, 523
Барнет Б. В. 232
Барнум Ф. Т. 277
Барро Ж.-Л. 175
Бахтин M. М. 276, 514
Бедный Демьян (Придворов Е. А.) 184,
185
Беккет С. 288
Бёклин А. 391
Белннскнй В. Г. 36, 276. 330. 344—347.
349. 378. 439. 465—475. 477. 489, 504,
514. 519. 520. 522, 523
Белокуров В. В. 542
Белый Андрей (Бугаев Б. Н.) 387, 521
Бенедиктов В. Г. 471, 473
Бенкендорф А. X. 473
Бенуа А. Н. 286, 287
Бергман И. 280, 282. 284
Бёрдсли (Бердслей) О-В 450
Березнн П. П. 128
Березина Е. Д. 522
Беренштам Φ. Ф. 541
Берковскнй Н. Я. 242. 513
Бестужев А. А. 75
Бетховен Л. ван 67. 229
Бехтерев В. М. 72
Бирман С. Г. 542
Блейк У. 159
Блинов Б. В. 540
Блок А. А. 34, 47, 85. 86. 225. 276. 287, 316.
322, 328. 368, 374, 383. 401. 5&4, 510.
513, 520
Бляхин П. А. 138
Богемский Г. Д. 514
Боголюбов Ю Н. 541
Бодунов И. В. 89
Бойцов Н. П. 245
Боннар П. 312
Бондн А. М. 430. 540
Борисов А. Ф. 542
Босх И. 296
Боткин С. П. 460
Брейгель Питер Старший 242, 296
Брехт Б. 286
Брик О. M 328
Бродянский Б. Л. 134
Бронстон С. 40, 41
Брук П. 495
Брюллов К. П. 350
Буало Н. 377
Булгаков М. А. 232. 288. 324, 513
Булгарнн Ф. В. 472
Бунин И. А. 389, 521
Бюнюэль Л. 280
Указатель имен
545
Вагнер Р. 172
Вакс М. 37, 39—41. 504
Валлабрег А. 304
Валлери-Радо Р. 523
Валуа Н. де 297
Ванин В. В. 430. 540
Ванунц Э. Г. 542
Варда А. 312
Васильев В. В. 262
Васильев С. Д. 63
Васильевы братья Г. Н. и С. Д. 77, 159.
260, 529
Васинкевич Г. Л. 431
Вахтангов Е. Б. 286, 287
Вачнадзе Н. Г. 137, 138
Вега Карпьо (Лопе де Вега) 29, 30, 526
Вейтлинг В. 434
Веласкес Д. 178, 251
Вентцель Т. Н. 128
Вериго-Даровскнй Ф. К. 80, 538
Вертинская А. А. 542
Вертинская Л. В. 542
Вертинский А. Н. 140, 202
Вертов Дзига (Кауфман Д. А.) 72, 75,
190. 231, 232, 327, 512, 518
Веселовский А. Н. 462, 523
Вестрис Ф. 309
Видор К. 124. 272
Викландт О. А. 542
Виницкий Д. Э. 541
Виноградов А. К. 506
Винокуров Е. М. 179
Вирсаладзе С. Б. 496, 542
Висконти Л. 312
Висцинскнй М. — см. Вакс М.
Вицин Г. М. 542
Вишневецкая С. К. 23
Вишневский В. В. 30, 503
Власов В. А. 431, 540
Вокач А. А. 542
Волк И. Ф. 200, 430, 540—542
Волков П. М. 224, 225, 540
Волкова Е. А. 540
Волчек Г. Б. 542
Всеволодский-Гернгросс В. Н. 3
Вычегжанина Л. 55
Галеен Г. 504
Галифе Г.-О. де 382
Галь Э. М. 539
Ганлон (Хэнлон) Ли 275
Гарин Э. П. 540
Гариссон (Псиландер В.) 63
Гаррнк Д. 297
Гарсиа Лорка Ф. 290
Гаузенштейн В. 518
Гвоздев А. А. 120. 503, 5Î6
Гегель Г.-В. 440
Гей Дж. 297
Гейне Г. 472, 523
Геловани М. Г. 430, 540
Гералтовский Μ Ε. 92, 93. 430
Герасимов С. А. 3, 63. 76. 78. 79. 88, 91,
106, 125—127, 153. 195.204,230,232,325.
508. 531. 539—541
Гербстман А. И. 515
Герман А. Г. 10
Герман Ю. П. 345. 349. 459, 460. 462, 522.
531. 532. 541. 542
Герцен А. И. 348. 465. 469, 470. 472.
489. 519
Гершель Дж. 295
Гёте И.-В. 306, 480. 489. 523
Гильбер И. 162
Гис К. 145
Гиш Л. 73. 507
Глнзер Ю. С. 541
Глннская (Беленсон) Ф. А. 51
Глух М. А. 510
Гоголь Н. В. 19, 52. 56. 84. 102, 106—108,
111, 112, 114. 156. 168, 175, 230, 238. 258.
275, 287, 288, 306, 309, 322, 323, 330, 355.
356, 358, 463. 467. 470—472, 474, 477, 483.
505. 508. 511. 512. 515. 516. 518. 521.
ßjj β од
Гойя Ф. 150, 251, 280, 341, 487
Голейзовский К- Я. 51
Головин А. Я. 44, 175. 246, 287
Головня А. Д. 117, 388. 508
Гольбейн Г. Младший 140
Гольдони К. 285, 286
Гомер 229
Гонкур Э. 293. 303, 515
Гонкур братья Э. н Ж. 515
Горький M (Пешков А. М.) 142. 510
Гостейн 301
Гофман Э.-Т.-А. 109, 145, 286, 319
Гоцци К. 44, 285—287, 289
Гошева И. П. 243, 448, 540
Гранвиль (Жерар Ж.) 139
Греч Н. И. 472
Грибоедов А. С. 472
Григорьев А. А. 176
Григорьев Б. Д. 48
Гримальди Дж. 125
Гримблат А. И. 430
Гриффнт Д.-У. 73, 120, 124. 136. 356,
507
Грицюс Й. А. 496. 542
Громзина А. Г. 430
Громова У. M 490. 523
Грос Г. 140, 150
Гуггенгеймы 279
Гуковскнй Г. А. 58. 345
Гуковский М. А. 58
Гурвич А. И. 430
Гутман Д. Г. 148. 149. 539
Гюго В. 384. 520
Давыдов В. Н. (Горелов И. Н.) 58
Дагер Л. 307
Даль О. И. 542
Данте А. 229
Дарвин Ч. 434
Дебри А. 272
Дебюро Ж.-Б.-Г. 125. 379, 509
Де Костер Ш. 520
Делакруа Э. 209
Деларош П. 312
Демут Ф. 105
Денн П. 122, 509
Державин Г. Р. 473
Де Сика В. 282
Джойс Дж. 284
546
Указатели
Джотто ди Боидоне 385
Дзаваттинн Ч. 282
Дидро Д. 299, 515
Дикий А. Д. 541
Днккеис Ч. 301
Дисней У. 272
Дмитриев И. Б. 542
Добин Е. С. 16
Довженко А. П. 63. 69, 77, 137. 159, 161,
180—185, 205, 230, 232, 272. 320. 335,
338, 350. 501, 506, 512, 5/9
Довженко П. С. 182
Доде А. 303
Домье О. 135, 139. 145. 164, 250, 334
Донской М. С. 425
Доре Г. 250, 435
Достоевский Ф. М. 84, 249, 253, 275, 276,
279, 288. 301. 312, 387, 513, 514. 521
Драбкина Е. Я. 214. 226, 512
Драйзер Т. 284
Дружников В. В. 465
Дубеиский А. А. 542
Дудко А. И. 542
Дузе Э. 28, 120
Дюрер А. 229
Дюринг Е. 434
Екатерина II 93
Еленская Г. Б. 430
Елизавета I Тюдор 172, 452
Елисеев Г. Г. 77. 125
Емельянов В. Н. 542
Емельянцева Л. С. 541
Еней Е. Е. 6, 78. 95. 101. 117. 139? 143,
151. 152, 264—266, 271, ЗБЗ, 496, 508, 517,
520, 527, 532, 539, 540, 542
Еремеева А. 539
Ермилов В. В. 510
Ефимова А. Я. 540
Жаков О. П. 78, 119, 127, 153. 539
Жанен Ж. 125
Жаров М. И. 227, 430. 540, 541
Жеймо Я. Б. 77. 88. 126. 127. 325,
507, 539
Жемье (Тоннер) Ф. 312
Жуковский Б. Е. 430, 540, 541
Жуковский В. А. 75
Заболоцкий Н. А. 193, 326
Завьялов А. А. 539
Залка Мате (Франкль Б.) 78
Замятин Е. И. 59
Заржицкая А. Я. 153, 539
Зархи А. Г. 63, 232
Зархи Н. А. 181
Захаров А. Д. 388
Зеленая Р. В. 538
Зильберштейн И. С. 512
Золя Э. 172, 178, 275. 302-305, 333. 355.
372. 374, 384, 511, 514—516, 520,
521
Зражевский А. И. 430, 540
Зубов П. А. 120
Зулоага Игиасио — см. Сулоага И.
Ибаррури Д. 270
Ибсен Г. 126. 442
Иван IV Грозный 84, 181
Иванов В. В. 430
Иванов С. В. 542
Ивановский А. В. 523
Иэаксон Р. К. 430
Ильинский И. В. 176
Ильф и Петров (Файизильберг И. А. и
Катаев Е. П.) 439
Ионеско Э. 288
Ирвинг Г. 307
Ирод I Великий 306
Каверин В. А. 326, 528
Кавецкая В. В. 391
Калло Ж. 23. 295. 296. 299
Каплер А. Я. 37. 40. 42, 49, 61, 322, 527,
538, 539
Караев К. 290, 542
Карасева Л. А. 430
Каратыгин В. А. 350
Карпова 3. А. 540
Касьянова Л. И. 267, 542
Катулл Г.-В. 87
Каутский К. 418
Кафка Ф. 109
Каюков С. Я. 216, 430, 540
Кеведо-и-Вильегас Ф. 252, 513
Кибардина В. Т. 216. 231, 430. 540
Кин Ч. 307. 308
Кинкель Г. 435
Киреевский И. В. 316, 517
Кирсанов Д. 141
Киршои В. М. 510
Китон Б. 74
Клейман Н. И. 180, 232
Клер (Шомет) Р. 141, 272—274, 439
Кнорре Φ. Ф. 51, 510, 538
Коварскнй Н. А. 440
Коэинцева-Эренбург Л. М. 505
Козлов Л. К. 180
Кок П. де 471. 474, 476
Колпаков В. Д. 542
Колчиц-В. 541
Кольцов А. В. 468, 470. 472, 477
Комнссаржевская В. Ф. 31
Кончаловскнй П. П. 505
Копелян Е. 3. 540
Корчагина-Александровская Е. П. 541
Костомолоцкий 322
Костричкин А. А. 78. 126, 127, 129, 130,
322, 325, 539
Кошеверова H. Н. 154, 430
Кринкин И. 134
Кристеллер П.-О. 2%, 515
Кронег Л. 308
Кропачев Г. Б. 542
Крупская Н. К. 379
Крыжановская-Рочестер В. И. 391
Крыжицкий Г. К. 49, 61. 505
Крылов В. А. 519
Крылов И. А. 473
Крэг Г. 28
Кузнецов А. И. 430, 540
Кузнецов М. А. 541
Кузьмина Е. А. 78, 126. 127, 150, 153, 154.
325, 539, 540
Указатель имен
547
Кунн А. 288
Куин Д. 291
Кукольник Н. В. 350, 471, 476
Кулешов Л. В. 71. 72, 75. 84. 320, 324,
335. 382
Кулиш С. Я. 10
Кульбин Н. И. 51
Кумейко Е. В. 51, 70. 78. 538
Кунина И. Е. 527. 539
Куприн А. И. 459
Курбе Г. 309
Курилов С. И. 542
Куросава А. 284, 312
Кюрель Ф. де 310
Лаваль 401
Ланглуа А. 131. 180
Лансере Е. Е. 388
Ланской П. П. 477
Лапочкин А. В. 431
Лариков А. И. 540
Ларионов Μ. Ф. 314
Лассаль Ф. 435
Лебедев В. В. 45, 61
Лебедева — см. Остроумова-Лебедева
Лебзак О. Я. 541
Леблан М. 441
Левенгук А. ван 295
Л ев ид ов M. Ю. 439, 444, 445
Левицкий А. А. 508
Левицкий В. Н. 431
Леже Ф. 74
Лейда Дж. 109, 180, 509
Лейтес А. М. 332, 333
Ленин В. И. 33, 34, 68. 75. 206. 237. 327.
370, 379. 380. 426. 434. 436. 504, 506, 513.
518. 520. 521
Ленский А. П. 306. 378. 520
Лентулов А. В. 505
Леонардо да Вничи 245. 280. 331, 513
Леонтьев А. Л. 431
Лепко В. А. 539
Лерман Г. 512 ):
Лермонтов М. Ю. 107, 175. 301. 46?. 468,
470—472. 474. 477, 515
Либкнехт В. 432
Либкнехт К. 150
Лившиц Б. К. 23
Линдер Макс (Левьель Г.) 20, 123, 402.
414
Линхарт Л. 16. 519
Лисицкнй Л. М. 327
Листер Дж. 460
Ллойд Г. 507
Лобачевский Н. И. 333
Лойола И. 171
Ломоносов М. В. 356. 363, 473. 520
Лондон Дж. 69, 161
Лопе де Вега — см. Вега Карпьо
Луи Филипп 138
Лукомский Г. К. 388
Луначарский А. В. 68. 85. 319. 329,
506. 518
Лурих Г. 246
Лурье А. С. 51, 319
Лустало Э. И. 78
Любашевский Л. С. 540
Любимов Ю. П. 542
Люксембург Р. 150
Люмьер Л.-Ж. 293
Магарилл С. 3. 539
Магидсои М. П. 542
Маэина Дж. 274, 288
Майоль А. 73
Мак Сеннетт — см. Сеннетт Мак
Максимов В. 542
Максимов В. В. 63
Малаховский С. К· 431
Малевич К. С. 61
Малкнн С. Я. 541
Малюгин Л. А. 439. 440, 442—445, 450
Мамаева Н. В. 247, 542
Манасевич-Мануйлов И. Ф. 402, 405
Мандельштам О. Э. 23
Мане Э. 178, 397
Марат Ж.-П. 435
Марджанов (Марджанашвили) К.А.26—28.
30, 31, 33, 34, 36—40. 42. 46. 49,
52, 53, 58, 65, 315..503. 526
Маркс, братья 162, 278, 322
Маркс Ж. 433, 434
Маркс К. 7. 138. 145, 234, 334, 411, 432-
438, 446, 481. 5/0. 521—523
Маркс (Эвелинг) Э. 522
Марло К. 452, 522
Марсо М. 131, 509
Мартинсон С. А. 51, 69, 70. 78. 117, 322,
527. 538
Маршак С. Я. 193, 236, 523. 531.
541
Масс Н. 42, 538
Мастроянни М. 514
Матисс А. 23, 164
Машков И. И. 505
Маяковский В. В. 23, 34, 47, 51, 60, 78, 83,
144, 146, 167, 175, 210. 276, 320. 324, 328.
329, 332, 336, 344, 348, 471, 503—506.
508, 510. 511, 514, 519
Медведев В. А. 542
Мейерхольд В. Э. 44, 47. 48. 56, 174—178,
286-288. 321. 324, 325. 328. 329, 505, 511.
515
Мелвилл Г. 514
Мельес Ж. 123. 142, 289. 310. 338
Менделеев Д. И. 434
Мерзни Л. Р. 542
Меркурьев В. В. 540
Метерлннк М. 34
Миклашевский К· М. 51
Миллер Г. 274
Милюков П. Н. 368, 422
Михайлов Е. С. 139, 539
Михайлов И. К- 520
Мнхлина 33
Мичурин Г. М. 540. 542
Мичурин Н. И. 539
Мишель М. (Пятецкий М. И.) 539
Мокульскнй С. С. 120
Молотко 33
Мольер Ж.-Б. 286, 306
Монтегю А. 180
Мопассан Г. де 448
Моралес Л. 251
548
Указатели
Моран П. 59, 506
Моргунов 33
Морковкин Н. И. 431
Морозов M. М. 522
Москвин А. Н. 81, 92, 95—101, 113, 115,
117, 118, 130, 139, 144—147, 150, 154.
191, 192, 196, 197, 199, 262, 345, 350.
360, 429, 487, 496, 502, 508, 527, 532,
539, 540—542
Моцарт В.-А. 229
Мочалов П. С. 345, 378, 439, 489, 519, 522
Мурнау Ф.-В. 41, 109, 504, 509
Мусоргский М. П. 330, 518
Муссинак Л. 141, 180
Мюзидора (Рок Ж) 74
Надар (Турнашон) Г.-Ф. 312
Назаров А. М. 541
Назаров И. Д. 430
Названов M. М. 542
Наполеон I 235, 434
Наполеон III 309
Нахимов П. С. 459, 468
Недоброво В. В. 505
Незнамов П. 117
Некрасов Н. А. 309, 387, 468—471, 474,
477. 523
Немирович-Данченко В. И. 35, 306
Неруда П. 263. 513
Нефертити 67
Нивинский И. И. 287
Нижинская Б. Ф. 22
Никифоров П. М. 365, 520
Николай I 316, 355, 470, 473
Николай II 206. 229. 512
Н. Н.— см. Некрасов Н. А.
Новский И. 541
Ньепс Ж.-Н. 307
Огурцов Т. 349
Одоевский В. Ф. 229, 230, 3)2, 512
Оксман Ю. Г. 117. 528, 539
Олексеенко С. С. 542
Олеша Ю. К. 331, 518
Оливье Л. 491
Ольшанский А. Н. 531, 541
Османн Э.-Ж. 304
Островский А. Н. 122, 123. 165. 170, 175,
456, 505
Остроумова-Лебедева А. П. 386
Остужев А. А. 169
Оффеибах (Эбершт) Ж. 519
Павел I 103, 418
Павлов И. П. 176
Пальмерстон Г. 435
Панфилов Г. А. 10
Папазян В. К. 247
Паскаль Б. 237, 513
Пастер Л. 463
Пастернак Б. Л. 144, 210, 239—241, 328,
510, 513, 522
Пашковский Д. X. 58
Пельтцер Т. И. 541
Перен Ш. 402
Перестиани И. Н. 9
Перо Л. 291
Петр I 422
Петренко А. В. 542
Петров Н. В. 57
Петров-Бытов П. П. 134, 510
Петров-Водкин К. С. 61
Петропавловская Н. 541
Пикассо П. 23, 56, 178, 250, 269, 270, 276,
309, 314, 324, 326, 341
Пиль Г. 62
Пнлявская С. С. 541
Пиотровский А. И. 5, 83, 85—87, 321,
503, 508, 539
Пиранези Дж.-Б. 172
Пирогов Н. И. 459—463, 465, 522
Пиросманашвили (Пиросмани) Н. А. 203,
504
Писарев Д. И. 330
Платонов А. П. 324
Погодин (Стукалов) Η. Ф. 7, 201, 202,
540
Полнцеймако В. П. 540
Помяловский Н. Г. 387, 521
Понна П. И. 128. 539
Понсон де Террайль П.-А. 372, 521
Попов А. Д. 201
Попов А. А. 542
Попов Г. Н. 541
Пристли Дж.-Б. 243, 439—445, 447, 448,
530, 540
Прокофьев С. С. 232, 492
Протопопов А. Д. 402
Пруст М. 312
Пудовкин В. И. 63, 77, 117, 149, 159,
161, 181, 205, 210, 236, 272, 320, 327, 339.
350, 388, 468. 508, 512, 518, 539,
541
Пушкин А. С. 36. 67. 75, 83, 84, 104, 107,
144, 175. 206. 320, 327, 330, 331, 455, 462.
465, 469. 471—477, 503, 504, 507, 512, 521,
523, 537, 538
31
Рабинович И. М. 23, 24. 30
Рабинович Н. С. 200
Радзииь Э. Я. 542
Радищев А. Н. 294, 295, 515
Радэинский С. А. 510
Разин С. Т. 333
Райзман Ю. Я. 232
Райзман Я. И. 172, 173
Раппапорт Г. М. 236
Раскатов М. 512
Распутин (Новых) Г. Е. 64, 160, 402
Растрелли В. В. 47
Рафалович Д. Л. 510
Рафаэль Санти 229
Рахманов Л. Н. 259
Рашевская Н. С. 541, 542
Рей Н. 41
Рейнхардт М. 312
Рейснер Л. М. 48, 505
Рембрандт ван Рейи 67
Ремизов А. М. 314, 318
Рене А. 284
Реиуар Ж. 141, 272
Ренуар О. 397
Указатель имен
549
Репин И. Е. 62
Ржешевский А. Г. 339. 512
Роден О. 73
Рожицын В. 503
Ролли У. 158. 5/1
Рони братья (Беке Ж.-А. и Ж. Ф.) 309
Росселлини Р. 282
Россн К. И. 47. 388
Рота Н. 278
Рублев А. 67
Рунич О.'И. 63
Рылеев К. Ф. 507
Сабинский Ч. Г. 321
Сабуров С. Ф. 75, 507
Савченко И. А. 350
Садандзи И. 124
Садовский П. М. 503
Садуль Ж. 120. 180
Сакс Г. 306
Самойлов Г. И. 540
Санчес А. 269—271
Саичес К. 271
Сапунов H. Н. 48, 287
Сарду В. 522
Сарояи У. 514
Сашко — см. Довженко А. П.
Свердлов Я. М. 402, 407
Светлов М. А. 251
Свиридов Г. В. 241, 251
Себрис К. К. 542
Северянин (Лотарев) И. В. 406
Сезанн П. 23, 124
Семашко Н. А. 520
Семенова Л. Н. 539
Сенковский О. И. 472
Сеннетт Мак (Снннотт М.) 74, 120, 123, 124,
135. 191, 277, 512
Сера Ж. 145
Сервантес Сааведра М. де 9. 19, 220, 248,
249. 251. 253, 254, 256. 258. 276, 290,
291. 322, 479, 482, 483. 485, 486.
513
Серебров А. (Тихонов A. H.) 5l0. 516
Серебровская Е. П. 542
Серж — см. Александров-Серж А. С.
Сидоров А. А. 300. 515
Сименон Ж. 274
Симонов Н. К. 245
Скоробогатов К. В. 244. 532, 541. 542
Скотт В. 308
Скофилд П. 495
Славин Л. И. 405—408. 529, 540
Смоктуновский И. М. 497, 542
Соболевский П. С. 78, 88. 126, 127, 150,
539, 540
Соколов В. П. 431
Соколов В. Ф. 497
Солнцева Ю. И. 185
Соловцов (Федоров) H. Н. 503
Соловьев С. М. 462, 523
Сорокин С. А. 271
Софокл 246
Софронов В. Я. 540
Станиславский К. С. 28, 33, 262. 306,
308—312, 324. 325. 378. 504. 513. 516.
518
Станкевич Н. В. 465, 469
Стендаль (Бейль А.-М.) 59. 273, 348, 380.
514, 520
Стерн Л. 83
Стоппард Т. 518
Стравинский И. Ф. 22, 324, 326
Стронгин Я. 403
Суворов Н. Г. 541
Судейкин С. Ю. 44
Сулоага И. 487, 523
Сурбаран Ф. 291
Суров А. А. 480
Сутырин В. А. 510
Сухаревская Л. П. 243. 446. 447. 540
Сухобоков В. Л. 430
Табарен (Жирар А.) 160
Тагер П. Г. 192
Таиров А. Я. 287
Такашима Т. 51
Тальма Ф.-Ж. 173. 309
Тамара (Митииа-Буйницкая) Н. И. 51
I амерлан — см. Тимур
Тарковский А. А. 10
Тарле Е. В. 443
Тарханов (Москвин) М. М. 216, 341, 342,
430, 540
Тарховская 3. 51. 70, 538
Татлин В. Е. 46, 51. 55, 61. 79, 327, 328.
333
Таурек И. В. 54. 538
Твен Марк (Клеменс С.) 4, 50, 170,
505
Тенин Б. М. 243, 445. 448. 449. 540
Теплиц Е. 180
Терамон Г. де 372
Тик Л.-И. 286 ·
Тимур (Тамерлан) 149, 166
Тиссэ Э. К. 100. 117. 350
Толстой Л. Н. 83. 84. 107, 206. 211, 243.
330. 338. 513. 518. 524
Толубеев Ю. В. 261. 267. 430, 497, 540—
542
Трауберг Л. 3. 3—7. 49. 50. 61. 117. 138.
139. 159. 187. 197, 203. 207. 209. 222. 319.
342. 343. 345. 361. 505. 520-522. 526-
531. 538—541
Третьяков С. М. 116. 358, 505
Тулуз-Лотрек А. 164
Тургенев И. С. 107, 303. 387, 468. 470. 473.
477. 521
Тьер А. 145. 149
Тынянов Ю. Н. 5, 76. 83. 101 — 107, 115
117, 120. 134. 222. 255. 292. 316, 320, 321.
323. 324. 326, 348, 358. 359, 363, 507—510.
513. 517—519. 527. 528. 539
Тырса Н. А. 61
Тышлер А. Г. 23
Тюрпин Б. 277
Тютчев Ф. И. 118, 509
Уайльд О. 31
Уайт П. 74
Уайтхэд Р. 401
Ужвий H. М. 430. 540
550
Указатели
Уитмеи У. 172
Уланова Г. С. 241, 492
Улитко В. С. 542
Ульянов Н. П. 48
Урусевскнй С. П. 508
Утесов Л. О. 538
Уэбстер Дж. 172
Уэллс О. 284
Фадеев А. А. 133, 183, 510
Фальк Р. Р. 505
Фатти (Роско А.) 74
Фейяд Л. 123
Феллини Ф. 274-283, 285, 287—289,
312, 338, 514
Феоклист Боб — см. Некрасов Н. А.
Фернандес 39, 292
Филатов Г. Н. 431, 540
Фнлнп Ж. 503
Филонов П. Н. 61
Фннк В. Г. 445
Фишелев М. 520
Флобер Г. 303, 384, 385, 520
Флоринский Г. А. 450, 540
Фогт К. 434, 435
Форбс-Робертсон Дж. 540
Фореггер (Грейфенгурн) H. М. 61
Фрагонар Ж. 160
Фредерик-Леметр (Леметр А.) 171, 173,
379, 510
Фрейндлих Б. А. 247, 542
Фрико (Станевский Б. А.) 39, 292
Фролов И. С. 538
Фрээ И. А. 430
Фуке Ж. 163
Ханжонков А. А. 512
Ханэель И. А. 449, 450. 540
Хейфиц И. Е. 63. 232
Хемингуэй Э. 182, 290
Хилл Д. 312
Хлебников В. 51, 84, 331, 332, 508, 518
Хогарт У. 297—300, 386. 515
Ходотов H. Н. 522
Хохлов К. П. 539
Хохлова А. С. 71
Хуторянский Б. Я. 540—542
Хэзлит В. 298. 515
Цезарь Гай Юлий 453
Цереп А. 78. 538
Цеткин К. 518
Цибаровский M. М. 128
Чайковский Б. В. 63, 64. 71
Чайковский П. И. 506
Чаплин Ч.-С. 55, 74, 120, 124. 125, 174,
191, 205, 219, 280, 356, 507, 509, 512,
517
Червяков Е. В. 235, 541
Черкасов Н. К. 172, 258, 261. 262, 289,
290, 513, 541, 542
Чернышевский Н. Г. 350
Честноков В. И. 541, 542
Чехов А. П. 68, 142, 175, 348, 442, 503,
510
Чехонин С. В. 55
Чинизелли 246, 314
Чирков Б. П. 215—217, 227, 228, 231, 367,
419, 430, 530, 540, 541
Чистяков А. П. 430, 540
Шаляпин Ф. И. 28, 80, 121
Шамиссо А. 523
Шапошникова Г. Т. 128
Шварц Е. Л. 254—257, 259, 267, 268, 290.
513. 542
Шевченко Т. Г. 350
Шекспир У. 7—9, 14, 19, 158, 164, 220,
229, 238—245, 249, 253, 254, 258, 287, 291,
292, 295, 306-308, 322, 452, 453, 455, 457,
462, 479—482, 489—496, 498, 511, 513,
515, 516, 518, 522—524, 530, 531, 533—
535, 537, 540—542
Шенгелая H. М. 137, 138
Шендрикова В. К. 542
Шиллер Ф. 308
Шифрнн Н. Г. 541
Шифрин Н. А. 23
Шкловский В. Б. 5. 51, 83—85, 318, 320,
321, 504. 508
Шорни А. Ф. 192
Шостак М. С. 431
Шостакович Д. Д. 94, 156, 157, 192, 196,
200, 224, 241, 243. 245, 276, 324, 341, 391,
398, 423, 430. 492, 494, 501, 528, 529, 539,
540—542
Шоу Б. 160
Шпис Б. В. 528
Штеренберг Д. П. 61, 328
Штнбер В. 435
Штраус Р. 51
Штраух M. М. 430, 540, 541
Штрогейм Э. 120, 124, 338, 507
Штух-Марзен О. 519
Шуб Э. И. 75, 206
Шумяцкий Б. 3. 272, 338, 342, 343, 512
Щепкин М. С. 84, 355, 477
Шоре Н. А. 22
Эдер Б. А. 262, 264
Эдисон Т. 434, 465
Эйзенштейн С. М. 5, 14, 56, 57, 63, 69,
71, 72, 74, 75, 77, 85, 94, 117, 122, 123,
126, 127, 129, 132, 147, 149, 159,
160—174, 176—181, 190, 205, 220, 230,
232, 261, 272, 284, 312, 320, 326, 327,
331—334, 337—339, 345, 348, 350—352,
425, 501,505, 506, 508, 509, 511,512,514,
517—519, 521
Эйхенбаум Б. М. 5, 120, 320, 345, 518
Эйхенгольц М. Д. 333
Экберг А. 281, 282
Экстер А. А. 23, 40, 42, 526
Эль Греко (Теотокопули) Д. 172, 173,
251
Энгельс Ф. 433-435, 437, 482, 510, 521 —
523
Указатель имен
551
Энгр О.-Д. 178
Энсор Дж. 341
Эренберг В. В. 7, 542
Эреибург И. Г. 22. 23. 40. 42. 74. 141. 264.
269. 313, 321, 501, 504, 532, 542
Эрмен П. 434
Эрмлер Ф. М. 62. 63. 76. 77. 119, 120, 134.
139. 227. 261. 529
Эсхил 85—87. 508
Юморский П. 51, 538
Юнгер Е. В. 232. 447, 448. 540
Юровский А. Я. 236. 513
Юрьев Ю. М. 245—247, 541
Юткевич С. И. 37, 40, 49, 52. 61. 71, 232.
504, 518, 526, 538
Яковлев В. Т. 541
Якулов Г. Б. 287
Янукова В. Д. 170
Ярвет Ю. Е. 542
Яров С. А. 541
Ячницкий А. В. 541
Указатель
фильмов и спектаклей
«Авантюристка Бьянка» 62
«Адмирал Нахимов», реж. В. И. Пудовкин
(1946) 350, 459
«Александр Невский», реж. А. Г. Иванов
(1952, фильм не был поставлен) 234,
248
«Американская трагедия», реж. С. М.
Эйзенштейн (1930, фильм не был
поставлен) 351
«Американское представление ФЭКСа» 538
«Арсенал», реж. А. П. Довженко (1929) 185,
231, 371
«Бабы рязанские», реж. О. И.
Преображенская (1927) 198
«Балаганное представление четырех
клоунов». Пьеса Г. М. Козинцева, реж.
Г. М. Козинцев "и С. И. Юткевич, театр
«Арлекин» (Киев, 1919) 39, 504, 526,
538
«Балаганчик», пьеса А. А. Блока, реж.
В. Э. Мейерхольд, театр В. Ф. Комиссар-
жевской (1906) 287
«Балаганчик», пьеса А. А. Блока, реж.
В. Э. Мейерхольд, студия Вс.
Мейерхольда в зале Тенишевского училища
(1914) 48
«Бежнн луг», реж. С. М. Эйзенштейн
(1936—1937, фильм не был
завершен) 179, 232, 332, 339, 351
«Белинский», реж. Г. М. Козинцев (1951,
выход на экраны — 1953) 234, 313,
352, 464, 465, 478, 501, 523, 532, 533,
542
«Белый шейх», реж. Ф. Феллинн (Италия,
1952) 278, 281
«Бен Гур», реж. Ф. Нибло (США, 1926) 140
«Бен Гур», реж. У. Уайлер (США, 1959) 140
«Боевой киносборник», кинопрограмма,
объединявшая несколько
короткометражных фильмов (1941 — 1942) 236,
237, 531
«Большая жизнь», 2-я серия, реж. Л. Д.
Луков (1946, выход на экраны — 1958) 532
«Большевик», первоначальное рабочее
название сценария и фильма «Юность
Максима» 203, 215, 226, 529
«Большое сердце», реж. Г. М. Козинцев
(1952—1953, фильм не был
завершен) 532, 542
«Братишка», реж. Г. М. Козинцев и
Л. 3. Трауберг (1926) 7, 116, 117, 231,
336, 507, 528
«Броненосец «Потемкин», реж. С. M
Эйзенштейн (1925) 72, 75, 94, 123, 13b, Ibb,
167, 169, 178, 189,205,230,326,331-333,
337, 338, 369, 511
«Буря», рабочее название сценария, над
которым работал Г. М. Козинцев в 1952—
1953. Фильм по нему — «Большое
сердце» — не был завершен 532, 542
«Буря», рабочее название фильма «Простые
люди» 531, 532
«Буря», сценарно-режиссерская разработка
Г. М. Козинцева по драме У. Шекспира
(1971 — 1973, фильм не был
поставлен) //. 537
«Вавнлон» — см. «Новый Вавилон»
«Вампиры», реж. Л. Фейяд (Франция,
1915-1916) 20, 74, 123
«Великий гражданин», реж. Ф. М. Эрмлер
(1938—1939) 63, 120, 227
«Великий диктатор», реж. Ч.-С. Чаплин
(США, 1941) 281
«Великий лекарь», реж. Г. М. Козинцев
и Л. 3. Трауберг (1940—1941), фильм не
был поставлен 345, 459, 522, 531
«Великий путь», реж. Э. И. Шуб (1927) 75
«Великодушный рогоносец», пьеса Э. Кром-
мелинка, реж. В. Э. Мейерхольд, театр
ГИТИСа (1922) 176
«Вееелая канарейка», реж. Л. В. Кулешов
(1929} 371
«Виридиана», реж. Л. Бюнюэль (Испания,
1961) 280
«Владимир Маяковский», трагедия В. В.
Маяковского, реж. Г. М. Козинцев (Киев,
1919, спектакль не был завершен) 39, 49
«В людях», по произведениям М. Горького,
инсценировка П. С. Сухотина, реж.
М. Н. Кедров, МХАТ (1933) 216, 341
«Внешторг на Эйфелевой башне», текст и
постановка Г. М. Козинцева и Л. 3.
Трауберга, ФЭКС (1923) 4, 527, 538
«Возвращение Максима», реж. Г. М.
Козинцев и Л. 3. Трауберг (1936, 2-й фильм
трилогии о Максиме) 204, 220, 227, 362,
400, 529, 530, 540
«Восемь с половиной», реж. Ф. Феллинн
(Италия, 1963) 281, 283
«В прошлом году в Мариенбаде», реж.
А. Рене (Франция, 1961) 312
«Встреча с Максимом», реж. С. А.
Герасимов (1941, входил в «Боевой
киносборник № 1») 531, 541
«Встречный», реж. Ф. М. Эрмлер и С. И. Ют-,
кевич f1932) 338, 519
Указатель фильмов и спектаклей
553
«Выборгская сторона», реж. Г. М. Козинцев
и Л. 3. Трауберг (1938, 3-й фильм
трилогии о Максиме) 227, 236, 348, 425, 429,
431, 503, 508, 514, 520, 521, 530
«Гамлет», трагедия У. Шекспира, реж.
Г. М. Козинцев, Академический театр
драмы им. А. С. Пушкина (1954) 237,
241, 244, 247, 509, 533, 542
«Гамлет», реж. Г. М. Козинцев (1964) 6—
9, 95, 152, 197, 249, 291, 321, 341, 489,
491, 494-496, 509, 523, 524, 533—535,
542
«Гамлет», реж. Л. Оливье (Англия, 1948)
491
«Гоголнада», сценарно-режиссерская
разработка Г. М. Козинцева по повестям
Н. В. Гоголя (1971—1973, фильм не был
поставлен) 11, 536
«Голем», реж. П. Вегенер, Г. Галеен
(Германия, 1920) 41, 504
«Голубой экспресс», реж. И. 3. Трауберг
(1929) 132
«Город в кольце», реж. Г. М. Козинцев и
Л. 3. Трауберг (1941 — 1942, фильм не
был поставлен) 531
«Горячее сердце», пьеса А. Н. Островского,
реж. К. С. Станиславский, M. М.
Тарханов, И. Я. Судаков, МХАТ ( 1926) 216, 341
«Гражданин Кейн», реж. О. Уэллс (США,
1941) 284
«Да здравствует Мексика!»,отснят СМ.
Эйзенштейном, Г. В. Александровым и
Э. К. Тиссэ (1930) в Мексике, завершен
реж. Г. В. Александровым и Н. Орловым
(1979) 351
«Далеко на Востоке» — см. «Путь на
Восток»
«Дама с собачкой», реж. И. Е. Хейфиц
(1960) 517
«Два гроша надежды», реж. Р. Кастеллани
(Италия, 1952) 282
«Два Федора», реж. M. М. Хуциев (1958)
181
«Дворец и крепость», реж. А. В. Ивановский
(1923) 63
«Декабристы», реж. А. В. Ивановский
(1926) 117
«Депутат Балтики», реж. А. Г. Зархи и
И. Е. Хейфиц (1936) 63, 232
«Дети солнца», пьеса М. Горького, реж.
Вл. И. НемировичДанченко и
К.С.Станиславский, МХАТ (1905) 310
«Джамперс» («Прыгуны»), пьеса Т. Стоп-
парда (Англия, 1970-е гг.) 327, 518
«Джульетта и духн», реж. Ф. Феллинн
(Италия, 1965) 281, 288
«Диктатор» — см. «Великий диктатор»
«Дмитрий Донской», реж. С. И. Юткевич
(1952, фильм не был поставлен) 234,
248
«До будущей весны», реж. В. Ф. Соколов
(I960) 497
«Дом, в котором я живу», реж. Л. А.
Кулиджанов н Я. А. Сегель (1957) 248
«Дон Жуан», пьеса Ж.-Б. Мольера, реж.
В. Э. Мейерхольд, Александрийский
театр (1910) 286
«Дон Карлос», драма Ф. Шнллера, реж.
К. А. Марджанов, Малый театр СССР
(1933) 503
«Дон Кихот», реж. Г. М. Козинцев
(1957) 6. 7, 9, 40, 197, 204, 248, 249, 254,
259, 261, 263, 268, 271, 272, 291, 479, 483,
484, 491, 509, 513, 523, 533, 542
«Дорога», реж. Ф. Феллини (Италия, 1954,
в советском прокате — «Они бродили по
дорогам») 279, 288
«Желтая кофта», пьеса Бекримо и Дж. Ха-
зельтона, реж. А. Я. Таиров, «Свободный
театр» (1913) 28
«Женитьба», пьеса Н. В. Гоголя, текст и
постановка Г. М. Козинцева и Л. 3.
Трауберга, ФЭКС (1922) 4, 52, 54, 57, 69, 79,
88, 246, 327, 333, 358, 505, 518, 527, 538
«Женщина Эдисона», заявка Г. М.
Козинцева н Л. 3. Трауберга на агитфильм
(1923), фильм не был поставлен 527
«Жервеза», по роману Э. Золя «Западня»,
реж. О. Гастино, театр «Амбигю»
(Франция, 1879) 309
«Звенигора», реж. А. П. Довженко (1927)
137, 181
«Земля», реж. А. П. Довженко (1930) 182,
184, 185, 232
«Земляничная поляна», реж. И. Бергман
(Швеция, 1957) 284
«Зигомар», серийный фильм, реж. В. Жассе
(Франция, 1911) 219
«Золотая лихорадка», реж. Ч.-С. Чаплин
(США, 1925) 281
«Золото Зуттера», реж. С. М. Эйзенштейн
(1930, фильм не был поставлен) 351
«Иван», реж. А. П. Довженко (1932) 186
«Иван Грозный», реж. С. М. Эйзенштейн
(1-я серия — 1944; 2-я серия — 1945,
выход на экраны — 1958) 172, 173
«Искушение доктора Антониа» (эпизод в
фильме «Боккаччо 70»), реж. Ф. Феллини
(Италия, 1962) 281
«История большевика», одно из рабочих
названий фильма «Юность Максима»
361, 519
«Как вам это понравится»,
сценарно-режиссерская разработка Г. М. Козинцева по
комедии У. Шекспира (1971 — 1973,
фильм не был поставлен) 537
«Карл Маркс», реж. Г. М. Козинцев и
Л. 3. Трауберг (1941-, фильм ие был
завершен) 345, 432, 465, 521, 530, 531, 541
«Карьера мота», балет на музыку Гордона,
Королевский театр (Англия, 1935) 297
«Клоп», пьеса В. В. Маяковского, реж.
В. Н. Плучек и С. И. Юткевич, Театр
сатиры (1955) 336
«Коммунист», реж. Ю. Я- Райзман (1957)
248
554
Указатели
сКонец Саикт-Петербурга», реж. В. И.
Пудовкин (1927) 136, 181,206.231,371,388.
424. 509
«Король Лир», трагедия У. Шекспира, реж.
Г. М. Козинцев, Большой драматический
театр им. М. Горького (1941) 193, 241 —
243. 245, 530, 531, 540
«Король Лир», трагедия У. Шекспира, реж.
П. Брук, Королевский шекспировский
театр (Англия, 1962) 495
сКороль Лир», реж. Г. М. Козинцев (1970)
6. 7, 9, 14, 517, 535—537, 542
«Красные дьяволята», реж. И. Н. Перести-
ани (1923) 9, 138, 371
«Крестьяне», реж. Ф. М. Эрмлер (1934) 272.
529
«Леди Макбет Мценского уезда», реж.
Ч. Г. Сабинский (1926), фильм вышел
под названием «Катерина Измайлова»
321
«Лекарь Пирогов», рабочее название
фильма «Пирогов» 522
«Летят журавли», реж. М. К· Калатозов
(1957) 248
«Лицо», реж. И. Бергман (Швеция, 1958)
280
«Максим» — см. «Трилогия о Максиме»
«Максимилиан» — см. «Царь
Максимилиан»
«Маленькие трагедии», сценарно-режиссер-
ская разработка Г. М. Козинцева по
трагедиям А. С. Пушкина (1971 — 1973.
фильм не был поставлен) II, 537
«Маска, которая смеется», реж. Д. Сейтц
(США, 1916, американское название —
«Железный коготь») 20, 74, 400
«Маскарад», пьеса М. Ю. Лермонтова, реж.
В. Э. Мейерхольд, Александрийский
театр (1917) 246
«Маскотта», оперетта Э. Одраиа, реж.
К. А. Марджанов; задуманный в Киеве,
спектакль был поставлен в Москве, в
Никитском театре («Парадиз») (1919) 37
«Мать», реж. В. И. Пудовкин (1926) 136,
181
«Медвежья свадьба», реж. К. Эггерт (1925)
231, 232
«Мексиканец» по Д.Лондону,
реж.В.С.Смышляев и С. М. Эйзенштейн, Первый
рабочий театр Пролеткульта (Москва, 1921)
165
«Мертвые души», пьеса М. А. Булгакова по
поэме Н. В. Гоголя, реж. К. С.
Станиславский, В. Г. Сахновский, Е. С. Телешева.
МХАТ (1932) 216. 341
«Мещане», пьеса М. Горького, реж.
К· С. Станиславский, В. В. Лужский,
МХТ (1902) 310
«Минарет смерти», реж. В. К. Висковский
(1925) 75
«Мичурин», реж. А. П. Довженко (1948) 350
«Мишки против Юденича», реж: Г. М.
Козинцев и Л. 3. Трауберг (1925) 76.
527. 539
«Моряк с «Авроры» — рабочее название
фильма сЧертово колесо» 88
«Мудрец» — см. «На всякого мудреца
довольно простоты»
«Мы из Кронштадта», реж. Е. Л. Дзиган
(1936) 425
«Мясники», пьеса Ф. Икра, реж. А. Антуаи,
«Свободный театр» (Франция, 1888) 309
«На всякого мудреца довольно простоты»
по А. Н. Островскому в переделке
С. М. Третьякова, реж. С. М.
Эйзенштейн, Первый рабочий театр
Пролеткульта (Москва, 1923) 54, 77, 122. 172.
331, 505, 511
«Необычайные приключения мистера Веста
в стране большевиков», реж. Л. В.
Кулешов <1924) 63
«Нелль Хорн», пьеса Роии, реж. А. Антуан,
«Свободный театр» (Франция, 1891) 309
«Нетерпимость», реж. Д.-У. Гриффит (США,
1916, в советском прокате «Зло мира») 73
«Новый Вавилои». реж. Г. М. Козинцев
и Л. 3. Трауберг (1929) 5, 133—136.
143. 157, 158, 179. 189. 192, 223, 231, 241,
333. 336, 341, 349, 358, 382. 387. 510,
528, 539
«Ночи Кабирии», реж. Ф. Феллини (Италия,
1957) 279, 288
«Одна», реж. Г. М. Козинцев и Л. 3.
Трауберг (1931) 7, 187-189, 193, 198. 203,
204, 214, 230. 268. 360. 361. 363, 372, 528,
529, 539
«Однажды ночью», реж. Г. М. Козинцев
(1942, фильм не вышел на экраны) 531,
541
«Окраина», реж. Б. В. Б ар нет (1933) 232
«Окровавленный снег», французское
название фильма «Союз Великого Дела»
(С.В.Д.) 120
«Октябрь», реж. С. М. Эйзенштейн и
Г. В. Александров (1927) 85, 166.
232. 509
«Опасный поворот», пьеса Д.-Б. Пристли,
Сеж. Г. М. Козинцев, Ленинградский
еатр комедии (1939) 243, 438, 443,
448, 451, 522, 530. 540
«От подполья к диктатуре», задуманный
в 1924 г. С. М. Эйзенштейном цикл из
семи историко-революционных
кинокартин 165
«Отелло». трагедия У. Шекспира, реж.
Г. М. Козинцев, Академический-театр
драмы им. А. С. Пушкина (1944) 241,
244, 245, 452. 522, 531, 541
«Падение династии Романовых», реж.
Э. И. Шуб (1927) 75
«Парад», композитор Э. Сати. сценарий
П. Пикассо, одноактный балет 309
«Париж уснул», реж. Р. Клер (Франция,
1923) 141, 273
«Парижанка», реж. Ч.-С. Чаплнн (США,
1923) 191. 517
Указатель фильмов и спектаклей
555
«Пир во время чумы» — см. «Маленькие
трагедии»
«Пирогов», реж. Г. М. Козинцев (1947) 234,
345, 465, 532, 541
«Под крышами Парижа», реж. Р. Клер
(Франция, 1930) 439
«Последний миллиардер», реж. Р. Клер
(Франция, 1934) 272
«Последний человек», реж. Ф.-В. Мурнау
(Германия, 1924, в советском прокате —
«Человек и ливрея») 105, 509
«Последняя ночь», реж. Ю. Я- Райзман
(1936) 232
«Потемкин» — см. «Броненосец «Потемкин»
«Похитители велосипедов», реж. В. Де Сика
(Италия, 1948) 282
«Похождения» — см. «Похождения Ок-
тябрины»
«Похождения Октябрины», реж. Г. М.
Козинцев и Л. 3. Трауберг (1924) 4, 69, 70,
75, 76, 78, 80, 88, 129, 150, 189, 204, 358,
506, 508, 527, 538
сПоэма о топоре», пьеса Η. Ф. Погодина,
реж. А. Д. Попов, Театр Революции
(1931) 201
сПоэт и царь», реж. В. Р. Гардин (1927) 465
«Предатель», реж. А. М. Роом (1926) 371
«Прекрасная Елена», оперетта Ж. Оффен-
баха, реж. К. А. Марджанов, «Свободный
театр» (1913) 28
сПрнключение», реж. М. Антониони
(Италия, 1959) 274
сПринцесса Брамбилла» по Э.-Т.-А.
Гофману, реж. А. Я- Таиров, Камерный театр
(1920) 287
«Принцесса Турандот», пьеса К. Гоцци, реж.
Е. Б. Вахтангов, 3-я студня МХАТ (1922)
286, 287
«Простой случай», реж. В. И. Пудовкин
(1930) 512
«Простые люди», реж. Г. М. Козинцев
и Л. 3. Трауберг ( 1945, вышел иа экраны
в 1956) 7, 234, 531 — 533, 541
«Противогазы», пьеса С. М. Третьякова,
реж. С. М. Эйзенштейн, поставлен в цехе
Московского газового завода (1924)
63, 165, 173, 312
«Прощай, Америка!», реж. А. П. Довженко
(1950, фильм не был завершен) 184
сПутевка в жизнь», реж. Н. В. Экк (1931)
205
«Путешествие в СССР», реж. Г. М. Козинцев
и Л. 3. Трауберг (1932, фнльм не был
завершен) 203, 215, 529, 540
«Путь на Восток», реж. Д.-У. Гриффит
(США, 1920, в советском прокате —
«Водопад жизни») 73
«Рашемон» (точнее «Расёмон»), реж. А. Ку-
росава (Япония, 1950) 284
«Ревизор», комедия Н. В. Гоголя,
Александрийский театр (1836) 477
«Ремонт», рабочее название фильма
«Братишка» 528
«Россия Николая Второго и Лев Толстой»,
реж. Э. И. Шуб (1928) 75
«Рука всевышнего отечество спасла», пьеса
Н. В. Кукольника, Александрийский
театр (1834) 476
«Саломея», драма О. Уайльда, реж.
К. А. Марджанов, Театр им. Ленина
(Киев, 1919) 31—33
«Сатана ликующий», реж. Я- А. Протазанов
(русский дореволюционный фильм, 1917)
62
«С.В.Д.» («Союз Великого Дела»), реж.
Г. М. Козинцев и Л. 3. Трауберг (1927)
5, 117—120, 138, 146, 154, 204, 222, 231,
- 263, 325, 341, 359, 363, 509, 528
«Седьмая печать», реж. И. Бергман
(Швеция, 1956) 280
сСельская честь», пьеса Дж. Верга, реж.
А. Антуан, «Свободный театр»
(Франция, 1888) 309
«Синяя птица», пьеса М. Метерлинка.
Бесплатный для детей пролетариата и
крестьян Советский драматический
школьный театр имени вождя
рабоче-крестьянской революции В. И. Ленина
(Саратов, 1918) 33, 34
«Сиротки бури», реж. Д.-У. Гриффит (США,
1922, в советском прокате — «Две
сиротки») 73
«Сказание о земле Сибирской», реж.
И. А. Пырьев (1947) 465
«Сказка о попе и о работнике его Балде»,
по сказке А. С. Пушкина, реж. Г. М.
Козинцев и С. И. Юткевич, театр «Арлекин»
(Киев, 1919) 40, 538
«Скарлатина», реж. Ф. М. Эрмлер (1924)
76, 77
«Сладкая жизнь», реж. Ф. Феллини
(Италия, 1959) 274, 280, 282
«Сломанные побеги», реж. Д.-У. Гриффит
(США, 1919, в советском прокате —
«Сломанная лилия» и «Прекрасный
город») 73
«Случай на телеграфе», реж. Л. О. Арнштам
и Г. М. Козинцев (1941, входил в «Боевой
киносборник» № 2) 235, 531
«Сорок первый», реж. Г. Н. Чухрай (1956)
248
«Сорочинская ярмарка», опера М. П.
Мусоргского, реж. К. А. Марджанов,
«Свободный театр» (1913) 28
«Союз Великого Дела» — см. «С. В. Д.»
«Спящая красавица», реж. Г. и С.
Васильевы (1930) 77
«Старое и новое», реж. С. М. Эйзенштейн и
Г. В. Александров (1929) 132, 166,
Г77, 230, 332
«Стачка», реж. С. М. Эйзенштейн (1924) J>,
72, 123, 166, 173, 312, 333, 371
«Сумка дипкурьера», реж. А. П. Довженко
(1927) 77
сТайны Нью-Йорка», реж. Л. Ганье и
Д. Сейтц (европейское название
американского многосерийного фильма, 1914—
1915, подлинное название —
«Похождения Эллен») 400
«Танька-трактирщица», реж. Б. Ф. Светоза-
ров (1928) 134, 143, 328
556
Указатели
сТарас Шевченко», реж. И. А. Савченко
(1951) 350
сТемп», пьеса Η. Ф. Погодина, реж.
А.Д.Попов, Театр им. Евг. Вахтангова (1930)
201
«Тихий Дон», реж. С. А. Герасимов (1957 —
1958) 248
сТри триллиона жен», реж. Г. М. Козинцев
и Л. 3. Трауберг сСвободный театр»
(Киев. 1923) 538
сТрилогия о Максиме», реж. Г. М. Козинцев
и Л. 3. Трауберг, общее название
фильмов «Юность Максима» ( 1934).
«Возвращение Максима» (1936) н «Выборгская
сторона» (1938) 5. 203, 234, 340, 362, 398,
431. 433. 438. 520. 529. 530
«Турксиб». реж. В. А. Турин (1928—1929)
132
«Увеличение», реж. М. Аитониони (Италия,
1966) 289
«Удовольствия дня», реж. Ч.-С. Чаплин
(США, 1919, в советском прокате под
названием «День развлечений» с 1929,
вторично с 1958) 280
«Улица грез», реж. Д.-У. Гриффит (США,
1921) 73
«Уход Толстого», сценарио-режиссерская
разработка Г. М. Козинцева фильма о
Л. Н. Толстом (1971 — 1973, фильм не был
поставлен) 11, 537
«Учитель», реж. С. А. Герасимов (1939) 232
«Фуэите Овехуна», пьеса Лопе де Веги. реж.
К. А. Марджанов, Театр им. Ленина
(Киев, 1919) 26, 29, 31, 251, 337, 526
«Царь Максимилиан и непокорный сын его
Адольф», реж. Г. М. Козинцев (Киев,
1919) 6. 41, 49, 212, 314. 316-348.
325. 538
«Чай», реж. В. К. Висковский (1924) 62
«Чайка», пьеса А. П. Чехова, реж. К. С.
Станиславский и Вл. И.
Немирович-Данченко. МХТ (1898) 511
«Чапаев», реж. братья Васильевы (1934)
63, 75. 205, 232. 272. 369, 435, 529
«Человек и ливрея» — см. «Последний
человек»
сЧертово колесо», реж. Г. М. Козинцев и
Л. 3. Трауберг (1926) 5, 7. 88. 93. 94.
99. 106. 154. 197. 231. 232. 358. 363. 527.
539
«Чихающий Фред» (точнее «Чихание Фреда
Отто»), американский фильм для
кинетоскопа ТА. Эдисона (1895) 310. 516
«Чужой пиджак», реж. Б. В. Шпис (1927)
528
«Шарф Коломбины».пантомима по А.Шниц-
леру, реж. В. Э. Мейерхольд. Дом
интермедий (Петербург, 1910) 287
«Шарф Коломбины»,пантомима по А.Шниц-
леру, реж. В. Э. Мейерхольд. «Привал
комедиантов» (Петроград, 1916) 44
«Шахматная горячка», реж. В. И. Пудовкин
(1925) 77
«Шинель», реж. Г. М. Козинцев и Л. 3.
Трауберг (1926) 5. 100. 106-110. 115, 119,
129. 130. 131. 144. 151. 187. 231. 254. 263.
323, 340, 341, 358. 363. 507. 508. 510. 527.
539
«Штурм неба», рабочее название фильма
«Новый Вавилон» 143
«Элисо». реж. H. М. Шенгелая (1928) 137
«Это и есть Ленинград» (фильм не был
завершен) 531
«Юлий Цезарь», трагедия У. Шекспира,
реж. Г. Бегабуиг, Мейнингенский театр
(1867)", позже обновлен Л. Кронегом. 308
«Юность Максима», реж. Г. М. Козинцев и
Л. 3. Трауберг ( 1934, 1-й фильм трилогии
о Максиме) 211, 215. 218. 221. 222,
225, 231. 272. 341, 343. 347. 362-
364. 372. 375. 404, 509. 529. 540
«Юный Фриц», реж. Г. VM. Козиице.в и
Л. 3. Трауберг (1942, фильм не вышел на
экраны) 531, 541
Содержание
Сергей Герасимов
О Григории Козинцеве, моем учителе
От составителей
17 ГЛУБОКИЙ ЭКРАН
21 Глава первая
61 Глава вторая
187 Глава третья
234 Глава четвертая
293 Приложение
313 Подготовительные материалы
ко второму изданию «Глубокого экрана»
357 О СВОЕЙ РАБОТЕ В КИНО И ТЕАТРЕ
358 О киио, фэксах и себе. 1931
362 <0 работе над трилогией о Максиме) 1937
425 <0 фильме «Выборгская сторона») 1938
429 Люди «Выборгской стороны». 1938
432 Фильм о Карле Марксе. 1939
438 <0 спектакле «Опасный поворот») 1939
452 (Режиссерская экспозиция спектакля «Отелло») 1943
458 Мысли о картине. 1946
464 (О замысле фильма «Белинский») 1948
479 (Режиссерская экспозиция фильма «Дон Кихот») 1956
489 (Режиссерская экспозиция фильма «Гамлет») 1962
494 О людях, делавших «Гамлет». 1964
498 От автора сценария. 1967
499 ПРИМЕЧАНИЯ
525 ПРИЛОЖЕНИЯ
526 Летопись жизни и творчества Г. М. Козинцева
538 Работы Г. М. Козинцева в кино и театре
553 УКАЗАТЕЛИ
544 Указатель имен
552 Указатель фильмов и спектаклей
Козинцев Г. M.
К59 Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1/Сост.
B. Г. Козинцева, Я. Л. Бутовский; предисл.
C. Герасимова.— Л.: Искусство, 1982.— 560 с,
16 л. ил., портр.
Первый том Собрания сочинений выдающегося советского кинорежиссера
Г. М. Козинцева содержит книгу € Глубокий экран», статьи и выступления
Козинцева о своей работе в кино и театре. Том снабжен примечаниями,
списком работ Козинцева в кино и театре, летописью его жизни и
творчества, указателем имен и названий.
„ 4910020000-075 „„ „ тл
К 025(01 ).82 "»А"1""«* ББ* 85М
Григорий Михайлович
КОЗИНЦЕВ
Собрание
сочинений
в пяти
томах
Том I
Редактор С. В. Дружинина. Художественный редактор А. И. Приймак.
Технический редактор М. С. Стериина. Корректор Н. Д. Кругер.
ИБ 1224
Сдано в набор 23.10.81. Подписано в печать 27.07.82. М-19131. Формат
84 X 108'/з2· Бумага тип. № I, для иллюстр. мелов. Гарнитура
литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 31,185. Уч.-изд. л. 31,36. Тираж 25 000.
Изд. № 435. Заказ 166. Цена 2 р. 80 к. Издательство сИскусство»,
Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена
Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское
производственно-техническое объединение сПечатный Дворэ им. А. М. Горького
Союзполнграфпрома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136,
Чкаловский пр., 15.
Содержание следующих томов
Том второй
Статьи, выступления, заметки о советском и
зарубежном искусстве
Том третий
Работы по теории искусства и кинорежиссуры
«Наш современник Вильям Шекспир»
Том четвертый
«Пространство трагедий»
Рабочие тетради последних лет
Том пятый
Материалы к задуманным постановкам («Гоголи-
ада», «Маленькие трагедии», «Уход Толстого»,
«Буря», «Как вам это понравится» и др.)
Письма