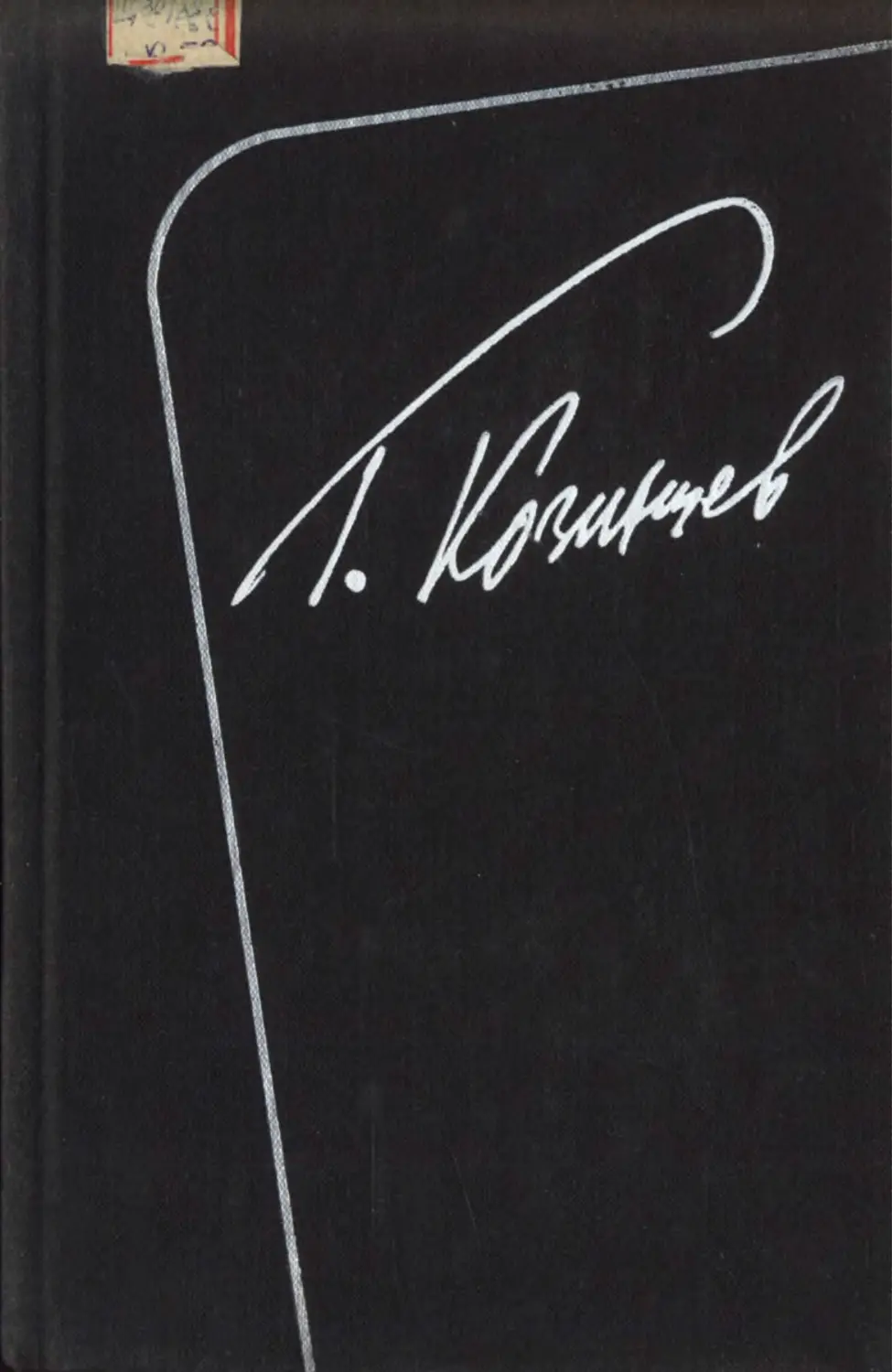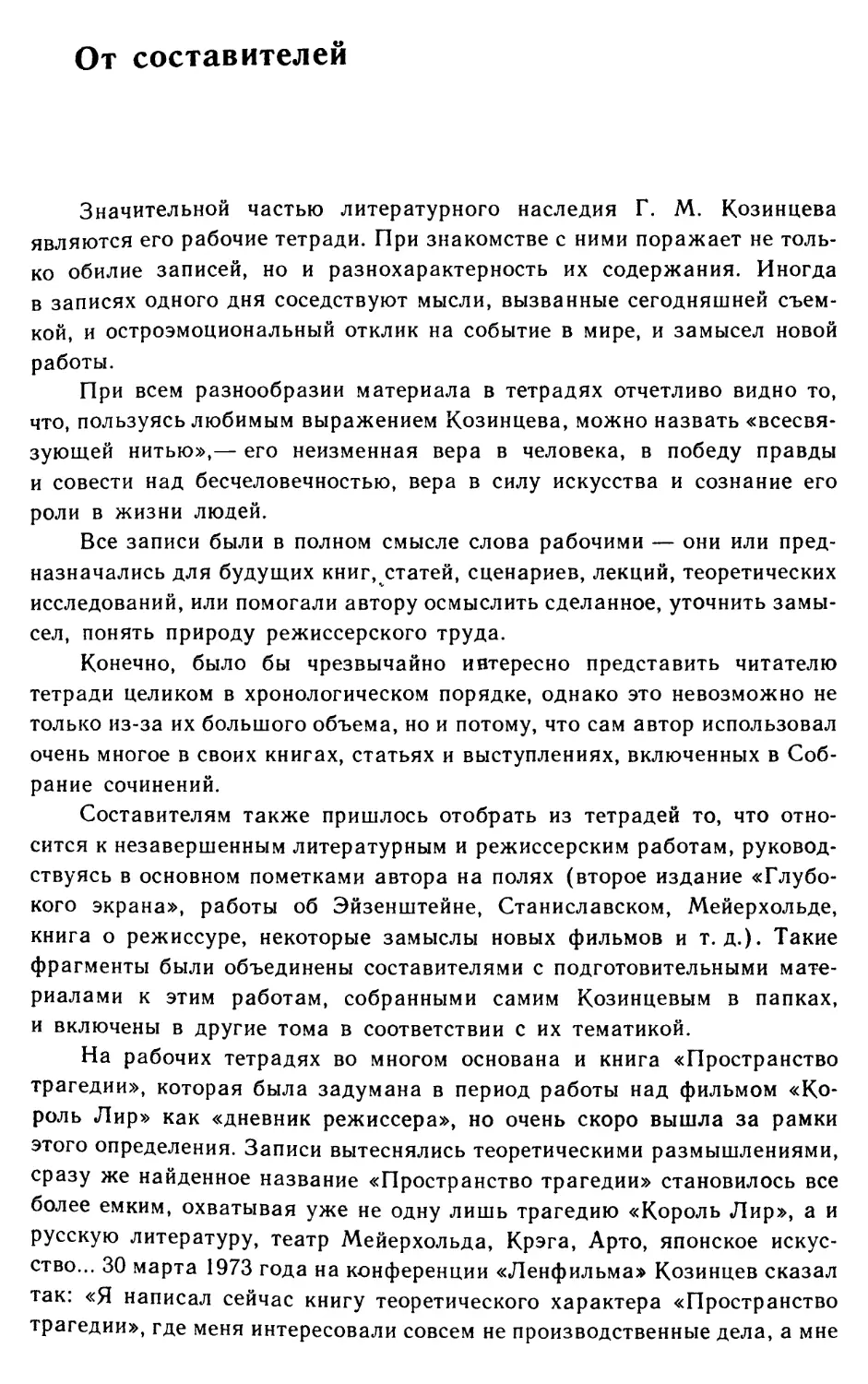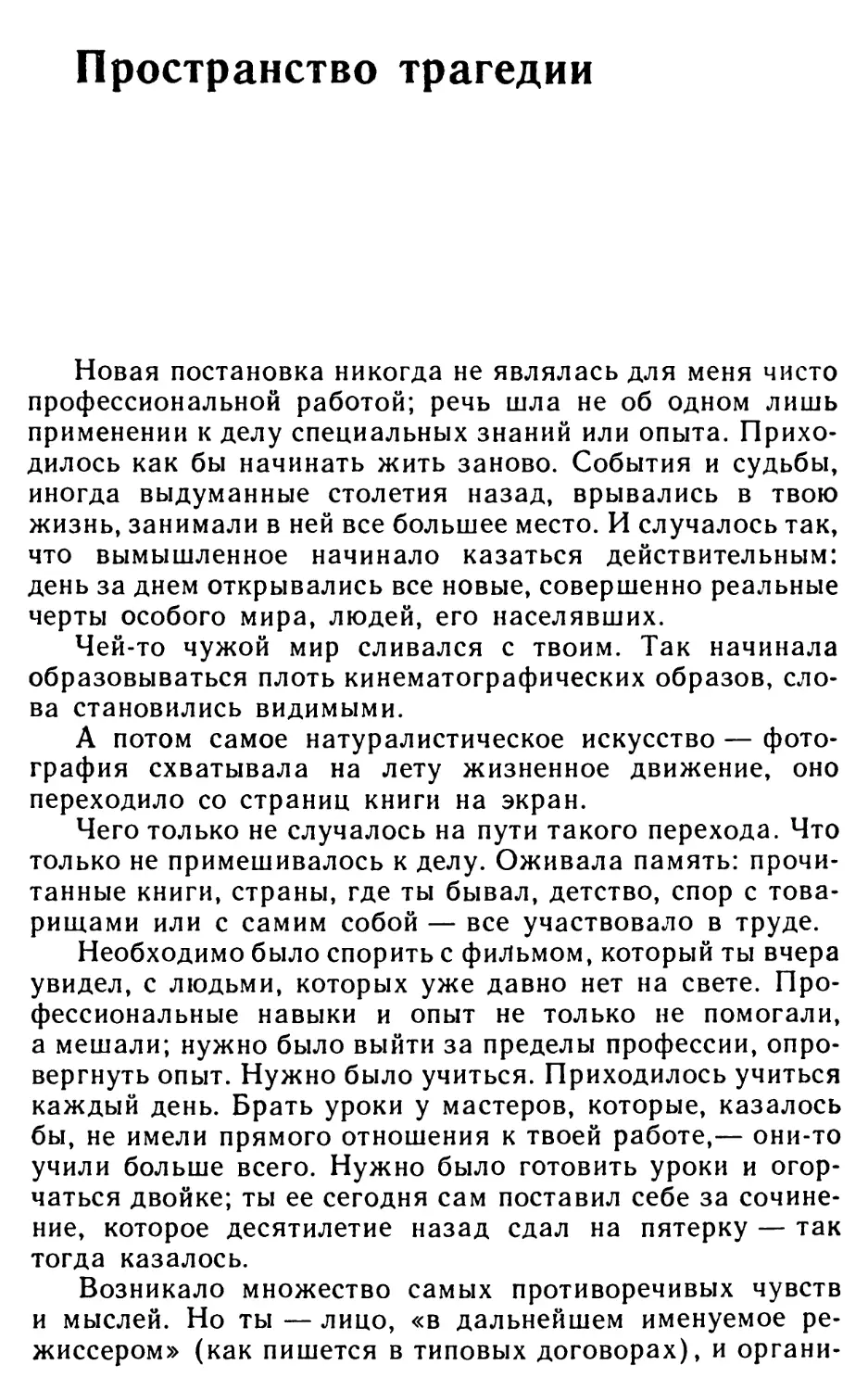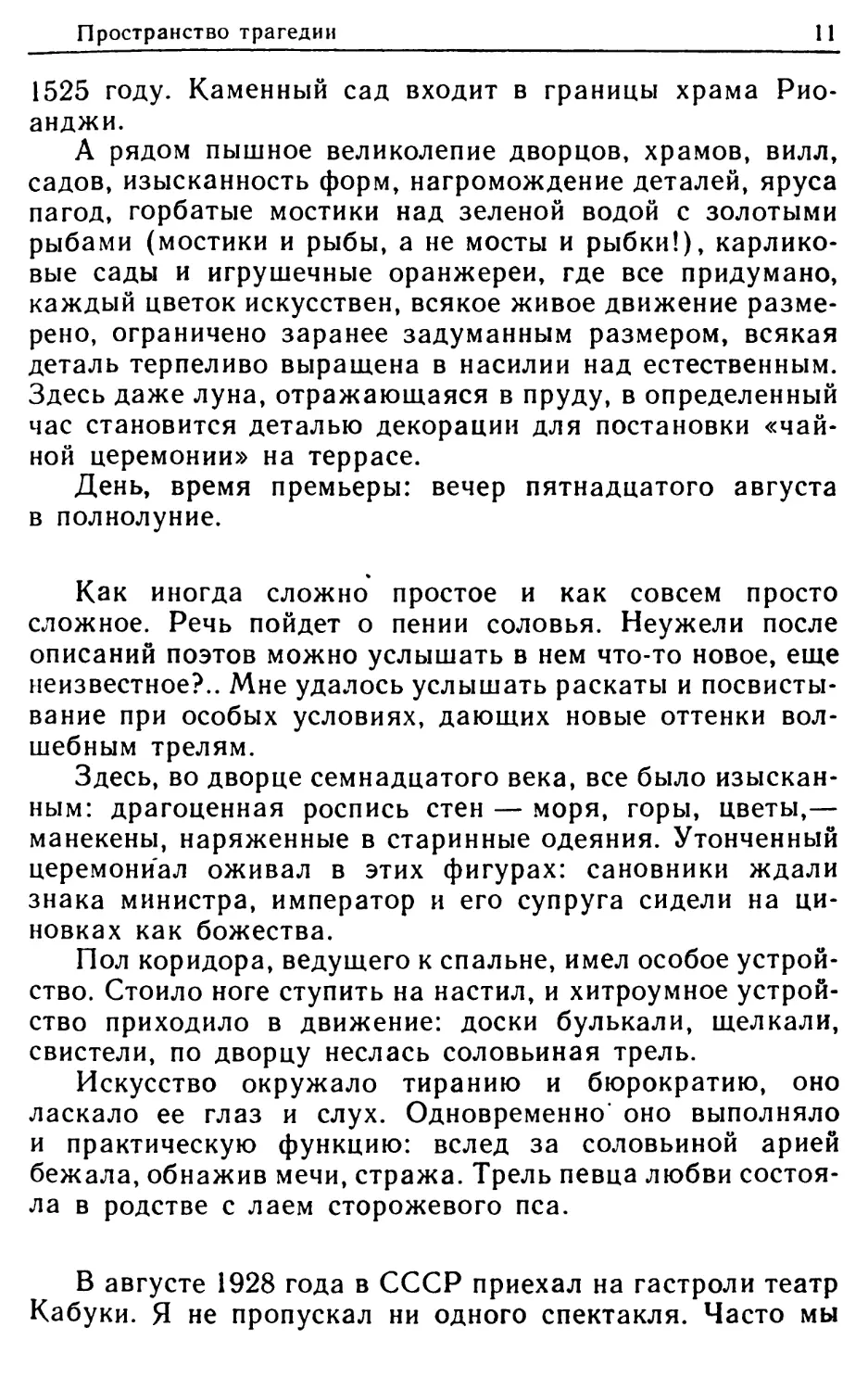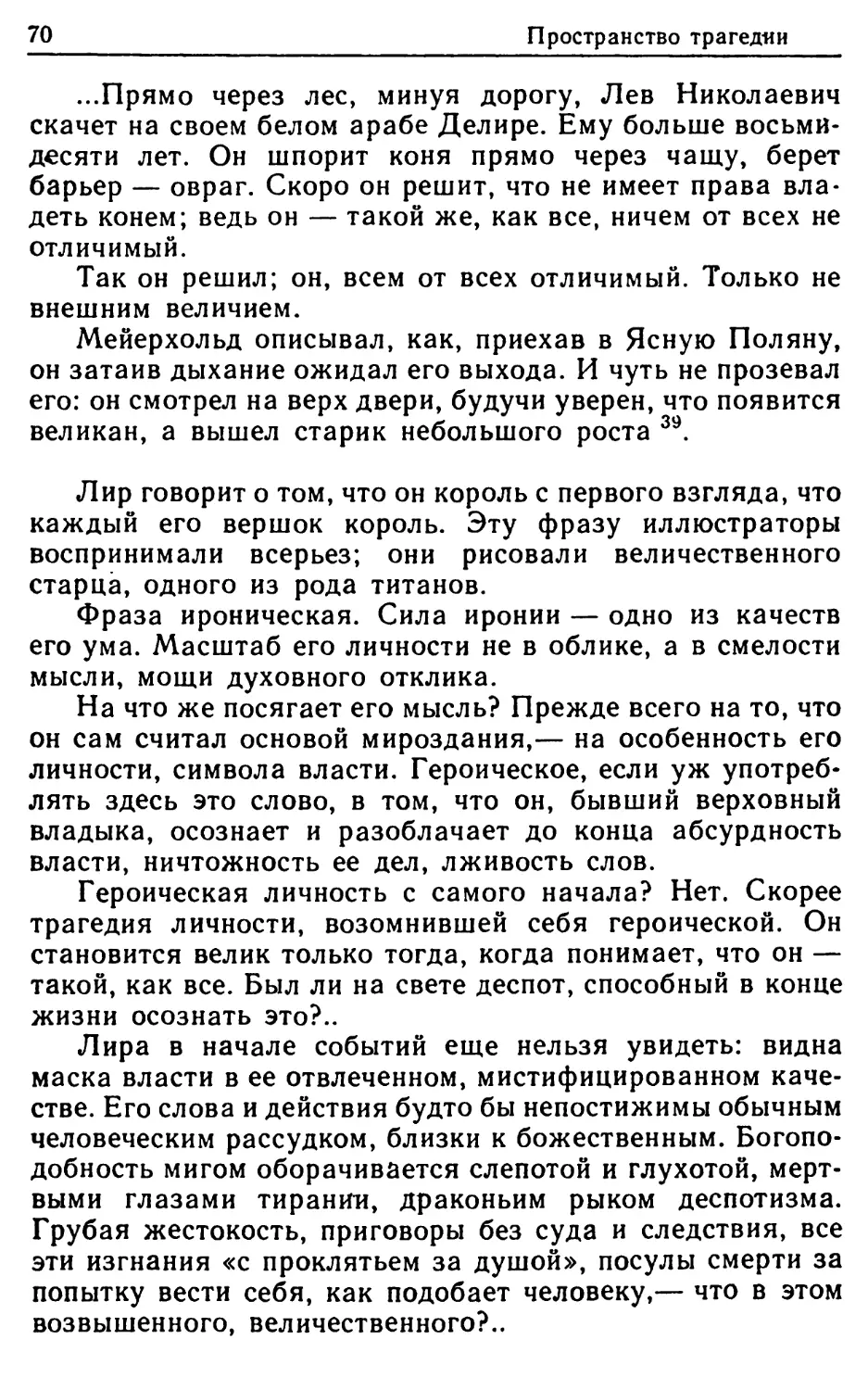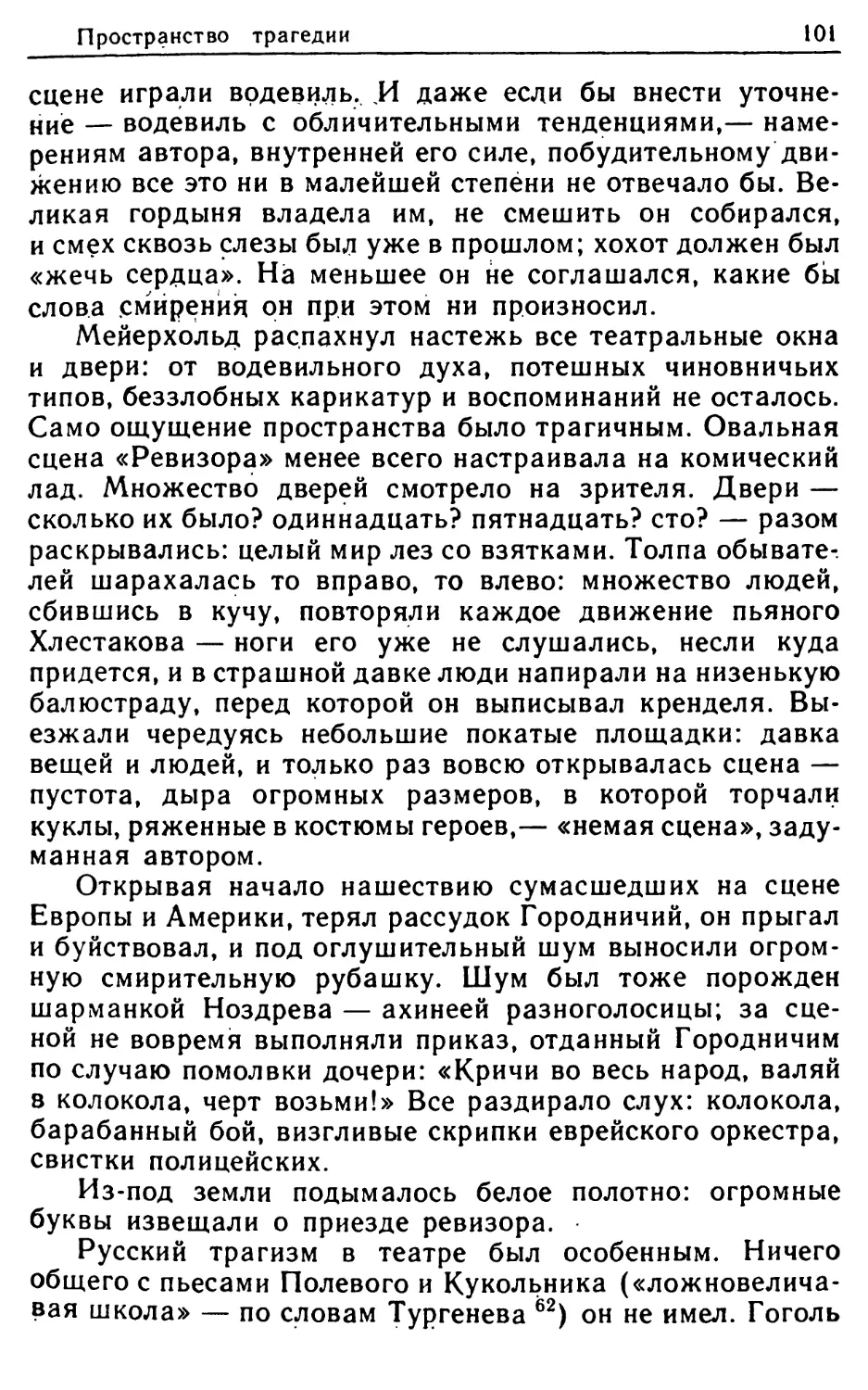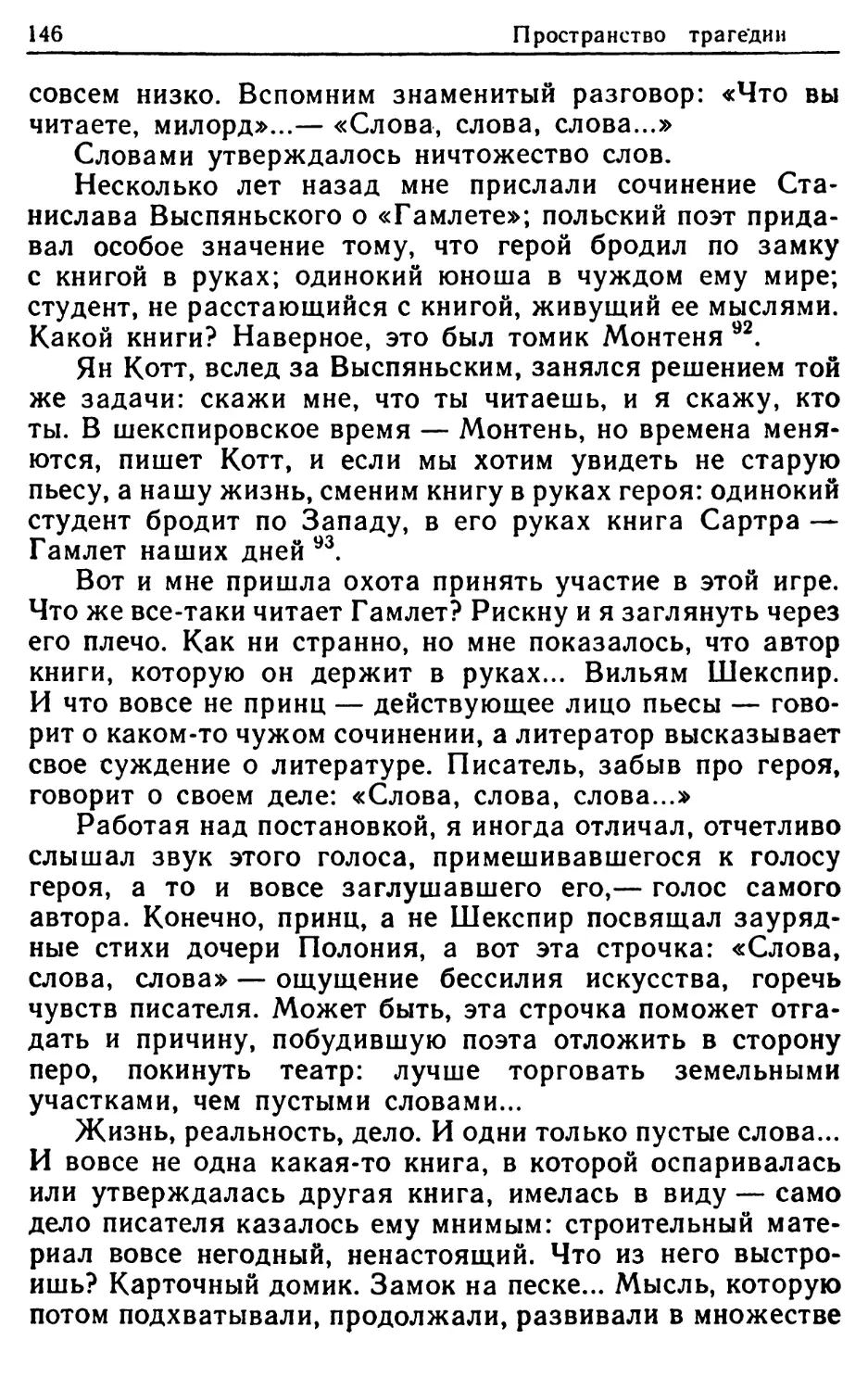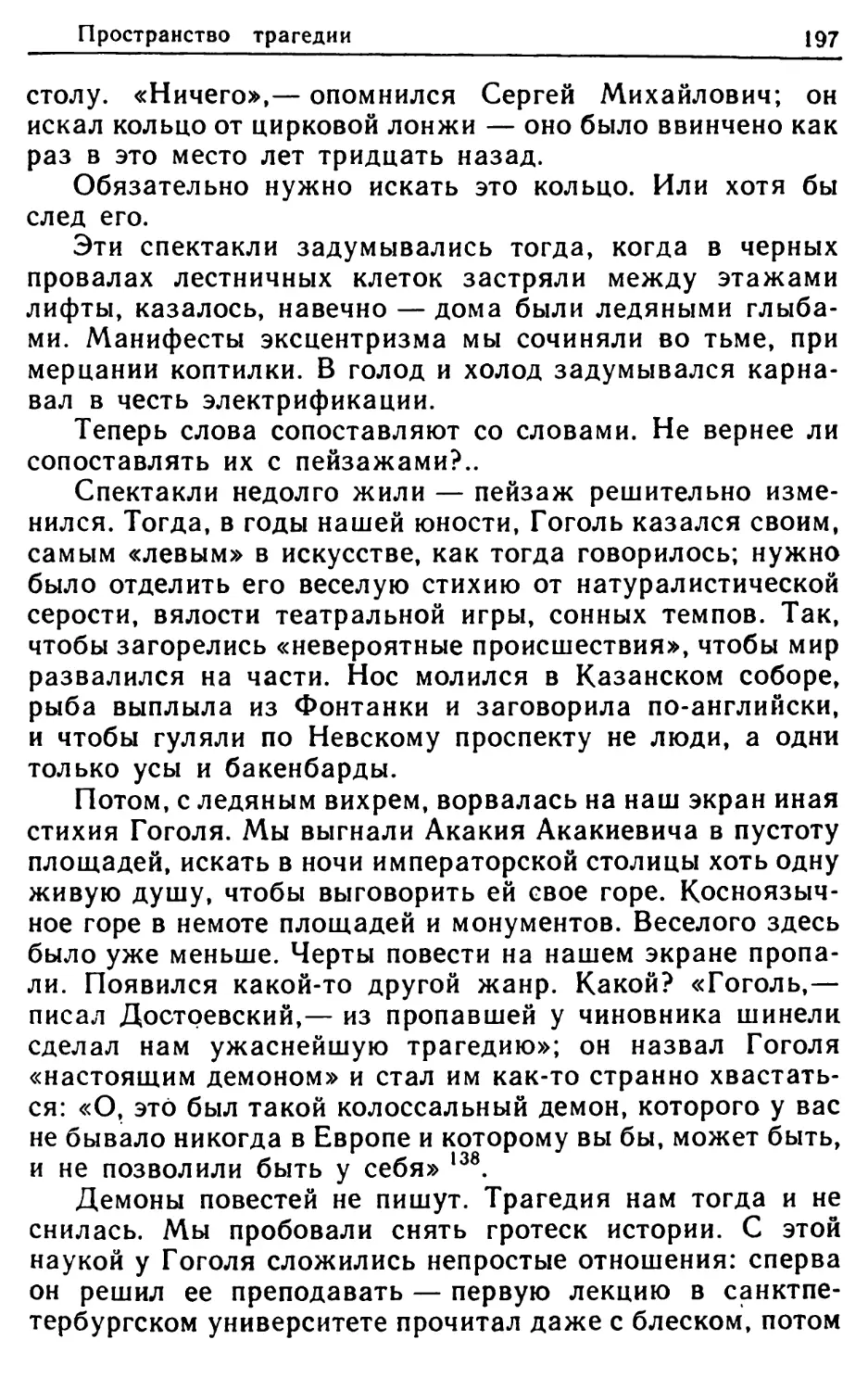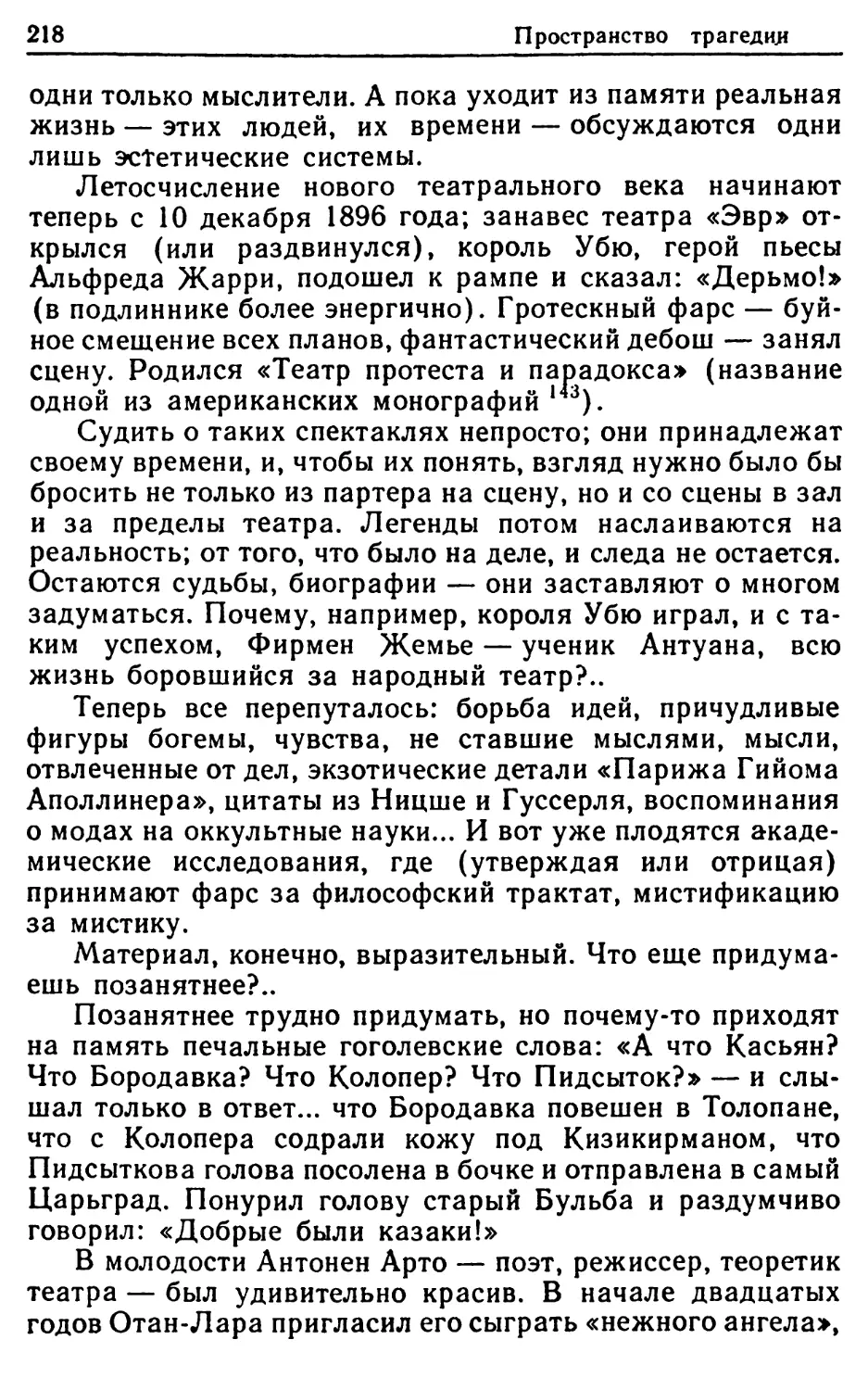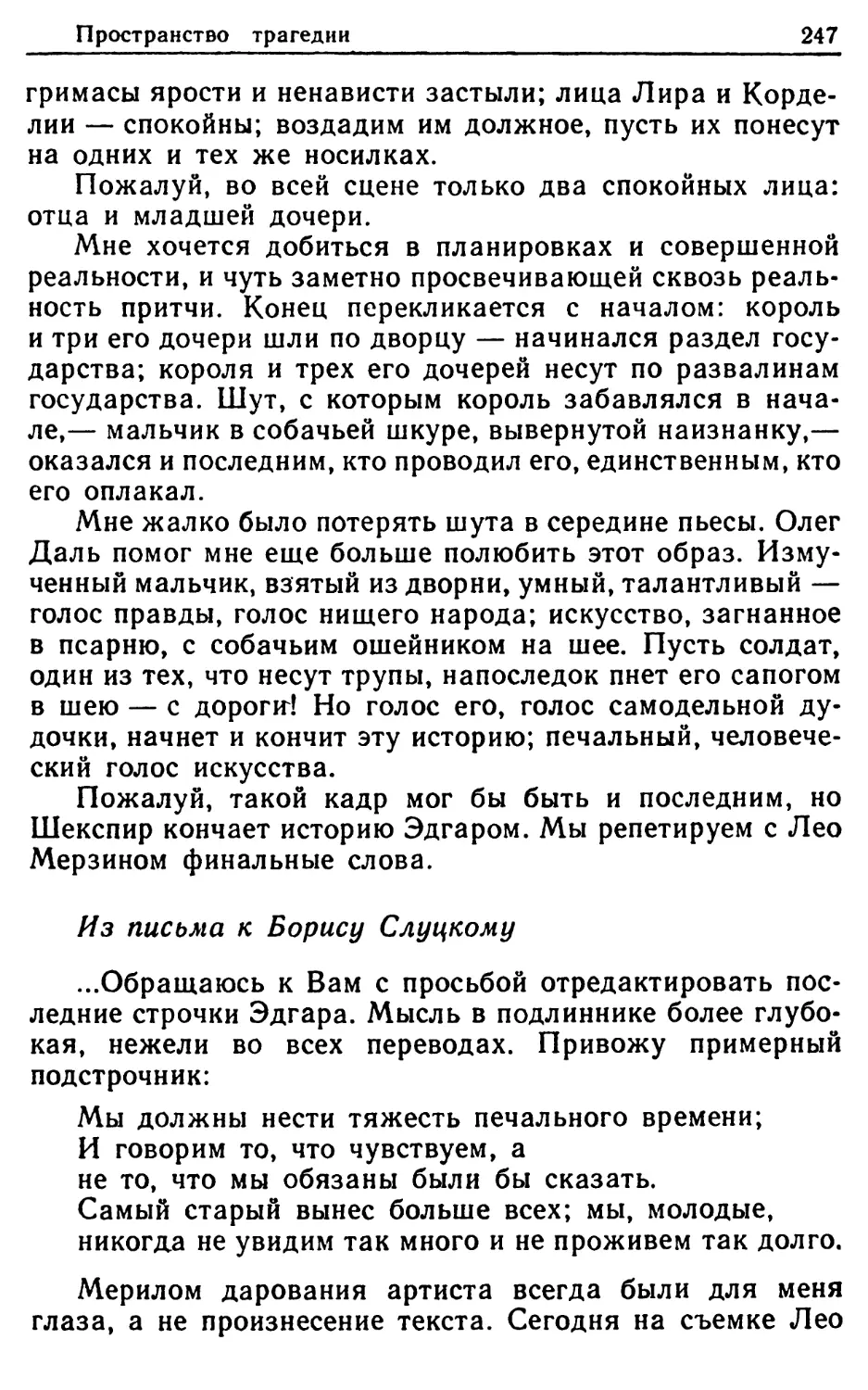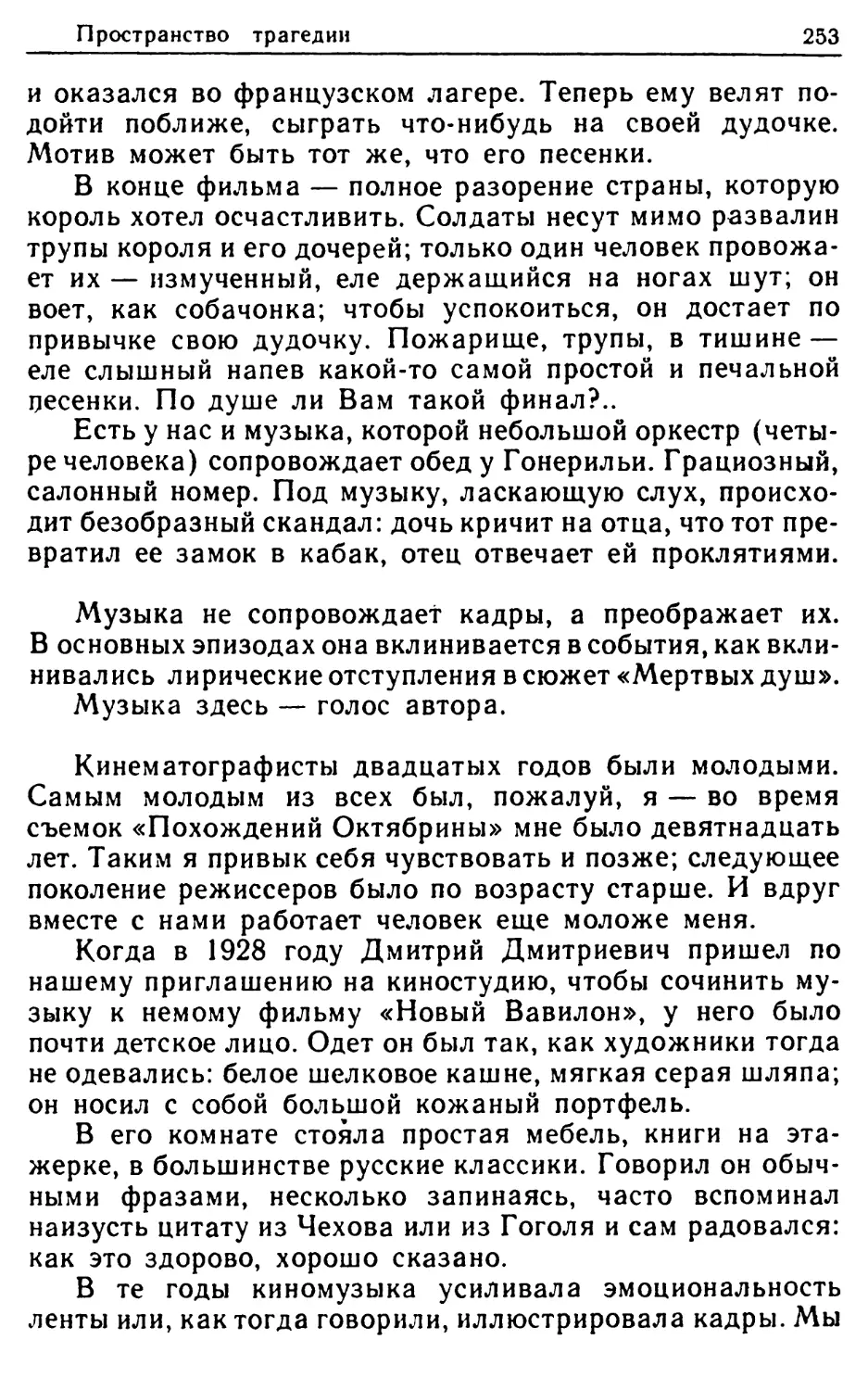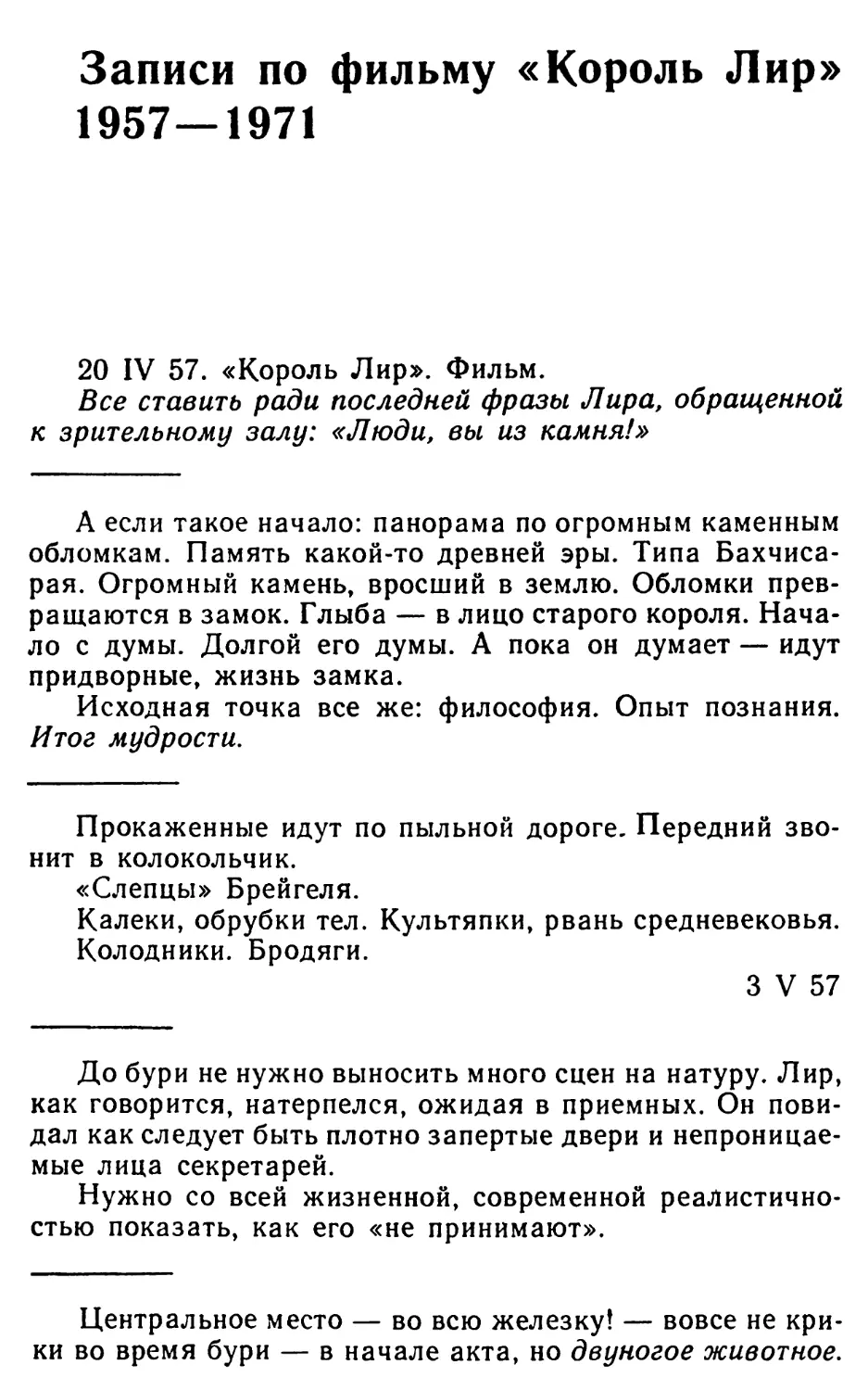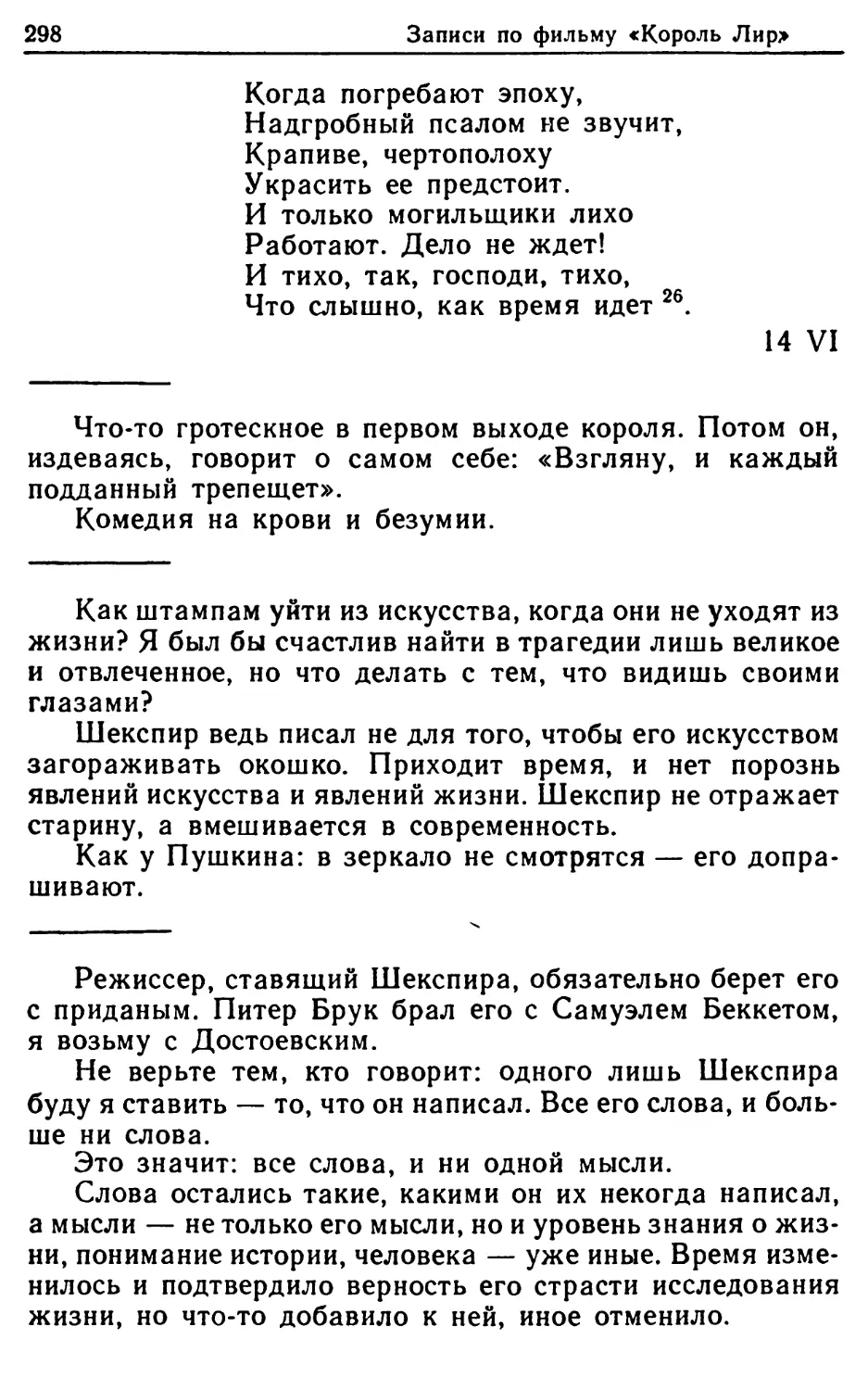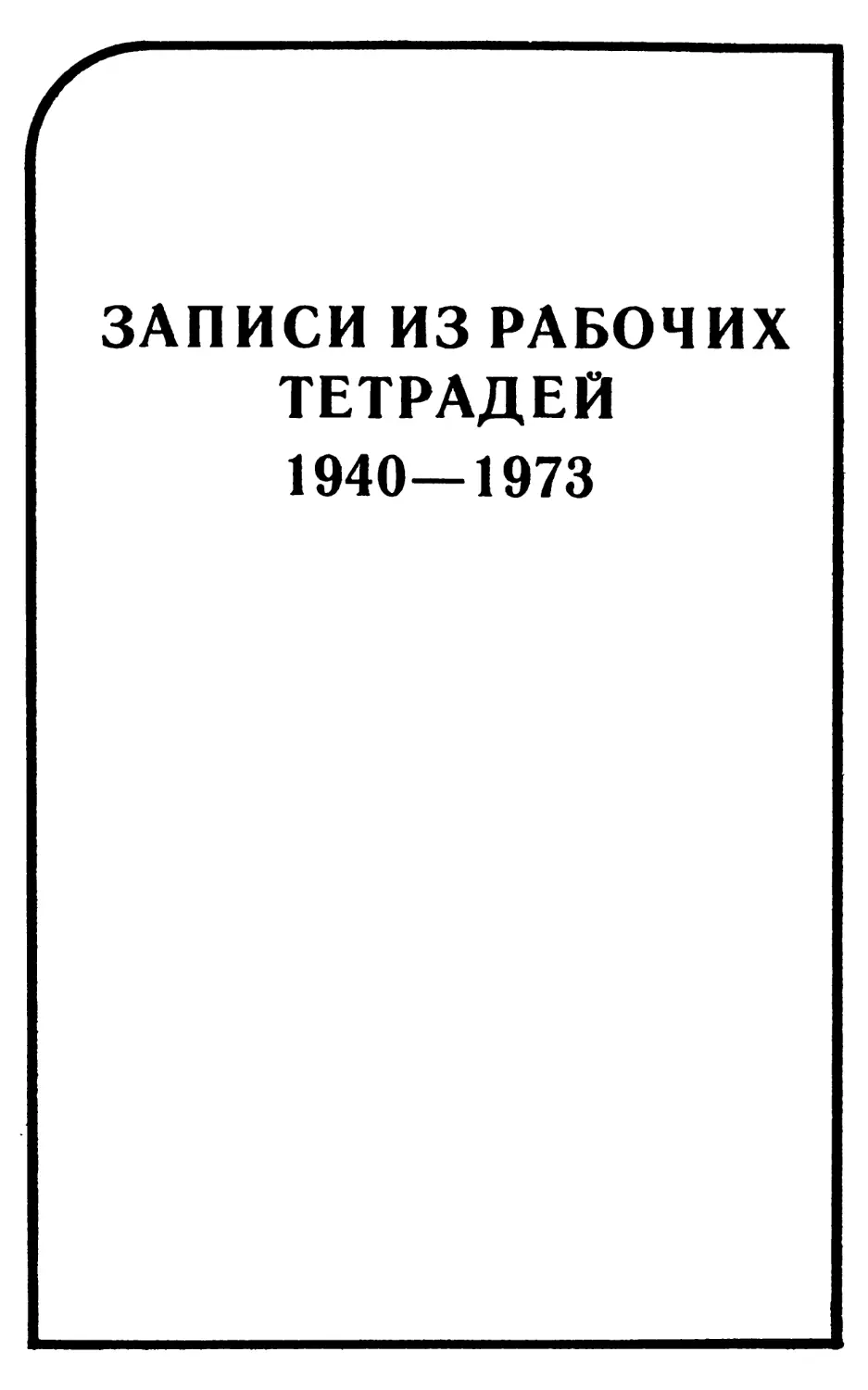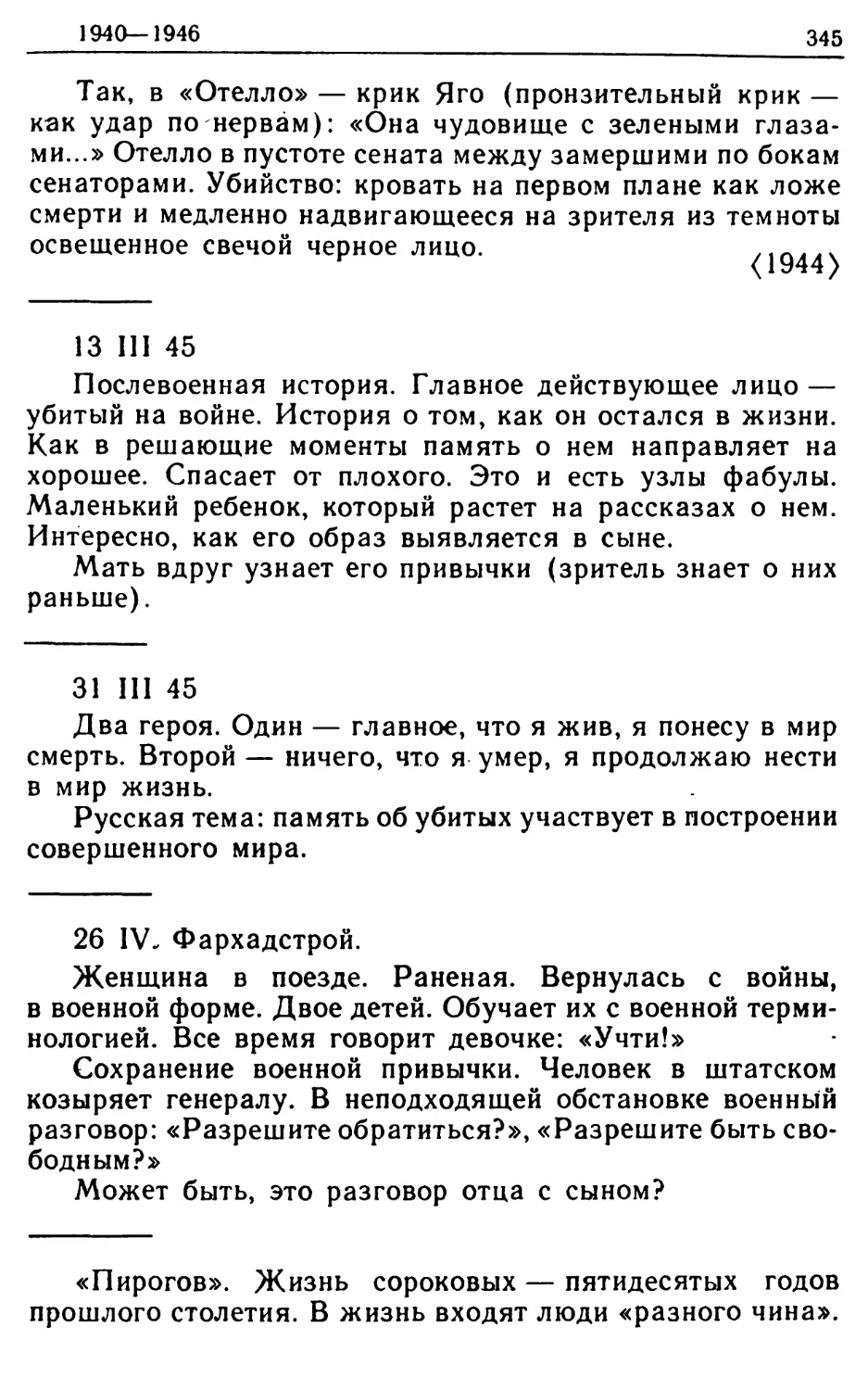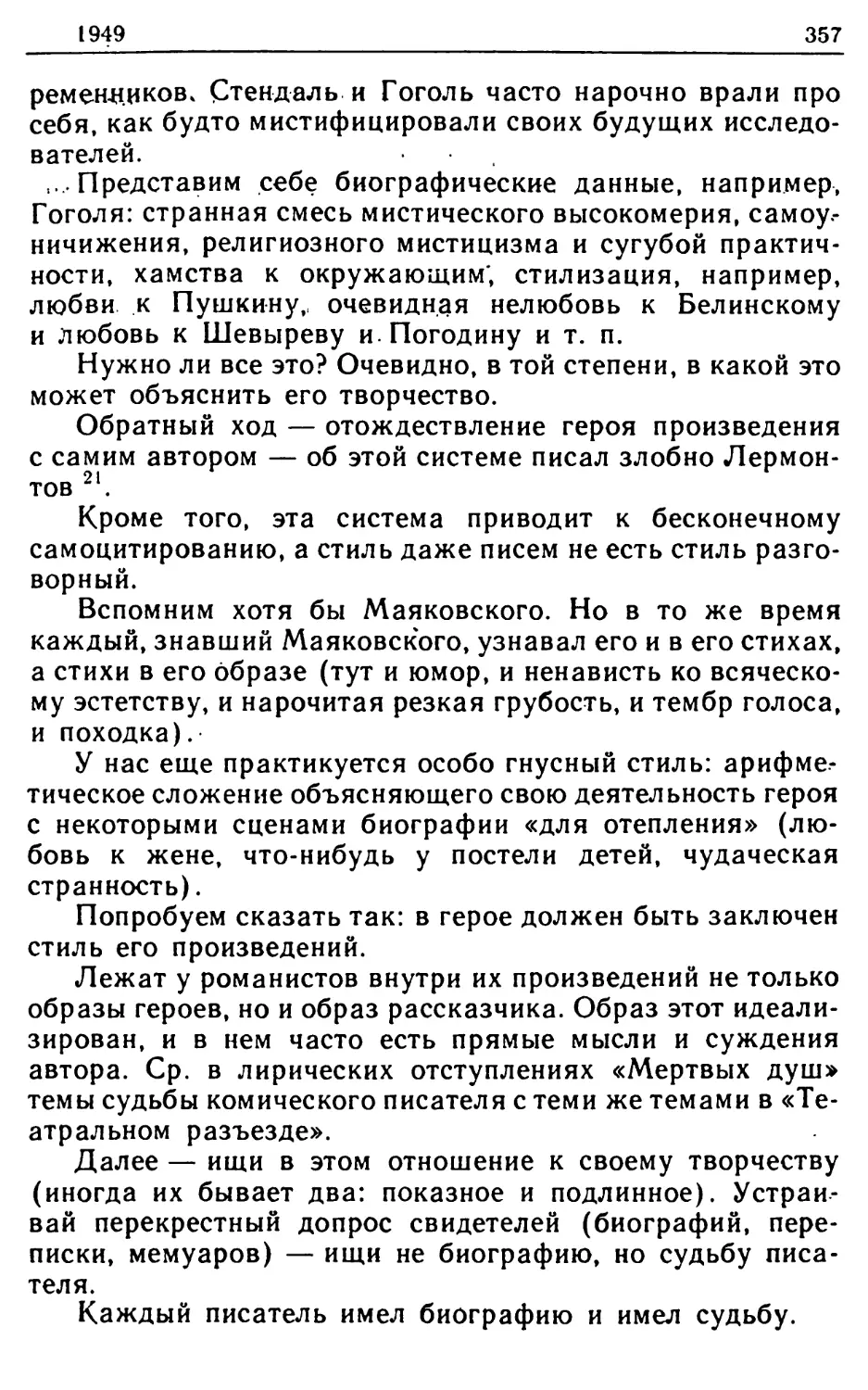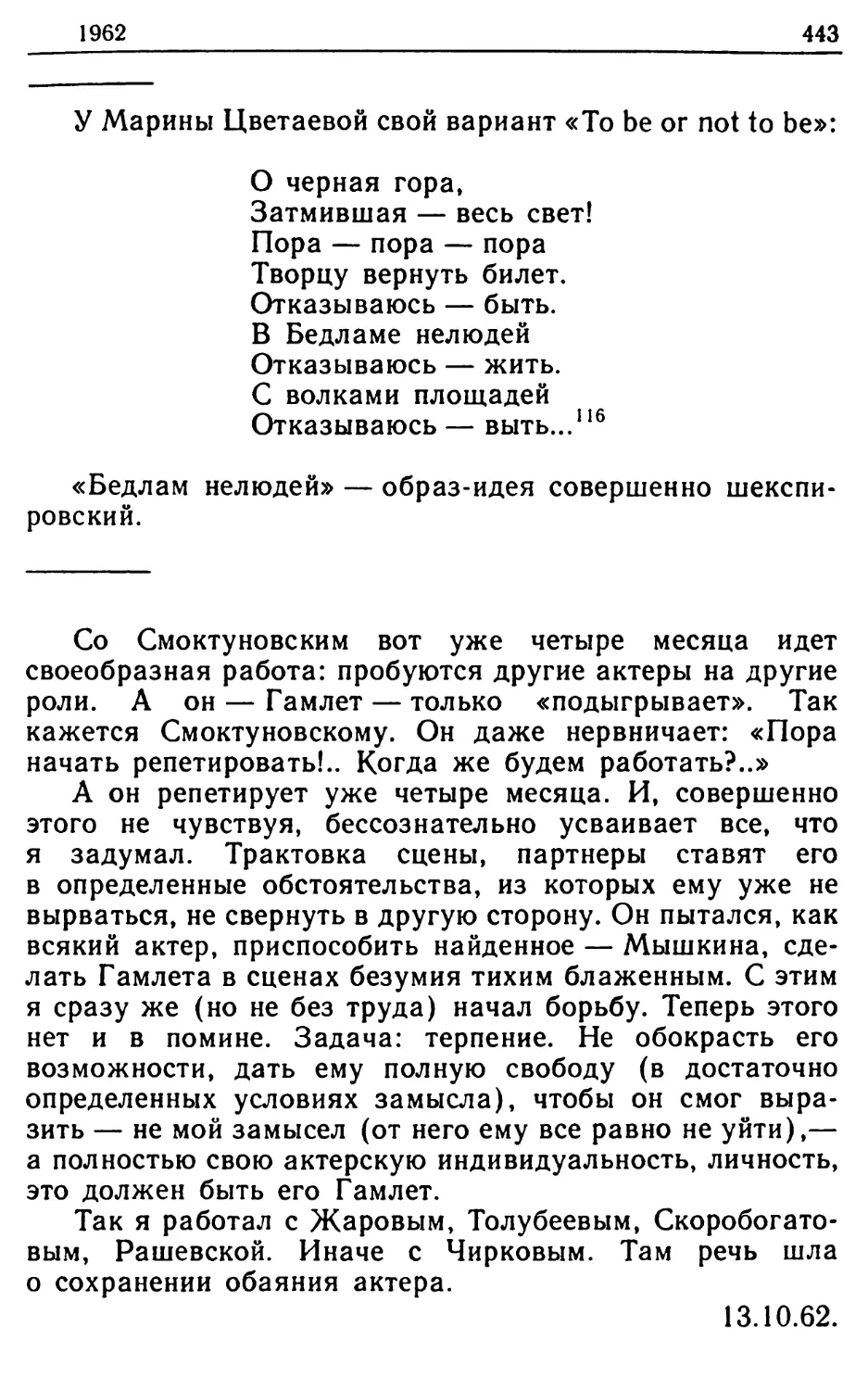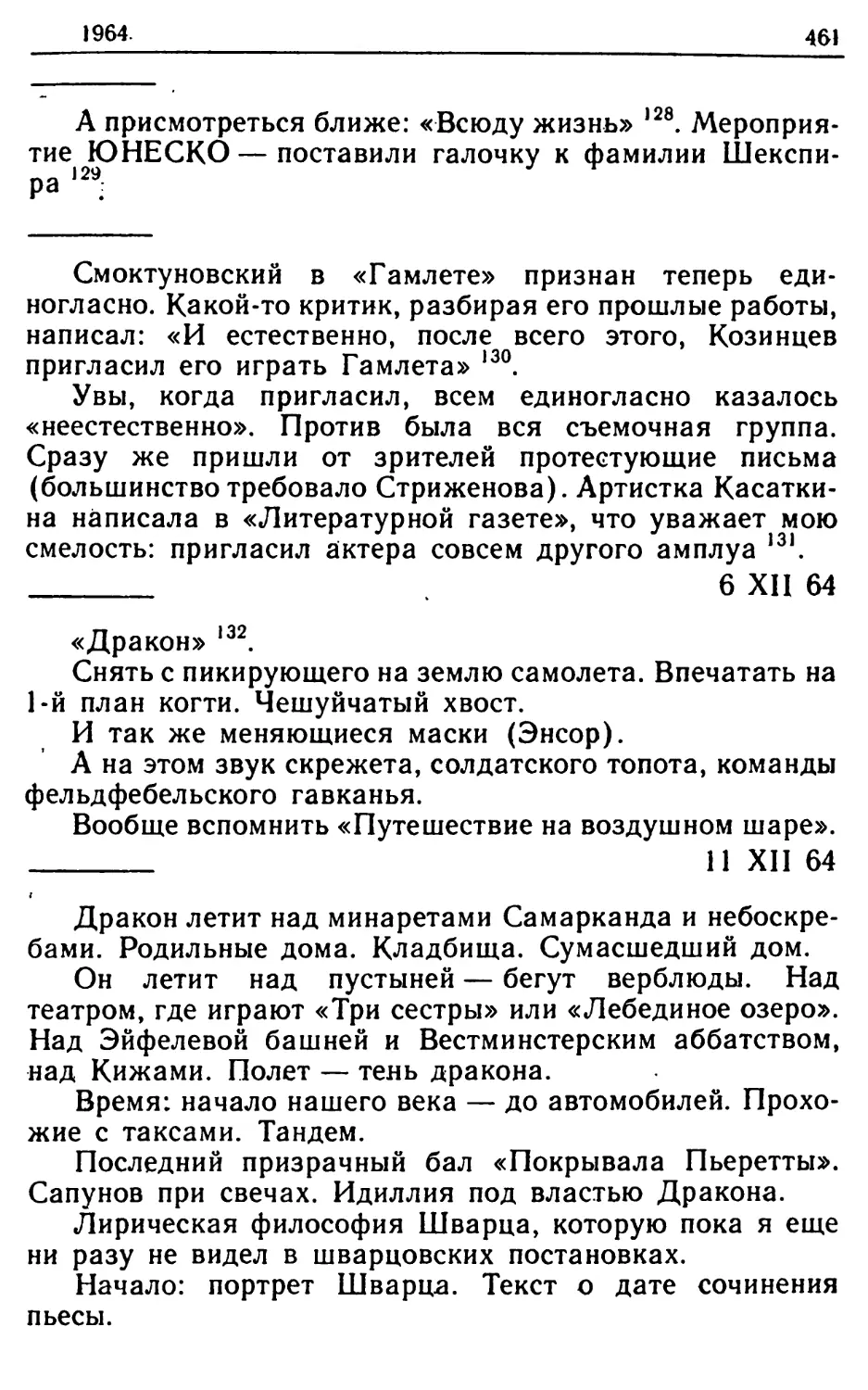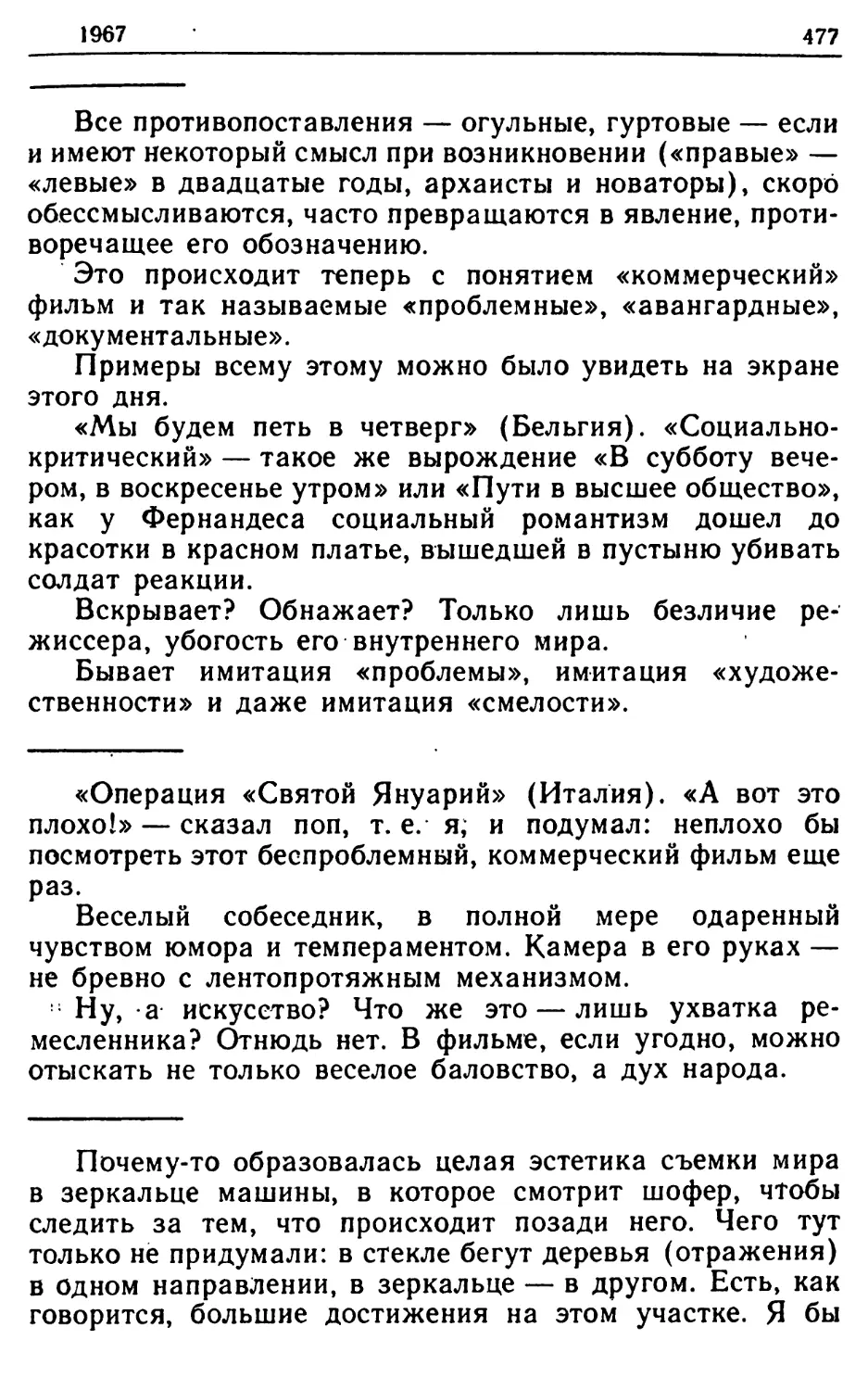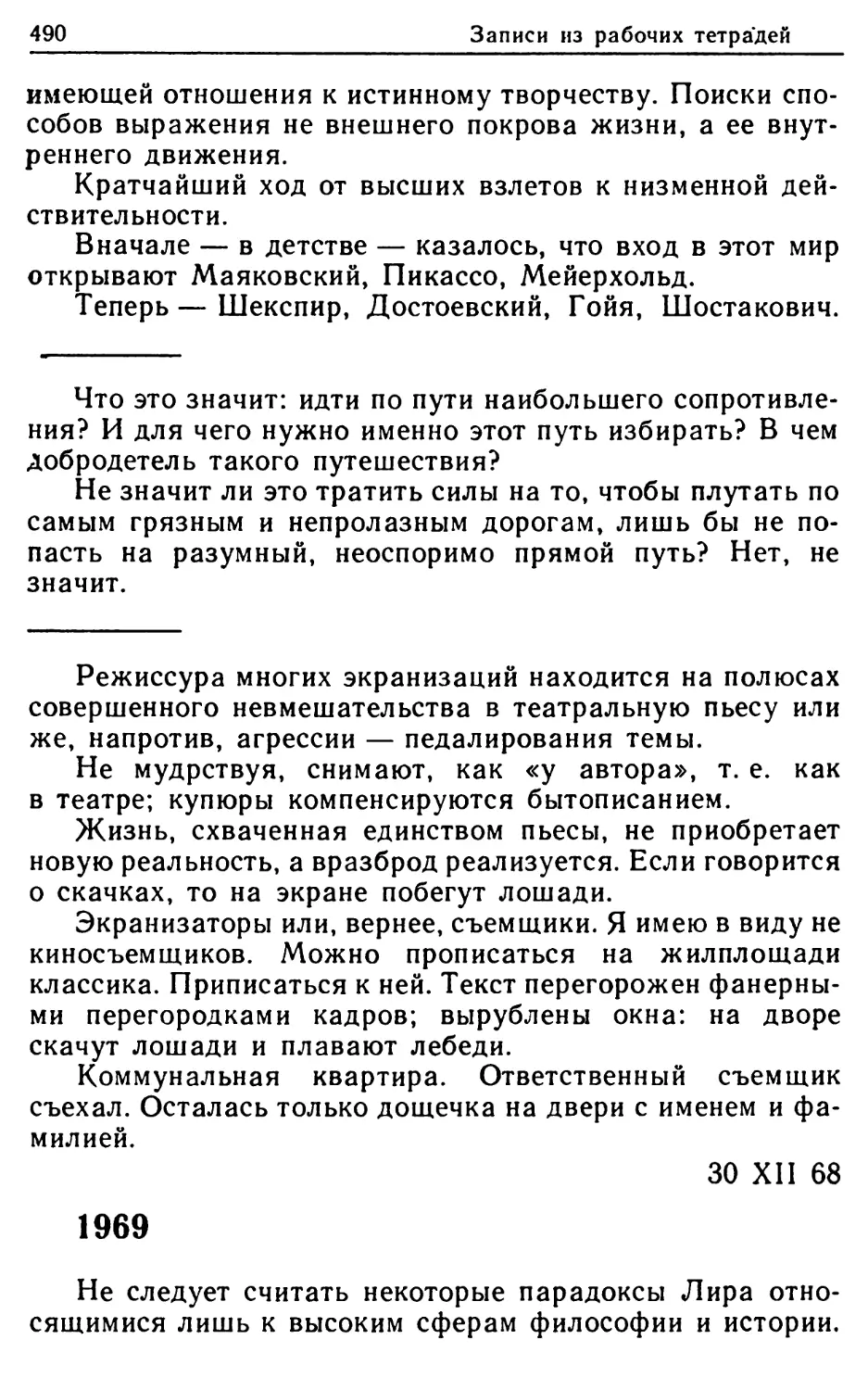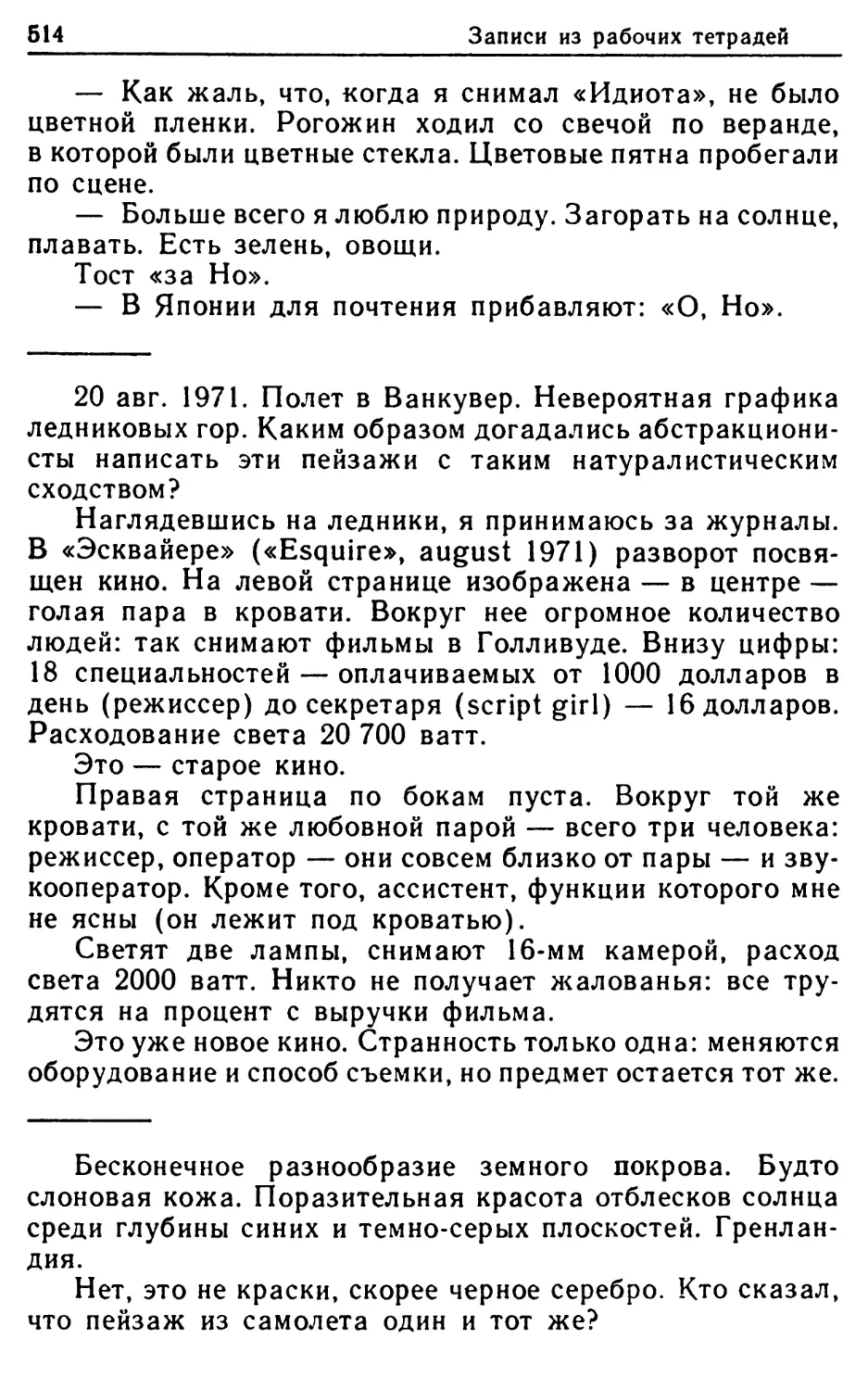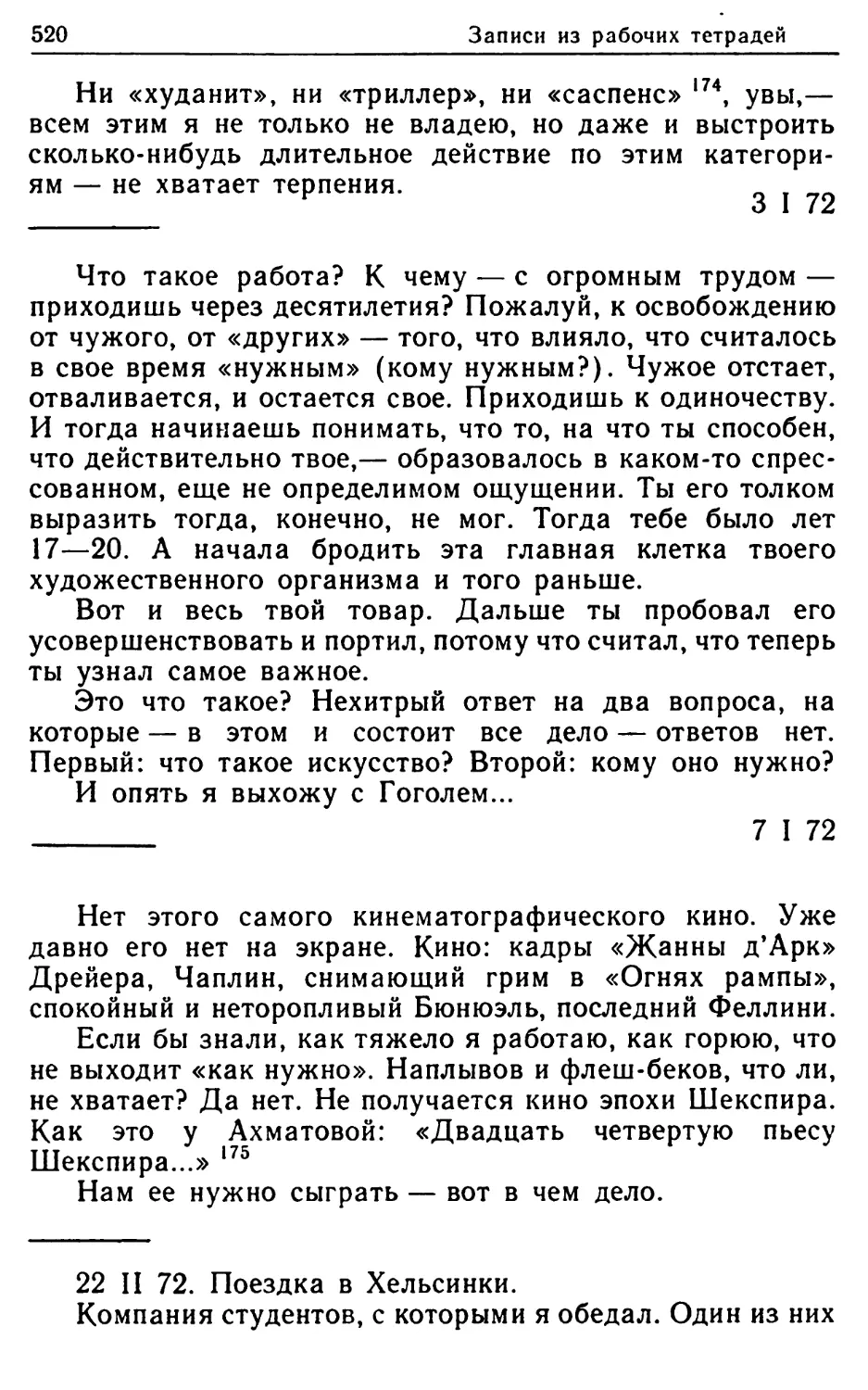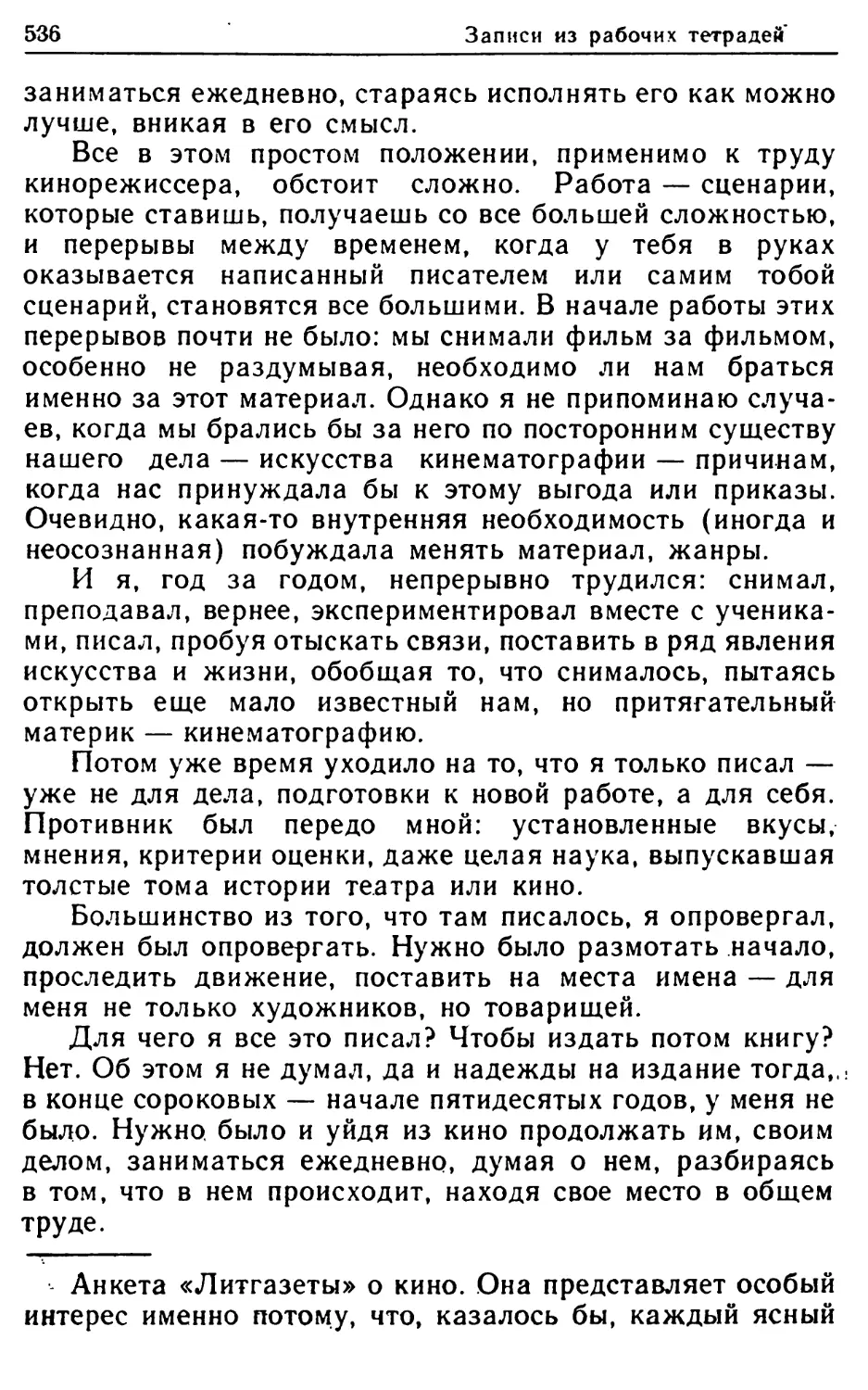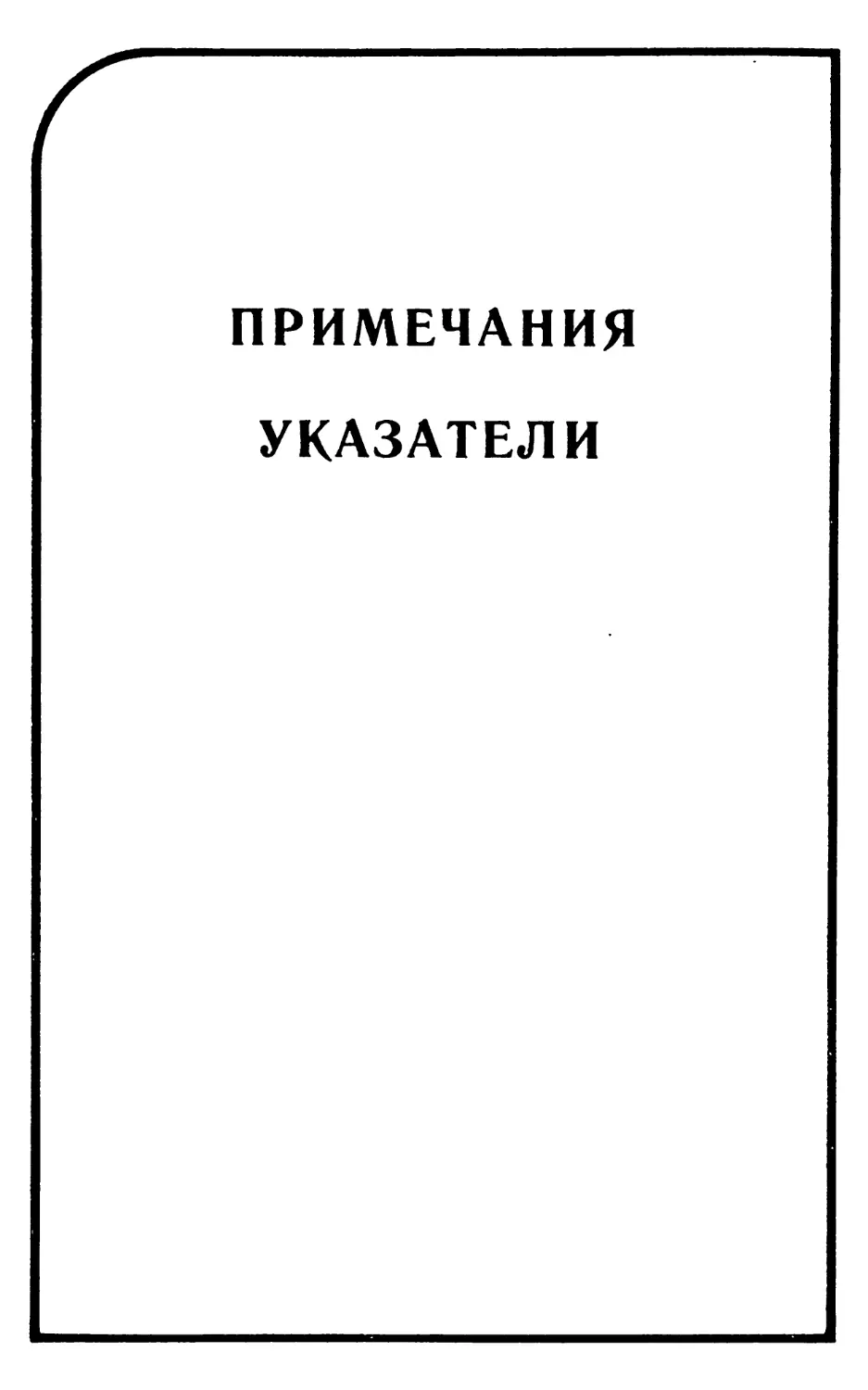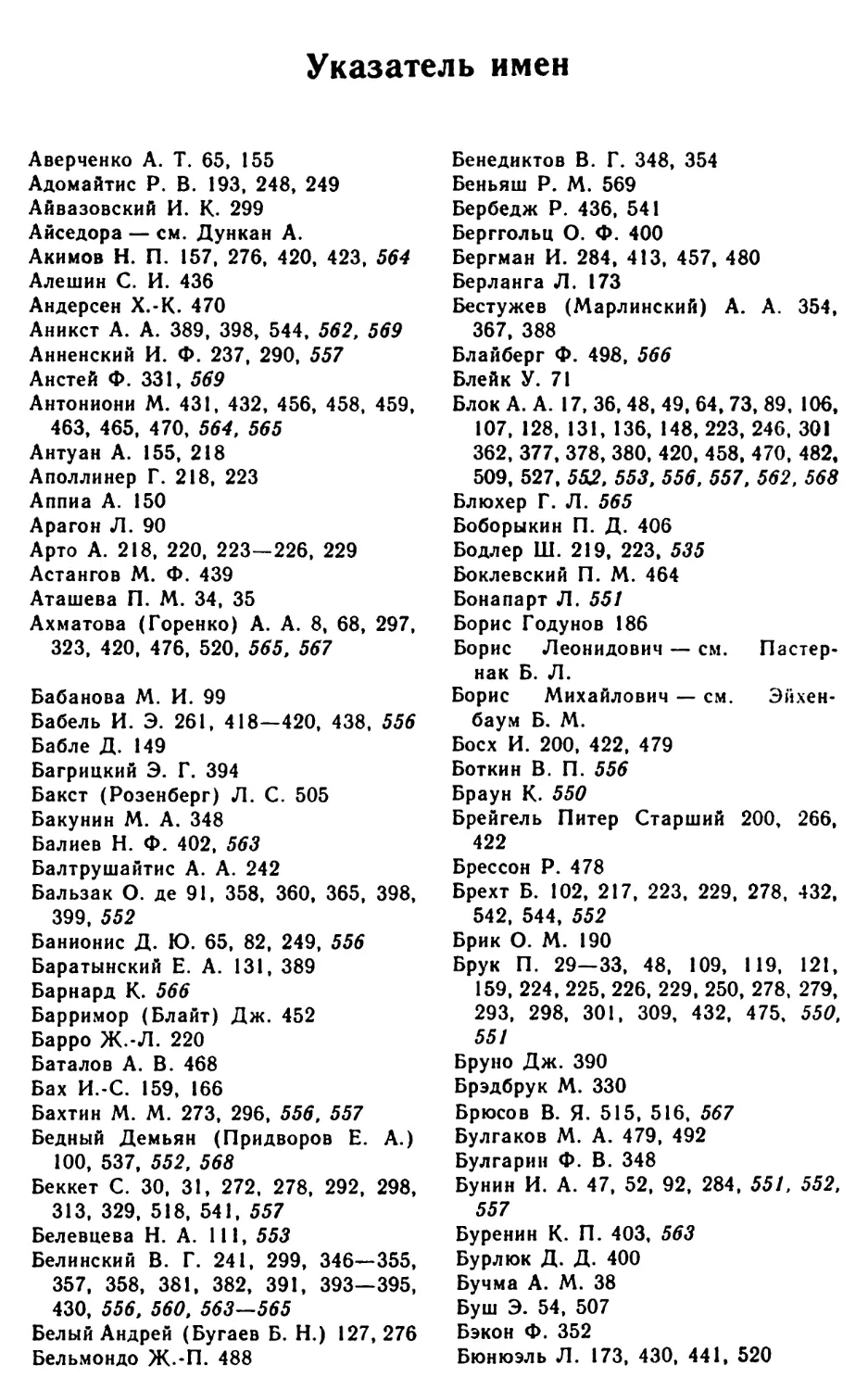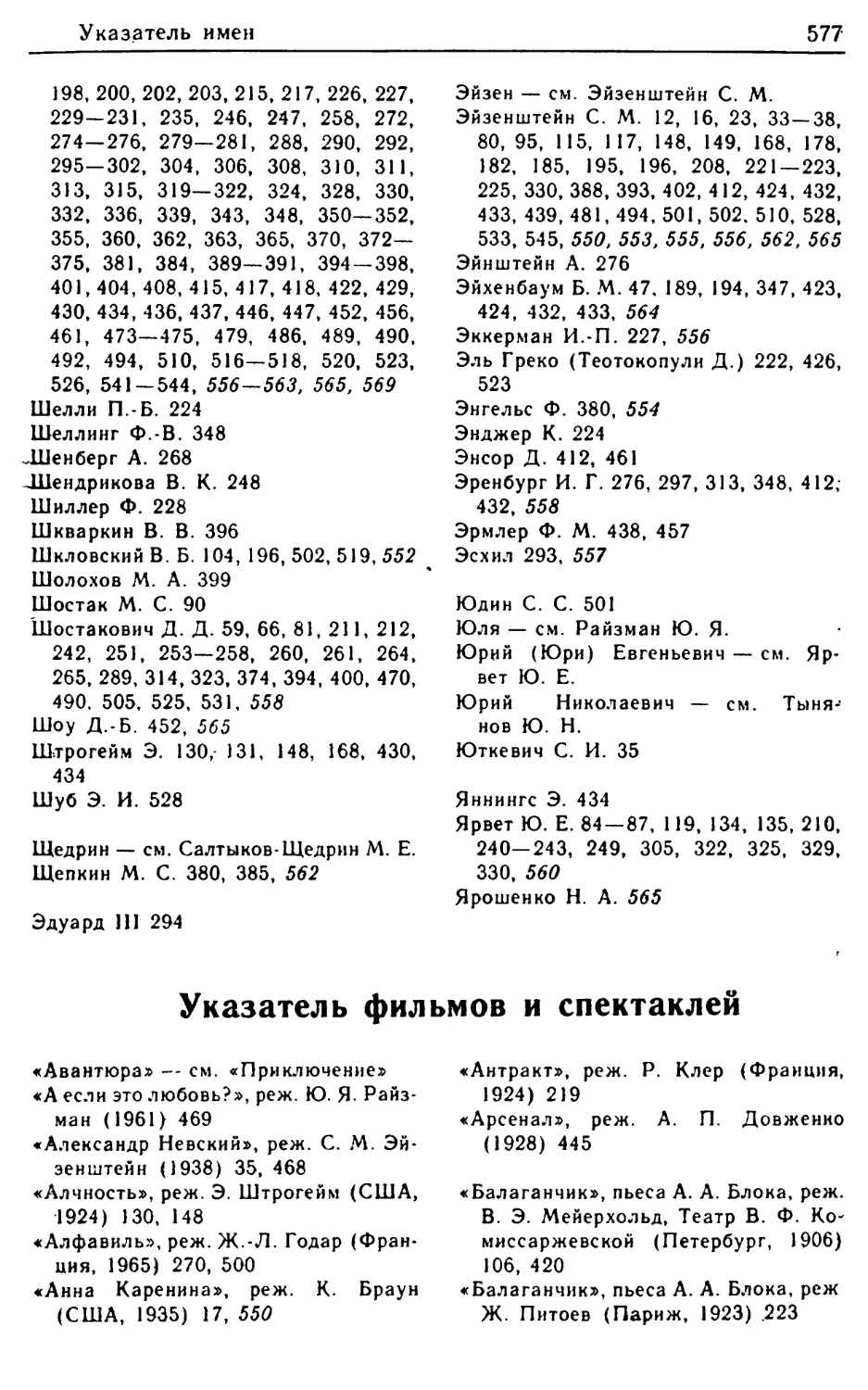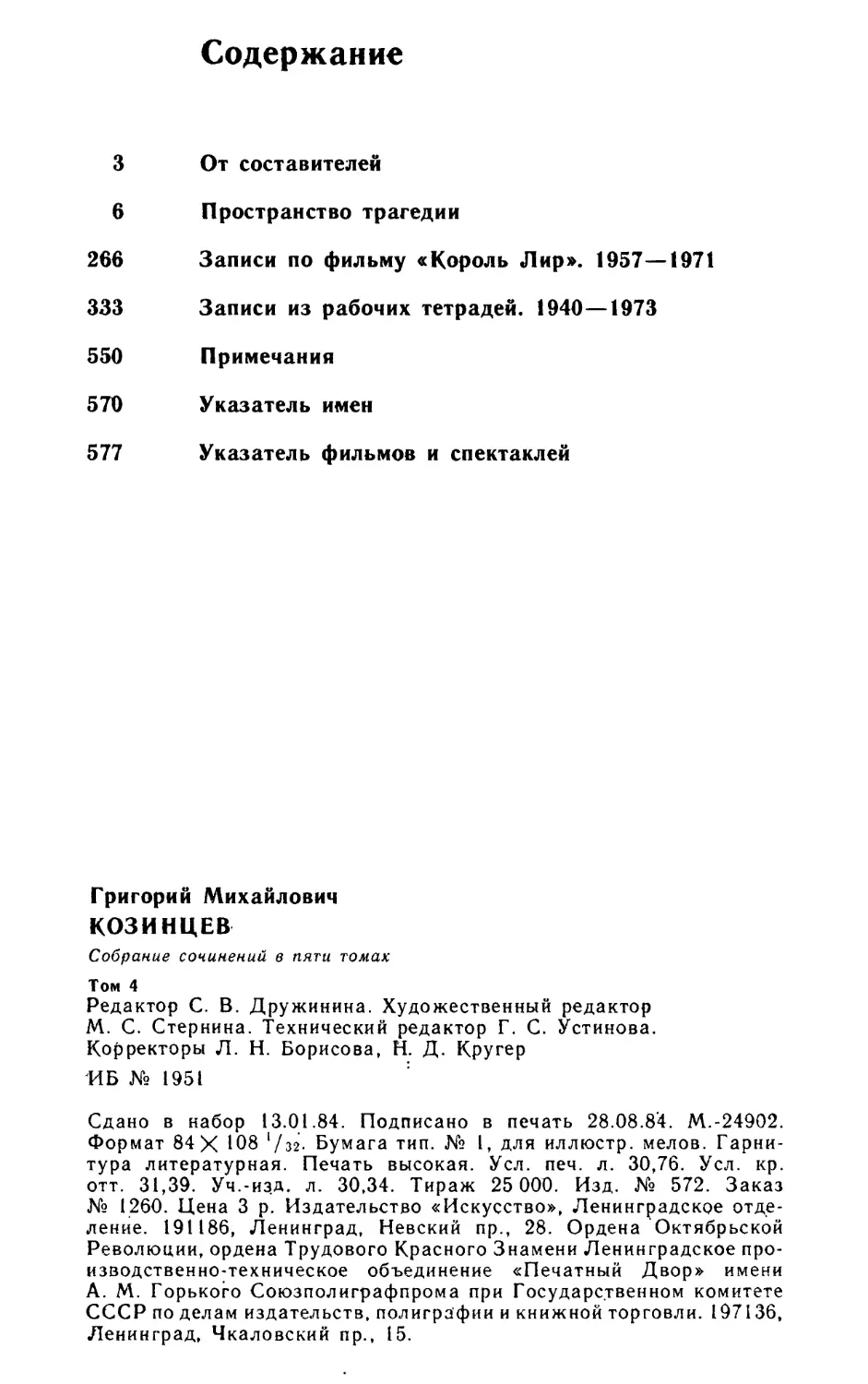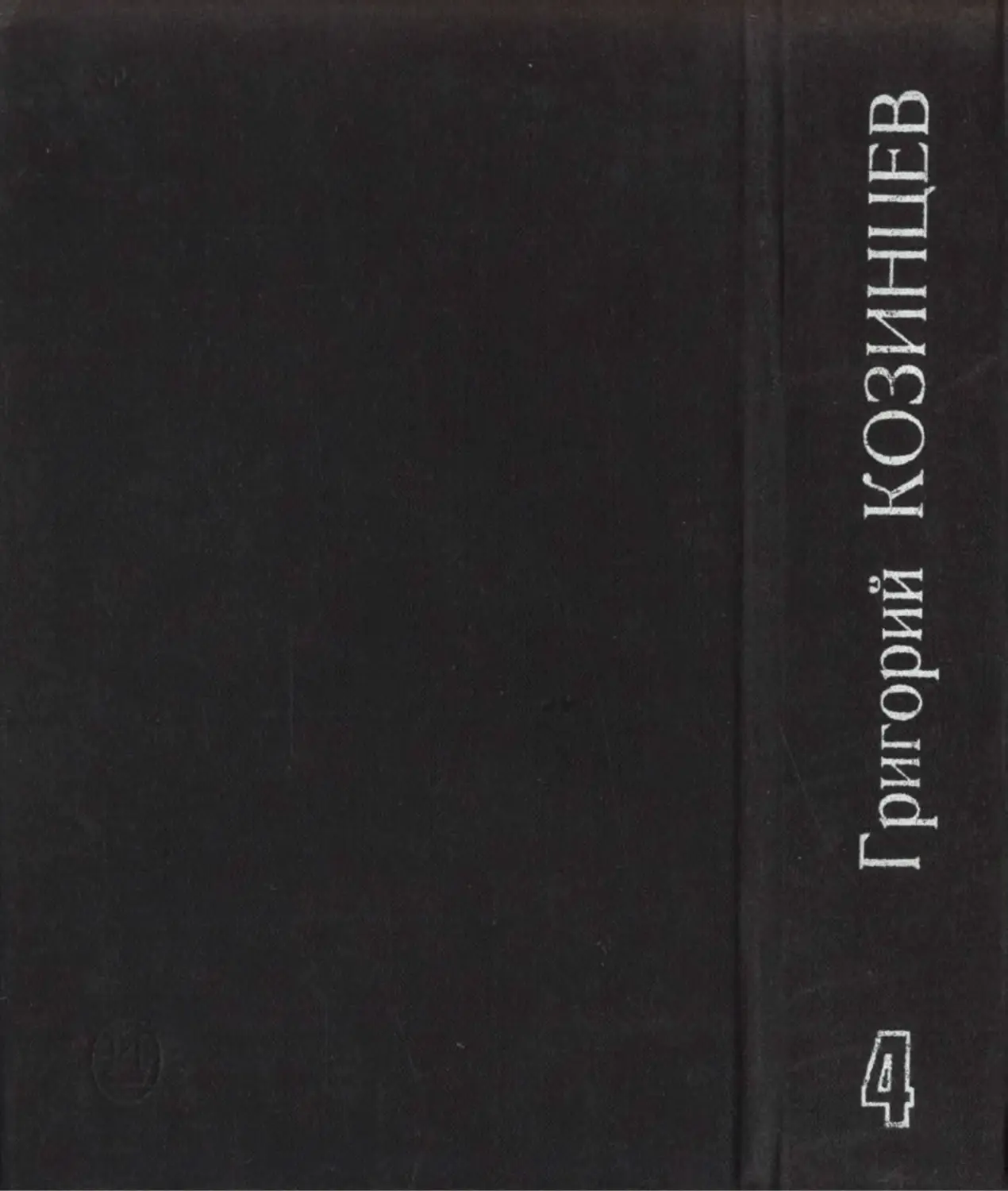Текст
-щр -^
Григорий
КОЗИНЦЕВ
Ж
Собрание
сочинений
в пяти
томах
Ленинград
„Искусство" Ленинградское отделение
1984
Григорий
КОЗИНЦЕВ
Пространство трагедии
Записи по фильму «Король Лир»
Записи из рабочих тетрадей
1940—1973
я
тИтКг&&£4 Всесоюзный научно-исследовательский институт
К59 киноискусства Госкино СССР
Ленинградский государственный институт театра,
музыки и кинематографии
Редакционная коллегия:
С. А. Герасимов (главный редактор), В. Е. Баскаков,
Н. М. Волынкин, В. С. Дзяк, В. Г. Козинцева,
Е. Д. Сурков, И. Е. Хейфиц, С. И. Юткевич
Составители: В. Г. Козинцева, #. Л. Бутовский
Художник Б. А. Денисовский
Козинцев Г. М.
К59 Собрание сочинений в пяти томах.
Т. 4/Сост. В. Г. Козинцева, Я. Л.
Бутовский; — Л.: Искусство, 1984.— 583 с,
портр.
Четвертый том Собрания сочинений выдающегося советского
кинорежиссера Г. М. Козинцева содержит книгу «Пространство
трагедии», записи по фильму «Король Лир» и записи из рабочих тетрадей
(1940—1973). Том снабжен указателем имен и названий.
4910020000-053 д
К ПОДПИСНОе DDIV 80.01
025(01)-84
© «Искусство», 1984 г.
От составителей
Значительной частью литературного наследия Г. М. Козинцева
являются его рабочие тетради. При знакомстве с ними поражает не
только обилие записей, но и разнохарактерность их содержания. Иногда
в записях одного дня соседствуют мысли, вызванные сегодняшней
съемкой, и остроэмоциональный отклик на событие в мире, и замысел новой
работы.
При всем разнообразии материала в тетрадях отчетливо видно то,
что, пользуясь любимым выражением Козинцева, можно назвать «всесвя-
зующей нитью»,— его неизменная вера в человека, в победу правды
и совести над бесчеловечностью, вера в силу искусства и сознание его
роли в жизни людей.
Все записи были в полном смысле слова рабочими — они или
предназначались для будущих книгчстатей, сценариев, лекций, теоретических
исследований, или помогали автору осмыслить сделанное, уточнить
замысел, понять природу режиссерского труда.
Конечно, было бы чрезвычайно интересно представить читателю
тетради целиком в хронологическом порядке, однако это невозможно не
только из-за их большого объема, но и потому, что сам автор использовал
очень многое в своих книгах, статьях и выступлениях, включенных в
Собрание сочинений.
Составителям также пришлось отобрать из тетрадей то, что
относится к незавершенным литературным и режиссерским работам,
руководствуясь в основном пометками автора на полях (второе издание
«Глубокого экрана», работы об Эйзенштейне, Станиславском, Мейерхольде,
книга о режиссуре, некоторые замыслы новых фильмов и т.д.). Такие
фрагменты были объединены составителями с подготовительными
материалами к этим работам, собранными самим Козинцевым в папках,
и включены в другие тома в соответствии с их тематикой.
На рабочих тетрадях во многом основана и книга «Пространство
трагедии», которая была задумана в период работы над фильмом
«Король Лир» как «дневник режиссера», но очень скоро вышла за рамки
этого определения. Записи вытеснялись теоретическими размышлениями,
сразу же найденное название «Пространство трагедии» становилось все
более емким, охватывая уже не одну лишь трагедию «Король Лир», а и
русскую литературу, театр Мейерхольда, Крэга, Арто, японское
искусство... 30 марта 1973 года на конференции «Ленфильма» Козинцев сказал
так: «Я написал сейчас книгу теоретического характера «Пространство
трагедии», где меня интересовали совсем не производственные дела, а мне
4
От составителей
нужно было выяснить для себя, куда мне двигаться дальше, нужно было
понять целый ряд процессов в искусстве и в жизни».
В результате вытеснения новым материалом записей, связанных
с постановкой фильма, в окончательном тексте книги осталась лишь
ничтожная их часть. Стремясь как можно полнее представить читателю
работу Козинцева над фильмом, который оказался для него последним
и который он сам рассматривал как завершение определенного этапа,
составители выделили из рабочих тетрадей 1965—1972 годов записи по
фильму, не вошедшие в книгу. Хотя они также, к сожалению, даны не
полностью, знакомство с ними расширяет представление о напряженном
труде режиссера, о том духовном накале, который, разумеется, самим
автором в книге был- приглушен.
Книга «Пространство трагедии» и материалы из тетрадей,
относящиеся к фильму «Король Лир», составляют первый раздел четвертого тома.
Во второй раздел тома включены записи из рабочих тетрадей 1940—
1973 годов. При отборе их составители старались дать представление
не только о многообразии содержания тетрадей, но и о методе труда
Козинцева — параллельности разработки многих тем, характере переходов
от одной записи к другой, иногда плавных, развивающих уже
оформленную мысль, иногда образующих неожиданный стык, иногда
возвращающих к записям, сделанным много раньше. С этим сочеталось и
естественное желание показать глубину мышления Козинцева, свойственную ему
афористичность и парадоксальность.
Знакомясь с материалами второго раздела, читатель должен
учитывать, что в тетрадях они идут вперемежку с огромным количеством
записей, которые помещены в первом разделе этого тома («Записи по
фильму «Король Лир»), а также в других томах. Сопоставлению может
помочь расположение их во всех случаях в хронологическом порядке.
Даты, указанные Козинцевым, воспроизводятся так, как они написаны
автором.
Некоторые материалы, вошедшие в четвертый том, были
опубликованы в периодических изданиях после 1973 года, а также в книге Г. М.
Козинцева «Время и совесть» (М., 1981). Для настоящего издания все
тексты заново .сверены с рукописями. Принципы подготовки текстов
объяснены составителями в первом томе Собрания сочинений. Указатели
имен и названий составлены Д. Г. Иванеевым. Примечания составили
Я. Л. Бутовский, М. Л. Жежеленко, В. Г. Козинцева, В. А. Кузнецова,
И. В. Сэпман.
ПРОСТРАНСТВО
ТРАГЕДИИ
ЗАПИСИ ПО ФИЛЬМУ
«КОРОЛЬ ЛИР»
Пространство трагедии
Новая постановка никогда не являлась для меня чисто
профессиональной работой; речь шла не об одном лишь
применении к делу специальных знаний или опыта.
Приходилось как бы начинать жить заново. События и судьбы,
иногда выдуманные столетия назад, врывались в твою
жизнь, занимали в ней все большее место. И случалось так,
что вымышленное начинало казаться действительным:
день за днем открывались все новые, совершенно реальные
черты особого мира, людей, его населявших.
Чей-то чужой мир сливался с твоим. Так начинала
образовываться плоть кинематографических образов,
слова становились видимыми.
А потом самое натуралистическое искусство —
фотография схватывала на лету жизненное движение, оно
переходило со страниц книги на экран.
Чего только не случалось на пути такого перехода. Что
только не примешивалось к делу. Оживала память:
прочитанные книги, страны, где ты бывал, детство, спор с
товарищами или с самим собой — все участвовало в труде.
Необходимо было спорить с фильмом, который ты вчера
увидел, с людьми, которых уже давно нет на свете.
Профессиональные навыки и опыт не только не помогали,
а мешали; нужно было выйти за пределы профессии,
опровергнуть опыт. Нужно было учиться. Приходилось учиться
каждый день. Брать уроки у мастеров, которые, казалось
бы, не имели прямого отношения к твоей работе,— они-то
учили больше всего. Нужно было готовить уроки и
огорчаться двойке; ты ее сегодня сам поставил себе за
сочинение, которое десятилетие назад сдал на пятерку — так
тогда казалось.
Возникало множество самых противоречивых чувств
и мыслей. Но ты — лицо, «в дальнейшем именуемое
режиссером» (как пишется в типовых договорах), и органи-
Пространство трагедии
7
зация, «в дальнейшем именуемая киностудией», поручила
тебе постановку. С какого-то дня твои мысли и чувства
были заприходованы и спланированы. Счетчик включен,
постановка началась. Однако мысли и чувства не желали
подчиняться графику, и многое оставалось за пределами
ежедневной выработки изделия, именуемого «кинофильм».
Тогда к записям — наброскам сценария и
постановки — прибавлялись другие, они относились иногда к тому,
что было сегодня на съемке, иногда к прожитому дню.
Записи росли, некоторые собирались вместе, другие так
и оставались разрозненными — листками дневника. Я вел
его во время постановки «Короля Лира» в кино. Первым
вариантом этой работы был спектакль (Большой
драматический театр им. Горького, 1941 г.), вторым — глава книги
«Наш современник Вильям Шекспир» (1962 г.), третьим —
фильм (1967—1970 гг.).
8
Пространство трагедии
1
Чем больше я тружусь над картинами, которые
называют историческими, тем меньше понимаю смысл такого
определения. Все, связанное со старинным антуражем,
я давно стараюсь нейтрализовать, показать скромнее,
незаметнее. Границы, разделяющие эпохи, могут быть
подчеркнуты, но их можно и сгладить. (Во что
вглядываться: в покрой платья или в лица людей?) Особенно неясны
рубежи времени в шекспировских произведениях, действие
которых будто бы происходит в старину.
Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет... ] —
строчки Анны Ахматовой объясняют такие запутанные
процессы.
Обратимся к самой вещи. Пьеса «Король Лир», места
действия: дворец короля, замок герцога, шалаш для
свиней, проезжая дорога по пути в Дувр, вселенная; костюмы:
предел роскоши и самые грязные лохмотья; реквизит:
корона, карта государства, веревка для повешения.
Время действия? Согласно авторским указаниям, тогда
клялись Аполлоном и Юноной, крестили детей, в армии
существовал чин капитана. Кроме того, автор считал, что
события происходят в доисторические времена.
Что же делать? Видимо, найти хотя бы некоторые
точные даты. Например, события имели место не позже
смерти автора. Ну, а не раньше чего? Не раньше появления
государств и идеи обожествления монарха.
Задача в том, чтобы внутреннее действие, напряжение
исследования жизни не обрывалось в конце фильма, а про-
Пространство трагедии
9
должалось в духовном мире зрителей. Не показать, а
пробудить.
Дружба связала меня с художником Вирсаладзе еще
с «Гамлета». При мысли о том, что мы опять вместе
трудимся, на душе становится легче.
— Главное, чтобы всего было мало,— сказал Солико
Багратович при первой встрече.
Итак, пусть всего будет мало.
Постараюсь понять, что значат такие слова. Может
быть, что-нибудь придет на память?..
2
ЯПОНСКИЕ ЗАПИСИ
Небольшой двор, огороженный невысокими глиняными
стенками с маленькой крышей из черепицы. На земле,
покрытой светлым гравием, лежат — далеко один от
другого — несколько камней различной формы. У края двора
на деревянном помосте сидят люди; они оставили обувь по
японскому обычаю у входа и, свесив вниз ноги, молча, не
двигаясь, смотрят на землю.
Место — одно из самых знаменитых в Японии;
посещение его включено в каждый из путеводителей.
Еще не разобрав толком, на что же нужно обратить
внимание, я снимаю ботинки и занимаю свободное место.
Воздействие каменного сада начинается с ощущения
светлой пустоты, скупости отдельных форм. Элементов
в этой картине, замкнутой рамой из глиняных стен,
ничтожно мало, но каждый из них отличен, у него свой
характер, особая взаимосвязь с другими. Гравий уложен
параллельными прямыми линиями; от камней расходятся
концентрические круги (другая укладка гравия); круги
вписываются в прямые. Камень, пустота, два приземистых
камня прислонены, как бы вросли в остроугольный
обломок, опять пустота, иной объем. У одних камней —
гладкая, отшлифованная временем поверхность, у других —
шероховатая.
10
Пространство трагедии
Чередование пустоты и отдельных форм таит в себе
какой-то глубокий, непросто уловимый смысл. В каменный
сад всматриваешься, как вслушиваются в музыку:
гармония пространства захватывает, открывается
закономерность построения, ты начинаешь жить ритмом, данным
тебе художником.
Уже нет камней и дорожек, прорытых в гравии; первые,
самые простые ассоциации наполняют живым
содержанием отвлеченные формы: море, бесконечное движение
потоков воды, чередование прилива и отлива. Камни неровной
формы кажутся скалами, выросшими над пучиной. Ритмы
меняются, открываются во всем их различии каменные
острова, оазисы в бесконечности водяной пустыни.
Ощущение покоя, осмысленного движения жизни
захватывает. Это — океан. Япония, увиденная с высоты птичьего
полета.
Что-то произошло. Свет дня изменился, или, может
быть, глаза уловили новое: потоки сменили свое движение,
точка обзора переместилась. Иной смысл: целые материки,
миры поднялись из океана, выросли над океаном. Или над
облаками. Вселенная, планеты в космосе...
Терпеливый и любезный гид осторожно дотрагивается
до моего плеча: время, к сожалению, на исходе, мы
задержались здесь чересчур долго, программа не будет
выполнена.
Мне трудно уйти отсюда, я ведь увидел совсем немного.
У меня только начали открываться глаза, я лишь
прикоснулся к существу произведения, а оно неисчерпаемо,
неуловимо словами. И все, что приходило мне на память,
лишь несложные ассоциации. Дело не только в самом саде,
в том, что заключено в нем, но и во мне, в том, что оживает
во мне при соприкосновении с искусством. С гравием и
несколькими камнями.
Старинные слова философов о бесконечном
самораскрытии и саморазвитии природы, подобной вечным
течениям океана.
Каменный садик находится в городе Киото, древней
столице Японии; он занимает тридцать метров с востока на
запад и десять метров с юга на север. Его создал из
пятнадцати камней художник и садовод Соами, умерший в
Пространство трагедии
11
1525 году. Каменный сад входит в границы храма Рио-
анджи.
А рядом пышное великолепие дворцов, храмов, вилл,
садов, изысканность форм, нагромождение деталей, яруса
пагод, горбатые мостики над зеленой водой с золотыми
рыбами (мостики и рыбы, а не мосты и рыбки!),
карликовые сады и игрушечные оранжереи, где все придумано,
каждый цветок искусствен, всякое живое движение
размерено, ограничено заранее задуманным размером, всякая
деталь терпеливо выращена в насилии над естественным.
Здесь даже луна, отражающаяся в пруду, в определенный
час становится деталью декорации для постановки
«чайной церемонии» на террасе.
День, время премьеры: вечер пятнадцатого августа
в полнолуние.
Как иногда сложно простое и как совсем просто
сложное. Речь пойдет о пении соловья. Неужели после
описаний поэтов можно услышать в нем что-то новое, еще
неизвестное?.. Мне удалось услышать раскаты и
посвистывание при особых условиях, дающих новые оттенки
волшебным трелям.
Здесь, во дворце семнадцатого века, все было
изысканным: драгоценная роспись стен — моря, горы, цветы,—
манекены, наряженные в старинные одеяния. Утонченный
церемониал оживал в этих фигурах: сановники ждали
знака министра, император и его супруга сидели на
циновках как божества.
Пол коридора, ведущего к спальне, имел особое
устройство. Стоило ноге ступить на настил, и хитроумное
устройство приходило в движение: доски булькали, щелкали,
свистели, по дворцу неслась соловьиная трель.
Искусство окружало тиранию и бюрократию, оно
ласкало ее глаз и слух. Одновременно' оно выполняло
и практическую функцию: вслед за соловьиной арией
бежала, обнажив мечи, стража. Трель певца любви
состояла в родстве с лаем сторожевого пса.
В августе 1928 года в СССР приехал на гастроли театр
Кабуки. Я не пропускал ни одного спектакля. Часто мы
12
Пространство трагедии
ходили вместе с Эйзенштейном. Для поколения молодых
художников двадцатых годов, выросшего на ненависти
к натурализму, представления японских артистов были
праздником. Перед нами предстало искусство, повлиявшее
на самые смелые опыты европейских режиссеров
двадцатого века. Ханамити (цветочную тропу), куромби
(служителей в черном, менявших обстановку на глазах зрителей)
мы встретили как давних знакомых. Но в подлиннике все
оказалось куда более интересным.
Эйзенштейн находил в эстетике Кабуки структуру
кинематографии: действительность, разъятую на части
и вновь собранную уже по другим закономерностям, где
каждый элемент становится лишь единицей воздействия,
равноправным раздражителем в монтажном ряду,
монтаже аттракционов 2.
Синтетическое искусство, о котором столько говорили
в первые революционные годы, оказалось перед
глазами: у труппы Итикава Садандзи каскады движений
обрывались статикой поз, жест продолжался звуком, звук
переходил в цвет, пение в танец. Все было
метафорическим, имело особый смысл, далекий от простой жизнепо-
добности.
Меня поразили сила страсти, законченность формы.
И пожалуй, еще одно: великолепие «нарядного балагана»,
о котором так много писал Мейерхольд 3.
Кимоно из ярких тканей и вышивок (сокровища,
передаваемые из рода в род по наследству); фантастическая
причудливость гримов; яростное торжество ритуала боев,
молнии мечей самураев; кукольная грация исполнителей
женских ролей (виртуозность перевоплощения!); единство
драмы, акробатики, пения, танца,— видеть все это воочию
казалось чудом.
Я считал, что узнал подлинное японское искусство.
Узнал я, как оказалось, ничтожно мало.
Зрители сидели на местах, ожидая начала
представления; у многих были в руках книжки — текст пьесы,
которую сегодня исполнят. На подмостках лежали циновки,
стояла наружная невысокая стена из светлого
некрашеного дерева. Я ожидал начала спектакля театра Но. В памяти
ожил Кабуки, пиршество красок и движений.
Пространство трагедии
13
Ничего, даже отдаленно напоминающего это, и в
помине не было.
Послышался негромкий и сухой звук, щелчок.
Неторопливой походкой вышли музыканты в простых черных
кимоно, они сели на корточках перед стеной дома; у них
были флейты, небольшие барабаны, на пальцах у
барабанщиков были надеты деревянные наперстки. Так же
спокойно появились и другие люди в серо-черных одеждах:
хор занял свое место на циновках.
Опять раздался щелчок, вступила флейта, барабаны.
Пожилой японец без грима, скромно одетый в те же
темные тона, устроился подле музыкантов. Это был второй
актер. Появления первого я не успел заметить. Люди в зале
повернули головы налево, вслед за ними посмотрел и
я. Неслышной походкой медленно шел человек в широком
синем платье, на лице первого актера была белая маска,
обрамленная патлами волос; в руке он держал тоненькую
палочку.
Пел хор. Зрители заглядывали в книги. Мой спутник
тихо переводил содержание. Понять существо
происходящего сперва было трудно. Слова хора и артистов не
напоминали диалога. Это была не пьеса, а философская
поэма с лирическими отступлениями, оценкой
происходящего, монологами автора. Корифей хора обратился к
артисту в белой маске, однако никто из хористов не взглянул
на него, и он, спокойно постукивая тросточкой по полу,
тихо пел, не обращая ни на кого внимания; вступил
голос пожилого человека, опять играл один лишь оркестр.
Теперь я воочию увидел, наконец-то понял древнее
театральное искусство. Мне открылись подлинные
представления трагедий, диалог хора и протагониста,
обращения к залу, вступление в действие девтерагониста (второго
исполнителя).
Сюжет напоминал параллельную интригу «Лира» —
историю графа Глостера и его наследника Эдгара.
Знатный вельможа некогда проклял и изгнал любимого сына:
кто-то оклеветал его. Сын испытал все горе, что может
выпасть на долю человека. Он стал несчастным нищим.
Так и называлась пьеса — «Несчастный нищий».
Изгнанник странствовал по далеким чужим землям, просил
милостыню и ослеп от горя (в отличие от шекспировской
14
Пространство трагедии
истории, здесь потерял зрение сын). Через много лет, не
подозревая этого, он добрел до родины.
Кабуки поражал, оглушал; мастерство было основано
на исступленности героического эпоса и комедиантском
фиглярстве, доведенных до какого-то крайнего предела,
невозможного в европейском искусстве. В театре Но
господствовал покой, величайшая сдержанность,
совершенная ясность. Затраты на декорации и костюмы были самые
скромные. Философия была здесь неотделима от чувства,
поэзия от музыки; сила лирического напряжения
воздействовала больше всего.
Это отлично понимали зрители: сюда пришли не
сопереживать героям на сцене и не волноваться — что дальше
произойдет, чем закончится история? Люди, заглядывая
в книжки, наслаждались поэзией, они воспринимали стихи
одновременно с музыкой, пением. Так музыканты иногда
слушают концерт, заглядывая в партитуру, которую они
захватили с собой.
Никаких эффектов, аттракционов здесь и в помине не
было. Все драматическое, эмоциональное не только не
подчеркивалось, но как бы пропускалось. Игры здесь было
ничтожно мало. Артист в маске и пожилой японец — по
пьесе сын и отец — не общались между собой, они даже не
смотрели друг на друга. Протагонист не изображал
слепого: он не искал ощупью дороги, его походка не была
затрудненной. Однообразие тихих ударов, монотонный
ритм постукивания палочкой создавал ощущение слепоты.
Поэма возникала как бы сама собой, в звуках, поэтических
образах, соотношениях сказа и мыслей.
Легкие удары палочки, стук деревянных наперстков по
барабану. Корифей хора спрашивает:
— Почему у тебя изменилась походка? Что тебя
удивляет?
— Я слышу аромат полей, покрытых цветами,—
отвечает человек в маске,— мне знаком их запах.
Стучит барабан. Ни на кого не глядя, неподвижно
сидит пожилой человек. Удары палочки. Белая маска чуть
шагнула вперед:
— Я помню с детства аромат этих цветов.
— Какие цветы ты вспоминаешь? — спрашивает
пожилой человек.
Пространство трагедии
15
— Хризантемы, пионы, тюльпаны...— говорит, глядя
перед собой, маска.— Они росли в саду, возле дома, где
я родился.
Текста пьесы мне не удалось достать, я привожу лишь
общий смысл разговора.
Люди в зале переворачивают страницы книжек.
Отец узнает своего сына. Вернее, хор поет о том, что он
его узнал. Тогда происходит чудо: маска становится лицом
слепого. Можно отчетливо увидеть лицо побледневшего
человека с темными провалами на месте глаз, искаженное
горем.
Видимо, артист повернул голову, изменился ракурс
взгляда, но движение было почти незаметным.
Теперь такая же маска висит у меня дома на стене
напротив рабочего стола. Ее появление вызвало
неодобрение всей семьи. Ее было хотели снять и убрать куда-нибудь
подальше. Маска настолько пластична, что способна
менять выражение, даже будучи неподвижной. Мастер
одухотворил кусок дерева; малейшее изменение света,
перемена направления взгляда на нее заставляют по-новому
смотреть раскосые глаза с дырочками вместо зрачков.
Маска как бы следит за тобой, подсматривает, вступает
с тобой в безмолвный диалог. В ее облике есть что-то
горестное, трагичное.
Простая форма, ровный белый цвет.
Маска в искусстве нашего века особая тема. Мне,
наверное, придется еще не раз к ней обратиться.
Спектакли Кабуки, когда я их опять посмотрел,
показались мне чересчур декоративными, экзотическими, да еще
вдобавок рассчитанными на экспорт. Декорации
заставляли меня вспомнить лавки сувениров, а внешняя
изощренность не могла скрыть внутренней незначительности.
Во время моей поездки погода была теплая и влажная.
Города появлялись в мелкой сетке дождя, все казалось
серым, цвета асфальта, по улицам медленно двигались
сплошные потоки мокрых черных зонтиков.
Японское искусство, которое я теперь полюбил, было
неярким, темно-коричневым, серо-черным; у него были
16
Пространство трагедии
спокойные формы, негромкие голоса. Больше всего на меня
воздействовала глубина сосредоточенного лиризма.
Разумеется, это были только некоторые черты
японского искусства, те, о которых я раньше не подозревал:
заграничные гастроли и репродукции приучали меня к
другой образности.
Парадокс японского искусства состоит в том, писал
Эйзенштейн в 1929 году, что, будучи во многих своих видах
кинематографичным по структуре, самой кинематографии
оно не имеет 4. Японские ленты тогда не представляли
интереса. С тех пор как была написана эта статья, прошло
много лет. Японское киноискусство не только появилось на
свет, но и оказало заметное влияние на европейское.
Акиру Куросаву мало интересует Кабуки, зато, как он
не раз говорил, повлияли на него традиции Но. Услышав
это, еще задолго до поездки в Японию, я удивился: что
может роднить древнюю условность (многое в Но
сохранилось еще с XIII века) с кинематографической образностью,
казалось бы, всегда жизненной?
«Жизненность», «кинематографичность» —
существуют ли такие понятия в каком-то единственном, застывшем
состоянии?..
«Идиот» Куросавы, на мой взгляд, чудо
перевоплощения классики в кино. Страницы Достоевского ожили,
слова — тончайшие определения — материализовались.
Я увидел на экране глаза Рогожина — бешеные, жгущие,
раскаленные угли — именно такие, какими их написал
Достоевский.
Но у Тосиро Мифунэ (играющего эту роль) раскосые
глаза! И действие фильма происходит в современной
Японии. Все не так. Пароход вместо поезда, буддийский
талисман взамен нательного креста, каждый обычай
свойствен другому народу, ничуть не похожему на русский.
И действительно, сперва, когда возникли первые кадры,
я не то удивился, не то возмутился: до чего же непохоже!
Что ни говори, а каждый из нас смотрит иностранные
постановки русской классики с недоверием. Во всяком
случае, начинает так смотреть. Но скоро я позабыл о быте,
черты лиц другой расы стали для меня привычными. На
Пространство трагедии
17
экране шел снег, витрина лавки была замерзшей, но сквозь
заиндевевшее стекло можно было увидеть фотографию,
женское лицо. Мгновенно я узнал Настасью Филипповну,
ее трагическую красоту. Однако — японские глаза? Их
я уже не видел. Я оказался в мире Достоевского, среди его
героев; это был сложный и причудливый ансамбль его
характеров — их странные встречи и расставания; все
было иным по внешности и совершенно таким же по
внутреннему движению, таким, каким создал этот мир автор.
Потом я отчетливо увидел, как люди шли по хорошо
знакомому мне Сенному рынку. А Петербурга на экране
и в помине не было. Лишь одна-единственная деталь,
близкая России, как навязчивый мотив, проходила сквозь
фильм: шел снег. Валили белые хлопья, громоздились
сугробы, люди скользили по льду, заносило улицы, все
становилось белым.
Белое лицо. Белый снег. Два, казалось бы, несхожих
образа: японская маска и «Снежная маска» Блока.
Неудача ожидает каждого иностранца, который
начинает постановку с воспроизведения чуждых ему деталей
быта. Кто-то из американских режиссеров так начинал
«Анну Каренину»: суповыми ложками накладывали на
тарелку черную икру 5.
Что же основное, куда более важное, нежели внешние
приметы, смог ухватить Куросава и почему именно ему
удалось решить эту трудную задачу?..
Он смог выразить на экране «фантастический
реализм», о котором настойчиво писал автор.
Здесь все внешнее было не похоже, и все напоминало
существо, связь вещей. В жизненности фильма была и
современная натуральность, и какой-то древний религиозный
слой, и странный покой душевного мира князя Мышкина,
и воспаленное сознание Рогожина.
«Достоевский — мой любимый автор,— говорит
Куросава,— для меня он тот, кто пишет о человеческом
существовании наиболее честно. Вначале он кажется
ужасающе субъективным, но когда трудишься над его
произведением, то понимаешь, что нет более объективного автора,
чем он. Ставить «Идиота» мне было нечеловечески трудно.
Временами я чувствовал, что хочу умереть. Достоевский
18
Пространство трагедии
слишком тяжел, но и теперь я нахожусь под его влиянием.
Критики считают фильм моей неудачей, я с ними не
согласен. После него я получил от зрителей гораздо больше
писем, чем после других моих картин. Я верю зрителям.
Если режиссер не имеет привычки лгать своей аудитории,
он может ей доверять» («Sight and sound», 1964, № 3).
Русская классика повлияла на многие работы Куроса-
вы. Я имею в виду не только постановки «Идиота», «На
дне», но и другие картины. В «Жить», снятом по японскому
произведению, нетрудно найти сходство мумии-чиновника
с гоголевским Башмачкиным, мотивы «Смерти Ивана
Ильича».
Куросава, пожалуй, один из самых смелых новаторов.
Он не боялся отказаться от всего, что считалось основой
киноискусства. В «Окровавленном троне» (японское
название «Замок интриг»), снятом по «Макбету», он
отказался от крупных планов. Самые трагические сцены
снимались общими планами, артисты подолгу молча сидели на
циновках. Декорацией иногда было только пятно плесени
на бумажной стене. Театр Но перекочевал на экран: леди
Макбет была загримирована под маску; походка артистов
заставляла вспомнить ритуальный шаг; движения
пальцев, подобные танцу; асимметричное расположение тел
в пустоте площадки — сам стиль принадлежал древности.
Но когда из тумана вырвались кони самураев, стали
видны свирепые глаза и черное грозное оружие — знаки
смерти и знаки величия, и восемь раз воины кружили
вокруг одного и того же места, бессильные вырваться из
тумана,— захватило дыхание от мощи Шекспира и
одновременно от мощи кино.
Тосиро Мифунэ смог стать не только русским купцом,
но и гламисским таном. При этом он всегда оставался
японским художником.
Совершенная подлинность силы чувства и условность
формы вдруг слились в жизненное единство.
Какие скачки и погони могли бы сравниться с
внутренней динамикой этого почти неподвижного фильма?
Во время московского фестиваля, на приеме,
устроенном японской делегацией, меня познакомили с
невысоким японцем в европейском вечернем костюме. Он при-
Пространство трагедии
19
ветливо улыбался, мы обменялись вежливыми фразами.
Когда мы простились и он ушел, я спросил: кто этот
человек? Боже мой, да я не узнал своего любимого артиста. Как
я мог не узнать его?..
На заключительной церемонии вручали приз фильму
«Красная борода». Председатель жюри назвал фамилию.
Зал ахнул и замер. В серо-черном халате, с веером,
заткнутым за пояс, вышел на сцену Дворца съездов человек
поразительной мужской красоты, сама его осанка, шаг,
каждое движение были полны силы и достоинства. Лицо
его казалось темной скульптурой с раскосыми черными
глазами. Мировые «звезды» по сравнению с ним сразу
показались заурядными. Шесть тысяч москвичей
аплодировали Тосиро Мифунэ.
Разумеется, только годы тренировки, школа,
подобная классическому балету, куда поступают еще в раннем
детстве, способны выработать такую артистическую
технику.
Я сижу в гостях у Тосиро Мифунэ в Токио и
расспрашиваю его о начале его труда. Мне хочется узнать
подробности обучения.
Во время разговора я наблюдаю за глазами Мифунэ:
они непрерывно меняют свое выражение, глубина
сосредоточенности, полнота чувства удивляют, обычный разговор
не отличается от действия в образе — он не обменивается
репликами, а живет.
Теперь он улыбается: в театральную школу его не
приняли из-за отсутствия способностей, он провалился на
экзамене. И в театре он никогда не играл. Школой был
Акира Куросава. А школой Куросавы были традиции Но.
Мне повезло: об этих традициях я разговариваю с Ку-
росавой. О театре Но японский режиссер может говорить
часами. Я начинаю понимать, что «надеть маску» —
процесс такой же сложный, как «вжиться в роль». Задолго до
начала представления артист стоит подле зеркала.
Мальчик подает ему маску. Артист осторожно берет ее и молча
вглядывается в ее черты. Незаметно меняется выражение
глаз, облик становится иным. Маска как бы переходит
в человека. И тогда медленно и торжественно он надевает
20
Пространство трагедии
маску и поворачивается к зеркалу. Их уже нет по
отдельности, человека и маски, теперь это целое.
Многое зависит от артиста. Не меньше — от маски.
В дни празднеств из музея выдают маски XIV, XV веков —
национальные сокровища. Чести играть в них
удостаиваются большие артисты.
Важны не одни лишь слова Куросавы, но и его жесты.
Сейчас передо мной не только этот один непривычно
высокий (для японца) худощавый человек в темных
очках, но и целый невидимый театр, которым он властно
руководит.
Резкие, повелительные движения, мгновенные смены
ритма. То тихий голос, то гортанные выкрики, подчеркнуто
шипящие звуки, кажется, что слышишь клекот птицы.
Герои знакомых фильмов оживают в его жестах,
интонациях: я узнаю их всех — бешеного самурая, маленькую
девочку, кликушу-вагоновожатого, который молится, нет,
не молится, орет на бога...
Как мог хилый павильонно-микрофонный мир
выдержать напор такой страсти?
— Дзен? — переспрашивает Куросава.— Европейцы
это не могут понять. Учитель задает вопрос: чем ты был до
того, как стал человеком? Найди внутри себя ответ, но не
отвечай... Удар палкой по спине ученика: не верно!
Сколько раз описанный возглас Станиславского: «Не
верю!»
От дерева отколот кусок. Скульптор создает маску. От
человечества отколот этот лик, часть неведомого материка,
называемого «человек». В каждой из них — тех, что
шлифовали века,— таится знак характера или состояния
души. Чтобы играть в маске, нужно разгадать знак,
расковать движение, дать ему всю полноту жизни.
Пустая сцена, ничем не занятая плоскость стены,
чередование неподвижности и динамики, обыденное
движение и ритм ритуала — всему этому, оказалось, можно
было дать иное, жизненное значение, современный смысл.
Белую маску могли одухотворить и сложность духовного
мира Достоевского, и политическая страсть героев
Шекспира.
Пространство трагедии
21
Куросава любит очень жаркие лета, лютые морозы,
проливные ливни, снегопад. В крайности проявлений, как
он говорит, и заключено все наиболее жизненное.
Его любимые художники Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Руо.
Театр Но, Достоевский, Руо... Странные* сочетания
имен. И какое единство ощущения жизни в работах этого
режиссера.
Нет, сочетание не такое уж странное. Снег кружится
над Японией, как над Россией.
В «Окровавленном троне» вместо шекспировских
ведьм, колдующих у котла, старичок с седыми бровями
и бородкой (тоже маска Но) разматывает бесконечную
пряжу. Может быть, это древний виток «всесвязующей
нити», без поисков которой, по словам Достоевского,
человечество не смогло бы вытерпеть всех эпидемий и войн,
мучений, выпавших на его долю6.
Влияния в искусстве — это не только уроки, которые
один художник берет у других, это витки
раскручивающейся спирали истории, непрерывность жизни, где в иных
формах развиваются старые противоречия и новые
поколения вновь задают себе очень старый и совсем простой
вопрос: для чего живет человек?
Куросава уже давно стал классиком.
Молодой японец с красивым смуглым лицом и коротко
стриженными, рано поседевшими волосами не склонен
быть продолжателем Куросавы, он относится к нему с
уважением, но сегодня, как ему кажется, время иного
искусства.
Я смотрю фильм Хироши Тешигахара. Картина уже
хорошо известна в Европе, но мне еще не удалось ее
увидеть. «Женщина в песках» по роману Кобо Абэ, пожалуй,
один из самых скупых по средствам воздействия фильмов.
В большинстве кадров — два человека, песок. Песок —
и завязка фабулы, и атмосфера событий, и философский
комментарий к происходящему. Мир ограничен зыбучими
дюнами, пески движутся, оползают, засыпают деревню,
построенную глубоко в песчаной дыре. Выбраться отсюда
нельзя; люди живут, чтобы выгребать песок.
22
Пространство трагедии
Реквием, написанный для песка.
Капля воды, песок на коже, слепящее солнце, жара,
жажда переданы на экране с физиологической
ощутимостью. Вот пример чисто зрительного искусства — так
можно было бы написать, не прочитав романа Кобо Абэ.
Однако Тешигахара с совершенной точностью воспроизвел
не только сцены и героев книги, но и оттенки значений,
стиля: философскую притчу, аллегорию.
«В двадцатом веке мы вступили в мир рассказа...—
говорит Абэ,— который можно назвать то ли рассказом, то
ли эссе». Я выписал это из диалога между писателями
Кобо Абэ и Кэндзабуро Оэ, опубликованного в
«Иностранной литературе». Оэ дополняет мысль: «Рассказы XIX века
можно уподобить петуху с переливающимся оперением.
Рассказы же XX века представляются ощипанной курицей.
Ни перьев, ни блеска — они совершенно не похожи на
курицу. И все-таки это именно курица. Да, вам кажется это
созданием странным, нелепым, ободранным — но при всем
том оно все-таки курица, самая настоящая курица.
Показать это и является целью авторов рассказов XX века» 7.
Кобо Абэ написал роман, а не рассказ, но жизнь,
изображенная в нем, является именно «ощипанной
курицей»: убрано все, что могло хоть как-то прикрывать нагое
существо изображенной жизни. Но это человеческая
жизнь, смысл ее в непрерывности усилия, продлении труда,
выгребании песка; завтра он будет опять оползать, грозить
погребением.
На память приходит «Чума» Камю; ад — в виде
обычной комнаты, из которой нет выхода,— у Сартра 8.
Кобо Абэ вспоминает и Гоголя: «Внутренняя
напряженность, накал страсти в его рассказах, определивший их
совершенную форму, всегда сочетался у него с глубоким,
живым интересом к своему времени...» Внутренняя
напряженность, накал страсти — вот что сближает Шекспира,
Достоевского, Гоголя и японских художников.
Тешигахара пригласил меня посмотреть работы его
отца. Софу Тешигахара — создатель школы Согетсу,
связанной с икебаной (буквальный перевод: аранжировка
цветов).
Пространство трагедии
23
Из здания, где расположена школа, расходятся по
миру моды на подбор и сочетания цветов и листьев, на
сосуды, гармонирующие с этим подбором. Школа издает
учебники, в них эстетические образцы, технология.
Руководства общедоступны.
О культе цветов, врожденном чувстве прекрасного
у японцев сказано уже достаточно слов. Все они, вероятно,
правильны. Однако многое ли они определяют?
Начну с «чувства прекрасного». Откладываю в сторону
учебники и читаю книгу главы школы.
«Икебана создает не красоту, а характеры,— пишет
Софу Тешигахара,— боюсь, что мои слова, напечатанные
холодными буквами, могут показаться странными: для
меня икебана — люди. Достоинство морщин, высеченных
временем на старческих лицах, тело, сгорбившееся от
многих лет тяжелой работы, видишь не только у людей, но
и у цветов. Такие цветы находят свое место в икебане.
Увядший цветок заставляет вспомнить о следах распутства
на обрюзгшем лице, об огрубевшем, уродливом: цветы
обращаются к чувству, они пробуждают сознание,
возникает картина распада, гибели» (S о f u. His boundless
world of Flowers and Form. By Sofu Teshigahara. Tokyo,
1966).
Мастер знает не только естественные сочетания, но
и противоестественные, сверхъестественные: икебана не
подражает природе, а творит ее. Существуют лишь три
элемента: линия, цвет, отвлеченный дух — последнее
главное. «Не пытайтесь создать копию материального мира, но
дайте форму своим мыслям и чувствам».
Начало начал, первое и главное — мастерство среза.
Эйзенштейн пришел бы в восторг, прочитав эти слова, он
обязательно процитировал бы их, добавив, что cut по-
английски не только резать, но и монтировать фильм.
Казалось бы, ножницы садовода лишь ремесленный
инвентарь, что в них загадочного? Однако в руках Софу
Тешигахара они скорее напоминают древний нож. Любовь
к цветам приводит к их уничтожению, культ возникает из
умерщвления. Речь идет уже не о милых аллегориях,
которые издавна связаны с каждым из цветков,— безумная
Офелия вспоминала их, собирая свой последний букет,—
но о куда более глубоких символах. Что-то сильное и
24
Пространство трагедии
жестокое заключено в труде художника икебаны: он
уничтожает цветы, чтобы дать им новую жизнь, одухотворить
их собою; он убивает, чтобы продлить жизнь своего духа.
Конечно, настойчивое поучение создателя школы Со-
гетсу — необходимо срезать, срезать и еще раз срезать —
прекрасный пример экономии средств в искусстве,
точности формы, ограничения самым необходимым. Можно
сопоставить это с умением вычеркивать в литературе, о
котором писали и Чехов и Хемингуэй.
Все это так. Но есть в этом иной, глубинный смысл.
Объясняя значение среза, Софу Тешигахара произносит
(не в учебниках, а в своей книге!) слово
«жертвоприношение». И как итог появляется определение, заставляющее
глубоко задуматься над существом некоторых черт
японского искусства: «Икебана — это драма,
предопределенная заранее, она происходит между человеком и цветами».
Букеты на манер икебаны и пластмассовые вазочки
с дырочками для стебельков можно теперь увидеть
повсюду. Они так же напоминают японское искусство, как веера
и кимоно, которыми торгуют лавки сувениров.
В сюите Пикассо, посвященной корриде, бык
постепенно — от рисунка к рисунку — превращается в
священную жертву; у языческого символа христианский
облик: бык распят на кресте.
В испанских соборах можно увидеть богоматерь, к
бархатному покрову которой приколото множество маленьких
золотых быков; перед боем тореро молится ей и приносит
в дар символ зверя, которого он должен убить.
Абстрактное искусство в Японии выглядит по-иному,
нежели в Европе или Америке: скульптуры Софу
Тешигахара естественны рядом с иероглифами на стенах, а
начертания тушью похожи на силуэты деревьев по дороге
в Киото.
Иероглифы — удары кистью по белому квадрату,
черные пятна и штрихи — напоминают стук и щелчки
оркестра Но.
Разговаривать с Хироши Тешигахара интересно: он
полон своеобразных замыслов, собирается снять комедию:
Пространство трагедии
25
Юмор находится где-то на грани страха и смеха,— говорит
он,— я хочу поставить бытовой сюжет так, чтобы
домашние события и распри колебались между комическим
и страшным. В его комнате расставлены муляжи: модели
глаз из оптического магазина — режиссер в прошлом
художник-сюрреалист.
В музее Хиросимы я обратил внимание на поведение
школьников. В зале, где выставлены ужасающие
экспонаты — то ничтожно малое, что сохранилось от людей и
жизни в зоне, зараженной стронцием,— мальчики помирали
от хохота; они играли в какую-то игру, школьный
руководитель никак не мог собрать их вместе, угомонить.
Осмотр начинается с зала, где выставлены лишь
картины. Их сюжеты как бы введение в тему. Где же истоки,
первые из причин одной из величайших трагедий нашего
века? Они затерялись вр тьме праистории человечества.
Авторы экспозиции рассказывают о них с величайшим
спокойствием. Человек изобрел огонь, чтобы облегчить
себе жизнь. Вот наши предки, первобытные люди,
собрались у своего первого костра. Теперь им будет жить легче.
Теплее и светлее.
Найти это место, ставшее одним из самых знаменитых
в мире, трудно. На людной улице маленькая ограда, за ней
вход в здание. Что огорожено? Ничего не разглядеть.
Скромная надпись: «Когда жара достигла пяти тысяч
градусов, человек исчез».
Теперь, всмотревшись, можно отчетливо увидеть тень
на камнях, силуэт спокойно сидящего человека.
У Шамиссо черт отделил от человека тень, он купил ее
по сходной цене, свернул в трубочку и унес 9. Здесь пропал
человек, его не раздавили, не разрезали на куски, не
выбросили потом истерзанное мясо и кости, он и не сгорел.
Просто исчез. Тень осталась.
Новый вид наскальной живописи, исполненной
высокоразвитой техникой.
Школьников с трудом, но все-таки собрали в последнем
зале. Над дверью, ведущей к выходу, была прощальная
надпись:
26
Пространство трагедии
«Мужчины и женщины, молодые и пожилые,
помолимся за души усопших. Да покоятся они в мире».
Смех, шарканье подошв: ребята продолжали свою
игру. Видимо, и следы страданий, и слова о страданиях
стали для новых поколений нереальными, относящимися не
к сравнительно недавнему прошлому, а к праистории или
древним легендам, выдумкам о том, чего на деле и быть не
могло.
Я работаю над «Королем Лиром»: думаю обо всем
этом.
Каменный сад в Киото — памятник искусства дзен.
Язык — грубый и часто предательский инструмент, учит
дзен, истинную природу не способны уловить ни буквы, ни
слова. Годы послушания приводят к свободе от внешних
влияний и лживых мыслей. В человеке пробуждается
высшая форма интуиции, духовная сила, способная к
прямому общению с реальностью. Правда открывается в
совершенной простоте, нет инструкций, как ее отыскать; нет
ее определений. Человек освобождается от тревог, забот,
волнений; в любой час он легко встречает смерть.
«Логическое сознание, переводя дело в слово, жизнь
в формулу,— писал Иван Киреевский,— схватывает
предмет не вполне, уничтожает его действие на душу. Живя
в этом разуме, мы живем на плане, вместо того чтобы жить
в доме... Покуда мысль ясна для разума или доступна
слову, она бессильна на душу и волю. Когда же она
разовьется до невыразимости, тогда только пришла в зрелость.
Это невыразимое, проглядывая сквозь выражение, дает
силу поэзии и музыке...» 10
Пастернак считал достоинством стихотворения перевес
несказанного над сказанным п.
Настоятель храма Риоанджи (в его владениях
находится каменный сад) пишет, что глубина значения
произведения Соами такова, что его следовало бы назвать не
Seki-Tei — «Сад камней», a Mu-Tei — «Сад небытия», или
Ku-Tei — «Сад пустоты».
Недосказанное художником восполняется каждым, кто
соприкоснулся с произведением. Я постарался перечислить
Пространство трагедии
27
образы, возникшие у меня при.взгляде на гравий и камни.
Конечно, они недостаточны и плоски. Но все же остается
ощущение взгляда с куда большей высоты, чем есть на
деле. Мне показалось, будто с небольшого помоста я
увидел мир с высоты птичьего полета.
Опять приблизительное определение. Мы ведь сами
теперь часто глядим вниз именно с такой, а то и с еще
большей высоты. Мы привыкли к такой точке обзора.
Я живу здесь, или, вернее сказать, в подобных
условиях, уже несколько дней, ко всему привык, чувствую себя
как дома. Вещи нашли свои места, я могу взять каждый
предмет не глядя: карманное издание «Короля Лира»,
блокнот, апельсин, маленькую подушку. Мне уже хорошо
известны соседи, их привычки, вкусы, степень
общительности. Мы обмениваемся шутками, улыбаемся друг другу.
Тут тепло, уютно.
Седой человек в очках читает детективный роман.
Молодая женщина уложила маленького ребенка, он сейчас
заснул в люльке. Человек с полотенцем, перекинутым через
плечо, ждет, когда освободится туалет. Студент в свитере
подносит стакан ко рту: судя по тому, как он завалился
в кресло, и по цвету его лица он проделывает это уже не
в первый раз. Все перезнакомились. Девочка бегает по
помещению, играет с разными людьми, мать притворно
бранит ее: нельзя же быть так плохо воспитанной.
Коммунальная квартира.
А внизу — пятьдесят градусов ниже нуля, дыра
глубиной в десять тысяч метров, ревут, неистовствуют стихии.
Коммунальная квартира летит над океаном.
Перелет Москва — Токио (через Тегеран, Рангун,
Бангкок, Манилу) длился почти пять дней.
3
Лондон. Изо дня в день я прихожу в Британский музей
и не могу заняться делом. Дело для меня — витрины
раннего средневековья, а я не отхожу от других, не
относящихся к моим прямым интересам. Часами торчу в залах
Египта и Африки.
28
Пространство трагедии
Наглядный урок истории. На перекрестках тысячелетий
встречаются идеи, положения, завязки, финалы. Века
собираются по залам, чтобы разыграть притчу. Простенькая
притча. Но какая упаковка!.. Изваяния фараонов —
огромные, причудливо раскрашенные; саркофаги мумий;
блудницы с золотыми ликами и обнаженными золотыми
грудями. Потом маленькое спеленутое тело. Высохший
труп. Кости в яме. Сколько амплуа в труппе? Ничтожно
мало.
Инкрустированные черепа (нос трупа сохраняется) из
Борнео; бог войны Kukailimocu с Гавайских островов;
роспись на щитах, чтобы вызвать ужас.
Здесь первоисточники, явления в их чистом виде. Сила
художественной выразительности не ослаблена
необходимостью оговорок.
Давно известно, что идолы юго-восточной Полинезии
повлияли на Пикассо. Это, конечно, верно, повлияли.
Ну, а что повлияло на коллекции абажуров из
человеческой кожи, собранные в Бухенвальде Ильзой Кох?
Милые и радушные англичане везут меня на «места
Лира». Ньюкасл на Тайне. Собор IX века. Замки.
Англосаксонские памятники...
Какой должна быть среда «Лира», я еще не знаю.
Только не такой, как здесь. Здесь это происходить не
могло.
Притча о властелинах истории и костях в яме не проста.
Ответ на вопрос: сколько человеку земли нужно? — три
аршина (размер могилы) — возмущал Чехова.
Три аршина нужны трупу, говорил он, а человеку нужен
весь мир 12.
Регана, герцогиня Корнуэлская, объясняет своему
отцу, королю, отдавшему наследницам власть, что теперь он
не дома и нет запасов, чтобы кормить сто рыцарей — его
свиту, или, как мы бы теперь сказали, обслуживающий
персонал. Отец, по словам дочерей, и так получает все
нужное.
Захлопывается дверь. Лир остается один (так я буду
снимать эту сцену), начинается спор, уже не с чересчур
Пространство трагедии
29
расчетливой дочерью, а с какой-то иной силой, другой
идеей.
— Нельзя судить, что нужно,— говорит Лир.— Когда
природу ограничить нужным, мы до скотов спустились бы.
Это уже не полюса роскоши и могилы, а иные
положения. Вольность мысли, широта желаний вступают в спор
с расчетом, ограниченностью, черствостью.
«Всего мало» для постановки Шекспира — сложное
требование. Этот автор менее всего аскетичен.
Поэтическая философия его произведений не выигрывает на экране
от отсутствия жизненной среды.
Книга Питера Брука, вышедшая в 1968 году,
называется «Пустое пространство» («The Empty Space»).
Взглянув на заголовок, я не подумал, что английский режиссер
имел в виду японское искусство. Чтение книги убедило
меня в ином: дзен вспоминается автором не раз.
Впервые о «Короле Лире» мы говорим с Бруком
в Лондоне в 1967 году. Оказывается, что оба мы
собираемся поставить шекспировскую трагедию в кино. Только
что он снял свой спектакль «Марат — Сад», дав ему новую
кинематографическую форму («Посередине между
театром и кино»,— объясняет Брук), за семнадцать съемочных
смен.
Брука я очень люблю; его работы в театре, кино,
написанные им статьи, разговор с ним для меня неизменно
интересны. Меня привлекает сама личность художника,
присутствующая во всем, что он делает: широта интересов,
беспокойность мысли, сила чувства.
«Короля Лира», поставленного Бруком в Королевском
Шекспировском театре, я видел во время гастролей труппы
в СССР.
Нагота ровно освещенной сцены, некрашеный холст,
несколько кусков железа, кожа костюмов (воспоминание
об истлевших овчинах, выкопанных археологами из
древних захоронений) замыкали события трагедии в холодную
пустоту, лишенную времени. Все часы мира как бы
остановились, только один ржавый механизм повторений, иногда
гудящий в вибрации железа (звук сцен бури), гнал людей
по вечному пути несчастья.
30
Пространство трагедии
Наибольшее значение Брук, по-видимому, придавал
последней фразе Кента, словам, на которые раньше не
обращали особого внимания: Кент останавливает ими
Эдгара, пробующего привести в себя умирающего Лира.
В бруковской постановке Кент не тихо произносил эти
слова (что было бы естественным в присутствии
умирающего), а яростно кричал во весь голос, он грубо требовал
права на счастье для его любимого господина.
Величайшим счастьем для Лира, для человека являлась смерть:
Кем надо быть, чтоб вздергивать опять
Его на дыбу жизни для мучений?
Одна из книг Серена Кьеркегора начинается с рассказа
о том, как где-то в Англии есть могила, на ней лишь
лаконичная надпись: «Несчастнейший». К этому месту,
предлагает автор, должно быть паломничество. «Не к святому
гробу на счастливом востоке, а к скорбному гробу на
несчастном западе» ,3.
«...Единственное, что я вижу,— писал Кьеркегор,—
пустота, единственное, чем я живу,— пустота,
единственное, в чем я движусь,— пустота» и.
В пустоте, где железо, истлевшая кожа, трупы, Питер
Брук хотел создать во всю величину сценической пустыни,
во весь размах столетий (тысячелетий?) образ дыбы
жизни.
Ну, а Корделия? Как встретился отец с младшей
дочерью? Безумие старого короля сменялось в постановке
Брука каким-то блаженным оцепенением. Пола Скофил-
да выносили на сцену в кресле; фигура была стилизована
под средневековые деревянные скульптуры. Радости было
мало, трогательного еще того меньше. Брук выпаривал из
своих постановок сентиментальность, как морят клопов
перед въездом в новую квартиру, где долго жили
неопрятные люди.
Казалось бы, нетрудно определить замысел этого
спектакля: трагедия бессмысленности существования, абсурда
истории; не случайно и сам Брук и все, писавшие о нем,
часто и охотно вспоминали Сэмуэля Беккета.
Все это так. Однако из театра я ушел совсем не
подавленный. Пожалуй, иное чувство возникло у меня в ду-
Пространство трагедии
31
ше. В постановке, утверждавшей безнадежность,
торжествовала надежда. Героического в Лире Скофилда ничего
не было, но другой герой присутствовал на сцене. Его
присутствие начисто меняло существо того, что принято
называть «концепцией».
Это был герой, родственный единственному
положительному герою «Ревизора». Как известно, в ответ на
упреки в сгущении одного лишь отрицательного Гоголь
возражал: в комедии есть и положительный герой — смех.
Искусство торжествовало победу в «Лире», оно и стало
главным героем. Питер Брук и Пол Скофилд, на мой
взгляд, не столько рассказали о бессилии людей, сколько
о силе искусства. А искусство создавали люди;
совершенная гармония спектакля — его ритмы, музыка
шекспировских стихов — не могла стать отходной по человечеству.
И даже холодные железные плоскости в пустоте
напоминали о тепле жизни, продолжающемся движении
искусства: я узнал их, я видел их в начале революции —
контррельефы Татлина; теперь они ожили в Англии, заняли
сцену. Опять крутились, но уже по-новому, деревянные
колеса «Великодушного рогоносца» Мейерхольда, и
отчетливо слышался голос Гордона Крэга, приехавшего в
Художественный театр ставить «Гамлета».
Ничего не исчезло, не пропало зря.
Неподвижные фигуры воинов на вторых планах,
глубина коричневых тонов, музыка речи были прежде всего
красивы.
Была в спектакле и прекрасная магия театра.
Начиналось действие, сходились люди, и, бог его ведает какими
способами, сцена вдруг, разом становилась дворцом: люди
сидели на грубых деревянных скамьях, однако я отчетливо
видел тронный зал, дворцовую церемонию.
У Сэмуэля Беккета старинное добродушие юмора
висельников сменилось несуразицей бреда больницы, где
доживают свои последние дни люди, зараженные
стронцием 15. Пожалуй, в бормотании двух стариков, безумного
Лира и слепого Глостера, Брук пробовал найти черты
таких шуток.
Ученые уже давно писали о странной смеси ужасающей
клоунады в «Лире», и не только в образе шута, но и в сце-
32
Пространство трагедии
нах самого героя. Исследование Уилсона Найта «Огненное
колесо» («The Wheel of Fire») посвящено этой теме.
Мы условливаемся с Питером Бруком рассказывать
друг другу наши планы. Главное, что интересует Брука,—
нелокализованное пространство. Он хотел бы снять
«Лира» так, чтобы признаков истории вовсе не было на
экране.
Брук знакомит меня с Аленом Рене — французский
режиссер пробовал преодолеть на экране не только
реальность пространства, но и времени.
В Ленинграде я получаю письмо от Брука. Он очень
смешно пишет, что режиссеры, ставящие Шекспира в
реалистических декорациях, точно воспроизводящих
историческую обстановку, занимаются нечестным делом, они
дурачат аудиторию: люди начинают думать, будто в
«исторические» времена и разговаривали не нормальным
языком, а именно таким (как в шекспировской поэзии)
странным образом.
Главным средством съемки шекспировского фильма
представляется ему крупный план. Вот основные идеи
письма:
«Выражая свою мысль в кино, я пишу ее кинокамерой
на куске целлулоидной ленты. Что определяет длину
куска целлулоида? Написанное на нем. Если я сниму крупный
план человека, то длину определяет интерес его речи, ее
содержание, связь с речами других героев, их
отношениями.
Что случится, если крупный план станет главным
способом передачи Шекспира? А речь — основное
средство — потечет непрестанным потоком.
Орсон Уэллс уже много раз показал, что разрушение
ритма речи для того, чтобы следовать ритму изображения,
уничтожает силу шекспировской поэзии.
Может быть, лучшим явился бы некий компромисс, при
-котором крупные планы стали бы куда более длинными,
нежели в «нормальном» фильме, но не перешли бы в
«скучные»?
Я пишу «крупный план», но как связать его с общим;
ведь на общем задний фон не может вовсе исчезнуть?
Пространство трагедии
33
Можно ли снять шекспировский фильм в манере, близкой
к «Страстям Жанны д'Арк» Дрейера?
Мне хочется уничтожить задний фон. Как? Каким
образом?
Что Вы думаете обо всем этом?..»
Из письма Питеру Бруку
Дорогой Брук,
...Спасибо за интересное письмо. Я, как и Вы, думаю
о силе нелокализованного пространства на экране. Но
крупные планы, как основа действия, в звуковом кино
часто менее выразительны, нежели в немом. Прекрасная
«Жанна д'Арк» Карла Дрейера потеряла бы силу, если бы
мы слышали диалог.
Крупный план необходим, когда есть потребность
заглянуть в глубину глаз, в духовный мир человека.
Шекспировский текст, как мне кажется, не только
диалог, но и пейзаж, записи из дневника автора, строчки
стихотворений, цитаты. В Ваших театральных постановках
это прекрасно выражено: воздействует прежде всего ритм
речи, не всегда жизненно-естественный, само движение
звуковых волн. В слышимом — голосах Ваших актеров —
были и дворцы, и кони, и сражение, и буря. Но чем может
помочь такой выразительности экран? Здесь сила
зрительного перевешивает слышимое.
Я пробую найти зрительного «Лира». Природа при этом
стала бы чем-то вроде хора трагедии...
4
Торжественное празднование семидесятилетия
Эйзенштейна. Правда, сам именинник не присутствует: его уже
давно (так кажется) нет в живых. Зато сколько вышло его
книг и книг о нем и на скольких языках. Ученые комиссии
уже не раз присуждали звания кандидатов и докторов наук
за исследования его творчества.
Одно из заседаний юбилейной сессии должен вести
я. Сколько здесь собралось eisensteiniens (термин «Cahiers
du cinema») 16- Заседания идут дважды в день: времени
выслушать все доклады явно не хватает. Сегодня выступал
2 Г. Козинцев, т. 4
34
Пространство трагедии
биограф Сергея Михайловича из Алжира, киноведы из
социалистических стран, западноберлинский
исследователь, структуралисты, эстетики...
Утром было сообщение участника его юношеских
постановок: лампочки на грудях исполнительницы (вернее,
исполнителя) в «На всякого мудреца довольно простоты»,—
уточнял он,— горели не постоянно, как пишется в статьях,
а вспыхивали только в моменты страсти.
Слушатели в зале брались за блокноты, видимо,
готовились новые труды о нем.
Один из ораторов написал книгу «Возвращение к
Эйзенштейну» ,7.
Луначарский в двадцатые годы выступил со статьей
«Назад к Островскому» ,8, сколько тогда было сочинено
каламбуров, основанных на этом «назад».
Глядишь, а они уже оказались где-то рядом, автор
«Мудреца» и режиссер монтажа аттракционов по его
пьесе. Может быть, чем черт не шутит, драматургу, доживи
он до пролеткультовской премьеры, пришлась бы по душе
такая его интерпретация, а режиссер, будь у него сердце
повыносливее, освоил бы традиции Малого театра.
Экскурсии на квартиру Перы Аташевой (здесь его
книги, коллекции), посещение Новодевичьего кладбища:
здесь он сам. То, что было им.
В ЦГАЛИ (Центральном архиве литературы и
искусства) хранятся его рукописи. Участникам сессии
рассказывают об условиях, в которых находится каждый
написанный им клочок бумаги. Приборы совершенной точности
измеряют температуру воздуха, процент влажности. Все
сохранится в неприкосновенности: и эти разбежавшиеся
в стремительности мысли строчки, и эти мчащиеся слова,
бегущие линии.
И фильмы останутся. В Белых Столбах под Москвой,
в киномузее Франции, в Музее современного искусства
Нью-Йорка, Бельгийской синематеке, фильмархиве
Аргентины... Умелые руки с величайшей осторожностью
реставрируют каждый кадрик. И странные, чудаковатые
директора, встречаясь, будут осторожно выспрашивать друг
друга, ревниво выяснять: у кого копия лучше?
И даже несуществующий фильм окажется
существующим. Негатив «Бежина луга» пропал во время
Пространство трагедии
35
войны, но нашлись срезки от монтажа, С. Юткевич и
Н. Клейман привели их в сценарный порядок, подложили
музыку С. С. Прокофьева. Сергей Сергеевич, правда, не
был композитором этой картины, но он писал партитуры
«Александра Невского», «Ивана Грозного» и, главное,
находился вблизи, на той же жилплощади, в Пантеоне.
В зарубежных киножурналах критики среди лучших
фильмов месяца отметили «Бежин луг»; они поставили три,
а то и все четыре звездочки (высший балл) монтажу
статических изображений.
Прочитать это было приятно. Радовал масштаб сессии,
выставка, открытая в Доме кино *.
Был ли в подборе фотографий, развешанных на
стендах, особый умысел? Не знаю. Но получилось так, будто
выступавших слушал не только зал, но и сам Эйзенштейн;
его молодое и веселое лицо глядело со всех стен.
Смотреть на снимки человека часто не менее интересно,
чем слушать слова о нем. Засмотревшись на
улыбающегося Сергея Михайловича, я невольно стал объединять
выражение его лица с тем, что говорилось, и мне
почудилось, будто он, слушая посвященные ему речи, иногда
лукаво улыбается.
Я попробовал отвязаться от «вертикального монтажа»
(его термин), но как раз в это время оратор сказал:
«Бежин луг» открыл величие статики на экране, как прекрасна
неколебимая природа, застывшие лики землепашцев; одна
лишь музыка напоминает в этом фильме о времени; не
в этом ли будущее кино?..
Мне стало не по себе. Позвольте, подумал я, статики
в фильме и помина не было, и церковь рушили не под
симфонию, а с пением «Волочаевских дней»,— деталь для
стиля немаловажная.
Именинник ничуть не походил на олимпийца, творца
вечных гармоний. Он был человеком нелегкого века. Он не
только жил в своем времени, но и жил своим временем.
Нужно ли комплиментами замораживать его духовный
* Хочется вспомнить имена Наума Клеймана и Леонида Козлова.
Я познакомился с ними давно: в маленьких комнатках Перы Аташевой
они разбирали архивы; о публикации книг Эйзенштейна тогда не могло
и речи идти. Шеститомное издание, выставка рисунков, сессия — во всем
этом значительная доля их труда.
2*
36
Пространство трагедии
мир, как замораживают сердце при операциях? Для чего
пересаживать ему чужое сердце?
Правда, теперь ему приходится выслушивать не одни
только комплименты: среди звездочек — отметок в
зарубежных киножурналах — чернели и отдельные жирные
точки (низший балл, «вызывает антипатию»). Хорошо.
Значит, даже срезки его монтажа способны вызвать чью-то
ярость.
Это менее обидно для него, чем исполнение горького
пророчества:
Печальная доля: так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить.
А. Блок '9
Его замыслы, уходящие далеко за пределы того, что мы
знаем об экране,— часто незавершенные, еще чаще
оборванные,— вошли не только в историю кино (много ли это
для него?), но в живую плоть века, в движущееся,
меняющееся время.
Вот почему назад вместе с Эйзенштейном пятиться
нельзя, даже к его собственным работам. Он не попутчик
для такого маршрута.
Сила пластики Эйзенштейна преобразила театральное,
даже оперное в «Иване Грозном» — в трагическое. Облик
царя запомнится надолго: недаром был заранее задуман,
зарисован во множестве эскизов каждый поворот корпуса,
запрокинутая борода, преувеличенно заостренная
макушка парика. Резкость контрастов, столкновение
противоположностей (пластических элементов) было осуществлено
с удивительной последовательностью: рисунки ожили на
экране.
Духовная жизнь Грозного (припадки жестокости и
покаяния) являлась обычной для изображения этого
характера; добавлена была — ив значительной мере —
только «прогрессивность».
Труд академика С. Б. Веселовского «Исследования по
истории опричнины», опубликованный уже после смерти
Эйзенштейна, развеял легенды об этих свойствах Ивана IV.
Пространство трагедии
37
Работа ученого иной специальности воссоздала облик
царя. Контрастов в нем оказалось не меньше, чем в
пластике кинофильма: «В скелете признаки, на первый взгляд
взаимно исключающие друг друга; с одной стороны,
массивность скелета говорит о чрезвычайно сильном,
тренированном человеке, обладавшем, по-видимому, баснословной
физической силой; и одновременно с этим — образование
остеофитов, склеротических старческих наростов на
костях...»
Это итог исследования останков Грозного
(извлеченных в 1963 году из саркофага Архангельского собора
Кремля) антропологом М. М. Герасимовым. Казалось бы,
что общего между медицинской терминологией и
трагическим искусством? Какое ему дело до каких-то
«остеофитов»?..
Оказывается, что дело есть. «Весь торс его был скован,
как в корсете...— пишет М. М. Герасимов.— Говорят, что
он неистово молился. Я не верю этому. Он не мог встать на
колени без посторонней помощи, а подняться ему
самостоятельно было совсем не под силу. Не верю и в то, что он
постился».
Картинный царь в монашеском платье, неистово
отбивающий земные поклоны у икон, отходит в область
предания; в пространстве истории появляется иной портрет:
«Лицо жестокое и брезгливое. Выступающая вперед губа,
тяжелый, резко асимметричный нос. Глаза неравной
величины: правый глаз меньше левого, потому что правая
глазница намного меньше левой.
Маленький лоб, сильно развитое надбровье,
асимметричные брови. Голова небольшая, шея очень сильная,
20
плечи могучие, грудь широкая» .
Каждый вывод кранилогического (костного)
исследования опровергает условные представления: вес не менее
95 килограммов; молочные зубы выпали лишь после
пятидесяти лет, а за два года до смерти выросли новые резцы;
причина смерти: малая подвижность, обжорство и
алкоголизм.
Многое ли остается от «царственности»,
«демонического трагизма»?..
Облик Черкасова преображали Эйзенштейн и отличный
гример В. Горюнов. Над подлинной фигурой трудилась
38
Пространство трагедии
история. Вторая серия «Грозного» произвела на меня
огромное впечатление, но теперь, когда я прочитал выводы
антрополога, мне показалось, что неприкрашенный
облик — медвежья сила и неподвижность, угрюмая тупость
и жестокость — был бы не менее выразителен.
Интереснее того, что было на самом деле, придумать
нельзя.
Отношение Эйзенштейна к Шекспиру было
прохладным; из елизаветинцев наибольший интерес Сергея
Михайловича вызывал Джон Уэбстер — маньеристический театр
ужаса.
Как показать на экране историю, минуя жанр
исторического фильма,— нарядную внешность, церемонии,
баталии?.. Как найти те мерила величины, о которых писал
Юрий Тынянов:
«История сужается в количестве лиц — она доходит до
одного человека и вдруг расширяется за все пределы» 2|.
После окончания одной из съемок «Ивана Грозного»
Эйзенштейн сразу же зашел ко мне (мы жили в одном
доме):
— Вам обязательно нужно работать с Бучмой,—
сказал Сергей Михайлович.— Сегодня во время съемки я
случайно обратил внимание на его глаза: какая глубина
и полнота чувства.
Он хитро улыбнулся и добавил:
— Мне с этим, как Вы сами понимаете, делать
совершенно нечего.
Конечно, «случайно» было сказано нарочно. Совет был
хороший; жаль, что я не могу им воспользоваться:
Амвросий Максимилианович Бучма умер в 1957 году.
5
Хорошо, если бы Лир был небольшого роста, а люди,
его окружающие — оплот его государства — огромными.
Складки тяжелых тканей, квадратные фигуры, бычьи
головы. Они входят в действие кланами, семьями, целыми
Пространство трагедии
39
массивами; при разделе королевства они стоят по строгой
иерархии: глава рода, старший сын, советники, охрана.
Они твердо стоят на земле; им кажется, что она не
движется.
Старшие дочери, наследницы престола,— высокие,
большие, ширококостные. Не принцессы, а бабы.
Кони охраны покрыты тяжелыми, темными попонами
с прорезями для глаз.
Прочный, казалось бы, навеки непоколебимый
государственный мир. И сразу же все расшаталось, развалилось,
оторвалось друг от друга, пошло прахом.
Стало само собой разумеющимся, что в современной
драматургии невозможна драматургия (в ее старом
понимании). Все прочно выстроенное, круто заверченное,
крепко связанное теперь не принято показывать на сцене;
в хорошем эстетическом обществе сегодня о таком и
говорить нельзя. Искусство, как известно, отражение жизни.
Разве может сколько-нибудь уважающее себя зеркало
отразить то, чего и в помине нет в действительности, где
отношения неустойчивы, чувства переменчивы, контуры
характеров зыбки?..
Если заглянуть в глубь действия «Лира», подальше от
поверхности событий, то разумное окажется нелепым,
определенность перейдет в хаос; ответы на заданные вопросы
понять будет нелегко. Так что и Шекспир не так уж отстал
от нашей моды.
Однако все же события в трагедии громкие, действие
быстрое, и, что ни говори, фабула существует, да еще
условная: завязки наивны, развязки случайны, а в
характерах немало от амплуа.
Обо всем этом говорилось не раз и, чтобы не бросать
тень на классика, искусство отделяли от ремесла:
Шекспир, как известно, писал поверх старых пьес; фабула
принадлежит дошекспировским вариантам, а поэзия и
философия (победившие время) ему. Раздел имущества
справедливый.
Так еще сравнительно недавно думал и я. Но время
идет, и стоит сопоставить «фабульную» драматургию не
с новой эстетикой, а с современной жизнью, и положение
утратит ясность. Кровавая мелодрама, казалось бы, давно
40
Пространство трагедии
чуждая реальности, умерла на сцене и ожила (да еще
с какой силой!) в жизни: политические предательства,
изгнания властителей, подделки документов, тайные
убийства, карьера на крови близких — разве все это лишь
театральная небывальщина?..
Пока искусство искало средства выражения
медлительного течения будней, кровавая мелодрама вошла в быт,
стала повседневностью не более исключительной, чем че-.
ховские чаепития или игра в винт.
Так это и нужно снимать—будни государственных
переворотов, смен власти, политических преступлений.
Я плохой читатель фантастических романов. Трудно
быть фантастом в наши дни. Пожалуй, самым
невероятным представляется мне такой сюжет: человек спокойно
прожил свой век на одном месте, со своей семьей; ничего
особенного в их жизни не происходило.
Такое может только присниться.
Отражение жизни искусством, само собой разумеется,
не зеркальное. А какое?..
Только бездушный предмет, базарное стекло, покрытое
амальгамой, просто отражает. Отразить в искусстве
страдание можно лишь состраданием, ненавистью к источнику
горя.
Злодейство герцога Корнуэлского, Эдмонда, Реганы
вызвано не патологией их характеров, а обстоятельствами
политической деятельности. Необходимо быстрее добиться
результата. Так нужно для дела. Не до тонкостей.
Задача в том, чтобы связать Шекспира не с искусством,
пусть самым современным, а с жизнью.
Кинематографическая форма образуется сама собой,
когда начинаешь понимать жизненный, а не театральный
ход событий. Тогда действие прорывает театральную
оболочку, реальные положения сгущаются до отчетливо
видимых: проступают дальние планы, за десятком людей видны
тысячи.
Ничего не надо придумывать, все заключено в самой
поэзии. Трудность в преодолении шаблона чтения; нужно
Пространство трагедии
41
научиться читать «Лира» не как пьесу, а как роман, где во
множестве мест автор, не скрываясь за своими героями,
исследует историческую реальность вширь и вглубь, во
множестве направлений. Здесь нравы, пейзажи, обиход
дворцов и деревень, проезжие дороги.
Мы привыкли к тому, что эту необъятность
действительности можно почувствовать лишь в тексте героев,
существующих в условном пространстве.
«Иной раз кажется,— записал Кафка в дневнике,— что
пьеса покоится вверху на софитах, актеры отодрали от нее
полосы, концы которых они ради игры держат в руках или
обернули вокруг тела, и лишь там и сям трудно
отторгаемая полоса на страх публике утаскивает актера вверх» 22.
«На софитах» покоится история «бездомных, нагих
горемык». Они должны выйти на первый план, пуститься
в странствие не только оттого, что облик одного из них,
бедного Тома, принимает.Эдгар, спасаясь от погони, но
и потому, что исследование жизни короля невозможно без
исследования жизни его подданных.
Затихает риторика, и слышится хриплый рог нищих,
собирающих подаяние. Лир в лохмотьях становится
неотличим от других бродяг. Бесконечная, истоптанная
дорога. Это уже не подмостки, а земля, «собачья жизнь».
Шекспировские монологи часто не только текст,
произносимый героем, а зашифрованная сцена: в ней свои
действующие лица, пейзаж, предметы, особое освещение,
множество жизненных подробностей. Нужно только
открыть код, которым все это записано, подобно тому как его
находят в детективных романах: сопоставить прошлое
с настоящим, определить людей, которые могли быть
замешаны в событиях, восстановить в действии пропуски.
Приходится пробовать множество гипотез, пока не
нападешь на след главного: хода вглубь, к существу
действия, к развитию мыслей всей трагедии.
Контрасты «Лира» скорее не в добре и зле, а в
человеческом и бесчеловечном. Причем человеческое вовсе не;
значит человечное. Лир, даже в начале действия, несмотря
на выходки и самодурство,— личность; буйство его не-
42
Пространство трагедии
обдуманных поступков принадлежит тому, что мы
называем человеческим и что вовсе не является синонимом
гуманности, а часто обозначает совсем иные, обратные
гуманности свойства.человеческой природы. Но под
маской власти есть живое лицо; придет время, оно себя
обнаружит.
Эдмонд, старшие дочери Лира, герцог Корнуэлский —
существа без сердца. Для них Лир, Корделия, Кент,
Глостер — зубры из заповедника древних времен. Новый
век воспитал своих граждан; их определяют гипертрофия
воли, отсутствие предрассудков, холодная
целеустремленность. Они, по сути дела, запрограммированные для власти
счетные устройства.
Роботы оживают, лишь когда дают себя знать
рефлексы, инстинкты — половой, страха.
Шекспир уделяет особое внимание ста рыцарям —
свите короля, без которой он не может обойтись, даже
отказавшись от короны.
Что это за люди? Само слово «рыцарь» вовсе
обессмыслилось: рыцарские доблести или, напротив, «псы
рыцари»?.. Их повелителя страшнейшим образом оскорбляют,
но никто из них не говорит ни слова в его защиту. Для чего
нужны старому человеку эти сто человек? Они его не
охраняют, не выполняют его поручений. Мечи ни разу не
вынимаются из ножен. Это не люди, а образ жизни.
Видимо, это не.сто мечей, а сто льстивых языков; сто
спин, готовых клониться перед тем, кто в силе, и
отвернуться от того, кто в немилости. Чтобы представить их себе, мне
нет нужды заглядывать в исторические справочники.
Что может напоминать дворец Лира, его атмосферу?
Пожалуй, описание, которое я сегодня прочитал в
«Правде»: «Главный конструктор автоматических станций
говорит: «Космос — среда агрессивная и, по нашим понятиям,
противожизненная. Всё против нас — глубокий вакуум,
немыслимые температуры; космическая радиация,
безбрежные пространства...» Как чувствуют себя люди в
присутствии короля? Обращаюсь к той же статье: «...один бок
станции, освещенный солнцем, образно говоря, находится
как бы в двойной Сахаре, а другой, что остался в тени,—
Пространство трагедии
43
в двойной Антарктиде. Но вот станция... повернулась, и все
режимы изменились» 23.
Так происходит изгнание Корделии и Кента; ссора
с французским королем.
Первая сцена (раздел королевства) не напоминает
дворцовые торжества; куда больше сходства с игорным
домом; только глаза всех устремлены не на карты, а на
карту — географическую карту. Никто из присутствующих
не шевелится, кажется, что никто и не дышит. В огромном
зале можно различить только одно крохотное движение:
королевский палец чертит линию на пергаменте;
определяются новые границы государства. Сейчас они будут
оглашены.
Вопрос короля к наследницам: «Которая из вас нас
больше любит?» — нечто вроде приглашения: делайте
вашу игру.
Начинается странный микробалет: еле заметный жест
царедворца (не выдержали нервы) отдается подобным же,
почти неуловимым движением другого; кто-то перевел
дыхание, и как отзвук — кто-то чуть подался вперед.
Наиболее заметное движение — пламя, полыхающее
в светильниках. На лицах впереди стоящих выступили
капли пота. Вдали, за приближенными к трону,— те, кто не
участвует в игре, а лишь ставит на игроков, связав свои
судьбы с их судьбой. В мути дальних зал шеренга
вооруженной стражи — эта граница отделяет имеющих власть
от бесправных.
Бесправные — тысячные толпы — ждут своей участи
за пределами замка, за пределами второй линии — конной
стражи. Они по неведенью принимают игру за
божественный промысел. Старик, ничем от них не отличимый,
склонившийся сейчас над картой, кажется им богом. Игра
кончится, погаснет иллюминация — огни на зубцах башен;
скоро запляшет иное пламя, начнется пора бедствий,
разорения, войн.
Труд режиссера начинается с отбора и ограничения.
Режиссеры «эпопей» разыскивают в старинных нравах
и обычаях (вернее, в книгах, посвященных их описанию)
все то, что выигрышно, что на экране будет интересным
44
Пространство трагедии
само по себе: красивым, курьезным. На изготовление
«выигрышного» продюсеры не жалеют затрат, деньги себя
оправдают: зрителю вне зависимости от сюжета интересно
увидеть воочию, как люди жили в старину, роскошь
туалетов, торжественность церемоний. Деньги платят за то,
чтобы отвлечься от жизни. Я хочу приблизить к ней «Лира»
как можно ближе. Вот почему меня интересует не
курьезное или красивое, а, напротив, все то, что начисто лишено
какого-либо самостоятельного интереса. Нам нужен
покрой платьев, не привлекающий внимания, обычаи, ничем не
примечательные. Любоваться здесь нечем.
Я не хочу снимать фильм цветным именно по этой
причине. Я не знаю, какой цвет у горя, какие краски у
страдания. Хочется верить Шекспиру и верить зрителю: стыдно
подсахаривать «Лира» красотами.
Конечно, жизнь (вернее, поверхность жизни) на экране
не должна напоминать быт наших дней; минимальное
количество исторических деталей необходимо. Но
главное — определить для себя, что же искать в материале:
«непохожее» или «похожее»? И то и другое в избытке
заключено в нем.
Я ищу только «похожее».
Мать кормит грудью ребенка; бездомный укутывается
тряпьем, чтобы защитить тело от холода,— какой это век?..
Можно показать, как красивы старинные дворцы,
и можно показать некрасивые дела, которые в них обычно
делаются. Есть арифметика быта и алгебра сущности. Мне
хочется вывести на экране формулу истории:
закономерность накоплений и взрывов.
Ту самую формулу, что выведена поэзией Шекспира.
Дело не только в скромности исторической обстановки,
но и в ее преображении, способах съемки. Оптика и свет
должны помочь создать шекспировский мир, где четко
видно то, что прошло сквозь столетия, сохранив свою
жизненность, а все относящееся к определенному времени
различимо смутно, лишь общие очертания. Четкими пусть
будут фигуры людей; утварь и стены видны куда менее
ясно. Материалы только подлинные: дерево, шерсть, чугун,
кожа, мех.
Сперва нужно все уточнить (для себя!) до
совершенной, в пределах возможного, конкретности, а потом убрать
Пространство трагедии
45
археологию и этнографию, оставив лишь самые общие
черты, сделав их зрительными приметами.
Отвлеченные и, казалось бы, не имеющие значения
титулы: герцог Корнуэлский, Олбэнский — определения
типов лиц, манеры поведения и герцогов, и их
приближенных.
Это правители особых народностей, живущих в своих,
отличных от соседей, условиях и местах. Их народы так же
не напоминают один другого, как грузины литовцев.
Свита Лира отличается от прислужников Гонерильи;
молодчики Корнуэла выглядят во дворе поместья Глостера
разбойниками — нечто вроде дикой дивизии генерала
Шкуро.
Убогость костюмных фильмов состоит в том, что
человечество в них делится на три категории: придворных,
рыцарей и горожан.
Как только удается вырваться из этих пустых, ничего не
определяющих рангов, сразу же открываются жизненные
черты характеров.
Гримерам у нас должно быть мало работы. Реальность
лиц создаст и особенность шекспировского мира (люди,
которых не встретишь в метро), и натуральность
происходящего. Лица Прибалтики, пожалуй, были бы наиболее
подходящими; менее всего похожи на героев «Лира»
современные англичане.
Только плотность кинематографической ткани —
единство способов съемки и монтажа — создаст реальный (но
не существующий в действительности) пейзаж, как бы
исторический и одновременно лишенный исторической
определенности мир.
Условность декораций и костюмов пока еще ни к чему
убедительному не приводила. Камера снимала спектакль,
а монтаж, теряя свою силу, превращался в склейку.
Кажется, это место текста скучно смотреть на одном плане?
Снимем его крупнее? А может быть, с движения?..
Нет главных сцен, нет самых важных мест трагедии.
Ложно понимаемая значительность отдельного,
«знаменитого» монолога мешает охвату целого. Жизненное един-
46
Пространство трагедии
ство слитного действия, происходящего на всех планах,
а вовсе не выдвижение «главного» на первый план.
Так играли в старину гастролеры: произносились
монологи у рампы, посередине сцены; тексты остальных ролей
сокращались как только можно. Много ли оставалось
тогда от Шекспира?
Опыт показал мне, что, к примеру говоря, первый
монолог Гамлета не пропадал оттого, что произносился
(как внутренняя речь) среди толпы, спешащей на
праздник, на фоне шума и музыки, в мелькании лиц.
Все в жизненном движении; выхваченное объективом,
а не нарочно приближенное к нему.
Сразу же, на первых пробах, нужно снимать не одного
исполнителя, а весь его жизненный куст, одну из ячеек
мира трагедии. Хочется увидеть Лира в среде страха,
лести, лжи: выхоленные лица сановников, мнимозначи-
тельные, ложнососредоточенные — мир политики.
Наглые, разбойничьи рожи банды Корнуэла —
куклуксклановцы с веревочными петлями и бидонами бензина.
Разве можно понять герцога Олбэнского, не увидев его
в библиотеке, среди книг?.. Конечно же, он книжник.
Умирающий, дряхлый мирок Глостера: морщины, седые
головы, зябнущие у огня старики; стук палки в пустынных
переходах, кашель, бормотание.
Бродяги, нищие, люди, выпущенные только что из
тюрем,— многоликий бедный Том; среди них Эдгар, потом
Лир — бездомные среди бездомных, «на дне» государства.
Трагедию создают не несколько безумцев (это
общеизвестно), а коллективное безумие, возникающее на гребне
событий. К нему относится и обожествление короля, и
эпидемия подозрительности и страха, охватившая старших
сестер, их прислужников.
Если показать это, то куда более сильными станут
тихий голос Корделии, естественность герцога Олбэнского,
честность Кента.
Надо смотреть военные хроники. Кадры, снятые
нашими хроникерами, кажутся мне совершенными по передаче
истинного трагизма. Сожженные жилища, обгоревшие
Пространство трагедии
47
печи в снежном поле, трупы казненных, вырытые из ям;
жители — среди них много пожилых людей — вернулись
в отвоеванную нашей армией деревню (место, где была
деревня); они бродят между лежащих в снегу трупов,
опознают своих, плачут, не могут оторваться от мертвых.
Их горе, увековеченное объективом кинокамеры, нужно
хранить в памяти. По сравнению с ним покажется стыдным
все театрально-условное, картинно-трагичное. Картинное
значит картонное.
Что же, взять хроникальность как стиль? Да нет,
совсем не об этом идет речь. Дело в глубине человеческого
горя, народного горя, а не в стиле.
Как одним словом определить развитие образа Лира?
Оттаивание. В начале все живое заморожено в нем
привычкой (или необходимостью) властвовать.
Горе согревает его. Несчастье растапливает лед;
ожило, забилось сердце. В первой сцене с Корделией и Кентом
он не злой, а бесчеловечный, бездушный.
Шекспир проделывает с этим образом то, что Бунин
считал основным в творчестве Толстого: «Наиболее
заветной художественной идеей его было, думается, это:
взять человека на его высшей мирской ступени (или
вознести его на такую ступень) и, поставив его перед лицом
смерти или какого-либо великого несчастья, показать ему
ничтожество всего земного, разоблачить его собственную
мнимую высоту, его гордыню, самоуверенность» 24.
Борис Михайлович Эйхенбаум, хитро улыбаясь,
говорил, что отношения Толстого и Шекспира были
непростыми. Лев Николаевич ругательски ругал «Лира» за
неестественность положений, невозможных в жизни, а потом сам
оказался в схожей ситуации.
Да, если угодно, в том, как Лир покинул дом Глостера,
доведенный до отчаяния старшими дочерьми, куда больше
от отъезда Толстого из Ясной Поляны, нежели от
театральных воплей и бутафорского грома.
Кучера выводят и запрягают лошадей. В усадьбе
укрываются от грозы: убирают развешанное на веревках
белье, загоняют в амбары скот. Сторожа открывают
скрипучие ворота; ветер поднял пыль на дороге.
48
Пространство трагедии
6
В профессиональную работу режиссера с артистом
я мало верю. Трудиться над такими образами, как Лир,
значит жизнь прожить вместе, сблизиться так, чтобы
предметы любви и ненависти стали общими.
Еще не успев поздороваться, каждый из
приезжающих на пробу артистов заявляет:
— Короля нельзя играть, короля играют окружающие.
Я делаю вид, что услышал это впервые. Следует вторая
мысль:
— Главное не играть.
Охотно соглашаюсь. Дальше говорится:
— И короны у него на голове не должно быть.
Ну, конечно же, не должно быть.
А что же должно быть? Какой же он, Лир?..
Отношения между режиссером и актером, пишет Питер
Брук,—танец. «Танец — точная метафора: вальс
режиссера, актера и текста» («The Empty Space») 25.
Не только вальс, бывает и вступление к русской: артист,
как красная девица, стоит на месте, лишь помахивая
платочком, режиссер обхаживает его, упрашивая вступить
в пляс. Случается, что на этом танец и заканчивается.
Самое трудное в работе с актером — убедить его
прежде всего «закрыться на переучет». Какую бы роль ему ни
предложили, он начинает со своей последней. Пробует
приспособить то, что уже испробовано им с успехом, и к
новому образу. Иногда это делается бессознательно.
Для Шекспира такой товар не годится.
Особенно трудно с киноартистами. Обычно их и
приглашают еще раз сыграть так же, как они уже не раз играли.
Их вдвигают в картину, как готовую деталь.
«Среди хрюканья и рева, нытья и декламации мужал
и креп ее голос, родственный голосу Блока,— писал Осип
Мандельштам о Вере Комиссаржевской.— Театр жил и
будет жить человеческим голосом» («Египетская марка»).
Утверждая именно это, силу естественной речи, поэт
восклицал: «Лучше Петрушка, чем Кармен и Аида, чем
свиное рыло декламации» 26.
Пространство трагедии
49
Кинорежиссеры, борясь за естественность,
противопоставляют декламации и пафосу обыденность речи. Артисты
бормочут перед микрофоном; слова при этом как бы
выпариваются; русская речь становится похожей на эсперанто.
Так, действительно, иногда говорят в жизни.
Но у русского Шекспира (переводов Пастернака) иной
звук голоса: естественность, прозаичность, даже
нарочитая антипоэтичность некоторых мест — все это голос
большого поэта, и ритм его дыхания всегда ощутим.
Звук — какое это сложное понятие. Взятый тон. Разве
дело только в слышимом?..
Что в ней рыдало? Что боролось?
Чего она ждала от нас? —
писал Блок о Комиссаржевской 27.
Гоголь слышал странный звук струны, звенящей в
тумане, им кончались «Записки сумасшедшего».
Блок повторил этот образ, но усилил, изменил характер
звука:
Так звени стрелой в тумане,
Гневный стих и гневный вздох .
Лир может (и, видимо, должен) говорить негромко и,
конечно же, совершенно естественно, но мысль и чувство
должны звенеть стрелой в тумане.
Должно пройти немало событий, прежде чем Лир
окажется в одиночестве. Вначале толпы сытых и гладких
угодников окружают короля. Потом штат сокращают
наследницы; потом он сам собой сокращается: кто станет
прислуживать тому, кто уже не в силе?..
Остаются Кент и шут. Потом остается он один, старый,
сошедший с ума человек.
Перемен в пьесе множество, но время действия кратко:
вместе с потерей власти почти мгновенно человек перестает
быть человеком.
Ничего дикого, примитивного, доисторического в
начале быть не должно. Все куда более похоже на современные
дипломатические приемы: вежливые, непроницаемые лица,
50
Пространство трагедии
звериное, дикое существо запрятано под цивилизованной
внешностью.
Эдмонд становится полководцем. Он не только храбро
сражается, но, что куда важнее, делает государственную
карьеру. Он далеко ушел, даже по внешности, от
бесправного положения в доме своего отца. На войне он окружен
охраной, исполнителями его приказов.
Так выезжали нацистские командующие; машина
генерала под прикрытием броневиков, мотоциклистов. В нашем
случае — лошади, покрытые доспехами, огромные щиты
с гербами Глостера.
Если в истории Лира видны черты средневековой
притчи об унижении Гордого Короля (где действуют
Гордость, Нищета, Нагота), то здесь — притча о Бесстрашном
Завоевателе. Самый смелый, самый сильный, он всех
победил, всечзавоевал. А потом он будет корчиться на грязной
земле, всеми брошенный, задыхаясь, чувствуя
приближение того, что он не в силах предотвратить ни умом, ни
волей, ни мечом.
Лир — самый старый из всех; он — живой анахронизм,
человек прошлой эпохи. Таков он в начале. А потом — он
человек другого, более близкого нам времени.
Он и в давно прошедшем и в настоящем.
Его внутреннюю жизнь отличает испепеляющая
одержимость: и полная слепота тирании, и мучительное
прозрение, совершенное отрицание всего, во что он верил, что
было основой его жизни.
Прозрение приходит не только через страдание, но
и через иронию; ирония сдувает пустые представления
о величии власти.
«Все мысли его кружились теперь около одного какого-
то главного пункта,— писал Достоевский о Раскольнико-
ве,— и он сам чувствовал, что это, действительно, такой
главный пункт и есть, и что теперь, именно теперь, он
остался один на один с этим главным пунктом...» *9
Что для Лира этот главный пункт?
Их, пожалуй, два: «Все заемное» (что же такое в этом
обществе подлинный, неприкрашенный человек?) и «Нет
Пространство трагедии
51
в мире виноватых». В самой крайности постановки
вопросов — бесстрашие мысли.
Он не просто задает вопросы, он требует ответа: «Разве
человек не больше, чем это голое, двуногое животное?» Он
пристает с ножом к горлу: отвечай! «Почему собака,
лошадь, крыса живут, а ты нет?»
В слова он перестал верить. Пусть, взамен ответа,
анатом вскроет грудь Реганы (или другого человека этого
времени): «В чем причина того, что эти сердца такие
твердые?»
С небом он разговаривает как с равным; небеса
такие же седые, как он; у бури характер похож на
королевский.
К кому же он обращается? Кого же он спрашивает?
Себя. И нас.
Лир обращен к каждому человеку не потому, что
каждый состарится и, возможно, узнает неблагодарность
детей, а потому, что придет время и каждый (часто, увы,
поздно) узнает, в чем же состоит истинная ценность жизни,
а что позолоченные жестянки.
Видимо, основной знак препинания в тексте Лира —
вопросительный. Ну, а как это совместить с характером его
темперамента?..
Михаил Светлов шутил, что вопросительный знак —
состарившийся восклицательный.
Если ответа на вопросы, заданные Лиром, не
существует, «то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи
и насмешке. Стало быть,— самые законы ложь и диаволов
водевиль» (Достоевский) 30.
Определение жанра точное и достаточно
выразительное: дьяволов водевиль. Сам Лир думал о чем-то
подобном: «Мы плакали, пришедши в мир на это
представление с шутами».
Юрий Николаевич Тынянов говорил, что в
кинематографической работе многое сочиняется во время
прогулки, в разговоре.
52
Пространство трагедии
Я ставлю шекспировские трагедии на ходу: разговари^
ваю с друзьями, которых уже нет; любимыми авторами;
спорю, учусь.
Пушкин считал самым сильным у Гоголя изображение
пошлого. Достоевский вдвинул тривиальное, пошлое,
доведенное до фантастического, в трагическое. Рядом
оказались герои трагедии и пошляк. Но пошляк не бытовой,
а фантасмагорический, одновременно жизненный и
призрачный: Смердяков, Мармеладов.
Не есть ли пошлое, тривиальное в суеверии Глостера,
холуйстве Освальда, хамстве герцога Корнуэлского,
скопидомстве Реганы, бесстыдстве Гонерильи?..
Бунин терпеть не мог Достоевского. В «Петлистых
ушах» он обзывал его «злобным автором, совавшим
Христа во все свои бульварные романы».
Шекспир в «Лире» занимается чем-то вроде этого: сует
мистерию в авантюрный роман (или, говоря более
пристойным языком, «драму превратностей»).
Таких парадоксальных сопоставлений можно привести
неисчислимое количество. Все тут есть. И Склоки в
коммунальной квартире, и фильм ужасов.
Мелодрамы — открытой, взвинченной
эмоциональности — полным-полно у Достоевского. Без нее ни одного
романа у него нет.
Плохо не присутствие напряженного волнения, а
отсутствие мыслей. Этим театральная мелодрама действительно
отличалась.
И того, что называют сентиментальностью, у
Достоевского хватало. Гении и не задумывались над понятием
«вкуса». Они знали вкус полыни, жизни.
Все должно происходить не на фоне декораций —
реалистических или условных, а в гуще народного горя.
Вот право на съемку трагедии, смысл ее перенесения на
экран.
Традиция исполнения королевских ролей существует во
всех видах театра.
Пространство трагедии
53
На память приходит печальная фигура: высокий
человек в поношенной старомодной шубе хлюпал калошами по
лужам. Была осенняя ленинградская слякоть. Что-то
понуро-будничное было во всем его облике.
— Десятилетиями он исполнял в балетах только одну-
единственную роль,— сказала моя спутница,— короля.
Она назвала его фамилию, и я сразу же вспомнил его
на сцене. Он знал только два жеста: округлое движение
раскрывающейся правой руки — король приглашает к
танцам; и округлое движение руки вниз, указательный палец
к полу — король гневается.
Как трудно раскрахмалить эти фигуры. Они торчат
в памяти — прямые, жесткие, говорящие красивыми
искусственными голосами.
Расшевелить, растрепать Гонерилью. Она
валандается по дому в помятом, плохо запахнутом халате.
Противным хозяйским голосом она науськивает Освальда на
отца.
И выход ее к обеду ничуть не герцогский. Она
отчитывает на ходу прислужника, пробует суп, дует на ложку,
морщится.
Она дома неопрятная, хмурая. Режет жирное мясо.
На обсуждении «Гамлета» в Ленинградском институте
театра, музыки и кинематографии мне крепко досталось за,
кур, которые кудахтали на эльсинорском дворе.
Куры, по мнению театроведов, снижали трагедию. Увы,
я не осознал своих ошибок. Дорогу курам, кудахчущим во
время знаменитых монологов.
Да здравствуют куры, да скроется пафос!
Метод физических действий очень многое дает
режиссеру и артисту. Что можно сыграть, не представив себе
действие во всей его конкретности, во множестве точно
поставленных задач?
...Нужно осторожно ступить на половицу, чтобы не
разбудить спящих в соседних комнатах; открыть дверь так,
чтобы она не заскрипела; выйдя во двор, застегнуть
верхнюю одежду: ночью холодно; посмотреть, готов ли
экипаж?..
54
Пространство трагедии
Каждое движение должно быть осмысленно,
направлено к цели.
Однако, как бы правдивы эти действия ни были, ухода
Льва Николаевича Толстого из Ясной Поляны не
получится.
Ну, а как сделать, чтобы особым светом зажглись
маленькие глаза-буравчики из-под мохнатых бровей?..
Работа еще с одним артистом, приехавшим на пробу.
Он пользуется термином «выгородка»; в театре так
называют грубо сколоченные контуры декораций.
Мы пробуем «выгородки» грима: бороды, брови,
стягивание особой бумагой кожи лица, так, чтобы получились
морщины, чтобы вышел старый человек. Может
получиться даже очень старый.
Старый человек получается. Ну, а Лир?..
Мне нужны иные выгородки: гнета отвлеченных идей,
черного хаоса тирании.
И еще другие: страдания, превращающегося в
сострадание к тому, кто стоит рядом, а потом к самым дальним.
И еще выгородки: исцеления болью; оттаивания
духовной жизни; презрения к силе. И еще, и еще множество
других.
Я ищу для Лира —- товарища, причудливого артиста,
охотника на странные решения. Четыре правила
арифметики тут мало помогают.
Теперь в моде разговоры о «современном» стиле игры,
основанном на внешней сдержанности, лаконичности.
Разумеется, это прекрасные качества. Однако определяли ли
они хоть в малейшей степени искусство Михаила Чехова,
Чарли Чаплина, Тарханова, Эрнста Буша?.. Пустяки
какие. Их игру отличали не приемы исполнения, а сила
личности. Они были прежде всего «особенные», ни на кого
не похожие.
Видимо, с артистом, который не скажет мне, что
«короля не нужно играть, короля играют окружающие»,
и начнется серьезный разговор.
В первой сцене лица Лира еще не должно быть видно;
пока только маска власти. Смена его состояний алогична;
Пространство трагедии
55
его отличает совершенный неинтерес ко всему конкретно-
человеческому. Он слепой и глухой ко всему естественному.
Нет света тех полных страдания, а затем мысли глаз,
которые появятся потом, когда исчезнет маска.
Еще раз: вначале маска власти, а не царственный
покой.
В кинотеатре окончился сеанс. Показывали одну из
наших лучших исторических картин.
— Ни черта не понял,— услышал я слова одного из
зрителей,— никто на людей не похож, и ходят, и говорят не
по-человечески...
— Темный человек,— возмутился другой,— это же
стильная постановка!
Мне не помогут ни монографии о «Темных веках», ни
Гольбейн, ни Гойя, ни Пикассо.
Моя цель — соотнести экран не с живописью, пусть
и самой прекрасной, а с действительностью, убедить в
реальности существования такого, как в «Лире», мира, не
похожего ни на доисторическую Британию (кто знает,
какой она была?), ни на шекспировскую Англию, ни на
наш век. И похожего на все времена.
Как это сделать? Так, чтобы каждый узнал: такое же,
подобное было и на моем веку, случалось со мной самим;
похоже не по костюмам и быту, а по существу дела, по
мысли, которая и меня мучила, по чувству, которое я сам
испытал.
Похожа должна быть не внешность явлений, взятых по
отдельности, а система жизненных связей. Иногда очень
сложных, иногда совсем простых. Вот, например, совсем
простое положение: как аукнется, так и откликнется. Это
ведь тоже «Лир».
Сама пьеса растрепана, в ней разношерстность
материала, несхожесть стилей, грубость мгновенных переходов.
Все это и есть единство — не художественного стиля,
а жизни, истории.
История, как писал Маркс, повторяется дважды,
вначале как трагедия, потом как фарс 3I. Тут таких повторений
множество. На закате цивилизации трагедии и фарсы так
56
Пространство трагедии
мешаются, что становятся почти что неотличимы друг от
друга.
Конца «Лира» нет, во всяком случае финал в пьесе
отсутствует: ни обычных для трагедии торжественных
труб, ни величественных похорон. Трупы, пусть и
королевские, перевозят в условиях военного времени; даже
сколько-нибудь возвышенных слов никто не произносит. Время
слов кончилось.
Остаются люди, опаленные огнем и закаленные огнем.
Они смотрят, как начинается утро нового, нечеловечески
трудного века, как жизнь тяжело поднимается из-под
развалин.
Ставить фильм — не значит приходить в положенное
время в специальное помещение (репетиционный зал,
ателье) и трудиться с коллективом собранных для этой
работы людей различных специальностей.
Это значит жить несколько лет под навязчивым
воздействием шекспировской картины жизни, которую видишь
пока еще лишь смутно, отдельными чертами, но главное
в ней — «всесвязующую мысль» (Достоевский) —
воспринимаешь как самую важную. И каждый день — все, что
видишь, слышишь, читаешь, узнаешь,— убеждает тебя
в насущной необходимости выявить эту мысль, сделать
картину жизни реально существующей.
Иначе профессиональная работа, служба.
События начинают не герои, а человеческие ансамбли.
Они появляются слитые воедино, как блоки общественных
отношений, укладов жизни.
Так, пока не расчлененными на характеры, выходят
герцоги Корнуэлский и Олбэнский, их жены, дети, свита;
царедворцы, военные.
Льдина, куда вморожены двадцать сановников. Все как
один, все на одно сановничье лицо. Одинаковый покрой
платьев, одинаково вычеканенные цепи на груди.
Одинаково вычеканенное выражение ужаса перед королем.
Так обозначаются во время штабных учений на
условном рельефе условные знаки армий; генералы только
упоминаются, характеры их пока не принимаются во
внимание.
Пространство трагедии
57
Представим себе учения по всемирной истории,
передвижение условных знаков сословий, сил — военных,
дипломатических — по карте эпохи.
То, что я пробую уловить, уточнить записью,—
черновики кадров. Я уплотняю мысль ассоциациями до степени
видимости; мысль должна стать материальной. И,
превратившись в частицу фильма, она перестает существовать
как определимая словами. Иначе — грошовая
иллюстрация.
Труд над шекспировской трагедией напоминает
археологию: поиски идут всегда вглубь, за пределы верхних
пластов; целое обычно воссоздается по фрагментам. Но
странное дело, чем глубже копаешь, тем более
современным кажется все то, что выходит на поверхность,
открывает свое значение.
Черепок относился к древности, но кажется, что сосуд
разбили сегодня; возможно, что такой же разобьют завтра
Нужно выявить не какую-то единую тему произведения
(ее нет), а ход исследования человеческой природы и
исторического процесса — человека, создающего историю, и
истории, создающей человека.
Хуже всего на экране получится то, что на первый
взгляд должно выйти лучше всего. За такую выигрышную
кинематографическую сцену нетрудно принять бурю, но
как раз здесь — ловушка: натуралистическое изображение
очень дурной погоды (пусть даже самой дурной!) далеко
от шекспировской поэзии. Никакое количество пожарных
шлангов и ветродуев «не обеспечит», как выражаются
киноадминистраторы, образа.
Зрительный строй сцены не может быть однозначным;
метафорический смысл здесь значительнее буквального.
Это же относится и к звуку: слышаться должен не столько
шум ветра и грома, сколько голос зла, празднующего
победу. Действие начинают (по тексту) дикие звери; они
прячутся в берлоги, чуя приближение грозы, чуя дела,
которые натворят в эту ночь люди: хищники милосерднее Ре-
ганы и Гонерильи.
Пейзаж то отчетливо виден, то вовсе теряет очертания:
Лир и шут блуждают и по определенной местности (при
58
Пространство трагедии
желании ее можно отыскать на старой географической
карте где-то на юге Британии, между поместьем
Глостера и дорогой в Дувр), и в хаосе бушующих стихий в час
Страшного суда.
Однако даже в апокалиптических гиперболах
достаточно жизненных деталей. Начинать нужно с них:
реальность лучший проводник. На одну из таких деталей мне
хотелось бы обратить внимание. Мне она представляется
важной, обладающей многими значениями.
По словам Корделии, ее отец провел ночь на соломе,
среди свиней и бродяг. Одинокий шалаш в поле — не
декорация, ничего не значащая выгородка, а образ
последнего очага жизни, чуть тлеющая искорка ее животного
тепла; крохотный ковчег среди бесконечности мрака,
холода, жестокости.
Сюда, на самый низ существования, буря сбросила
того, кто стоял на вершине социальной лестницы. Здесь,
в гуще этой убогой жизни, где перемешались грязь,
солома, нищие, свиньи, Лир задает вопрос: «Неужели
неприкрашенный человек не больше, чем голое, двуногое
животное?»
В «Гамлете» слова о том, что человек не флейта, на
которой могут высвистывать, что им угодно, королевские
прислужники, казались мне более значительные (хотя
такие сравнения, конечно, условны), нежели знаменитое
«быть иль не быть». Главным в «буре» является для меня
монолог о неприкрашенном человеке, а не риторическое:
«Дуй, ветер, дуй!»
Обстоятельства, в которых он говорится (в которых эти
мысли могли возникнуть), так же существенны, как то, что
лето, когда задумывал свои планы Родион Раскольников,
было очень жарким, нестерпимо душным, что лестница его
дома была щербатой и загаженной котами, а комната, где
он жил, напоминала гроб.
Если бы единство духовной и материальной жизни на
экране достигалось буквальным воспроизведением таких
описаний, решение задачи не было бы слишком трудным.
«Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки! Лей, дождь, как
из ведра...» — даже произнесенное со всей силой чувства
и голоса не передаст звукового напора подлинника. Рус-
Пространство трагедии
59
ский перевод (у всех переводчиков) не похож на яростное
и торжественное: «Blow, winds, and crack your cheeks;
rage, blow!..»
Я видел хороших артистов в роли Лира, однако мощи
этих аллитераций мне еще не удалось услышать. И все же
подобное этому, равноценное я слышал в трагических
форте симфоний Шостаковича.
Здесь, в этом месте сцены, голос принадлежит музыке,
она ближе к подлиннику. Какая же это должна быть
музыка?.. Гул тьмы, надвигающейся на землю. Из прошлого,
праистории человечества?.. Предчувствия будущего, того,
что может наступить, если не будут обузданы силы зла?
Пастернак считал, что гений Шекспира проявился
больше всего в его прозе, стихи же часто были излишне
метафоричными, чересчур усложненными. Борис
Леонидович думал, что поток нерифмованных пятистопных ямбов
являлся лишь способом скорописи: автору приходилось
торопиться, а такая стенография мыслей и чувств наиболее
удобна.
К различным своим переводам Пастернак относился
по-особому. «Для произведения, подобного Фаусту,
обращающегося со страницы книги или со сцены ко мне,
читателю или зрителю, достаточно, чтобы оно было
понятно мне, чтобы я его понимал,— написал он мне в одном
из писем.— От объективно, реалистически разыгрываемой
на сцене пьесы Шекспира требуется совершенно иная
понятность, иной вид, иная мера понятности.
Тут исполнители обращаются не ко мне, а
перекидываются фразами между собой. Тут мало того, чтобы я
понимал их, тут мне требуется уверенность, наглядная
зрелищная очевидность, что они с полслова понимают друг друга.
Эту легкость, плавность, текучесть текста я считал
всегда для себя обязательной, этой, не книжной, не в
сторону, в пространство отнесенной сценической понятности
всегда добивался. И меня всегда мучило и раздражало,
когда эту необходимую беглость и непроизвольность речи,
далеко еще не достигнутую даже и моими переводами,
мельчили, задерживали и дробили из посторонних и
временных соображений, ради приемлемости этих работ в
меняющихся современных условиях» 32.
60.
Пространство трагедии
Пастернак имел в виду требования редакторов: «Меня
заставляли приближать эти переводы к оригиналу до
буквального совпадения с ним не из почитания
подлинника, а для того, чтобы было на что ссылаться и на кого
валить в случае пререканий».
Наглядная зрелищная очевидность; действие в
реальном пространстве, а не в книжном, замкнутом текстом;
текучесть, беглость — этого же хочется достигнуть на
экране.
Из письма к Л. Е. Пинскому
Август 1968 года
Дорогой Леонид Ефимович!
Я с большим интересом прочитал рукопись, которую Вы
мне так любезно прислали Ч Глава о «Лире» отличная.
Совершенная свобода в обращении с огромным
материалом; все взаимосвязано: темы и положения, герои и
события, история сюжета и современное нам искусство. Вы
уверенно прокладываете магистральную тему и легко
отходите от нее к новым материалам, чтобы вновь к ней
вернуться, усилив мысль обобщениями. Все оказывается
накрепко сцепленным, образуя в итоге универсальную
картину трагического.
Ход мысли заставляет вспомнить архитектуру
построений Гегеля.
Законченность концепции лишает меня желания
отыскивать в ней недочеты, высказать и критические
замечания. Это самостоятельный, во многом авторский труд;
глава о «Лире» помогает мне лучше узнать не только
предмет исследования, но и прежде всего исследователя,
Однако, следя за развитием Вашей мысли, я начинаю
думать о Шекспире по-своему. Это кажется мне
достоинством книги.
В возможность существования какого-то единственно
правильного толкования «Лира» я не верю. Чем глубже
вчитываешься в текст, тем менее ясной становится
сущность этой трагедии, тайна ее воздействия.
...Работа меня вовсе замучила. Сложность моего
положения в том, что, думая, как и Вы, о природе героической
личности, я не хочу показывать ничего внешне связанного,
Пространство трагедии
61
с поэтикой героического; ничего «титанического»,
«величественного» и даже «возвышенного» (с виду) я допускать
на экран не хочу. Не в меньшей степени я и против быта:
превращения Шекспира в Вальтера Скотта.
Хвастаться мне пока еще нечем. Множество мыслей,
ходов, но все, увы, лишь в замысле; а в искусстве, как
известно, намерения не имеют значения.
Заканчивая письмо, я все же позволю себе сделать одно
замечание. Не слишком ли решительно вы оспариваете
мотив власти? Перед войной именно он казался мне
особенно значительным. Со всем жаром первой попытки
я обрушился в своей театральной постановке на
романтические трактовки и жестко, грубо показал власть,
деспотизм как основу трагической завязки. Наделал немало
глупостей. Теперь многое мне видится по-иному, но мотив
этот не ушел.
Без темы власти монологи безумного Лира о функциях
короля становятся отвлеченными. Шекспировские
обобщения всегда связаны с частным.
Из письма к Л. Е. Пинскому
Сентябрь 1968 года
...Я понимаю этот мотив как систему определенных
отношений, созданную Лиром и создавшую Лира;
отношений, выродившихся в лживые и бесчеловечные; Лир
перестал это видеть: он ослеп, королевская власть ослепла;
люди, принимающие эту власть как правду, ослепли.
Картина (в изложении действительно, а не метафорически
ослепшего Глостера) универсальна: «В наш век слепых
ведут безумцы».
Что же касается до «назидательности», то, увы, весь
«Лир» назидателен, да еще как! Не думаю, чтобы этого
следовало опасаться.
Домыслы не компенсируют купюры — вот часто
появляющаяся мысль; казалось бы, вывод из нее ясен:
следует сохранять возможную полноту текста. Однако
ясности вовсе нет. Опыт говорит об ином, кажется, еще не
было случа,я, чтобы снятая для фильма шекспировская
сцена, основанная на тексте, оказывалась сильнее этой же
62
Пространство трагедии
сцены, сыгранной в театре. В работах Орсона Уэллса
лучшими кадрами кажутся мне те, которых и в помине нет
в пьесе: Яго в железной клетке, вздернутой к небу (пролог
к «Отелло»); гроб небывалых габаритов, который тащат
мимо бастионов (похороны Фальстафа) 34.
Акира Куросава заново написал все диалоги
«Макбета» («Окровавленный трон»).
Если же словесная поэтическая ткань остается в
неприкосновенности и это место пьесы нужно лишь «поставить
для кино» (разбить на кадры, общие и крупные, разместить
перед объективом и т. п.), я ощущаю неловкость,
ненужность превращения пьесы в сценарий.
Но когда в самой поэзии открываешь ростки того, что
может быть выращено в динамическую зрительную
реальность, дело становится осмысленным, работа спорится.
Ничего не нужно придумывать, только выявлять.
Придуманное («на тему», «по поводу») легко выбрасывается;
вера в нужность таких пристроек вскоре же рассеивается.
Чем полнее и точнее выявляется в жизненном действии
все заключенное в тексте — только в тексте! — тем менее
необходимыми становятся слова. Причина этого
парадоксального положения в том, что часть текста не является
репликами, диалогом, хотя и высказывается героями
вслух, в разговоре.
Критика Толстым шекспировской речи (люди говорят
языком самого автора) 35 в какой-то степени верна. Однако
именно эти, лишенные характерности (свойственной
действующему лицу) речи расширяют картину мира,
атмосферу истории, воздух событий. Такие слова сами отпадают,
становясь реальностью жизни, природы.
Материал надо отыскивать в самой вещи, а не
выдумывать его. Однако это лишь конечный вывод. «Находить» —
сложное дело: пьеса зачитана до дыр, до пустоты общих
мест. Вычитать жизненное, современно важное непросто.
У каждого режиссера свой подход к работе. Что касается
меня, то опыт научил: чтобы отбилась охота выдумывать,
сперва приходится много выдумывать.
Так я обычно и начинаю — «здорово придумываю»,
горожу невесть что. Видимо, грехи молодости «сцепщика
трюков» (так называли режиссера в «Манифесте» эксцен-
Пространство трагедии
63
трического театра 1921 года), одного из основателей
ФЭКСа, еще не замолены. «Здорово придуманное» потом
отваливается от пьесы, как шелуха, становится стыдно
вспоминать, что подобное пришло в голову. И все-таки
приходило в голову не напрасно. Что-то в самой пьесе
начинает выглядеть иначе: там, где прежде слышалась
риторика, оказывается действие, реальность. Чтобы это
увидеть, необходимо было изменить угол зрения, на время
позабыть все, что считалось основным, выдвинуть на
первый план второстепенное.
Нельзя купировать как раз то, что на
кинематографический взгляд сократить легче всего: размышления героев
вслух. Характеры действующих лиц, казалось бы, понятны
и без этих текстов, поступки говорят сами за себя, а такая
форма театральна.
И все же именно в этих «лишних текстах» — главное:
интеллектуальная атмосфера действия, различие
мироощущений; Лир спорит не только с другими героями, но
и с самими законами мироздания, истории; Эдмонд без
этих текстов — лишь дюжинный злодей; Эдгар —
условная фигура; Корделия, лишенная рифмованных сентенций
(старинная условность?), теряет часть своей поэзии,
обаяние элементарности.
У этих героев не только свой круг мыслей, но и какая-то
основная идея; они со всей силой страсти поглощены
ею. Достоевский называл такое состояние: «уйти в свою
идею» 36. Они все — Лир, Корделия, Эдгар, Эдмонд,
слепой Глостер — «уходят в свою идею».
У Лира это бесконечный путь, сквозь целые пласты
идей; он пробирается, раненный в мозг, вглубь, к
центральному всеобъемлющему противоречию.
«Лишние» тексты — герои крупным планом.
Преимущество кино перед театром не в том, что на
экране можно показать и лошадей. Можно пристальнее
вглядеться в человеческие глаза; иначе нет смысла
пристраивать кинокамеру к Шекспиру.
Сценарий нужно складывать из глыб, а не из сценок.
Появляются очертания глыб, укладов жизни: эхо шагов
в каменной пустыне дворца, церемонные выходы мертве-
64
Пространство трагедии
цов-придворных, занимающих положенные по рангу места;
спины, разом повернутые к тому, кто попал в опалу;
пространство, зараженное угодничеством и страхом.
Кабинет государственных восковых фигур.
Это — королевский мир. Без такой атмосферы все
поведение Лира в начале будет действительно неоправданным.
«Оправдать» поступки короля психологически нельзя
(Толстой прав), но в пространстве истории они
естественны.
Мирок Глостера. Как его определить? Пожалуй,
«дворянское гнездо» какого-нибудь пятнадцатого века: стены,
заросшие плющом, пруд со стоячей, заплесневелой водой,
старик слуга вяжет шерстяной чулок, садовник копошится
в запущенном парке, трещат поленья в камине, барин на
старости лет балуется астрологией...
Жаль, что не может куковать кукушка в старых
деревянных часах и доноситься звук рояля из далеких
комнат.
В такой уютно-патриархальной обстановке хозяину
вырывают глаза.
За дворцовыми залами и комнатами поместий, за
укреплениями и оградами — бедные селения, поля и
крестьянские огороды, истоптанные дороги; бредут нищие
в поисках пропитания.
Нищие, дороги, огороды, поля вписаны во вселенную.
Над миром беснуются тучи, огненная плеть хлещет землю.
Черные, обуглившиеся бревна, щебень, зола — конец
этой истории. На пепелище приходят погорельцы, жизнь
продолжается.
Александр Блок писал, что стихотворение —
покрывало, натянутое на острия нескольких рифм 37. Сценарий
можно начать писать, когда эти острия — точки
зрительных образов — мне отчетливо видны.
Дело теперь за малым: набросить на них покрывало
длиной в четыре тысячи пятьсот метров.
Можно ли сравнить вершины зрительных образов
с концами стихотворных строчек? Пожалуй, нет. В «Лире»
не замки, смыкающие сцены, а скорее перекличка
противоположностей, опровержение предшествующего после-
Пространство трагедии
65
дующим. Если это и рифмы, то «со всей возможностью
смысловой бездны в промежутке» (Марина Цветаева) 38.
Несколько лет тому назад я потратил целый вечер,
чтобы убедить И. Г. Мочалову, критика и театроведа,
отказаться от нелепой мысли стать ассистентом.
— Вы потеряете представление о дне и ночи, вас будут
загонять работой; каждый день паника, аврал,— говорил
я ей.— Посмотрите на телеграммы, которые приходят на
киностудию и отправляются с киностудии, в них только две
фразы: «Ставит под угрозу срыва», «Граничит с
катастрофой».
Убедить я не смог. И. Г. Мочалова трудилась со мной
над «Гамлетом»; теперь она собирает труппу для «Лира».
Первый же разговор с Донатасом Банионисом убедил
меня, что герцог Олбэнский у нас будет; с Эльзой Рад-
зинь — Гонерильей и Галиной Волчек — Реганой можно
пуститься в плавание с легким сердцем. Я не люблю
кинопроб; чем больше кандидатур, тем менее ясно, какая же
из них более пригодна. Первое (самое ценное)
представление об образе вовсе затуманивается.
Кинопробы заставляют меня вспоминать о том, как
в рассказе Аркадия Аверченко пьяный попадал
домой: приложив ключ к животу, он с разгона бросался на
входную дверь, надеясь угодить ключом в замочную
скважину.
Мочалова привозит из Калинина отличного Корнуэ-
ла — А. А. Вокача; быстро нашелся и Освальд —
А. В. Петренко; один его профиль чего стоит. Всех их мы
утвердили сразу же.
— Ну, а Лир?..
Инна Григорьевна уже объехала несколько городов, мы
просмотрели сотни фотографий, сняли немало проб. Лира
пока нет.
Мне, разумеется, понятно, что нет артиста, способного
сразу же создать такой образ; не менее понятно и то, что
если он уже играл эту роль на сцене, то нам это только
помешает. Значит, надо пробовать всерьез.
Так и делаем: репетируем с каждым артистом две-три
недели; съемку назначаем лишь после серьезной
подготовки.
3 Г. Козинцев, т. 4
66
Пространство трагедии
Из письма к одному из артистов
Март 1968 года
...Группа начинает трудиться, как всегда, много
сложностей: оператор Грицюс в Вильнюсе, художник Вирса-
ладзе в Москве; за каждым еще тянется хвост прошлой,
незаконченной работы, что-то приходится доделывать, а у
нас время подготовки уже на исходе.
Я согласен с Вами, что значение начала фильма
огромно. Ввести в мир трагедии хочется сильно, с гулом
набата. Словом, еще до выхода Лира создать саму
атмосферу тирании, безумия (разумеется, не в патологическом
смысле), в которой по-своему естественны поступки
властелина этого мира. Нужно поднять короля на
недосягаемую высоту, а затем свалить его вниз, так, чтобы он
пересчитал своими костями ступеньки всей лестницы,
которую он сам воздвигал. Ему нужно упасть с неба на дно, уже
не человеческого, а животного существования.
Никакой идеализации образа в первой сцене. Все
дальнейшее — возмездие. Наказание нечеловечески
жестоко, но осужден на муки совсем не безвинный.
Из письма к Д. Д. Шостаковичу
Май 1968 года
Дорогой Дмитрий Дмитриевич!
Кажется, подходит обычный срок (не то пять лет, не то
семь), и я опять обращаюсь к вам с той же просьбой:
сочинить музыку для фильма. На этот раз речь идет о «Короле
Лире».
Снимать мы начнем в конце года. Ваше участие
понадобится в конце следующего, т. е. 1969 года.
Мне, естественно, хочется, чтобы Вы согласились.
Пишу о некоторых облегчающих обстоятельствах: музыки
в фильме будет меньше, нежели в «Гамлете», копыт вовсе
не будет *.
* На пробной перезаписи «Гамлета> оказалось, что шумов много
и они чересчур громки.
— Если выбирать между музыкой и текстом,— сказал Дмитрий
Дмитриевич,— я согласен, чтобы слова Шекспира заглушали музыку. Но
чтобы копыта — не согласен.
Пространство трагедии
67
7
Переход от работы над сценарием к началу постановки
ужасен. Ничего не готово. Первые костюмы (подобранные
без Вирсаладзе), наметки грима (на «Ленфильме» кризис:
нет волоса для париков) — ряд ударов, потрясений,
припадков отчаяния. Когда дверь в гримерную открывается,
я готов умереть от стыда: неужели кто-нибудь посторонний
увидит это безобразие?
Иначе никогда не бывает, успокаивает меня режиссер
И. Шапиро (мы трудились вместе и над «Гамлетом»),
всякий фильм (особенно исторический) так начинается:
с пакли, ряженых, ощущения срама. Пройдет время, все
образуется. Ну а если не образуется?..
Первый сшитый костюм. Забираю его и еду в Москву.
В костюмерных Большого театра СССР переполох:
близится премьера «Спартака». Замученный Вирсаладзе —
вчера перепутали окраски тканей, ночью приходится
переписывать заново (всюду свои пригорки и ручейки). Пока
переодеваются наложницы патрициев и рабыни, наш
костюм напяливают на манекен. Солико Багратович
смотрит на него ровно одну минуту.
— Обсуждать нет смысла,— говорит он мне.
Рабыни и наложницы уже готовы, они выходят,
облаченные в туники, подходят к зеркалу, принимают балетные
позы.
Мы продолжаем разговор. Наш единственный сшитый
костюм оказался негодным. Так думаем мы оба. Именно
это обстоятельство, общность представлений, радует.
Важно, почти не говоря о деле и все же разговаривая именно
о нем, посидеть где-нибудь с Вирсаладзе, поболтать с ним
на любые темы, обругать то, что нам обоим не по вкусу.
Так, между делом, за час времени мы передвигаем силуэты
костюмов на четыре столетия: с XI века на XV (самые
общие черты).
Отчетливо вижу картину: грязный закоулок
костюмерной «Ленфильма». Навалены в беспорядке ткани,
толщинки-ватники, гнусно пахнущие кожи, шкуры.
Накурено так, что дышать нечем. Солико Багратович с
папиросой в зубах, не слушая объяснений закройщика, разом рвет
по швам приготовленное к примерке платье; он сам зака-
3*
68
Пространство трагедии
лывает материю булавками; присев на край фанерного
ящика, он подымает с пола газету, рисует на ней огрызком
карандаша покрой. На душе становится легче.
Костюм Лира, конечно, будет. Найдется ли тот, кому
платье придется по мерке?..
Приезжает еще один вызванный нами на пробу артист.
Талантливый, очень опытный человек. И опять, только
войдя в комнату, говорит: «Короля нельзя...»
Сколько вреда наделало это изречение. Ну, хорошо,
окружающие будут играть короля. Вовсю будут его играть,
на полную катушку, на всю железку. Пусть так. Но ведь
и король играет окружающих, даже если их не замечает,
даже если и не обращает на них никакого внимания.
Кто это придумал, что по внешности нельзя судить?
Можно. Разве внешность поэтов не походила на их
поэзию? Вспомним Анну Ахматову, Маяковского, Есенина.
У Шекспира все они — Лир, Гамлет, Отелло — не
только короли, принцы, воины, но и поэты. Поэты по крови.
Здесь, видимо, и скрывается трудность.
Жизненное, обязательно жизненное. Уверен в этом.
Однако между жизненным и бытовым — пропасть. Смогу
ли я удержаться на ее крае?
Режиссер многим может (и обязан) помочь
исполнителю. Но в одном он бессилен: подменить собой личность
артиста. Эта личность вовсе не тождественна его
человеческому существу. Случается и так, что две эти натуры почти
что противоположны одна другой.
Чтобы не повторять в этих записях одно и то же слово,
я иногда пишу «артист», а иногда «исполнитель»,— о чем
идет речь, понятно. Но по существу эти слова обозначают
различный уровень дарования, несхожие качества.
Исполнитель не может стать Лиром.
Отношения режиссера и артиста здесь сложные:
вылепить такой образ нельзя; его можно только вырастить,
вернее сказать, выстрадать — вместе выстрадать.
Проб на главную роль снято уже несколько тысяч
метров. Это почти что целый фильм. В нем участвуют
прекрасные артисты.
Пространство трагедии
69
— Выбирайте, останавливайтесь на одном из них,—
убеждают меня товарищи по работе.— Вы не ошибетесь:
это же мастера, они себя еще покажут. Пора решать.
Нужно сшить настоящий костюм, довести до совершенства
грим, репетировать долго и серьезно — Лир получится.
Нет. Не получится. Не похож.
Что за чертовщина! Как можно определить такую
похожесть? Что, я видел его фотографии или встречался
с ним в жизни? О какой похожести может идти разговор?..
И все же сходства действительно нет ни в одном кадре.
Не внешнего подобия, а родства духовной материи, склада
внутреннего мира — способности стать Лиром.
Окружающие пожимают плечами. В мои молодые годы
такие разговоры назывались (и я сам их так называл)
«шаманством».
Хорошо понимает меня только один человек: Инна
Григорьевна Мочалова. Вместе с ней мы слышим; «Ставит
под угрозу срыва», «Граничит с катастрофой».
Кто-то рассказал, что Лир есть во Владивостоке.
Вызвали: не похож.
Бывают постановки, которые готовишь исподволь:
снимаешь другие фильмы, а неоконченная работа лежит
в записях — выборки из материалов, мысли, кадры. Растут
папки: записи продолжаются. Так я задумывал «Уход» —
фильм о последних днях Льва Толстого. Его уже включили
в план «Ленфильма» 1966 года, но «Лир» оказался более
готовым. Однако случилось так, что обе работы невольно
для меня оказались связанными. Какие-то стороны Лира
я увидел в человеке, не любившем Шекспира, особенно эту
его трагедию.
Я и^ею в виду, конечно, не сходство — внешнее или
внутреннее, а сам калибр человека, масштаб личности;
родство жизненной материи.
Как определить возраст? Старец? Не годится, что-то
благостное, ватное. Старичок? Того хуже, об этом и
говорить нельзя. Преклонный возраст? Нет уж, он ни перед
кем и ни перед чем не склоняется; ничто его не может
склонить.
Очень старый и, одновременно, ничуть не дряхлый:
духовные силы — и какие! — сохранились.
70
Пространство трагедии
...Прямо через лес, минуя дорогу, Лев Николаевич
скачет на своем белом арабе Делире. Ему больше
восьмидесяти лет. Он шпорит коня прямо через чащу, берет
барьер — овраг. Скоро он решит, что не имеет права
владеть конем; ведь он — такой же, как все, ничем от всех не
отличимый.
Так он решил; он, всем от всех отличимый. Только не
внешним величием.
Мейерхольд описывал, как, приехав в Ясную Поляну,
он затаив дыхание ожидал его выхода. И чуть не прозевал
его: он смотрел на верх двери, будучи уверен, что появится
великан, а вышел старик небольшого роста 39.
Лир говорит о том, что он король с первого взгляда, что
каждый его вершок король. Эту фразу иллюстраторы
воспринимали всерьез; они рисовали величественного
старца, одного из рода титанов.
Фраза ироническая. Сила иронии — одно из качеств
его ума. Масштаб его личности не в облике, а в смелости
мысли, мощи духовного отклика.
На что же посягает его мысль? Прежде всего на то, что
он сам считал основой мироздания,— на особенность его
личности, символа власти. Героическое, если уж
употреблять здесь это слово, в том, что он, бывший верховный
владыка, осознает и разоблачает до конца абсурдность
власти, ничтожность ее дел, лживость слов.
Героическая личность с самого начала? Нет. Скорее
трагедия личности, возомнившей себя героической. Он
становится велик только тогда, когда понимает, что он —
такой, как все. Был ли на свете деспот, способный в конце
жизни осознать это?..
Лира в начале событий еще нельзя увидеть: видна
маска власти в ее отвлеченном, мистифицированном
качестве. Его слова и действия будто бы непостижимы обычным
человеческим рассудком, близки к божественным. Богопо-
добность мигом оборачивается слепотой и глухотой,
мертвыми глазами тирании, драконьим рыком деспотизма.
Грубая жестокость, приговоры без суда и следствия, все
эти изгнания «с проклятьем за душой», посулы смерти за
попытку вести себя, как подобает человеку,— что в этом
возвышенного, величественного?..
Пространство трагедии
7!
Есть у Марселя Марсо пантомима «Магазин масок»:
покупатель заходит в лавку, чтобы купить личину; он
меряет их одну за другой, приставляет к лицу, смотрит на
себя в зеркало, снимает, надевает новую. Но последнюю,
что он примерил, снять уже нельзя: она приросла к лицу.
Ужас охватывает мима, двумя руками он хватается за
края маски, он напрягает силы, маска душит его.
Лир срывает с себя маску власти, он отдирает ее. Тогда
становится видно лицо: страдания сделали его
прекрасным, человечным.
Библейские ассоциации меня мало увлекают. Не
помогут мне ни титаны Микеланджело, ни божества Блейка,
парящие в мироздании; никто из них не объявил бы: «Га,
мы все поддельные». Титаны для этой трагедии — штамп,
не меньший., чем «гамлетизм» Гамлета.
Все же на фреске Микеланджело есть изображение,
заставляющее вспомнить о Лире: художник включил в
галерею лиц «Страшного суда» и автопортрет; он написал
свое лицо на коже, содранной с тела св. Варфоломея.
Таким автопортретом власти на собственной коже,
содранной заживо, кажется мне монолог безумного короля о
правопорядке в его государстве.
Все начинается с театра — нарядов, притворства,
бутафории (карта, гербы), искусственных фраз и нарочитых
поз. Конец наступает в реальности, на грязной, залитой
кровью земле. Ветер давно уже сорвал театральные
костюмы; дождь смыл грим с лиц.
Встреча Лира с Корделией после безумия —
возвышенна не по обстановке, а по тому, что происходит в
человеческой душе, когда из нее ушло ничтожное, мнимое.
Сцена полна поэзии. Именно поэтому нужно снимать ее
в самых обыденных, будничных условиях; таких, в каких
она могла бы произойти.
Идет война. На площади только что занятого города
усталые солдаты распрягают коней, раскладывают костры,
перевязывают раны. Как могли перевозить старика в
военных условиях? Скорее всего на походной телеге, уложив
на сено, покрыв попоной.
72
Пространство трагедии
Грязь, оружие, конский навоз. Молодая женщина
наклонилась к старику.
По пьесе доктор Корделии велит оркестрантам играть
какую-то музыку: гармония поможет настроить
расстроенную душу. Ну, а если вместо музыкантов к солдатам
привяжется шут — оборванный, измученный, он долго
брел вместе с хозяином по нелегким дорогам войны.
Добрел, еле живой, и до этой площади.
Свистит печальная дудочка; греются у костра
измученные, окровавленные солдаты; конюхи ищут, где бы
напоить лошадей; очень старый человек слезает с телеги,
он становится на колени перед молодой женщиной; она
тоже стоит на коленях, просит у него благословения.
Порыв ветра, как взмах крыла.
Нужно только выбросить из головы, что женщина —
французская королева, а старик — король Британии;
теперь это уже не имеет значения.
Стоит задуматься над тем, что происходило, как
говорят в театре, «до выхода из-за кулис», и от кулис ничего не
остается: люди входят не в декорации, а в жизнь.
Жизнью — материальным — могут, должны стать и самые
отвлеченные метафоры бури.
Как? Каким образом?.. Я отчетливо вижу возможности,
но еще не знаю способа выражения.
Более понятны мне, даже в деталях, скитания Лира, его
жизнь среди нищих горемык. Кадры горькой правды,
которой научили русские писатели прошлого века.
Нежными, акварельными красками для изображения «Мертвого
дома» они не пользовались. Один только тон, серый —
тюремных армяков, мутная мгла бараков, непролазная
грязь этапов.
Содержание трагедии, когда я думаю об этих сценах,
кажется мне таким простым и ясным. Простым и ясным,
как в послорицах. Сколько их, пригодных для этого
случая.
«Все мы люди, да не все человеки».
«Аль в людях людей нет?»
«Много народу, да людей нет».
А вот определение действия: «Через людей в люди
выходят». «Оттерпимся, и мы люди будем».
Пространство трагедии
73
Есть и менее оптимистические: «Будет в поле рожь,
будет и в людях ложь».
Я писал о масштабе душевных движений Лира, о силе
отклика, глубине «раны в мозг». Это как крик в
совершенной тишине, вопль в безмолвии.
Нет нужды принимать за риторику обращение Лира
к небу, стихиям: с кем же еще можно разговаривать в этом
немом, бездушном мире, где за человеческое слово, за
правду он сам грозил казнью?..
Так завязывается разговор с грозовой тучей, с ветром.
Собеседники отвечают, пожалуй, чересчур громко, но
беседа налаживается: диалог, а не монолог.
В роли много таких мест: перебранка со своей тоской,
обмен репликами с болью в сердце. Нужно же с кем-
нибудь общаться.
Играть такие положения следует так же, как обычные:
естественно, действенно. Они и создают важную грань
образа; Достоевский называл ее фантастичностью.
«Фантастический реализм». Вот что переводит в другой план
мелочность, бездумие быта.
С интересом к быту дело в искусстве непросто;
«физиологические очерки» иллюстрировал Домье, издавал
Некрасов; сама ничтожность быта, осознанная как трагическая
сила, многое дала русскому искусству. Пошлость,
вскипающая до края жизни, переливающаяся через этот край
в бесконечность времени и пространства, неотделима от
трагической силы Гоголя; ветер в «Двенадцати» Блока
несет и шелуху семечек, и обрывки уличных фраз,
пустяковые детали сливаются в «едином музыкальном
напоре» 40 (определение самого поэта) с державным шагом
отряда, видением Христа.
В таких связях и неуловимых переходах весь
Достоевский.
«...Ловлю всякую ерунду и сумму всяких мелочей
жизни синтезирую...»,— писал Мейерхольд41.
Значение жизненного в самых, казалось бы,
ничтожных, низменных формах у Шекспира огромно. Работая над
шекспировскими переводами, Пастернак открыл в
подлиннике признаки торопливости сочинения: невыправленные
описки, явные повторы. Именно это показалось ему важ-
74
Пространство трагедии
ным, позволило не только ближе узнать автора, но и
представить себе условия его труда: «Его реализм увидел
свет не в одиночестве рабочей комнаты, а в заряженной
бытом, как порохом, неубранной утренней комнате
гостиницы» 42.
Если ограничить себя кругозором внешних мелких
примет, что можно увидеть? Однако мнимая широта лишь
«главного», «важного» — не меньшая убогость мысли.
Жизнь заряжена бытом, уйти от него некуда; только его
убойная взрывная сила оставила далеко позади себя
порох.
Золотая корона — нехитрая аллегория власти,
бутафория, которой щеголяют театры; власть у Шекспира —
бесчеловечная обыденщина, угнетающая повседневность
грызни за власть.
Страдание занимает значительное место в этой
пьесе; иногда оно вызвано физическими мучениями, иногда
нравственными. Чувство стыда у Лира почти
непереносимое.
То, что он просыпается после болезни,— и жизненная
ситуация, и метафора: проснулись естественные
человеческие чувства, первое из них — стыд. Тот, кто был королем,
находит в себе силы стать на колени перед младшей
дочерью, просить у нее прощения.
Гонерилья, Регана, Эдмонд, герцог Корнуэлский не
только бессердечны, но и бесстыдны. Седина Лира для
Освальда ровно ничего не значит. Он мог бы испражняться
в чужой комнате, если бы не опасался, что его заметят
и поколотят за нарушение приличий: за внешнее
нарушение внешних приличий.
Все они уже давно потеряли стыд. У старших сестер не
любовь к Эдмонду, а свирепая похоть. Они готовы
перегрызть друг другу глотку из-за любовника. На сцене это
сыграть нельзя. На экране — во время войны — нужно без
церемоний устроить собачью свадьбу на фоне огня, железа
и крови.
Эти роли не должны играть привлекательные молодые
артистки; подальше от «вамп», от интеллектуально-
изысканной сексуальности; будет стыдно, если именно
такие сцены помогут «кассовому успеху». Нет, уж лучше
Пространство трагедии
75
обойдемся без приманок; завлекательного здесь ничего
нет — грязное, гнусное, пошлое.
Стыд очеловечивает; от бесстыдства люди скотеют.
Потеря стыда помогает сделать карьеру; бесстыдство горы
ворочает.
В дневниках Толстого последних лет часто повторяется
одна и та же запись: так жить стыдно.
Из письма к артисту
Август 1968 года
...За время репетиций определились некоторые
опасности, хо'Чу Вам о них написать.
Еще при встречах я сказал Вам, что начинать труд
с сокращения текста (и так купированного)
преждевременно. Я заинтересован, чтобы Вы нашли в тексте то, что
зацепляет Вашу фантазию, движет Вашу мысль и чувство.
Но крючки не просто отыскать. «Ужас охватывает меня,—
писали Вы,— перед горой этого образа». Естественное
чувство. Каждый, кто думал о Лире, испытал то же.
Подъем на гору труден и мучителен. Что тут сделаешь?
Гора есть гора. Можно, конечно, поступить иначе,
сравнять ее (в собственном представлении) до невысокого
холма; тогда подъем не составит труда. Гора при этом
останется в стороне, вдали. Мы не приблизимся и к ее
подступу.
Нужно отличить подлинные трудности от мнимых
опасностей. Вы часто говорите мне: эта фраза непонятна.
Шекспира играют у нас во всех республиках в переводах,
вероятно, менее совершенных, чем русские
(шекспировская традиция в России насчитывает долгий век), но
я никогда не слышал, чтобы спектакли проваливались из-
за непонятности.
В шекспировских пьесах — как и во всем, что создали
люди,— какие-то стороны близки художникам одной
нации или эпохи, иные — другим. Нам, как мне кажется,
менее близки риторичность, усложненность метафор; эта
часть текста в сценарии купирована.
Смысл открывается только в общем движении, только
в развитии целого; искать его в отдельной фразе нельзя.
76
Пространство трагедии
Необходимы реальность и естественность; кто теперь
станет это оспаривать? Однако реальность и естественность
поэтического образа, а не житейского характера, который
сразу же виден как на ладони, ясен каждому. Дело не
в неясности текста, а в духовной сложности старика
«восьмидесяти с лишком лет», со всей темнотой его заблуждений
и ослепляющим светом прозрения; детской наивностью
и глубиной мудрости; древним суеверием и остротой
современной иронии.
«Повторы» напрасно Вас беспокоят. Их нет. Если бы
Гамлет не повторял бы, множество раз не повторял бы:
«месяц с небольшим», «двух месяцев не будет» и т. д.,—
нечего было бы играть в первом монологе. Почти
маниакальное возвращение мыслей ко дню поминок по отцу
и дню свадьбы матери-вдовы, краткости перехода — есть
не только обида сына, но и ужас от примет нового века; тут
начало нравственной и философской темы.
Лир много раз спрашивает себя об одном и том же
(«Так ходит Лир? Так говорит?..» и т. п.) > Это не
однообразие, а затягивание процесса осознания; мучительно
признать свою ошибку; еще мучительнее — реальность таких
отношений, такого мира. Нарастание чувства не похоже на
сжатие пружины и мгновенное ее освобождение (у
актера — взрыв, крик в голос); скорее это чередование волн, то
набегающих, то откатывающихся. Выплеск нам не только
не нужен, но, напротив, вреден; крик и плач — не лучшие
средства. Мы уже говорили с Вами, что роль, условно
говоря,— «тихая».
Вы придирчивы к переводу. Напрасно. Прозаический
пересказ стихов и критика подстрочника —
неубедительны.
В период отрицания поэзии Лев Толстой упрекал
одного поэта не только в незнании жизни деревни
(крестьянину нечего радоваться приближению зимы), но и в
дурном русском языке (нельзя сказать «плетется рысью как-
нибудь», нужно «кое-как»); как Вы понимаете, речь шла
о Пушкине.
«Проясняя» текст, нетрудно получить сюжет отца,
обиженного плохими детьми, рыдающего на груди хорошей
дочери. Где же здесь право на обращение к человечеству,
спор с мирозданием, мука познания реальности?..
Пространство трагедии
77
Из письма к С. Б. Вирсаладзе
Октябрь 1969 года
...Некоторые сомнения вызывает у меня только
парадное платье Гонерильи. Тут моя вина. Я Вас попутал
разговором о спектакле, который она задает отцу, выходя
к обеду нарочито торжественно, уже как государственная
фигура, как власть. Положение нужно выразить самой
сценой, а не платьем. Все внешне парадное противно
нашему фильму. Лучше пусть будет баба в засаленном халате.
Нет ничего условнее представлений о всех этих «дворах
герцогинь». Убежден, что в любом замке XV века были
свои нравы коммунальных квартир; были и герцогини, не
отличающиеся от кухонных фурий.
Мне очень понравилось глухое, темное платье Реганы;
хорошо, что лицо белым пятном выступает из черной
повязки; оно напоминает маску. Лицо — настоящее, без
грима — появится позже. "Хочется усилить и другой
контраст. Еще более отяжелить, увеличить силуэт Лира
в первом выходе; так, чтобы к «буре», когда он теряет
верхнее платье, открылось, что он небольшого роста, худой
старик; маленький по сравнению с тем, каким он выглядел
(казался) в полном одеянии. Ничего больше его не
украшает, не делает отличимым от других людей...
Красота, да еще с роковым отливом и инфернальным
привкусом, убийственна для таких образов, как Гонерилья
и Регана. Регана говорит отцу, что у нее нет запасов, чтобы
содержать его с компанией; Гонерилья обрушивается на
мужа с грубой бранью, как базарная торговка.
Ужасающая обыденность этих похабных и бездушных баб.
Евгений Львович Шварц* большой знаток всего
сказочного, утверждал, что ведьмы не перевелись на свете: они
существуют и отравляют жизнь соседям по кухне. Такая
дьяволиада ближе к старшим сестрам.
Не приведут ли меня такие мысли к тому, что исчезнет
эмоциональная основа сцен, ужас происходящего?..
О фильмах ужасов. В одной из таких картин зрителей
вовсю пугали чертовщиной; руки вытягивались из стен
78
Пространство трагедии
и тянулись к девице, помешавшейся на каком-то
комплексе; наводили страхи ночной темнотой и ночной пустотой;
заставляли содрогнуться от блеска лезвия бритвы,
сверкавшего в лунном свете... Все там было. Я, к сожалению,
оказался плохим, невосприимчивым зрителем. Волосы
упорно не подымались дыбом. Но вот в каком-то кадре
героиня открыла кран и, терзаемая чем-то зловещим,
забыла его закрыть. Вода лилась, переполняла ванну,
заливала пол...
Я покрылся холодным потом: ужас перебранки с
жильцами нижнего этажа, неизбежность ремонта, запивший
маляр... Кошмары душили меня. Оживали картины одна
страшнее другой; леденея, я уже не мог оторваться от
экрана.
Иногда хочется начинать не со слов, а с походки. Сами
движения, жизненный ритм Корделии должны быть иными,
чем у всех, ее окружающих. Она — существо иной породы,
иной природы, иного вида.
Как бы определить суть этого различия? Различия,
которое и выявлять не следует, настолько оно очевидно.
Здесь все живут, затаив дыхание, замерев, как по стойке
«смирно». Корделия — всегда «вольно»; пусть и в самые
страшные для нее минуты — все равно «вольно». Она и под
угрозой смерти не вытянется ни перед кем, не проглотит
аршин. «Вольно» — ее жизненная позиция, не выбранная,
а врожденная. Такой ее создала природа, потому что
природу — в этом случае — не исковеркали, не удалось
исковеркать; затоптать, убить можно, а исковеркать нельзя,
никому не под силу.
Нет оснований бояться, что в роли немного красок. Зато
сколько оттенков у этого «вольно». Естественность
дыхания — да это целая программа жизни.
Ее поэзия буквально во всем противоположна поэзии
Офелии. Та — хрупкость, нежизненность, совершенное
отсутствие силы сопротивления. Тепличный цветок, нежный
и блеклый, выращенный в железных оранжереях Эльсино-
ра. Трагедия покорности.
Корделия не помышляет о бунте; ей и мысли такой
прийти в голову не может. Но она сама — нетронутой
своей естественностью — мятеж. Самая обыкновенная,
Пространство трагедии
79
здоровая, правдивая девушка — да это восстание,
баррикада, перегородившая дворец.
Пусть выведет ее на церемонию чопорный черный
манекен, профессор притворства; ее воспитывали на Гоне-
рилью и Регану, но ученица оказалась из рук вон плохой;
«неподатливый материал», как огорчаются педагоги,
«природных данных вовсе нет». И ничему она не научилась: ни
вести себя, как должно принцессе, ни изъясняться, как
подобает наследнице престола. Пусть она и вечернего (то
есть придворного) платья толком носить не умеет —
слишком широкий шаг.
Медленно, будто под гипнозом вечного страха,
движутся — даже не движутся, а как бы незаметно
передвигают себя (будто фигурки в мультипликации) —
придворные. А она, бегом по лестнице, кубарем, как деревенская
девчонка. Высокая, загорелая, крепкого сложения.
Какая уж там принцесса!..
Конечно, французский король выбрал ее, он же не
слепой.
Однако любовь эта особая. Французский король
приехал сюда не из сказки; он — глава государства; ссора
с ним Лира — дипломатический акт. Телеграфные
агентства наших дней передали бы о событии по телетайпу:
французская делегация в полном составе демонстративно
покинула зал заседания.
Образ не вырисовывается постепенно, а наваливается
на тебя со всех сторон. Это фотографии так проявляют —
не торопясь ждут, чтобы выступили на
светочувствительном слое более плотные тени, затем помягче, а вот и все
изображение становится отчетливым. Образ то
приближается, то исчезает, меняет очертания, распадается на части;
рассеченные плоскости, срезы фаса и профиля разом — все
пересекается, членится и выстраивается в новой
закономерности, как на кубистической картине.
Так появляются — сперва без связи — интонация
фразы, вырвавшейся откуда-то из середины текста, сказанная
(слышимая) вопреки прямому смыслу текста;
оглушающая немота зала; жест, начатый и оборванный;
тень от предмета на каменной стене; одни глаза, а еще ли-
80
Пространство трагедии
ца не видно; грубые, скрученные нитки, ткань будто
рогожа...
К этому герою у меня особое пристрастие. С детства
я увлекался клоунами. У меня целая полка книг о
пантомиме и комиках; в свое время только Эйзенштейн мог бы
поспорить со мной своими приобретениями. На стене моей
комнаты висят две гравюры начала прошлого века: Джоэ
Гримальди («Микеланджело клоунады», как именовали
его историки театра) разгуливает в ведрах со шпорами —
вместо сапог, и он же лягушкой прыгает через партнера.
Это подарок Сергея Михайловича в день премьеры
«Возвращения Максима».
Итак, «История комического гротеска», «Шуты
королей», «Скоморохи», монографии о бродячих комедиантах,
«Маски и буффоны»...
Ничего из этих книг пригодиться не может. Ровно
ничего, ни малейшей детали. Однако время, отданное
поискам источников, все же не потрачено зря. Как раз то,
что исторические материалы никак не совпадают, на мой
вкус, с «Лиром», дает направление мысли: оставить без
внимания именно то, на что раньше обращали особое
внимание.
Нужно упереться веслом в землю и оттолкнуться от
берега посильнее, чтобы лодка пошла по воде, чтобы берег
вовсе исчез из вида.
Убрать из роли шута все, связанное с шутовством. Ни
ужимок, ни гримас, ни пестрого костюма, ни колпака с
петушиным гребешком. И погремушки тоже не надо. Ника-:
кой эксцентрики, ни малейшей виртуозности в пении
и танцах.
Вот самое удивительное положение: хохочут вовсе не
потому, что он шут, а оттого, что он говорит правду.
Деревенский дурачок. Мнимый дурачок.
Не король и шут, а сильный и слабый, богатый и нищий.
Самый возвышенный и самый униженный. Самый
униженный говорит самому возвышенному, что тот — дурак,
потому что не знает своих дочерей. Все хохочут. Но это —
правда. Ничего смешнее правды для них нет. Гогочут над
правдой, пинают правду сапогами на потеху, держат
правду в псарне на посмешище.
Пространство трагедии
81
Шут — как собачонка. Огрызается, как собачонка.
Так появился костюм, идея костюма: никаких
атрибутов шута, нищий, драный, в собачьей шкуре наизнанку.
Мальчик, стриженный наголо.
Искусство при тирании.
Мальчик из Освенцима, которого заставляют играть на
скрипке в оркестре смертников; бьют, чтобы он выбирал
мотивы повеселее. У него детские замученные глаза.
— Все-таки,— сказал мне Вирсаладзе,— хоть какой-
нибудь знак профессии у него должен быть.
Останавливаемся на самом незаметном: бубенчике,
привязанном к ноге. Отличие не столько видимое, сколько
слышимое. Примета в звуке. Перед появлением шута
негромкое бренчание. Нечто вроде позывных:
радиослушатель знает, что сейчас начнется передача, нужно точнее
настроиться на волну.
Прошу Д. Д. Шостаковича написать небольшой номер:
бубенчики шута. Дмитрий Дмитриевич* присылает
отличную музыку: ксилофон и бубен. Мне она очень по душе, но,
к сожалению, слишком отчетлива музыкальная форма,
законченность номера. Получится не опознавательный'
знак, а музыкальная характеристика.
Я чувствую свою вину. Не следовало мне беспокоить
композитора. Нужен простой бубенчик. И только. Еле
слышный звон. Тихий, но настойчивый. Упорный, не оста-
новимый... Звон, слышащийся в вое ветра, в шуме дождя.
Дурацкая погремушка звенит в буре, гремит над землей.
Набат дурацкого бубенца.
Это — позывные совести.
Обед у Гонерильи, герцогини Олбэнекой. Вышколенная
прислуга бесшумно придвигает стулья; чаша с ароматной
водой для ополаскивания рук; мгновенно поданное
полотенце; еле заметный знак — негромкая, услаждающая
слух музыка; кушанья на золотых блюдах; кувшины с
вином наклонились над кубками.
Если не задерживать внимания на утвари, то
обстановка ужинов в «Карлтоне» или «Савое».
Почти сразу же старшая дочь грубо оскорбляет отца;
отец не остается в долгу, проклинает ее страшными про-
82
Пространство трагедии
клятиями. Все при свидетелях, на глазах у лакеев. Нечто
вроде массовых скандалов у Достоевского: фиглярниче-
ское безобразие, выкрики в голос, искаженные лица.
Неприличие не меньшее, чем на поминках по Мармеладову.
Правая рука герцогини, Освальд, не просто дворецкий,
а Услужающий с большой буквы, генерал-холуй, гладкая
сытая дрянь, сволочь в полном соку.
Связным между Гамлетом и смертью оказался Оз-
рик — эльсинорский недоросль, ничтожество с выспренной
речью. Вместе с Освальдом в историю (государственную
историю!) входит хам. Он первый, с кем столкнулся Лир
в реальном мире. Действительность начинается с того, что
старику показывают спину: человек, отдавший власть,
должен узнать, что он перестал быть человеком. Дело,
приказ хозяйки, делает хам; эта работа по его
специальности; хам высокой квалификации. Доктор, а может быть
и академик хамских наук.
Круги трагедии расширяются: после музея восковых
фигур королевской власти (дворец Лира) — планета
холуев. Лабиринт лакейства, где запутался, не может найти
выхода очень старый человек. Несмотря на внешний блеск
и пускание пыли в глаза, на всем дворе Гонерильи
отпечаток тусклого безличия, единообразия бессловесных
лизоблюдов.
В стороне от событий, на верхнем этаже — библиотека.
Кроме одного человека, сюда никто не заходит. Герцог
Олбэнский в тишине книгохранилища — важный кадр,
многое им объяснится.
Как различно то, что окружает героев.
Сто бездельников голубых кровей — рыцари Лира; сто
рослых, сытых подхалимов — прислужники Гонерильи; сто
мастеров на разбой и мокрое дело — охрана герцога Кор-
нуэлского. Сто книг — и свита, и окружение, и
охрана герцога Олбэнского; цифру я, разумеется, беру
условную; разбойников и угодников в этой истории больше, чем
книг.
Донатас Банионис — самый занятый артист, кажется,
все главные роли на всех студиях предлагают ему. И все
же, к моей радости, он согласился играть небольшую роль
Пространство трагедии
83
герцога Олбэнского. Она нам обоим по душе. Мы
постараемся подробно показать все то, что только намечено
в пьесе: душевное благородство, житейскую
непрактичность. Вернее, нежелание быть житейски практичным. Это
важное различие между понятиями. Он вовсе не безволен
от природы, но ему хорошо известна цена проявления воли.
Такой ценой он расплачиваться не хочет. Гонерилье все
это, конечно, не понять: муж — «молочный трус», куда ему
выбраться из-под ее каблука. Она ничего в нем не
понимает. Придет время, и с тяжестью на сердце он спустится из
библиотеки в мир: будет судить, думать о том, как
накормить людей, дать им кров.
У него хватало воли отказаться от борьбы за власть,
отойти в сторону. Потом пришлось взять власть в свои
руки. Он сделает все, что требует от него — не время,
а совесть. Станет ли герцог хорошим правителем?.. Вряд
ли. Выть с волками по-волчьи он не умеет. Он сохранит
человеческий голос.
Душевную близость артиста понимаешь не только
тогда, когда он играет, а когда он лишь слушает твой
рассказ о герое. Понимаешь: клюнуло. Это наш общий
герой.
Получается так, что какую-то часть жизни
действующих лиц, иногда как раз ту, о которой в пьесе говорится
вскользь или вовсе умалчивается, мы будем снимать
подробно; зато некоторые знаменитые места станут в фильме
проходными или попросту отпадут.
Это не наш произвол. Люди, написанные Шекспиром,
этого требуют; мы только вслушиваемся в их голоса.
Корделия настаивает, чтобы мы задержались на ее отъезде,
показали венчание с французским королем; герцог Олбэн-
ский считает важным каждый свой взгляд во время
раздела королевства; старшие сестры не хотят вслух
говорить о своей страсти к Эдмонду, о ревности друг к
другу; они хотят не говорить, а действовать,
встречаться с любовником на грязных дворах замков, в пекле
войны.
Попробуй совладай с ними.
84
Пространство трагедии
Октябрь 1968 года
Сегодня, после многих тяжелых месяцев, после неудач
стольких проб, я, наконец-то, увидел на экране глаза: те
самые глаза.
Его внешность совершенно не подходила к этой роли:
небольшой рост, маленькая голова, излишняя нервность.
В довершение всего он не только плохо говорил по-русски,
но и лишь отчасти понимал русскую речь.
Инна Григорьевна Мочалова предложила его
кандидатуру на юродивого бродягу, прототипа бедного Тома; его
облик перенимает Эдгар, скрываясь от преследования.
Разумеется, он подходил (да еще как!) для бедного Тома.
Юри Ярвет согласился исполнить эту роль, хотя размер ее
был крохотным. Не представляло трудностей и озвучание:
вместо текста — нечленораздельные выкрики.
Но теперь мне было не до одного из табора нищих: все
пробы на Лира оказались безрезультатными. Я неделями,
иногда и месяцами, репетировал с хорошими артистами;
менялись десятки гримов. Лира я не узнавал. Мне еще не
посчастливилось увидеть ни горькой иронии, взращенной
страданием, ни мудрости, порожденной безумием.
У одного артиста получался накал гнева, у другого —
глаза безумца; во внешности третьего были
значительность, странность; четвертый был умным и начитанным
человеком. Все они были талантливыми людьми, сыграли
с успехом множество трудных ролей. Но на Лира они не
были похожи. Мы расставались в добрых отношениях: я не
скрывал своего мнения; никогда, работая с одним, я не
репетировал одновременно, за его спиной, с другим.
И вот начались угрызения совести: я легкомысленно
взялся за картину, не зная, заранее исполнителя главной
роли. Имел лия на это право? Уже шились костюмы,
началось строительство декораций на натуре. А исполнителя
главной роли не было. Не дай бог режиссеру попасть в
такое положение.
Предложение вызвать Ярвета на пробу Лира вызвало
общее недовольство. «Хорошо. Потратим зря деньги на
железнодорожный билет»,— сказал мне директор
съемочной группы. Кажется, ни один человек, кроме Мочаловой,
не поддержал меня.
Пространство трагедии
85
Ярвет мне потом рассказал, что и он приехал на пробу,
ничуть не веря в серьезность наших намерений. «Обычные
кинематографические дела,— шутил он,— но Ленинград
красивый город; кроме того, хотелось купить апельсины
для детей; кажется, их там продают. Отчего не
приехать?..»
Странно складывались наши отношения. Переводчика
не было. Юрий (Юри) Евгеньевич стеснялся мне сказать,
что он не понимает меня, а я делал вид, будто понимаю
(«в общем») то, что он пробовал высказать с помощью
нескольких фраз.
И что за чертовщина! — мы понимали друг друга. Я со
все большим интересом всматривался в его лицо, в жизнь
глаз; теперь я видел его иным: огромный лоб, морщины,
которые делают мужское лицо прекрасным, печаль,
ирония. Кого же он мне напоминает? Ну, конечно, портреты
Вольтера, горькую иронию, мудрость Европы.
К пробной съемке (мы* решили не репетировать
заранее) он выучил несколько фраз из какого-то монолога.
А потом мы придвинули камеру поближе к его лицу. В
павильоне была грязная стенка, кухонный стол. На стол
ассистент поставил свечу. Видимо, для приличия: все-таки
историческая картина. Я попросил Ярвета первое, что
пришло в голову,— задуть свечу, не торопясь посмотреть,
как будет тлеть фитиль, как вьется, исчезает струйка дыма.
И подумать о смерти. Задание, откровенно говоря, не
кажется мне теперь осмысленным. Ну, а что другое можно
было придумать в таких обстоятельствах?
Я посмотрел на Ярвета. Я узнал Лира. Похож.
Личность артиста (человека я еще совсем не знал)
показалась мне настолько привлекательной, что любые
трудности не пугали. Главной из них было незнание
русского языка. Ну, что же, будем дублировать. Глаза ведь
озвучивать не надо. Глаза сохранятся «в подлиннике».
Надо сказать, что даже обычное озвучание всегда было
для меня пыткой. Множество неуловимых оттенков
естественной речи, схваченных синхронной съемкой,
неминуемо исчезает при озвучании. Я предпочитал посторонние
шумы, неясность речи, что угодно, только не высохшие
слова озвучания. Теперь придется переучиваться, узнать
86
Пространство трагедии
новую для меня технологию. Прежде всего необходим
эстонский текст, равный по длине каждого слова
(количеству слогов) русскому. Мы посылаем заказ эстонским
дубляжникам. Ярвет уезжает домой в Таллин учить этот
текст. Я уже несколько раз с ним встречался. На душе
хорошо: Ярвет понимает меня с полуслова — я это вижу по
жизни его глаз. Перевод идет лишь с русского на
эстонский; Юрий Евгеньевич пока молчит, пишет на полях
сценария.
Режиссер обязан не только объяснить свой замысел, но
и приблизить его к артисту. Нужно говорить, показывать,
налаживать всеми способами духовную связь. Если
чувствуешь, что отклика нет — меняешь словарь, ищешь
новые сравнения. Иногда так хорошо приспособляешься
к чужой лексике и уровню понимания, что однажды —
после такого изложения — с ужасом замечаешь: угасает
поэзия, образ, который ты столь£о лет любишь, как-то
тускнеет, отдаляется от тебя. И становится стыдно
собственных слов, которыми ты о нем говорил. Одумываешься,
теперь тебе ясно, что у артиста (пусть и хорошего)
духовная несовместимость с тобой, а может быть и с автором.
У нас с Ярветом полная духовная совместимость.
С каждым днем я все больше в этом убеждаюсь. В «Лире»
мы любим одно и то же.
Юрий Евгеньевич приезжает из Таллина. И сразу же —
полная неожиданность: эстонский текст готов, но
произносить его Ярвет не хочет. Торопясь и волнуясь, переводчик
еле поспевает за ним, он объясняет, что технически дуб-
ляжная укладка точна, но художественно —
отвратительна, антипоэтична. Само задание такого рода убийственно
для поэзии. Произносить такой текст даже и на родном
языке невозможно. Нужно научиться говорить (пусть с
акцентом, пусть коверкая) прекрасные стихи Пастернака.
Я обращаю внимание на красоту эстонской речи
Ярвета, музыкальной и одновременно совершенно естественной.
Начинается нечеловеческий труд, мучительное
преодоление чуждых созвучий.
Уходя с репетиции, Юрий Евгеньевич говорит
стесняясь, не глядя на меня, что он отдаст этой работе все силы.
Говорит запинаясь, ошибаясь в звуках, но по-русски. Нет
ни одного партнера по репетиции, который бы потом не
Пространство трагедии
87
отозвал меня в сторону и не сказал бы, радостно улыбаясь:
Лир у нас есть.
Хорошо, когда уважение товарищей по работе
завоевано сразу же — талантом и трудом, а не амбицией.
8
Январь 1969 года
В моей работе были свои приливы и отливы. Теперь,
кажется, прилив. После отпуска, месяца жизни в
Кисловодске? Или после работы с Ярветом?
Каждый вечер свободного месяца я ходил в кино.
Нужно все же посмотреть, какие фильмы снимаются.
Оказалось, что главным образом детективы. Что за
странная мода? И почему она пришла именно теперь?
Задумывая «Юность Максима», мы с Траубергом сразу
же уговорились, что не используем в сценарии ни «тайн
конспирации», ни загадочных провокаторов, ни побега из
тюрьмы. Почему? Ведь все это действительно было, имело
место в истории революционного движения. Разумеется,
было. Но такое же случалось в жизни других партий, даже
и куда более эффектное, а то и попросту в «Клубе
червонных валетов». Существо революционного дела, его
нравственный смысл заключался ведь не в этом.
Теперь как раз то, что казалось нам пошлым, пошло
в ход. И какой!.. Внешнее действие вовсе вытеснило
духовное; смысла в таких фильмах оставалось уже очень
немного.
«Говорят — «приключенческая литература»,— писал в
свое время С. Я. Маршак.— Что такое наша
приключенческая литература? В лаборатории Павлова условными
звуками вызывали у собак желудочный сок, а потом не
кормили их... Научились условными звуками вызывать
у читателя желудочный сок, вызовут — и не накормят
ничем».
«Какая огромная разница между стихом груженым
и тем, который идет порожняком,— говорит он дальше.—
Страшно подумать, что «Льются песни над лугами...»
формально написаны тем же размером, что и «Жил на
свете рыцарь бедный...»
Один состаб идет порожняком, другой — груженый» 43.
88
Пространство трагедии
Пожалуй, лучшего определения существа различия не
придумать. Порожняк или груженый? Разумеется, не тем,
что бесхитростно называют «содержание» (а что же в
искусстве бывает кроме него?). Мы все еще привыкли
вытаскивать цитаты из диалога и, комбинируя их,
радоваться: смотрите, на какую важную тему поставлен фильм.
Только сила отклика, глубина чувства наполняют
жизнью образ. Яблоки в фильме Довженко 44 не сняты, а
выращены всей его жизнью, начиная со «святого
босоногого детства» (его слова). Искусство отражает жизнь.
Разумеется. Каким же способом происходит это отражение?
Только одним: силой отклика, страданием, состраданием.
Пейзажи должны быть не сняты, а выстраданы.
Относится это ко всем жанрам. Лучшие страницы мемуаров
Чаплина посвящены нищете его детства; он подробно
вспоминает годы холода и голода; у Пикассо был голубой
период,— пишет он,— у нас — серый 45.
В одном из наших фильмов — ничего дурного в нем не
было, не было и ничего особенно хорошего, но все
выглядело правдивым, похожим на жизнь — герой по ходу
действия включал транзистор. Трансляция должна была стать
лишь фоном; действие сопровождает передача по радио,
обычная, одна из тех, что часто можно услышать. Но это
был голос Эдит Пиаф. И сразу же все на экране —
жизненные наблюдения режиссера над тем, что каждый и сам
может увидеть, характеры и отношения, возможные в
реальности, но давно открытые, не раз показанные,— все это
как-то разом поблекло, утратило значение. Теперь мерилом
стало иное: ликующая сила голоса.
Понятно, что нет смысла сопоставлять разные жанры,
дарования и т. п. И все же... Речь ведь идет не о
конструкции — скорее о горючем, о возможности взлета.
Лира, после стольких поисков, мы все-таки нашли; гора
с плеч упала. Но вот уже наваливается новая гора. Гору
(или поле) я имею в виду не фигуральную, а ту, которую
можно снимать. Выбор натуры для этого фильма особенно
сложен. Нам нужно не место действия, а мир, который
героем — иногда главным — войдет в картину, определит
многое в поступках людей. Эти поступки часто объясня-
Пространство трагедии
89
ются не столько психологией, сколько историей. Но и
земля, по которой люди ходят, тоже история.
Люди и земля — сложное единство; пейзаж «Лира»
меняется на глазах: люди исковеркали землю, и сами они
в конце уйдут не в покой могилы, а в истоптанную,
выжженную ими землю. Это хочется показать на экране со всей
ясностью, возможной натуральностью.
Земля истории — особое, непросто определимое
качество природы; это клеймо времени, которым отмечен
материальный мир. Пейзаж, даже тот, где не увидеть
ничего, выстроенного человеком, может быть историчным.
Вернее, восприниматься как историчный. Есть пояса
климата и климаты истории. Можно сказать: дерево
девятнадцатого века, свинцовые тучи средневековья, пустое
первобытное небо, скифская степь — все это не пустые
слова, а поэтические образы. Мы переносим на природу
черты истории. «Цвет времени переменился»,— писал
Стендаль 46. Ветер и метель в «Незнакомке» у Блока иные,
чем ветер и метель «Двенадцати»: в первом случае белое
и синее, синего больше, чем белого, во втором — белое
и черное, черного больше, чем белого.
Много лет назад мы с Москвиным снимали для «Одной»
замерзший, безлюдный Байкал, огромную плоскость
льда — нам было нужно угрюмое, древнее молчание. А на
экране, как назло, получался веселый сахарный снег,
зимний курорт. Пришлось не раз менять угол зрения
объектива, светофильтры, сорта пленки, чтобы получить
нужный характер.
Пейзаж «Лира» тщетно искать в реальности: он не
существует, не может существовать. Его определенных
черт нет у Шекспира (единства географии и истории). Но
умозрительным путем создать его можно — монтажом
фрагментов несуществующего.целого. Такой способ
работы для меня не нов: Гамлет делал у нас первый шаг на
берегу Балтийского моря, а второй — подле Черного;
между шагами было несколько часов летного пути.
Подлинность мест в шекспировских экранизациях меня
никогда не убеждала: ни Венеция у Орсона Уэллса, ни
Верона у Франко Дзефирелли; исторический натурализм
чужд поэзии «Отелло» и «Ромео и Джульетты». Я не смог
бы снять «Гамлета» в подлинном Эльсиноре: совсем не
90
Пространство трагедии
похоже на королевство Клавдия. Не случайно автор
никогда не был в этих местах; представление о них у него
было самое приблизительное.
Итак, как можно меньше деталей, никакого «стиля»;
мир истории, лишенный внешней историчности; мир
совершенно реальный (снятый на натуре), но не
существующий в природе, выстроенный монтажом только на
два часа. Мы начинаем искать отдельные части,
фрагменты воображаемого единства. Еней сразу же называет мыс
Казантип на Азовском море; Вирсаладзе говорит о замках
в Грузии. На стене нашей рабочей комнаты появляются
географические карты: Грузия, Армения, Эстония, Крым.
Пробуем наметить первый вариант «мира»: поля и валуны
на севере, башни горной Сванетии, камни Казантипа,
руины Армении, замки Грузии, крепости Эстонии.
М. С. Шостак, директор съемочной группы, хватается
за голову: картина явно будет сниматься пять лет.
Доброй к человеку природа будет лишь один раз: когда
человек сойдет с ума. Тогда его окружат веселые полевые
цветы, солнце его согреет. Основной тон натуры суровый,
пустынный: голод, бездомность, холод, неприкрашенная
нагота (о которой столько говорится в поэзии) не вяжутся
с изобилием и плодородием.
Нагой пейзаж. Страна, «почти лишенная кожи»
(Арагон) 47.
Масштаб пустынных, каменистых пространств
образует как бы один полюс зрительной поэзии. Необходим
и другой: без сложной связи отвлеченного и конкретного
нет шекспировской образности. Оба полюса — в своих
крайностях — должны быть на экране. Во время работы
неминуем крен то в одну, то в другую сторону: то к мощи
природы (павильонные кадры чересчур обыденны), то
к жизненной обстановке (на экране все становится
слишком отвлеченным). Так я обычно и тружусь: шарахаясь то
в одну, то в другую сторону. Золотой середины тут нет
и быть не может.
Снимая «Гамлета» в павильонах, я торопился к небу
и морю; в «Лире» мне необходимы гнилая солома на
крышах, набухшие сыростью балки. Я жду не дождусь
появления лошадей в кадре (привязанных к коновязям, а вовсе не
Пространство трагедии
91
скачущих!), лохматых цепных псов. Они-то будут
настоящими, какими же покажутся рядом с ними люди,
платье, слова?.. Проверка правдой подлинного
обязательна для кино.
Шекспировские слова уже не раз произносились в
сценической пустоте или на абстрактном фоне. Еще со времен
Гордона Крэга сделано в такой образности много
хорошего. Сами отношения — фигуры и пространства —
подчеркивали одиночество личности в злой пустоте враждебного
мира.
Когда-то в «Шинели» мы увлекались такими
композициями: старались показать ничтожество Акакия
Акакиевича среди ночного безлюдия императорской столицы.
Теперь мне бы хотелось иной трагичности, достигнутой
не очищением кадра от жизненного, но, напротив,
сгущением обыденного.
Пустыни в «Лире» нет, мир трагедии густо населен.
И как раз это — силовое поле, напряжение реальности —
интересует меня больше всего. Лир, король Лир в гуще
жизни,— вот для чего нужна кинокамера, вот что кино
способно добавить к тому, что уже известно, открыто
театром. Определяется задача: не выбирать пейзажи, а
вдвинуть людей в жизнь. Как у Бальзака: сцены дворцовой
жизни, политической, сельской, военной. Трагедия
происходит не на пейзажах, а на людях.
Здание «Человеческой комедии» по замыслу Бальзака
должны были завершать «философские этюды...
разрушительные бури мысли»48. Это также одно из значений
природы в этом фильме — пространства, где идет
извечный спор человека и мироздания. Нам нужны пейзажи не
только исторические, но и философские.
Книга изображений елизаветинской эпохи: гравюры,
геральдика, каменные башни с бойницами, подъемный
мост. Все это для «исторической картины». Но вот
эмблема, привлекающая внимание. Она кажется мне истинно
прекрасной. Что же такое выгравировал неизвестный мне
художник четыре столетия назад? Пугало в огороде. Я
сразу же его узнал, такое же я помню еще с детских лет:
крестовина из палок, дырявая дерюжная рубаха, помятая,
драная шляпа. Если вглядываться, то шляпа несколько
92
Пространство трагедии
отличается от нашей моды. А так все как у людей: огород,
пугало — тепло человеческого жилья.
В составе римского Пантеона был Genius Loci:
божество местности. Пусть нашим Genius Loci будет пугало.
На экране должен быть жестокий каменный мир. Но
обязательно должно быть и пугало. Огород. Люди
рождаются, добывают пропитание. Жизнь. Нет ее начала, нет
и конца.
Чтобы ощущался холод, нужно передать и тепло. Чуть
тлеющую искру жизни.
Еще с времен «Юности Максима» я невзлюбил так
называемый монументализм. Легко работать, когда
начисто убираются громкие эпитеты и ослепляющие
обобщения. Предмет нужно видеть вблизи, находиться с ним на
одной земле: человеческим языком говорить о.
человеческом. Мы все еще оглушены разговорами о вулканических
страстях, потоках крови и слез в трагедиях. Есть,
бесспорно, и потоки, и.страсти. Однако, стоит вглядеться
пристальнее, видно и иное: мелкая суета, пошлые происшествия,
гадкие типы.
Кента — посла короля — не закалывают или заточают
в темницу, а сажают в колодки. Представим себе такую же
сцену в современных обстоятельствах: посла,
аккредитованного при иностранном государстве, дворники тащат
в вытрезвитель, награждая его по дороге зуботычинами.
Сам член дипкорпуса тоже хорош: ввязался в драку,
сквернословит.
Глостера ослепляют в суматохе: невнятица движений,
шарканье ног, проклятия сквозь зубы. Низменно, грязно.
Они плюются, чертыхаются, топочут ногами. Гнусное
копошение. Стиль сцены? Мокрое дело в подворотне.
Какой уж тут пурпур с золотом.
Серый мир. Мутным рассветом по грязи бредут
побирушки, из одного нищего села в другое. Скоро все к ним
присоединятся: Эдгар, Лир, Глостер.
«Живет... над какой-нибудь прачечной...— пишет
Бунин о проститутке,— выходит... чтобы заработать под
каким-нибудь скотом...» 49
Пространство трагедии
93
Живет... чтобы
Заработать
Над,
Под,
Какой-нибудь
Каким-нибудь.
Вот весь строительный материал; ни у домов, ни
у клиентов нет облика. Драматична сама стертость
описания, незначительность слов, как бы совершенное удаление
от художественности.
На полотнах раннего Шагала (витебского периода)
стенные часы, самовар, керосиновая лампа трагичны.
В старом театре масштаб, эпичность и т. п. достигались
силой страстей премьера, гримом. Самое несложное
заменить это монументальностью пейзажей. Но разве «Нибе-
лунги» чем-то напоминают «Лира»?.. Подальше от дубов
в три обхвата и нагромождения скал. Высокопарность
природы не лучше декламации.
Прошла буря; Утихли титанические ветры, угомонились
космические ливни. Дальше что?.. Попробуем представить
себе скитания Лира, его быт, слова, произнесенные в
жизненных условиях. Забудем об эпохе и жанре. Только бы
уйти подальше от театра, оказаться на обыденной земле,
в человеческих (пусть и бесчеловечных) обстоятельствах.
Нечто вроде «вариаций на тему». Первая: в мутном
свете фонаря мается на окраинной улице очередь
оборванцев — вход в ночлежку Армии Спасения. Старик в
лохмотьях, заросший седой щетиной, стоя хлебает тарелку
супа, бормочет:
— Никто не может запретить мне чеканить деньги.
Я ведь сам король...
Вторая: он спит под мостом. Полицейский пинает его
ногой.
— Не трогайте меня,— просит старик.— Я ранен в
мозг.
Третья: нары. Разговор со слепцом:
— Король?
— С головы до пят король.
Хитрованцы надрывают животики.
Еще одна: околица деревни. Помойка. Лают
осатаневшие псы. Мальчишки гонят сумасшедшего. Свист,
94
Пространство трагедии
улюлюканье. Лир оборачивается, грозит кулаком: вот
вызов, я его бросаю в лицо великану.
Кошачий концерт. В старика летят корки, шелуха.
Снимая Эльсинор, мы спорили с привычкой показывать
дворец Клавдия как тюрьму («Дания — тюрьма»);
узник — Гамлет — был у нас заточен в комфортабельный
мир; у лжи здесь приятный облик, мерзость ласкает глаз.
Пластика «Лира» иная. Переходы здесь — попросту
вышвыривания людей из одного состояния и положения в
другое, противоположное. Тут не переходы, а обрывы,
пропасти. Жаркое место у камина и дождь в степи; бархат
и нагое грязное тело. Уклады жизни не сменяются, а
сшибаются.
Главные сцены будем снимать грубо, резко,
высвечивая шероховатость, крупнозернистость фактур — дерюга,
лохмотья, темные, обветренные лица. Так мы снимали
в двадцатые годы типажей: видны даже поры кожи, следы
оспы. Пусть пластика выразит мотив (важный в
философии) снимания покровов; дикость существа жизни,
запрятанной под оболочкой цивилизации. Вот как выглядит
«голое двуногое животное» без прикрас.
Вытащить наружу, высветить. Сгущенность, спрессо-
ванность всего натурального до физиологического
ощущения. Эффект присутствия — главное; мы сами
задыхаемся в вонючем сарае, где среди нищих король и
наследник графского рода. Смрад, грязь, ужас «дна».
Не дай бог, если современная гоголевская дама,
«приятная во всех отношениях», обрадуется в зрительном зале:
«Как это красиво! Язвы и струпья на теле — прямо с
полотна Грюневальда».
9
РУССКАЯ ТРАГЕДИЯ
У Достоевского — контрасты совершенной пустоты,
пустынности, безлюдия и чрезвычайной скученности:
набито народом, люди стиснуты в маленьких пространствах;
битком набито людьми, как сельди в бочке. Пейзаж в его
Пространство трагедии
95
романах часто возникает из жеста героя, походки.
Эйзенштейн в своих лекциях любил «раскадровывать»
литературу: он открывал монтаж крупных и общих планов
в «Полтаве». У Достоевского, говоря
кинематографическим языком, всегда иное: съемка с движения, панорама;
статика пейзажа редка. Картины города в его романах
появляются в ритме походки героя; жест как бы
продолжается улицей.
«И он быстрым, невольным жестом руки указал мне на
туманную перспективу улицы, освещенную слабо
мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на
сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых,
сердитых и промокших прохожих... Мы выходили уже на
площадь; перед нами во мраке вставал памятник...» 50
Походка неровная, нервная, шаги то замедляются, то
становятся очень быстрыми: «Старик и молодая женщина
вошли в большую, широкую улицу, грязную, полную
разного промышленного народа... и повернули из нее в узкий,
длинный переулок... упиравшийся в огромную,
почерневшую стену... сквозными воротами... можно было выйти на
другую, тоже большую и людную улицу»51.
Шаги, вещи, пространство как бы превращаются в
единство движущейся материи, стремительно возникают
элементы реальности: «В нижнем этаже жил бедный
гробовщик. Миновав... мастерскую, Ордынов по
полуразломанной, скользкой винтообразной лестнице поднялся в
верхний этаж, ощупал в темноте толстую, неуклюжую
дверь, покрытую рогоженными лохмотьями, нашел замок
и приотворил ее» 52.
Всего того, что называется средой действия,
атмосферой событий, бытом — самих по себе, вне духовного мира
героя (вернее, автора),— в этих романах нет. Можно,
конечно, сказать, что человек живет в городе. Однако не
менее верным было бы и сказать иначе: город живет в
человеке. Нет по отдельности домов, улиц, мыслей, чувств; нет
описаний; есть лишь действия — стремительные,
прерывистые. Отношения развиваются не между одними только
людьми, но между кварталами и людьми, квартирами
и людьми, кварталами и квартирами. Вот почему так
удлиняются (и в пространстве и во времени) проходы, переулки
натыкаются на тупики, проходные дворы втягивают в себя
96
Пространство трагедии
и выталкивают, как туннели. Топография города? Горячка,
воспаление мозга? Небывалая летняя жара, духота до
удушья? Что первично, где скрыто начало?..
Пейзаж — это и запутанная и запущенная история
болезни, и беготня по аптекам, в поисках лекарства,
которого ни один аптекарь на свете не знает.
Когда-то давно, в старые времена, «история болезни»
называлась «скорбный лист». Городской пейзаж во всей
его длительности и протяженности и есть такой «скорбный
лист».
Формы смещены, функции отдельных частей нарушены;
человек требует у толчеи и духоты Сенного рынка ответа:
кривда жизни и смысл жизни — как их совместить? В
ответ — нечленораздельный гомон, визг, безликая суета.
Кино много раз пыталось передать такую образность.
В фильме Роберта Вине «Раскольников» (1923) героя
окружили экспрессионистическими декорациями —
воспаленное сознание изобразили буквально. Но человек
существовал в одном измерении, материальный мир в другом:
артист Художественного театра Г. Хмара ходил по кривым
площадкам, появлялся на фоне условно расписанных
плоскостей. Единства мира — духовного мира автора —
не получилось. Не лучше выходило и тогда, когда
художники выстраивали реалистические декорации —
жилплощадь таких же габаритов, какие указаны в романе; автора
засаживали за парту в «натуральной» школе, где, как
известно, он не задержался.
Биографы Достоевского обращали внимание на то, как
часто он менял квартиры, и на то, что расположение домов,
где он жил, всегда было одинаковым; угловой дом, вблизи
церковь. Перекресток и призыв веры. Как в преданиях:
направо пойдешь, налево свернешь... Его близкие
описывали, как часто он бродил в одиночестве по городу,
размахивая руками на ходу, что-то говоря. Сам ритм его походки,
бесспорно, многое значил.
Так и возникает мир в его романах, особого вида
«съемкой с хода». Иногда герой — больной, неверными
шагами, спотыкаясь и задыхаясь,— идет, а рядом, будто
двойник, странно появляясь и пропадая, следует то в ногу,
шаг в шаг с ним, то ускоряя движение, забегая вперед, то
Пространство трагедии
97
отставая, чтобы потом догнать,— его болезнь: гнусные
кварталы, дома, похожие на тюрьмы, дома, похожие на
кладбище, грязные закусочные, мутные пивные. Словно
в сказке: куда бы ни пошел человек, а горе, лыком
подпоясанное, всегда плетется возле, не отстает от него.
Если на ходу попадаются детали, то одна за другой,
неестественно отчетливые, бьющие в глаза; если общие
очертания, то уж ничего не разглядеть — ночная тьма,
дневная серятина, все размыто, мгла, ни штриха, ни
черточки. «...Дождь проницал всю окрестность, поглощая
всякий отблеск и всякий оттенок и обращая все в одну
дымную, свинцовую, безразличную массу... И вдруг из этой
дымной холодной мглы вырезалась фигура странная и
нелепая...» 53 «...Стояла густая толпа народа... Он залез
в самую густоту... все что-то галдели про себя, сбиваясь
кучками» . Контуры смыты, формы утрачены, одни лишь
склизкие колышущиеся массы — зданий, людей. Толпа
потеряла человеческие признаки, движения неестественны:
никого поодиночке, ничего в отдельности, все скопом,
гуртом: «люди так и кишат», «шныряют». Иногда как бы
с треском срабатывает пружина, раскручивается механизм
на холостом ходу: «все кухни всех квартир во всех четырех
этажах отворялись... Вверх и вниз всходили и сходили
дворники с книжками под мышкой...» 55
Те же свойства и у звуковых образов: или мертвая
тишина, или шум, гул, разноголосица. То, что прорывается
вперед, слышно громче, обычно нелепица. В трактире, где
сидит Свидригайлов, ни минуты покоя: хор, оркестр, крики
и стук шаров из бильярдной, шарманка и уличная певица
с «рифмованной лакейщиной», все вместе, разом.
Шарманка Ноздрева — визг и хрип, бессмыслица оборванных
мотивов — разрослась, загремела целой симфонией.
Времена года только в крайности проявлений: если
жара, то до удушья, беспамятства; непереносимая
слякоть; невероятность белых ночей. Все, что написано —
а сколько и как было написано! — о красоте этого города,
будто и не существовало, даже строчкой не помянуто.
Какое уж тут воздействие красоты. «Это город
полусумасшедших. Редко где найдется столько мрачных, резких
и странных влияний на душу человека, как в Петербурге.
Чего стоят одни климатические влияния!» 5б
^ Г. Козинцев, т. 4
98
Пространство трагедии
«Я хотел поставить вопрос, и сколько возможно яснее,
в форме романа, дать на него ответ» («Дневник
писателя») 57. И вопрос и ответ неотделимы от материального
мира, исторического мира; у климата города особое
происхождение: столица выстроена, воздвигнута, вознесена
на болоте, но оно не выкорчевано, не уничтожено; подо
всем колышется топь, болотные пары скопляются, муть,
зараза поглощают улицы; все становится призрачным.
Чуть живой человек вырывается из мглы, он замахивается
кулаком, кричит: «Ужо тебе!..»
Тема, издавна начатая русской литературой. И в том,
как ставится вопрос, и в том, как дается ответ, всегда
нераздельны трагическая мощь истории и горе
повседневности: ветхий домик у залива, где живет Параша, и
Сенатская площадь. Образность, привычная нашей литературе:
сумасшедший чиновник верхом на каменном льве и гробы,
всплывшие на буйных волнах Невы.
Гоголь объяснял, что небольшой портрет обычного
человека способен под кистью истинного живописца стать
исторической живописью, а многие огромные полотна на
исторические темы лишь жанровые картинки: все зависит
только от глубины проникновения художника в суть
предмета.
Опять я перечитываю Достоевского: ищу способов
решения задач, которые появляются — все новые и все
более трудные — каждый день. Не зря в одной из
американских рецензий нашего «Гамлета» обозвали: «Братья
Карамазовы из Эльсинора». Увы, от автора
«Карамазовых» у нас было немного. Я отлично понимаю, что
Петербург Достоевского не имеет ровно ничего общего с
Британией Шекспира. Стоит ли об этом даже вспоминать.
Дело совсем в другом. Большие открытия в искусстве
влияют не только на будущее, но и на прошлое. В старых
книгах открывается новое, потому что прочитана
современная книга. «Фантастический реализм», о котором
столько говорил Достоевский (начало которого в Гоголе),
не только многое определил и опередил в современном
искусстве, но и позволяет открыть те стороны классики (и,
может быть, в первую очередь Шекспира), на которые не
Пространство трагедии
99
обращали раньше внимания. Стал отчетливо виден
реализм Шекспира — трагедии, заряженные бытом, как
порохом.
Не нужно думать, будто отвлеченность всегда приводит
к безжизненности. Отвлеченность отвлеченности рознь.
В памяти сохранилось одно из самых веселых,
жизнерадостных представлений, которые мне удалось повидать. На
фоне некрашеной кирпичной стенки сколочены деревянные
станки — площадки, лестница, вращающийся круг
(художник Л. Попова); артисты в рабочих прозодеждах
вместо театральных костюмов — «Великодушный
рогоносец» Кроммелинка в Театре РСФСР Первом (1922 год).
Зал хохотал, аплодировал, восторженно принимал
постановку Мейерхольда. Молодые, легкие, озорные, Бабанова,
Ильинский, Зайчиков наполняли условное пространство —
конструктивизм? супрематизм? — всей полнотой жизни;
мейерхольдовское искусство одухотворяло «условность»
такой радостью жизнеощущения, что дух захватывало.
1926 год. Всеволод Эмильевич придумывает иное: как
бы материальную формулу николаевской эпохи,
выведенную на сцене красным деревом и подлинными предметами.
Не отвлеченное пространство, не копия жизни.
Пространство времени или, вернее сказать, пространство автора.
Именно это и интересует меня теперь, заставляет
вспоминать и мейерхольдовские работы. Декорации «Ревизора»
ничуть не походили на жилые помещения гоголевских
времен, не только четвертой стены, но и трех других в
помине не было. На сцене были полированные плоскости
красного дерева с дверьми, ампирная мебель. Действие
шло на маленьких покатых площадках, фурках. Все было
стиснуто пространством, ограничено.
Сохранились стенограммы репетиций, они позволяют
увидеть процесс замысла, сделать отчетливым
направление поисков (многое вышло в спектакле по-иному):
«Нужно всю эту компанию людей... поставить на площадку,
примерно в пять квадратных аршин,— больше нельзя. То
есть уместить их на очень тесной сцене», «пройти между
столом и диваном почти нельзя», «вошел, точно из вещей
вышел, потому что там комод, а там шкаф и канделябры,
и люди как-то из-за вещей выходят»; «очень большой
4*
юо
Пространство трагедии-
диван, в который могут укомпоноваться девять человек».
«Сидят тесно»; «Вся площадочка занята очень высоким
трельяжем... морды где-то сквозь плющ... нос какой-то
торчит» 58.
С самого начала своей работы над «Ревизором»
Мейерхольд не переставал говорить о трагедии. Именно это —
чувство трагичности происходящего, государственный, а
вовсе не провинциальный размах всей истории — давало
тон постановке. Сразу после премьеры режиссера ругали
не меньше, чем в свое время автора. Демьян Бедный
сочинил эпиграмму: Мейерхольд — убийца, он убил
гоголевский смех 59. Как известно, разобраться в природе этого
смеха было не просто. Гоголь в свое время в отчаянии
бежал из Петербурга после постановки «Ревизора». Что
же вызвало такое его отчаяние? То, что спектакль никому,
буквально ни одному человеку не понравился? Но по
воспоминаниям современников, и тени провала не было.
Сосницкий — Городничий отлично играл (что ни говори,
все же удача главной роли); отношение зрителей было
различным, очевидцы приводят и немало положительных
отзывов; Николай Первый и наследник смеялись, хвалили
пьесу; критики начали спор; люди, мнением которых
Гоголь дорожил, восторгались. Чего же еще нужно было
комедиографу? Комедиограф, видимо, ничего лучшего и не
желал бы. Гоголь хотел иного, не более громких
аплодисментов и одобрительных рецензий, а какого-то другого
восприятия; смех всегда мешался у него с чем-то совсем
иным. Позже он написал, что в постановке необходим
«ужас от беспорядков вещественных» 60; действие должно
происходить не только в провинциальном городке, но
и в духовном мире каждого человека, и каждый одумается,
крикнет вместе с автором: «Соотечественники!
страшно!..»61
Разумеется, сам автор не всегда лучше всех определяет
свои намерения; слова его нельзя брать на веру, особенно
если автор — Гоголь, а слова высказаны в поздний период
его творчества. Все это так, и все же слова были брошены
не на ветер. Не только смеха он ждал, но и ужаса: должна
была исчезнуть улыбка; собственное лицо, отразившееся
в зеркале комедии,— ужаснуть, заставить широко
раскрыть глаза, всмотреться в жизнь. А на императорской
Пространство трагедии
101
сцене играли водевиль. И даже если бы внести
уточнение — водевиль с обличительными тенденциями,—
намерениям автора, внутренней его силе, побудительному
движению все это ни в малейшей степени не отвечало бы.
Великая гордыня владела им, не смешить он собирался,
и смех сквозь слезы был уже в прошлом; хохот должен был
«жечь сердца». На меньшее он не соглашался, какие бы
слова смирения он при этом ни произносил.
Мейерхольд распахнул настежь все театральные окна
и двери: от водевильного духа, потешных чиновничьих
типов, беззлобных карикатур и воспоминаний не осталось.
Само ощущение пространства было трагичным. Овальная
сцена «Ревизора» менее всего настраивала на комический
лад. Множество дверей смотрело на зрителя. Двери —
сколько их было? одиннадцать? пятнадцать? сто? — разом
раскрывались: целый мир лез со взятками. Толпа обывате-.
лей шарахалась то вправо, то влево: множество людей,
сбившись в кучу, повторяли каждое движение пьяного
Хлестакова — ноги его уже не слушались, несли куда
придется, и в страшной давке люди напирали на низенькую
балюстраду, перед которой он выписывал кренделя.
Выезжали чередуясь небольшие покатые площадки: давка
вещей и людей, и только раз вовсю открывалась сцена —
пустота, дыра огромных размеров, в которой торчали
куклы, ряженные в костюмы героев,— «немая сцена»,
задуманная автором.
Открывая начало нашествию сумасшедших на сцене
Европы и Америки, терял рассудок Городничий, он прыгал
и буйствовал, и под оглушительный шум выносили
огромную смирительную рубашку. Шум был тоже порожден
шарманкой Ноздрева — ахинеей разноголосицы; за
сценой не вовремя выполняли приказ, отданный Городничим
по случаю помолвки дочери: «Кричи во весь народ, валяй
8 колокола, черт возьми!» Все раздирало слух: колокола,
барабанный бой, визгливые скрипки еврейского оркестра,
свистки полицейских.
Из-под земли подымалось белое полотно: огромные
буквы извещали о приезде ревизора.
Русский трагизм в театре был особенным. Ничего
общего с пьесами Полевого и Кукольника («ложновелича-
вая школа» — по словам Тургенева 62) он не имел. Гоголь
102
Пространство трагедии
и Достоевский показали мощь сочетания истории и
обыденности, ужаса и пошлости, хохота и отчаяния.
Образовался какой-то особый, ни на что не похожий
жанр, и, пожалуй, слова «дьяволов водевиль» определяли
его наиболее точно.
Театральная эстетика, созданная Мейерхольдом,
повлияла на весь мировой театр. «Берлинер ансамбль» 63
развил эту эстетику на своем репертуаре. И пространство,
где только подлинные материалы и предметы передают
время, и полюса динамики и неподвижности в
планировках, и надписи, врезаемые в спектакль как в немую
ленту,— все это стало в наши дни обычным, не вызывает ни
у кого смущения. Немало мировых режиссеров говорят,
что их воспитал Брехт. Это, бесспорно, верно. Но первым
их учителем, известно им это или нет, всегда является
Мейерхольд, фантастический реализм Гоголя и
Достоевского.
Формулу шекспировского пространства мне хотелось
бы вывести только на натуре, целиком на натуре. Я хотел
снять раздел королевства со всей зрительной
очевидностью. На верх высокой башни выходят Лир и его
наследницы: отец показывает дочерям земли, которые отныне будут
им принадлежать. Мне хотелось совершенной притчи в
начале истории, зрительной притчи: старый человек и три его
дочери, а за ними — во весь широкий экран — их
имущество: поля, замки, озера, деревни, стада, люди. По
движению королевской руки сейчас же, немедленно шпорят
коней всадники; след копыт по земле — новые границы;
вбиваются межевые столбы; делятся поместья, стада
перегоняют на новые участки.
Легко задумывать постановку за столом. Отчетливо
видишь кадры, дело спорится. Потом другие люди
подсчитывают эти кадры, определяют производственные
возможности. Сколько товара? — как говорил мой друг Андрей
Москвин и неизменно повторял, прочтя новый сценарий:
много товара. И теперь то же горе: натуры много, снять за
год нельзя — нужно переделывать на павильоны. Еней
огорчен не меньше меня, он сам предпочитает лишь
добавлять к натуре, чуть менять натуру; делает он это
прекрасно, его искусство открывает и усиливает простор;
Пространство трагедии
103
первый план (строенный из подлинных материалов) всегда
дает объем, характер. Все убеждают, что павильоны будут
мало чувствоваться. Увы, знаю я, как они мало
чувствуются. Одно все же утешает: целые части декораций будут
из дерева, грубо тесанные топором. Где-то в Литве
разыскали кустарей, им заказана мебель.
Границу, которая отделяет искусство от жизни, в
начале революции собирались не просто нарушить, переступить
через нее, а взорвать, уничтожить до самого основания,
чтобы и памяти о ней не осталось.
«Теперь о рампе,— писал Мейерхольд (к постановке
«Зорь» в Театре РСФСР Первом).— Подчеркиваем с
особенным возмущением, что, несмотря на все попытки
упразднения на большой сцене столь уродливого явления, как
освещение из-под земли... ни одна из сцен не пожелала
выбросить эту сценическую ветошь — рампу...» 64
Так Петр Первый относился к боярской бороде.
Степень ярости, скорее даже бешенства («с особенным
возмущением», «столь уродливое явление»), теперь
удивляет... Что же вызывало такую силу гнева: упорная защита
нижнего света? консерватизм постановочной части?
Неужели это такие уж страшные преступления? Причина была
куда более глубокой: ненависть к искусству,
отгораживающему себя от жизни; иллюзорный нижний свет
подчеркивал различие сфер; рампа являлась символом неперехо-
димой границы. Пафос нового искусства был в
совершенной слитности сфер.
Между «Лиром» и современностью не должно быть
границы. Мне отчетливо слышна прямота обращения
Шекспира к зрителям. Следует добавить — к зрителям стоячих
мест; как бы мы теперь сказали, «к галерке». Те, кто имели
привычку рассаживаться на самой сцене и манерничать во
время представления, не могли быть ему духовно близкими
людьми. Верность Шекспиру прежде всего в этом:
упразднении иллюзорного света, переходе за линию рампы.
Однако право на прямое обращение получить не
просто. «Вот Островский в «Лесе» бичует помещичий
быт...— писал Мейерхольд.— Он не захотел вывести ни
резонера, ни своеобразного Чацкого... два шута гороховых
будут расшатывать устои этих прочных благополучии».
104
Пространство трагедии
Герои пьесы, по Всеволоду Эмильевичу,— один петрушка,
а другой — трагик т— бука в вывороченном наизнанку
полушубке. «...Не так называемые «положительные типы»
решают участь драмы, а шуты гороховые — и этот прием
ловит нас, зрителей, на удочку,, на манок, как дичь. Вот он,
прием художественной агитации» 65.
Уже не раз отмечалось, что диалоги сумасшедшего
короля, шута и слепого Глостера полны странных шуток,
казалось бы, вовсе неуместных в драматических
положениях. В «Огненном колесе» («The Wheel of Fire») Уилсона
Найта (первое издание 1930 года) исследован зловещий
юмор «Короля Лира»: целая энциклопедия комического —
от шуток Глостера (самого дурного пошиба) до
причудливых реплик шута. В основе пьесы, как это показывает
исследователь, жестокость юмора, или юмор жестокости.
Мне хотелось бы также вспомнить о небольшой, теперь
уже мало известной статье. Две странички крохотного
формата поражали решительностью опровержения. Так
всегда случается: новый взгляд на предмет, открытие
неизвестной стороны произведения (общеизвестного)
усиливается совершенным отрицанием всего, что прежде
считалось главным. «Самое неважное в «Короле Лире»,—
писал в этой статье Виктор Шкловский,— на мой взгляд,
это то, что произведение это — трагедия... Шекспиру не
важно правдоподобие типа, ему не важно, почему Лир
говорит сейчас то, а потом другое, почему врываются в его
речь грубые шутки. Для Шекспира король Лир актер
и шут... Как нужно играть «Короля Лира»? Играть нужно
не тип, тип — это нитки, сшивающие произведение, тип —
это или панорамщик, показывающий один вид за другим,
или же мотивировка эффектов... Короля Лира нужно
играть как каламбуриста и эксцентрика» («Ход коня») 66.
Виктор Шкловский больше не перепечатывал эту
статью, а жаль. Крайность эксперимента, проба гипотезы
в свое время была интересной. Время тогда требовало
таких проб. Шекспира от них не убыло. Одно остается
в силе и сегодня: «резонеру» не дано права на прямое
обращение. Без «каламбуриста» нет и трагической фигуры.
Терминология Мейерхольда так решительно менялась,
что понять его старые статьи и выступления теперь не
Пространство трагедии
105
просто. «Мне, начавшему режиссерские свои работы в
1902 году,— писал он в предисловии к своей книге «О
театре»,— только к концу десятилетия дано коснуться тех
тайн театра, которые скрыты в таких первичных его
элементах, как просцениум и маска» 67. В словаре
символистов и художников близкого к ним круга «тайна» была
расхожим словом. Тень таинственности падала на
любимые мейерхольдовские Образы — карнавальную бауту
(белую полумаску с острым птичьим клювом и черную
треуголку) с картин венецианца Пьетро Лонги, на
фантасмагории Карло Гоцци и Гофмана,— но вряд ли в них
открывались какие-либо потусторонние сферы. В его
opus'ax (так он называл свои постановки) часто
фигурировали свечи, зеркала, игральные карты — символы судьбы.
Целый период таких увлечений завершился пышным и
зловещим «Маскарадом»: просцениум, Неизвестный в бауте,
Арбенин, закрученный танцем масок... Потом во
множестве статей эффектно сопоставлялась эта премьера и
падение царского режима.
И действительно, казалось, что последняя траурная
завеса Головина упала не только над спектаклем, но и над
прошлым; в том числе и над прошлым самого режиссера.
Все в его искусстве как бы изменилось до неузнаваемости;
он сам охотно подчеркивал эту совершенную перемену.
Вождя театрального Октября интересовали не «тайны»,
а биомеханика, условные рефлексы, конструктивизм. Да
и что загадочного могло быть в площадке, выдвинутой
в зрительный зал, или в театральной маске?.. Правда,
и научная терминология в его практике как-то не
привилась, угасла сама собой. Слова, особенно те, что он сам
произносил, скорее запутывали, чем проясняли смысл его
работ: открывался он не в декларациях, а в образах,
пожалуй, одних из самых сложных в искусстве нашего века.
Элементарные вещи, технические приемы приобретали
в его работах особую глубину; как и во всякой истинной
поэзии, тут мало что поддавалось пересказу. Фурки
«Ревизора», на которых стояли декорации, многое значили.
Тому, что в театральном быту называют
декорациями — живописными или строенными,— Мейерхольд
уделял особое внимание. Он начинал свой режиссерский путь
с отрицания натурализму имитации жилых помещений;
106
Пространство трагедия
живописные пятна становились основой его постановки.
Затем он изгнал со сцены все, что имело отношение к
живописи; его восхищала оголенная грязная стенка
театрального здания; потом он загромождал сценическую площадку
изысканно-красивыми музейными вещами...
Другие режиссеры (даже крупные) изобретали новое
в «оформлении»; они работали часто с теми же
художниками, что и Мейерхольд, но сцена в их постановках являлась
лишь местом действия, независимо от того, отражала ли
она жизнь или была лишь подмостками театрального
праздника.
Мейерхольд создавал философию пространства. Мир
в его работах как бы двоился, пространство расщеплялось:
пятачок повседневности — теснота, скученность, малость
(видение, преследовавшее его десятилетия), и за всем этим
беспредельность мира. Мотивы, знакомые по лирике.
Александра Блока мучило ощущение тесноты, узости
душевного мира, не вмещающего в себя огромности реального;
в его письмах и дневниках можно часто встретить слово
«неслиянность». Духота, доходящая до удушья, и
стремление вырваться, выйти на простор «из потемок» (хотя бы
и «вселенских») на «свет божий».
Блок писал отцу, что его реализм граничит с
фантастическим, и упоминал как пример «Подросток»
Достоевского 68. Опять то же определение. Все было далеко не
простым: и «потемки», и «свет божий»; но контрасты
жизненного (даже пошлого, сгущенного до жути), замкнутого
временем, скованного временем и беспредельного —
прекрасного? ужасного? — носили в русском искусстве
особый характер; романтическая ирония его никак не
исчерпывает.
Многое в мейерхольдовском искусстве началось от
блоковского «Балаганчика» (1906). Режиссер и художник
Сапунов выстроили на сцене другую маленькую сцену —
целый «театрик» со своим занавесом, рампой, суфлерской
будкой, с колосниками, куда уходили декорации. В
«театрике» переиначили до неузнаваемости какую-то пьесу, ее
возмущенный автор прерывал представление: он выбегал
на просцениум, хотел объясниться со зрителями, но чьи-то
руки хватали его за фалды фрака, утаскивали за занавес;
когда Арлекин прыгал в окно,— он прорывал бумагу: окно
Пространство трагедии
107
оказывалось намалеванным на стенке декорации; за
«театриком» был театр, за условным пространством — мир.
Действие разворачивалось в трех плоскостях: какой-то
пьесы (как реальность от нее остался сам автор);
«балаганчика» с масками Пьеро, Арлекина и Коломбины; мира,
находившегося за условным пространством «театрика».
Каким был этот мир? реальным? блоковской
бесконечностью синевы и метели?.. Кто его знает. Одно только можно
сказать: еще в те времена автор и режиссер потешались
над мистиками, высмеивали их разговоры о
«потустороннем». Шутки были не такими уж беззлобными: близкие
друзья Блока сочли себя оскорбленными, порвали с ним
отношения.
Одновременность существования различных
пространственных измерений, невозможность их примирения были
и в блоковской «Незнакомке»: скука кабачка (на Гесле-
ровской улице, изображенного, как выяснилось, с
совершенной точностью), болтовни в светских салонах,—
а за стенами домов полет звезды в бесконечности ночи,
падающий, все засыпающий снег. Театральный цензор
выбился из сил, пытаясь выяснить смысл пьесы. Так ничего
и не поняв, чиновник написал «декадентство» и,
придравшись к имени героини «Мария», запретил пьесу за
кощунство.
Через несколько лет в беспредельности метели —
несущейся через пространство и время — пошли двенадцать
красноармейцев; а в абстрактных пересеченных
плоскостях, выстроенных в пустоте разоренной сцены Театра
РСФСР Первого, играли спектакль-митинг «Зори».
Фурки «Ревизора» — миры, населенные гоголевскими
героями,— выплывали из смутной мглы, из тьмы
пространства, как из необъятности времени. Клетки жизни —
мебель, люди, вещи, слухи, сплетни, страх, они
надвигались на зрителя, как надвигается на читателя гоголевский
образ, как заполняет собою все мертвая душа, чтобы затем
отойти вглубь, уступить место следующей мертвой душе,
приближающейся, надвигающейся всем пространством.
Ведь Собакевич-человек это и дом — Собакевич, и
комод — Собакевич, целый мир — Собакевич.
Эти миры, ужасающие своей узостью, ничтожностью,
открываются у Гоголя, как в романе путешествий, с движе-
108
Пространство трагедий
ния, если угодно, «съемкой с хода»: чмокает.кучер, лошади
прибавляют шаг, исчезает горизонт, появляются
деревушки, прилегающие к имению, въезд в усадьбу, множество
вещей, сам хозяин идет навстречу; необъятный простор
сменяется нагромождением вещей, стены сжимаются;
опускаются потолки — пятачок театральной фурки.
Мейерхольдовские прожекторы высвечивали не копии
реальности, а реальность существа явлений, сгустки сути.
Тайны театра, но и тайны гоголевского искусства. Что
значили эти странные планировки: сбитые в кучу люди со
свечами в руках, чтение письма к «душе Тряпичкину»,
загнанное в клетку-беседку, золочено-барочный лубочный
трельяж.
Красное дерево, карельская береза, фарфор и
хрусталь — все стиснуто на пятачке, а потом — пустота,
нагота жестко высвеченного пространства всей сцены —
ни вещей, ни признаков жизни, только топот галопа —
дурацкого праздника на весь мир.
Просцениум — не только архитектура сценической
площадки, но и сам шаг Мейерхольда, его неудержимое
движение вперед, за портал, за пределы театра.
«Просцениум» всегда был в его искусстве — край, граница
пространств реальности и театра. Здесь, на самом острие,
он сближал, сдвигал миры: расставлял зеркала под
разными углами, так, чтобы отражения двоились, троились,
двойники вырастали за героями, пространство уходило
в бесконечность. Ну, а маска? Об Арлекине и Пьеро он уже
не вспоминал. В месяцы работы над «Ревизором» он
говорил о других персонажах: учитесь у Чарли Чаплина
и Бестера Китона — призывал он свою труппу. Учились
прилежно: обалделая неподвижность лица Гарина —
Хлестакова состояла в родстве с застывшей печалью Китона.
Маски старинного народного театра сохранились не только
в стилизованных театральных пантомимах, но и
перешли — через водевиль — на экран Мака Сеннетта.
Странные структуры в искусстве то исчезают, то опять
возрождаются уже в ином качестве. Тайны театра или
тайны жизни? Во все времена какие-то явления
сгущаются, живой смысл исчезает — нелепица сбивается в кучу,
несуразная толкотня на пятачке. А потом почему-то за
всем этим как-то разом, неожиданно раскрывается грозное
Пространство трагедии
109
пространство истории: трагедия повторяется фарсом.
Фарсом по уши в крови.
Просцениум и маска. Но в кино нет просцениума*
и маска выглядела бы на экране театральной. Тогда можно
сказать по-другому: Лир — король, отец, старик, тиран,
мудрец, мученик, сам Шекспир (какие еще маски в
образе?) — выходите прямым обращением, вперед, на крупный
план; ни отсвета рампы не должно быть на его лице.
Никакой разграничивающей линии между людьми Шекспира
и людьми в зале; между горем на экране и памятью о горе
в жизни.
В 1926 году мы снимали «Шинель». Уточняя образ, мы
однажды представили себе в роли Акакия Акакиевича...
Чарли Чаплина. Казалось бы, нелепая мысль: что схожего
между маленьким бродягой и чиновником, униженным
и уничтоженным «департаментом подлостей и вздоров»?..
И все же тень чего-то подобного проходила; какая-то почти
неуловимая схожесть: маленький человек в огромности
чужого, чуждого ему мира. Ничто не пропадает бесследно:
какие-то фразы из какого-то сгоряча данного интервью
перепечатали, я нашел их потом в американском
киножурнале. Все это позабылось бы, совсем ушло из памяти,
если бы...
Право на прямое обращение, как его понимал
Мейерхольд; эксцентрик в пространстве трагедии — седой,
восьмидесятилетний... Да, пожалуй, он мог бы быть
лучшим из Лиров.
10
Современный театр в его большей части Питер Брук
считает омертвевшим организмом; он ищет очаги
спасения. Один из них — народный театр, он всегда выручает,
меняются его формы, но неизменно остается одно свойство,
как отличительное, жизненное: грубость. Глава книги
Брука так и называется: «Грубый театр». «Преувеличение,
черная работа, шум, запахи,— перечисляет Брук,— театр,
играющий не в специально приспособленных помещениях,
а где придется: театр на повозках, театр в вагонах, театр
но
Пространство трагедии
на какой-нибудь платформе; зрители смотрят стоя, пьют,
сидят за столиками, зрители подходят ближе, сами
вступают в игру, артисты им отвечают; театр на задворках,
в сараях, остановка только для ночевки...» («The Empty
Space») 69.
Так, мальчиком, я начинал: ширмы, куклы, кумач
и фольга, помятые цилиндры, клоунские носы,
прицепленные бороды, крашенные зеленым, рыжим, агитскетчи на
грузовиках, подмостки из досок на площади, теплушка
агитпоезда, шарманка, выкрик во всю глотку...
Такую школу я прошел; она меня научила отвращению
к высокопарности; вспомнить ее я могу только добрым
словом. Первые агитки двигались на хорошем горючем:
простоте веры, задоре молодости и на запале, общем для
всех левых художников — ненависти к академизму. Еще
одно, пожалуй, можно добавить — сама нищета
революционного искусства была прекрасной: фанера, клеевые
краски, кумач — благородные материалы. Долго в этой
школе нельзя было засиживаться. Агитка кончала свой
короткий век не из-за художественной убогости, причина
была иной: мир перестал казаться простым; желание
понять сложность вызвало к жизни совсем иные формы.
Что же касается художественного качества — энергии,
выдумки, напряженности приема, лаконизма, радости
жизнеощущения,— то в первых работах оно было по-своему
сильным. Но непосредственность, сила чувства стали
угасать, тогда пошло в ход ремесло. А тут на складе появились
бархат, мрамор, бронза. Разомкнулись своеобразные
ножницы: чувства нищали, а материалы богатели. Образно
говоря, раешник стали сочинять гекзаметрами: появились
в этом деле и свои «академики». Маяковский отложил
кисти РОСТА и написал:
Одного боюсь —
за вас, и сам,—
Чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек 70.
Пространство трагедии
111
И
БЕРЕМЕННАЯ ОФЕЛИЯ
То в чьих-то воспоминаниях, то в переписке молниями
вспыхивают осколки замыслов Мейерхольда. Почерк
строителя можно отличить по его любимым строительным
материалам. Был и у Всеволода Эмильевича излюбленный:
порох. Так и находишь теперь начало каких-то его трудов:
кусок пьесы, а в него заложена взрывчатка, торчит
бикфордов шнур — здесь он побывал. Ужас охватывал
неподготовленных, непредупрежденных — бежать, скорее
бежать!.. «Меня к себе в театр пригласил Мейерхольд,—
прочитал я в воспоминаниях Н. А. Белевцевой,— но после
встречи с ним, надо сознаться, охота идти туда отпала».
Что же так испугало артистку? «Натуралистично и грубо
нарисовал он мне образ Офелии. Офелия любит
Гамлета,— говорил он,— но любит земной любовью. Она ждет от
него ребенка, и здесь не следует заниматься лакировкой.
Беременная, тяжелая, простая, без облаков» 7|. Нет и
сомнений в том, что разговор передан точно, это его слова. Кто
бы, кроме него, был так строг, даже суров к бедной дочери
Полония? Если бы она и дальше разводила канитель со
своими цветочками, то заведующий Тео Наркомпроса мог
бы и часового с винтовкой крикнуть: тогда шутки с ним
были плохи. Он воевал, шел в атаку. «Живот» (если
«земная любовь», то, разумеется, и живот) был для него чем-то
вроде камня: привязать его к штампам, чтобы утопить их
поглубже. Стоит посмотреть старые фотографии
театральных Офелий, и станет понятным, куда он метил. Он этих
Офелий дегтем мазал, как ворота распутниц в старых
деревнях. А как бы он стер с нее лакировку, вот уж где был
бы блеск! Репетиция стала бы трактатом «Брюхатые в
истории живописи»; а письма Пушкина к Натали (на
сносях)? — вот истинная лирика! — а роды-смерть
маленькой княгини у Толстого? разве не подлинный
трагизм?.. Стремительные движения рук дополнили бы слова,
а потом, сняв пиджак, он поднялся бы на сцену... Овация
грохнула бы в зале: сутулящийся, немолодой, горбоносый
мужчина с взъерошенными волосами стал бы на глазах
у труппы неопровержимо беременной, несомненной Офе-
112
Пространство трагедии
лией. И сгинули бы все Офелии — Гретхен с цветочками
в распущенных завитых волосах. Долой «облака»!
Никаких «облаков»!..
— Беременная? — спросил бы он завтра артистку.—
Почему беременная?.. Кто это придумал такую нелепицу?..
Я горожу все это не на пустом месте. Подобное часто
случалось в его режиссерской практике. Общеизвестна
история с зеленым париком в «Лесе»: на каждой дискуссии
Всеволод Эмильевич придумывал замысловатые
объяснения такого цвета волос. Почему зеленый? — Но это же
цвет молодости... Эмблематическое значение гримов еще
в Кабуки... Но однажды его ответа на тот же вопрос не
последовало.
— Уберите этот парик,— раздраженно сказал он
ассистенту после спектакля,— и кому это могла прийти в
голову такая идея? Зеленый! Почему зеленый?..
Черепки — следы каких-то давних опытов — забыли
убрать с лабораторного стола.
Вот стенограмма одной из репетиций «Ревизора»
{разговор идет о внешности Хлестакова):
«М ейерхольд: Как вы мыслите голову?
Мартинсон: Видимо, он помадится.
Мейерхольд: Да нет... он лысый. Как
бильярдный шар. Он с детства облысел... А то всегда
Хлестакова делают амурчиком... Между прочим, все женщины
любят лысых. Лысые пользуются колоссальным
успехом у женщин. Например, Габриеле Д'Аннунцио. Я
мечтаю, что Хлестаков — Габриеле Д'Аннунцио тридцатых
годов...»
Дальше — больше, оказывается, что и внешность
городничего под стать Хлестакову: «Встреча двух лысых —
Хлестакова и городничего... Это интересно. Обилие волос
скучно» 72.
Ни лысины Сквозник-Дмухановского, ни Хлестакова —
Д'Аннунцио в спектакле и днем с огнем сыскать нельзя
было. В чем же тогда состоял смысл таких
ошарашивающих предложений? Неужели только в «эпатации»? Нет,
дело было не только в ней. Смысл — в резкости жеста: обрыве
традиций — цепочки от водевильного, напомаженного фа-,
та Дюра (предмета отчаяния Гоголя). Что же касается
ошарашивания новизной предложений, то и это был непло-:
Пространство трагедии
113
хой способ расшевелить артистов, отогнать их подальше от
всего, что лежит на поверхности. Ничему он не хотел
верить на слово, все хотел узнать сам; открыть, а не
повторять давно открытое; все — из первых рук, ничего по
наследству. Повторение в школе — мать учения; в
искусстве — мать ремесла, рутины.
Взрывная техника в промышленности уже давно стала
не только способом разрушения, но и методом
строительства.
Осторожность, оглядка, хвастовство безгрешностью
(«семь раз обдумано») — склероз режиссерской
профессии; без проб «вовсю» и, значит, нередко расшибания лба
в тупиках — на глазах у товарищей, но и вместе с
товарищами — чахнут репетиции; только ремесленники
дрожат за свой авторитет (режиссер эрудит, педагог, он все
предвидит). Конечно, приходит пора, и необходимо со всей
строгостью отбирать, выбрасывать лишнее, отказываться
от того, что не относится к существу. Но без «лишнего» —
в процессе работы — не появится и главное. Тут можно
дать слово самому Лиру: «Когда природу ограничить
нужным,— говорит он не в меру рассудительной дочери,—
мы до скотов спустились бы».
Я читал (в воспоминаниях М. Кнебель 73), что во время
гастрольной поездки театра Чехов и Вахтангов — они
жили вместе в одном номере гостиницы — взяли за
правило, проснувшись утром, начинать одну игру:
«развинчивать» себя по частям, то есть с совершенной точностью,
так, как мимы изображают игру с отсутствующими
предметами, делали вид, будто постепенно откручивают пальцы
или ступню ноги; открутив до конца, они осторожно
укладывали эту воображаемую часть собственного тела на стол
или на стул. Соблюдалась совершенная точность
мельчайшего жеста, была полная иллюзия того, что это невидимое
действие происходит на деле. Пантомимы игрались всерь-,
ез, с полной отдачей внимания. Победил Вахтангов: он
долго и старательно «откручивал» себе голову, наконец
снял ее полностью с шеи, бережно отнес и поставил на
полку шкафа, а затем начал аккуратно «отвинчивать»,
другие части, не теряя ощущения, что головы у него уже.
нет. Не знаю, было ли все это одной лишь шуткой, потехой
114
Пространство трагедии
или же профессиональной подготовкой, тренировкой, без
которой художник теряет форму.
В 1934 году Мейерхольд опять—в который
разговорит о «Гамлете». Ничего, подобного беременной
Офелии, теперь как будто нет: «Всматриваясь вдаль, Гамлет
видит: вместе с волнами, набегающими на берег, идет из
тумана, с трудом вытягивая ноги из зыбкой песчаной
почвы морского дна, отец его (призрак отца). С ног до
головы в серебре». Тут уже облака как бы есть. Но обратим
внимание на походку призрака: серебряные ноги духа
в мокром песке. Однако это лишь начало, дальше мы
узнаем, а вернее сказать, видим: «Вода замерзает на его
кольчуге, на его бороде. Ему холодно, ему трудно»74. Сын
усаживает уставшего отца на камень, садится
рядышком, и — его деталь! — Гамлет снимает с плеч большой
плащ, укутывает им отца: мороз, призрак в одних латах
озяб...
Нет, след от беременной Офелии все же остался.
«Сочинитель слова тем обильнейшими изобретениями
оное обогатить может, чем быстрейшую имеет силу со-
вображения,— писал Ломоносов в «Риторике»,— которая
есть душевное дарование с одною вещью, в уме
представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею
сопряженные, например: когда представив в уме корабль,
с ним воображаем купно и море... с морем бурю, с бурею
волны, с волнами шум в берегах, с берегами камни, и так
далее»75.
Открыть область «сопряженного» — одну из главных
сфер режиссуры — пожалуй, наиболее трудно; то, что
в свое время усиливало, углубляло жизненность, в
другое — умерщвляет ее. Произведение сохнет, увядает, когда
его образы можно «купно воображать» не с жизненными
явлениями, а лишь образами искусства.
Здесь опасность кинематографической постановки
пьес: можно вырваться за пределы театра и оказаться
в другом, но тоже замкнутом пространстве; что-то вроде
прыжка блоковского героя в нарисованное окно — за
театром не жизненная глубина, а плоскость экрана.
Пространство — не биосфера времени (вот что самое же-
Пространство трагедии
115
ланное!), а мнимая реальность кино: экран наглухо закрыл
собой жизнь. Хрен не слаще редьки. Только обмануть на
экране легче: уже выработался, срабатывает кинорефлекс,
сфотографированная жизнеподобность сходит за правду,
а на деле это условность, такая же, если не большая, чем
декламация на фоне картонных декораций.
Настоящее искусство начинается чаще всего за
пределами, которые очертила для него эстетика его времени.
Отведенный круг становится тесен. Развитие техники (если
речь идет о кино) не только расширяет его, но и
одновременно сужает: каждый новый прием осваивается поточным
методом. То, что было предметом научной фантастики —
изобретение самовоспроизводящего счетного
устройства,— стало в кинопромышленности бытом: фильм
рожает фильм, полная чертовщина пленочного самозачатия,
самоплодятся монтажные стыки, глаза героинь, фразы
диалога. На кинофестивалях можно с ума сойти: картины
двойняшки, тройняшки, сотняшки. Кинематографисты,
правда, находят отличия, обсуждают нюансы. Так
цирковая лошадь, наверное, думает, что она обскакала целый
мир — от полюса до полюса: шутка сказать, почти каждый
вечер переходила она и на рысь, и на галоп, и вагоны во
время переездов менялись, и стойла в конюшнях
отличались одно от другого. А на самом-то деле бегала она лишь
внутри манежа — это фасады цирков были различными,
а круг один и тот же, точно отмеренный мировой стандарт:
13,5 метра, ни больше ни меньше.
Мейерхольд был одним из тех, кто вырвался за пределы
театра, за «малую сопряженность» так далеко, что дух
захватывало от силы, смелости его рывка. Так начинал
и его ученик. Экран затрещал по всем швам от замыслов
Эйзенштейна; какие уж там мировые стандарты...
Привяжется какое-то ничего не значащее слово, и
никак от него не отделаться. Самый звук его раздражает:
«экранизация». «В основу положено одноименное...»
Куда? В какую основу? Нет основы, само оно, одноименное,
должно ожить, зажить полнотой жизни. И не дай бог
переводить его на язык кино; это язык кино нужно перевести на
человеческий, полный мыслей и чувств, такой, как в
«одноименном». Ну, а почему все же кино? Для меня это при-
116
Пространство трагедии
вычный с детства способ выражения; на экране больше
простора.
Свои записи (многих лет), посвященные Мейерхольду,1
я не раз пересматривал, менял их порядок, выправлял,
стараясь выявить, сделать более отчетливым то, что
казалось мне главным в его искусстве, проходящим — несмотря
на, казалось бы, совершенное различие форм — через всю
его жизнь. За последние годы вышли сборники статей
Всеволода Эмильевича, его неопубликованные
выступления, стенограммы репетиций, воспоминания о нем — все
это давало возможность новой проверки, и я опять садился
за работу... В чем заключался ее смысл? Какую цель я себе
ставил? Почему я так настойчиво возвращался к его
постановкам, вернее, не к отдельным спектаклям, а к чему-то
куда более важному, нежели театральные успехи и
неудачи,— каким-то сторонам жизни, движениям, схваченным
его образностью. Целью моей было вовсе не описание его
мизансцен (с возможной точностью), еще того менее
оценка их как «правильных» или же «ошибочных». Я смотрел
«Ревизора» в свое время (и теперь думаю о нем) не просто
как зритель, из партера или с балкона,— моя точка зрения
была иной: «со своей колокольни». Только что мы сняли
«Шинель», и с тех пор (а то и раньше, с буйной фэксовской
«Женитьбы» 1922 года) гоголевские образы не оставляли
меня.
Акакий Акакиевич был вдвинут — на нашем
экране — в бесчеловечную пустоту огромных площадей;
бронзовые и чугунные истуканы — монументы императоров —
нависали над ним, ничтожно крохотным; в кадрах чернели
громады зданий, неслась метель. Ничуть об этом не думая
и даже не представляя себе, что такие задачи существуют,
мы пробовали (ощупью) вписать повесть в пространство
трагедии; теперь, после многих работ, такая цель
представляется мне (на словах) куда более отчетливой, а
достижение ее (на деле) куда более трудным. Снимая
«Лира», я вспоминаю пейзажи Достоевского и мейерхоль-
довскую толчею на фурках (какой она действительно была
на сцене или какой я ее себе домыслил, что-то прибавив
или что-то убавив) не потому, что они похожи на замки
и дороги, на королей и герцогов Британии — что тут можно
Пространство трагедии
117
отыскать схожего? Ничего. Нет его буквально ни в одной
черточке, ни в одной видимой детали. Но в самой глуби
образности — ощущение разрыва эпох, «времени,
вышедшего из сустава» («Гамлет»); все заряжено бытом, как
порохом, и мир, если не переменится, взлетит в воздух,
в необъятность пустоты, рассыплется прахом, и черный
вихрь истории железом снимет урожай с обуглившейся
земли. То же, трагическое ощущение.
Размах пространства, соединимость несоединимого.
Уроки Мейерхольда? Да, и его уроки, и множество других
уроков. Путаная школа. Но эта путаница помогает понять
великого путаника — Лира.
Когда работаешь, вместе с тобой, хочешь этого или нет,
вмешивается в дело и вся твоя жизнь: прожитое,
передуманное, наболевшее; порядка тут никакого нет — память
берет и выталкивает вперед что-то, казалось бы, ненужное;
явления переплетаются, образуются несуразные связи.
Каким-то неведомым путем (житейски, конечно, ведомым)
Мейерхольд связался в моей памяти с совсем иными
явлениями. Какие уж тут эстетические воспоминания и арлекиг
нады доктора Дапертутто (псевдоним Всеволода Эмиль-
евича кануна первой империалистической войны): вокзалы
гражданской войны — начало моей жизни, начало
искусства; сбитость тел, цвет солдатского сукна, затхлый запах
карболки, махорки, гари, горя; сыпняк (столько всего
забыл, а вот свой тифозный бред отчетливо помню); а
потом теплушка,.шинели, портянки, ревут дети, шелуха, вши,
мутная пелена от самокруток (это я еду из Киева в
Петроград учиться у Мейерхольда, а он, как назло, оказался на
юге!); Петроград — не вмещающаяся в сознание
огромность застывшего города, 1920 год... И все же я в школе
Мейерхольда; говоря по-современному, заочник. Странная
учеба, не как у людей. Мне казалось (были и такие
периоды), что больше нечему у него учиться, да и учиться
хватит: посидели за партой, сами учим. Но опять проходит
время, и вновь нужно обратиться к нему: даже не к его
работам, а к его судьбе. У Эйзенштейна — его настоящего
ученика — были сложные отношения с учителем. Характер
у Всеволода Эмильевича был нелегкий, но когда во время
тяжелой болезни Сергей Михайлович начал писать авто-
118
Пространство трагедии
биографию, о нем он написал: «Я недостоин развязать
ремешки его сандалий» 76.
То, что он начинал (и редко приводил в порядок,
заканчивал), все еще развивается и будет развиваться:
время откроет не только значение его сценических
новшеств, но и смысл его пророчеств; его голова
нахохлившейся птицы, гордо и горестно закинутая назад, останется
в памяти не только как образ режиссера-новатора, но и как
то, что он сам воспевал: маска — бессмертная
трагическая маска, не менее прекрасная, чем те, в которых
выходили перед тысячными толпами герои Софокла и Еври-
пида.
«Я с вами не пойду защищать четыре колонны,—
сказал он в 1939 году, в своей последней речи (в Оперном
театре имени Станиславского).— Я привык к гонениям.
Гоните меня во все двери. Я пойду. Но я колонн оберегать
не намерен» 77.
Стенографистка записывает: «аплодисменты»; это
были последние аплодисменты, которые он услышал.
Часто то, что в наши дни воспринимается как
обобщение, было в свое время реальным предметом, и разговор
о нем имел вовсе не какой-то глубоко принципиальный,
а практический смысл. Четыре колонны были не
фигуральными: Всеволод Эмильевич имел в виду не призрак
классицизма, а самые натуральные колонны, они были в самом
зале Оперной студии имени К. С. Станиславского. В
постановке «Евгения Онегина» их использовали как часть
декорации, а потом по привычке, то захватывая целиком,
то опять частью, стали вводить в оформление и других
спектаклей, переносить в другие помещения. Поскольку
к ним прикоснулся Станиславский, их как бы освятили.
Искусство основателя студии, объяснял Мейерхольд,
не замкнуто в этих колоннах, а верность Станиславскому
состоит не в том, чтобы обязательно петь именно на таком
фоне.
Разговор касался обыденных тем, и четыре колонны
стояли здесь же, перед глазами. Так было в свое время...
А теперь все кажется символами: охрана колонн,
захлопывающиеся двери.
Пространство трагедии
119
12
Год ушел на поиски артистов, репетиции, пробы. Теперь
все они выходят на поле: партия начинается; если выбор
верен, то они — уже не артисты, а герои — поведут меня за
собой; они уже во многом вышли из-под моей воли, они
могут двигаться, говорить, вступать друг с другом в
отношения только так, а не иначе; «иначе» мгновенно
обнаруживается на экране — не шекспировское, не «Лир». И
тоже, само собой, выходят на первый план, становятся
самыми главными — глаза Лира, огромные, очень
светлые — глаза Ярвета. Говоря по-театральному, они всех
переигрывают. Образуется форма: концерт рояля с
оркестром.
Сперва я не хотел касаться производственных сторон
работы: меня интересуют сложности иного порядка. Но
получается так, что вовсе миновать будни (ох, какие
будни) кинопостановки тоже нельзя: работа режиссера всегда
преодоление трудностей, и нет им числа.
То, что «раздел государства» (и некоторые другие
натурные сцены) пришлось перенести в павильон,
развалило многое из задуманного. Легко мне было говорить
Питеру Бруку: весь фильм сниму на натуре. Что делать,
самоуверенность вначале неизбежна: все кажется легким,
море по колено; началась работа, и ты сразу же по горло
в воде, барахтаешься изо всех сил, только бы не утонуть.
Пересъемка за пересъемкой. А между сменами мы
выламываем части декораций, не потому что она была плохо
задумана (эскиз Енея, как всегда, был отличным), а
потому, что в итоге «рационализации» уменьшили площадь
(«поточная подача павильонов», здесь же готовится
следующий); фактуру стен, утвержденную после многих проб,
изменили («более экономный метод обработки»);
нарушены пропорции, видна подделка... И вот я угрюмо брожу по
декорации и высматриваю: как бы еще один кусок отсюда
выдрать? Ломаем, убираем, выносим: мы проламываемся
сквозь «дворцовый зал» к какому-то никому не ведомому
помещению. Ночами Еней придает ему форму — грубыми
деревянными (тесанными топором) перекрытиями; от
прошлого остается только герб — каменный лев на ка-
120
Пространство трагедии
менной стене; если герб, значит, что-то государственное:
В павильон зашел Вирсаладзе. «А вы знаете,— сказал
он,— мне нравится: получается какой-то сарай или амбар:
Это хорошо: сарай...» И, посмотрев на лежащую на земле
шкуру, быстро добавил: «А что если я заберу эту шкуру?
Мне как раз такая нужна для Корнуэлов...»
Были ли когда-нибудь (и где-нибудь) такие залы? Ктй
его знает. Попробуем убедить, что были. На съемку пришел
один из наших консультантов, я посмотрел на него.
Наступило молчание. Потом, как бы отвечая на вопрос (я его ни
о чем не спрашивал), он сказал, несколько запинаясь:
«Нет, почему же... при Каролингах могло бы...» И поглядел
куда-то в сторону, виновато улыбаясь. Как правило,
консультанты быстро привязываются к фильму и легко
продают свою душу историка кинематографическому черту; чего
только они на нашем фильме не оправдывали...
«Теперь понятно, что нам нужно,— сказал Еней,—
человек и „кусок правды"» (под «правдой» он имел в виду
подлинный материал).
Ну, а время? эпоха? Эпоха — облик фигур, лица; время
действия мы будем датировать лицами двух типажей-
стариков (вот и «архитектурные детали»); я их облюбовал
уже давно, мы убедили их (почти год назад) отрастить
седые бороды; они будут сопровождать Лира, всегда
находиться подле него — скульптуры на портале храма. О
многих ролях в этом фильме я заботился меньше, чем об этих
двух безмолвных свидетелях. Там, где мы сломали арку
(перегораживающую залы), выстроилась линия стражи —
темная, дубленая кожа и железо (шлемы, оружие); это
непроходимая граница между мирами; строй расступается,
пропуская избранного (Глостера, Кента, французского
короля), и сразу же опять смыкается за его спиной. Вот
и архитектура королевского замка. Кадры строим так, что
на первом плане всегда человек. Любого из них можно
снимать без грима и на крупном плане. Пространство за
людьми должно скорее чувствоваться, нежели быть
видным; здесь нечего разглядывать, не во что всматриваться;
ни архитектурных деталей, ни орнамента на тканях.
Отчетливы только люди — отдельные фигуры и отдельные
группы; между ними нет связи, общения; каждый человек (или
группа людей) существует обособленно, сам по себе, в ва-
Пространство трагедии
121
кууме. Такая планировка, конечно, условна, но эта
условность принадлежит не театру, а жизни — она сама
превратилась в схему; бесчеловечная геометрия установлена
(сверху), определена иерархией власти; это
государственный порядок. Вышла и стала на-положенное ей место
старшая дочь Гонерилья, следом за ней — Регана,
следом — Корделия. А затем, в том же порядке, каждая
должна сделать несколько шагов (высчитанных) вперед
и сказать, как она любит короля; сперва — старшая,
потом — Регана, а потом порядок нарушится: младшая
ничего не скажет. И тогда — общее резкое движение,
разрыв ритуала: все, разом отшатнутся от нее.
Я хочу выявить эту геометрию, сделать ее зрительно
наглядной, мне это важно не только для самой сцены, но
и для контраста с дальнейшим: то, что кажется прочным,
незыблемым, мигом развалится, обернется хаосом, тол-
чеею тел: все сорвутся с места, с цепи — скорей в дорогу!..
Куда? Зачем? Им самим неведомо. Цепь порвалась, не
могла не порваться, потому что порядок уже мертвый,
мнимый — под ним распад, и все катится, валится,
перемешивается... Шекспировский ритм должен захватить саму
кинокамеру, двинуть ее за торопящимися людьми: кто-то
кого-то (что-то?) преследует, кого-то самого преследуют.
Пространство и люди едины в этой сутолоке, смещаются
перспективы, хлопают двери, чередуются дворы, дороги,
небо надвигается на землю. Энергия стиха теперь несет
кадры, насыщает электричеством кинематографическую
ткань — этого хочется добиться на экране.
И тут на память приходит конец письма Питера Брука:
Но как?.. Каким образом?..
«Должна», «перейдет», «будет» — кажется, именно
этими глаголами, благими намерениями выложена если не
дорога в ад (слишком возвышенное определение!), то
корзина, куда выбрасывают пленку. Все то, что украшает
исторические боевики — даже в самых скромных дозах
(даже в той небольшой степени, в какой мы использовали
обстановку эпохи для «Дон Кихота» или «Гамлета»),—
несовместимо с «Лиром»: вот чему мы пока научились на
собственном горбу. Постепенно определяется какое-то
суровое мерило: ничего, где видно вмешательство художни-
122
Пространство трагедии
ка, где есть украшения. Отчетливая «эпоха» не вяжется
с этой трагедией; все это меньше того, что она охватывает,
проще того, о чем она говорит. Но и другое не лучше:
нарочитая пустота, абстрактность мгновенно оборачиваются
театром. Горе в том, что мы начали с павильонов: на
натуре, я в этом уверен, способы выражения скорее бы
нашлись. А пока мы заняты тем, чтобы сократить как можно
больше «художественность», убрать признаки «стиля».
Только Енею по плечу такая задача.
Сколько труда положил Вирсаладзе, чтобы его труд
стал незаметным на экране. Чем же занимается Солико
Багратович на нашем фильме?.. Мне трудно подыскать
определение. «Костюмы»? Нет, его искусство выходит
далеко за рамки этого дела: он создает не костюмы, а целые
ансамбли, облики миров трагедии. Эскизов на этот раз
почти нет. Ничего не делается вне живого человека,
характера, мысли, заключенной в образе: между платьем
герцога Корнуэлского и Олбэнского (люди одного века,
одного титула) нет ничего общего. Ему удалось добиться
реальности исторического мира, начисто лишенного всего
«костюмно-исторического».
Еней утешает меня: в Казантипе (предложенное
Евгением Евгеньевичем место натуры) все образуется, найдет
свои формы. «Куски правды» добываются нами, как
крупицы золота, зато шлак вырастает горами. Эти крупицы —
в пластике шекспировского фильма —* открываются, когда
в сочетании явлений находишь не натуралистическую, а
поэтическую связь; когда значение предмета в кадре
бывает не буквальным, а метафорическим. Чтобы преодолеть
натурализм «живой фотографии», ищешь точки
притяжения разнородных элементов, их внутреннее единство.
Во время постановки «Гамлета» я переменил несколько
вариантов съемки монолога «Быть иль не быть». Задача
состояла не в том, чтобы найти место (естественное по
действию), где герой мог бы произнести эти стихи, а в том,
чтобы открыть связь духовной жизни героя и
материального мира. Сперва я думал о контрапункте: Гамлет шел —
очень долгим проходом — по Эльсинору; он шел как бы
сквозь жизнь, ту, в которой лучше «не быть»: во дворе
замка муштровали солдат, они отступали назад и с разгона
вонзали пики в чучела — Дания готовилась к войне; он
Пространство трагедии
123
шел через зал, где писали под диктовку дети, слышался
голос учителя, скрип перьев; на мыслях Полония (из
поучений Лаэрту) воспитывалось новое поколение («Рядись,
во что позволит кошелек, но не франти... По платью
познается человек...»); сливались вместе барабанный бой,
рявканье солдат, нудный диктант. Звук, то тихий, то
угрожающе громкий, сопровождал слова (внутренний
монолог) — получался своеобразный диалог: голос жизни
и мысли о ней. Вариант показался мне иллюстративным,
и я отказался от него.
Я стал думать о прогулке в лесу, часть которого
сгорела: от живых деревьев — к черным, обуглившимся и,
наконец, к выжженной земле... Нет, тут какой-то
символизм. Может быть, стоит основать все лишь на ритме?..
Гамлет в каюте корабля во время непогоды, все ходит
ходуном, волны перекатываются через борт, слова то
возникают, то пропадают в реве бури, скрипе снастей. Или,
может быть, удлинить время действия: Гамлет идет одной
и той же походкой, а в кадре день сменяется ночью, опять
светает, темнеет, меняется погода. Сколько он думал —
часы? дни? недели?..
Потом в старинной части Таллина мы нашли длинный,
очень узкий переулок; Гамлет, только на одном
панорамном кадре, должен был проходить вдоль стены; плоскость
чуть оттеняли сухие растения, выросшие на камне, где-то
было выщерблено, и, главное, на одно место (попадая
сквозь дыру в противоположной стене) падал узкий
солнечный луч, единственный в однообразии серости, камня.
Мы несколько раз репетировали на этой улице, но солнце
подводило, а ждать больше не было времени.
Последний вариант (тот, что снят в картине) мы нашли
в Крыму, на берегу: камни образовывали заторы, и, чтобы
выйти к морю, нужно было сворачивать, обходить другие
нагромождения. Кинокамера следовала за Гамлетом —
надвигались холодные, серо-черные поверхности, за одним
тупиком следовал другой.
Все дело было в том, чтобы связать ритм движения
кинокамеры с ходом мыслей героя.
Первый монолог Лира (отказ от власти, раздел
владений) оказался крепким орешком: торжественный склад
124
Пространство трагедии
речи, завязка, основанная лишь на словах, все это было
мало выразительным для фильма. Получалось что-то
вроде сидения между двумя стульямл; из-за купюр терялась
сила стихов, и кинокамера оставалась не у дел. Работа не
шла. Конечно, сам характер героя говорил за себя, но как
раз здесь он говорил условными словами, а это было
первым его появлением. Условность мы преодолели. Внимание
со слов переключалось, на карту: справедлив ли раздел?
равны ли доли наследниц? Лир на середине строчек
склонялся над картой; паузы придавали тексту естественность,
слова казались более жизненными. Но, одновременно,
слова как-то угасали, да и образ тускнел. Жизненность
(в этом месте!) умерщвляла поэзию. Но и поэзия была
риторичной. Что тут было поделать? Мы изменили
подтекст: карта для Лира не кусок пергамента и топографские
схемы (на старинных картах — аллегорические рисунки),
а живая память; король расстается не только с короной, но
и со своим прошлым (нечто вроде прощания Отелло с
«пернатыми войсками»): эту крепость он завоевал, здесь им
возведены укрепления, а здесь они разрушены по его
приказу. Его могуществу нет предела: а не изменить ли
течение реки? На месте ли эта гора? Передвинуть гору!..
Странная, детская, но и чем-то зловещая игра: палец
короля добавлял реке излучины; как бы забрав в ладони
лес, Лир переносил его с юга на север. Новые планы?
Забава? Вера в то, что он действительно повелевает горами
и морями? А пока первые люди государства в залах, толпы
у стен замка ждали решения своей участи. Тут, пожалуй,
кинокамере нашлось бы дело. И сидение между стульев
кончилось; можно было поудобнее устроиться на одном,
кинематографическом. Но стул этот не принадлежал
автору, и дело мы сами себе придумали. Шекспировская поэзия
здесь была другой. Можно было пытаться передать ее
иными средствами (даже без слов), но ничего вопреки ей
сделать было нельзя. Нельзя не потому, что законы
ограждали классическое наследие («народное имущество») от
посягательств,— нет в искусстве таких законов. Все
обстояло куда проще: не было смысла этого делать. Не стоило.
Недавно я прочитал в газетной статье, что режиссеру,
взявшемуся поставить Достоевского, предстоит, по
мнению критика, решить трудную задачу: он должен вступить
Пространство трагедии
125
в спор с автором. Прочитав это, я удивился: почему же
должен? Сложность состоит, конечно, не в том, чтобы
затеять такой спор; затеять, разумеется, можно,— если
так уж приспичило. Можно и другое затеять: например,
встретив чемпиона по боксу, затеять с ним драку,
посмотреть, как говорится у Гоголя, какой он есть «человек
в кулаке»...
Спорить с Шекспиром мне не хотелось. Я достал все
русские переводы, сравнивал их с подлинником,
вчитывался в английский текст. Несуразность того, что я
пробовал делать, стала для меня очевидной: ведерком
«жизненности» я пробовал зачерпнуть водяной вал. В
репетиционной комнате, увлеченный артистами, я потерял
ощущение общего. Поэзия не вмещалась в пределы того,
что мы называем характерами. Люди, бесспорно, многое
значат в трагедии, очень многое, но далеко не все. И текст
не всегда принадлежит действующему лицу, хотя в театре
его произносит исполнитель-роли.
Текст «Лира» поразительно пестр: библейские тирады,
деревенские поговорки, риторика, заумь, изощренная
ругань...
В чем смысл такого перенасыщения? Зачем Эдгару,
когда он прикидывается юродивым, нужно столько
пословиц, песен, причитаний, чтобы его не узнали? Молчание
или бормотание меньше привлекли бы к нему внимание.
Может быть, правы те, кто упрекал автора в нарушении
меры, презрении к жизненной правде?.. Если слышать
в таких текстах лишь реплики героя, то критики правы. Но
стоит отличить в словах не только голос одного человека,
но и голоса самой жизни, каких-то ее огромных слоев, и все
покажется другим. «Лир» — не одна лишь драма группы
людей, связанных фабулой, а поток истории: несутся,
мешаются целые уклады жизни, общественных состояний.
В гуле трагедии слышны не только отдельные голоса
(жизненные, в полном смысле этого понятия), но и слитные,
мощные ансамбли, хоры. Это не Эдгар прикидывается
нищим, чтобы скрыться от погони, а сама нищета —
деревенское горе горькое — воет, причитает, ходит по миру,
негде приткнуться, нет мочи терпеть... Если эти слова лишь
реплики Эдгара, они излишни; если в них картины бесправ-
126
Пространство трагедии
ной жизни, то они не только необходимы, но все здесь
на вес золота; здесь набирают силы крутые волны
трагедии.
С Эдгаром, ставшим нищим, входит в поэзию,
раскрывается во всю ширь пространство горя: география нищей
страны, беда без края и конца — жалкие хижины,
разоренные деревни, вытоптанные поля; всюду — бездомные,
униженные... Если этот поток станет материальным —
экранной реальностью, могут отпасть слова, и на долю
Эдгара останется сказать лишь то, что вызвано жизненной
драмой, что неоспоримо правдиво. Но один голос должно
подхватить многоголосье, иначе волна превратится в
жалкий ручеек.
Ну, а первый монолог Лира? Как разгрызть этот
орешек — это место пьесы, влекущее за собой или
декламацию, или, того хуже, выдумки «подтекстов», чуждых
тексту?.. Не эти ли стихи настраивали трагиков на грим
«титана» — при седой бороде до колен такая речь все же
более естественна. Однако манера речи многих других мест
роли совсем иная — ив гневе, и в страдании, и в иронии.
Чтобы открыть суть монолога, иногда важнее понять не то,
что он сам по себе значит, а посмотреть, с чем он
контрастирует.
Пьесу начинает пустая болтовня Глостера: шутки над
«грехами молодости» (разговор в мужском клубе, по
определению одного английского исследователя). И сразу же
не переход, а обрыв: вместо прозы — стихи; круто
меняется ритм, тон. События выходят на холодный простор
государственной власти, здесь другой счет, иной ход;
речь — уже не выражение человеческих мыслей и чувств,
а изъявление воли, вынесение решения; это не монолог,
а манифест... И тут у меня возникла рискованная мысль:
а что если именно это — стиль документа — не только не
сглаживать, а, напротив, подчеркнуть. Не говорить, а
читать. Читать, разумеется, не королю (не такой у него
характер), а его сановнику—в каком-нибудь
пятнадцатом веке он занят тем же делом, что и наши радиодикторы;
в то время, когда другой человек будет читать королевский
манифест,
Лир может вести себя так, как присуще его характеру.
Пространство трагедии
127
Шекспир написал этот образ так, что каждый поступок
Лира, с первого же, неожидан; нельзя предугадать, что он
сделает дальше, на какие выходки окажется способным.
Ничего в его поведении заранее предвидеть нельзя. Это
прерывистый ход самой поэзии, причудливые смены ее
ритмов и образности. Так и будем снимать: неожиданность
не только с появления, но и со знака о выходе.
В звуковом кино выразительна тишина: попробуем
создать силовое поле молчания, пространство страха — не
дай бог, заскрипят сапоги, дыхание станет слышным. Ни
звука, гнетущая тишина огромных помещений. Только
перемена выражения глаз придворных: минута
приближается, сейчас... И тишину нарушает сигнал, знак выхода.
Фанфара? Нет. Барабаны? Нет. Пушечный выстрел? Нет.
В мертвом молчании зазвенел — далеко за дверью, но
отчетливо — шутовской бубенчик. Важные старцы (те
самые, древние, с окаменевшими лицами) торжественно
двинулись вперед, подошли к кованым железным дверям,
встали по бокам. Бубенчик ближе, теперь слышен и смех,
лязгнула дверь: в глубине комнаты два веселых человека
заняты какой-то игрой, один мальчик-шут, у другого (он
виден только со спины) седая голова.
«Всегда одной ногой в гробу,— написал однажды
Вольтер,— второй выделывая прыжки...» 78.
К счастью (или к сожалению?), кончились для меня
времена буйных экспериментов. Лира — «старого
эксцентрика» мне уже не сделать, но пусть в самой глубине
образа звенит, заливается бубенчик — салют ФЭКСу
(Фабрика эксцентрического актера)! Мне кажется, что
я этим ничуть не вступаю в спор с автором.
Стараясь найти хоть какие-нибудь черты облика, я
всматривался во множество портретов, вспоминал
людей — философов, ученых, поэтов — всех, кто
внешностью, возрастом, причудами ума мог хоть чем-то (пусть
самой отдаленной ассоциацией) помочь мне что-то
ухватить в нашем герое. Я вглядывался и в фотографии Андрея
Белого, его седину, глаза, вспоминал написанные после его
смерти стихи Мандельштама: «На тебя надевали тиару —
юрода колпак... учитель, мучитель, властитель, дурак...
непонятен — понятен, невнятен, запутан, легок.
Собиратель пространства... птенец... бубенец» 79. Набор несоеди-
128
Пространство трагедии
нимого, невозможная пулеметная очередь: каждая пуля
мимо, а все вместе — точно, в цель; резкость определения,
как щелчок, а следующее — опровержение первого, и
опять щелчок, опровержение; в граде щелчков отсчитыва-
ется ритм, в ритме — шаг, походка, резкость
неожиданного жеста, смена интонации поперек фразы.
Шутовской бубенчик, как зачин, первая взятая нота,
задающая тон дальнейшему. Бубенчик — это язык,
показанный напыщенности и высокопарности; презрение к
«геометрии». Лир — единственный вне «схемы»; ни на кого не
глядя, он идет, минует ступеньки к трону, проходит мимо
замерших герцогов и лордов — не к самому
высокому месту, центру, а в сторонку, к простой табуретке
подле камина. Никаких атрибутов власти. К чему ему трон,
корона, скипетр? Мановение пальца, и все будет
исполнено.
Планировка — Лир, сидящий у камина,— многое
определила; отсюда начался зрительный мотив, одно из тех
«остриев» — предчувствий, опор стиха, о которых писал
Александр Блок; на острие этого кадра мы накинем край
нашей зрительной ткани. Это расположение фигуры не
только в пространстве, но и во времени: движение назад,
в глубь веков. Так сплетается ткань изображения.
Камин — очаг — домашний очаг. Лир, старший в роду,
соберет младших; род соберется у огня; отсвет
патриархального костра упадет на лица..Кадр такой же элементарный,,
как фраза притчи: «Жил-был старый король, и были у него,
три дочери». Мы снимаем — через камин на зал (глубина
смутно освещена), по низу кадра горят дрова; старый
человек греется подле огня; из неясной дали (зала?
времени?) выходят вперед (постепенно становясь отчетливыми)
три женщины: дочери подошли к отцу (четыре фигуры во
весь широкий экран); разгорается костер, потрескивают
дрова; Лир говорит свои первые, начисто лишенные
риторики слова: «Ну, дочери, скажите...» Дым, будто пелена
времени; сноп искр взлетает в воздух.
«Рифма» — камин в поместье лорда Глостера; там все
выглядит куда обычнее: скромные размеры очага, меньше
пламя; здесь, в тепле и тишине, сидя в спокойном кресле,
хозяин отдыхает от придворных волнений; уютное место
для старого человека. И здесь же, прикрутив его веревкамд
Пространство трагедии
129
к креслу, ему вырывают глаза — на любимом месте у
домашнего очага.
Огонь играл значительную роль в пластике нашего
«Гамлета»; в «Лире» мы уделим ему еще больше внимания.
Я выстраиваю (для себя!) драматургию мотива: огонь
домашнего очага; блуждающие огоньки — факелы
королевского обоза; костры завоевателей на городской
площади; Эдмонд поджигает солому на крыше — приказ
солдатам жечь деревни; катапульты забрасывают в крепость
бочки с горящей смолрй; горит город, пылает земля. Печки
торчат в пустоте на пожарище — конец притчи о короле
и трех его дочерях.
Размах движения от огоньков очага до испепеленного
мира; от еле слышного «ничего» Корделии до плача Лира
над ее телом, до воя и скрежета охваченного пламенем
пространства. Память о музее Хиросимы: человек
научился высекать огонь, чтобы облегчить себе жизнь.
Конечно, это не более чем внутренние сцепки, только
притяжения и отталкивания зрительных клеток — нечто
вроде зрительных «аллитераций». Такие связи не могут
выйти на поверхность, открыться белыми нитками
«смысла», иначе — куцые аллегории и плоские сопоставления,
значит, Шекспир здесь и мимо не проходил.
Еще о «мотиве огня».
Мы снимали на фоне горящих дров несколько смен, но
однажды, придя на съемку, я увидел в нашем павильоне
пожарных, они устанавливали в камине какие-то рожки,
пахло примусом. Дрова, сказали мне, больше гореть не
будут: пожарная охрана запретила, однако
«художественное качество не пострадает, все будет выглядеть так же,
как если бы дрова пылали взаправду». Взаправду была
только вонь бензина. Над нетронутыми полешками
подымались ровные газовые язычки. В павильоне собрались
одетые и загримированные артисты (некоторые приехали
в Ленинград только на один день); центром внимания стал
не король Лир, а пожарная охрана киностудии. Началась
сложная деятельность: по команде включали горелки,
пиротехник поджигал дымовую шашку, запускали
вентилятор, дым шел на камеру, а горелки жили своей жизнью;
отдельно от дров... Проветривали ателье, дымовую шашку
Г. Козинцев, т. 4
130
Пространство трагедии
переносили в другое место, иначе повертывали вентилятор.
Вонь была такая, что становилось дурно. Возникали новые
рационализаторские предложения... В такие часы я
ощущаю полную свою ненужность. Для чего я нахожусь
здесь?.. Один кадр, снятый за эту смену, все же попал
в фильм; я испытываю почти физическую боль, когда вижу
его на экране...
Меня всегда интересовали не только
натуралистические, но и внутренние связи между людьми, вещами,
пространством. Соломон Михайлович Михоэлс
рассказывал, что планировки в спектакле «Тевье-молочник» (он
играл заглавную роль) были связаны для него с двумя
местами: дверью и печкой. Дурные новости приходили
извне; Тевье узнавал их, стоя у дверей, а с улицы дуло. Все
радостное происходило у него подле печки; добро
связывалось с теплом, горе с холодом. В народной поэзии такой
параллелизм обычен.
Как пример мейерхольдовского искусства Соломон
Михайлович приводил мизансцену из «Дамы с
камелиями» 80: Арман бросал Маргерит на игорный стол, будто
ставку. Такие планировки не выглядели подстроенными:
печка и дверь на улицу естественны & комнате бедного
молочника, и ситуации пьесы Дюма-сына позволяли Арма-
ну грубо отбросить свою любовницу, а стол, за которым
сидели игроки, находился рядом. Метафоры не казались
нарочными.
Иное дело, когда планировка впрямую подыгрывает
сцене. Коммерческое кино сфабриковало комплекты
настроений: любовь на красивом поэтическом фоне,
убийство в специально таинственной обстановке и т. п.
Киноискусство часто начиналось с разрыва таких связей, с
пародии на них. В «Алчности», фильме 1924 года,
опередившем многое в истории кино, Штрогейм в бешенстве
выворачивал наизнанку все голливудские штампы: лирические
эпизоды игрались в нарочито прозаической обстановке
(любовная сцена в кабинете дантиста во время
пломбирования зубов), зато мерзкое убийство режиссер показал на
сентиментальном фоне — разукрашенной игрушками и
свечами рождественской елки.
Пространство трагедии
131
Не думаю, чтобы на Штрогейма повлияла современная
поэзия, ее увлечение антипоэтическим словарем;
приближались войны, фашизм: сентиментальная условность на
экране казалась оскорбительной.
Время действия (приметы какой-то эпохи)—лишь
частность «времени» в шекспировской поэзии.
Хронологией в ней, как известно, и не пахнет: самый тонкий нюх
историка не почует следов дат; однако другие отсчеты
легко заметить, и стрелки часов движутся, и отрываются
листки календаря. Лир немедля, сегодня же (через
считанные часы) покидает свой замок; ему восемьдесят (уже
исполнилось) лет; нетрудно высчитать сроки приездов
и отъездов героев... Но есть в трагедии не только время
человеческих дел и жизней, а и возраст мысли: иногда она
принадлежит не одному действующему лицу, а
человечеству — большим срокам его развития. Я имею в виду не
законченные философские системы, а слои поэзии.
Они видны отчетливо. М. Л. Лозинский говорил мне,
что, когда он работает над переводом Шекспира, ему
иногда кажется, будто перед ним поэма, написанная
одновременно Блоком, Державиным, Маяковским,
Баратынским. Михаил Леонидович называл и другие имена; дело
было не в них самих, а в невозможности их сочетания.
Переводы Лозинского были виртуозными: чтобы передать
контрасты подлинника, он вводил в русский текст язык
восемнадцатого века, славянизмы. Его труд вызывал у
меня огромное уважение, но близки мне были переводы
Пастернака (скорее русские версии) — естественный,
современный язык. Однако различие поэтических пластов
хотелось передать и мне. С чем можно было бы сравнить
эти пласты?.. Пожалуй, с теми отложениями — толщей дна
океана, которые с помощью приборов, врезающихся в
грунт, изучают ученые. Океанологи находят не только
материю, органические и минеральные вещества, но и
время — эпохи. «Донные отложения,— пишет академик
Л. А. Зенкевич,— это своеобразная крупномасштабная
летопись Земли» 8l. Именно это хочется и мне выявить
в пластике: крупномасштабную летопись мысли — донные
отложения верований, заблуждений, пророчеств,
отрицаний — слои веков.
5*
I3S
Пространство трагедии
Образ рода у «патриархального костра» появится лишь
на мгновение (все должно идти, не нарушая внешнего,
естественного хода), а затем — в иных кадрах — выявится
«острие» другого пласта: на натуре, у развилки дорог мы
вкопаем в землю грубое, деревянное распятие; Корделия
и французский король преклонят колени,
монах-подвижник обвенчает их, а вдали замигают огни, языческое
великолепие короля тронется в путь — псы, ловчие птицы,
охрана, челядь, телеги, груженные драгоценными вещами.
«Рифма» отзовется через несколько частей фильма
в кадрах привала французских войск; Лир и Корделия,
коленопреклоненные (так у Шекспира) подле простой
солдатской телеги. И последний отклик того же пласта:
отец и дочь со связанными веревкой руками среди
вооруженных до зубов солдат; железо шлемов, щитов, мечей.
Булавы с гвоздями, чтобы крошить черепа, алебарды
с зазубринами, чтобы раны были рваными,— все орудия
убийства, уничтожения, и два бессильных человека,
победители со счастливыми лицами.
Часто то, что в пьесе лишь реплики, у нас станет
сценой: циклы кадров продолжат, выявят не только
строчки стихов, но и целый пласт поэзии, не только Корделию —
действующее лицо, а действующую поэтическую идею: свет
духовной силы, способной победить материальную.
Другой пласт, иное мироощущение: гонимый, нагой
Эдгар на бескрайнем просторе земли — вольный разговор
вольного человека с ветром.
В таких зрительных образах — само движение
трагедии, размах ее поэтических мыслей. Босой Лир в рубище,
среди отщепенцев, на голой, кремнистой земле: еретик,
обличающий мир в грехах и пороках... Нельзя искать
в таких образах буквального Смысла — христианского,
языческого, философии стоицизма или какой-нибудь иной.
Нет этого, и не может быть: Шекспир враждебен всякой
догме, но часто cтpoиfeльный материал, которым он
пользуется, оставлен историей, обожжен историей. Вот этбт
обжиг — клеймо веков — и хочется передать, углубить им
пластику, дать характер движению. Куда же направлен
этот ход — в прошлое? к Ветхому завету? раннему
христианству? Но Шекспир не пересказывает историю, а
воссоздает ее в живом движении — нет ему конца и не отыскать
Пространство трагедии
133
начал. Это в театре падает занавес, а в истории все
продолжается. Слой за слоем громоздятся пласты,
набухающие кровью и слезами поколений...
Вот год, в котором я тружусь над «Лиром»: войны то
в одном, то в другом конце земли; каждый день без отдыха
убивают людей; поджоги в мировых столицах, горят целые
кварталы; летят гранаты со слезоточивыми газами; бушует
молодежь, и войска врываются в университеты;
комендантский час, танки въезжают в город. Убит Мартин
Лютер Кинг — борец против насилия. В газетах фотографии:
новая полицейская форма — стальной шлем,
закрывающий голову, только узкая щель для глаз; все тело
закрыто броней, огромный щит... Какой же это век?..
Так называемая «эпоха» в трагедии — не замкнутое
историей время, а открытое историей пространство; все —
движение, прошлого вовсе нет; древняя тьма вползает
в будущее; угасший свет надежды вспыхивает,
разгорается; всё в пути. Куда?.. Дороги назад, вспять, в
праисторию; пути вперед, дальше, круче, за горизонт. В неведомой
точке времена пересекаются: прошлое угрожает стать
будущим, а будущее уже было. Кто сказал, что автор
отражает старину? Он вмешивается в современность.
Пьеса как бы заведена на две пружины, два хода:
внешних событий и внутренней жизни человека. Что
касается первой «большой пружины», то обычно (в числе
источников) называют историю Голиншеда (автор на ней
вырос); мне кажется уместным иное сравнение — не с
летописцем, а с газетным хроникером (увы, бульварной
газеты). Второпях выбалтываются, выпаливаются
заголовки: подлоги, преступления, заговоры, кровавые
убийства, .небывалые стихийные бедствия. Только и читаешь:
«Под страхом смерти!», «Седлать коней!», «Немедля,
скорее!» Хлопают двери, падают престолы, скачут гонцы,
перевороты власти. И — другой завод, иной ход; никакого
счета времени больше нет: сколько часов (веков?)
созревала эта мысль, застывали в сознании слепки реальности,
накоплялись мельчайшие детали и расходились огромные
круги обобщений; от человека к человеку передавалась
мысль, она переходила за пределы эпохи и заставляла
людей нового века заново вдуматься в суть развития.
134
Пространство трагедии
«Время» в «Короле Лире» — не вымеренный ход минут,
а лавка сумасшедшего часовщика: сколько здесь
циферблатов и сколько стрелок? Тут и замедленное движение
памяти назад, и внезапные рывки вперед — мысль,
прикасающаяся к будущему.
Когда возникает в фильме такая мысль, события,
пространство должны уйти за рамки кадра, на экране
живут только одни глаза, ничего, кроме глаз. Да, форма
эта — концерт рояля с оркестром. Партия рояля — глаза
Ярвета.
Две девочки-школьницы, дочь бригадира осветителей
и ее подруга, пришли в ателье посмотреть съемку. Я
невольно волнуюсь, все же первые зрители. Волноваться,
конечно, бессмысленно: что можно понять по отдельным
кадрам? Декорация заставлена аппаратурой, трудится
съемочный коллектив, артисты повторяют несколько
реплик. Я сам толком не знаю, как это будет выглядеть на
экране. И что за сюжет для десятилетних девочек?.. И все
же, делая вид, будто я кого-то ищу, я оборачиваюсь и как
бы невзначай поглядываю на школьниц: интересно ли им?..
Увы, через полчаса гости направляются к выходу. Так
быстро? Я догоняю школьниц: «Что, девочки, так скучно
смотреть?» «Нет,— отвечают они мне,— интересно, только
дышать здесь трудно. Можно, дядя, мы погуляем немного
на воздухе и опять вернемся?»
Первый деловой и правдивый репортаж из ателье,
который мне удалось услышать.
13
Самолет «ТУ-104» подрулил к аэропорту; наконец-то
я вырвался из павильонов. Вернее сказать, павильоны
вырвали из-под меня: наши декорации разбирали по
частям, крошили. Не успевали мы снять последний кадр
какой-то точки, как сразу же на этом месте закипала
работа: рушили и строили. «Столовую Гонерильи» теснила
«Спальня Любови Яровой», в «Поместье Глостера»
вползал «Кабинет полковника милиции» (очередной детектив).
Постижение шекспировского мироощущения, и без того
Пространство трагедии
135
нелегкое, осложнялось стуком молотков (прерывали
только на момент съемки): нас выживали из павильона,
оттесняли к выходу, а за открытыми дверьми было видно,
как отправляют на вокзал грузовики (на кузовах ящики
с надписью «Король Лир» — костюмы и имущество
фильма). Я отвоевал — уже последние силы! — крупный план
Ярвета (на фоне еще оставшейся стенки) и сдался.
Теперь мы направляемся к месту экспедиции;
дальнейшая часть маршрута в стороне от больших трасс. В поле,
заросшем травой, мы разыскиваем «Ан-2». Несколько
пассажиров загорают, рвут полевые цветы, ожидая летчика.
Как славно, что самолет стоит попросту в поле, что поле не
выпололи, не заасфальтировали, не перечертили линиями,
цифрами, сигналами и что не какая-то счетная машина
сработала — выбросили номер рейса, а просто этот парень
вышел из сторожки, надевая на ходу куртку, и крикнул
веселым голосом, по-домашнему: «Собирайся! Поехали!..»
Давно я так хорошо не летал: вместо обезличенных
облаков на ничейном небе (пейзаж из реактивного самолета,
все равно где — в Японии, в средней полосе России) прямо
подо мной маленький человеческий мир — невысокие дома,
велосипедист едет по дороге, стадо коров, мальчик в саду,
задрав голову, машет (мне!) рукой... Так в очень давние
времена, неторопливо и уютно, можно было поездить на
татарской таратайке под парусиновым верхом по Крыму.
Хорошо бы и теперь вот так, невысоко, приятно
покачиваясь, полетать по миру, осмотреться не торопясь, подальше
от стеклянных громад аэропортов, толп, потоков прибытий,
отбытий, косноязычия неумолкающих информации:
цифры, часы, рейсы, минуты и, как рефрен, какую-то фамилию
требует какая-то фамилия, и опять рейсы, задержки,
отправки, раскаты трясущихся от ярости моторов...
Интересно, можно ли вот так, покойно, неторопливо, летать
и дальше, на перекладных, от одного зеленого пастбища
к другому, где пасутся, поджидая приезжих, стреноженные
самолеты и летчики пьют чай в маленьких сторожках?
Отличный отдых, чем не санаторий? Обстановка
успокаивает, отвлекает от тревог, а покой ох как нужен... Что же
все-таки у нас получилось?.. Перед отъездом я заперся
в просмотровом зале: средний уровень в снятом материале
как будто достигнут (прекрасное дело «средний уро-
136
Пространство трагедии
вень» — для «Лира»!), артисты, на мой вкус, хорошие,
и подбор их кажется мне верным, но... Вся суть в этом «но».
Нет той нарастающей подземной силы, которая всем
движет,— непрекращающихся ударов «бичей ямба», о
которых писал Александр Блок 82. В театре это напор ритма
полного текста. Но на экране иное единство, другие законы
ритма — круговорота жизни во всей ее реальности.
Простор пейзажей, мощь природы дают иной характер и
павильонным кадрам, за стенами открывается мир. Может
быть, когда появятся эти кадры, и актерские сцены
приобретут масштаб. Может быть... А вот что несомненно: без
них характеры людей (как бы ни старались артисты)
покажутся комнатными и запестрят прорехи купюр.
Невеселые мысли. Хватит думать, уже обо всем передумано.
Что теперь видно под крылом?
Под крылом появляется какой-то клин — рельеф, резко
отличный от местности: безжизненная рыжая, коричневая
земля, перечеркнутая темными зигзагами, штрихами —
будто ударами кисти, пятнами, как брызги чернил на
промокашке. Солончаки? отложения глины? заброшенный
карьер? Пустыня, но совсем не похожая на Азию; призрак
безжизненного мира, полотно Кандинского, которое
раскатали.на десяток километров. Исчез последний клин, опять
пошли луга, изгороди.
— Высохший Сиваш,— обернулся ко мне летчик.
Целый день мы трясемся по бездорожью; никто толком
не может показать пути, водитель отказывается дальше
ехать — погубим машину. Наконец, измученные,
запыленные с ног до головы, мы добираемся до высохшего русла:
мертвая земля на долгие пространства, ничего не растет,
кроме колючек, бурьяна. Чередование невысоких холмов
и кочек, темных разводов и впадин образует свой ритм,
волны повторов, всюду пустота, горизонт, бесконечность...
И непонятно по какой причине появляется уверенность, что
здесь мог вести своего слепого отца несчастный изгнанник
Эдгар, а может быть и Лир с шутом бродили после бури.
Почему же их судьбы, фигуры вяжутся с такой природой?
Видимо, потому, что пространство сурово, жестоко,
лишено географических черт. Это не окрестности поместья, не
поля подле замка, это какая-то иная почва. Земля траге-
Пространство трагедии
137
дии. Мы стоим на ней. Нет, это уже совсем не дощатый пол
ателье «Ленфильма». Совсем иной разговор... Но как
организовать здесь съемки? Ни дорог, ни жилья,
небольшой дождь — и застрянут машины, отсюда тогда не
выбраться. И все же настроение хорошее: мы увидели землю,
по которой могли ходить шекспировские герои; появилось
главное в нашем деле: вера, ощущение реальности
задуманного; значит, все-таки можно снять несуществующий
мир, значит, он, пусть частями, но где-то существует,
можно уловить его закономерности, открыть связи, населить
его людьми.
Начинается цыганский быт киноэкспедиции. С раннего
утра мы объезжаем берега Азовского моря, лазим по
горам. Все мы помолодели. Бросаемся наперегонки со всех
ног, увидев вдали что-то, кажущееся нам интересным,
подходящим и, вскарабкавшись крутыми тропками, пугая
ужей и ящериц, на самую верхушку горы, видим, что наше
подходящее место — ну совсем никуда не годится, вовсе
«не то». Объезжаем бухты с моря, расспрашиваем местных
жителей. Места, которые мы ищем, редко лежат «на
блюдце», как бы специально для нас приготовленные. Так не
случается: природа фильма скрыта, запрятана под другим
покровом, ее вначале скорее не видишь, а чувствуешь,
угадываешь возможность ее присутствия. Сейчас здесь
подпрыгивает на ухабах колхозный газик, бегут босоногие
ребята с удочками, «дикари» раскинули свою палатку, лает
приезжий городской пес, на веревке сушатся купальники...
Но вот за теми деревьями и густыми зарослями
кустарника — нагромождение каменных пород. Как похоже оно на
следы гигантского взрыва... Может быть, срубить все эти
сухие деревья? Выжечь кустарник?.. .
Какое счастье после павильонов (я разучился в них
работать) присесть вот здесь на берегу моря и составлять
план дальнейших действий. Еней прутиком рисует на песке
чертеж: «мир после катастрофы». Работы здесь, конечно,
очень много — что поделаешь? Но игра стоит свеч. «Это,
конечно, будет масштаб»,— говорит дорогой Евгений
Евгеньевич, так и не осиливший за полвека (с тех пор, как
бывший военнопленный австро-венгерской армии стал
художником) русских ударений.
138
Пространство трагедии
«Дикари» подошли поближе, радуются: приедут
артисты, посмотрим съемки... Бедные, они не знают, что завтра
рано утром запах солярки и гари отравит морской воздух,
жарко запылает кустарник; приедут грохочущие на всю
округу краны, начнут тасовать многотонные камни...
Предложение Енея снимать здесь, на мысе Казантип,
было отличным: сквозь окрестности рыболовецких
колхозов начинают вырисовываться, просвечивать владения
Лира. Мы находим опорные точки пейзажа, черты его
характера. Герцен писал о старых камнях Европы, теперь я
часто вспоминаю эти слова, хотя речь шла совсем о других
камнях. Старые камни — летопись земли, история,
написанная глыбами и обломками; на каждом — свое тавро,
клеймо эпох. Зарылись глубоко в песок округлые валуны,
навалились один на другой шершавые громады, рябые,
будто от оспы... Леонардо да Винчи учил художников
вглядываться в пятна сырости на стене: в плесени таятся
эскизы сражений, наброски морских бурь...83 В этих
камнях, стоит только походить вокруг них, всмотреться с
разных уровней, откроется свое содержание, особый смысл,
если угодно, целая биография. Нужно только понять, что
мешает, «что не относится к делу». Если убрать с этого
поля несколько камней иной формы, чем у остальных, то
будет отчетлив ритм — чередование однородных
вертикальных обломков. Это обломки плит, это заброшенное
кладбище. Непонятно?.. Будет понятно; Еней вкопает на
первый план барельеф десятого века (север), такой же
формы, схожей фактуры — единственный пока знак
эпохи... Эта гряда огромных расколотых пород, если смотреть
на нее, стоя на месте, лишена формы, маловыразительна,
но стоит только пойти вдоль, глядя на нее сбоку, идти не
отрывая глаз — и общий ритм движения даст всему смысл:
навстречу вырастут разбитые колонны храмов, высокие
скрижали с какой-то клинописью, и за руинами укреплений
нависнет каменный бастион. Здесь нет ни одного
памятника истории, но это память о разоренных войной городах,
уничтоженных крепостях и замках.
Это и есть шекспировский пейзаж, та мощь реальности,
лишенной всего предметного, границ времени, которая
позволяет додумать, досочинить, вообразить во всю воз-
Пространство трагедии
139
можность человеческой фантазии. Здесь можно было бы
снять всего «Лира».
Что такое историческая география Шекспира, можно
хорошо понять по «Дувру»: в пьесе это место, где
высаживается французская армия (естественное начало военной
кампании) и куда (по естественным причинам) стремятся
герои, но это и образ края земли, дальше пустота, вечное
море. Это граница Британии. И граница, до которой
доходят люди, жизнь; предел сил, край века. А до этого —
сколько уже раз — были на земле другие века, и —
сколько раз — наступали концы... Вот что нам нужно:
концы цивилизации. Так начнется наш пейзаж: дорога
к замку Лира, путь мимо развалин эпох; каменная
летопись.
С утра до вечера мы объезжаем окрестности и
неутомимо ходим, вглядываясь в облик камней, в знаки катастроф.
«Лир» лишен всего сколько-нибудь спокойного,
плавного: герои проходят через огонь страданий, и накал его
бесчеловечно силен; не только физические мучения, но
и нравственные непереносимы. И даже дойдя до предела
лишений, казалось бы, все утратив, человек все же
встречает и еще худшее: изгнанный, оклеветанный Эдгар узнает
в слепце своего отца. Лир, познавший всю глубину горя,
находит доброту Корделии, чтобы потом увидеть ее
повешенной. Страдание судорогой проходит по миру, и даже
камни раскололись, разбились, трещина прошла по
монолитам: муки людей отдавались мукой материи. Недобрый,
изломанный, исковерканный мир: нечем прокормиться,
негде присесть, не к чему приткнуться; скудная, жестокая,
бездушная природа. Сама земля сухая, кремнистая,
тяжело ступать по ней босым ногам нищих... Так, шаг за шагом,
мы открываем землю трагедии.
Все в нашем деле, как ни старайся, идет не по порядку;
если и приходишь к какой-то системе, то бессистемным
путем. Только подумать, советский режиссер приступает
к постановке английской пьесы во время полета в Японию.
Что тут поделаешь, так случилось, с этого мне и пришлось
начать записи: на первых же страницах я старался
передать силу впечатления от старинного города Киото.
Прошло с тех пор не так уж много времени (года полтора —
140
Пространство трагедии
два), а мне кажется, будто еще одна жизнь прожита —
сколько всего выжжено, сдуто... И после долгих месяцев
труда над «Лиром», вглядываясь, нет, вдумываясь в камни
Казантипа (для меня шекспировские), гряды, глыбы,
обломки, я понимаю, что искусство, которому я предан,
которым живу, начисто лишено покоя. В нем не только
невозможна поразившая меня в японском саду сила
безмолвия — все в нем (даже молчание) слово, страсть
к слову, вера в слово. И все в нем — время; и не только не
врачует оно тебя, уводя от мирских забот, но, напротив,
тащит, захватив в охапку со своими героями, на «дыбу
жизни». Вот почему труд над этой трагедией непереносим
(нет и сравнения с «Гамлетом»: сколько в принципе света,
тепла); она яростно требует отзыва, отклика. «Лир» .— не
фильм, над которым трудишься, а жизнь, которая вошла
в твою и от которой уже не отделиться, не отделаться,
сняв — лучше или хуже — кинокартину. И не скоро еще
замолкнет для тебя рвущий душу, одичавший старческий
вой: «Люди, вы из камня!» Вот почему и здесь, среди
молчания каменных гряд, я слышу слово и вижу время. Мне
кажется, что не силы природы — солнце, ветер, дождь,
снег — создали такие формы пейзажа, а что лихо погуляли
по миру, поработали не покладая рук заплечных дел
мастера истории; зодчие ненависти кувалдами,
молотками, ломами нагромоздили обломки алтарей, руины
книгохранилищ, плиты оскверненных кладбищ, старые камни
Европы.
Что и говорить, прекрасна гармония, но, чтобы
поставить «Лира», нужно не чувство меры, а чувство горя.
Чего только не передумаешь, выбирая натуру для
фильма. Чудные путешествия: ищешь одно, находишь
другое, а на экране... хорошо бы получилось третье, а то
выйдет какое-то вовсе тебе неведомое тридцать пятое или
восемьдесят четвертое (счет давно утерян). Куда же я,
в конце концов, доберусь? Начали мы с борьбы со всем
театральным, искали способов показать на экране
реальность — не копию исторического орнамента, а бытие
истории,— убирали все в декорации, оставляя только
подлинный материал. Так мы добрались до казантипских камней.
Теперь можно и настоящим делом заняться: не преодоле-
Пространство трагедии
141
вать условность павильонов, а выявлять скрытый в
природе смысл. Очень долгий путь мы уже прошли. Конечно,
каждый человек развивается по-своему, и каждая эпоха
воздействует на человеческое существо особым образом,
но все же остаются, как ни говори, те же стадии: детство,
юность, зрелость... смерть. У искусства те же ступени,
только чередуются они особым образом. Бывает так, что
рождаются стариками, случается и по-иному: умирая,
вновь оживают (и сколько раз); нелегко здесь отыскать
начала дорог и предсказать, где будут их окончания.
Наша дорога к казантипским камням была в какой-то
мере не началом пути. Он уже давно прокладывался.
Различными были усилия, и человеческая мысль, и идеи
времени, казалось бы, не имели ничего общего с
устремлениями наших дней, и все же...
14
ВИТКИ СПИРАЛИ
«Вот кто мог бы быть вам интересен,— рекомендовала
Гордона Крэга Станиславскому Айседора Дункан
(разговор происходил в Москве в 1908 году).— Это человек,
всеми отвергнутый и непонятый; это потому, что он
оригинален и слишком большой художник» 84. В великом
братстве искусства такие слова многое значат. Московский
Художественный театр пригласил Гордона Крэга
поставить «Гамлета». Об этом спектакле немало уже написано.
Раньше наши критики, не углубляясь особенно в
материалы, попросту ахали: психологический реализм МХТ и
мечты о «сверхмарионетке» (в одной из крэговских
статей 85) — что между ними могло быть общего? Бес
попутал, и как хорошо, что попутал ненадолго: театр потерпел
поражение и вернулся на свою испытанную, столбовую
дорогу. Схема простенькая и на действительность ничуть
не похожая; «Драму жизни», «Жизнь Человека» (бес
попутал в этих спектаклях не меньше) ставил» в МХТ не
Крэг. «Чем больше я читаю «Гамлета», тем больше вижу
перед собой ваш образ,— писал «сторонник
сверхмарионетки» Станиславскому.— Я не могу поверить ни на
142
Пространство трагедии
секунду, чтобы что-нибудь, кроме наивысшей простоты
в передаче этого образа, могло поднять его на те вершины,
на которые поднимается Шекспир. И ничего более
близкого к этим вершинам я не видел в Вашем театре, чем Ваше
исполнение «Дяди Вани»86. В 1935 году — через сколько
лет! — увидев в Москве Михоэлса — Лира, Крэг назвал
его игру «песней»; даже в отдельных жестах артиста он
открыл глубокий трагический смысл 87. Что же, «песня» эта
была пропета деревянным, кукольным голосом, а жесты
определялись веревочкой, за которую неведомо кто дергал
марионеточную руку?.. Станиславский сразу же понял
существо дела: «отрицание актрис и актеров не мешало
Крэгу приходить в восторг от малейшего намека на
подлинный артистический талант...— вспоминал он.— Зато
при виде бездарности на сцене он приходил в ярость и
снова мечтал о марионетках» 88. Артист, впервые вышедший
на сцену еще в детском возрасте, Крэг слишком хорошо
знал и любил искусство, чтобы не отличать и не презирать
подделку под него. «Театральщину» он ненавидел так же,
как и руководители МХТ: лучше марионетка, чем такие
актеры и такая «игра»; последнее слово я беру в
кавычки — Крэг (как и Мейерхольд) не раз восхищался
открытой игрой, призывал к театральности, но одновременно
требовал и «внутренний огонь» — духовную силу, без
которой любые формы немощны, оскорбительны.
История постановки «Гамлета» в МХТ кажется мне
прекрасной именно потому, что все в ней — смелость
приглашения Крэга, резкость столкновения мнений,
решительность переоценки опыта — было полно «внутреннего огня»,
духовной силы.
Готовиться к «Гамлету» театр, по словам Сулержицко-
го, начал задолго. Художник В. Егоров, свой, близкий
театру человек, был отправлен (для страховки, на случай
неудачи Крэга) в длительную командировку. Приступали
к делу так же, как готовили в свои годы «Царя Федора
Иоанновича», всерьез, на уровне современных
исторических знаний. Егоров объездил Данию, затем Германию,
изучал музеи, архитектуру, зарисовывал пейзажи; был
собран огромный материал... И ровно ничего из этого
богатства не было использовано, ни крохотной детали.
Театральные идеи Крэга увлекли руководителей МХТ.
Пространство трагедии
143
Обновление сцены начинается чаще не с того, что
художники видят возможности улучшения достигнутого,
уже известного, а с желания опровергнуть известное как
можно решительнее. Почему? Потому ли, что привычные
формы износились, искусство вошло в рутину и все в нем
стало обыденным? Да, случается и так. Но когда речь идет
о спектаклйх — главах истории театра, дело обстоит
иначе: сами понятия «спектакль», «театр» (в их современном
значении) кажутся приниженными, обесцененными;
жизнь, время требуют от художников чего-то «большего».
Чего же они требуют? Словами это чувство
неудовлетворенности не просто и не сразу уловить; само время,
сопоставив развитие в различных областях жизни, открывает
потом смысл и таких движений. Когда теперь смотришь
эскизы Егорова и Крэга, прежде всего удивляешься:
неужели они сделаны к одному и тому же произведению?
Различны не только талант и вкус художников, но даже
самые общие представления о пьесе. Трудно поверить, что
перед глазами у художников было одно и то же сочинение.
И театры, для которых они трудились, явно были
различными: планшет сцены, техника освещения и перемен
декораций — ничего схожего. Разные пьесы, разные
театры. Егоров готовил очередную постановку для
профессиональной сцены. Эскизы были легко выполнимы:
небольшие помещения (стилизованное северное средневековье)
с низкими потолками и нишами; кирпичные арки, за
которыми видны стены крепости, полы в шашечку: маленький
мир маленькой страны. И пьеса тоже кажется маленькой.
Почему же маленькой? Неужели по одним только эскизам
можно это утверждать? Да, можно. В них нетрудно найти
черты стиля, наметки планировок, способы чередования
картин. Одного только в них начисто нет: тайны. Ни
отсвета того загадочного смысла, непостижимой до дна глубины
содержания, далеко выходящих за пределы «пьесы»,
которые побуждали художников и мыслителей вновь
перечитывать историю Датского принца, находя в ней все более
глубокое значение. В егоровских декорациях можно было
бы исполнять и другие пьесы, лишь бы время и место
действия относились к тем же историческим и географическим
координатам. Ни истории, ни географии не сыскать на
эскизах Крэга. Не было в них ни «места действия», ни
144
Пространство трагедии
«эпохи»; все было выражением только одного — тайны.
Громады неведомых построек во мгле, фигуры людей
в пустоте, одинокие площадки, скупые геометрические
формы. Все не имело окончания, уходило за пределы не
только сцены, а и реальности. Философская поэма? Пробы
уловить музыку графикой? Новый, еще неведомый театр.
Новый, еще неведомый Шекспир.
В дни шекспировского юбилея в Англии вышел сборник
«Шекспир в меняющемся мире» 89. Не вернее было бы иное
заглавие: «Меняющийся Шекспир в меняющемся мире»?..
История показала причудливую кадриль этих величин —
какие только фигуры не исполнялись в ней. До XIX века
пьесы (пусть сочиненные и гением) казались сперва
безнадежно, потом во многом устаревшими; в годы все
увеличивающейся образованности и успехов драматического
искусства они выглядели сочинениями древних варварских
времен. Их, конечно, переделывали: исключали дикость
и грубость, вводили облагораживающие мотивы. Нельзя
же в просвещенное столетие громоздить на сцене трупы,
пускать в серьезные события шутов!.. Цивилизованные
люди подправляли, омолаживали старинные примитивы.
«Меняющуюся величину» — Шекспира — дотягивали до
«меняющегося времени». На мгновение они как бы
соединялись. И в следующее мгновение над этими переделками
хохотали — до того они казались наивными, устаревшими.
Какой-нибудь Дюссис (автор переделок второй половины'
XVIII века) мигом отставал от Шекспира, бог его знает на
сколько веков,— время отбрасывало Дюссиса на свалку
допотопных курьезов: неужели прадеды и прабабушки
всерьез принимали такую архаику?..— ахало
«изменившееся время». А «меняющийся Шекспир» уже входил в
сегодняшний день, жил всей полнотой его интересов. Сами
собой отпадали дописки; восстанавливалась живая плоть
первоначального текста. Однако и сам подлинник,
оставаясь как бы в неприкосновенности, на самом деле менялся-;
подтекст (мысли и чувства «меняющегося времени») давал
словам новый смысл. Машина времени стала вовсе
разлаживаться: одни колеса крутились вперед, другие давали
задний ход; Шекспир молодел, а театры, которые его
играли (современные, отвечающие запросам дня) старели;
Пространство трагедии
145
жизнь театральных течений все более и более
укорачивалась — в десяток лет они пробегали путь от буйного
рождения до склероза. Они отставали не только от злобы
дня, но и от пьесы, сочиненной в век, когда ни поезда, ни
самолеты еще и не снились. Шекспир перегонял эпохи
пара, электричества, разложения атома, а театры,
оборудованные по последнему слову техники, гадали: как же
дотянуться до него, хоть немного приблизиться к нему?..
Перед глазами Крэга с первых сознательных лет был
лучший театр его времени. Слова о «впитывании с молоком
матери» в описании его детства не были бы фигуральными:
Эллен Терри считалась одной из самых талантливых
шекспировских актрис, труппу Генри Ирвинга отличали
серьезность и культура 90. Сам Крэг в молодости играл
Датского принца, и успех сопутствовал его выступлениям. Домом
его с детства был театр. Но вот прошло не так уж много
лет, и он без сожаления покинул этот дом; все в нем
показалось ему обветшалым. Уроки нужно было забыть, успехи
переоценить: отношения «переменных величин» опять
изменились. Человек театра стал утверждать, что
театральную пьесу «Гамлет» в театре поставить нельзя.
Утверждение не было новым: не раз до Крэга это же говорили люди,
которые шли вперед за Шекспиром и не хотели пятиться
к театру их времени91.
Что-то самое важное, наиболее глубокое в этом
произведении начисто исчезало, улетучивалось на
современной им сцене. Умозрительное, став театральной
реальностью, утрачивало духовную ценность. Существо трагедии
казалось новым поколениям все более сложным, огром-.
ным, а способы сценического воспроизведения —
бесстыдно грубыми, пошлыми.
Начался разлад «Гамлета» и театра. Впрочем, куда
раньше, примерно три с половиной столетия назад, в самой
пьесе уже говорилось о том, что театральные дела не
радуют: трагики «пилят руками воздух», хорошие сочинения
проваливаются («не в коня корм»), комики потворствуют
низким вкусам публики отсебятинами. И все же приезд
комедиантов — радость, и кто его знает, а вдруг спектакль
пробудит совесть убийцы (был когда-то такой случай)?
А вот другое искусство ставилось в этом произведении
146
Пространство трагедии
совсем низко. Вспомним знаменитый разговор: «Что вы
читаете, милорд»...— «Слова, слова, слова...»
Словами утверждалось ничтожество слов.
Несколько лет назад мне прислали сочинение
Станислава Выспяньского о «Гамлете»; польский поэт
придавал особое значение тому, что герой бродил по замку
с книгой в руках; одинокий юноша в чуждом ему мире;
студент, не расстающийся с книгой, живущий ее мыслями.
Какой книги? Наверное, это был томик Монтеня 92.
Ян Котт, вслед за Выспяньским, занялся решением той
же задачи: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто
ты. В шекспировское время — Монтень, но времена
меняются, пишет Котт, и если мы хотим увидеть не старую
пьесу, а нашу жизнь, сменим книгу в руках героя: одинокий
студент бродит по Западу, в его руках книга Сартра —
Гамлет наших дней 93.
Вот и мне пришла охота принять участие в этой игре.
Что же все-таки читает Гамлет? Рискну и я заглянуть через
его плечо. Как ни странно, но мне показалось, что автор
книги, которую он держит в руках... Вильям Шекспир.
И что вовсе не принц — действующее лицо пьесы —
говорит о каком-то чужом сочинении, а литератор высказывает
свое суждение о литературе. Писатель, забыв про героя,
говорит о своем деле: «Слова, слова, слова...»
Работая над постановкой, я иногда отличал, отчетливо
слышал звук этого голоса, примешивавшегося к голосу
героя, а то и вовсе заглушавшего его,— голос самого
автора. Конечно, принц, а не Шекспир посвящал
заурядные стихи дочери Полония, а вот эта строчка: «Слова,
слова, слова» — ощущение бессилия искусства, горечь
чувств писателя. Может быть, эта строчка поможет
отгадать и причину, побудившую поэта отложить в сторону
перо, покинуть театр: лучше торговать земельными
участками, чем пустыми словами...
Жизнь, реальность, дело. И одни только пустые слова...
И вовсе не одна какая-то книга, в которой оспаривалась
или утверждалась другая книга, имелась в виду — само
дело писателя казалось ему мнимым: строительный
материал вовсе негодный, ненастоящий. Что из него
выстроишь? Карточный домик. Замок на песке... Мысль, которую
потом подхватывали, продолжали, развивали в множестве
Пространство трагедии
147
вариаций (религиозных, политических, философских)
другие писатели. Пожалуй, наиболее решительное
высказывание: чистый лист бумаги — есть ли более совершенная
поэзия?
Теперь представим себе ту же беседу, но место ее
действия не эльсинорскии дворец, а театральный партер
и собеседник Полония — не молодой человек в
неуместном при веселом дворе темном платье, а Крэг (или
Станиславский): «Что вы смотрите, милорд?» — «Игру, игру,
игру...»
Театр развивался в ненависти к театру. Положение,
представляющееся мне важным: решительность отрицания
того, что, казалось бы, основа основ искусства и что —
пришло время — изжило себя, утратило связь с
реальностью, потеряло живой смысл, стало одной лишь оболочкой;
пустые слова; звук, не наполненный душевным движением;
бесцельный жест; условность.
История кино куда моложе театра и литературы, но
и в ней видны те же процессы.
— Что вы задумываете, синьор? — расспрашивают
бездействующего на курорте режиссера действующие лица
«872».
— Фильмы, фильмы, фильмы...
В отрицании вызревало утверждение. Искусство
вырывалось из загона, куда его затаскивало, уволакивало
ремесло. Загоны ломали. Замах, запрос — выход за
пределы возможного (того, что считали возможным),
допустимого, известного. Куда? Направление поисков, линия
развития определялась не сразу и чаще не словами, а
конфликтом различных произведений или конфликтами
внутри произведения.
— Ленты, ленты, ленты...— пожимал плечами
джентльмен в широкополой шляпе, решивший в 1915 году показать
на экране все виды нетерпимости в истории человечества.
Местом действия его картины должна была стать
вселенная; время событий — от гибели Вавилона до стачек
в современной Америке. После выхода фильма, по
убеждению режиссера, войны на земле прекратятся, все люди
станут братьями.
В годы этой постановки Дэвид Уорк Гриффит по
окончании съемки лично расплачивался с каждым
148
Пространство трагедии
участником (по доллару), а недоразумения улаживались
здесь же в декорации боксом: такова была реальность
кинодела.
Сеанс «Интоллеранс» (первый монтажный вариант)
должен был длиться восемь часов.
Примерно такой же была длина фильма 1924 года
«Алчность» (в монтаже самого режиссера); Эрик Штро-
гейм снимал и в самых обычных комнатах с видом на
улицу, и в пустыне, под палящим солнцем,— условия, по
тем временам невозможные для профессиональной работы.
Эйзенштейн начал революцию в кино с презрения
к кино: к «звездам», сценариям, павильонам.
«Спектакли, спектакли, спектакли» казались Крэгу
плоскими, ничтожными: писанные на холсте декорации,
шевелящиеся от ветра; самовлюбленные «любимцы
публики»; касса, диктующая свои законы,— коммерческий театр
для коммерсантов в партере. Не только Станиславский
и Крэг отвернулись от такого театра. Покинули сцену
Комиссаржевская и Дузе; о «кризисе театра» говорили
повсюду; сравнение театра с публичным домом стало
обыденным. Новаторы обращались к старине: обновление
искали в соборных действах, средневековых
представлениях, итальянской импровизированной комедии, в древних
традициях Японии, Китая, марионетках... Где угодно,
только не в спектаклях начала двадцатого века.
Шекспир молодел, потому что на пороге стоял
железный век и опять ломалось время: трещина проходила
через историю и через сердца. Что было до этого
театральной кассе? Набившие руку сочинители и разбитные актеры
знали свое дело; у них не было охоты совать свой нос куда
не следует. Как известно, заниматься этим делом
(«доискиваться до дна») не советовал Гамлету и его
университетский товарищ.
В год приезда Крэга в Москву Блок записал в дневнике:
«Чувство катастрофы, болезни, тревоги, разрыва
(человечество — как люди перед бомбой)» 94.
Легкий, высокий человек в мягкой шляпе и летнем
пальто сошел с поезда в московские холода. К
Камергерскому проезду вдруг придвинулась Флоренция: Крэг
привез с собой фотографии Арены Гольдони (крохотный театр
под открытым небом-во Флоренции, где он занимался
Пространство трагедии
149
сценическими экспериментами и издавал журнал
«Маска»), несколько рисунков и гравюр. Станиславский,
Сулержицкий, Крэг — что между ними, казалось бы,
общего? Но они быстро поняли друг друга. Приезжего
обрядили в меховую шубу из «Горя от ума» и боты; на
гриву седеющих волос надели «юн шапка» (как написал
в своей монографии Дени Бабле) 95.
После первой же встречи Крэг и Станиславский
отзывались друг о друге с восхищением. Что могло их
объединять? Прежде всего презрение к Полонию и его
театральным вкусам: отец Офелии, как известно, ценил
представления «пасторально-комические и историко-пасторальные»,
фарсы и похабные анекдоты. Они хотели очистить сцену от
того, что измельчало, изолгалось. Они искали способов
показать то, что таится в глубине произведения, что выше
«слов» и «игры».
Возникала новая режиссура. Спектакли часто
начинались не на сцене, а на бумаге. Станиславский писал
экспозиции постановок как прозу; его замыслы бывали
ближе к роману, нежели к спектаклям того времени; Крэг
создавал сюиты гравюр. Эйзенштейн рисовал кадры —
сотни, тысячи набросков на клочках бумаги, на полях книг.
Проза режиссера, гравюры режиссера, рисунки
режиссера...
Основой театра Крэг считал движение. Не исполнение
артистов (современных коммерческих театров), не сюжет
(«Гамлет» вырождался в романтическую мелодраму), а
конфликт обобщенных категорий. Прежде всего —
зрительных. Здесь причина, побуждающая меня так
пристально всматриваться в давние театральные замыслы. «Вперед
к новому театру» — называлась одна из крэговских
книг 96. Что же за сцена чудилась режиссеру, так и не
нашедшему себе места ни в одной из театральных
компаний Европы?.. На этой сцене будущего «Макбет»
рисовался ему совсем простым: в трагедии лишь два элемента,
объяснял он, скала и туман. Скала — это место, где
толпятся воинственные люди; туман — пристанище
призраков. Туман — это скопище влаги; влага подтачивает скалу,
испарения разъедают камень. Скала рушится.
Два элемента, этого совершенно достаточно. Горе
в том, что режиссеры обязательно хотят показать, что им
150
Пространство трагедии
известна форма шотландских папоротников и материалы
раскопок замков Гламис и Кавдор. Хватит лишь двух
оттенков — коричневого (камень) и серого (туман).
Ничего больше не нужно 97.
Рисунки к «Макбету» показались Станиславскому
прекрасными: и натуралистические детали, и старинная
утварь на сцене уже давно (по театральному календарю)
перестали его интересовать.
Можно восстановить (по эскизам и воспоминаниям
участников) первоначальный замысел Крэга. Нет деления
на сцену и зал: разграничивающая черта — занавес —
упразднена. Как продолжение зала — «ширмы». Иногда
это слово пишут в кавычках, иногда просто: ширмы. Сукна,
ширмы — какой режиссер наших дней задумывается над
такими словами, кто способен услышать в них что-то
значительное? Старые, скудные способы оформления. Но
в свое время появление ширм казалось революцией сцены.
Вокруг «ширм» шли театральные сражения. Это был не
декоративный прием, а способ постижения пространства,
открытие целых образных миров.
Одновременно с Крэгом (не зная его работ) создавал
свою сценическую архитектуру — отвлеченные,
трехмерные, скупые постройки — швейцарец Адольф Аппиа; но
сходство было только внешним. Аппиа уничтожал лишь
привычную форму декораций — писаные кулисы и
задники, натуралистическую имитацию жизни; его архитектура
тоже была только декорацией для спектакля (вагнеров-
ских опер). Для Крэга само пространство было
одухотворенным, полным движения, чувств. Человек на его
гравюрах иногда лишь подчеркивал крохотностью своего
роста огромность вселенной. Крэг, артист чистых кровей,
выбрал местом своих представлений циклы гравюр:
конфликт извечных сил тьмы и света, отношения объемов и
плоскостей.
Единицами чередующихся, трансформирующихся
объемов стали для него «ширмы». Они двигались, меняли
формы, их преображал свет. Так и должен был начаться
«Гамлет»: затихали, устроившись в креслах, зрители, и
тогда плавным, торжественным движением покидали свои
места «ширмы». Они сдвигались и уходили в мглу — танец
архитектуры, светотени. Лучи света возникали из неведо-
Пространство трагедии
151
мых источников, падали световые пятна, и плоскости
«ширм» оживали: загорались отсветы, сгущались тени.
Дания? Север?.. Все богатство деталей — узоры
тканей, формы оружия и характер предметов — то, что
зарисовал в музеях Егоров, оказалось ненужным. Все это, по
мнению Крэга, не имело для «Гамлета» значения. В смене
объемов, причудливой игре светотени раскрывалось во
всей огромности неведомое пространство. Мир, каким его
видел Гамлет, только не физическими органами зрения,
а теми «очами души», о которых писал автор.
Пустое тщеславие, ничтожная роскошь поглотили весь
мир, королевская мантия покрыла жизнь. Таким был
режиссерский замысел второй картины первого акта. Место
действия: мантия. На недосягаемой высоте сидят
коронованные властители. Золотая мантия спускается с их плеч,
занимает собой все пространство. Она и есть пространство,
а придворный мир — одни только головы, торчащие в ее
прорезях. Неисчислимое количество голов, ничтожные
точки у подножия трона взирают снизу вверх на сияющее
великолепие. Беспредельное, отливающее темными,
мрачными бликами, золотое море. Головы всплывают на
золотых волнах, точно губки. Мистические видения? А может
быть, материализация шекспировской метафоры? Принц
обзывал Гильденстерна и Розенкранца губками: король,
как обезьяна, объясняет он им, сует придворных себе за
щеку, насыщается тем, что они в себя впитали на его
службе.
Подобная метафора была в каменных костюмах Тыш-
лера; он одел в них героев «Ричарда III» — люди С
каменными сердцами не отличались от стен замков.
Ну, а сами головы? Не было ли в такой трактовке чего-
то обидного для артистического достоинства? Трудно
ответить. Хотя, пожалуй, про одну из голов сказать можно:
нашелся участник сцены, который, по словам Крэга,
понимал его замыслы даже лучше, чем Станиславский. Нет
нужды удивляться. Голова была Е. Б. Вахтангова 98.
«Мечтаю о театре...— писал Вахтангов Сулержицкому
о крэговской постановке.— И уже тянет-тянет.
Сидеть в партере и смотреть на серые колонны.
На золото.
На тихий свет.
152
Пространство трагедий
Я буду просить дирекцию допустить меня на все
репетиции «Гамлета» ".
Другую сцену Станиславский назвал «незабываемой».
Длинный, извилистый коридор, нет ему конца, и верхушки
его стен уходят ввысь, за пределы видимого. В косых лучах
прожекторов — одинокая темная фигура. Гамлет идет из
глубины, отражаясь в золотых плоскостях, будто в
зеркалах, а за ним — издалека — шпионят золотой король и его
приспешники. Игра внешних эффектов?.. Или поверить
Станиславскому? Картина, по его словам, «вскрывала все
духовное содержание изображаемого момента до
последних его глубин» 10°.
На мейерхольдовских «фурках» выезжали
микромиры — тесные, удушливые клетки, где в толчее вещей
и людей представала зловещая пошлость «Ревизора».
«Ширмы» Крэга таили в себе иную, во многом
противоположную образность. Человек, затерянный в огромности
враждебного ему Эльсинора, маленькая фигура среди
зловещего сияния позолоты мира, где нет ничего
человеческого, подлинного.
Меня интересуют сейчас не философские стороны этих
постановок. Иное привлекает внимание: крайности
выражения конкретно-жизненного и отвлеченного. И в одном
и в другом случае отрицание подделки, бутафории, сцены
в ее обычных пропорциях — трактовка пространства иная,
чем возможна в театре, понимание пространства как
.трагической категории.
Мейерхольд говорил, что Станиславский и он как бы
прорывают туннель с двух противоположных сторон 10|>.
Известно по описаниям, как прекрасна и радостна встреча
тех, кто отдал столько труда, чтобы преодолеть последнюю
преграду, объединить усилия. Случается ли такая встреча
в искусстве? Не думаю. Их неисчислимое множество, таких
воображаемых встреч,— через столетия, в различных
сферах искусства и жизни. Встреч, мгновений, за которыми
следуют пробивание туннелей в других направлениях,
новые усилия, удары молота по толще, которую нужно
пробить, чтобы идти вперед.
Хочется еще написать, что Мейерхольд часто бывал
несправедлив в своих оценках, только о двух людях он
неизменно отзывался с величайшим уважением: о Ста-
Пространство трагедии
*53
ниславском и Крэге. «Если бы я опять приехал в Москву,—
писал в свою очередь Крэг,— я с наслаждением,
фигурально выражаясь, привязал бы себя к креслу на несколько
недель, чтобы присутствовать на репетициях и спектаклях
Театра Мейерхольда... наблюдать и понимать этого
театрального гения и учиться у него» ,02.
Вряд ли в истории театра можно было бы отыскать еще
одну постановку, где так резко сталкивались бы мнения:
кажется, что каждый из ее участников имел свою, особую
точку зрения, отличную от идей того, с кем он вместе
трудился. Станиславский думал о природе актерского
творчества (вернее, о месте человека в искусстве) не только
иначе, чем Крэг, но — в тот период — по-другому, нежели
большая часть труппы и даже исполнитель главной роли.
«Недоступность для актера, заоблачность высот, на
которые звал Константин Сергеевич, недостижимость его
пределов — это было большой трагедией и для отца...» —
вспоминал потом Шверубович (сын Качалова) *.
Станиславский впервые применял на практике свою «систе^
му». Артистов запутывал анализ каждого движения,
мешала сама терминология. Стена вырастала между
Станиславским и труппой — так он сам оценивал этот период;
артисты тянулись к другим режиссерам; он обвинял их
в косности и рутине.
О чем только не шла речь: Гамлета сближали с
очистительной жертвой, Иисусом Христом; ранним гуманистом в
мире варваров — звериные шкуры, лужи крови, драка
из-за самок (Немирович-Данченко) 104; душа в мире
враждебной материи — утверждал Крэг; живой человек
из плоти и крови — таким хотел его играть Качалов.
Мнения не были постоянными даже у одного и того же
человека; случалось и так, что они менялись в ходе
работы до неузнаваемости. Все добывалось с трудом,
в борьбе не только со старыми навыками, но и с самим
собой. Полумерами не довольствовались: в мемуарах
Шверубовича lcte можно часто прочесть слова «максима-
* Выдержки из этих воспоминаний я нашел в книге Н. Н. Чушкина
«Гамлет — Качалов» ,03, единственном по серьезности и полноте
материалов исследовании спектакля 1911 года.
154
Пространство трагедии
лизм», «с кровью». Постановка трагедии стала для многих
ее участников личной трагедией. Все сопротивлялось:
навыки исполнения (одной из лучших трупп мира!), техника
сцены (по тем временам совершенная).
Макет, который приняли и в реальность выполнения
которого поверили опытнейшие театральные мастера,
оказался неосуществимым. Крэговские миры, выстроенные
в подлинном масштабе, превратились попросту в
неуклюжие постройки: они валились под собственной тяжестью,
обращались в лом — ни сколотить, ни укрепить, ни
установить. Ширма обрушивалась на ширму, обломки угрожали
покалечить артистов.
Материальное лихо посмеялось над идеальным. Вечное
противоречие: полет мечты и тяжесть земного притяжения;
смелость замысла и косность средств осуществления. Крэг
требовал подлинности материала: никакой подделки,
мазни, бутафории. В этом Станиславский был его союзником,
и они пробовали, без устали меняли фактуры. Начальные
идеи — железо или камень — развеялись при первых же
расчетах: вес материалов исключал возможность таких
построек; перешли на дерево, подбирали грушевое,
дубовое, липовое (Крэг просил необработанное, старое),—
слишком громоздко; заменили фанерой — она коробилась;
перешли на пробку. Все не годилось. Имитация бронзы?
Крэг соглашался, но ставил условие: прежде всего
обмануть его самого. «Почему человеческий ум так
изобретателен там, где дело касается средств убийства... или там, где
дело идет о мещанских удобствах жизни? — горестно
восклицал Станиславский, вспоминая мытарство с
«ширмами».— Почему та же механика так груба и примитивна
там, где человек стремится дать удовлетворение не
телесным и звериным потребностям, а лучшим душевным
стремлениям...» 106
Остановились на грубом деревенском холсте и на
дешевой золотой бумаге. Выросли двенадцатиаршинные
постройки, но и они оказались неустойчивыми: в день
премьеры чуть не случилась катастрофа. От движения
«ширм» пришлось отказаться.
Генеральные репетиции стали полем боя — от мелких
схваток до больших сражений. Крэг настаивал на
кромешной тьме в конце «мышеловки», Сулержицкий посылал
Пространство трагедии
155
письма Станиславскому: без света, без лиц актеров — их
должен видеть зритель — спектакль провалится.
Обострялись и личные отношения: до артистов доносились из зала
возбужденные голоса Крэга и Станиславского. Многое
менялось в последнюю минуту, когда зрители уже
собрались в фойе.
Неразбериха? Нелепость приглашения режиссера,
чуждого МХТ?
Так считали многие.
Боюсь, что отступлений от темы будет в моей книге
слишком уж много. Но что поделаешь, вчитываясь в
биографии художников, в истории их работ, которые меня
особенно интересуют, трудно удержаться от того, чтобы не
показать их труд еще в каком-то ином ракурсе, с
необычной точки зрения. Среди критических статей, посвященных
Крэгу, Станиславскому, Мейерхольду, да и многим другим
новаторам, было немало сочинений особого рода. Не стоит
забывать и о них.
Вот, например, тема для исследования, право же,
поучительная: история ржания и гогота в критическом
деле. Материала хватило бы на целые диссертации.
Театральные открытия, подтвердили бы данные, отмечались
часто не победными фанфарами, а такой музыкой —
ржанием. Нюансов, конечно, находилось немало; можно было
бы и диаграммы вычертить: кривые от кустарного,
одноголосого глумления к планово-организованному осмеянию
всем критическим табуном. И касалось бы это не одних
лишь крайностей современного искусства — начало
натурализма вышучивали не меньше. Увидев в спектаклях
Антуана настоящие мясные туши или пар от корыт прачек,
покатывались от хохота. Скоморошничали: «Как в
жизни!»; паясничали и над тем, что «не похоже на жизнь».
Высмеивали и бытовые детали в чеховских спектаклях,
и отвлеченные декорации, и приход художников к
революции («на кухне у Луначарского Мейерхольд дожидается,—
надрывал животик Аверченко в последнем номере
«Сатирикона».— Дозвольте, товарищ нарком, «Интернационал»
в кубах поставить»). Движение искусства вперед (куда?
зачем?), смена устаревшего новым («оригинальничают»)
представлялись обывателям вздором, уморой. На защиту
156
Пространство трагедии
обывательских вкусов горой вставали умельцы-потешники,
анекдотных дел мастера. Шутов всегда хватало.
Кормушки острословов щедро засыпались, лишь бы потеха вышла
на славу. Над искусством гоготали рысистые зубоскалы —
они-то знали, чего им подай в театре, за что почтеннейшая
публика платит деньги.
Печать тех лет сняла обильный урожай карикатур
с «Гамлета». Всех разделали под орех. Одно из
таких сочинений, фельетон в газете «Русское слово», я
процитирую: пародия иногда помогает лучше увидеть ее
предмет*
«Мистер Крэг сидел верхом на стуле, смотрел куда-то
в одну точку и говорил, словно ронял крупный.жемчуг на
серебряное блюдо:
— Что такое «Гамлет»?.. Офелия, королева, король,
Полоний... Может быть, их вовсе нет... такие же тени, как
тень отца... Один Гамлет. Все остальное так, тень!.. Может
быть и Эльсинора нет. Одно воображение Гамлета...»
Доставалось по первое число и Станиславскому,
который в фельетоне только то и делал, что спрашивал: «Не
выпустить ли, знаете ли, дога? Для обозначения, что
действие все-таки происходит в Дании?..»
Самое уморительное начиналось дальше:
«— Остановить репетиции!..— через несколько дней
кричал Крэг.— Дело не в Гамлете. Дело в окружающих...
Они наделали мерзостей и — им представляется Гамлет^
Как возмездие!.. Надо играть сильно. Надо играть сочно...
Дайте мне сочную, ядреную декорацию. Саму жизнь!
Разверните картину! Лаэрт уезжает. Вероятно, есть
придворная дама, которая в него влюблена... есть кавалер,
который вздыхает по Офелии... Танцы. Пир! А где-то там,
на заднем фоне, через все это сквозит...
— Я думаю, тут можно датского дога пустить? —
с надеждой спросил г-н Станиславский.
Мистер Крэг посмотрел на него с восторгом.
— Собаку? Корову можно будет пустить на
кладбище!»
Качалов сперва ходил на кладбище, ел только постное,
а потом зачастил на свадьбы — опять все переменилось.
«Да это фарс...—стал утверждать Крэг,— будем играть
его фарсом! Пародией на трагедию!» 107
Пространство трагедии
157
Смешной фельетон, разумеется. Вероятно, в свое время
читатели «Русского слова» немало над ним посмеялись.
Теперь он кажется еще потешнее. Самое занятное то, что
именно такие интерпретации — через десятилетия —
полностью были осуществлены на сцене. И какие страсти
кипели! Шутка сказать, речь шла о новом прочтении
Шекспира. Театры — в дальнейшем — показали и «одно
воображение Гамлета» (Михаил Чехов во Втором МХАТе),
и «фарс», «пародию на трагедию» (спектакль Акимова
в Театре им. Вахтангова), и все вместе (шекспировский
коллаж Чарльза Моровица), и «через все это сквозит»
(Английский Национальный театр в пьесе Тома Стоппарда
«Гильденстерн и Розенкранц умерли» так буквально и
показал: за тюлем, на просвет — Эльсинор, Гамлет);
выстроили и «сочную, ядреную декорацию» (фламандское ложе
королевской четы в фильме Тони Ричардсона: пестрота
одеял, подушек, изобилие еды на золотых блюдах,
кувшины с вином — и тут же, на кровати, охотничьи собаки).
То, что казалось немыслимым преувеличением,
абсурдом, вошло в театральный обиход. Почему же так
случилось? Да потому, что всего этого, самого различного,
непримиримо несхожего, полным-полно в самом
произведении. Диалог принца и призрака, каламбуры
могильщиков, поучения Полония... Разные стили? Нет,
шекспировское единство жизни. Крэг и Станиславский как бы
пробовали звук всей клавиатуры произведения, они
увлекались то одной, то другой тональностью.
Позабылись и позабудутся многие из поздних
трактовок, законченных, по-своему совершенных; громкие
«успехи» ушли из памяти, а «неудача» спектакля 1911 года все
еще живет, будет жить.
Что это значит: спектакль живет? Почему же его не
возобновили в следующие сезоны, отчего не возобновляют
теперь? Но «живет» в искусстве значит совсем не то же, что
«возобновили». Иногда возобновление лишь способ
умерщвления. Так, через много лет восстановили
«Мандат» Мейерхольда. Люди, отлично знавшие постановку,
искренне любившие ее, все запомнили: планировки,
звуковую партитуру, гримы; все тщательно повторили. Тщетно
повторили: все оказалось иным, непохожим.
158
Пространство трагедии
Нельзя оживить мейерхольдовский «Маскарад»,
«Великодушного рогоносца». Нельзя и не нужно; они и так
живут, вошли в новое искусство, продолжают меняться
уже вместе с ним, вместе с меняющейся жизнью.
Живут в искусстве вовсе не только удачи, примеры
законченности и гармонии, но и смелость опыта,
решительность пробы. Все не завершено, многое вразброд, но сам
бросок вперед, сила художественной воли иногда
подхвачены, продолжены, иногда опровергнуты (значит, в споре
со сделанным, живом споре с живым искусством),
развиваются, влияют на иные формы.
Цель этого опыта. В чем же она состояла? К чему
стремились Крэг, Станиславский, Сулержицкий, Качалов?
Неужели все, что осталось от их «Гамлета», лишь пример
несовместимости групп крови? И такой простенький,
школьный по наглядности пример: «ширмы» и «система»,
ходит между «ширмами» артист и играет «по системе», вот
и неудача, ошибка.
Крэг? Ну а кто он был, Крэг? Фельетон В. Дорошевича
сопровожден (в новом издании) примечаниями, чтобы
читатель понял, кого и за что высмеивали: Крэг, написано
там, «типичный представитель декадентского
искусства» 108, ну, а Станиславский — тут, разумеется,
примечания не нужны, всякий и так знает: типичный представитель
реалистического искусства. Вот и встретились два
«представителя», два «типичных», и, конечно, им никак было не
сговориться.
А может быть, наиболее типичным в этом спектакле
и являлось то, что не было в нем «типичных» и
«представителей» тоже не было. Каждый был особенным, непохожим
на других, единственным в своем роде, неповторимым.
Небывалая шахматная партия: на доске — только короли;
колода карт из одних лишь тузов. Сам калибр людей,
масштаб личности каждого из них не только разъединял
их, но и объединял. Было у них всех и общее: не послужной
список в театральном деле, а судьба в эпохе.
Шекспира перечитывал Сулержицкий — друг Льва
Толстого и Чехова, человек, выступавший против
несправедливости всюду, где он с ней встречался, бесправный,
поднадзорный, организатор подпольной типографии и ко-
Пространство трагедии
159
лоний русских духоборов в Канаде,— что же он, являлся
лишь техническим помощником? реализатором чужих
замыслов? Крэг — бездомный гений, мечтавший о театре,
подобном «Страстям» Баха, создатель сценических
утопий — их и сегодня тщетно пробуют осуществить (один-
два спектакля, поставленные Крэгом в нетеатральных
помещениях, повлияли на весь европейский театр, пишет
Питер Брук 109). Станиславский — заветы русской прозы,
ветер обновления театра, легенды «Чайки», «Вишневого
сада»... Качалов — Брандт, Иван Карамазов, «властитель
дум» молодых поколений...
Чувство разрыва театра и времени объединяло их; они
презирали конторы по сбыту развлечений, публичные дома
с занавесом. Огромность пространства — в замысле Крэ-
га — выводила театр на иной простор мысли: за фабулой
и характерами, за внешними событиями вставали грозные,
извечные силы бытия. Меняющееся время унесло с собой
репертуарную пьесу (отличная роль для гастролера); в
самой музыке шекспировской поэзии, в громадах ее
обобщенных образов, в тайнах ее значений открывалось для Крэга
одиночество души в мире коммерции и индустрии,
лживость оболочки цивилизации, растление чувств. Фортин-
брас являлся в спектакле как возмездие: он стоял на самом
верху строений. В руках его был сверкающий меч, у
подножия трона валялись тела низверженных королей, он был
«точно архангел, сошедший с небес» (Станиславский) по.
За его спиной — фотография сохранилась — горело
огненное сияние.
Знакомый по русскому искусству образ: шестикрылый
серафим Пушкина требовал вырвать грешный «и
празднословный, и лукавый» язык (актерство? театр?), не
развлекать, а потрясать, жечь сердца ш.
Кто его знает, может быть, и шуба и «юн шапка» из
«Горя от ума», в которые обрядили приезжего англичанина
русские художники, тоже были не одной лишь теплой
одеждой, но и символами? Не случайно местом встречи —
не только Крэга и Станиславского, но и Шекспира, Крэга,
Станиславского, стала Россия. «Мистерия» — первое же
слово, произнесенное Крэгом,— было здесь не пустым
звуком. Павел Мочалов жег сердца Шекспиром, и Пушкин
называл себя его сыном 112. Здесь давно мечтали не о дей-
160
Пространство трагедии
ствии, но о действе. «Лучеиспускание», «лучевосприя-
тие» — терминология Станиславского тех лет — были под
стать струящимся линиям, устремленным вверх на эскизах
Крэга.
Тогда «система» была еще ересью; это была
героическая пора отрешений и заповедей, аскетической проповеди,
сурового призыва гнать торгашей из храма.
Станиславский потом вспоминал, как он запирался в своей
артистической уборной, одинокий, мало кем понятый, чуждый
большинству,— так пророки уходили в пустыню.
Восстанавливалась цепь: Гоголь — Толстой —
Достоевский — Чехов — Станиславский. Под «общением»
понималось не только внутреннее действие, единство духовной
жизни партнеров на сцене, но и связь сцены и зала, связь
театра и жизни, связь всех людей, требование совершенной
правды, поиски идеи, способной объединить человечество;
Поиски были мучительными: старое нельзя было
потихоньку подновить, полегоньку подправить; празднословный
язык не смолкал сам по себе, его нужно было вырвать —
десница шестикрылого серафима у Пушкина была
кровавой.
Теперь в статьях и воспоминаниях можно прочесть
добрые советы: как следовало бы поступить Крэгу и
Станиславскому, чтобы их общий труд, спектакль 1911 года,
удался бы на славу, чтобы был полный и совершенный
успех, гремели аплодисменты и не счесть сколько раз
подымался бы занавес. И чтобы этот спектакль остался в
истории театра как удача, образцовая постановка. Может
быть, Крэгу следовало бы овладеть «системой», отказаться
от завиральных идей о марионетках? Или, напротив,
Станиславскому подыскать особые способы играть Шекспира,
а не превращать его в Чехова или Толстого? Или, по-
хорошему, сесть бы им обоим за режиссерский столик, а не
делить труд на замысел и выполнение...
Советы, конечно, разумные. Только вся сложность
заключалась в том, что стремились эти художники не
к «хорошему спектаклю», а к чему-то гораздо большему:
к «мистерии», «совершенной правде» — пределы были;
действительно, недостижимыми, высоты заоблачными;
Тяжелым был вес «ширм», ну как было постановочной
Пространство трагедии
161
части справиться с такими постройками, удержать их на
сцене?
Но еще более тяжким было бремя, которое взвалили
эти художники на свои плечи. Разве можно было не
согнуться под его тяжестью, найти силы донести его?.. А был и
без того тяжелый 1911 год.
Когда я привожу в порядок старые записи, объединяю
разрозненные заметки, дописываю новые страницы, чтобы
развить и уточнить мысль, на память непрошенными
приходят места и события, казалось бы не имеющие
отношения к делу.
Ну что общего имеют с тем, о чем я пишу,
кинофестивали? Никогда мне не хотелось писать о Канне. Несмотря на
то что каждый раз, когда я бывал там, мне удавалось
посмотреть несколько хороших картин (среди множества
плохих) и встретиться с интересными людьми (в суете
и шуме), странное ощущение не покидало меня: будто
я случайно забрел на съемку примитивного фильма про
«изнанку капитализма». Когда-то, вечность назад,
такие ленты (еще немые) крутили в Одессе: карикатурные
типы дельцов, наигранный ажиотаж, пошлость
«паблисити»...
Кто этого не знает? Но было одно обстоятельство,
которое мало кто знал, и об этом писать хочется. Совсем
вблизи, рядом с киноярмаркой, кончал свой век одинокий,
очень старый художник. Кому из толпы репортеров пришло
бы в голову просить у него интервью, да и слышал ли кто-
нибудь из них его имя? Он давно вышел в тираж, не
котировался. Продюсеры не вложили бы в его затеи ни
цента, газеты не уделяли ему и строчки петита. Все, что он
презирал,— бесстыдное актерство (особенно у женщин),
пустая имитация жизни (на экране технически
совершенная и куда более лживая), коммерция, «касса» повсюду
и во всем праздновали здесь свой успех.
Как мне не повезло: тогда я не знал, что — час езды
отсюда — и можно было бы пожать его руку.
Самые его диковинные идеи по соседству с
кинематографическим «шоу», пожалуй, выглядели не такими
уж странными; наглядевшись вдоволь на «звезд», можно
было бы со спокойной совестью согласиться с ним:
6 Г. Козинцев, т. 4
162
Пространство трагедии
— Мэтр, Вы оказались правы: да здравствует
марионетка!
Реформатор театра, режиссер, а под конец дней — ни
театра, который стал родным домом, ни просто дома.
Комната в небольшом отеле. К чему же он пришел, какие уроки
вынес за столько лет?
«Если бы можно было начать жизнь сызнова, я бы
научился петь, чтобы доставлять радость всем вокруг,—
писал он из Ванса Книппер-Чеховой,— пел бы на улицах,
пел бы в подвалах, и у реки, и в лодке, и в поле во время
жатвы, но только не в театрах.
Чувствую я себя не очень хорошо, ведь я очень стар,
гораздо старше Вас. Мне 84, ну разве это не обидно?..
Живу я на побережье между Ниццей и Канном (там, где
улетела Айседора)... Последние четыре года я живу в
одной комнате. Было бы лучше иметь две» из.
Башня из слоновой кости — такая жилплощадь в наши
дни не пользуется уважением: кому дано право прятаться
от жизни? Но и жизни и башни бывают различными. И
художники обычно уходят не от какой-то всеобщей жизни, но
от той, что кажется им ничтожной: они не хотят ни
воспевать ее, ни занимать в ней место увеселителя. Башни из
слоновой кости нужно рассматривать в полном
архитектурном ансамбле эпохи. Иногда их воздвигают только
потому, что на другой стороне улицы выстроили уж
слишком много биржевых контор и притонов.
Стоит еще добавить, что слоновой костью как
строительным материалом чаще всего пользуются те, у кого нет
средств, чтобы иметь вторую комнату.
Проходит эпоха, и уже трудно увидеть живые черты ее
людей, ее искусства. Ветер размотал длинный шерстяной
шарф на шее, край зацепился за колесо автомобиля, а
шофер не успел затормозить. Улетела Айседора. Может ли
теперь показаться реальностью легенда танцев Дункан?..
На радиостудии в фонотеке хранятся записи Качалова —
Гамлета: я прослушивал их несколько раз. Неужели это
действительность того искусства, что шестьдесят лет назад
упрекали в излишней жизненности, в том, что оно чересчур
обыденно? Ни манера произнесения стихов, ни сам звук
Пространство трагедии
163
голоса — ничто не связывается теперь с такими
понятиями. От детства Крэга на английских площадях остались
респектабельные бронзовые апофеозы: пышногрудые и
крутобедрые дамы в туниках венчают лаврами героев
колониального века; к их ногам навалены сокровища
и готики и Возрождения; тут же пушки королевы, и здесь
же в едином ансамбле прилегли ее новые подданные,
горделивые верблюды. Вековые загадки разгадали запросто:
сфинксов выкопали из древних песков и посадили на цепь
в Британском музее; мир представал открытым и
познанным. Все было материально, плотно, прочно. Огромное
тело империи расползалось по карте, придавливая своей
тяжестью новые земли. Дела хватало и служителям муз:
воздвигать монументы, славить героев, развлекать
победителей.
Крэг укрылся от века сперва во Флоренции: узенькая
улица неподалеку от римских ворот, нужно войти в
маленькую дверь, а затем на задний двор. Под открытым небом —
театрик, здесь Крэг клеил макеты, рисовал, писал. На
какую тему? Пожалуй, одиночество души в сытом мире
было главным. Чванству позитивизма он отвечал
презрением ко всему материальному; стрелки своих часов он
перевел на вечность.
Пошли другие времена, иные десятилетия. Что осталось
от тучности колониальных империй? Бронза монументов,
отлитая на века, кажется в наши дни даже не тенью
исчезнувшего тела, а, как говорится у Шекспира, «тенью тени».
Впрочем, осталась мода: теперь на западе опять в чести
будуары «конца века», керосиновые лампы...
Крэг нигде не мог осесть. В одних городах он мерз
осенью, в других было шумно. Италия начала войну с
Эфиопией, и он переехал во Францию. В шестьдесят восемь лет
он был интернирован в бараки: фашисты заняли Париж.
И вот по городу Ване на юге Франции идет старый
джентльмен. На нем белый арабский бурнус, голова
закрыта от солнца широкополой соломенной шляпой, он
опирается на трость, принадлежавшую Ирвингу. С ним всегда
кожаный чемоданчик; карандаши, бумага, перья
наготове — вдруг понадобится что-нибудь записать, нарисовать.
Неясная фигура в золотом свете, которую собирались
вывести в спектакле МХТ, когда Качалов произносил
6*
164
Пространство трагедии
«Быть иль не быть», и которая так и не далась в руки — не
помогли ни волшебный фонарь, ни газ на просвет, никак ее
было не уловить,— навестила Крэга, когда ему
исполнилось девяносто четыре года. Он так и не смог создать
театра, и даже те немногие постановки, что рисковали ему
поручить, не доводил до конца; его замыслы никогда не
осуществлялись полностью; так, отдельные мысли, какие-
то приемы; чувство, выраженное пространственными
отношениями; мысль, чуть уловленная гравюрой или
рисунком... Мечтатель. Фантазер. Вот и «Гамлет» в МХТ —
чем все окончилось?.. Каждый, кто знаком с театральной
практикой, легко может себе это представить. Стали все
реже играть спектакль, афиша менялась: пошли новые,
более успешные постановки, а в этой, уже устаревшей,
нужда пропала; «Гамлета» сняли с репертуара — он,
вероятно, и не годился для этого понятия, репертуара; ширмы
вынесли со сцены (кавычки уже не нужны, остались просто
ширмы), увезли на склад; во время отправки, наверное,
облупилась золотая бумага, порвался холст — материалы
непрочные, недолговечные; потом нужно было поместить
на складе и другие декорации; плотники неудачно
пристроили какой-то угол, рейки сломались (не велика беда,
о возобновлении спектакля не было и разговора), и вот
пришло время, обследовали склад: инвентаризация? места
не хватало? Решили очистить помещение от хлама;
материал был недефицитный, хранить покореженные, грязные
ширмы было непрактично. Холст содрали, выбросили на
свалку, дерево отправили в топку.
Спектакль, премьера которого состоялась в МХТ 23
декабря 1911 года (5 января 1912 года), мне и самым
отдаленным образом не вспоминался, когда, неудобно
устроившись (а бывает ли когда-нибудь удобной съемочная
точка?), я лежал на грязной площадке, которую катили по
рельсам, и, прильнув к глазку кинокамеры, следил, как
входят в кадр и исчезают из поля зрения каменные глыбы.
А почему, собственно говоря, должен был прийти мне на
память этот спектакль? Что схожего можно отыскать
между грубой натуральностью щербатых глыб,
освещенных солнцем, и крэговскими символами — не то лживой
материи, не то королевского величия?
Пространство трагедии
165
И тем не менее приходится еще раз повторить
последнюю фразу прошлой главы,— все же...
Еще в юности поразили меня эскизы Крэга.
Пространство, лишенное опознавательных знаков, воплощение
ночной пустоты и ледяной стужи, туман с моря, в котором что
только не мерещится. Одинокие фигуры среди неведомых
каменных миров. Ни детали, ни черточки, за которую
можно зацепиться, чтобы найти путь сюда, потому так
и манит эта пустынность. Ритм форм, оттенки серого,
вертикали и горизонтали передают своим кодом поэзию —
она уже не слышна, а видна. Рядом с этими гравюрами
и эскизами театральные декорации казались куцыми,
мелочными — под стать провинциальным шекспировским
постановкам: морщащееся трико, напяленное поверх
кальсон, декламация с подвыванием, бороды из пакли.
Я старался узнать побольше о Крэге (сперва удавалось
узнать совсем мало); потом я раздобыл его книги и то, что
написано о нем; затем в лучших английских постановках
я отличал его идеи (только два тона: коричневый и
серый — ничего больше!). И теперь, отложив в сторону свои
дневники (тетради времен съемок), я перечитываю
«Вперед к новому театру», вглядываюсь в его гравюры.
Бесспорно, много времени уже прошло, а бывает ли,
чтобы оно проходило бесследно? Но вот что главное:
шекспировские трагедии, утверждал Крэг первым, не одни
только человеческие страсти, отношения между героями
пьесы, а прежде всего — конфликт каких-то мощных
зрительных величин; поэзию нельзя ограничить рамками
сюжета, она выходит далеко за эти пределы, это — целая
вселенная! Разве труппе артистов под силу ее передать?
Разумеется, он отлично различал и частности: семья
Полония, мимоходом говорил он, бестолковая и глупая;
Гертруда вовсе не дурная женщина от рождения —
атмосфера двора испортила ее, и, конечно, Гамлет не переставал
любить мать. Это же и так ясно...
Долгие разговоры о психологии героев бесцельны,
объяснял он, словами можно убить живое чувство,
засушить поэзию: лучше вслушайтесь в музыку
шекспировского стиха — она откроет вам все. Русский автор держался
подобного же мнения о своих пьесах: там же все написано;
166
Пространство трагедии
отвечал на расспросы артистов Чехов, только-не нужно
изображать горе руками и ногами, лучше помолчать П4.
В молодости Крэг просил своего друга играть Баха,
и под звуки музыки он рисовал фрески на стене. Ему
представлялось искусство движения и света, способное создать
нарастание такой же мощи, как кульминация Баха. Он
набрасывал контуры тысячных толп, охваченных единым
чувством,— какая сцена могла бы вместить их? Разве
монолог Макбета — это только произнесение слов? —
задумывал он постановку.— Это ход, подъем; вместе с
Макбетом движется пространство, он всходит на башню,
и пространство раскрывается все шире: земли, холмы,
скалы на горизонте... П5
Какая прекрасная картина — передача эстафеты;
творец передает на бегу факел другому творцу, и тот,
подхватив трепещущее пламя, мчится вперед, чтобы в
неприкосновенности донести дар Прометея до следующего
созидателя — молодого, полного сил, а тот... Увы, так
случается редко. И художник сбивается с ног — пропала
былая резвость, и факел на ходу зачадит, а то и вовсе
угаснет. И бывает так, что вовсе не благородный юноша
торопится на смену, а кто-то завистливый и косолапый
сбивает подножкой того, кто еще полон сил... Горько
признать, но что тут поделаешь, картина часто выглядит
именно так, совсем не торжественно: кто-то прикуривает
у чужого огня — целую жизнь отдали, чтобы развести
его,— а задымив папиросой, плюет на огонь, а то и целой
компанией норовят набросить на него асбест...
А если огонь не тухнет и вновь разгорается, то причины
этого лучше искать не на беговой дорожке искусства,
а в самом амфитеатре.
Старинные конфликты, глубинные противоречия не
исчезают бесследно; история, раскручивая свои спирали,
прихватывает на новом витке и отсветы давних огней. И те,
кто зажигал их, непрошеными заходят в новые
десятилетия. Их часто не узнают, и они проходят по краю времени
неопознанными; в памяти поколений уже нет их реальных
дел, а имена их забыли выбить на камне.
Этот путь — не прямая дорога: от учителя к ученику,
а витки — приближение к какой-то точке и удаление от нее,
Пространство трагедии
167
чтобы вновь, в раскручивающемся движении, расширив
охват, опять приблизиться и удалиться. В который раз
приблизиться и удалиться!..
Накопление достижений и решительное их отрицание,
опять накопление и вновь отрицание, еще более страстное.
И открывающаяся за всем этим странная связь.
Сознательная? Бессознательная? Влияние, усвоенное с детства?
Родство задач, которые ставит жизнь?..
Трагичность пространства — какое это сложное
понятие, и какие различные явления жизни оно захватывает.
Огромность материального мира и одновременно
фиктивность этого мира товарных ценностей, присвоенных
одним человеком: «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса.
Расширение владений и — сужение духовного мира. На
экране все реально — фотография создает объективность
изображения, но широкоугольная оптика искажает
перспективу: пространство растягивается, удлиняется; однако
резкость самых дальних планов сохранена. Трагедия
человека, оказавшегося в одиночестве среди бесчисленных
вещей. Владея производством вещей, умножая вещи,
продавая вещи — мысли, чувства тоже вещи,— человек сам
становится вещью, обездушенным человеком в набитой
вещами пустоте.
Фильм снят в 1941 году. Нужно ли объяснять связь
явлений искусства и жизни?
Еще двадцать лет, и вот уже широкоугольная оптика
и самые большие павильоны оказались недостаточными:
Орсон Уэллс арендует в Париже заброшенный, давно не
действующий вокзал — здесь он снимает «Процесс». Но
для Кафки характерно иное: небольшие, душные
помещения, низкие потолки. Однако кто вымерял габариты ада?
Уэллс создает огромность, из которой нет выхода, и, чем
безграничнее поле действия (фиктивного действия), тем
большее число людей вовлечены в него. Тысячи пишущих
машинок на тысячах столов, армии машинисток —
контора в аду.
Есть в этом фильме панорама вдоль площади: толпы
людей в нижнем белье, с номерками на шее, безликие,
единообразные, а в конце высится памятник, покрытый
холстом: ни фигуры, ни лица.
168
Пространство трагедии
Что осталось от королей из литого золота? От золотого
моря — королевской мантии,— где плавали головы
придворных? Безбрежная муть, туман, в нем виднеются не
головы, а номерки на шее.
Искусство огромных обобщенных зрительных образов.
Через десятилетия перекликаются самые различные,
несхожие между собой опыты: Мейерхольд, Крэг... а затем,
перешагнув сцену, походя решив все технические
сложности (нужно ли вращать «ширмы»? проще двигать камеру),
экран: Гриффит, Штрогейм, Эйзенштейн, Орсон Уэллс...
И, одновременно, опыты не менее безоглядные, крайние
в своей решительности: совершенная естественность,
правда жизненного — начинать нужно не с «вселенной»,
а с того, что человек взаправду, по-настоящему пьет чай.
Играть Шекспира, как Чехова,— в 1911 году—было
необходимо.
Мы ведь тоже пробуем играть «Лира» не как «Дядю
Ваню», но — прочитав Чехова. Обязательно нужно
отчетливо видеть и не пугаться того, что видишь: король Лир
пьет чай, старшая дочь отодвинула его чашку в сторону —
нечего старику командовать в доме.
15
Канун самых трудных съемок. Четыре месяца работы
уже позади. В кабинете директора нашей съемочной
группы висит на стене большой, разграфленный на квадраты
лист ватманской бумаги. В каждом квадрате номер.
Номер — значит кадр; снят кадр — вычеркнут номер.
Вычеркнут номер — подсчитан метраж. Подсчитан метраж —
выведена отчетность. На сегодняшний день снято
полезного метража всего...
Если бы я только знал: полезный ли он? И кому
полезный? Фильму? Отчетности? Шекспиру?
Одно я, пожалуй, все-таки знаю: к существу «Лира» —
к особой, ни на что другое не похожей образности именно
этой трагедии — мы еще и не прикасались. Завтра
прикоснемся.
Вероятно, я сгустил краски, к чему-то мы все же
прикоснулись, но успокаивать себя нельзя: самое трудное
Пространство трагедии
169
еще впереди. Речь идет о сценах, рядом с которыми даже
буйство авангарда наших дней выглядит провинциально
скромным, боязливым. В шекспировских трагедиях
встречаешь и такие, поражающие своей смелостью места. Как
бы определить поточнее их свойства, способы выражения?
Желая помянуть Есенина добрым словом* Маяковский
написал:* «Вы ж такое загибать умели...» П6 Пожалуй,
такое определение подходит. Шекспировский текст —
пестрый: есть в нем и прекрасная поэзия, есть и общие
места — риторика, правка старых пьес; есть и такие, что ли
говоря, «загибы»: невероятность ракурса, причудливость
постановки опыта.
«Лир» набирает силу, когда все выворачивается
наизнанку. И как раз тогда, когда мир оказывается вверх
ногами, вниз головой,— обнажается существо явлений:
лживая оболочка слетает, связь вещей открывается в ее
подлинном, немистифицированном виде. Труднейшие
задачи решаются способом «шиворот-навыворот»,
каламбурами зацепляется истина.
Мы начинаем снимать встречу сумасшедшего Лира
и ослепленного Глостера. О парадоксе — основном
противоречии сцены — писали уже не раз: один, утратив разум,
стал мудрецом; другой, ослепнув, прозрел.
Способы исследования жизненных явлений достаточно
своеобразны. Сейчас я покажу тебе фокус (handy-dandy),
предлагает бездомный нищий старик (король Британии)
другому старому бродяге (министру королевского двора).
Фокус имеет целью наглядно показать правопорядок в
государстве. Старик словно снимает с седой головы драную
шапку и, как в цирковом колдовстве, вытряхивает из нее
разные фигуры: судью, вора, проститутку, палача,
ростовщика, мошенника. Он их расставляет парами;
например, для начала, вора и судью, и накрывает их шапкой.
Раз, два... На счете «три» шапка подымается: фигуры
поменялись местами, теперь они неотличимы одна от
другой. Кто вор? Кто судья? За что секут блудницу? Ведь
палач сам хочет блудить с ней.
Все это есть в тексте.
Под конец сцены Лир предлагает Глостеру прочесть
проповедь. Ее тема? Смысл существования человека на
земле, от первого его появления на ней до самой смерти.
170
Пространство трагедии
Много слов для объяснения не нужно; смысл, оказывается,
состоит лишь в одном: плаче. Обливаясь слезами,
появляется на божий свет человеческое существо, и плача
покидает оно свет. Нет, не «свет», здесь автор выразился иначе, не
«свет божий» и не какую-нибудь страну, где прибавляется
к населению еще одна душа, и даже не мир, в который она
приходит, нет, определение иное: «эта большая сцена
дураков». Таков дословный перевод. Можно попробовать
передать оттенки смысла подлинника и как-нибудь иначе:
великий балаган, мировой фарс, вселенские шутовские
подмостки. Таков финал — итог, подведенный
каламбурами, пародиями, розыгрышами.
«Юмор жестокости» или «жестокость юмора» (Уилсон
Найт) П7 разгулялись здесь вовсю. Старика с кровавыми
дырами вместо глаз обзывают «слепым купидоном», «Гоне-
рильей с седой бородой», пристают к нему, чтобы он,
безглазый, прочитал какой-то вызов или посмотрел на мир
ушами.
В чем соль этих острот? В соли, той самой соли,
которой, согласно обыденному выражению, посыпают раны,
свои, чужие, всего человечества. Делают это, чтобы раны
стали еще более болезненными, чтобы никогда не забыть
про них. Подножку — хромоногим, огнем — опаленных,
ледяной водой — промокших до костей; вот такие
розыгрыши. Зачем их придумывают, с такой жестокостью
проделывают? Для того, чтобы наконец поняли — слепые,
хромоногие, опаленные, вымокшие до костей,— кто их такими
сделал. Все, на чем их мир стоит,— институты и фигуры
власти, от финансов до армии, от священной особы короля
до исполнителя его приговоров,— коверкают
каламбурами, припечатывают пародиями, сшибают шуткой. Балаган
на все четыре стороны света, цирковая арена на весь мир.
Есть где порезвиться, только бы не поскользнуться: что ни
шаг — лужа крови.
Проповедь сказана. Что же остается напоследок?..
Запах праха да эхо плача. Вот где пример правоты
Мейерхольда: устои «прочных благополучии» расшатывают в
театре не резонеры, а «шуты гороховые» *18.
Основной текст этой сцены сохранен в сценарии почти
полностью. Мне не хотелось бы в ней ничего сокращать;
Пространство трагедии
171
каждая купюра здесь — резать по живому. Не зря реплики
разошлись на поговорки, они бытуют и в русской речи.
Немало людей не слышали ничего об этой пьесе, а вот
«король с головы до пят», «позолоти порок, о позолоту
копье судья сломает», «нет в мире виноватых» — знакомые
каждому фразы. В тексте и заключена сила сцены. И здесь
же — величайшая опасность, подстерегающая режиссера.
Стоит только обратить основное внимание на текст, на
прославленные афоризмы — действие остановится, сцена
утратит смысл.
Представим себе пинг-понг, где партнеры
перекидываются не мячиками, а бриллиантами с голубиное яйцо,—
к чему сведется такая партия? Много ли останется от
игры?.. Драгоценные слова сами говорят за себя, если же
их и подавать по-особому, будто сокровища, то они
покажутся стекляшками. Помощью здесь можно лишь
помешать; желая бережно донести, легко уронить.
Способ произношения? Никакого произношения. Не
играть того, что само играет. Забыть о важности слов
(очевидной), о причудливости формы (она в структуре
речи). Ничего не выявлять, ничего не подчеркивать, не
усиливать. Внимание не словам, а обстоятельствам, в
которых они произносятся.
Вот где отличие кино от театра. На шекспировской
сцене жизненные обстоятельства (первое из них — место
действия) не только не имеют какого-либо особого
значения — попытка уточнить их, показать в реальности
погубила бы действие. Слова, и только слова создают здесь
и пейзаж (когда его необходимо себе представить), и
движение людей в пространстве, и причудливые сдвиги
реального к фантастическому, трагического к гротескному.
Реалистическая декорация на сцене открыла бы
случайность и неправдоподобие встреч героев в одном и том
же месте, условность действия. На экране все становится
иным. Жизненные обстоятельства — динамичны, они сами
способны стать действием. Локальность легко сменяется
отвлеченностью: в кадре и земля и небо. «Невнимание»
к словам, о которых я пишу, значит усиленное внимание ко
всему, что дает силу мыслям. Чем причудливее текст, тем
естественнее должны быть обстоятельства, в которых он
говорится.
172
Пространство трагедии
Пусть Лир «пьет чай».
Чая здесь, правда, быть не может. Голое поле,
кремнистая земля, валуны. Но утолить жажду можно: в
выщербленном камне скопилась вода, ночью лил дождь.
Старого человека мучает голод и жажда; он устал, ходить
пешком в непривычку. Теперь он стал таким, как все, одним
из нищих. Оборванец в компании оборванцев, грязный,
заросший щетиной. Бродяги копошатся в поле — когда-то
тут был огород: нельзя ли хоть что-то выкопать?..
Обыденные, жизненные дела. Серое на сером. Может
быть, именно такое сочетание и даст яркость?..
Необходимо убедить в том, что так и случилось. Что все
невероятное — совершенная правда.
Ну, а знаменитые слова, как их произносить в таких
обстоятельствах? Старик в лохмотьях грызет мерзлую
ботву и между делом отвечает слепцу — тот узнал его по
голосу,— что он действительно король, с головы до пят
король.
Между делом — в этом суть дела.
Чем невероятнее положение, тем обыденнее нужно его
играть — первый закон эксцентрики. Алогичное следует
излагать совершенно логично, неоспоримо логично.
Клоун выходит на цирковую арену, сгибаясь под
тяжестью калитки, он тащит ее на спине. Прежде чем войти
в дом, необходимо открыть дверь. Клоун так и поступает:
ставит калитку на ковер, щелкает ключом, открывает
дверь, входит в калитку, закрывает дверь за собой.
Потом он взваливает калитку обратно на спину, идет с ней
дальше.
Поступки естественны. Отсутствует лишь одно
обстоятельство: нет дома.
Клоун снимает с плеч пиджак (рваную хламиду),
чистит его щеткой, аккуратно складывает и вешает на
гвоздь. То есть делает вид, что вешает: гвоздя нет, и стенок
нет; пиджак упал на землю. Клоун старательно вытирает
о него ноги.
Поступки сами по себе, по отдельности, осмысленны:
так чистят платье и складывают его, чтобы не мялось;
перед тем как войти в дом, нужно вытереть ноги, чтобы не
нанести грязь в комнату. Все делается в жизни именно так.
Пространство трагедии
173
Только связь действий искажена; пропал смысл, утрачена
цель. Главное исчезло, но детали сохранены полностью.
Ленина заинтересовал номер эксцентриков в
лондонском мюзик-холле; Горький записал его мысли «об
эксцентризме как особой форме театрального искусства»: «Тут
есть какое-то сатирическое или скептическое отношение
к общепринятому, есть стремление вывернуть его
наизнанку... показать алогизм обычного» П9.
Речь идет уже не о юморе перетасовывания связей,
а о том, что сами эти связи в действительности утратили
смысл: обычное стало алогичным. Внешне монолитное на
деле оказывается раздробленным. Открывается картина
развала, распада.
«Разорванность сознания, сознающая и выражающая
самоё себя,— говорит об этом старый Гегель,— есть
язвительная насмешка над наличным бытием... и над самим
собой,— писал Маркс.— Это и есть себя самоё
разрывающая природа всех отношений и сознательное
разрывание их» .
В мемуарах людей, близких к Льву Толстому, можно
прочесть о его интересе к безумным. «Семен нюхал табак
и иногда угощал им душевнобольных,— вспоминал сказку,
придуманную отцом, С. Л. Толстой.— Как-то он заснул
в коридоре, оставив возле себя топор. Один сумасшедший
подкрался к нему, взял топор и со всего размаху отрубил
ему голову. Затем он спрятал голову Семена у себя под
кроватью и пошел с хитрым видом рассказывать другим
сумасшедшим, как он ловко подшутил: «Когда Семен
проснется и захочет понюхать табачку, он не найдет своего
носа. Его нос у меня под кроватью».
Такую сцену мог бы снять Бюнюэль. Одной из самых
смешных комедий последних лет кажется мне «Палач»
Луиса Берланги: единственная возможность молодой паре
обзавестись квартирой — занять мужу должность по
судебному ведомству, душить преступников гарротой.
Поначалу неприятный труд, но к нему скоро привыкают.
«Во всех рассказах о сумасшедших основой их болезни
служит их неразумная мысль,— пишет С. Л. Толстой.— Но
большинство человечества тоже неразумно мыслит;
поэтому отец считал большинство людей, которых принято
считать здоровыми, душевнобольными» 121.
174
Пространство трагедии
«Я боялся говорить и думать, что 99/100 —
сумасшедшие,— записал Л. Толстой в дневнике.— Но не только
бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать
этого» |22.
Шекспир говорил как раз об этом. Король Лир прожил
восемьдесят лет, но он не знал своих детей, королевства,
которым правил, мира, где жил. Истина открылась ему,
когда омрачилось его сознание. Искажение всех
жизненных отношений стало ему очевидным в безумии.
В таком противоречии — кульминация конфликта.
Здесь он разгорается во всю силу. Но это еще не конец
пьесы. Чем связаны эпизоды безумия с предшествующими
и последующими?
Разве встреча с Корделией происходит на той же «сцене
дураков»?
Чем точнее сформулирована какая-либо из концепций
(сколько их уже сочинено), чем яснее определена
интерпретация (режиссера или исследователя), тем меньше они
меня убеждают. Законченность логических построений
(выжимки из трагедии «главного») мгновенно
опрокидывается живым шекспировским действием; статика
формулировок, по самой их сути, чужда вольности движения,
непредвзятой одухотворенности поэтической материи.
Мы способны уловить (если хотим открыть
многообразие, а не только «самое важное») возникновение связей,
и сразу же их распад, и сразу стремление к иным связям,
будто другой магнит притягивает в новом порядке звенья
разорванной цепи; на мгновение все как бы сцеплено,
цельно, и опять разрыв.
Гамлет, подделывая приказ о его казни, который, везут
в Англию Гильденстерн и Розенкранц, говорит, что он, как
сапер, подроется под их подкоп и заложит мину под их
мину. Примерно так построен «Лир»: взрыв, и за ним
другой взрыв, на большей глубине.
Что можно понять в таких построениях, упустив из виду
резкость перемен тональности? Сама походка людей здесь
содержательна. Вслушавшись в ход, движение, дыхание,
лучше поймешь и категории «безумия» и «разума».
Ритм выражает сумасшествие не меньше самих слов. И,
что важно, часто расходится со словами. В сценах безумия,
там, где, казалось бы, место причудливым перебоям, дис-
Пространство трагедии
175
гармонии, резкости смен,— господствует покой. Мысли, на
первый взгляд, разорваны, однако дыхание героя
спокойно. Стоит Лиру утратить разум, и ход действия
замедляется. Сцены написаны неторопливо, с оттенками значений.
Ни буйства, ни драматизма до появления солдат Корделии
(ужас возвращения к нормальной жизни) в изображении
душевного заболевания нет. Напротив, наступил покой:
хорошо на свободе подумать о жизни, разобраться в
собственных воззрениях.
А торопились, да еще как! — до этого. Вот где буйство,
снежный ком сумасшествия. Вся первая половина пьесы
и передает эту эпидемию повальной заразы, потери разума.
Если отвлечься от риторики монологов (ветхозаветных
гипербол, тяжелой величественности речей) и взглянуть на
ход событий, голова закружится: все соскользнуло с оси,
вышло из колеи. Поступки, действия — под горячую руку,
не задумываясь; решения сразу, разрывы мгновенно,
отъезды немедля. Земля несется под ногами, горит пбд ногами,
уходит из-под ног.
С охоты начинается жизнь Лира в гостях у Гонерильи.
Ничего необычного в таком досуге нет. Времени
поохотиться теперь вдоволь. Так, в замке герцогини Олбэнской,
начинается новое существование Лира, первые его
вольные дни. Человек травит зверя. Потеха, забава.
И первый удар настигает его, когда он возвращается
с охоты. Важно ли это обстоятельство для трагедии? Имеет
ли смысл на нем останавливаться?
По пьесе охота шла до начала сцены, она только
упомянута. Всего лишь несколько фраз — соединительное
звено событий, действенное начало: Лир открывает двери
обеденного зала еще в возбужденном состоянии. Что еще
можно извлечь из такого упоминания? Пожалуй, больше
ничего на сцене и не покажешь.
Конечно, можно показать трофеи. В старом спектакле
Еврейского театра Михоэлс — Лир выходил из-за кулис
с убитым зайцем в руке. Распевая веселую песню, он
отрезал косому ухо. Охотничья песня, длинное пушистое ухо —
охотничий трофей. И сразу что-то чуждое, инородное
вклинивалось в образность. Почему? Детали были вполне
естественными: зайцы могли бегать и по этим полям, отчего
176
Пространство трагедии
бы охотникам не петь охотничьих песен? Тут не было
ничего подстроенного, нарочитого. Упреки в житейской
неправде были бы несправедливы. Однако дело было в иной
правде — поэзии.
Исследуя шекспировские метафоры, Кэролин Спер-
джен открыла различие сфер каждой из его трагедий.
Повторяющиеся метафоры «Отелло» связаны с
ощущением чего-то мелкого, грязного, низменного, того, что
вызывает гадливость («Замучь его ты мухами» — казнь для
Отелло, придуманная Яго); насекомые, пресмыкающиеся;
если животные, то — козлы и обезьяны . Ничего этого,
ни мух, ни жаб, нет и в помине в «Лире»: поэтическое
пространство населено существами иного калибра —
огромные дикие звери, свирепые хищники, а то и чудища
праистории — драконы, зловещие видения древних лесов.
Две главные сферы «Лира» — образы страданий
человеческой плоти и звериный облик, повадки хищников —
сталкиваются, перемешиваются; метафоры образуются не в
статике сравнений, а в сдвиге качеств.
Сдвиг усиливается в движении. И как всегда у этого
автора, метафоры связаны с обычным, реальным. Из
повседневного вырастает апокалипсическое. Из потехи
короля, забавы охотой, набирая мощь, разрастается великая
метафорическая охота. Охота во все государство, во всю
государственную историю.
Метафоры, фигуры шекспировской поэтической речи,
изучены. Но они не только элементы словесной ткани, они
неотрывны от движения, действия. «Мышеловка» — не
только название пьесы, которой Гамлет пугает Клавдия,
и не только стержень фабулы, но и характер движения
многих сцен; здесь полным-полно скрытых ловушек,
хитрых приманок, двойной игры, заманивания; борьба идет
втихомолку, скрываясь, таясь, не подавая виду, выжидая.
В «Лире» все иначе. Через эту трагедию несется,
убыстряя ход, охота. Метафорическая налетает на
реальную, охота на охоту, впритык, вплотную, руша порядки,
меняя мишени. «Дракона в гневе лучше не тревожить» —
первые угрозы. «Ты видишь, лук натянут» — и вот Кента
выгнали (поймают — «немедленная смерть»); Кент
выследил Освальда; Эдмонд затравил Эдгара; Корнуэл поймал
Кента (забить в колодки!); взяли след Глостера; обложили
Пространство трагедии
177
кругом Лира, петляют следы — шаги Лира от запертых
ворот к замкнутым дверям; сговариваются убить герцога
Олбэнского и сами попадают в его сети... Всего не
перечислишь. На каждом повороте событий — петли, вырытые
ямы, силки.
Это не только словесная игра, а действие. Петли
действительно затягиваются; хворост, которым прикрыта
яма, ломается под ногами... Лязгнуло железо: одного
поймали!.. Удрал, оставив в капкане окровавленную кожу.
Эдгар выдрался из человеческого облика — нагая,
кровоточащая плоть, обнаженные нервы, боль и ужас,—
рванулся на волю и угодил на отца, того, кто ему расставил
ловушку, и сам попал — глазами на колья! — в яму.
Бока в мыле, морды в пене, плети, шпоры: скорее! за
ним! Кто это в дупле дерева: зверь? человек? Тот, кто был
человеком. Заметают следы, вцепляются друг дружке в
горло, рвут свою плоть, когтят себя: отцы, дети, сестры,
братья, мужья, жены — все втянуты в гон, травлю.
Охота, где не ловят зверей, а обращаются в зверей.
Истребляют не хищников, а, становясь хищниками, весь
род человеческий.
Охота или какая-то исступленная, дьявольская погоня?
Что она напоминает? Чье искусство приходит на
память? Как ни странно, право же, его, Папаши Гуся — так,
по родству со сказочной Матушкой Гусыней, назвали
в одной из американских монографий творца экранных
безумий Мака Сеннетта т. Сходство, разумеется, не в
героях — усатых чудищах полицейских, красотках
купальщицах, простодушных комиках,— речь идет о другом:
культе погони. Сумасшествие преследования, срыв всех
тормозов; целый мир, вовлеченный в неистовый бег —
куда? зачем? Мелькают пятки, выжимают скорости,
несутся мостовые, и весь этот кавардак, бессмысленный
азарт, абракадабра потасовок, становится (Папаше Гусю
это, конечно, и в голову прийти не могло) пародией, не
только смешной, но и зловещей — на человека, на жизнь;
издевательством над всем человеческим, осмысленным,
одухотворенным. Окатывают водой с головы до пят, бегут,
хлещут шланги, струя сбивает с ног, а то — помоями из
ведра, нечистотами, умереть можно от смеха!.. Град
пирожных с кремом, одно за другим, так, чтобы залепить
178
Пространство трагедии
лицо, чтобы и следа от лица не осталось, ну и потеха!.. Или
лучше: кадку с тестом на голАву — где тут был человек?
Бесформенное месиво подпрыгивает, крутится, бежит,
мчится во весь опор, а за ним без передышки гонятся не то
чучела, не то звери; набросились — кто кого лупит! куча
мала! В «Лире» схожее. Только месиво не белое, а красное;
кровь хлещет, как из пожарного шланга.
Страшный, зловещий образ. В наш век неведомо каким
путем им обернулась веселая клоунада, выходки народных
буффонов, и взамен ярмарочных фарсов, пестроты и
простодушия — два цвета: черный и красный; два
смысла — трагический и гротескный. Вот к чему привели
бесконечные чередования трагедий и фарсов — юмор
жестокости и жестокость юмора, разорванное сознание, «себя
самоё разрывающая природа всех отношений и
сознательное разрывание их» (Маркс) ,25.
Об этом искусстве, скорее предчувствуя его, чем
понимая, мы писали полвека назад в манифестах
«эксцентризма», а потом во время войны, когда Сергей Михайлович
Эйзенштейн предложил мне написать о Чарли Чаплине 126
(он редактировал посвященный Чаплину сборник), я
возвратился к этой теме,— многое стало для меня более
ясным. Теперь связи с ней открываются мне в «Лире».
И что важно, весь этот бурлеск, предел сумасшествия
господствует в «Лире» в тех местах, где действуют люди
в полном сознании и здравом уме; люди, которые
управляют государством, устанавливают законы, повелевают
целыми народами. «Фарс — это существо театра,— писал
Гордон Крэг в «Индексе к истории моих дней»,—
ожесточенный, он превращается в трагедию» |27. «Диаволов
водевиль», «ожесточенный фарс» — вот какие
напрашиваются определения жанра. Ну, а что происходит, когда
трагедия прикасается к доброте, к нежности?..
Менее всего я думаю о том, чтобы сделать все эти
положения наглядными, но видеть действие и на этих
глубинах шекспировской мысли нужно отчетливо.
Так я пробую идти по пространству трагедии. Как оно
огромно!..
Место, где будто сам дьявол дал знак и мигом сорвался
с цепи этот ад, понесся сумасшедший галоп, нетрудно
Пространство трагедии
179
отыскать. Разделено (в запале) государство, проклята
любимая дочь, изгнан верный друг, разорваны сношения
с Францией... Что еще осталось в целости, сохранилось на
месте? Дом? Дома тоже не будет. В путь, немедля! Дорога
врывается в пространство, пространство — одно только
движение, а если на ходу появится под ногами пол и крыша
над головой, то на считанные минуты; сразу же закроются
двери, замкнутся ворота, и — дальше. Куда дальше?
Дороги перерезаны, пути обложены: идет охота. Некуда
дальше. Край земли: Дувр, крутой обрыв, море.
16
У этого путешествия есть особенность: вышли в дорогу,
пустились в путь сто один человек, дошел один.
Сто рыцарей, свита — единственное, что выговорил для
себя Лир. Разом разделил все, роздал, пустил по ветру.
Все, кроме свиты. Сто рыцарей останутся при нем, будут
сопровождать его повсюду. Что это — охрана? Однако
никто из них не вступается за Лира, когда его грубо
оскорбляют. Слуги? Но он посылает с письмом к Регане первого
попавшегося ему на глаза человека (переодетого Кента),
а не кого-нибудь из этих людей. Не воины и не слуги — это
ореол власти. Лир в сопровождении свиты — король; без
свиты — старик с дурным характером и ничего больше;
«тень от Лира», как потом объясняет ему шут.
Как показать на экране эту сотню? Ответ для каждого
режиссера, хоть немного знающего свое дело, казалось бы,
ясен: разбить на группы, вывести на первый план
отдельных людей, тех, что поближе к главному герою, найти
человеческие черты. Так мы и поступили. В репетиционной
комнате закипела работа; сочинялись характеры, целые
истории: кто-то из свиты, поняв положение, сразу же
поворачивает в другую сторону; кто-то колеблется, выжидает;
за спиной Лира начинается сговор... Многое было
придумано.
Зря придумано. Работа оказалась напрасной. Вскоре
выяснилось, что подробности лишь замедляли действие,
мешали действию. Было не придумано, а надумано;
присочинено, а не вычитано.
180
Пространство трагедии
Шекспир несколькими репликами написал образ
офицера, убийцы Корделии (война его всему научила,
осталось только возить в упряжке телегу и жрать овес);
считанные строчки — и понятна биография старика
фермера (спасителя слепца Глостера). Сколько у Шекспира
таких крохотных ролей — жизненных фигур.
Ни одному из ста рыцарей он не дал человеческих слов
(информационные тексты не в счет). Ни имен, ни слов, ни
характеров. Случайность? Конечно нет. Это не люди, а
образ жизни. Целое, а не частности. Кто самый
прославленный, кто живет лучше всех? Тот, у кого «семь тысяч
мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов
и пятьсот ослиц и весьма много прислуги» — так
начинается в Библии история Иова. Нужно ли уточнять
породу волов, указывать, какие именно работы исполняли
слуги?
Можно, пожалуй, рискнуть, провести знак равенства
и сказать, что верблюды, волы, ослицы, мелкий скот, и
весьма много прислуги — то же самое, что сто рыцарей
и сквайров, которых требует для себя король.
Обобщенный образ, а не портретная галерея. Как
у Гордона Крэга: королевская мантия во всю сцену,
золотое море, а на поверхности — головы придворных. Пробки
или губки. Какие же это характеры?
В кино зрительные обобщения вырастают в движении,
получают форму и размах в потоках кадров. Обобщение —
само движение.
Так и будем снимать.
Золотое море — в путь! Мантия, королевский шлейф —
в дорогу!..
Нет, это не игра словами, а, если угодно, номера кадров
рабочего сценария, указания на места экспедиций,
съемочную технику (тележка для движения камеры, съемочный
кран); в особых примечаниях нужно не забыть упомянуть:
«мелкий скот, верблюды, волы, ослицы», то есть кони,1
охотничьи собаки, птицы... весьма много прислуги.
Все это вместе — «мантия», мы ее выкроим, сошьем на
глазах. Мы ее покажем воочию, развернем во всю длину
шлейфа. Шлейф тянется за королем, волочится по залам,
треплется по дорогам, изнашивается в пути, расползается
по ниточкам.
Пространство трагедии
181
И большегнет ста человек, нет мантии. Остался только
один человек. Один очень старый человек в рубище на
голой земле, под суровым небом. Это мы будем снимать
здесь в Казантипе.
Ни верблюдов, ни волов, ни ослиц, ни прислуги.
«Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь
безводную, мрачную и опустевшую,— продолжает Библия,—
щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника —
хлеб их... люди отверженные, люди без имени, отребья
земли!» ,28
Как истрепалась мантия, мы снимем в Эстонии: там
есть все, что нужно для ее шлейфа. А как ее кроили и шили,
уже сняли в павильоне.
«Мантия», «шлейф», «охота», «безумие» — не ряд
отдельных сравнений, а стадии единого движения. Это
развитие, противоречивый ход мысли, сгущенной в потоки
кадров. В этом движении пространство может сузиться до
молекулы повседневности, резко отфокусированной,
грубой и пошлой; или разом расшириться, уйти за рамки,
зачерпнув историю и захватив вселенную. Качество,
которое пробуешь уловить, развиваясь, оборачивается
противоположным: нет ничего устойчивого, застывшего.
Романтики восхищались сочетанием у Шекспира
возвышенного и гротескного; получался как бы слоеный
пирог. Контрастов в «Лире» действительно вдоволь, только
сферы нерасчленимы; границы найти трудно. Возвышенное
не чередуется, а распадается гротескным. А гротескное
незримо сбрасывает с себя дурацкий колпак и неведомым
путем оказывается в терновом венце. Черты стиля? Нет.
Черты истории, черты жизни, черты мысли — в этом суть.
Так и нужно ставить шекспировский фильм. Такой
сплав и должен определить тон, ход, саму плоть кино.
Экран — не место, где играют Шекспира, «учитывая
специфику кино» (то, о чем говорится, показывается).
Экран надо зарядить электричеством трагедии. Ткань
динамического изображения должна быть под шекспировским
током.
Не просто теперь писать о «плоти кино». Тот, кто
прожил жизнь (а не только трудился) в монтажных
комнатах ранних двадцатых годов, знает это ощущение тепла,
182
Пространство трагедии
живой плоти кино. Она была в руках, пальцы чувствовали
это тепло. Целлулоидная лента казалась одушевленной:
зачатки значений, оттенки чувств, истоки мыслей таились
в каждом метре. Ножницы, лезвие бритвы, ацетоновый
клей в баночке — нехитрые орудия производства, но с их
помощью мы занимались почти что ювелирным делом.
Клетки кадров были на вес золота (часто они и решали).
Монтаж — последовательный рассказ тогда презирали:
разве это монтаж? — ремесло, склейка. Монтаж был
мышлением, воплощением чувств, одухотворенным движением.
Метры, кадры, клетки переставали существовать по
отдельности; под пальцами возникала новая реальность:
слепок духовного мира, ракетой несущегося в
пространстве экрана.
Эйзенштейн решительно отделял экран — сферу
киноискусства — от четырехугольника сомнительной чистоты,
на который проецировали «живые фотографии». Только
энергия динамической пластики преображала полотно в
экран.
Сколько дней и ночей мы провели, монтируя
«катастрофу» в «Новом Вавилоне». Отрывки действий — все в
разных местах, в разные времена: ажиотаж распродажи,
шовинистический угар, мишура гала-спектаклей,
обезумевшая танцулька во весь Париж, атака немецкой
кавалерии — ничто не существовало по отдельности,
прикрепленное к месту, определенное временем; все сливалось,
пронизывало одно другое, образовывало новое качество —
нарастающей пластической волны, темы «гибели второй
империи». Завязки отношений, лица эпохи, ритмы ее
жизни, безудержность спекуляций, неудержимый рост
всеобщей купли-продажи, неизбежность возмездия — все
слитно, взаимосвязано ритмом, светотенью; это только
несущееся пространство.
Тогда говорили: «эпизод, собранный в кулак».
То, что мы делали, помогает мне снять шекспировский
фильм. Но так работать теперь я не смог бы. Причина не
в том, что кино двадцатых годов было немым, а потом
пришло звуковое и изменилась технология монтажа.
Много воды утекло с тех пор. Еще больше крови. Мир
изменился. Эти перемены не передать «эпизодами, собранными
в кулак».
Пространство трагедии
183
Вот почему я занимаюсь Шекспиром. Пишу эту книгу.
Годы (прекрасные, бесценные) чистого кино, прямого кино
миновали.
Чтобы понять сложность жизни и истории, открыть их
глубину — нужно уже иное кино.
На одной из бурных дискуссий двадцатых годов оратор
воскликнул (тихо и спокойно тогда не говорили):
— Режиссер — человек, который мыслит кадрами!..
— А я думал — головой,— перебил его чей-то голос из
зала.
Реплика, бесспорно, остроумная и не лишенная смысла.
Однако шуткой тут не отделаться. Что же является
истинной поэзией — связь далеких идей, сложных ассоциаций
(зарницы — «глухонемые демоны» у Тютчева |29) или,
напротив, естественность интонаций («пускай она
поплачет, ей ничего не значит» Лермонтова )?.. У больших
поэтов сколько угодно образцов и того и другого склада
речи. Но каждое большое явление в культуре и истории
заставляет перечитывать поэтов по-новому. Толстой не
только не уничтожил Шекспира, но, напротив, многое в нем
открыл. Пастернак, переводя Шекспира, ставил себе целью
убрать «риторическую бессмыслицу и метафизированную
романтику», которые только мешают «Шекспиру
настоящему... Шекспиру архитолстовскому» |31. Он старался как
можно точнее передать существо трагедии, выраженное,
прежде всего, ее внутренним ритмом. «Ритм Шекспира —
первооснова его поэзии,— писал Пастернак.—
Ритмическое начало сосредоточивает до осязательности... общий
тон драмы»132.
Ритм — основа всего: духовной жизни артистов,
движения камеры, отношений фигур и пространства,
напряжения светотени. Ритм прежде всего содержателен. В нем,
если угодно, и сюжет трагедии, и ход событий: шаг, бег,
взлет, падение... шаг, бег, взлет, падение... Нарастающие,
откатывающиеся волны и внешних действий, и духовной
жизни героя (все эти приступы гнева, затем стыда, опять
гнев...).
Слитность, общность движений. В самом начале
слышатся не отдельные реплики, голоса людей (Кента,
Глостера, Эдмонда, Лира, сестер), а тяжелый ход сработавшего-
184
Пространство трагедии
ся государственного механизма. Исполнение ритуала,
только внешнего (вера давно утрачена), выравнивание
иерархии положений (все держится лишь на. страхе).
Государственная форма неуклонно соблюдается, но
государства уже нет.
Неподвижность. Несколько шагов. Незаметный (почти
незаметный) жест. Неподвижность. Перемена взгляда.
Неподвижность.
Так мы сняли начало. Затем — распад, развал.
Владения разделены, король покидает замок. Бездушная
геометрия сменяется какой-то чертовой сюитой. Как бы ее
определить, ухватить какие-то ее черты? Фантастический
«галоп фюнебр»133 или, может быть, сеннеттовская погоня
в миноре?
Действие: король отбирает свиту — тех, кто будет
сопровождать его в поездке. Ускоряющийся шаг, почти что
бег Лира вдоль шеренг придворных. Король тычет в лица:
этого, этого, этого! По залам, по конюшням — тем же
жестом отбор коней-любимцев. Тем же ходом по псарням:
фавориты — волкодавы, доги, черные великаны с
мертвыми глазами — за мной!., ловчие птицы, орлы, соколы —
в путь!., этого, этого, этого!.. И тем же стремительным
ходом («шлейф» уже тянется, «охота» собрана) вверх —
взбег на лестницу, выше, выше, выше, на последние
ступеньки, на верх башни, под самое небо, и тогда все, что
нагнеталось, вскипало, с трудом сдерживалось,—
вырвалось: проклятием Корделии, бешеным криком прямо в
небо. А далеко внизу, на земле — отребья земли, увидев
короля, повалились на колени; лохмотья пали ниц перед
мантией.
Точка. Острие.
И — мантия отправилась в путь. Лир едет к старшей
дочери. Шлейф должен развернуться во весь широкий
экран.
Снять это трудно. Трудно потому, что легко.
Стоит только поставить камеру, как немедленно же
происходит страшнейший процесс: «образуется кадр».
Иначе говоря, все, находящееся на съемочной площадке,
само собой выстраивается именно так, как положено по
шаблону. Люди, животные, вещи занимают свои места.
Пространство трагедии
185
Откуда они взялись, эти места? Что, выдали каждому
билетик с указанием места?
Нет, дело проще, уже и билетиков не надо: процессии,
шествия, выезды множество раз снимались. Эта
технология известна. Люди, приглашаемые киностудией на такие
съемки, исполняют то же, что они уже не раз исполняли; те
же, что в съемках еще не участвовали, видели такие сцены
в фильмах и тотчас же начинают их воспроизводить в
жизни. Дело спорится. Гарцует кавалькада. Чем не
королевский выезд?.. Какой темп? — спрашивают всадники.—
Шагом будет некинематографично. Если угодно, быстрая
рысь? галоп? Это кинематографично.
Готовясь к съемкам, я работал в библиотеке Эрмитажа,
подолгу стоял у экспонатов Грановитой палаты,
Конюшенного музея — все это мне мало помогло. Помогло одно
описание — выезда не царя, а особы куда менее
значительной — коллежской секретарши Коробочки. Вспомнил я
его, и сразу стало легче на душе; сгинули
церемониймейстеры, улетучились герольды.
...Скрип и визг железных скоб и заржавелых винтов,
грохотание по булыжникам: дурацкая колымага, даже и не
колымага, а какой-то вспучившийся по бокам арбуз
взгромоздили на колеса, набили тюфяками, тюками, кулями,
свертками, чмокнул кучер, пошли, спотыкаясь о камни,
плохо подкованные лошади... Во всей этой вздутой в
гиперболу несуразице — несоединимости понятия движения
с тем, что одна только спячка, что, казалось бы, никакими
силами с места не сдвинуть,— не только потеха, но и эпос:
жизненный уклад, уже начисто лишенный смысла,
обездушенный, сдвинулся, покатился, загрохотал. И не одна
какая-то помещица, а целый мертвый мир катит по живой
земле, под небом, полным звезд.
До чего же смешное описание. А где-то рядом —
беспредельное, наводящее ужас пространство. Не только
эпос, но и трагедия.
Работая над эпизодом, я резко вывожу на первый план
какое-то качество, отдельную черту довожу до крайности.
Растут варианты сценария (Эйзенштейн подсчитал: в
среднем идет в работу восьмой; то же, пожалуй, и на моей
186
Пространство трагедии
практике). Потом крайности смягчаются, отношения
выравниваются. Восстанавливаются связи с реальностью.
Излишества, как правило, сами отпадают. Не хватит
съемочного времени, обстоятельства схватят за горло...
Успеть бы снять основное. Хорошо бы только знать, что
«основное».
Все же в седой бороде Лира была, что ли говоря,
историческая необходимость. Трагики знали, что делали,
ухлопывая непомерное количество седого волоса; сразу
же, как только занавес пошел, нужно было заявить:
старый, очень старый.
И мне необходим этот эпитет. Однако не по отношению
к королю, а к королевству. Лир не только старый, но и
одновременно молодой; его мысль уходит в тьму древности
и вдруг, прорывая время, загорается всей силой
современной иронии. Самый старый и в то же время самый
молодой. А королевство — только старое. Дряхлый мир,
склероз идей, вырождение верований.
Замок с обшарпанными стенами, дыры в бастионах,
неубранный мусор.
Пожалуй, ни один из королей не имел столько хлопот со
своим выездом, сколько досталось художнику В. Улитко
с каретой Лира. Он сделал множество вариантов (эскизы,
макеты) экипажа. Еней и Вирсаладзе давали советы. За
основу, после многих проб, взяли колымагу, подарок,
который Елизавета Тюдор прислала Борису Годунову. Все
же шекспировское время хоть тень бросило на этот
экспонат Оружейной палаты. Из Москвы пришли фотографии
всех деталей, обмеры. Детали отбросили, остов упростили,
огрубили. Мастера из Нарвы сколотили экипаж (нечто
среднее между выездом Коробочки и Елизаветы Тюдор),
эстонские специалисты обтянули верх сыромятной кожей.
Вытеснили на коже гербы. А потом пошла главная работа:
карету старили. Обжигали паяльной лампой, скребли
напильником, втирали копоть.
За каретой-рыдваном должен был потянуться
громоздкий обоз: телеги с ларями, наглая челядь, вьючные
лошади, все тяжело груженное; воют собаки, упираются,
не хотят идти дальше; нахохлились в клетках одичавшие
птицы; плетутся десятки унылых, озлобленных бездельни-
Пространство трагедии
187
ков; в беспорядке едут всадники. Нет больше позолоты.
Облупилась, обсыпалась.
Так должна выглядеть на экране «мантия>.
На съемке мне особенно понравилась одна из телег. На
второпях, плохо упакованных вещах дремали, укутавшись
в теплые плащи, совсем старые люди; на ходу
развязывались веревки, падали по пути вещи, слуги не обращали
внимания. Дряхлая повозка, ненужные вещи, отжившие
свой век люди. Хорош рыцарский кортеж.
Как раз эта телега в кадр не попала. Снять ее поближе
не успели. Кто сможет когда-нибудь объяснить такое
свойство нашей работы: любая небрежность, неточность
обязательно попадает в яркий свет, выходит на первый
план, на видное место, но деталь, которой придается
значение, обычно проходит стороной, незамеченной.
Костюмы у нас — самые скромные. Исторический
реквизит — ничтожный. Но во всем живом, двигающемся
нужна определенность характера, отличие от наших дней,
эпоха: огромные псы, коротконогие пузатые лошади.
Предполагался солист, гепард из ленинградского зоопарка, мы
его давно облюбовали. Исторические консультанты
наконец облегченно вздохнули: гепард в королевской охоте —
это просто прекрасно! Все источники были за гепарда.
Против была только администрация. В последнюю минуту
его объявили больным — хватало хлопот и без гепарда.
Трофеями (возвращение с охоты) намечались вепри.
Эпизод хотелось начать круто, с густой закваски: туши на
рогатинах, окровавленные шкуры, клыки.
Охотники всех округ получили заказ. Как назло
никаких трофеев. На съемку притащили чучело. Кадры сняли
и выбросили, отвратительная бутафория била в глаза.
Положение немного спасли кабанята: бедняги забрели
в болото и утонули. Их вытащили как раз накануне
последнего съемочного дня.
Такой массовки мне еще не приходилось видеть. Перед
объективом проходили директора учреждений, доктор
наук, капитан второго ранга... Нет тщеславия более
сильного, чем у владельца собаки. Стоит в Гайд-парке остано-
188
Пространство трагедии
виться подле какого-нибудь терьера, и немедленно рядом
с вами оказывается его хозяин:
— Прекрасное создание? Не правда ли...
Специалисты по кровному собаководству подбирали
премьеров.
В дни съемок несколько складов и магазинов могли
быть ограблены, сторожа, получив увольнительные,
сопровождали короля. Труппа была неспокойной: доги
склочничали с волкодавами, свиту Лира растаскивали за хвосты.
Текучесть, зыбкость качеств. В облике свиты есть
и унылая повседневность: вой и собачьи склоки,
одичавшие, нахохлившиеся птицы в клетках; ленивые слуги;
порядок нарушается все больше. Отстают всадники, уже
меньше животных, наконец, маленькая, вразброд
плетущаяся цепочка — вот и весь шлейф.
И в то же время в других сценах сгущается какая-то
фантастичность. В темной, трясущейся карете Лира,
выгнанного Гонерильей из дому, охватывает уже не только
бешенство, но и страх.
— Не дай сойти с ума, благое небо! — упрашивает он
(богов? судьбу?).— Дай сил, чтоб не сойти с ума!..
Черные собачьи морды с горящими глазами крупными
планами должны пройти по экрану — как демоны безумия.
17
Наступило время новых методов исследования. Раньше
думали, что о поэте лучше всего судить поэту. О Шекспире
писали Пушкин, Гете, Кольридж, Гюго. Потом за него
взялись философы. Психологи занялись его характерами.
Подоспели со своими знаниями историки елизаветинского
театра, литературы, специалисты по риторике. Текст
Шекспира объясняли и духом Возрождения (полнокровным,
плотским), и неврозами наших дней — психоаналитики
углубились в подтекст. Находились у нас и охотники
перетряхнуть анкеты автора: Шекспира записывали то в
певца уходящей аристократии, то в апологета подымающейся
буржуазии. Все было. Кому под силу разобраться в таких
делах?.. И вот пришла пора точных наук. Конец спорам.
Пространство трагедии
189
Как подвергнешь сомнению цифры? Математическая
лингвистика засучила рукава.
Точность в исследовании — первое достоинство.
В 1919 году Борис Михайлович Эйхенбаум написал статью
«Как сделана «Шинель» Гоголя». В самом названии
слышался вызов. Вместо общих фраз о гуманизме автора —
наука. Эйхенбаум показал ткань литературы: язык, сказ,
смену интонаций. Статью критикуют до сих пор: а где
скорбные глаза Акакия Акакиевича? Боль за
униженного?..
Разумеется, есть в повести и взгляд Башмачкина,
и боль автора. Только нужно вспомнить, что еще Чехов
свирепо обругал своего брата за рассказ о страданиях
маленького чиновника — эта тема набила оскомину, к ней
уже стыдно прикасаться 134. Не меньшим штампом
стали и высокие слова о гоголевском сочувствии меньшому
брату. Конечно, название статьи Эйхенбаума могло
быть и более точным. Например: «Шинель» сделана и
так».
Нельзя исчерпать «приемами» искусство. Лучшим
определением предмета кажется мне толстовское: «лабиринт
сцеплений» . В лабиринте нельзя повесить стрелки: «ход
направо», «держитесь левой стороны», «к выходу»,—
нельзя именно потому, что это лабиринт. Остается каждому по-
своему блуждать по нему, освещая путь, стараясь выйти на
новые пересечения дорог, натыкаясь на тупики, и опять
подымать фонарь: искать иных направлений.
Откуда берется фонарь? Ответить непросто. Это и свет
дня, в котором живешь (ты живешь); это и труд людей,
который стал тебе доступен. Тех самых людей, которые
искали ответа на вопросы: как сделано искусство? как
сделана жизнь?
Конечно, хочется ясных объяснений, простых выводов.
Вкус к туманным выражениям и высокопарным оборотам
у всех уже давно прошел. Об искусстве хочется говорить
понятно, дельно.
Одна такая попытка мне хорошо памятна. В 1919 году
в Петрограде вышло «Изобразительное искусство». С
бумагой было трудно, но почему-то два издания печатались
на меловой бумаге: «Красный милиционер» и
«Изобразительное искусство». В первом (и единственном) номере
190
Пространство трагедии
этого журнала была помещена статья «Художник и
коммуна». «Сапожник делает сапоги, столяр — столы,— писал
Осип Брик.— А что делает художник? Он ничего не делает;
он «творит». Неясно и подозрительно». На меня эти
программные слова произвели тогда огромное впечатление.
Я был молодым художником (очень молодым), мне стыдно
было заниматься чем-то подозрительным и неясным. Какое
там вдохновение, озарение свыше, творчество. Подумаешь,
божьи избранники! Нужно было дело делать — реальное,
полезное, изготовлять вещи.
Или показать, как вещи сделаны.
Как сделана любовь Ромео и Джульетты? Сколько
ударных и неударных слогов падают на сомнения
Гамлета?..
Профессор Марвин Розенберг (университет Беркли,
США) рассказал мне, как запрограммировали задачу:
количественный анализ речевых единиц «Лира». Стихи
и прозу закодировали. Трагедию зарядили в компьютер.
Счетно-вычислительное устройство сработало. На первое
место вышли, кажется, союзы but, if (только, если, но,
кроме, однако...).
Опыт, конечно, интересный. Что он показывает? То, что
в трагедии превалирует состояние колебания,
неустойчивости, неуверенности? Не берусь судить. Данных должно
накопиться много, из разных срезов образности. На
мировом Шекспировском конгрессе в Канаде таким
исследованиям был посвящен целый раздел программы.
Неразумно пугаться машины, установленной в мире
поэзии. Она не рассеет тени отца Гамлета, и Фальстаф не
похудеет после математического обследования. Надо
сказать, что и сам Шекспир придавал значение подсчетам.
Цифры имели для него особый смысл. Принц Галь
проделал математический анализ записки Фальстафа (на
обороте счета таверны «Кабанья голова») и открыл
диспропорцию количественных соотношений (выпитого и
съеденного). Известна и трактовка Шейлоком единицы веса
«один фунт».
Обо всем этом я вспоминаю потому, что и мне хочется
поставить эксперимент. Касается он также математики, но
направление опыта иное, пожалуй, даже противополож-
Пространство трагедии
191
ное: не закодировать стихи цифрами, а, напротив, выявить
в цифрах поэзию. В «Лире» есть арифметика. Есть и
алгебра. Есть, не побоюсь сказать, и магия чисел. Произведение
посвящено буйству стихий, мировому хаосу, а в нем только
и делают, что делят, вычитают, умножают...
Счеты щелкают в первых же репликах: владения
делятся, слова любви вымериваются и даже молчание
Корделии превращено в формулу: «Из ничего и выйдет
ничего». Деление на три части, опять сложение, деление на
две. Так обращаются с государством. «Она была когда-то
дорога,— говорит Лир о младшей дочери,— теперь цена
упала».
Потом падает цена Лира. Гонерилья требует сократить
его свиту наполовину; Регана убирает еще четверть.
«Пятьдесят вдвое больше, чем двадцать пять,—
подсчитывает Лир,— значит, Гонерилья любит меня вдвое больше».
Пародия на арифметику? На меры и догмы, с помощью
которых Лир судил о жизни?.. Пародия оборачивается
трагической формулой. Она образуется не сразу. Сперва
перед нами примитивная задача, детский учебник: король
и сто человек свиты составляли вместе, всего — сто один
человек; свиты не стало, сто один человек минус сто
человек: сколько останется? Школьник отвечает, не
задумавшись: один человек. Шекспир дает другое решение:
один человек — это уже и не человек. «Теперь ты ноль без
палочки»,— говорит Лиру шут.
Один плюс сто = король. Король минус^сто
(свита) = 0. Мера куда меньшая, чем человек. Выводится
новая мера: бедный Том — голое двуногое животное и
ничего больше. Ничто. Ноль без палочки.
Две меры — как бы шкала отношений, измерений. Две
цифры — самое большое число и самое ничтожное: все
и один.
Король — это и все. Корделия, выступающая против
воли короля,— одна. Одна против всех. Одну сбросят со
счетов ничтожным движением руки. За Корделию
вступается Кент: теперь два против всех. Величины так же
несоизмеримы. Кент уничтожен, изгнан. Появляется
третий: французский король. Три против всех. И Корделия
уже не кажется побежденной.
192
Пространство трагедии
Может быть, меру решает не один человек, а корона
Франции? Нет, именно это, человек. Слуга разрушает
планы герцога Корнуэлского; старик фермер спасает
слепца Глостера. «Все» — вовсе не постоянная, неделимая
величина. Среди всех обязательно находится один, который
отделится от всех; от множества отпадет единица. Единица
добра, правды, милосердия — против громады зла, лжи,
жестокости.
На одну чашу весов падает все самое тяжелое: корона,
меч, и другая чаша мгновенно взлетает. Может ли что-
нибудь перевесить золото и железо? Может, отвечает
трагедия. Другая корона? другой меч? Нет, на чашу весов
падает совсем иная мера тяжести. То, что, казалось бы,
вовсе невесомо. «Лир» основан на конфликте мер,
столкновений духовных ценностей и материальных.
Никто и ничто — старый человек, тяжело больной,
приходит в себя (он долго находился без сознания). Мир,
которым он владел, в котором он прожил восемьдесят лет,
предстает перед ним в каком-то новом качестве, в ином
измерении. Раньше он не замечал людей. Теперь он
различает, прежде всего, крохотную частицу влаги.
— Что это, слезы на твоих щеках? — спрашивает он
дочь, которую выгнал и проклял.— Да, это слезы.
Эти слова кажутся мне самыми сильными в трагедии.
Мерять государственную историю слезой ребенка —
требовал Достоевский. «Ничего» Корделии (еле слышное)
громче громовых речей во славу короля.
Слеза, медленно стекающая по щеке Корделии,
занимает в пространстве трагедии не меньшее место, чем мрак
и огонь апокалипсиса, черный вихрь бури, обрушившийся
на мир.
«Все» у Шекспира — меняющееся, диалектическое
понятие: ни постоянства, ни устойчивости в нем нет; оно
одновременно огромно и ничтожно: самая большая цифра
может оборачиваться и нулем. Армия Эдмонда (наемные
войска) одерживает победу: французы разбиты, Корделия
и Лир в плену. Эдмонд, теперь он граф Глостер, у цели.
Герцогини готовы перегрызть глотку из-за него; он будет
правителем государства. Полная победа. И... неуловимое
мгновение — ничего больше нет, все исчезло. Ни крупицы
Пространство трагедии
193
власти, ни тени силы. Не стало армии (она распущена
герцогом Олбэнским); нет ни одного солдата, чтобы
защитить полководца. Герцогини уничтожены в считанные
минуты. Кем? Кто поднял на них руку? Никто. Они убили
друг друга. Сами себя уничтожили; как сама собой
разбрелась армия. Ничего не осталось. И этот счет
окончательный. «Все» — оказались призраком; только призраки
исчезают мгновенно, бесследно. «Все» — не только не
большинство, но даже и не реальность: «все» — морок,
наваждение.
Мгновенность перемен, быстрота возмездия?.. А не
попросту ли условность драматургии? Пятый акт, нужно
торопиться, не сидеть же зрителям до ночи. Вот и
приходится автору уводить события за сцену, скороговоркой
наказывать зло. Стоит ли режиссеру тут мудрить?..
Соображения для театра веские: сам ритм действия,
основанного на тексте, не даст возможности именно здесь,
где немного слов, вывести на первый план судьбы,
пристально вглядеться в лица. Оптика сцены не позволяет
этого. Иное дело экран: выражение глаз на крупном плане
нередко сильнее целого монолога. К последнему взгляду
Эдмонда мы с Регисом Адомайтисом и ведем всю роль.
Эдмонд умирает один на грязной, окровавленной земле,
всеми брошенный, как загнанный, забитый зверь (а он был
самым ловким охотником) — совершенно один в
огромности вселенной. А где же «все» — те, кого он подчинил своей
воле?
Здесь, в последних сценах, открывается существование
иных «всех». Шекспировские герои требуют отклика. Крик
Лира: «Люди, вы из камня!..» — не в пустоту.
От кого же ждет он отзыва, ответа? От всех. Значит, от
тех, кто вышел на сцену? Нет, скорее от тех, кто в зале.
И не буквально от тех, кто сегодня купил билет и пришел
на спектакль,— от продолжающейся жизни. От тех, кто
придет. От тех, кто поймет. Кто не будет из камня.
Этот один — на сцене или на экране, эта мера «одного
человека» и есть прообраз не мнимых, а подлинных «всех».
Полнота страдания создала такую меру.
Вот почему так невыносимо трудна постановка «Лира».
В основе основ трагедии лежит старинное моралите:
история Всякого человека во Всякой жизни.
7 Г. Козинцев, т. 4
194
Пространство трагедии
18
Статью «Как сделана «Шинель» Гоголя» связали с
фильмом «Шинель», мы его сняли в 1926 году. Начиная
с первой ругательной статьи (почему режиссеров не
выгнали сразу же, после «Чертова колеса»?) до последней
одобрительной наш фильм выводили из статьи
Эйхенбаума.
Бориса Михайловича Эйхенбаума я хорошо знал и
очень любил. Большого влияния его статья на фильм не
оказала. Оказал влияние актовый зал Киево-Печерской
Пятой гимназии (на меня). Когда нас, учеников первого
класса, построили парами и чужой бородатый человек
в очках повел нас по коридорам, а потом по лестнице на
второй этаж и мы вошли в раскрытые двери — я
переступил порог прошлой, домашней жизни и оказался в новом
для себя мире; помещение казалось огромным,
неестественно высоким, несмотря на дневной свет, ярко горели
люстры, на стене далеко от меня висел большой портрет
Николая Второго в военном мундире с орденами.
Гимназисты всех классов, одетые в формы, стояли в строю. Никто
больше не двигался. Было молчание, пустота, царь во весь
рост в сапогах. Человек, застегнутый на все пуговицы
парадного сюртука, вышел на блестящий паркет. Голос
в гулкой тишине звучал неестественно. Здесь я был совсем
чужим, беззащитным. Все казалось мне сном, дурным
сном.
Какие-то начальные отношения величин —
естественной жизни и казенной, мнимой — я тогда ощутил впервые.
С понятием счастья у меня навсегда связался день,
когда после очередного обстрела Киева я пошел утром
в гимназию. Гимназии больше не было. Насквозь
просвечивало разбитое здание, валялся кирпич, щебень.
Влияют не статьи, а жизнь. Эйхенбаум последние годы
жил рядом со мной. Мы часто встречались. Он всегда очень
прямо держал голову. Волосы сперва были темными, потом
они поредели, стали совсем седыми. Потом было плохое
для него время. Однажды он позвонил мне. Поздравьте
меня,— услышал я голос Бориса Михайловича по
телефону,— мое имя опять появилось в печати. Вот, в
«Медицинском журнале»: «Случай с больным Э». Больной «Э» — это
Пространство трагедии
195
я. «Несмотря на тяжелые симптомы, больной остался
в живых».
Влияют не статьи, а люди. Умение людей прямо
держать голову. Сценарий «С. В. Д.» (Тынянова и Оксмана)
мы переделывали во время съемки. Тынянов не обижался,
его интересовала кинематография, а не права сценариста.
Что же осталось от его труда в фильме? Остались
надписи — Юрий Николаевич сочинил их, посмотрев снятые
кадры. Остались частые встречи, разговоры (вовсе не
о кино), дружба. Юрия Николаевича уже давно нет в
живых, значит, все это ушло в прошлое,— одна только
память? Нет, именно это, дружба, осталось в кадрах. И не
только в «Шинели» или «С. В. Д.», но и в картинах,
которые я снимал позже.
А потом, незаметно для тебя, многое становится не
жизнью, а «материалом». Можно ли получить копии с
вашего архива? Да я слова такого раньше не знал. Архив?
Каюсь, я выбрасывал, после прочтения, письма
Эйзенштейна. К чему было их хранить, мы часто встречались.
В конце сороковых годов ко мне пришел театровед
профессор С. С. Данилов. «Не сохранились ли у Вас
материалы постановки «Женитьбы»?» — спросил он меня.
Несколько эскизов костюмов случайно сохранились. «Да это
памятники эпохи! — восторгался профессор,
рассматривая картинки.— Вы не имеете права держать их у себя.
Ваш долг передать их Театральному музею. Ваша
«Женитьба» принадлежит истории советского театра».
Не скрою, я был польщен. «Музей выражает вам свою
глубокую признательность,— сказал мне на прощание
С. С. Данилов, унося с собой папку с эскизами.— Ваш дар
будет сохранен для будущего».
На этом торжественная часть закончилась. Будущее
наступило довольно скоро: в книге о драматургии Гоголя
я обнаружил репродукции со своих эскизов; в тексте
говорилось о «глумлении над классикой» 136. И в других книгах
я потом находил веселых клоунов моего детства,
замаранных дегтем и вывалянных в перьях.
Теперь пришло письмо: в Венеции состоится сессия,
посвященная ФЭКСу, просмотры фильмов, дискуссия.
Тема одного из докладов «ФЭКС и Тынянов»; просьба
прислать фотокопии материалов. Каких?.. В том, что я се-
7*
196
Пространство трагедии
годня пишу, на мой взгляд, больше влияния Тынянова,
нежели в фильме «С. В. Д.».
Мы с Траубергом сидим за одним из столов,
расставленных в форме каре по краям актового зала университета
Ка Фаскари. Над нами в сияющей голубизне парят нежные
венецианские богини Тьеполо в прозрачных туниках.
Богини трубят в золотые трубы, а внизу идут доклады.
«Эксцентризм — понятие лингвистическое, психологическое,
механическое...», «Похождения Октябрины» и европейский
авангард», «Массовые зрелища революции и комедии
ФЭКСа», Фаусто Мальковати из миланского университета
описывает спектакль «Женитьба».
Первое чувство, которое я испытываю, разумеется,
признательность — нелегко разыскать забытые рецензии,
восстановить детали, которых уже и мы сами не помним.
Все, о чем говорит докладчик, точно: реплики Подколесина
и репризы клоунов, конструкции из фанеры и жести между
женихами Агафьи Тихоновны, кадры киноленты в сценах
Гоголя и выход самого Гоголя... увы, не отречешься.
Только теперь, в докладе, пестрый наворот как-то выцвел,
онемел, распался на части — колесики, пружинки. А в своё
время все вертелось, ходуном ходило.
Что же давало ход? Попробуй теперь улови — ход,
дух — объясни словами... Ну, прежде всего, это было
веселое искусство. И оно весело делалось. Шкловский
писал исследования прозы языком фельетона. Недавно на
обсуждении первого тома «Истории советского кино» один
из киноведов спросил: «Почему забыт совет троих, от
имени которого Дзига Вертов писал манифесты киноков?..
Кто они такие были? И кем они были избраны?» 137. Никем.
Это были — Дзига Вертов, его жена монтажер Е. Свилова,
его брат оператор М. Кауфман.
«Совет троих» постановил уничтожить художественную
кинематографию как ненужную пролетариату.
Разве не было в этом игры?.. Эйзенштейн рассказывал
мне, как во время одного из банкетов ВОКСа он вспомнил,
что в этом зале (особняка на Арбате) он поставил «На
всякого мудреца довольно простоты», и, позабывшись,
вытянул под столом ногу, стал шарить носком ботинка по
полу. «Что с вами?» — удивился респектабельный сосед по
Пространство трагедии 197
столу. «Ничего»,— опомнился Сергей Михайлович; он
искал кольцо от цирковой лонжи — оно было ввинчено как
раз в это место лет тридцать назад.
Обязательно нужно искать это кольцо. Или хотя бы
след его.
Эти спектакли задумывались тогда, когда в черных
провалах лестничных клеток застряли между этажами
лифты, казалось, навечно — дома были ледяными
глыбами. Манифесты эксцентризма мы сочиняли во тьме, при
мерцании коптилки. В голод и холод задумывался
карнавал в честь электрификации.
Теперь слова сопоставляют со словами. Не вернее ли
сопоставлять их с пейзажами?..
Спектакли недолго жили — пейзаж решительно
изменился. Тогда, в годы нашей юности, Гоголь казался своим,
самым «левым» в искусстве, как тогда говорилось; нужно
было отделить его веселую стихию от натуралистической
серости, вялости театральной игры, сонных темпов. Так,
чтобы загорелись «невероятные происшествия», чтобы мир
развалился на части. Нос молился в Казанском соборе,
рыба выплыла из Фонтанки и заговорила по-английски,
и чтобы гуляли по Невскому проспекту не люди, а одни
только усы и бакенбарды.
Потом, с ледяным вихрем, ворвалась на наш экран иная
стихия Гоголя. Мы выгнали Акакия Акакиевича в пустоту
площадей, искать в ночи императорской столицы хоть одну
живую душу, чтобы выговорить ей свое горе.
Косноязычное горе в немоте площадей и монументов. Веселого здесь
было уже меньше. Черты повести на нашем экране
пропали. Появился какой-то другой жанр. Какой? «Гоголь,—
писал Достоевский,— из пропавшей у чиновника шинели
сделал нам ужаснейшую трагедию»; он назвал Гоголя
«настоящим демоном» и стал им как-то странно
хвастаться: «О, это был такой колоссальный демон, которого у вас
не бывало никогда в Европе и которому вы бы, может быть,
и не позволили быть у себя» 138.
Демоны повестей не пишут. Трагедия нам тогда и не
снилась. Мы пробовали снять гротеск истории. С этой
наукой у Гоголя сложились непростые отношения: сперва
он решил ее преподавать — первую лекцию в санктпе-
тербургском университете прочитал даже с блеском, потом
198
Пространство трагедии
почему-то скис, пошла невнятица, пропуски занятий,
пришлось покинуть кафедру. Так закончились его
отношения с историей.
Или только начались по-настоящему? Не знаю, где
сильнее выражен грозный масштаб истории — в «Тарасе
Бульбе» или в «Шинели»?..
Фильмы, над которыми трудишься,— не бублики,
выпек и навязал на веревочку: одна связка баранок, другая.
Да и какой веревочкой их связать?
Говорили о пользе, об утилитарности, но прошло не так
уж много времени, и в вещах тех лет открылась не
возможность их применения в быту, а как раз то «неясное и
подозрительное», что художники клеймили в своих
манифестах: начало новых движений в искусстве и связь их
с прошлым.
Борьба с литературой в кино и постановки Гоголя,
Сервантеса, Шекспира, развеселый балаган и растущее
чувство трагического, эксцентриада агиток и все
углубляющаяся связь с русской культурой. Каждый из
кинематографического поколения двадцатых годов прошел через
все это.
19
За спиной Лира осталось имение Глостера. Он идет по
дороге, потом по полю. Его выгнали? Нет, на дверь ему
никто не указал. Старшие дочери отказались содержать
его свиту, они грубо говорили с отцом. Трусливые и
равнодушные люди, присутствовавшие при этом,
промолчали. Никто не замолвил за него слова. Он остался в
одиночестве. Что ему оставалось делать? И он ушел — сам
ушел.
Уход...
А может быть исход? Исход из одиночества?
Еще одна тема, новый поворот в отношениях мер —
единиц и больших чисел.
Термин «типичность» к этим событиям, казалось бы,
неприменим. Какая уж тут типичность? Делить под
горячую руку государство, проклинать любимую дочь,
отрекаться в запальчивости от власти... Бывают ли такие
случаи в реальности, имели ли место в истории государств?
Пространство трагедии
199
Нет, никогда не бывали, иметь места не могли. Значит,
«Лир» — сказка, легенда?..
Ну, а бывает ли — в годы смут, смен правлений,
войн,— что те, кто находился у власти, попадают за
колючую проволоку, находят своих близких в петле и сами
оказываются на волосок от насильственной смерти?
Можем свидетельствовать: такое на нашем веку
случалось ле раз с многими тысячами, целыми народами, люди
всего мира этого досыта нагляделись. Значит, «Лир» —
реальность?
И то и другое. Когда королю казалось, что он
единственный из всех, избранный, он существовал не в
реальности (которой не знал), а в вымышленном мире (своих
представлений о реальности). Выйдя за ограду поместья,
где теперь хозяйничают Гонерилья и Регана, он вышел за
пределы кажущегося (того, что ему казалось); теперь он
идет по земле. Лязгнули засовы — распоряжение новых
хозяев. Уйти из мира, где прожито восемьдесят лет, можно;
вернуться в него уже нельзя. Лир вытолкнут не в другую
жизнь, а за пределы жизни. Нет даже куста, чтобы
укрыться. Дикие звери и те заползли в берлоги. Никого и ничего.
Черная дыра ночи. И это была реальность. Реальность
пустоты.
Но за пределами жизни оказалась тень жизни, призрак
существования. Каким чудом буря не разметала эти
жалкие жерди?.. Тень жилища; здесь прячется тень человека.
Эдгара, наследника титула и владений лорда Глостера,
больше нет, он не существует: его свели со света, осталась
его тень — бедный Том, юродивый нищий, никто;
загнанный, как зверь, он забился в мокрую солому.
Человеческий облик утрачен. Но не только у него одного, у многих:
здесь и другие. Такие же, как он, без лиц, тени людей. Те,
кто вышвырнут из жизни, кто перестал быть человеком.
И это реальность.
К ней пришел Лир. Кент привел его сюда, чтобы он
укрылся.
Что же это за место? Ремарка перед сценой — шалаш;
к шекспировскому театру она вряд ли имела отношение:
спектакли игрались при дневном свете, на открытой
площадке, декораций не было. Однако не декорация, а сама
реальность, жизненные обстоятельства показаны с совер-
200
Пространство трагедии
шенной очевидностью, связаны с другими местами и
действиями. Король провел ночь на гнилой соломе, вместе
с отщепенцами, ворами и свиньями — говоря это,
Корделия плачет.
В театре на эти слова не обращают внимания. Да
и какой в них прок? Не загонять же свиней на сцену? Что
касается жулья, то за него мог сойти бедный Том (правда,
в подлиннике множественное число)... Поможет ли такое
описание нам? Есть ли смысл привозить свиней в ателье
киностудии (и без них хватает грязи)?
Участие их, конечно, не обязательно. Корделия могла
и ошибиться: рассказывала она с чужих слов. Дело не
в свиньях. В конце концов, свиньи могли быть и метафорой:
люди дошли до того, что неотличимы от животных. Суть не
в свиньях, ночевка за краем жизни — вот что главное;
самая низшая ступень естества, искорка животного тепла,
еле тлеющая в ледяном мраке вселенной. Здесь, как мне
кажется, и находится та высшая точка, кульминация бури;
она в грязных телах, копошащихся в гнилой соломе, а не
в сверкании киномолний и потопе с помощью пожарной
техники.
Трагедия заставила Лира прийти сюда. Он долго
добирался; шел сквозь круги, сперва — огромные, потом
диаметр их становился меньше, мир сужался. Вот как он
странствовал: крепости, дворцы, замки, поместья и,
наконец, шалаш для свиней. Это ведь не чередование
декораций, установленных на поворотном кругу сцены, а
конфликт существований, миры, которые нельзя совместить —
ни в истории, ни в человеческой душе. Люди в просторе
огромных теплых жилищ, прочных родовых,
государственных построек, стены воздвигнуты так, чтобы не взять
штурмом, не пробить ядрами,— и пространства вовсе нет:
одни только сбившиеся тела, одна защита — наспех
сколоченные жерди; островок среди неистовства стихий.
Плот «Медузы»?.. 139 Или одна из картин, созданных
Данте? Ведь маршрут странствий у Лира такой же, как
у дантовского героя: сперва он попадает в ад, а уж потом
только в чистилище (встреча с Корделией).
Легко сказать — снимем ад. Может быть, перенести на
экран полотна Иеронимуса Босха или Питера Брейгеля?
Нет, преисподняя у Шекспира устроена по-иному. По
Пространство трагедии
201
сравнению с ней чертовщина фламандцев выглядит
ребяческой. Здесь нет орудий пытки, хитроумных мучений, все
выглядит куда проще, обычнее. И уж если нужен нам сюда
проводник, то пусть один из людей с фонарем в руке (без
них жизнь была бы темнее) еще раз посветит нам:
«Представьте себе комнату шагов в двенадцать...
набилось, может быть, до ста человек... копоть, грязь, теснота
до такой степени, что негде поставить ногу... темно,
грязно... липкая сырость... не было местечка в ладонь, где бы не
сидели скрючившись арестанты... Иные, желая пройти,
запутывались в чужих цепях и сами задевали по головам
сидевших ниже... ругань, теснота, целая свалка... избитые
спины, бритые головы, скрюченные руки, ноги...»
(Ф. М. Достоевский. «Записки из мертвого дома»).
Шалаш куда меньше, чем изба на сибирской каторге,
в нем не только не жарко, а, напротив, холодно, и людей там
набралось, наверное, не больше десятка, не видно и цепей,
и все же образ как раз такой: король Британии попал
в каторжную баню. Картина, которая лишь в бреду
почудится, но этот бред и есть реальность.
«Если все мы вместе будем когда-нибудь в пекле,—
подводит итоги Достоевский,— то оно очень будет похоже
на это место».
Каторжная баня — модель жизни. Это участь тех, кого
жизнь прогнала сквозь строй, согнала насильственно
вместе; загнала в замкнутое пространство, из которого нет
выхода, исковеркала бесправием, скрючила нуждой.
Образ у Достоевского только набирал силу. В «Зимних
заметках о летних впечатлениях» описаны промышленные
города, огромные центры Европы — и та же модель: ужас
скученности, убожества, уродства, толпы, стиснутые
кварталами нищеты; нет видимых цепей, но здесь все скованы,
и еще покрепче — выхода из бесправия нет; дурман
алкоголя, отчаяние, безумие; клетушка-парилка разрослась
в многоэтажные дома, скопища горя и унижения. Детали
иные, чем в картине мытья арестантов, а суть отношений —
человека и людей, людей и жизни, людей и пространства —
та же, она самая, каторжная баня!.. От ужаса вздуваются
цифры, нули растут: в Лондоне одних только проституток
выходит на панель, по подсчету Достоевского, целые
тысячи. Под убожеством тряпья — следы плетей, клейма, яз-
202
Пространство трагедии
вы... Кто тут воры, кто животные? Это что, колтун волос
или пучок соломы?..
«Все это орало и гоготало... падали, ругались и
увлекали за собой задетых... в каком-то возбужденном
состоянии... визги и крики...» Где все это происходит: в
каторжной сибирской парилке или на окраинах больших городов?
«Ругань, теснота... свалка... тела... казались еще
уродливее... рубцы от полученных ударов... спины казались вновь
израненными... резким сумасшедшим голосом выкрикивает
свою арию: ля-ля-ля-ля-ля!..» («Записки из мертвого
дома»).
Резким, сумасшедшим голосом выкрикивает бедный
Том обрывки заклинаний, воет какие-то песни; он сам себя
исцарапал, загнал колючки под кожу; он перенял повадку
животных, чтобы походить на тех, кто не похож на людей;
в стаде не отыщут, не опознают.
Откуда взялась на свете эта каторжная баня? Как
удалось меньшинству загнать в нее большинство?..
Шекспир открывает начала и предсказывает концы. Связи
очевидны: красноречие на дворцовых приемах,
обожествление тирании, святость иерархии чинов и мест,
угодливая немота — если это все налицо, значит, человеческих
лиц уже нет, человеческий облик утрачен, отношения
между людьми выродились, прогнили насквозь. Чем выше
риторика, тем низменнее дела; дикость, грызня за власть,
продажа души за подачку, жестокость, похоть... И вот уже
в черной пустоте ночи стучат топоры, без каторжной бани
уже никак не обойтись, до нее обязательно дойдет черед.
И если Эдмонд доказывает, что один только бог — природа
и что нет преград свободной воле человека, то уж потом
обязательно погонят клейменых и поротых, набьют ими
избу, так что не продохнуть.
Все началось, если угодно, со спроса и предложения.
Спрос был на слова, и слова предлагали. Сперва самые
красивые слова: Гонерилья так любила короля-отца, что
он был ей милее воздуха, ценнее всех сокровищ мира,
дороже света очей... Такие слова охотно произносились
и выслушивались. А потом пошли другие, корявые,
злобные, несуразные, бормотанье и заумь: темная чертовщина
юродивого, вой причитаний, похабные шутки. Одними
словами отучивали от других. Бредом излечивали от снов.
Пространство трагедии
203
В шалаше Лир срывает с плеч платье — это все
поддельное! Платье — мантия, шлейф. Мантия короля была
соткана и из слов. Мантия — покров, золототканые ризы
цивилизации. А под ними — язвы и струпья, затоптанные
души. Лир был одинок среди всех, отделим от всех. Потом
стал таким, как все, неотличим от всех: горе на одно лицо.
Война выгнала людей из жилищ, запылали города, дороги
полны беженцев. Среди погорельцев старик и его младшая
дочь — несчастье всех породнило.
Почему солдаты Корделии (молодые, ловкие люди) не
сразу же нашли ее отца? Место, где его видели, известно;
у него не было сил, чтобы далеко убежать. Он, конечно, мог
прятаться в высоких хлебах (Корделия говорит об этом),
мог и уползти в канаву. Все это, говоря по-театральному,
легко оправдать. Оправдать Шекспира? Мне не по душе
такое выражение (его часто слышишь); не нужно
оправдывать Шекспира житейской логикой, лучше постараться
понять развитие его поэтических идей.
Вот одна из гипотез: Лира трудно не отыскать, а
опознать. Он стал неотличим от всех. Такой же, как все. Разве
мало на свете седых бродяг?..
Вглядимся в шекспировские ходы: великий и
ничтожный, расстояние между исключительным и обыденным не
только не постоянная величина, напротив, колеблющаяся.
Лир то удален от жизни, то вплотную приближен к ней.
И как раз тогда, когда он слит с жизнью, он возвышается
над ней. В мантии он, условно говоря, фигура из бытовой
пьесы (пусть из королевской жизни, есть и такой быт),
в рубище — он герой трагедии. Вознесенный над всеми, он
зауряден; нет в нем ничего особенного. Разве выходки
тиранов редкость в истории государств? Чего только они не
выделывали при всеобщем потворстве. Но стоит ему только
лишиться мантии, стать таким же, как все, и он —
единственный, исключение из правил. Почему? Да потому, что
не было еще деспотов, способных понять преступность
деспотизма, абсурд своего обожествления.
Лир понял все это. И сказал об этом вслух. Сперва
самому себе, затем Глостеру, а слушало его человечество,
потому что говорил он от имени большинства.
Шалаш — точка: сошлись пути первого человека в
государстве и самого последнего (не только нищий, но
204
Пространство трагедии
и безумный). Они уже не отличаются друг от друга. Кто их
сделал такими?
Начинается суд. Король назначает отщепенцев и
полоумных в судьи. Каторжная баня стала королевским
трибуналом. К ответу зовут не только неблагодарных дочерей,
здесь судят целое общество со всей его системой
неравенства, лицемерия, бездушия.
По пьесе суд происходит уже не в шалаше: Глостер
привел Лира на пустую ферму. Но Лир приходит туда не
один, он отказался оставить юродивого нищего (теперь он
именует его «афиняном», «философом»). И бедный Том
тоже идет не один: вместе с ним перемещается целый мир.
Трагедия идет вместе с ним, и не та, на котурнах и в маске,
а другая, вшивая оборванка с нищенской сумой.
Нет в «Лире» перемен мест, череды декораций;
пространство врывается с потоком стихов (проза также
ритмична); всплывают земли, надвигаются жилища,
дороги уходят за горизонт; все приобретает облик, и сразу же
очертания расплываются, все становится зыбким, и ничего
нет, все уносится в молчание, поглощается немотой.
В шалаше пространство воет и плачет.
О криках бедного Тома написаны трактаты. Открыты
источники, изучены материалы. Так причитали на улицах
шекспировского Лондона полоумные из госпиталя св.
Марии Вифлеемской; они стучали в двери домов, причитали,
чтобы разжалобить: Тому холодно!.. Брысь, нечистый!..
Подайте милостыньку бедному Тому...
Быт города, звуки улицы: зазывание лавочников, крики
бродячих торговцев, попрошайки. Нечто вроде нашего:
лудить, паять... Халат, халат, казанское мыло... Подайте
сиротам на пропитание...
Да, что-то подобное. И в то же время совсем иное.
Эдгар — Том сбивает со следа тех, кто за ним гонится.
Однако Эдгар не только прикидывается, страдание уже
затемняет его разум; мысли оборваны, перепутаны, но
сквозь невнятицу нищего Тома проступает жизнь богача
Эдгара — он сам судит ее; страдание просветляет, это —
исповедь. Сколько оттенков смысла. И сверх всего еще
одно значение. Множество голосов слилось в этот один
голос; бедный Том — корифей хора. Стонут убогие лачуги,
плачут неурожайные поля, большие дороги просят подая-
Пространство трагедии
205
ния, идут бездомные и бесправные — где им укрыться, кто
их накормит?.. Не только люди — «голые двуногие
животные», но и страна лежит нагая, беззащитная, безумная.
В конкретности этих картин (все они в тексте Тома)
открываются не только места действия трагедии, но и
причины трагедии.
Пространство трагедии — каторжная баня. Да, это
часть ее пространства.
Отвлеченные положения? Нет, начала планировок,
характер светотени, ритм. Вот главное — то, что я
ощущаю почти с физической отчетливостью: все вдвинуто,
втиснуто в большой человеческий мир, толчею жизни; не
продохнуть от неравенства, тирании, страха;
обыкновенные заблуждения и обыкновенное горе в обыкновенном,
ужасном мире.
Ничего отдельного, обособленного. Все между собой
сцеплено, спутано. Экран открывает связи в реальности
действия, и они уходят за экран в реальность времени.
Странно устроена память. Многое из того, что
случилось сравнительно недавно, утратило очертания, а вот
эпидемию сыпного тифа в раннем детстве помню.
Отчетливо помню тон, оттенки: солдатские шинели, перроны
вокзалов, замусоренные шелухою от семечек, скомканные газеты
и листовки, выброшенные грязные бинты, бязевые
подштанники, жестяные котелки с вмятинами, неочищенной
гарью.
20
Хор должен быть слышен, а потом и виден с самого
начала действия. Вернее, до начала действия. Еще пуста
большая сцена: не вышли главные артисты, и нет тех, кто
их сопровождает. Ничего еще не случилось, но уже
слышится издали скорбный звук: «нагие несчастливцы» идут
по тропинкам, в стороне от больших дорог, замков, в
стороне от событий. Что общего может быть между оборванцами
и теми, кто делит государство?
Люди в мантиях глухие: никто из них не слышит
хриплый звук рога. Но зов относится и к ним.
206
Пространство трагедии
Звук рога, а столетие раньше был свист дудки: тоже
призыв, зов. Я слышу в этой тянущейся ноте отзвук
старинного образа. Устройство «Лира» (в глубине сцеплений
поэтических идей) напоминает и любимую аллегорию
средневековья: костлявые пальцы скелета подносят к челюстям
дудку — пошел танец; безносая старуха с косой тащит
в круг королей, еписконов, красавиц, воинов. Есть хоровод
и в «Лире», только не смерти, а жизни — той, что похуже
смерти.
Это движение в фильме будет, правда, не по кругу, а по
прямой. Тянется по тропинке цепочка — идут отребья
земли, гудит рог, зовет беда: к нам!., к числу, которому нет
числа,— как измерить горе на земле?.. И человек за
человеком присоединяются к идущим, идут в затылок: сперва
Эдгар, затем Глостер; отец с сыном, слепой с поводырем
пошли по миру; а дальше Лир, Корделия, отец с дочерью.
Гудит рог: кто следующий?..
Звено за звеном наращивается цепь и уходит за фильм.
На мысе Казантип мы начинаем снимать хор.
Целый день я занимаюсь каждым костюмом,
правильнее сказать, каждыми лохмотьями. Вирсаладзе заболел
именно тогда, когда он особенно нужен (правда, он мне
всегда нужен), и я чуть не сжил со света его помощницу за
декоративные заплаты и романтические рубища.
Художник, недавно окончивший театральный вуз, она никак не
может понять, чего я от нее хочу. Жизненный вид? Но вот
дырки (наспех прорезанные ножницами в новой ткани),
а это разве не грязь (нарочно запачкано, следы кисти)?..
Я иногда представляю себе удивление читателя, уже
видевшего наш фильм: где же результаты этих стараний?
На экране — припомнит читатель — были нищие; ну,
нищие как нищие, ничего особенного.
Трудность шекспировской постановки состоит и в том,
чтобы не было в кадрах ничего особенного.
Непримечательность относится не только к чувству меры; это особая
выразительность, у нее свой тон, характер. Неточность
здесь сразу же бросается в глаза. Неприятно смотреть,
когда сытые люди изображают в фильме голодных:
гладкая кожа, городские лица, руки, не знавшие физического
труда,— все это отчетливо видно на экране, а следы лише-
Пространство трагедии
207
ний, изображенные гримерами,— оскорбительный
маскарад.
Нищие, значит — лохмы волос, бесформенное тряпье?
Как раз это нам не годится. Облик должен быть
сдержанным, суровым.
У вожака следы оспы на загорелом, обветренном лице,
он так худ, что выражение «кожа да кости» может
относиться к нему буквально. К своему делу Павел
Григорьевич относится серьезно. Он приходит на съемку задолго до
вызова; не торопясь расшнуровывает ботинки, снимает
свой обычный костюм и облачается в рванину. Погода
холодная, и мы убеждаем его не торопиться: до съемки
еще много времени. Павел Григорьевич не обращает
внимания на уговоры, он берет посох и отходит в сторонку. Он
ходит босиком: вживается в роль. На свою компанию он
покрикивает и в жизни.
Одного малого ассистенты разыскали на базаре в
Нарве. Профиля у него не было. То есть нос частично был, но
свернутый на сторону и как-то мало заметный. От
официального представления он уклонился, просил обращаться
к нему запросто: «Ваня-полбанки». Боюсь, что он не был
членом профсоюза.
Снимать его было сущее удовольствие: совершенная
естественность, непринужденность. Пожалуй, некоторая
примечательность в его внешности все же была. К
сожалению, местная милиция возражала против того, чтобы он
довел свою роль до конца; у милиции были на него какие-то
свои, отличные от наших планы.
Я люблю эти маленькие труппы внутри фильма.
Обособленные миры, со своими привычками, манерой
обращения. Иногда они сходятся вместе. За столом герцогини
Олбэнской сидели по одну сторону люди с долгой
сценической жизнью — седоволосые первые любовники,
неврастеники и фаты давних провинциальных антреприз, а по
другую — тяжелоатлеты, борцы, был и чемпион самбо
(игравший призрака в «Гамлете» — только ему было под силу
носить музейные доспехи) — свиту Гонерильи отличала
такая внешность.
В числе рыцарей свиты были артисты с некогда
гремевшими именами (мы пригласили их из Дома ветеранов
сцены); двое из них играли в свое время Лира.
208
Пространство трагедии
Во времена ФЭКСа мы превращали фильм в
паноптикум: гуляли у нас и великаны и карлики; были и такие
физиономии, что только в бреду померещатся. Пожалуй,
наши типажи выдержали бы конкуренцию с монстрами
из «Сатирикона» Феллини.
Что же нужно для «Лира»? Как определить характер,
качество? Может быть так — монтаж
антиаттракционов?.. ио
Когда съемки заканчиваются, группа передает в
информационный отдел киностудии альбомы с
фотографиями: пробы на роли и эпизоды, типажи. Когда ты начинаешь
новый фильм, альбомы возвращаются к тебе. Кто-нибудь
из тех, с кем ты трудился, может опять понадобиться. Те же
альбомы: «Дон Кихот», «Гамлет», «Король Лир». Только
многих снимков не хватает. Родные покойных часто просят
отдать им эти фотографии.
Стоит найти какие-нибудь черты образности, как
дальнейший ход событий (и мыслей) заставляет отказаться от
того, в чем только что пробовал утвердиться; нужно
двигаться дальше, пробовать иную выразительность.
В «Лире» не одна только буря; погода у автора скорее
переменная. Как писалось в одной из японских танок
(любимых стихов Эйзенштейна): «Прошел ураган. Сборщик
налогов тихо пришел». Буря сорвала мантии и
угомонилась. Сгинул, оборвался фантастический галоп
призрачного мира. При свете дня стала отчетливо видна реальность.
Совершенная простота реальности: скудная земля, пустое
небо, бедность. Это реальность любой эпохи. И это нагота
притчи. Кадры элементарные, как фразы притчи: стал
король бедняком, жил с бедняками, и нельзя было отличить
его от бедняков.
Бродяг немного, табор сравнительно невелик, но сцена,
где происходит действие, огромна, и масштаб ее
раскрывается в движении. За холмами, по которым пойдут нищие
люди,— нищие поля, холмы, лишенные растительности,
большие плоские камни; далеко видно, но не на что
смотреть. Это пустая сцена — только не театра, а жизни, мира.
По пьесе встреча Глостера, Эдгара и Лира происходит
в «местности вблизи Дувра». У нас -г- ход к Дувру, движе-
Пространство трагедии
209
ние к гибели, расширение поля действий: мы
входим в историю, в железный век. Монолог становится и
массовой сценой: действие захватывает деревни, города,
страну.
Начинается с обыденности: привал уставших, голодных
бродяг. Сил уже мало, путь еще далек. Лир говорит с
Глостером, пока на первом плане — двое участников
(Эдгар — Том в стороне), но слышен рог, побирушки
подымаются с земли: пора. И монолог продолжается уже на ходу,
среди идущих людей. Мы снимаем Лира с тележки, наше
движение незаметно ускоряется, и камера перегоняет груп^
пу — теперь Лир оказывается впереди идущих, съемочная
точка делается более низкой: Лир уже выше других.
Мы приходим к «острию» — точке образа: люди в
рубищах, далекие жестокие земли, стук посохов, суровые,
измученные лица, слова обличения. Хочется, чтобы
древний ветер прошел по кадрам. Библейские пророки, а затем
бродячие проповедники средневековья, бешеные еретики,
позванивающие шутовскими бубенчиками.
«Где глаз людей обрывается куцый, главой голодных
орд...» — строчка Маяковского не выходит из памяти во
время этих съемок т. Идет, разумеется, не революция; это
горе и гнев идут по земле.
Монолог разворачивается чередой кадров — холмы,
степи, валуны, устья высохших рек. Мы снимали сцену
в нескольких местах экспедиций (от Азовского моря до
Эстонии).
Ничего не нужно выдумывать, нужно только забыть про
то, какой мы видим эту картину в театре, привыкли видеть:
условность встречи трех героев, монолог, произнесенный
на одном месте. Если же вчитаться в текст всего акта, то
открываются и другие места действия, иное число
участников. Короткие реплики напоминают телеграммы с театра
военных действий: неприятель высадился, скачут гонцы,
бьют барабаны, идут бои.
Уже не только рог бродяг, но и другой призыв: набат,
колокол, тревога, беда. Народ вовлечен в события. Уже
настоящий, тысячеголосый хор подхватывает слова Лира:
плача приходит человек в мир и плача его покидает.
Лицо Лира среди множества лиц, среди народного
горя, беды, обрушившейся на страну.
210
Пространство трагедии
Ирония, пародия на проповедь оборачивается
трагической проповедью.
Кадр Лира во главе толпы идущих людей пройдет через
весь фильм. Как бы лейтмотив действия. Постоянное
движение, но переменные величины.
Лир — придворные, свита, рыцари.
Лир — нищие.
Лир — беженцы, погорельцы.
Лир — арестанты, пленные.
И общий ход: Лир — люди; вглядимся в ряды, тут и мы
с вами. Движение, ход. Ошибаясь, отрицая то, во что
раньше верил, вновь утверждая, опять отрицая, но все
время вперед. Ход, марш.
Время помогло мне подготовиться к шекспировским
постановкам, не раз отправляло меня в «творческие
командировки».
Нелепо считать, будто работа Вирсаладзе
ограничивается костюмами. Сшили по эскизу платье, порвали где
нужно, измазали для жизненности; можно надеть, играть.
Чушь какая, именно здесь, в облике,— оттенки значений,
схваченных в линии, материале, то, немногое, начинается.
Ирония и трагичность, низкая реальность и сила
обобщения — какие только интонации не улавливает в своем
искусстве Солико Багратович.
Рубище Лира — покрой напоминает королевскую
мантию, но ткань самая грубая, шлейф тащится по земле,
скошенная линия подчеркивает движение; подол оборван
так, что видны голые, босые ноги. Черты гротеска и
одновременно трагичности. И нет ничего нарочитого,
привлекающего внимание. Вероятно, многолетняя работа в
балете научила Вирсаладзе видеть не костюм, а движение,
жест, тело, перемещающееся в пространстве.
Когда труд людей сливается и без долгих объяснений
они на лету схватывают мысли друг друга, продолжают их
уже каждый в своей области — работа спорится. Я не могу
налюбоваться на походку Ярвета. Он выступает какой-то
нелепо церемонной, величавой поступью, чуть повернув
голову к Глостеру. В этой пародии на короля он истинно
велик. У Юрия Евгеньевича сухое мускулистое тело,
большие мужицкие руки. Он такой, как все, и первый из всех.
Пространство трагедии
211
Из письма к С. Б. Вирсаладзе
Июнь 1969 года
Дорогой Солико Багратович!
Я очень огорчен, что нам не удалось встретиться. Мне
хотелось посмотреть вместе с Вами то, что мы сняли в Ка-
зантипе, и вместе подумать над дальнейшим. Дело как
будто немного сдвинулось с места. Чуть сдвинулось...
Теперь просьба: нарисуйте, пожалуйста, попоны.
Конечно, лошадиные туалеты не по Вашей части, но что тут
поделаешь? В материалах (войн, турниров) ничего
подходящего: полосы, шашки, гербы — все нарядно,
декоративно, а нам нужен мрачный облик войны. Лошади как
в броне, одни только глаза косят в прорезях. Тон темный;
черный, к сожалению, нельзя — получатся похороны.
Корделию и на войне не хочется видеть в мужском
платье: образ женский, вернее — девичий. Вид у нее,
разумеется, должен быть жизненный; она ездит верхом,
укрывается от холода. Видимо, плащ с капюшоном
(шерстяная материя), сапоги. Ничего в ней нет королевского:
идет война, порядок давно нарушен. Ее сопровождают
несколько вооруженных людей (охрана). Среди солдат она
не кажется чужой.
И в герцоге Олбэнском — ничего герцогского,
военного; штатский человек; меч привязан к поясу, и все.
Зато Эдмонд — человек войны. Теперь он красив,
мужествен; он пошел в гору. Может быть, к его меховому
костюму (из морского кота) добавить железо — на шее,
плечах, локтях части доспехов. Война в самом ее грубом
виде.
Эдгар в сцене поединка тоже не похож на рыцаря; он
снял с убитого воина рубаху, подобрал на поле меч и шлем.
Удачной поездки в Англию и большого успеха
«Спартаку»...
Мы все устали, экспедиция была нелегкой...
Из письма к Д. Д. Шостаковичу
...Хочу попросить Вас сочинить несколько самых
бесхитростных мелодий: обрывки песен, которые напевает
Эдгар, прикидывающийся юродивым. Характер —
английский, народный, без аккомпанемента. Это даже не музы-
212
Пространство трагедии
кальные номера, а скорее элементы речи бедного Тома, он
то напевает, то бормочет, то причитает. Я не стал бы Вас
беспокоить, но в английских изданиях пьесы нет нотных
записей, а петь эти фразы необходимо...
Из письма Д. Д. Шостаковича
Дорогой Григорий Михайлович!
Посылаю Вам песни бедного Тома. Около каждой из
них я поставил примерный темп по метроному. Можно,
конечно, петь и несколько быстрей и несколько медленнее.
Однако нужна некоторая скорбь в исполнении...
Из письма к Д. Д. Шостаковичу
Июль 1969 года
...Вчера Лео Мерзин (Эдгар) напел мне присланные
Вами песни. Они мне очень понравились. Как раз такие,
как и хотелось бы услышать: деревенские, воющие.
Хорошо было бы избежать, где только можно, всего громко-
торжественного, патетического. Найти интонации скорее
скорбные, горестно-человеческие.
Я подумал, не начать ли нам фильм с одной из этих
песен — с чуть слышного печального голоса?.. Мне теперь
понятно чувство Пастернака, когда он писал, что «Лира»
понимают «слишком шумно» 142.
Работа оказалась уж больно трудная. «Гамлет» — и по
существу и по средствам выражения — был яснее.
В Нарве мы пробудем еще два с половиной месяца...
21
Город Нарва (граница Эстонской ССР) разделен
рекой, на левом ее берегу руины замка Ливонского ордена, на
правом — русская крепость XV века. Здесь наша новая
съемочная площадка. В молодости, недолго раздумывая,
мы поместили в титры «Похождений Октябрины» и
фамилию архитектора: А. Монферран. Комсомолка Октябрина,
образцовый пролетарский управхоз, и Огюст Рикар де
Монферран — прекрасное сочетание имен, а некоторое
право включить в ФЭКС и представителя позднего
классицизма у нас было: на верхушке Исаакиевского собора мы
Пространство трагедии
213
открыли киностудию; нэпман в канотье и модном
клетчатом костюме взбирался по веревке на монферрановский
купол; акула капитализма в цилиндре и орденской ленте
через плечо притягивала сюда ультрамагнитом сейф из
госбанка, и стальной шкаф взлетал по воздуху (обратной
съемкой), минуя колонны, барельефы, скульптуры, прямо
на верхнюю площадку, откуда открывалась панорама
города.
Меня часто спрашивают: что же такое был ФЭКС
(«этот загадочный ФЭКС», как недавно прочитал я в
английском киножурнале)? Если начинать с первых
кинематографических шагов, то определяло, пожалуй, то, что они
были сделаны здесь, по куполу Исаакия,— маски агиткар-
навала, разгуливавшие по классической архитектуре на
высоте птичьего полета; это было пространство
эксцентрической комедии, пространство — гэг.
В упоминании Монферрана заключалось, пожалуй, не
одно только озорство, но и» некоторые эстетические идеи.
Продолжая традицию, следовало бы теперь включить в
наш съемочный коллектив и царя Ивана III — по его
приказу псковские мастера воздвигли на реке Нарве
крепость. Русские и шведы столетиями воевали за нее;
укрепления обращались в руины, вновь отстраивались; опять от
них оставалась только груда развалин. Напоследок
крепость разбомбили фашистские самолеты. Место было
хорошо обжито. Каждый камень имел свою биографию.
Казантипские валуны естественно переходили в Иван-
город, природа — в историю; трещины на древних стенах
напоминали морщины на лице Лира.
Мы чувствовали себя здесь как дома. Каждый угол был
приспособлен для съемки, внутренние дворы превратили
с помощью достроек в замок Гонерильи и поместье
Глостера; стойла конюшни заняли коротконогие приземистые
торийские лошади, привезенные для участия в фильме;
элегантные спортивные скакуны были мною отвергнуты.
А на заднем дворе жили в своих клетках орлы и соколы.
Эстонские конники тренировали королевскую четверку.
Пиротехники устроили склады в подвалах. Тут же стоял
автобус звукозаписи.
Когда наступили холода, мы все поочередно
забирались хоть на несколько минут в вагончик, чтобы согреться
214
Пространство трагедии
(дышать там было нечем, звукооператоры, как назло,
курили), остальные помещения (включая подсобные)
были уже сожжены.
Место оказалось отличным: простота линий и форм,
отсутствие архитектурного стиля — все это подходило к
облику людей, лицам. Датировать постройку можно было
только по одной примете: время, когда разрушали.
Время разрушения и убийств — значит, подходит для
этой трагедии.
Больше всего хлопот доставил нам общий план.
Крепость издали выглядела внушительной, но не походила на
замок Лира. Думаю, что этого замка нигде нельзя было бы
отыскать: само произведение не давало возможности
определить его облик. Любая натура оказалась бы
«непохожей».
Реальность (и то не общего плана, а отдельных жилых
частей, фрагментов помещений) открывалась у нас позже,
в действии, а пока хотелось показать не замок, а смутные
представления о нем: таким он виделся тем, кто пришел
издалека в надежде узнать решение своей судьбы. Нам
нужно было не столько снять натуру (крепость), сколько
преобразить ее (и решительно) способом съемки.
Мы выбрали погоду, когда кинематографистам дают
выходные дни: солнце выглядывало лишь на мгновения,
свет все время менялся — условия, непригодные для
съемки. И все же Грицюс подстерег считанные секунды; толпу
людей, взобравшихся на холм, покрывала тень, а вдали —
куда устремлены взгляды — колеблющиеся пятна света
проходили по стенам крепости.
Съемки батальных сцен — так принято их называть,
и действительно, в этих эпизодах идет война, говорится
о боях. Но как раз этого, баталий, и не хочется видеть на
экране. Внутреннее действие — судьбы, чувства, мысли —
легко заслонить внешним зрелищем. Говорят, что война —
это продолжение политики другими средствами. Политика
в «Лире» — ложь, лицемерие, безумие. Значит, это и
нужно продолжать, возвести в высокую степень. В пьесе
военные действия происходят за сценой, говорится о них
в скупых репликах — как покажешь в театре сражения?
В кино их показать нетрудно, еще легче заслонить массов-
Пространство трагедии
215
ками судьбы героев, подменить философскую поэзию
батальным жанром.
В «Лире» важны не панорамы событий —
передвижения войск, наступление, штурм, а лица, глаза; если
заглянуть в них поглубже, то можно увидеть в них (только
в глазах!) и поля битв, и оборону крепостей, и горы трупов.
Шекспир не выигрывает на экране от натурализма —
к этой мысли я часто возвращаюсь; «настоящая» война
мало что прибавит к его поэзии. Мало того, условность
театра в этих случаях может стать куда более
убедительной. В военных сценах «Кориолана» «Берлинский
ансамбль» использовал традиции китайских и японских
постановок, смену динамики и совершенной статики.
Чередование групп неподвижных воинов, как бы кульминаций
ненависти и ярости, оказалось на сцене и сильнее и
трагичнее кинематографических толп статистов, табунов
коней и луж крови (как в жизни!). Базарные трюки
отрубания рук и голов приближают Шекспира не к
современности, а к кассе: часть зрителей платит деньги за то, чтобы их
пугали; они в восторг приходят от того, какого они на
сеансе страха набрались.
Кровь в цветных фильмах не похожа на настоящую,
она напоминает кетчуп. К кетчупу теперь прибавили кетч:
рыцари в полных доспехах сшибают друг друга
подножками, бодают шлемами, лягаются ногами в латах; потасовки,
конечно, лихие. Но когда закованный в броню детина
загибает другому громиле салазки, а тот делает ему
«вселенскую смазь» железными рукавицами, видно, что
доспехи бутафорские: в подлинных латах трудно пройти и
несколько шагов, значит, на экране валяют дурака;
кетчупом вымазывают жесть.
Есть у мальчишек нехитрая забава: привязать к
собачьему хвосту пустую консервную банку — и пошла
потеха! Обезумевшая собачонка мчится, что-то гремит,
пугает ее до смерти — пустая жестянка грохочет по
булыжникам.
Речь идет не о жестокости. Когда Тосиро Мифунэ,
японского Макбета, пронзают со всех сторон стрелами и,
истыканный ими, он превращается на глазах из человека
в чудовищного дикобраза и, наконец, последняя стрела
вонзается в шею и протыкает сонную артерию,— картина
216
Пространство трагедии
смерти потрясает, но вовсе не натуралистической
имитацией; возмездие возведено в ритуал, поставлено Куросавой
с таким совершенством ритма и пластики, что дух
захватывает («Окровавленный трон»). Кетч с кетчупом
выглядит забавой, если вспомнить, как шевелятся волосы
трупа — женщины, застреленной на мосту; как подымаются
они вместе с разводной частью и как убитая здесь же
лошадь, запряженная в пролетку, вздымается к небу и
рвется упряжка — мертвая лошадь летит с огромной
высоты в бездну реки («Октябрь»).
Война в «Лире» больше, шире самых внушительных
панорам: гибнет не только государство, но и все духовные
ценности, созданные человечеством; подлинная
кульминация бури — здесь, в этих сценах гибели, горячки,
охватившей век; что не лечит нож, врачует огонь.
И, одновременно, эта война — жар реальной болезни:
Лир при смерти. Солдаты Корделии несут его на носилках,
он бредит — носилки движутся вместе с армией, идут бои.
На экране должно быть отчетливо видно только лицо
больного (крупный план); камера движется — через
пламя, сквозь войну, и то, что возникает и исчезает вдали,—
вооруженные люди, охваченные жаждой убивать,
разрушать,— порождение бреда, призраки ненависти и дикости.
Выстраивается цепь: болезнь — бред — война.
Еще одно значение: короля несут в настоящем, но
в бреду он проходит сквозь свое прошлое; мечом и огнем он
опять создает государство («было время, своим прекрас-.
ным острым палашом заставил бы я всех их тут
попрыгать»); то, что сейчас гибнет, его прошлое, должно сгореть
в огне — и:на колени перед Корделией станет другой
человек; огонь очищает.
Наглая фортуна Эдмонда празднует военную победу
среди горя и слез. Герой века идет к власти, воюет за
власть, убивает за власть* Бесправный побочный сын стал
полководцем, еще миг — он завоюет королевство.
В театре я никогда не видел его расцвета. На экране
нужно задержаться, чтобы неторопливо показать его
военный триумф. Здесь, пожалуй, не помешают и знамена,
и приветственные крики. Он взошел на высшую ступень
и первым делом кличет палача; нужна веревка, кусок
мыла — Корделия ему страшна.
Пространство трагедии
217
Жаль, не хватило времени, я хотел снять, как в момент
успеха он подкидывает монету: орел или решка? Гонерилья
или Регана? Какую из двух баб выбрать?..
Какое там гарцевание рыцарей и знамена с гербами,
развевающиеся по ветру!.. Две немолодые женщины,
ошалев от похоти, оскотев от ревности, лезут в пекло, в зону
заразы (зараза пошла от них самих), ищут любовника;
сестра следит за сестрой, не отбила ли та ее любовника, не
валяется ли она с ним здесь, среди трупов и падали.
Так написана война у Шекспира. Нужно не только
вслушиваться в реплики, но и вглядываться в судьбы: они
как раз такие; все идет к безумию, тьме.
К одной только тьме?..
22
МУЗА, АНГЕЛ, БЕС
Приходится опять вернуться к истории современного
театра, его сложного развития в наш век. Главное
движение неотделимо от имен Станиславского, Крэга,
Мейерхольда, Брехта — это вехи целых десятилетий. Есть,
конечно, в русле этого движения и другие, тоже
значительные режиссеры. Но вне общего развития каким-то
странным контрапунктом возникают имена совсем иных
художников. Сперва они связаны с чем-то диким,
безобразным: короткая память, скорее о скандалах, чем о
спектаклях; имена исчезают, забываются надолго (современники
считают, что навсегда), но проходит не так уж много
времени, их опять вспоминают. Позабытые спектакли, которые
видело ничтожное количество зрителей, наспех
поставленные, неумелые, недоделанные, вдруг оказываются в центре
внимания; имя, которое давно затихло, разом становится
громким; имя превращают в знамя — им называют целые
направления.
Авангард теперь в чести: перечитывают «манифесты»,
изучают торопливо записанные выкрики в пылу спора;
философы и психоаналитики находят ключи — даже
самую оглашенную заумь расшифровывают: все
выстраивается, становится чудо как стройным; нет художников —
218
Пространство трагедией
одни только мыслители. А пока уходит из памяти реальная
жизнь — этих людей, их времени — обсуждаются одни
лишь эстетические системы.
Летосчисление нового театрального века начинают
теперь с 10 декабря 1896 года; занавес театра «Эвр»
открылся (или раздвинулся), король Убю, герой пьесы
Альфреда Жарри, подошел к рампе и сказал: «Дерьмо!»
(в подлиннике более энергично). Гротескный фарс —
буйное смещение всех планов, фантастический дебош — занял
сцену. Родился «Театр протеста и парадокса» (название
одной из американских монографий ).
Судить о таких спектаклях непросто; они принадлежат
своему времени, и, чтобы их понять, взгляд нужно было бы
бросить не только из партера на сцену, но и со сцены в зал
и за пределы театра. Легенды потом наслаиваются на
реальность; от того, что было на деле, и следа не остается.
Остаются судьбы, биографии — они заставляют о многом
задуматься. Почему, например, короля Убю играл, и с
таким успехом, Фирмен Жемье — ученик Антуана, всю
жизнь боровшийся за народный театр?..
Теперь все перепуталось: борьба идей, причудливые
фигуры богемы, чувства, не ставшие мыслями, мысли,
отвлеченные от дел, экзотические детали «Парижа Гийома
Аполлинера», цитаты из Ницше и Гуссерля, воспоминания
о модах на оккультные науки... И вот уже плодятся
академические исследования, где (утверждая или отрицая)
принимают фарс за философский трактат, мистификацию
за мистику.
Материал, конечно, выразительный. Что еще
придумаешь позанятнее?..
Позанятнее трудно придумать, но почему-то приходят
на память печальные гоголевские слова: «А что Касьян?
Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсыток?» — и
слышал только в ответ... что Бородавка повешен в Толопане,
что с Колопера содрали кожу под Кизикирманом, что
Пидсыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый
Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво
говорил: «Добрые были казаки!»
В молодости Антонен Арто — поэт, режиссер, теоретик
театра — был удивительно красив. В начале двадцатых
годов Отан-Лара пригласил его сыграть «нежного ангела»,
Пространство трагедии
219
и даже смерть его на экране была ангельской (движение
сняли рапидом) 14\ потом — веселый «Антракт» Рене
Клера; потом монах, обращенный Жанной д'Арк в истинную
веру в фильме Карла Дрейера; Марат в «Наполеоне»
Абеля Ганса. «Он был прекрасен,— писал современник,—
его глубоко посаженные глаза сияли, как свет из
пещеры...» f45
Когда в мае 1946 года он покинул больницу, его можно
было принять за глубокого старика, человеческую руину:
неестественная худоба, бледное изможденное лицо с
запавшими щеками. Его поэмы, статьи, манифесты теперь
стали уже неотличимыми от его жизни; слова, которые он
презирал, в которые не верил, как и те, кто были его
учителями, «проклятые поэты» Бодлер, Рембо, Лотреамон,—
показали ему свою силу, стали реальностью. Он проклинал
разум — и девять лет провел в сумасшедших домах, из
больницы в больницу; названия в биографии бьют, как
удары колокола: Сотевилль-де-Руэн, Святой Анны, Вилль-
Эвард, Родез.
Исходные положения его театральных теорий не были
новыми; современный театр мертв, пьеса — жалкая
служанка, занявшая на сцене не подобающее ей место; вся
власть должна быть отдана режиссеру — магу, он творит
чудеса вне слов — движениями, масками, цветом,
звуками,— это можно прочесть у Крэга, Мейерхольда. Но вот
начинаются собственно его идеи: театр призван смести
гниль европейской культуры, жалкого рационализма; его
воздействие, как эпидемия чумы,— выход на волю
древних, темных сил; в дни чумы нет запретов, в обезумевших
от ужаса городах, среди костров, где жгут трупы,
начинается исступленный карнавал — те, кто еще в живых,
наряжаются в дикие костюмы, напяливают маски; свобода
всему, что подавила цивилизация,— эти, может быть,
победят заразу, останутся жить.
Театр должен потрясать, воздействовать шоком.
От лечения электрошоком у него выпали зубы, поредели
волосы; «это и есть смерть, духовная и физическая»,—
писал он из больницы . Он прославлял галлюцинации,
видения, вызванные наркотиками. А в жизни самые
сильные дозы наркотиков не унимали боли; врачи уже не
удерживали его: страдания были непереносимыми. Театр
220
Пространство трагедии
жестокости (жестокость как качество энергии), который
он хотел создать, должен был прикоснуться к сокровенным
тайнам бытия; он изучал мистиков, кабалу, алхимию; жил
среди мексиканского племени, еще сохранившего древние
культы. Открытие тайн, озарение, откровения...
Началось кровотечение из прямой кишки. Поставили диагноз:
рак, неоперабелен.
«Театр и его двойник» (1938) —сборник статей Ар-
то 147 — «самая значительная и самая важная книга о
театре, сочиненная в двадцатом веке,— написал Жан-Луй
Барро,— ее нужно перечитывать еще и еще раз» 148.
Трудная тема. Конфликт каких-то изначальных стихий.
Древнее противоречие, которое все еще не снято.
У художника, говорил в своей последней лекции
Федерико Гарсиа Лорка, есть муза и ангел, муза пробуждает
разум, ангел ведет и озаряет, с их помощью художник
может рассказать о любви или танцевать; но стихи,
продиктованные музой и озаренные ангелом, «позолоченный
хлеб», у него «фальшивый привкус лавра». Ангел и муза
находятся где-то наверху; они парят над художником. Но
есть сила внутри самого художника, обращаться к ней нет
нужды: бес дремлет в тайниках его крови, достаточно
только его пробудить.
Что же происходит, когда он просыпается?..
Лорка рассказывает о знаменитой андалузской певице
Пасторе Павон (по прозвищу «Девушка с гребнями»):
однажды ей взбрело в голову выступить в простой таверне
Кадиса; в этот вечер она пела особенно хорошо, голос ее
был чудом, «текущим, как расплавленное олово, мягким,
будто утопающим во мху, она гасила его в прядях волос...
уводила в далекие заросли».
Чудо не произвело в таверне никакого впечатления.
Знаменитая певица провалилась; она закончила свое
выступление в полной тишине, никто ей не похлопал, даже
из вежливости. Из задних рядов послышались иронические
замечания, все рассмеялись.
Музу и ангела тут и в грош не ставили; «ни
способности, ни техника, ни мастерство этих людей не интересовали,
им было ненужно другое».
В чем же состояло это «другое»?
Пространство трагедии
221
«Тогда девушка с гребнями вскочила в бешенстве,
волосы ее спутались, как у средневековой плакальщицы,
она залпом выпила стакан огненной касальи и снова
запела, без голоса, без дыхания, без оттенков, обожженным
горлом. Ей удалось смести все украшения песни, чтобы
проложить дорогу яростному, огнедышащему бесу,
побратиму песчаных бурь, который заставил зрителей рвать на
себе одежды, почти так же, как рвут их столпившиеся
перед образом св. Варвары антиленские негры-сектанты».
Обожженное горло опалило души.
Голос нужно было сорвать, чтобы вырваться за
пределы пения, за пределы времени, и тогда древнее исступление
охватило таверну: «голос ее стал потоком крови... в своей
искренней муке он тянулся, как тянется к пригвожденным,
но полным бури ступням Иисуса рука с десятью пальцами
в скульптуре Хуана де Хуни» 149.
Экстаз барокко кажется теперь несколько
театральным; может быть, и сравнение голоса певицы с потоком
крови преувеличено? Нет, жестокость, страдание,
смерть—в древних корнях испанского искусства; так,
разумеется, можно ответить, защитить метафору поэта.
Но есть иные ответы. Когда фалангисты приказали
расстрелять Лорку, испанская образность была ни при
чем.
Голос и поток крови; искусство как мука — у больших
поэтов не литературные сравнения, а предвидение судьбы.
Версификаторы бросают слова на ветер — у настоящих
поэтов они всегда оплачены по самой высокой цене.
Убийцы стреляют, конечно, не в поэзию, а в поэта, но поэзия,
оплаченная пулей, возвращается в жизнь как реальность.
Случается, что литературная критика тогда принимает
особые формы: костра. Книги, которые обжигают души,
сжигают на кострах. Барокко тут ни при чем.
Литературные течения разграничивают не слова
манифестов. Иногда то, что их разделяет, перегораживает
улицу. Тогда видно, что борьба идет не между
авангардистами и академиками. Маринетти писал о «Театре
ошеломлений и рекордов» — через несколько лет он был
с теми, кто убил Лорку ,50; Эйзенштейн создал теорию
«монтажа аттракционов» — «Потемкин» помогал
уничтожить убийц Лорки.
222
Пространство трагедии
После первой мировой войны искусство Европы стало
еще более тревожным. Ничто не пришло в норму, и понятие
«нормы» казалось оскорбительным. По привычке болтали
о прогрессе, дарах цивилизации, а еще в прошлом веке
Достоевский с гневом писал о «хрустальных дворцах»:
если за право жить в них будут платить всеобщим
бездушием, тем, что других, большинство, загонят в «каторжные
бани»,— так уж лучше этим дворцам хоть язык показать,
рожу скорчить 151. Трагедия у него часто оборачивалась
гротескным скандалом: рожи корчили, язык показывали —
такое было неприличие, что порядочные люди сгорали от
стыда. Как раз их приличия, буржуазные приличия (маски
порядочности) и ненавидел Достоевский до белого
каления.
Художники, у которых, к их несчастью, кожа была не
слоновьей, ненавидели «здоровый театр»: тот, где играли
спектакли с розовыми щечками, потешали комнатными
страстями,— как в жизни, только в облагороженном виде.
Вот это-то облагораживание и ненавидели. Чувствовали,
что было в воздухе. Рассеченный мир, лишенный
человеческого облика, появился на полотнах кубистов.
Наше искусство начинало говорить о революции без
условных красот и сладких звуков. О грозном — грозными
словами. В первой же картине Эйзенштейн показал как
метафору разгона рабочей демонстрации бойню
(«Стачка»); поставили камеру в бойне: черный поток хлынул на
экран. В мясе, которым кормили матросов («Броненосец
«Потемкин»), копошились снятые крупным планом черви.
Взмах казачьей шашки — разбитое пенсне,
рассеченный глаз. Ребенок в коляске катился через кровь,
смерть, ад.
Так выглядела народная трагедия на экране.
В «Неравнодушной природе» Эйзенштейн исследовал
структуру пафоса: выход за пределы, крайность степени
воздействия. Сергей Михайлович отлично понимал и
законы патетической композиции, и цену, которой она
оплачена. Разбирая часть полотна Эль Греко (только часть!),
грозовой пейзаж Толедо, он писал: краски «трепещут... не
меньшей жизненностью священного волнения, чем если бы
живым на этлх крестах висел он сам, окровавленный
живописец» ,52.
Пространство трагедии
223
Ни музу, ни ангела Сергей Михайлович в помощь
своему искусству не призывал. Думаю, что бесу в тайниках
его крови никогда не удавалось хорошо выспаться.
Только и делали в нашем искусстве, что будили этого
беса. Не ангел же посоветовал Мейерхольду дать
пулеметную очередь по зрительному залу («Последний,
решительный»), и не муза устроила какофонию безумия в
финале «Ревизора»: прыжки городничего в смирительной
рубашке, раздирающие уши колокола и свистки (за сколько
лет до повсеместного увлечения такой образностью!).
Антонен Арто тоже побывал в школе Всеволода Эмиль-
евича; он играл одного из мистиков в парижском спектакле
«Балаганчика»; поставил пьесу Блока Жорж Питоев (он
был до этого в труппе Комиссаржевской, где еще шла
мейерхольдовская постановка). Вероятно, было и другое
влияние: перевел пьесу Гийом Аполлинер; в 1913 году
Мейерхольд приехал в Париж, они часто встречались,
дружили.
Блок и Мейерхольд потешались над «мистиками»; не
знаю, сохранил ли Питоев трюк их спектакля: головы
мистиков уходили в воротники, оказывалось, что людей
нет — одни только респектабельные сюртуки и манишки,
нарисованные на картоне.
Причудливые сочетания: блоковский вихрь на всю
вселенную и аполлинеровское солнце «с перерезанным
горлом» 153.
Несхожие дороги, пути, уходящие в разные стороны,
и вдруг — неожиданная точка пересечения; встреча — и
сразу движение в совсем ином направлении, к другой цели.
Встречи не только художников, но художников и истории:
Бодлер на баррикадах 1848 года, Рембо среди коммунаров
в 1871 году. Искусство первых лет нашей революции — кто
из художников Запада не соприкасался с ним?
Арто ставил спектакль по фильму Пудовкина «Мать»;
в его кинематографические планы входила экранизация
«Гадибука». Я помню постановку Вахтангова: наклонную
плоскость пола, девушку в белом платье, отшатнувшуюся
в ужасе, зловещие фигуры нищих (задолго до Брехта)...
Пушкин называл главной из струн воображения,
потрясаемых театром, ужас (две другие — смех и
жалость) |54. Он 'набросал один из пейзажей пугачевского
224
Пространство трагедии
бунта: плот движется по реке, на нем виселица, трупы
качаются в петлях.
Русское искусство не боялось крайних форм
выражения. Воздействия, которое было почти непереносимо, как
непереносимо описание сна Раскольникова, когда
упавшую лошадь колотят, бьют кулаками, пинают сапогами,
а потом берутся за кнуты — в шесть кнутов по глазам.
В шесть кнутов по сердцу. Так писала о неправде, о
бездушии, бесчеловечности русская изящная словесность.
«Антонен Арто умер 4 марта 1948 года в возрасте
пятидесяти двух лет,— написал вскоре после его смерти
Морис Сейе.— Запомним эту дату нового и ужасного
рождения. В долгой агонии угасли физические и духовные
силы Арто. Началась его настоящая жизнь. Град его
мыслей обрушился на наш разум» 155. «Он не был понят при
жизни,— пишет в книге, посвященной ему, Наоми Грин,—
потом его провозгласили пророком» ,56.
Преувеличения в этих словах нет: об Арто выходят
академические монографии и его имя не сходит со страниц
студенческой прессы Гринвич-виллидж; его влиянием
отмечены многие театральные постановки Европы и
Америки, и кровавые кошмары, которые его душили, бушуют на
экране «подпольного кино». Даже его астрологические
прозрения стали реальностью кинокадров («Мятеж
Скорпиона» Кеннета Энджера).
Театральные журналы посвящают ему целые номера;
среди его последователей — «Ливинг тиэтр» (США),
Питер Холл, Чарльз Моровиц, Питер Брук. Всех имен не
перечислить. Правда, кто-то заметил, что во многих
постановках «жестокость» проявляется больше всего к идеям
самого Арто.
Спектакль, поставленный в сумятице, без труппы, без
средств, театр, окончивший свое существование на
единственном представлении «Ченчи» (по Стендалю и Шелли)
в мюзик-холле «Фоли Ваграм» (1935),— все еще в центре
внимания. Измученное лицо с огромным лбом и папиросой
в углу запавшего рта, как лик учителя, появляется все
чаще. Его напечатали несколько лет назад и на программе
экспериментальной мастерской Королевского (Арто и
«королевский»!) Шекспировского театра.
Пространство трагедии
225
На репетиции мастерской я был. Немало мест
«Экранов» Жана Жене игралось действительно обожженным
горлом. Исступление, крик до хрипоты, яростная
скороговорка, срыв в совершенную невнятицу, вой, а то и какой-то
хриплый лай; истерика и гротеск; артисты сами малевали
на белых ширмах красные пятна (огонь? кровь?);
фантастические чучела, ритуальные ритмы, маски. Идеи Арто
нетрудно было различить.
Интересно наблюдать за Питером Бруком во время
работы: желтые, ястребиные глаза неотрывно следят за
действием; малейшая неточность — знак ассистенту,
запись в тетрадь; пульт шумов — выверен каждый щелчок
(звуки памятны по Но и Кабуки), все вступает в
нужную секунду, заведено на нужное число оборотов, пущено
в ход, соотнесено с другим — движется; основа всего —
ритм.
История театра не желает тихо и покойно дремать
в академических курсах; одни главы влачат вялое
существование до экзамена, когда студенты с проклятиями
вызубривают ничего не значащие для них имена и
формулировки; другие разом молодеют, новаторами врываются
на современную сцену. Так набирают силу театры Но и
Кабуки, средневековая притча и моралите. Эйзенштейн,
выводя свою формулу пафоса, с увлечением вспоминал
Бена Джонсона: строение характера героя по
господствующей черте, доходящей до мании, уродливого
гротеска, «патетических эффектов путем прямого нагнетания
экстатически вырывающихся друг на друга элементов все
более и более нарастающей интенсивности» 157.
Питер Брук тоже ищет расчет рывка, выбегая за
пределы театра, за край театральной эстетики. Все что угодно —
театр жестокости, коллаж, дзен, хепенинг,— только бы
прорвать сеть коммерческого театра, невозмутимого
бездушия, безмыслия. Он пробует крайние регистры, формы
экспрессии. Ему не сидится на месте. Он возникает
метеором в разных странах: вот приходят фотографии его
«Бури» — огромный пустой прямоугольник, национальный
музей мебели в Париже. Здесь устанавливают стальные
конструкции, как строительные леса, только на колесах;
зрители сидят на перекладинах, здесь же играют артисты.
Ариэль прилетел почти по воздуху — японский исполни
8 Г Козинцев, т. 4
226
Пространство трагедии
тель из театра Но. Опять спектакль в Стратфорде, «Сон
в летнюю ночь», как цирковой парад: элегантные
престидижитаторы в балетных туфлях, белая площадка в сиянии
электрических солнц. Вместе со своей молодой труппой он
покидает Англию и открывает в Париже Международный
центр театральных исследований; на древних развалинах
в Иране они играют миф, в котором предстает история
человечества; закат и восход солнца входят в
режиссерскую партитуру. В последнем письме он пишет, что
готовится к поездке в Африку, артисты будут играть там
в деревнях, стремясь воздействовать на зрителей
непосредственно, минуя барьеры цивилизации. Он заканчивает
свою книгу тем, что, когда она выйдет из печати, вероятно,
о многом он уже будет думать по-другому.
Питер Брук любит Шекспира; Арто предпочитал
Джона Уэбстера, репертуар театра жестокости должен был
начаться с него. В «Герцогине Амальфи» вдоволь, говоря
по-современному, черных аттракционов: на сцене казнь,
пугают страшными куклами, вылепленными из воска,
протягивают для пожатия отрубленную руку, хором
поют сумасшедшие. Так выглядит в пьесе общая картина
жизни:
О, этот мрачный мир! В какой тени,
В какой глубокой пропасти и тьме
Извечно человечество живет
Трусливое, изнеженное, злое!
Прилежным читателем Уэбстера был Эдгар По. Можно
предположить, что карнавал во время чумы Арто нашел не
в старинных хрониках и не сам его придумал. В рассказе
По «Маска багровой смерти» от чумы запираются в замке
и устраивают костюмированный бал, веселье обрывает
незваный гость в маске зачумленного; когда с пришельца
срывают маску, под ней нет лица: гибель, смерть пришла
в замок. Встреча чумы, попытка противостоять ей — тема
в искусстве огромная. Чуму — край века, тьму истории —
встречал бесстрашием поэзии Пушкин (бледная
английская пьеса «Город чумы» была для него только
предлогом). Об этой стихии поэзии, не боящейся заглянуть
Пространство трагедии
227
в пропасть, заставляют думать не причуды смены стилей,
а крутые повороты истории. Чума часто стоит у ворот.
Веймар, прошлое столетие.
«Сегодня за обедом у Гете беседа опять зашла о
демоническом» — аккуратная запись в дневнике Эккермана.
Эту тему обсуждают «за обедом», «в беседе».
«Демоническое — это то,— уточняет Гете,— чего не могут постичь ни
рассудок, ни разум...
— Не проявляется ли также демоническое,— спросил
я,— в отдельных событиях?
— Несомненно...— сказал Гете,— во всех тех, которые
мы не в состоянии разъяснить рассудком и разумом... оно
проявляется самым различным образом во всей природе...
Некоторые творения насквозь демоничны... Паганини оно
присуще в высшей степени, чем и объясняется то, что он
производит такое неотразимое впечатление».
«Мы опять говорим о демоническом... Оно охотно
овладевает значительными личностями... и предпочитает
также темные эпохи».
Мирная беседа, тихие голоса.— Не хотите ли еще
супа? — Благодарю, не откажите в любезности передать
соль...
«В поэзии, бесспорно, имеется нечто демоническое,
и притом преимущественно бессознательное... именно
поэтому производит такое могучее впечатление».
Неотразимое впечатление, могучее впечатление.
«Но в идею божества,— сказал я,— по-видимому, не
входит понятие о той действующей силе, которую мы
называем демонической?
— Дорогое мое дитя,— сказал Гете,— что мы знаем об
идее божества?» 158
Дом, где произносились эти слова, сохранился.
Небольшие комнаты, гипсовые слепки: древние маски, Зевс на
троне, Моисей... коллекции минералов, итальянской
майолики, гербарии, библиотека. Уютная обстановка, чтобы
обсуждать стихи Аполлона и Диониса. Маленький сад,
огороженный стенами.
Люди многих десятилетий читали Шекспира,
вспоминая слова Гете: Гамлет — это дуб, который посадили
в цветочный горшок 159.
8*
228
Пространство трагедии
Датский принц?.. А может быть, сам веймарский
тайный советник — здесь, в этом доме с маленьким
огороженным садом?..
А может быть, каждый художник, чувствующий
невозможность выражения трагического времени в
очерченном круге искусства?
В 1945 году в дом Гете на Фрауэнплац попало
несколько бомб. Потом его восстановили; все предметы поставили
на свои места.
Неподалеку от Веймара — дома-музея, где жил Гете,
дома-музея, где жил Шиллер,— Бухенвальд, музей лагеря
смерти.
Время меняет ритмы искусства, сам характер духовной
жизни художников становится иным, другим, чем в
прошлые десятилетия.
Между прошлым и настоящим иногда лежит не прочно
построенный мост, а шатающиеся, плохо укрепленные
бревна и доски; идти надо под обстрелом. Искусство
проходит через огонь.
Выхоленность, изнеженность образности тогда
становится ненавистной. В начале революции бранным словом
Мейерхольда было «тучность»; пьесу нужно было, по его
призывам, очистить от жира литературщины, превратить
в сценарий, в «поджарое тело».
Что же должно было дать этому телу живое движение,
наполнить его страстью? «Нерв комедианта»,— отвечал
Всеволод Эмильевич160. «Банной расслабленности
мышц» 161 психологического натурализма
противопоставлялись энергия, нервное напряжение. Задатки всего этого
Мейерхольд находил в традициях народного театра.
Бродячие комедианты, бесправные защитники
вольности на ярмарочных площадях, зазывали зрителей со всех
четырех сторон к своим подмосткам; мощь посыла чувства
должна была быть такой, чтобы в звоне шутовского
бубенчика слышались отголоски набата. Скоморохи были
родом из заклятого, дьявольского племени, не зря их
запрещали хоронить на городских кладбищах.
Черная кожаная маска на лице Арлекина не походила
на лик праведника. Никогда в истории жрец и комедиант
не стояли рядом, они всегда были врагами. Арлекин был
Пространство трагедии
229
сам магом, он творил чудеса, но эти чудеса разрушали
порядок, сеяли смуту. Комедиант творил чудеса и сам
потешался над чудесами.
Вот для чего ему нужен был этот звенящий «нерв».
Вслед за Мейерхольдом (через влияние Брехта) Брук
еще больше усилил подобные качества, туже натянул
«нерв». Он занялся особым сольфеджио: пением
обожженным горлом. Вот почему ему так важен был этот «нерв» —
активность; страстность отношения к явлениям
действительности. Вырабатывалась новая внутренняя техника, по-
своему совершенная. Артисты Брука умеют будить беса
в крови даже дважды в день (если идет утренник).
Результаты оказались важными: молодая труппа
научилась свободно дышать в причудливой сфере гротеска,
где задранная нога клоуна может повиснуть над
пропастью.
«Нерв комедианта» — напряженная струна,
спружиненная энергия — в спектаклях Брука вовсе не
отвлеченное качество темперамента, а отношение к
трагическому в мире, к гротескному в жизни. Связь режиссер!а
с определенными явлениями жизни множеством мыслей,
чувств — гневом, болью.
Теперь эти опыты освоили многие. И то, что в
постановках Брука жило страстью, гневом, тревогой,
превратили в «стиль». Так теперь и говорится на Западе: XIX век —
романтизм, сентиментальность; XX — черный Шекспир,
театр жестокости.
В «Ченчи» — единственной постановке Арто — отец,
чудовище разврата, хотел изнасиловать дочь; во время сна
дети забили ему один гвоздь в глаз, другой — в горло; их
казнили.
Стендаль нашел эту историю в старых итальянских
хрониках. Какие только дела не записаны в хрониках
нашего времени: душегубки, массовые убийства, атомная
бомба... Художники жестокого века не случайно
вспомнили театр жестокости. Они читают Шекспира — и рядом
с тенями убитых Макбетом видят тени погибших в газовых
печах. На иллюстрациях подарочных изданий
викторианских времен Гамлета изображали нежным юношей.
«Я должен быть жесток» — это говорит не антигерой
230
Пространство трагедии
антипьесы, а Датский принц, так он ведет себя не только
с королем Клавдием, но и с матерью, с возлюбленной.
Я писал, что шекспировскую войну можно увидеть
только в глазах героев. Можно ее увидеть даже в дырах на
месте глаз. В стратфордской постановке «Лира» на сцене
не было и тени сражения, Брук дал его схему, как бы вывел
его формулу в одном только звуке. На пустой, ровно
освещенной сцене сидел на полу Глостер — Эдгар оставил
отца здесь и ушел сражаться. Слышался грохот и лязганье
железа, лицо слепого было обращено к зрительному залу,
он сидел совершенно неподвижно, как большая нелепая
кукла, манекен, пустые глазницы невыносимо долго (по
сценическому времени) смотрели на нас, в нас. Мгновения
смерти нельзя было заметить, а железо все так же
грохотало и скрежетало.
Образ поразил меня своей силой. Но мне было жалко,
что режиссер срубил дерево.
Из фильма, снятого для широкого экрана, выпечатыва-
ют копии для меньшего формата —обычного. Иногда при
этом срезают часть пейзажа, а то и лица; сбоку выпеча-
танного кадра торчит один только нос или ухо. Так
поступаем мы, режиссеры, при постановке Шекспира. И еще
утверждаем, что нам удалось очистить елизаветинский
подлинник от напластований XIX века. Бедный XIX век,
чего только мы на него не валим! И действительно, снимая
слой за слоем то, что кажется нам романтизмом,
сентиментальностью, патетикой, мы приходим в конце концов
к какой-то зеркально чистой поверхности. Это зеркало,
в котором мы видим наше смятение, боль, гнев... Очистив
от XIX века, мы открываем не XVI, а XX — вернее, себя
в XX столетии. Иного мы сделать не можем. Забудем про
то, что кто-то способен поставить «истинного» Шекспира,
неоспоримо правильный спектакль (или фильм) — тот, что
самому автору мерещился. Нельзя это сделать. Не смог ни
Станиславский, ни Крэг, ни все гении театра, потому что
постановка Шекспира — отражение его поэзии в
движущемся времени.
Но сама поэзия сильнее времени, и только в сравнении
с ней можно судить наши «выпечатки». Она — реальность,
которая была до нас и будет такой же после нас; она суще-
Пространство трагедии
231
ствует вне нас, объективная реальность нерасторжимого
порядка слов, ритмов — дышащего, полного жизни
пространства. Это единство поэтической материи,
бесконечно разнообразной (подобно всему живому). Ткань
искусства Уэбстера кажется по сравнению с ней
элементарной — не потому, что в шекспировском мире меньше
ужаса и мрака (иногда мрак еще более кромешен, чем
в «Герцогине Амальфи»), а потому, что в этом
пространстве, насыщенном движением, ничто не погибает
бесследно, и смерть отзывается рождением, и когда мрак
достигает предела, то уже разгорается еле заметная искорка,
и мрак по сравнению с этой частицей света теряет силу.
Светает. Эдгар идет по дорогам, он ведет своего слепого
отца. Видна даль, ощутимы свет, тепло. Сын просит
подаяния, чтобы накормить отца. Жаркий день. Дерево. Тень от
дерева. Сын усаживает отца в тень.
Почему я беру на себя смелость так подробно
описывать? Все это есть в поэзии: дерево, тень от дерева. Все это
и есть поэзия.
Я хочу «выпечатать» тень от дерева. Только это особая
тень. Нетрудно снять дерево при солнечном свете так,
чтобы оно отбрасывало на землю тень, но это не будет
шекспировской поэзией. И солнце, и тень, и отдых в тени —
все это из одного источника: отсветы любви, милосердия.
Это не только духовные качества человека по имени Эдгар,
но и качество поэтической материи, одухотворенной
человеком по имени Шекспир: даже во тьме он отличает такие
мгновения.
Я имею в виду не отдельные фразы из монолога Эдгара
(описание смерти отца), а полноту движения жизни,
которая продолжается, будет продолжаться — человеческий
род передает не один только ген жестокости. В глубине
строения, основе ритма — повторы вспышек света:
Глостер узнает сына; затем вторая, более сильная — Лир
находит Корделию за минуту до тьмы, смерти. Два
мгновения счастья, настолько сильные, что их нельзя перенести.
Поэт движет рукой Лира, пальцы отца дотрагиваются
до щеки дочери, на кончиках пальцев влага.— Что это,
слезы на твоей щеке? — Да, это слезы.
И тогда бес получает у поэта отгульные. У беса мертвый
час, а может быть, целый выходной день. Он может дрых-
232
Пространство трагедии
нуть в крови поэта беспробудным сном. Он ему надоел,
опостылел: сколько раз мелькает его дурацкий хвост и
несуразные рога в жизни, в истории, так пусть хоть в крови
искусства он подольше не пробуждается.
Мудрые и печальные, приходят к поэту муза и ангел
с опаленными крыльями.
Они приносят в подарок поэту золотых мотыльков: Лир
говорит о них Корделии, когда их ведут в тюрьму. Театр
милосердия зажигает свои огни, занавес театра
жестокости опускается: теперь ему нечего играть.
Отец говорит дочери, что они нашли друг друга, что нет
силы, которая способна их разлучить: они будут счастливы
в темнице, у них остаются песни, сказки, право прощать
друг друга.
Может быть, эти слова — лепет старика, впавшего
в детство? Да, так может показаться, если увидеть двух
людей на пустой сцене, где кроме них несколько
фигурантов, одетых в условные костюмы воинов. Ну а если
увидеть всю реальность, все пространство? Тогда нет
больше монолога, есть сцена борьбы, острота конфликта:
в действии участвует целая армия, молодой полководец,
полный сил победитель, и два безоружных слабых
человека: старик и молодая женщина. И тогда невесомые слова
набирают силу и два немощных пленника становятся
победителями.
Слова обращены не только к дочери, но и к железу,
жестокости, насилию.
Торопясь, Эдмонд приказывает тайком убить
пленников. Почему их нужно скорее, сейчас же уничтожить?
Потому что они страшны, их боятся.
«Приспособляться должен человек,— утверждает
Эдмонд,— к веленьям века» (в подлиннике: люди такие
же, как их время); будешь покорен времени — и ты
подымешься высоко.
Но время бессильно перед бесстрашием отца и дочери,
нашедших друг друга. Их можно убить, но отнять эту
минуту счастья — ослепительного света — никто не
сможет, нет сил для этого у целой армии. У той самой армии,
которая достигла своей цели, а потом через кратчайшее
время почему-то (история знает почему) бесследно
исчезает, от которой и солдата не остается — ни одного верного
Пространство трагедии
233
Эдмонду солдата, чтобы защитить своего полководца. Что
же тогда подлинная реальность?
Конечно, еще мгновение, и на шею Корделии накинут
петлю (чего проще), и уйдет вслед за ней Лир. Но ведь
они — герои трагедии, а не живые люди. Они большая
реальность, чем живые, смертные люди, герои трагедии не
умирают, они оживэют с новыми поколениями — и опять
идут вместе с ними, по их пути, повторяя свои слова, ответ
новому Эдмонду. Отпор тьме. Отпор чуме.
В Киеве, недалеко от гимназии, где я учился,
находилась Киево-Печерская лавра. В первые годы революции мы
убегали с уроков и спускались в пещеры, где лежали мощи
затворников. Приходилось идти по узеньким ступенькам
и тесным проходам, под низкими сводами. В склепах было
темно; тусклые огоньки тоненьких восковых свечей
освещали ниши, где в открытых гробах лежали мощи. В сырой
мгле голосили бабы, слышалось бормотанье молитв, кто-то
всхлипывал. Я храбрился и не показывал товарищам вида,
что мне страшно; тьма, необходимость пробираться
согнувшись, истлевшие рясы и высохшие тела в гробах,
плач — все это угнетало, и я мечтал скорее выбраться
отсюда, на воздух, к свету, выпрямиться.
Несколько лет назад я приехал в Киев. Мне трудно
было отыскать дом, где прошло мое детство: новые здания,
совсем другая, чужая улица. Место, где была гимназия,
я так и не смог найти. Но вход в пещеры лавры остался
таким же, и я опять спустился в склепы. То же чувство
охватило меня, когда я шел согнувшись. Я не мог
дождаться минуты, когда выберусь на свет, выпрямлюсь.
Тот же темный гнет, что десятилетия назад. Тот же, что
тысячелетия назад. Замкнутое, стиснутое пространство —
нет пространства; ничего человеческого нет, невозможно
выпрямиться...
Невозможно думать. Тьма. Свет ушел с лиц. Вой, нет
членораздельных звуков. Черносотенные банды, портреты
царя и царицы на вышитых полотенцах, нет лбов, нет глаз,
одни только черные разинутые в крике рты... Оскотевшие
банды белых карателей, петлюровцы в нелепых свитках
и маскарадных папахах, свист, улюлюканье, гиканье,
выстрелы в ночи. Ночь. Разбиты.фонари, нет света в окнах.
234
Пространство трагедии
Люди боятся света. Свет — смерть. Все бред, карикатура,
реальна только невозможность выпрямиться; угроза
смерти — вот единственное, что похоже на жизнь.
Люди боятся звука, боятся слова, боятся мысли.
Это для меня — чума. Этого — тьмы, чумы — я
вдоволь повидал в ранние годы своей жизни.
До урочища в горном Алтае нужно было долго
добираться верхом, по узким тропкам. В 1930 году мы снимали
фильм «Одна». Тогда я познакомился с Кондратом Тана-
шевым. По профессии он был шаман. Дело свое он знал.
Работал он на настоящем горючем, не вхолостую: у него
была эпилепсия, и он умел уловить, использовать
приближение припадка. Кроме того, он был горьким пьяницей.
На моих глазах в темной, дымной юрте он лечил
больных детей. Бил колотушкой в бубен, выл, выкрикивал
хриплым голосом какие-то заклинания, а потом вскакивал,
кружился, притоптывал сапогами. Он обладал хорошим
чувством ритма. Ускорения, неожиданные паузы,
синкопы — всем этим он умел пользоваться. Большой бубен был
сделан по старинным образцам; внутри обода на
перекладине помещалась темная деревянная голова бога Ульгеня
с железными бровями и носом, медные побрякушки. Тана-
шев то бил по туго натянутой на обод коже резкими
ударами, то тряс бубен — гремели побрякушки. К его
тулупу были пришиты узкие и длинные тряпки с какой-то
высохшей дрянью (лягушки, зверьки) на концах. Когда он
кружился, ленты развевались, от движений разгорался
очаг, юрта наполнялась дымом, становилось трудно
дышать, болели глаза, а шаман убыстрял ритм своих
движений, учащал удары колотушкой, все лязгало, бренчало,
гремело, слышались гортанные выкрики. И вдруг Танашев
падал на землю как скошенный, его тело билось в корчах
припадка (настоящего или имитируемого), глаза
закатывались, на губах выступала пена.
Мы пришли посмеяться над представлением. Однако
нам было не до шуток.
Мы привезли Танашева в Ленинград, чтобы снять его
в павильоне. Он охотно повторял (и не раз) весь обряд
своих заклинаний. Ничего от их силы на экране не
осталось. Нужно было ехать пять дней верхом, увидеть у входа
Пространство трагедии
235
в юрту гниющую лошадиную шкуру на шесте (знать, что ее
сдирают с еще живой лошади), и нужно было, чтобы дым
разъедал глаза, и чтобы больной ребенок лежал в тряпье,
а глаза его матери с тревогой и надеждой смотрели на
эпилептика и запойного.
Нет, ужас был совсем не в ритуальных ритмах и не
в магии заклинаний.
Приобщение Танашева к цивилизации было
печальным: он окончательно спился, и думаю, что по
возвращении домой он вряд ли благополучно закончил свою
деятельность.
Шекспир видел черную тучу, надвигающуюся на
историю, чуму, грозящую уничтожить историю, вернуть ее
вспять, в первобытный ужас. И он написал ее во всю
демоническую силу трагедии. Но он написал и то, как Корделия
находит в себе силу сказать «нет», и мужество Эдгара, и —
прежде всего — бесстрашие мыслей Лира.
«Я должен быть жесток»,— говорит Гамлет, однако это
лишь начало фразы. «Я должен быть жесток, чтоб добрым
быть».
23
Молодой англичанин приехал посмотреть съемки и
привез мне в подарок маленький томик в красном кожаном
переплете, старинное издание «Лира». Я перелистал
первые страницы и сразу же задержался на известной цитате
из Чарлза Лэма, помещенной как эпиграф. Теперь я
вспомнил эти слова: «Лира» нельзя поставить,— утверждал
Лэм,— разве на сцене можно показать бурю?..»
Спасибо. Подарок как раз вовремя, к Христову дню;
к съемкам той самой бури, изобразить которую не под силу
режиссеру. Правда, Лэм имел в виду театр; у кино,
конечно, другие возможности. Какие? Ну хотя бы
технические: артистов (если у них сговорчивый характер) можно
взаправду поливать из пожарных шлангов и завести
ветродуи на такие обороты, что трудно будет удержаться на
ногах. Значит, преимущества лишь в ловкости подделки,
имитации? Но и действие, и связи (очень сложные) людей
236
Пространство трагедии
и природы как раз в этом месте трагедии далеки от
натурализма.
И все же шекспировский мир реален, даже выход за
пределы жизненного материален: призрак отца Гамлета
чувствует, как повеяло утренней прохладой, видит, что
затухают огоньки светлячков — близится рассвет, такой
же, как и над нашей землей, так же меняются краски неба,
очертания земли. Этот мир в своем существе неотличим от
нашего. Если бы я думал иначе, то не набрался бы
храбрости снимать шекспировские фильмы — в древней Британии
и в кельтских легендах я мало что понимаю. Чтобы
воссоздать на экране поэзию, нужно прежде всего открыть в ней
прозу.
Казалось бы, ясное положение, но, к сожалению, не
только не облегчающее труд режиссера, а, напротив,
заставляющее его сильнее чувствовать несовершенство
кинематографических приемов. Горе в том, что мы часто
понимаем и прозу, и поэзию слишком просто. «Я никогда не
поверю в «прозу», ее нет, я ее ни разу в жизни не встречала,
ни кончика хвоста ее,— писала Марина Цветаева. (Ее
стихи, пожалуй, пример близости к прозе).— Когда подо
всем, за всем и над всеми — боги, беды, духи, судьбы,
крылья, хвосты — какая тут может быть «проза»! Когда
все — на вертящемся шаре?! Внутри которого —
огонь» 163.
Не знаю, читал ли я лучшее, более похожее на оригинал
описание «Лира»? Кажется, будто Цветаева имела в виду
именно эту пьесу, старалась с совершенной точностью
передать, что именно и каким образом в ней происходит.
Правда, есть одна оговорка, слово взято в кавычки:
«проза»; значит, есть и какая-то другая проза, без кавычек?
Может быть, и хвост ее можно ухватить? Конечно, все —
на вертящемся шаре, и обязательно внутри него — огонь,
но наружу, то, что перед глазами, то, что мы способны
увидеть,— земля; движущаяся материя, качества которой
можно уловить. И даже если в этом движении свойства
меняются так, что перед нами открывается еще
невиданное, то это тоже реальность.
Сверкания молний и потоки воды — ничтожно малые
приметы; «буря» — другая реальность, куда выброшены
герои, пейзаж, который открылся за пределами мира, где
Пространство трагедии
237
они жили. Их вышвырнуло, сдуло с жизни. В дурную
погоду? Неужели в этом существо сцены? Чем точнее будут
имитировать дурную погоду, тем «прозаичнее» получится.
Эту ночь определяет не движение стрелки барометра
справа-налево («дождь», «в. дождь», «буря»), а сдвиг,
искажение отношений, нарушение норм. Всех отношений, в том
числе отношении человека и пространства.
Станиславский учил: если играешь скупого, то ищи, где
он щедр, взявшись за злого, открой у него минуту доброты,
иначе — штамп, условность. Каждый кадр «бури», где не
будет бури (дождя и ветра), для меня драгоценен.
Гордон Крэг нарушал в своих замыслах пропорции,
удлинял вертикали, удалял героев в бесконечную даль. Он
понимал оптику шекспировских катастроф, смещение
перспектив, угрозу пустоты. Он занял почти весь лист рисунка
к «буре» сплетением из ивовых ветвей (мотив шалаша) —
гигантская корзина-ловушка? лабиринт-паутина? — и
только в глубине (подчеркнутой удаляющимися
движениями линий) три маленьких силуэта: Лир, Эдгар, шут.
Связи между изображением и звуком непросты. Звук
проходит по пространству и меняет его очертания. Никого
не удивляет эпитет «тишина», определяющий пейзаж.
Может быть не только тишина, но и немота. О «немоте
площадей» писал и Иннокентий Анненский («пустыни немых
площадей, где казнили людей до рассвета») ,64.
Уточняя свой замысел капеллы Роншан, Ле Корбюзье
определил ее архитектуру как «зримую акустику».
Действие самого бурного третьего акта должно
развиваться последовательно, даже спокойно: сперва
обыденность — Лир уходит из обжитого дома Глостера; за ним,
скрипя петлями, закрылись двери; он идет дальше, по
двору имения, по «прозе»; вздрагивают кони, чуя
приближение грозы, слуги уносят развешенные на веревке холсты;
за спиной Лира охрана, торопясь, задвигает тяжелые
ворота. И тогда проза сменяется поэзией. Человек идет
уже не по залам и угодьям поместья, а по грозной земле
трагедии. Разом изменились пропорции, человек ничтожно
мал, бессилен, беззащитен, пространство огромно,
враждебно.
«Зримую акустику» мы хотели снять в пустыне Давид
Гареджи (Грузия). Место подавляло своими масштабами,
238
Пространство трагедии
перед глазами была беспредельность. Здесь не было ничего
живого, только бесконечные каменные гряды; такие
пейзажи есть на картинах Леонардо да Винчи, они видны за
окнами; мадонна с младенцем — тепло продолжающейся
жизни, а за пределами жилища — далекая, холодная
планета, вечность.
Переход к такому пейзажу мы хотели сделать
незаметным, неощутимым. Фрагменты одной и той же
декорации должны были связать воедино каменные дворы Иван-
городской крепости и грузинскую пустыню; часть ворот,
ограды имения (таких же, как в Нарве), мы должны были
выстроить и в Давид Гареджи — поворот панорамы, и Лир
оказывался в пустоте, ничтожно малым среди огромности
далеких каменных гряд. Пожалуй, лучшего места для
«бури» трудно было бы найти. Но съемочное время
оказалось на исходе, возможности еще одной экспедиции у нас
уже не было. «Вселенную» приходилось отыскивать в
маленькой, уютной Эстонии, где пейзажи спокойны, ровные
поля наводят мир на душу.
Что тут было делать?..
Детям задают такую загадку: как перевезти на одной
лодке волка, козу и капусту? Простое дело. А вот как
совместить художественный смысл и производственные
возможности, планы нескольких театров (где заняты
снимающиеся у тебя артисты), погоду (всегда не ту, что
нужна) и множество других дел, которые не сходятся, не
клеятся, идут вразброд?..
Волк, объединившись с козой, переворачивает лодку,
в которую залез было режиссер, и швыряет ему в голову
кочан капусты, чтобы он, не дай бог, не выплыл на
поверхность.
Ну на что тут приходится надеяться?
На случай.
Еще задолго до въезда в Нарву можно было увидеть
дым на небе. Густые черные клубы иногда напоминали
грозовое облако. Это работала Прибалтийская ГРЭС,
тепловая электростанция на сланцевом горючем. Шесть
труб высотой в сто пятьдесят и сто восемьдесят метров
немало мешали нам при выборе съемочных точек. Я погля-
Пространство трагедии
239
дывал на задымленное небо: не сойдет ли чернота за
грозовую тучу. Нет, как ни пробуй снять, видно, что это
дым. Тут ничего нельзя было отыскать. Неподалеку от
станции была высокая песчаная насыпь. Как-то по дороге
на съемку Грицюс решил на всякий случай взобраться на
нее. Конечно, вряд ли там можно было отыскать площадку
для целой сцены, но хоть место для каких-нибудь
отдельных планов: найти подходящую натуру за пределами
Ивангорода было трудно.
Ни на что не похожее поле открылось перед нами. До
самого горизонта оно было покрыто однородными
светлосерыми, почти что белыми пластами, чуть загибавшимися
по краям, и ритм этого бесконечного повторения
изогнувшихся линий был настолько отчетлив, что казалось, будто
застыла разлившаяся лава, окаменели пепельные волны.
Поверхность какой-нибудь другой, неведомой нам
планеты. Ничего похожего на реальность и одновременно
совершенная реальность. Ничего подобного нельзя было
вообразить и тем более выстроить в таком масштабе, с
такой подлинностью фактуры, ровной, ломкой по краям.
Ничего подобного в природе не существует, а оно
оказалось перед твоими глазами, неопровержимое, как
подлинность. Эту декорацию десятилетиями готовили для нас
отходы сожженного сланца, зола.
Зрительный образ, таивший в себе возможности самых
различных ассоциаций. Нечто подобное руслам высохших
рек, но более бездушное, жестокое. Площадка для
действия трагедии идеальная, о лучшей не приходилось
и мечтать. Здесь можно было снять много кадров и,
конечно, прежде всего «бурю». Теперь уже не только
ветродуи и водолеи определяли образ, а сами эти ритмы мертвой
земли, в пластах которой затерялись крохотные фигурки
людей, пешки в наводящей ужас пустоте.
Мы заказали пожарную вышку; с самой высокой точки
горизонт выгибался (искажение, которое дают прямым
линиям анаморфотная линза, широкий экран); казалось,
что человек бежит по земному шару.
Нет ничего лучше этих внезапно возникающих
возможностей, все сразу становится интересным, открываются
новые стороны образности. Ветер мы решили заменить
кинокамерой. Натянули канатную дорогу: кинокамера, как
240
Пространство трагедии
ветер, гналась за шутом и Лиром, теряла их в пустоте
пространства (одни лишь линии пластов казались бегущит
ми порывами ветра). Никаких деталей, только отношения
ничтожно маленьких фигур и огромной, пустой планеты.
На части этой площадки началось наше строительство:
уже появился остов ограды ворот имения Глостера;
осталось совсем немного работы, и можно было заняться
основными сценами. Пока мы сняли здесь смерть Глостера,
кадры встречи шута и Лира в бурю.
«Плато Феникс» — торжественно окрестили мы это
место. Недалеко от нашей площадки слышался шум,
работали насосы; из шлангов лилась на землю какая-то серая
жидкость.
— «Феникса» больше нет,— встретил меня режиссер
И. Шапиро, чуть не плача,— прорвало трубы, зольник
затопило.
Из письма к Ю. Е. Ярвету
...Буря — не только погода, в которую мы снимаем, но
и ваш партнер. Общайтесь с ним. Чем в более тесные
отношения Вы вступите, тем будет выразительнее.
Вслушивайтесь в его реплики (гром), всматривайтесь в глаза
(молнии), даже если он вас оглушает и ослепляет. Собеседник,
конечно, не совсем обычный, но ведь и Лир незауряден.
И главное, не давайте собеседнику подавить себя;
переспрашивайте, доискивайтесь смысла, а уловив, в чем он
(каким он Вам представляется), вступайте в спор. Ловите
точки контакта, схватки лицом к лицу с ликующим злом.
Здесь — диалог, действие. Обычное определение этой
сцены как единства хаоса духовного мира героя и буйства
стихий кажется мне литературным, статичным. И здесь
главное — движение, конфликт. Дело не в хаосе
(безумии), а в борьбе с хаосом: в чем причина разрыва всех
связей, бесчеловечности? где скрыты корни зла? Лир
разговаривает со стихиями запросто, наравне; он требует
их сочувствия и гневается на них за бессердечие. Мысль
расширяется до обобщения — мирового зла — и
становится предельно конкретной: в шалаше предмет интереса
оказывается совсем рядом, перед глазами — нагое, без-
Пространство трагедии
241
защитное тело бедного Тома. И опять — обращение ко
всему миру, к самой природе.
Чем сильнее чувство, тем сдержаннее должны быть
средства выражения, только тогда загорятся
по-настоящему глаза. Тихо сказанная фраза для нас— на вес золота.
Крутость переходов, резкость смены состояний — все это
уже в прошлом, было в начале, когда Лир был «нормален»
(т. е. по существу безумен). Здесь же не выплеск чувств,
а концентрация мысли: ход вглубь, к связи вещей, к сути.
Что делает людей такими?
Лучшими у Вас мне пока кажутся кадры начала
безумия, разговор со слепым Глостером, встреча с
Корделией.
Начинаются решающие сцены: буря, плен, смерть.
Трудные сцены, самые трудные, решающие, самые что
ни на есть главные... А есть ли в этой пьесе просто сцены?
Увы, дорогой Юрий Евгеньевич, нет их в этом сочинении...
Они сливаются (буря и человек) и разделяются на
спорщиков: зло истории и человек, спрашивающий
историю. Спор в пустоте, куда человек выброшен всеми,
отовсюду, выброшен историей. В этом существо.
Русская культура знала (конечно, в совершенно иных
формах) такие исступленные требования жизненного
ответа у отвлеченных понятий. Так Белинский в один из
периодов, когда он был в «крайности», топтал
«философский колпак» Гегеля — пусть абсолютный дух ответит за
все зверства инквизиции 165.
Начало сцены совсем тихое, скорее лирическое. Лир
оставлен всеми. На земле ему больше не к кому обратиться
за помощью. Теперь его собеседником может быть одно
только небо. Человек и небо. Очень старый человек и
древнее небо. Лир обращается к небу (богам) и говорит, что
если они так же стары, как он, то должны сжалиться над
ним. Вот и определяется задача: довести этот фольклорный
параллелизм до зрительной конкретности — седые (серые)
волосы, седое (серое) небо с косматыми тучами; небо тоже
плачет — нужно снять далекие дожди так, чтобы
тональность лица, облаков, волос была единой.
Небо отвечает совсем не так, как предполагает человек:
огромное черное крыло медленно накрывает мир. Здесь
242
Пространство трагедии
человеческий голос бессилен, должен быть слышен голос
музыки Шостаковича.
Небо над Нарвой изо дня в день — ровное, светлое, без
единого облака. Мой ученик режиссер Август
Балтрушайтис отправляется в погоню за небом: за «черным крылом»,
за «седыми тучами», за «ликующим злом» (такая задача
ему тоже задана); маршрут дают ему синоптики (путь
далекий, пока грозы только на востоке), по дороге он
должен где-нибудь снять табун диких лошадей, чующих
начало бури, и бегущих в чащу зверей. Другая группа уже
снимает пожар, быков, вырывающихся на волю.
Из Москвы нам присылают кадры тревоги волков
и медведей. На экране волки похожи на хорошо
дрессированных овчарок, а медведи заставляют вспомнить обертки
конфет «Косолапый мишка».
Ярвет — мужественный, смелый человек — страдает
боязнью высоты. Не зная об этом, я задумал планировку:
Лир стоит на самом краю высокой крепостной стены подле
башни, в проломе которой видна повешенная Корделия.
Взгляд вниз с этой неогороженной узкой площадки — под
ногами крутой обрыв — достаточно неприятен. Теперь от
кадра придется отказаться. Как потом выяснилось, Грицюс
все же убедил Юрия Евгеньевича в необходимости снимать
именно на этой стене.
Ожидая съемки, Ярвет стоит зажмурив глаза,
судорожно прижавшись к маленькому столбику, который
укрепили позади его спины. Хлопушка, начало съемки. Юрий
Евгеньевич сразу же отрывается от столба, руки
вытягиваются, голова запрокидывается назад, тело искривляется,
как в приступе невыносимой боли, слышится долгий и
протяжный стон.
На мой вкус это отлично. Но кто-то из массовки
посмотрел в объектив, необходимо переснять. И опять он стоит,
зажмурив глаза, ухватившись за столб. Хлопушка.
И опять: «Просьба еще раз,— изменился ветер, дым пошел
на камеру». Потом дрогнула панорамная ручка, и — что
делать — «приходится повторить, извините, не вышло...»
Я стараюсь не смотреть на артиста. Его сводят под руки
вниз, неукротимая рвота, озноб. Удивительные светлые
глаза сияют.
Пространство трагедии
243
— Хорошо, что сняли,— с трудом выговаривает он
слова, не в силах унять дрожь.— Надо было снять.
Конечно, хорошо...
Одно из главных качеств его дарования — духовная
грация и, что бы он ни играл, даже самые грубые
проявления,— всегда ощутима высокая проба искусства.
— Он не то чтобы плохой актер,— сказал мне
Довженко об одном из участников своей постановки,— он душевно
неинтеллигентен.
Ярвет прежде всего душевно интеллигентен. Дело не
в числе прочитанных книг, не только это решает: человек,
даже не знающий грамоты, может обладать таким
качеством; диплом об окончании высшего учебного заведения
не страхует от душевной невежественности, духовной
грубости. Это — природные, органические качества таланта;
их можно развить, но напрокат они не даются.
Для судьбы артиста важны не только роли, которые он
уже сыграл, но и то, что каких-то других ролей он никогда
не исполнял. Ярвет не набил себе руку на том, что приносит
легкий успех. Он не клеил хилой бородки симпатичного, но
придурковатого старичка — помесь шутовства и
сентиментальности чужда его искусству; он не научился
произносить пустые слова с важностью, между
глубокомысленными затяжками папиросы — не овладел ремеслом отеплять
схемы.
Когда работа спорится, радость одухотворяет его лицо,
глаза сияют. В чувстве, которое он испытывает, нет
довольства собой, просто хорошо, что дело идет, такую работу
нужно сделать как можно лучше. Он неутомим в труде.
Репетирует только в полный накал. Никогда и ни в чем не
бережет сил, не щадит себя. Он доброжелателен к
партнеру, даже если ему приходится играть с типажом, не
умеющим связать двух слов.
География нашего фильма, кажется, определяется.
Белых пятен на карте уже почти нет. Вот маршрут
путешествия из одного края государства в другой: дворец —
замки — поместья — поля — дороги — скала, крутой
обрыв — море. Дальше дороги нет. Тут конец всему. Но
важно то, что это путешествие совершится дважды.
Военное счастье переменчиво: сперва противник проник
244
Пространство трагедии
в глубь страны, потом его выбивают из занятых мест.
И герои вместе с войной возвращаются назад, по тому же
маршруту, только в обратном направлении. Теми же
дорогами, но теперь мимо развалил, по пепелищу. И наконец
оказываются на том же месте, где было начало: отсюда все
и пошло, вот и обгорелая лестница у развалин башни —
по этим ступенькам король подымался к самому небу;
здесь он проклял дочь, и когда люди, далеко внизу, упали
перед ним, как перед богом, на колени, он не взглянул
на них.
Герои возвращаются к истокам своих судеб. Здесь,
перед началом дворцовой церемонии, шутили два брата.
Теперь они встретятся здесь, чтобы убить друг друга.
Бесправный Эдмонд достиг всего, что хотел; теперь он
граф Глостер, а законный наследник стал ничтожеством —
бедным Томом. Эдгар снял с убитого воина рубаху,
подобрал с поля меч; есть чем прикрыть наготу, есть чем
убить. Лицо закрыто солдатским подшлемником. Лица
у возмездия нет.
Как различны поединки в «Гамлете» и «Лире». В Эль-
синоре — спорт, игра; судьи следят за соблюдением
правил, отсчитывают по часам время, чтобы спортсмены не
утомились, присуждают очки. Болельщиков немного:
король и королева, несколько придворных. Дворцовый зал,
любезные лица, красивые наряды. Ничтожная деталь
нарушает игру — капелька яда на заостренном кончике
рапиры. Есть и другая отрава, Клавдий бросает ее в кубок.
Как выглядит яд? Как жемчужина, которой гордились
семь датских королей. Так там убивают.
Поединок Эдгара и Эдмонда — грубый, зверский. Ни
судей, ни правил. Вызов на бой, обвинение в предательстве
и измене, оскорбление. У противников одно желание:
кончить окаянное дело, убить. Какая здесь могла быть
обстановка? Город после штурма, валяются трупы, еще не
потушены пожары. Солдаты огородили пиками место для
бойцов. Арена? Ринг? Толпа напирает на заграждения, рев
сопровождает каждый удар. Вот такой турнир.
Я прошу Ивана Эдмундовича Коха — он ставил
поединки во всех моих спектаклях и фильмах — обратить
внимание не на эффектность схваток (хорошо, чтобы ее
Пространство трагедии
245
вовсе не было), а на психологию противников. Эдгар
пришел не заниматься фехтованием, а казнить. Он выжидает
время, чтобы нанести только один удар, наверняка. Эдмонд
сильнее, более ловок; он бросается в атаку, обрушивает
град ударов, запугивает, хочет привести противника в
замешательство. Но боец с закрытым лицом отражает удары
и ждет. Человек воли и действия наталкивается на волю
более сильную. Это противодействие не только одного
противника, но и других людей, выражение глаз которых
его поразило.
Эдмонд побежден еще до начала схватки. Вдруг время
стало не с ним, ход времени изменился. Почему были так
бесстрашны Лир и Корделия? Отчего слабый человек
герцог Олбэнский вышел из-под каблука жены, разрушил
ее планы? Откуда взялся человек с закрытым лицом,
отбивающий его удары? Почему он спокоен? Сколько их —
таких людей? И что объединяет их всех вместе?
Чтобы победить страх (не смерти же он боится?),
Эдмонд срывает с головы шлем: кто способен его
устрашить? И страх сильнее охватывает его. А дальше? Дальше
не разглядеть: Эдгар, наконец, ударил его или он сам
нарочно напоролся на меч.
Все в свинцовой пелене, гари, копоти. Час суда.
Неожиданно в Нарве наступают холода, пар валит изо
рта. С утра пошел снег. Мы сметаем его с переднего плана,
но вдали, на черных руинах, отчетливо видны белые пятна.
Темнеет уже раньше, съемочный день становится
коротким. Не успеваем. Торопимся, снимаем без перерыва;
заканчиваем дневную смену и сразу начинаем ночные
сцены. Уже давно не было выходных дней. Только бы
успеть. Тяжелая норма выработки в изящных искусствах.
Съемочная площадка напоминает «аврал» в наших
фильмах на производственные сюжеты: ветер валит фундусы
(остатки декораций), то дождь, то снег, все в ватниках,
грязные, озябшие, голоса, охрипшие от крика, воспаленные
глаза. Давай! Скорее! Опаздываем! Нет, не успеем. Сводка
погоды: завтра снегопад. Опять торопимся, кто-то куда-то
уезжает, чего-то не хватает, конечно же самого важного.
А где машина? Нет машины. В конторе хватаются за
голову: горит план!
246
Пространство трагедии
Ужасная обстановка. Единственное утешение, что
примерно в таких же условиях (по моему глубокому
убеждению) писал свои пьесы Шекспир: к сроку, торопясь,
дописывая реплики в день премьеры.
Режиссера И. Шапиро нет на площадке. Он никогда не
опаздывает. После окончания съемки еду в больницу.
Человек, во время работы ни минуты не стоявший на месте,
неподвижно лежит; к его забинтованной руке тянется
тонкая резиновая трубка: в вену капает глюкоза; в
ноздре — другая трубочка, от кислорода. Состояние больного,
как говорит мне доктор, «средне тяжелое».
Иду готовить завтрашнюю съемку.
Какой там финал — благородная скорбь, очищающая
душу, воздание почестей под занавес. Нет ничего
подобного в «Лире»: ни примирения, ни назидания. Говоря об этой
трагедии, Александр Блок много раз настойчиво повторял
только два слова: «сухо и горько» 166.
А сухо и горько это — пусто и хмуро; торчат во мгле
обгорелые стволы деревьев, кровь и грязь. Народное горе,
черные дни.
В «Гамлете» мне совсем не хотелось снимать
торжественные похороны, я не люблю парадных кадров. Но
другого мне не удалось придумать, а смысл именно таких
проводов героя был мне ясен. Это Шекспир, а не Фортин-
брас приказал, чтобы была музыка, залпы, «все статьи
церемониала». Для чего ему было это нужно? Войска
отдавали салют, и государственные знамена склонялись
перед телом убитого студента.
И ничего похожего в «Лире». Не до почестей мертвым,
нужно дать кров живым, накормить людей. Не плакать
нужно, а нести «тяжелое бремя времени». Трупы проносят
через город, взятый после осады. Что там могло остаться?
Пепелище, горе человеческое. Я пробую увидеть сцену
в совершенной реальности. Нет ничего. Носилок тоже нет
(какие там «медсанбаты»). Пусть приспособят то, что под
рукой: сколотят доски, обгорелые меньше других. Дверь из
разбитого дома? Годится. Спешка, невнятица. Но лица,
маски смерти нужно увидеть, они различны: смерть
застигла Гонерилью и Регану в минуту ярости, ненависти —
Пространство трагедии
247
гримасы ярости и ненависти застыли; лица Лира и
Корделии — спокойны; воздадим им должное, пусть их понесут
на одних и тех же носилках.
Пожалуй, во всей сцене только два спокойных лица:
отца и младшей дочери.
Мне хочется добиться в планировках и совершенной
реальности, и чуть заметно просвечивающей сквозь
реальность притчи. Конец перекликается с началом: король
и три его дочери шли по дворцу — начинался раздел
государства; короля и трех его дочерей несут по развалинам
государства. Шут, с которым король забавлялся в
начале,— мальчик в собачьей шкуре, вывернутой наизнанку,—
оказался и последним, кто проводил его, единственным, кто
его оплакал.
Мне жалко было потерять шута в середине пьесы. Олег
Даль помог мне еще больше полюбить этот образ.
Измученный мальчик, взятый из дворни, умный, талантливый —
голос правды, голос нищего народа; искусство, загнанное
в псарню, с собачьим ошейником на шее. Пусть солдат,
один из тех, что несут трупы, напоследок пнет его сапогом
в шею — с доропг! Но голос его, голос самодельной
дудочки, начнет и кончит эту историю; печальный,
человеческий голос искусства.
Пожалуй, такой кадр мог бы быть и последним, но
Шекспир кончает историю Эдгаром. Мы репетируем с Лео
Мерзином финальные слова.
Из письма к Борису Слуцкому
...Обращаюсь к Вам с просьбой отредактировать
последние строчки Эдгара. Мысль в подлиннике более
глубокая, нежели во всех переводах. Привожу примерный
подстрочник:
Мы должны нести тяжесть печального времени;
И говорим то, что чувствуем, а
не то, что мы обязаны были бы сказать.
Самый старый вынес больше всех; мы, молодые,
никогда не увидим так много и не проживем так долго.
Мерилом дарования артиста всегда были для меня
глаза, а не произнесение текста. Сегодня на съемке Лео
248
Пространство трагедии
Мерзин попробовал сыграть весь текст, не произнося ни
слова. И я узнал в его глазах шекспировскую мысль.
Может быть и зрители прочтут в его взгляде, обращенном
к ним, эти строчки?..
Из письма к И. С. Шапиро
Ленинград, октябрь 1969 года
...Наконец-то я добрался до дома и могу Вам написать.
Эти дни (недели? месяцы?) прошли будто тяжелый сон:
болезни, дикая свирепая погода, непросыхающая грязь по
колено, такая, что ввек ее не отмыть; ужас перед тем, что
уходит, вернее, убегает возможность съемок важнейших
сцен, а если их не снять сейчас же, буквально в эти
считанные минуты,— выпадет снег, слягут надолго больные
артисты, не собрать массовки.
Адомайтис, легко одетый, часами валялся на мокрых,
холодных камнях; Шендрикова, с высокой температурой,
ходила в одной рубахе, босиком; Мерзин играл последние
кадры с воспалением среднего уха, да и я сам, откровенно
говоря, уже плохо держался на ногах.
Перед отъездом я со страхом уселся в нашей
просмотровой комнате: боже мой, что же ожидает меня?..
Как ни странно, из этого наваждения мы, хотя и с
большими потерями, но выбрались. Есть основы сцен,
возможность улучшить досъемками то, что не получилось. Но
сколько еще работы!..
Общие планы поединка (последний день) пришлось
снимать при веселом солнышке. Как случается часто в
Нарве, каким-то чудом вдруг распогодилось, вместо
холода и мрака — голубое небо, ни тучки. А сцена уже снята
в'гумеречные, туманные дни. С трудом собрали в
воскресенье большую массовку — и никакой надежды на
перемену погоды.
Грицюс еще больше похудел (а казалось, больше
уже некуда). Он грозился не снимать, показывал
неведомо кому кулак, и, конечно же, снимали — что было
делать?
Один из кадров (единственный) хоть как-то спас
положение: ветер переменился, дым пошел на площадку, я чуть
не крикнул: «Стоп!» Именно этот кадр позволит нам свести
Пространство трагедии
249
концы с концами: сам дым (с верхней точки) оказался
неразличимым, но по земле проходили тени от него, будто
облака открывали и закрывали солнце. Только бы в
монтаже сошлось.
Адомайтис после каждого кадра с трудом переводил
дыхание, долго шагал по площадке, еще не приходя в себя.
Только так и можно сыграть смерть Эдмонда (вернее,
секунду прозрения до смерти).
Неплох проход сестер мимо пожара, как бы сквозь
войну.
Кадры большой массовки — обращение Лира к людям:
«Вопите, войте, войте!» и пронос трупов еле успели снять.
Что это был за ад! Дождь шел с утра, почти не
прекращаясь.
Промокли плащи, костюмы, нельзя было нигде
отыскать хотя бы кусок сухой материи, чтобы не класть
Ярвета на мокрые доски. Укрыться было уже негде
(декорацию сожгли полностью, даже подсобные помещения);
участники массовой сцены могли разбежаться каждую
минуту.
В довершение бед какой-то любопытный взобрался
на стену крепости и, поскользнувшись, полетел на камни;
«скорая помощь» увезла его.
И все же сняли.
Конечно, нужно было бы дольше удержать мертвого
Лира и Корделию в кадре, ровнее идти солдатам,
ритмичнее двигаться камере. Много грехов. На съемке я был
просто в отчаянии: труднейшие сцены ставились в спешке,
артисты только что с поезда. Потоки дождя. И все-таки
что-то получилось, можно будет доснять крупные планы,
уже в других условиях.
Потом мы снимали герцога Олбэнского (последний
день перед отъездом Баниониса в ГДР, где он играет
Гойю 167) — сразу все оставшиеся кадры из различных
сцен. И наконец, два последних дня — финал.
Тут снег уже пошел по-настоящему. Все завалило, как
на святки. Мы лопатами очищали площадку, и ее опять
засыпало. В лучах света были отчетливо видны
снежинки. Пришлось объединять кадры в единые панорамы,
чтобы не двигать аппаратуру, не тратить время на
перестановки...
250
Пространство трагедии
Из письма Питера Брука
Октябрь 1969 года. Париж
Мой дорогой друг,
я увидел в «Sight and sound» фотографию Вашего
Лира (в том же номере, где помещен и снимок с моего
фильма) 168 и обрадовался, узнав о Вас. Этой зимой мы
снимали в Дании в ужасающих условиях, но натура
Ютландии была великолепна, как и местные жители,
исполнявшие эпизодические роли, и, конечно же, много радости
доставили мне отличные артисты.
Мы стремились к грубому, плоскому, двухмерному
изображению (белому и черному), стараясь избегать, где
только возможно, исторических деталей. Нам хотелось
создать совсем простую картину, действие которой, однако,
происходит-не вне времени (что в кино невозможно), но где
быт обуславливался бы прежде всего климатом. Таким
способом мы создали нечто вроде
лапландски-эскимосского мира, который сам по себе неисторичен: эскимосы,
условно говоря, пользуются одними и теми же
необходимыми им предметами в течение последнего тысячелетия.
В формах такого реализма мы нашли схожесть с
противоречиями литературного стиля самого произведения.
В итоге у нас получилась примитивность и грубость жизни;
Англия раннего средневековья как деревенское
королевство.
Теперь, работая над монтажом, мы ищем особой
прерывистости действия, чтобы преодолеть условность
структуры пьесы... В итоге мы безжалостно сокращаем все
больше и больше текста. Фильм сперва длился три часа,
потом я довел его до двух с половиной; несколько недель
назад он шел два часа с четвертью!
Судя по всему, что мне известно о Вашем замысле, мы
оба хотим рассказать историю, которую мы оба понимаем
одинаково; только способы, которыми каждый из нас ее
рассказывает, различны, как различны и культуры, внутри
которых мы трудимся...
Интересно задумывать фильм, вчитываться в текст,
потом забывать о нем и, читая другую книгу, или слушая
радио, или увидев что-то в новом для тебя месте, вдруг
вспомнить свое главное дело и открыть в наизусть выу-
Пространство трагедии
251
ченных словах другой смысл, иное действие. Или, уловив
лишь отдельную черту, восстановить по ней жизненные
связи так, что эти люди окажутся как бы вблизи и можно
пристально разглядеть их.
Интересно работать с артистом, следя за его взглядом
(близко ли ему то, что ты предлагаешь? или нужно
настроить его на другой лад?), стараться понять его духовную
природу, отличную от природы другого артиста; ощутить
это различие струн, к которым нужно по-особому
прикоснуться, чтобы вызвать ответный звук.
...И когда Шостакович неторопливо снимает пиджак,
вешает его на сп-инку стула и подходит к роялю. «Вы
только извините меня,— говорит Дмитрий Дмитриевич, как
всегда,— я уж вам как-нибудь одной рукой сыграю, тут
дело в оркестре».
...И когда после долгих поисков натуры выходишь на
нагромождение камней, которое кажется тебе несомненно
похожим на проклятия Лира.
Но ужасны съемки. Удача, если выпадет час, когда ты
занят своим делом. Когда в движении камеры, в
расположении людей в пространстве реализуется пластическая
идея и удается схватить на лету духовное движение
артиста. Все ускользает на съемке, теряет нужную форму из-за
тысячи ничтожных причин; не перечислить всего того, что
против тебя, против картины, бороться, с чем можно, не
воодушевлением или умением, а лишь упорством. Вот
почему в последние минуты рабочего дня часто ощущение
неудачи: вышло не так, как могло бы выйти, как должно
было бы выйти.
Между выстраданным и вымученным в искусстве —
огромное различие. Выстраданное завершается покоем,
вымученное — нервозной суетой, клочковатостью формы.
24
Из письма к Д. Д. Шостаковичу
Декабрь 1969 года
Дорогой Дмитрий Дмитриевич!
Пока наше громоздкое хозяйство перебрасывается из
252
Пространство трагедии
Эстонии в Ленинград, у меня появилась возможность
передохнуть и задуматься над дальнейшим,. Большая часть
фильма снята, осталось несколько павильонов и ранней
весной — кадры натуры. Главный труд теперь в монтаж" -
ной, и уже определяются места, где должна быть музыка.
Я не раз пробовал изложить ее план на бумаге, но когда
дело касается «Лира», многое словами не объяснишь.
Попытаюсь это теперь сделать, но заранее прошу меня
извинить за неточность определений.
Общие соображения. Место и характер музыки —
лные, нежели были у нас в «Гамлете». Никакой стилизации
под старину. Язык современного искусства, которым Вам
хотелось бы говорить о современном мире.
Большие темы зарождаются далекими отголосками,
задолго до того, как они принимают отчетливую форму.
Что-то слышится в воздухе: гул, тревожное дыхание, ход
времени.
Через трагедию проходит зов. Вначале это обыденный
звук. Идут нищие, бродяга трубит в рог: хриплый,
протяжный звук, самый элементарный. Но потом зов
повторяется, и на него откликаются герои. Они покидают мнимую,
иллюзорную жизнь, которой прежде жили, и
присоединяются к большинству людей, к горю, нищете. Это — зов
жизни.
Есть у нас и зов смерти (совсем короткий, 10—15
секунд). За мгновение до нее ощущение необычайно
сильное — приближающегося неотвратимого конца. Миг
осознания итога жизни.
Самый большой музыкальный эпизод — война. На
экране мы стремились показать безумие, хаос,
уничтожение. Но музыкальную тему хотелось бы связать не с
гибелью или разгулом сил разрушения, а скорее со скорбью,
человеческим страданием, которому нет края. Не какая-
нибудь отдельная жалоба, а горе народа. В шекспировском
масштабе — плач самой земли. Может быть, реквием?
Только не оркестровый, а один лишь хор, и без текста. Слов
у горя нет, только плач: плачут женщины, дети, мужчины.
Музыки, впрямую связанной с действием, совсем мало.
По пьесе, когда Лир пробуждается после болезни,
Корделия и врач дают знак музыкантам. Мы заменили
музыкантов шутом; он блуждал вслед за своим хозяином
Пространство трагедии
253
и оказался во французском лагере. Теперь ему велят
подойти поближе, сыграть что-нибудь на своей дудочке.
Мотив может быть тот же, что его песенки.
В конце фильма — полное разорение страны, которую
король хотел осчастливить. Солдаты несут мимо развалин
трупы короля и его дочерей; только один человек
провожает их — измученный, еле держащийся на ногах шут; он
воет, как собачонка; чтобы успокоиться, он достает по
привычке свою дудочку. Пожарище, трупы, в тишине —
еле слышный напев какой-то самой простой и печальной
цесенки. По душе ли Вам такой финал?..
Есть у нас и музыка, которой небольшой оркестр
(четыре человека) сопровождает обед у Гонерильи. Грациозный,
салонный номер. Под музыку, ласкающую слух,
происходит безобразный скандал: дочь кричит на отца, что тот
превратил ее замок в кабак, отец отвечает ей проклятиями.
Музыка не coпpoвoждaef кадры, а преображает их.
В основных эпизодах она вклинивается в события, как
вклинивались лирические отступления в сюжет «Мертвых душ».
Музыка здесь — голос автора.
Кинематографисты двадцатых годов были молодыми.
Самым молодым из всех был, пожалуй, я — во время
съемок «Похождений Октябрины» мне было девятнадцать
лет. Таким я привык себя чувствовать и позже; следующее
поколение режиссеров было по возрасту старше. И вдруг
вместе с нами работает человек еще моложе меня.
Когда в 1928 году Дмитрий Дмитриевич пришел по
нашему приглашению на киностудию, чтобы сочинить
музыку к немому фильму «Новый Вавилон», у него было
почти детское лицо. Одет он был так, как художники тогда
не одевались: белое шелковое кашне, мягкая серая шляпа;
он носил с собой большой кожаный портфель.
В его комнате стояла простая мебель, книги на
этажерке, в большинстве русские классики. Говорил он
обычными фразами, несколько запинаясь, часто вспоминал
наизусть цитату из Чехова или из Гоголя и сам радовался:
как это здорово, хорошо сказано.
В те годы киномузыка усиливала эмоциональность
ленты или, как тогда говорили, иллюстрировала кадры. Мы
254
Пространство трагедии
сразу же уговорились с композитором, что музыка будет
связана с внутренним смыслом, а не с внешним действием,
развиваться вразрез событиям, вопреки настроению сцены.
Ничего не иллюстрировать, ничему не подыгрывать было
нашей общей программой. В партитуре трагические темы
вторгались в канкан, немецкая кавалерия скакала на
Париж под оффенбаховскую «Прекрасную Елену»; темы
сложно переплетались, меняли интонации от фарсовой
к патетической.
Исполняли эту музыку только несколько сеансов.
Вскоре я увидел репетицию «Носа» в Малом оперном
театре. Под залихватские галопы и ухарские польки
вертелись, крутились декорации В. Дмитриева: гоголевская
фантасмагория стала звуком и цветом. Особая образность
молодого русского искусства, связанная и с самыми
смелыми опытами в области формы, и с городским
фольклором — вывески лавок и трактиров, лубки, оркестры на
дешевых танцульках,— ворвалась в царство «Аиды» и
«Трубадура». Бушевал гоголевский гротеск: что здесь
было фарсом, что пророчеством?
Невероятные оркестровые сочетания, тексты,
немыслимые для пения («И чего это у тебя руки воняют?» — пел
майор Ковалев; исполнялся и романс на текст, сочиненный
Смердяковым); непривычные ритмы (сумасшедшие
ускорения — избиение Носа в полицейском участке, под хор:
«так его! так его! так его!»); освоение всего того, что
прежде казалось антипоэтичным, антимузыкальным,
вульгарным, а было на деле живой интонацией, пародией —
борьбой с условностью. Литература уже давно научилась
ценить некнижное слово, живопись — силу реального.
Это был очень веселый спектакль.
Из письма Д. Д. Шостаковича
Декабрь 1970 года. Курган
...Дудочку шута я сочинил заново. Я решил, что
использовать его песни не нужно. Дудочка должна быть
очень печальной...
Я часто слышу от Дмитрия Дмитриевича одно и то же
слово:
Пространство трагедии
255
— В исполнении песен (бедного Тома) нужна
некоторая печаль.
— Вот «встреча Лира и Корделии»: это будет
печально.
— Финал (дудочку шута) я переделал: так будет еще
печальнее.
Говоря о музыке, Дмитрий Дмитриевич пользуется
простыми, обыденными словами; лексикон эстетики ему
чужд. Риторика (даже намек на нее) заставляет его
морщиться. Возвышенные слова об искусстве причиняют
ему почти физическую боль — на лице появляется
мучительно-брезгливое выражение, будто он прикоснулся к
чему-то гадкому. Все хотя бы немного неестественное
воспринимается им как оскорбительно-фальшивое.
Мне никогда не удавалось выслушать от него сколько-
нибудь связной критики, хотя я часто просил его об этом.
Он воспринимал фильм (даже в черновом монтаже)
целиком, доверяя своему ощущению. Судить по отдельности
недостатки и достоинства ему не только не хотелось, но,
видимо, сам такой подход к искусству ему неприятен. Если
что-нибудь ему не по душе, он говорит об этом в краткой
форме и переходит на другую тему. Он неизменно
доброжелателен. О неудачах людей, к которым хорошо относится,
он говорит осторожно, мягко. Но говорит.
Контраст замкнутых помещений и бескрайних земель,
тяжести каменных глыб и движения облаков, нищих
крестьянских огородов и моря — создает пейзаж трагедии.
У трагедии есть и голос: целый мир природы вовлечен
в диалог. Тучи произносят монологи, железо и огонь
говорят с людьми.
Я слышу эти голоса впервые в зале, где до революции
был театр варьете со столиками. От былого великолепия
остались гипсовые гроты, лепка на стенах. Этот зал служит
и гардеробом — пальто и шапки навалены прямо на
стулья. Беспорядочный шум: шутки и перебранка
(обычные на киностудии) вместе со звуками настраиваемых
инструментов.
Общее движение, замолкают разговоры. Завтраки и
газеты отложены в сторону. Смычки дружно стучат о края
пюпитров.
256
Пространство трагедии
Дмитрий Дмитриевич, помолодевший, позабыв про
болезни, занят делом: обнаружились ошибки при
переписке нот, необходимы купюры — номер длиннее, чем нужно.
Дорога от стула, на который он присаживается на минуту,
к дирижерскому пульту совершается много раз, быстрыми
шагами.
Разговор Лира с небом.
— Вы думаете, я плачу? — на экране Лир подымает
глаза к небу.— Я мог бы плакать,— продолжает он, не
получив ответа,— но на тысячу частей порвется сердце,
прежде чем я заплачу.
В кадре медленно появляется темный край тучи.
Надвигается чернота, и вместе с ней возникает звук. Звук тянется
еле слышно, вместе с движением тучи усиливается, не
различить инструментов, нет музыкальной фразы — одно
только разрастающееся звучание, лишенное
материальности, надвигается вместе с чернотой, набирает силу и, когда
экран поглощен тьмой, лязгает оглушительным ударом
железа.
Всего лишь одна нота «фа».
— В «Гамлете» у нас была тема Офелии,— слышу
я утром по телефону знакомый голос,— почему бы теперь
не написать Корделию?
Но в «Лире» мне не хотелось бы слышать темы героев.
— Хорошо,— не спорит Дмитрий Дмитриевич,— тогда
найдем место для контрастного материала: мрачных,
тяжелых номеров уже много. Нужна, проще говоря, тихая
музыка. Голос зла (буря) у нас есть, пусть будет, что ли...
голос добра.
— Голос правды,— предлагаю я,— можно
продолжить чувства и мысли бедного Тома (лучше быть
презренным нищим, чем вынужденным лгать).
Мой собеседник немедленно, охотно соглашается.
Вскоре мы записываем номер.
Мне не терпится скорее смонтировать сцену. Теперь
вместе с музыкой она, конечно, станет более сильной.
Е. А. Маханькова — ассистент по монтажу, с которой
я работаю много лет, разложила на столе кадры бедного
Тома (на фоне крестьянских полей, пугала), звуковую
пленку, на которой красным карандашом написано: № 8,
Пространство трагедии
257
«Голос правды». Мы находим место начала музыки, и,
предвкушая удовольствие, я иду в просмотровый зал.
Ничего не вяжется, не клеится. Монолог в
сопровождении музыки трудно слушать, сцена, казавшаяся удачной,
разваливается на части.
Целый день мы пробуем сочетания изображения и
звука. Переставляем порядок кадров, сокращаем и
увеличиваем метраж, меняем места вступления музыки.
Напрасный труд. Ничего не получается. Что-то резко отличное,
внутренне несовместимое заключено з изображении и
звуке. Такого еще никогда не случалось: чувство
происходящего на экране у Дмитрия Дмитриевича совершенно точно.
Что же делать? Отказаться от прекрасной музыки, да
еще той, где отчетливы интонации «Лира»?.. Нужно искать
какие-нибудь иные места, пробовать новые монтажные
связи. Монолог бедного Тома откладывается в сторону.
Для опыта берем первые попавшиеся на глаза кадры, ну
хотя бы Корделии. Место начала музыки? Любое.
И сразу же, в этом случайном, ощупью найденном
сочетании, музыка не только слилась с изображением —
сцена, которую я видел много раз, изменила характер. Что-
то новое, значительное открылось в нашей героине.
Шостакович написал внутренний свет Корделии, и все
в кадрах преобразилось. Так на портретах Рембрандта
одухотворены не только глаза, лица, но и ткань, из которой
сшито платье; сам воздух мерцает, живет, и этот трепет
цвета и есть главное — победа над грубостью материи
(загрунтованный холст, краски), над смертью (что
осталось от купцов, их жен, от самого художника?), над всем
плоским, ограниченным. Вместе с Корделией теперь
появился на нашем экране трепет добра, свет правды. То, что
не уловить словами, не сыграть и талантливой артистке,—
сама поэзия образа вошла в ткань кадров, преобразила их.
Однако почему же эта поэзия так резко не совпадала
с образом Эдгара — бедного Тома? Ведь и в нем сильны
мотивы правды и добра? Что же отличало, отделяло
музыку от духовной жизни героя, не позволяло изображению
и звуку слиться? Дать точный ответ трудно. Мне
показалось, что «голос правды» был у Шостаковича женским.
Наверное, когда Дмитрий Дмитриевич говорил со мной по
телефону об этом номере, он уже слышал Корделию.
9 Г. Козинцев, т. 4
258
Пространство трагедии
Перед смертью Лир вспоминает голос младшей дочери.
Можно по-разному перевести на русский язык low; в
словаре множество значений: нежный, тихий и т. д., но
первое — низкий. Я искал артистку, в голосе которой были
бы низкие ноты, покой. «Голос правды» начинался с
глубоких и низких звуков смычковых инструментов.
Иным, ничуть не похожим был голос Офелии. Он
нашелся не сразу. Маленький номер (урок танцев, первое
появление дочери Полония) должен был исполняться на
гитаре, потом Дмитрий Дмитриевич предложил сыграть
его на скрипке и рояле. Затем, на новую запись, по его
просьбе, привезли из музея музыкальных инструментов
челесту. Тогда стали слышимыми хрупкость,
искусственность Офелии, нежность, обреченная на гибель.
Иногда на удачных записях Шостакович говорил, что
напишет на основании этих номеров симфонию. И никогда
не писал. Сюиты, с его разрешения, составляли другие
музыканты. Ощущение изображения было у него
настолько органичным, что, вероятно, отделить от него музыку
становилось уже трудным. Только некоторые мотивы
имели продолжение в других его сочинениях (дудочка шута).
В 1940 году он написал музыку для поставленного мною
спектакля «Король Лир». Но ничего из нее не было им
использовано для фильма. То же случилось и с музыкой
к «Гамлету». Когда на нее поставили телевизионный балет,
все пошло вразброд. Балетмейстеры различали темпы, но
не смогли услышать мысли.
Слова в поэзии только предваряют (или заключают)
духовное движение: моменты молчания иногда бывают
содержательнее строчек. У Шекспира, что ни шаг, выход
на беззвучный простор. Гордон Крэг и Пастернак это
понимали.
Чтение — бесконечный прерывистый процесс, это
задержки, чтобы воспринять сигнал, неуловимый знак: ход
за текст, в сторону, в глубину — к перекличке значений.
В пробелах между строчками, на полях страницы
проступают следы жизни. Нужно перевести дыхание и вернуться
к тому же месту, вчитаться, а потом отложить книгу
(иногда надолго) и неожиданно вспомнить только знак,
ощущение, и опять читать, перечитывать, находить там.
Пространство трагедии
259
где прежде были только слова, множество лиц, движений,
мыслей.
По-одному читается книга, по-другому смотрят пьесу.
На сцене нельзя застопорить ритм, поток текста. В кино
процесс чтения повторяется во время монтажа.
Кинематографическое действие (в отличие от театральной
мизансцены) — непрерывные задержки, переключения хода
со слов на безмолвие, с текста — на пробелы, поля
страницы. На монтажном столе собирается не
последовательность рассказа, а духовный мир автора. Поэтому
отступления от сюжета часто важнее поступательного хода
событий. Нужно застопорить действие, чтобы дать простор
мысли. События можно потом догнать на ходу, вдвинуть их
в монтажный ряд, на новой их стадии.
Последний акт — смещение планов: судьба людей и
судьба мысли. Несколько фраз Эдмонда в конце — кто их
слышит в театре? Уже Лир за кулисами поднял на руки
труп дочери,— кому дело до раскаяния злодея, его
желания сделать напоследок добро, «наперекор собственной
природе»?
Но здесь, на монтажном столе, дело до всех. Когда все
голоса станут отчетливыми, будет понятным, о чем говорит
один голос — автора.
К последним строкам мы ведем роль Эдмонда. Не
к строчкам, конечно, к духовному краху. Рухнули не
планы: главная мысль оказалась несостоятельной. Культ воли
и силы привел к бессилию и трусости.
Надо их оставить под конец вдвоем, человека и его
главную идею. Идея обернулась пустотой, ничем, дырой,
куда он сейчас провалится. Тогда не монолог, а диалог:
человека и возмездия. Странный диалог: глаз и пустоты,
человека и ямы, которую он сам себе вырыл; вот она, разом
разверзлась перед ним.
Яма разверзлась в звуке. Мы записываем № 10 «Зов
смерти», 11 секунд — для малого состава духовых
инструментов. Дирижер поднял палочку, и обрушился медный
удар; черная крышка прихлопнула, звук оборвался.
Тишина. Не успеть перевести дыхания. Все. Из-за этого
строились хитрые планы, лгали без меры, убивали без числа.
Мы готовили этот диалог (пока без партнера) с первых
репетиций так, чтобы здесь — на последнем крупном пла-
9*
260
Пространство трагедии
не — сыграть итог, крах бесчеловечной идеи,
шекспировскую диалектику борьбы за власть.
Зов перед смертью слышал у нас и герцог Корнуэлский.
Александр Вокач отлично сыграл это мгновенно
наступившее оцепенение, чувство пустоты, меркнущего света. Я
хотел, чтобы и старшие сестры слышали тот же зов, но места
для их крупных планов не нашлось.
Музыка вела диалог с героями, меняла выражение их
глаз. Площадь действия сразу расширялась и
углублялась, хотя на экране было одно только лицо. Без музыки
эти кадры потеряли бы смысл. Мы стремились показать,
что земля, по которой ходят артисты,— обычная земля, и
обстоятельства действия реальны. Но вместе с музыкой
над ней появлялись «боги, беды, духи, судьбы, крылья,
хвосты». Можно сказать и проще: купированные метафоры
и гиперболы возвращались в ткань произведения.
«Войну» Дмитрий Дмитриевич, очевидно, не сочинит;
он просит меня обойтись уже написанным. Придется
обойтись, повторить какие-то части «бури», смешав на
перезаписи музыку с шумами, или оставить одни шумы. Я
убеждаю себя, что так будет даже строже. Пусть и звук в нашем
фильме будет сухим и горьким.
Звукооператор Э. Ванунц устраивает целую кухню
ведьм. Звуковики колдуют со своими инструментами, одни
топают по доскам ногами, другие бросают камни в
металлические тазы, бьют стекла и трясут листы железа. Мы
прослушиваем шумовые пленки: треск пламени
(множество вариантов), вой ветра, какой-то скрежет неясного
происхождения, от которого мороз идет по коже, буханье.
Во дворе «Ленфильма» уже несколько часов не могут
снимать, такой грохот несется из окна нашей монтажной.
Накануне отъезда Дмитрий Дмитриевич неожиданно
говорит мне: «Я все-таки попробую сочинить хор».
Утром приносят партитуру «плача».
Несмотря на то, что номер длится четыре минуты,
Шостакович опять приезжает из Москвы на запись.
Теперь я понял, почему в «Лире» столько плачущих
лиц, отчего так часто плачут в трагедии разные люди, даже
Пространство трагедий
261
суровые мужчины рыдают, обливаются слезами, теряют
сознание от сострадания. Чего только не значат здесь
слезы? Корделия плачем вымаливает войско у
французского короля; слезы воюют, слезы способны исцелить, и они
пробуждают стыд, совесть; они жгут, как капли
расплавленного металла. Все это есть в репликах, тексте, который
я вымарал потому, что не знал, как поставить такие сцены,
как актерам их сыграть.
И теперь я этого не знаю. Но теперь я знаю — после
того, как услышал «плач», сочиненный Шостаковичем,—
что нельзя высушить эту шекспировскую влажность горя,
оставить лишь один вкус — полыни. Нет, я не согласен
с блоковскими словами. Не только «сухо и горько». Мне
приходит на память описание Бабелем игры итальянского
трагика Ди Грассо, который потряс зрителей, «каждым
словом и движением своим утверждая, что в исступлении
благородной страсти больше справедливости и надежды,
чем в безрадостных правилах мира» 169. Здесь существо
дела: не в правилах (XlX века или XX, романтизма или
театра жестокости), а в справедливости и надежде.
Крик горя, прорывающийся сквозь немоту лет, сквозь
глухоту времени, должен быть слышен. Мы и фильм ставим
для того, чтобы его услышали.
«Плач» был написан в форме девяти отрывков,
разделенных паузами, у каждого — свой тембр, интонация.
Дмитрий Дмитриевич дал мне возможность менять их
последовательность, повторять какой-нибудь отрывок
несколько раз, использовать их по отдельности. Это была
не музыка для кино, а само кино: основная его плоть,
элементы монтажа, кадры.
. Девять новых кадров вошли в фильм, девять массовых
сцен. Нет, это совсем не походило на хоровое пение. Хор,
в его древнем значении — действо, занял свое место в
трагедии. Родовая община, оплакивающая погибших,
подняла голос. Там, где вырывались на волю, бушевали силы
ненависти и безумия — демоническая стихия трагедии,—
креп этот голос; горе роднило людей, сплачивало их, росла
община, теперь она охватывала человечество.
Театральная условность, структура пьесы не позволяют
показать на сцене всю полноту жизни, схваченную поэ-
262
Пространство трагедии
зией: о многих событиях говорится в прошедшем времени,
скороговоркой информационных реплик. В кино есть
возможность задержаться: всмотреться и в глаза людей,
и в расширяющуюся панораму событий.
Монтаж — отличный способ исследования
поэтического устройства. Действие разомкнуто, разъято на части,
элементы. Каждое движение можно проследить по
отдельности, связать с другими, продолжить или оборвать.
Вот на стойке монтажного стола катушки пленки; здесь
то, что называют параллельными сюжетами: Лир —
дочери, Глостер — сыновья. В пятом акте линии сходятся. Но
разве только эти истории сливаются? Сколько других
отцов и других детей — беженцев, погорельцев, солдат —
втянуты в катастрофу, будут убиты, разорены, измучены
лишениями?..
Как показать в единстве монтажного ритма это
множество движений?..
Я представляю себе железнодорожные пути, подъезды
к огромному центру, рельсы — параллельные, сходящиеся
и расходящиеся в разные стороны. Какой-то сошедший
с ума диспетчер сломал пульты управления дорогами й дал
по всем светофорам зеленый. И, как в старой
кинематографической ленте, несутся на всех парах поезда, кочегары
швыряют уголь в топки, качаются от скорости вагоны,
полные пассажиров. Но никто не разводит стрелки, и
паровозы мчатся навстречу друг другу, чтобы столкнуться,
рухнуть под откос — груды обломков, покореженного
железа, исковерканных тел.
В отличие от театральной мизансцены,
кинематографическое действие может начаться разом, одновременно во
многих точках. Условно говоря, занавес сразу подымается
на нескольких сценах; на площадках, как в средневековых
мистериях, есть и земля, и ад, и чистилище. Действие
происходит и в реальности, и в отвлеченном пространстве.
И как раз это, смена ракурсов — не только точек
зрения кинокамеры, но и поэтических значений, может
быть открыто именно в кино. Трагическая поэзия (а не
пьеса!) вся в таких сменах; на их конфликтах должно быть
построено и действие на экране.
В последнем акте есть и совершенная реальность,
и притча, и гибель мира, и низкие будни. И кипение жизни,
Пространство трагедии
263
и полная от нее отрешенность. Я хочу показать различия
поэтических планов, но сделать это так, чтобы границы
между ними не были заметны, чтобы швы не выходили
наружу. Стремительность действия не позволит
вглядываться по отдельности в композиции, пластику,
вслушиваться в звуки — характеры всегда в развитии, их связи
непрерывно меняются.
Приходит к концу история Глостера; встретились не
только лорд, которому выкололи глаза, и его наследник,
ставший нищим, но отец и сын. Всякий отец и всякий сын.
Теперь они простились. На мертвой земле вырос холмик.
Эдгар сломал посох, связал обломки крест-накрест. И —
все. Никого и ничего: Эдгар — бедный Том тоже никто,
ничто. Нагой человек на земле, где не растет ни травинки.
И тогда в сухую геометрию изображения входит
звенящий, влажный звук: голос слез.
Я пробую стыки кадров и «плача»: в действие
врывается действо. Мне нужно смонтировать изображение и звук
так, чтобы хор вступил в диалог с Эдгаром. Хор
спрашивает Эдгара: разве не пора тебе идти?
Эдгар слышит голос хора, он подымается с колен, идет.
Вместе со звуком (усиление громкости) меняется угол
зрения, мертвая, пустая земля уходит за кадр, открывается
жизнь, реальность: дым пожарищ на горизонте, далекая
дорога, всадники шпорят коней — идет бой. Эдгар
спускается по дороге, вниз, в мир: нужно жить и нужно убить.
И сразу же тот, кого он должен убить, идет во главе
войск. Горят деревни: Эдмонд приказал их поджечь.
Пространства сближаются в чередовании кадров:
Эдгар и Эдмонд идут навстречу друг другу. И вместе с ними,
захватывая все большую площадь действия, врываются
в мир железо и огонь. За Эдмондом — военная мощь, силы
уничтожения; за Эдгаром — разоренная страна,
человеческое горе.
Это история братьев, но в нее, контрапунктом, входит
история сестер: Регана ревнует Эдмонда к Гонерилье.
И теперь — через войну — идут, выслеживая одна другую,
две ошалевшие от ревности бабы.
Мы развиваем в монтаже мотив огня: горящую смолу
льют со стен крепости, вспыхивает солома на крышах,
загораются амбары, скотные дворы: черные быки, как духи
264
Пространство трагедии
разрушения, вырываются из пламени. В городе, только что
взятом штурмом, Гонерилья находит Эдмонда, любовная
сцена подле лошадиной падали, на фоне горящего города.
Уже нет ни домов, ни людей. Одно только пламя бушует на
экране.
Чем чернее дела, тем чище голос слез. Мы выбираем
места хора, где звучат только высокие, самые чистые
голоса: плачут матери. Хор спрашивает: душегубы, что вы
делаете?
Теперь этот звук должен быть во всю мощь, лязг
железа бессилен заглушить человеческий голос. Чем
сильнее пробуют его подавить (на перезаписи мы включаем
и шумовые пленки: треск огня, грохот разрушения), тем
чище он слышится.
И уже ничего нет, кроме хора.
В конфликте изображения и звука, хаоса шумов и строя
музыки — особый смысл: злодейству, по самой его
природе, нужно заглушить, оглушить — Корделию велено
прикончить втихую, чтобы крика не вырвалось, чтобы никто не
услышал стона. Чем они опасны, Лир и Корделия, безо:
ружные люди? Тем, что могут разжалобить солдат, говорит
Эдмонд. Нельзя, чтобы пожалели. Жалость — угроза,
опасность.
Шостакович пишет жалость как силу. В скорби его
«плача» заключена такая полнота чувства, что возникает
вера: минует лихое время, не может не миновать, если
подымается такой голос.
Нет для меня проблемы музыки в кино. Какая она
должна быть — симфоническая, электронная,
додекафоническая, или же она вовсе вышла на экране из моды? —
не берусь судить. Не знаю, бог его ведает. Не думал об
этом.
Иное дело музыка Шостаковича, тут мне и размышлять
нечего: без нее, как и без переводов Пастернака, я
шекспировских картин не смог бы поставить. Что кажется мне
в ней главным? Чувство трагизма? Важное качество. Но не
только трагизм... Философия, обобщенные мысли о мире?
Да, разумеется, как же «Лир» — и без философии...
И все-таки другое свойство — главное. Качество, о
котором и написать трудно. Добро. Доброта. Милосердие.
Пространство трагедии
265
Однако доброта эта особая. Есть в нашем языке
отличное слово: лютый. Нет добра в русском искусстве без
лютой ненависти к тому, что унижает человека. В музыке
Шостаковича я слышу лютую ненависть к жестокости,
культу силы, угнетению правды. Это особая доброта:
бесстрашная доброта, грозная доброта.
Пора заказывать надписи. Мне приносят фоны для
титров: грозовые облака. Нет, буря у нас вовсе не главное.
Новое предложение: мрамор, буквы, высеченные на
мраморе.
Как раз этого — торжественности, внешней
монументальности — мне и не хочется. Именно с таким тоном мы
спорили.
Ну а если пробовать совсем в ином, противоположном
направлении?.. Я прошу достать кусок старой дерюги. Нет
хорошей фактуры? Ну хорошо, какую-нибудь
прохудившуюся мешковину или дырявую портянку из костюмов
массовки. И написать на ней корявыми буквами, так, чтобы
и тени стиля не было: «Король Лир». И увертюры не надо.
Пускай воет в тишине печальная самодельная дудочка. '
Неужели это уже конец постановки?
Записи по фильму «Король Лир»
1957—1971
20 IV 57. «Король Лир». Фильм.
Все ставить ради последней фразы Лира, обращенной
к зрительному залу: «Люди, вы из камня!»
А если такое начало: панорама по огромным каменным
обломкам. Память какой-то древней эры. Типа
Бахчисарая. Огромный камень, вросший в землю. Обломки
превращаются в замок. Глыба — в лицо старого короля.
Начало с думы. Долгой его думы. А пока он думает — идут
придворные, жизнь замка.
Исходная точка все же: философия. Опыт познания.
Итог мудрости.
Прокаженные идут по пыльной дороге. Передний
звонит в колокольчик.
«Слепцы» Брейгеля.
Калеки, обрубки тел. Культяпки, рвань средневековья.
Колодники. Бродяги.
3 V 57
До бури не нужно выносить много сцен на натуру. Лир,
как говорится, натерпелся, ожидая в приемных. Он
повидал как следует быть плотно запертые двери и
непроницаемые лица секретарей.
Нужно со всей жизненной, современной
реалистичностью показать, как его «не принимают».
Центральное место — во всю железку! — вовсе не
крики во время бури — в начале акта, но двуногое животное.
Записи по фильму «Король Лир>
267
Это высший шпиль (как в «Гамлете» монолог о человеке).
Нужно в начале играть обожравшихся благополучием.
Глостер — толстый, обтекаемый. Фамусов.
Шут. Юродивый. С лицом Джульетты Мазины в
«Дороге». Юродивый-мудрец, дурак-мудрец, а вовсе не профкло-
ун с песнями и танцами. И такие же песни и пляски
психа — бедного Тома. Но не блаженненький, а злой
юродивый, из тех, в кого дети швыряют камнями. Озлобленный,
И чтобы не было никакой сентиментальности отношений
к Лиру. Вся суть в том, что здесь любовь через
озлобленность. Вначале эта озлобленность — предмет для
издевательства.
Здесь все в радищевской шероховатости, колючести,
а не в эстраде.
25 IX 57 Комарово
22 июня 1964 Комарово
И все-таки, вероятно, нужно снимать «Короля Лира».
Тоже моя тема, нужно же ее доделать: власть, поиски
правды, время и человек. Совесть, без которой не прожить.
Явные выигрыши в кино: начало — общественное
празднование, служение лжи и лести. Все переходят в
театральный зал. Рассаживаются. Оркестр исполняет праздничную
увертюру.
А что если в начале — сгустить тональность (загорелые
лица, седые бороды) до иконописной (см. Древнерусская
монументальная живопись. М.— Л., 1964. № 42. Пророк
Давид. 1108 г.). Лица из Спаса на Нередице в Новгороде.
И на таких же фонах, фресках.
Темная, напряженная тональность. Феофан Грек.
Лир и Корделия. См. «Оплакивание Христа» Микел-
анджело. Вообще Пиеты. А может быть, здесь ее
лицо со слезами, как у Педро де Мены. Люди, вот на что вы
способны!
268
Записи по фильму «Король Лир»
Здесь летопись крови и огня. См. эту летопись у Гоголя
(«Страшная месть»).
В Глостере и сыне — «Отцы и дети».
Шенберг. «Моисей и Аарон». Так — с шепотами толпы
и выкриками инструментов — строить внутренние
монологи.
Ужасающее открытие для религиозного человека:
икона — кусок дерева; одна сторона загрунтована, покрыта
красками. И все.
Обожествление — трагедия и для человека и для
народа.
Начало «Короля Лира» — выражение прежде всего
этого положения. Человека обожествили. И он сам
поверил: я бог.
Установлен ритуал. Вблизи его нельзя видеть; около
него — лишь самые приближенные. Потом — сто рыцарей;
образ действующий, важный для героя и для событий. Сто
рыцарей — стена, ограждающая короля от народа. Потом
стена становится ниже; затем — она уже не сплошная.
Еще событие: стены нет.
Миф рассеялся. Бог — человек, такой же, как все.
Старик с дурным характером.
VII 1965 г.
Младшая дочь, воспитанная на свободе, диковатая,
строптивая. Ее воспитало море, скачка на неоседланных
конях.
Это характерная роль, а не «героиня». Ничего
величественного нет. Совершенная естественность. «Мужичка».
Что-то от исступленного правдолюбия Жанны д'Арк у
Дрейера.
Все время внутренняя, порывистая жизнь.
Хорошо бы найти место для бешеного бега босоногой
девушки навстречу ветру.
Записи по фильму «Король Лир»
269
Безусловно «воительница».
X 65
После отречения Лир спускается вниз. Это важный
образ. Он правил, отгороженный множеством стен, постов
от обыденной жизни: она внизу — огромное плоское
блюдечко земли. Лир идет по ней как иностранец — пашут
землю, тянут невод: «Что это значит? Как интересно...»
Эдмонда делать по Ницше — белокурая бестия.
Геркулес с лбом в два сантиметра.
Каким свойствам духовной жизни образа должно
отвечать существо актера на роль Лира? Двум крайним:
способности к совершенному очерствению и способности
к глубине страдания.
Шекспировский перегиб палки в обе стороны: деспот
и мученик.
24 X 65
С самого начала в способе актерского выражения
должна быть одна черта, несколько выводящая стиль за
пределы реальности, обыденности. Есть у всех — в
застывшем в глазах страхе — грань безумия. На этом корабле
дураков все немножко тронутые.
В молодости — ив «Шинели» и даже в «Максимах»
(сцена с Ропшиным, анархисты и т. д.) — было у меня
всегда видно прошлое, воспитанника левого искусства.
Не дай бог, чтобы я стал «академиком», «старой
райской птицей».
«Побольше жизни! — и все тут. Чего еще мудрить...»
. Ужас какой, если так будет!
11 И 65
Выстроить всю систему космических
образов,.консультируясь с астрономами.
270
Записи по фильму «Король Лир>
Буря — не ветер, а кадры, снятые в космосе (см. съемки
космонавтов, астрономические).
Монтаж 20-х годов. Как вспышки загадочных ртутных
приборов в «Альфавиле».
Попробовать показать узкий вариант на широком
экране.
Бурю нужно ставить вместе с физиками и атомщиками,
а не с отделом комбинированных съемок.
Гигантские молнии.
Бурю на море — заказать оператору на океане.
Для поведения многих действующих лиц — начиная от
Лира и особенно Глостера — важно то, что будущее их
наказание в какой-то мере справедливо. Они — своей
жизнью, неправдой в душе — сделали неминуемым
возмездие.
Иное дело, что карающий меч оказался в руках куда
более плохих людей и кара непомерна.
V 66
Любовь на подкладке ужаса, какая это всегда
непрочная любовь.
Большой соблазн ставить сцены Лира и шута так, как
написал Достоевский разговор Ивана Карамазова с
чертом. Кто знает, привиделась ли такая фигура, была она
бредом, голосом совести или чем еще. Решайте сами.
Во всяком случае, нужно освободить шута от внешней
арлекинады. Скорее уж что-то от зловещих, чем-то
ужасающих эксцентриков нашего века.
Только раз или два в фильме он делает жест, присущий
его профессии.
Это должен быть артист, способный создать свой жанр
исполнения песенок.
Он может появляться впервые из темноты, вдруг
отделившись от стены, как появлялся соглядатай в переходах
к покою Клавдия.
Записи по фильму «Король Лир»
271
В Эдмонде нет ни капли злобы. Хорошо, если бы у него
вообще не было бы чувств. Одна только воля. Человек
вовсе обездушенный. Существо, составленное из
прекрасных мышц и железных нервов.
Это усовершенствованный деятель, человек, начисто
лишенный человечности, даже не понимающий, что такое
зло. Такое может стать совершенно новым типом.
Не забывать: Эдмонд и Эдгар — это Каин и Авель.
Надо не торопясь показать в начале «обожравшееся
благополучие» всех главных героев.
Подробно показать, как все уверены в неизменности
именно такого жизненного порядка и в совершенной
прочности собственного, привилегированного положения.
Как можно медленнее и яснее выразить это. Добиться
неторопливого, тихого, задумчивого тона рассказа. А
потом, разом, все пришло в динамику, события буквально
понеслись. И все рухнуло.
Очень важно именно это: «вдруг» и «разом».
XI 66
Огромные гегелевские образы: порядок, демоническая
сила, тотальный хаос. Мелькнувший миг: мировое добро,
всесвязующая нить милосердия.
Рождение нового мира через страдание. Те, кто
выжили,— прошли через все. И это должно быть видно в самом
их облике.
Был ли Лир хорошим королем или, напротив, злобным
деспотом, неумелым правителем?..
Кто его знает. Он был королем, безграничным
повелителем беспрекословных людей. Добро и зло здесь не те
категории. Он был, вероятно, не первым в роду таких
владык. Важно, что он стал последним из них в этом витке
спирали. Потом, в следующем ее раскручивании, возмож-
272
Записи по фильму «Король Ли"р»
но, появятся (через тысячелетия?) уже в ином обличци его
потомки. Лир — последний из богов своей цивилизации. Ее
существование пришло к концу не потому, что от бога
родились плохие дети, а потому, что богов, как известно,
нет.
Разрыв между существом отношений и их внешностью
стал уж слишком велик. Ничто не может быть крепко лишь
видимостью, противоположной истинному значению
явлений.
Обожествление одного приводит в конце концов к оско-
тению многих.
XII 66
«В окончательном итоге всякое произведение — это
сражение, даваемое условностям, и оно тем более велико,
чем с большей победой выходит из сражения» (Эмиль
Золя) '.
Видимо, шекспировская пьеса для меня — либретто.
Так в балете превращают сочинение автора в танцы и
пантомиму. Это было бы ужасно, если бы не одно
обстоятельство, оно и заставляет меня верить в возможность и такого
способа постановки (очень хорошо узнать пьесу, а потом
как бы про нее и забыть): либретто, по которому я
тружусь,— движение мыслей, раскрывающаяся в действии
философия Шекспира, а не фабула пьесы.
Но пришло время написать этот вариант. Сам не знаю,
что выйдет.
Комарово 4 II 67 г.
Значит, Ян Котт прав? Не столь Шекспир, сколь
Беккет? 2
Нет, не значит. Алогизм — не выдумка Беккета. У Бек-
кета одно из применений его, и как раз то, что не стоит
в одном ряду с шекспировским. У Беккета — покой
осознания абсурда. У Шекспира — противление разума абсурду:
пусть мир переменится или погибнет. У Беккета — комедия
приятия, у Шекспира — трагедия противоборства.
Записи по фильму «Король Лир»
273
Чем больше думаю о фильме, тем чаще возникают
в. памяти цвет и форма Руо. Его глубина и трагическая
религиозность, одновременно театральная и народная;
помесь распятия с клоуном, востока и католицизма.
Бездонная глубина красного, синего и дыр черного.
История с буйством рыцарей — бытовая провокация.
Как только Гонерилья видит какую-то чепуху — есть
повод!
Предлоги объявления войн.
У Реганы — детки. Перед зверскими сценами она их
укладывает спать.
(Самолет, дорога на Японию, 22 II 67)
Разрушенный в щепы мир (Хиросима), а не знакомые
по войне каменные руины.
Дети, которых видит Лир. Образы ленинградской
блокады.
3 III (дорога Хиросима — Киото)
Кажется, самым главным в замысле этого фильма
я обязан книге Бахтина о Достоевском 3. Именно это
исследование прояснило для меня жанр фильма, способ
воплощения, трагедии. Вот он: «карнавал-мистерия».
2 IV 67
Шут — не увеселяющий короля гаер, а юродивый,
блаженный, одаренный даром прорицания. В нем —
«перегибая палку!» — больше от Мышкина, нежели от
скомороха. Часто у него на глазах слезы. Его куплеты — не
выученный номер, а мучительные пророчества,
выкрикиваемые тогда, когда на него находит неведомая сила,
мучительный припадок, во время которого он видит суть вещей.
Комарово 2 V 67
274
Записи по фильму «Король Лир»
Я не умею показывать на экране что-либо, не
кажущееся мне несомненно, неоспоримо жизненным. В Думе
(«Возвращение Максима») я требовал от ассистентов
портретного сходства артистов с подлинными депутатами,
хотя лиц этих людей уже никто теперь не помнил.
Поэтому же мне необходима точность представления
о географии и эпохе действия. Потом все это можно будет
и обобщить, свести к самым общим представлениям. Но
прежде всего мне необходимо знать, по какой местности
проходил Лир, какими были селения, дороги, замки.
Иначе — стиль «фантази», плохой театр.
Суть первого эпизода: то, что должно рухнуть, не
может не рухнуть.
Вырваться где-то из рамок «как в жизни» да
взметнуться черным крылом трагедии, блоковской черной беды,
черного ветра...
Голливуд рассиропил святое писание, Семирадский
пускал цветные пузыри в супербоевиках. Но и Пазолини,
стилизовавший евангелиста Матфея 4 со всей тонкостью
вкуса современной Италии, не вернул слогу Евангелия
ярость. Картинки действительно вышли очень красивые,
отменного вкуса, но этот глагол не жег сердца, только
ублажал глаз.
Я прав, считая, что не в кинематографе дело, но без
него — ив самой его энергичной сути — бессмысленно
переносить Шекспира на экран.
Шекспир переходил за уровень поэзии и театра его
времени, владел всем, что было накоплено трудом его
поколения.
Моя задача: продолжить существование героев «Лира»
в современном мире, насытить их жизнь на экране
электричеством современной нам кинематографической энергии.
Записи по фильму «Король Лир»
275
И дело прежде всего в этом, в определенной энергии, почти
мускульной.
Трудность шекспировской постановки еще и в том, что
она после Чехова, Хемингуэя, Моравиа. После того, как
искусство открыло величайшую силу недоговоренности.
У Шекспира стреляют все ружья, подведены все итоги,
развязаны все узлы. Кроме одного — общего итога. Нет
конца этого, отраженного в трагедии, исторического
периода. История продолжается, и время предотвращения новой
катастрофы неизвестно людям.
Однако возвращаюсь к героям: задача — возможное
ослабление договоренности. Играть вопреки амплуа.
Именно здесь искать все побочное, постороннее, что
ослабило бы мелодраматичность и условность некоторых фигур
(особенно сестер).
VII 67
Лир не был безумен. Безумен был мир, где он жил. Но
он был одним из тех, кто создал этот мир.
Внимание к «генетической» теме.
Академик Павлов сказал: «Воплощение в жизнь
научной истины о законах наследственности и поможет
избавить человечество от многих скорбей и горя» 5.
Гены Лира в Регане и Гонерилье.
31 VII 67
Еще раз: фильм стоит ставить только для сцены отца
и дочери, нашедших друг друга, любовь, правду.
Вариант начала.
Земли, моря, горы.
Голос: Ученые, пишущие о Шекспире, не смогли
определить: в какие времена происходят события этой
трагедии.
276
Записи по фильму «Король Лир»
— Может быть, в век, когда жил автор?,.
Лес. Ветер зашевелил листву. Крестьянин идет за
плугом. Медленно плетется женщина, сгибаясь под
тяжестью хвороста.
— Может быть, автор имел в виду древние,
доисторические времена?
Все так же идет крестьянин. В пыли проезжает военный
отряд. Солдаты видны силуэтами, их шлемы похожи на
вооружение 16-го века, но их можно принять и за шлемы
наших времен.
Пастух выгоняет отару овец на гору. Подходит
женщина. Она принесла ему еду.
— Режиссеры иногда переносят шекспировские
постановки в наш век...
Женщина кормит грудью ребенка. Старик идет,
опираясь на палку.
— Но во все времена рождались и умирали. Искали
справедливости. И было горем, когда побеждала
бесчеловечность...
Громкий удар.
Надпись: КОРОЛЬ ЛИР.
Постановки Шекспира, волнующие людей своего
времени, были основаны вовсе не на какой-то отвлеченной
верности автору, а на открытии в старинных пьесах
современного смысла.
«Веянье времени» открывалось и тогда, когда способы
выражения были теми же, что и в других искусствах.
«Гамлет» Акимова был бы прекрасен в 20-х годах.
В тридцатые годы такая постановка уже была безбожно
архаичной. Если угодно, академической.
Наиболее близкий к «Лиру» кадр в мировой
кинематографии — Чаплин в «Диктаторе», жонглирующий
глобусом — земным шаром.
Никак не могу увидеть лицо Лира, лицо старого
человека. Ведь были вот такие лица: Андрей Белый,
Эйнштейн, Эренбург... А то все прет в голову грим — пусть
Записи по фильму «Король Лир»
277
и удачный — для исполнителя роли. Нужно лицо.
Неоспоримо реальное. Подлинно существующее,— хоть кровь из
носа!
Лир не произносит сентиментальные тирады, впав
в детство, а, напротив, он обрел силу, побеждает врагов, он
идет на их мечи и копья, смеется над их бессилием —
невозможностью победить идею.
Слова о счастье в тюрьме — это «А все-таки она
вертится!» — сказанное мятежником всесильному
обществу.
Годар сказал: «...a political film, that's to say Walt
Disney plus blood» 6.
Это не такой уж парадокс, как может сразу же
показаться.
В изобразительном стиле нужен контраст двух миров:
жестокого реализма жизни «бедных, нагих горемык» и
призрачности, морока придворных сцен, кажущихся
фантасмагорическими.
Может быть, контраст можно подчеркнуть и цветом?
Несоединимость, невозможность одновременного
существования этих способов жизни.
Мой способ работы прост: я приучаю мысль, как
охотничьего пса, идти по следу. Все, что читаю, узнаю,—
подчиняю одному: обнаружить след — ход шекспировской
мысли.
А утром мысль сама, без усилия нападает на этот след.
Я ощущаю ритм, слышу интонацию.
Страдание учит человека понять необходимость
близости с другими людьми. Отдельный человек понимает свою
общность с человечеством, историей. Они должны
перемениться или погибнуть.
278
Записи по фильму «Король Лир»
Через трагедию крик: так жить нельзя.
27 VIII
Я хочу спорить с Яном Коттом. Он открывает в
Глостере, падающем на ровном месте и представившем себе, что
он свалился с крутого утеса,— театр абсурда, Ионеско,
Беккета и т. п.
Мой любимый шекспировский режиссер Питер Брук —
согласен с ним. Именно в этом положении он находит
и Пиранделло и Брехта: происходящее на сцене обладает
множеством ракурсов — оно, одновременно, и
совершенная реальность игры и условность сценического положения.
Я не согласен. Как раз в этом — на первый взгляд
условном и даже абсурдном с точки зрения здравого
смысла — положении все кажется мне жизненным. И прыжок
на ровном полу, и вера в то, что человек упал с утеса.
На чем же основана психологическая правда
положения? На силе веры, умноженной нечеловеческим
страданием, и решении умереть.
Но возможна ли такая сила веры?
Да. Вспомним кровоточащие стигмы монахинь. Это
ближе к природе сцены, нежели «В ожидании Годо» 7.
Сцена полна внутренней психологической правды: шок
внезапной слепоты (только вчера он потерял зрение!)
позволяет усомниться в каждом шаге, сделанном в этом
новом для него черном мире. В момент мнимого прыжка со
скалы — близости небытия — от теряет сознание. Когда
он приходит в себя, то слышит новый, для него незнакомый
голос: бедный Том пропал, говорит уже другой человек.
Все неоспоримо правдиво.
Уже отброшены два варианта сценария. Пишется
третий.
А сколько написано первых сцен, проб интонации...
15 IX 67
Я не согласен с Коттом еще в одном: герои трагедии
приходят не к одиночеству, а приобщаются к основной
Записи по фильму «Король Лир»
279
массе человечества. Они проходят обязательную для
большинства закалку горем.
И вовсе не страданием — уделом человека от
рождения,— а страданием, вызванным бесчеловечностью
общества, государства.
Да, они открывают абсурд системы, но отвергают его
разумом.
Как же я тружусь над Шекспиром? В чем существо
моего подхода к трагедии?
Многие сцены, в большинстве случаев написанные
прозой, я пробую ставить так же, как их ставили бы на
сцене, только насытив их жизненной средой, условно
говоря, дав им задний фон и — что куда существеннее —
связав этот фон контрапунктом с первым планом не только
естественными отношениями, но и движением понятий.
Так делались многие сцены Гамлета в Эльсиноре.
Здесь мои представления отличаются от того, что
делали Лоуренс Оливье или Питер Брук.
Однако более значительная часть работы в ином.
Некоторые сцены я воспринимаю — даже страшно
сказать! — как либретто. Именно либретто, а не сценарий. Все
сценарное, т. е. как бы просящееся на экран, мне хочется
или увести с экрана, или же сделать как можно скромнее.
Но, говоря о либретто, я имею в виду не схему событий
и героев, которую нетрудно станцевать или же сыграть
пантомимой, а скорее моралите, притчу, такие, как о
гордыне, власти, о заносчивом разуме и мудрости безумия.
Нужно не только не бояться нелепости,
государственной невозможности такой дележки страны, но показать,
что как раз на такой невозможности (согласно
человеческому рассудку) и нелепости (алогичности) и основана эта
власть старика с деспотическим характером.
IX 67
Августин понимал зло как недостаток добра, т. е.
чувства любви8. Здесь, вероятно, возможность понимания
и отрицательных характеров, да и многого в самом Лире.
■280
Записи по фильму «Король Лир»
Трудность не в том, чтобы соотнести эстетику
Шекспира с эстетикой современного искусства. Шекспир не только
не нуждается в «дотягивании» до этой эстетики, но куда
выше ее.
Иное дело формы историзма — представление о
внешности (именно внешности, а не существе!) событий других
времен — и историзм наших дней, воспитанный не только
столетием археологических открытий, но, как такое
сравнение и ни покажется странным, Оффенбахом. После
«Прекрасной Елены» и «Орфея в аду» анахронизмы перешли
в разряд комедийного, пародийного искусства.
Тут опыт и Чарльза Кина, и Гордона Крэга (резкий
перегиб палки в противоположные стороны) 9 одинаково
мало может помочь.
«Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от
теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно
стихотворение содержало город Венецию, а в другом
заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал»
(Б. Пастернак. «Новый мир», 19.67, № 1, стр. 225).
Ни для одной работы, сделанной на гораздо более
известном материале, мне так не помогали мои
собственные жизненные воспоминания — мысли и чувства,
связанные с реальностью, тем, что я знал, сам переживал,^
как для шекспировских постановок.
Разве это Шекспир сказал, что Гонерилья и Регана —
красивые и еще молодые женщины? Штамп «прекрасного
демона» живуч.
Лиру восемьдесят лет. Почему же всех детей он наро-'
дил в возрасте пятидесяти пяти, шестидесяти лет? Не
сильнее ли будет контраст, если между Гонерильей и
Корделией различие будет в 20—30 лет?
Не злоба или патологические характеры людей (упаси
бог от изображения этого!), а их практическая энергия,
Записи по фильму «Король Лир»
281
активность характеров, стремление действовать, быть, как
говорится, в мире бойцом.
Все деятельны (к концу это род безумия, одержимость
активностью).
Деятельность подстегивается страхом. Сестры
боятся — если не кого-нибудь, то чего-нибудь (возвращения
Лира к власти). От страха они жестоки. Охваченные
ужасом, они пытают Глостера, выгоняют отца, смертельно
боясь его. Страх достигает кульминации у Эдмонда, когда
он видит, что пленные Лир и Корделия не боятся.
Эти сцены — самые важные.
Итак — все чрезвычайно деятельны. Кроме Лира. То
же было и в «Гамлете». Охота, возвращение к обеду
показывают безумца, решившего жить в нашем мире, оставаясь
бездеятельным, не припрятав камня (на всякий случай!)
за пазуху. Очень важен Лир — свободный, бездеятельный.
Сцена охоты, где он не убивает зверей, а блаженно
бездействует на природе. Покой безмыслия и бездеятельности.
Свобода.
X 67
Виктор Гюго в книге о Шекспире утверждал, что
параллельное действие у Шекспира отражает основное как
бы в уменьшающем зеркале: «Рядом с бурей в
Атлантическом'океане— буря в стакане воды. Так, Гамлет создает
возле себя второго Гамлета: он убивает Полония, отца
Лаэрта, и Лаэрт оказывается по отношению к нему
совершенно в том же положении, как он по отношению
к Клавдию. В пьесе два отца, требующих отмщения. В ней
могло быть и два призрака» .
Наблюдение, разумеется, верное. И возможность ввода
второго призрака тоже существует. Однако попробуем,
зная строй мышления и лексику отца Офелии, представить
его выходцем из могилы и сопоставить речь, которую бы он
произнес Лаэрту, с требованиями духа отца Гамлета.
Сцена была бы, бесспорно, комедийной, пародией на сцену
основной линии.
Нет ли в параллельной интриге Глостера и сыновей
элементов не только повторения в меньшем масштабе
истории Лира и дочерей, но и пародии — в какой-то
части — на нее.
282
Записи по фильму «Король Лир>
Тогда по-особому заживет граф в среде своих
домочадцев, приобретет особые черты и наивная его
доверчивость к словам Эдмонда.
Исследовать движение этих двух линий. Они движутся
вовсе не всегда параллельно: иногда — контрастом,
иногда сливаются.
Термин «параллельная интрига», примененный к
истории Глостера,— общепринят и, казалось бы, неоспорим.
Однако это только на первый взгляд удачное определение.
На деле истории движутся вовсе не рядышком, образуя
подобие гриффитовского монтажа. Они пересекаются,
сливаются и опять расходятся.
И, что главное, все эти запутанные сопоставления
образуют не только действие, но и углубляют смысл,
философию трагедии. Здесь и подчеркивание отличий
характеров, целей людей, общественных связей — образующее
единство жизни, времени.
См. спор Соломона с демоном п и отношение шута
с Лиром.
Лир относится к слепому Глостеру так же, как шут
к Лиру. Сцена короля-нищего и графа-слепца по природе
комическая, каламбурная. Лир играет в ней роль шута,
клоуна, задающего загадки, ответы на которые знает
только он сам, потому что является дураком, т. е. судит об
общепринятом с абсурдной точки зрения. Она и открывает
нелепость обессмысленных и обездушенных отношений
мира, в котором живут люди.
Шут исчез из этих сцен и потому, что король забрал его
амплуа.
Лир — человек праистории, библейский пророк первых
христиан, еретик средневековья и — главное: в конце
современный нам человек. 5 XI 67
Всего на экране должно быть мало. Очень мало. Так
мало, что иногда только две величины, два предмета:
человек и мир.
Записи по фильму «Король Лир»
283
И тогда хотелось бы прикоснуться к самому сложному
в образной системе: к мистерии. Тогда должны исчезнуть
меры времени, определенность пространства. То, от чего
в этой постановке нельзя уйти. Чего необходимо
достигнуть, до чего дорасти, поднять сцену (хоть раз в
фильме!),-— мистерии.
Вот она, главная трудность: надо все и всех оправдать.
Нет виноватых, потому что все виновны.
Чешутся руки поскорее попробовать это выразить.
И опять вспоминаются слова госпожи Гофмейстер,
сказанные мне на фестивале: «It is very difficult to be a judge
in our time» l2.
Если бы только миновать искушение быть судьей.
Особенно в первой сцене.
Пожалуй, наиболее неприятное для меня, ставшее
чуждым в способах выражения прошлого фильма,—
метафоричность кадров.
Купируя метафоры в тексте, я хотел заменить их
кадрами-метафорами: придать изображению вторичные
значения. Иногда — вторичное вышло на первый план,
стало легко прочитываемым. Появились кадры-символы.
Теперь мне это отвратительно. Жаль и потому, что общий
тон сцен был ближе к существу, чем наглядность
некоторых зрительных образов. Я хотел показать, что «Дания-
тюрьма» — образ угнетения, умерщвления духовной
свободы человека (зато формы жизни вполне
комфортабельны), а на первый план вышла решетка замка — символ
простенький и банальный. ут ~7
Движение, развитие стиля этой трагедии достаточно
сложно. Общее религиозное положение — очищение
страданием, мудрость, взросшая на несчастье, добытая
муками,— неотделимо и от иного хода у Лира: очищение
иронией, осознание иронией.
В этом плане — шут является первым вестником нового
миропонимания.
284
Записи по фильму «Король Лир»
Ирония дает образу Лира масштаб отрицания, размах
опровержения общественных связей. Поэтому нельзя
отъединить шута от Лира. Это не отношения двух людей
(вернее сказать, не только отношения), но и единство
мышления автора, выраженное непосредственно в
двуликом образе, где слиты смутные ощущения совести, глухие
ее удары, и смелость опровержения всего в жизни. В
кадрах Лира и шута возможны отношения двух фигур, как они
выражены в лице из двух половинок у Бергмана в
«Персоне».
Но истинная мудрость отрешения от всего прошлого,
мнимого, что создавало величие владыки, приходит только
после второго отказа: преодоления иронии, навязчивости
разоблачений — другой стороны тех же мнимых категорий
(внимание к несущественному). Вспомним, как князь
Андрей слушал пение Наташи: «Страшная
противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределенным,
бывшем в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам
и даже была она,— эта противоположность томила и
радовала его во время ее пения,..» Цитирую по Бунину (т. 9,
стр. 8). Бунин заключает: «Эта „противоположность4*
томила Толстого с рождения до последнего вздоха» |3.
Сцена Лира с Корделией — «освобождение Лира».
Если бы трагедия кончалась на этом — мудрости приятия
смерти,— философы-экзистенциалисты от Кьеркегора до
Яна Котта были бы правы. Но кончается она иным: «Люди,
вы из камня!»
Тема, а может быть, вернее — один из мотивов —
освобождение от смерти.
Первое счастливое: «без груза к смерти побреду». В чем
же он был, этот груз? И каким уже непереносимо тяжелым
он — в ином качестве — упал на плечи старика? Это все то
же излюбленно шекспировское: почему именно я рожден,
чтобы восстановить порванные связи?
Трагическое бремя познания.
Драматургия «Лира» — «хождение по мукам».
В кадрах — через фильм — то, что начато бесконечно
Записи по фильму «Король Лир»
285
давно,— босые ноги, оставляющие — пусть пока
невидимые — следы на древней дороге. Когда их насчитывается
миллионы миллионов — невооруженный глаз заметит их:
сколько же времени шел человек, сколько дорог он
измерил?..
Главное в движении трагедии не открытие душевной
мерзости старших дочерей, а неверность строя жизни,
который он, король, сам создал. Монолог о лишнем,
заемном, прикрывающем и скрывающем существо
человека — жалкого двуногого животного — постижение
истинного места личности в этом мире,
«Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто.—
Старуха, пожалуй, что и ошибка, не в ней и дело! Старуха
была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не
человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил,
а переступить-то не переступил, на этой стороне
остался...» м
Дочери — его болезнь. И проклятие их — ничтожный
поступок. Лир убивает принцип. Он оказался, очутившись
с нищими, способным и «переступить».
13 XII 67
Вот труднейшая задача: естественные условия жизни
людей. Ведь если они люди, то живут в местах, где есть
жилье, защита от набегов, возможность труда.
Пресловутый театральный «замок» или «королевский
дворец» для «Лира» лишь одно — и вовсе не основное —
место действия. И он не может быть выстроен в
совершенной пустоте. Его окружают селения. Бедный Том (сколько
их блуждает по стране!) просит у кого-то милостыню,
и Лир спит в шалаше для свиней — их ведь не выгнали на
короля прямо из космоса.
Опять вспоминается «Гамлет» Оливье. У него, Оливье-
режиссера, получается, будто английская семья
арендовала огромный нежилой замок и расположилась там с грехом
пополам, не пробуя обосноваться в чужой, брошенной
людьми огромной жилплощади.
286
Записи по фильму «Король Лир>
В деревне его травят псами; ребята хохочут над ним,
обливают его помоями, швыряют камни вслед.
Он идет сквозь жизнь, как еще один бедный Том. Это
его Голгофа.
Его находят окровавленного, вымазанного грязью и
нечистотами.
Теперь он «король с головы до пят». Сделать то, что не
вышло в «Дон Кихоте».
Ступени жизни Лира в трагедии:
1. Он на самом верху: до неба рукой подать.
Единственный человек взошел на недосягаемую для людей
высь.
Гордыня одолела его: он все познал, всех осчастливил.
2. И сделал несколько шагов вниз, по ступенькам.
И тогда те, кто взошли на его место, столкнули его вниз,
и он слетел, пересчитывая старым телом ступеньки, на
самый низ.
Началась школа страдания. Горе научило его: он
такой, как все, как те, кто на земле, рядом.
3. А потом с самого низа он поднял голову и взглянул
наверх.
И началась другая школа. Ирония научила его глядеть
на вещи прямо, ирония открыла нелепость всех связей,
глупость жизненного устройства, безумие всей
системы, закономерность преступлений. Нет в мире виновных.
И он умер. Потому что, узнав все, больше жить было
нельзя.
4. И он опять проснулся, родился во второй раз.
Страдание очистило его. Он открыл глаза: увидел счастье.
Оказалось, что есть в мире подлинная ценность. Он познал
счастье любви. И пришел покой.
5. Но счастье длилось мгновение. И он восстал против
того, что убили его счастье.
Все виноваты. Все причастны к этой смерти, если не
могли предотвратить ее. Все — из камня, если не восстают
вместе с ним.
Все. И те, кто в зрительном зале.
Записи по фильму «Король Лир»
287
Как передать, что все происходящее в 1-й сцене — уже
умершая эпоха, анахронизм, несуществующие отношения,
держащиеся лишь на единой ниточке — страхе. Видимо,
и народ прежде всего чувствует это же: ужас перед
переменой.
А во дворце, во всем придворном укладе, мертвый
порядок, установленный, отработанный почитанием тирании.
Каждое колесико единого механизма точно движимо
другим. Каждая частица единого целого обладает тем же
качеством.
Но организм уже мертв. Так жить больше нельзя.
Необходимо показать, что закономерность гибели
состоит вовсе не в отказе от власти или разделе
государства: строй уже умер.
Ужас перенасыщенного электричеством воздуха.
Движение — крохотное — старческого перста, и сломя
голову седые и важные вельможи бросаются выполнять
приказание.
В поступках Эдмонда бескомпромиссный,
последовательный рационализм. Внутренняя логика, прямолинейное
движение к цели без каких-либо торможений чувством или
отступлением для размышления, оценки, сомнений. У него
поразительное духовное здоровье.
«Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул
пистолет», как писал Лермонтов.
Критики, писавшие о нашем «Гамлете», подробно
останавливались на «Дании-тюрьме»: кадрах опускающейся
решетки, подымающегося моста и т. п. Но мой любимый
кадр никто, увы, не заметил. Это встреча (в последней
части) Гамлета и Горацио. Речка, вдали — на другом
берегу — амбар, порядком разрушенный мост. Гамлет
идет навстречу Горацио, подплывающему на лодке. Вдали
бредут несколько мастеровых.
288
Записи по фильму «Король Лир»
Ей-богу, это хороший, честный кадр. Все в нем, «как
в жизни». И это «как в жизни» не мешает тому, «как у
Шекспира».
А такое единство ох как трудно получить!..
Действие, цель шута — пробудить совесть,
растормошить сознание Лира. Он стучится в его разум, он
нашептывает ему на ухо так, чтобы никто другой не услышал,
и вопит, срывая голос, на весь замок, чтобы тот, кого он
любит больше всего на свете, наконец понял безумие того,
что он натворил, безрассудность своих поступков.
Итак, любовь и отчаянный от этой любви голос горькой
правды, странной мудрости дураков и безумцев —
прорицателей века всеобщего безумия.
За каким чертом вспоминается мне лицо Жанны д'Арк
из фильма Дрейера? Вот уж что, казалось бы, не имеет
никакого отношения к шекспировскому шуту. А
вспоминается.
Будущее покажет: зря вспоминалось или вовсе не зря.
Конечно, в «Лире» — главное буря. Кто этого не
знает?..
Но для меня в этой трагедии главное иное: пепел.
Пепел, который медленно падает на землю. Люди, серые от
пепла, на мертвой сожженной земле.
Пепел, пепел на всем белом свете...15
20 II 68
Человек ставит на лоб шест, на шест поднос, на поднос
сосуд с водой, в воде плавают золотые рыбки... И,
балансируя всем этим, чтобы ничего не рухнуло, человек уже
немолодых лет должен идти по проволоке под ритм вальса,
приятно улыбаясь и не показывая, что пот льется с лица
градом, а душа ушла в пятки.
Что это такое?
Записи по фильму «Король Лир»
289
Процесс постановки фильма: баланс сроков,
настроения артистов, коллектива, качество пленки и еще много
разного.
Написав фразу сценария — ничуть не занимающую
меня литературной формой,— я часто ловлю себя на том,
что начинаю ее с «И...». Невольная интонация сказа.
«При его правлении Франция была великой державой,
а французы — несчастнейшими из людей» (Морис Дрюон.
«Железный король», изд. Иностр. л-ра. М., 1957, стр. 14).
Весь эпизод безумного Лира (после бури) — своего
рода философский доклад, иносказательная проповедь
с притчами и аллегориями. Доклад, прочитанный во время
марша армии горемык, бездомных нищих.
И поосторожнее с задушевными интонациями, так
освоенной уже в кино трогательной и тихой человечностью.
Здесь бухающие в набат образы. Орать их, разумеется,
нет смысла. Да и митинговые интонации приелись. Однако
не больше смысла и в задушевном, мягком произнесении
с настроением, как бы под гитару.
Исступленная духовность.
Хотите главную фразу? Вот она: «Я ранен в мозг».
Жест Михоэлса — палец, прикасающийся к виску,—
был гениален своей притчевой элементарностью,
шекспировской конкретностью. Соломон Михайлович был, на мой
вкус, более шекспировским Лиром, нежели прекрасный
Пол Скофилд.
Почему же? Он играл древний слой образа. Что ничуть
не мешало его современности как явлению искусства века
Пикассо или Шостаковича.
Как достигнуть органичности соединений жизненных
деталей и трагического, почти мистериального
обобщения — на английской шекспировской земле?..
10 Г. Козинцев, т. 4
290
Записи по фильму «Король Лир»
На нашей, русской, такие сплавы бывали. Вспомним:
— А Ванька с Катькой — в кабаке...
— У ей керенки есть в чулке!
...Вдаль идут державным шагом...
Лирические отступления «Мертвых душ». Весь
Достоевский.
Мне часто кажется, что задача в том, чтобы некоторые
последовательные, логически развивающиеся сцены
превратить в дурные сны. И смысл вовсе не в том, что эти сны
должны увести события трагедии от реальности. Нет, это
способ приблизить ее к современной реальности: бред
государственных переворотов, массовых репрессий,
убийств, вырождения верований.
Слышать поэзию — это значит воспринимать слова и
участвовать в творческом акте. «Самое чтение поэта уже
творчество. Поэты пишут не для зеркал и не для стоячих
вод» (И. Анненский) .
«Чтение Данте,— пишет Мандельштам,— есть прежде
всего бесконечный труд, по мере успехов отдаляющий нас
от цели» 18.
Совершенно то же, дословно, относится и к чтению
Шекспира.
Начиная с приезда Гонерильи к Глостеру и ее встречи
с Реганой все приобретает химерические черты. Кошмар
наваливается, сдвигает, сплющивает контуры реальности.
Две дочери встретились — именно те, кому он все
отдал,— и они надвигаются на него, как бред. Ужас в том,
что теперь они обе вместе.
Из хаоса центробежной силой взметается, взрастает
буря.
III 68
Записи по фильму «Король Лир»
291
История Лира и шута — развивающаяся — важная
для образа Лира: от бесчеловечного издевательства до
сочувствия к человеческому существу.
Увидя в шуте человека, Лир становится человеком.
Тогда шут из комментатора событий войдет в самую
плоть трагедии. И тогда в философию войдет немалое
положение: место искусства при тирании.
В какую тривиальность и пошлость я чуть-чуть не влез
с этим шутом, сразу же близким королю. Лир вовсе его не
любил. Романтическая глупость. Его любила Корделия:
тоненькая ниточка, связывающая эти два образа.
Что дает мне это подчинение одному и тому же автору
в течение стольких лет? Как ни странно — возможность
совершенной самостоятельности своего, и только своего,
художественного мышления, мыслей о современной жизни.
Перенесение своего собственного жизненного опыта в
фильм.
А художественный опыт, совершенствование способов
труда, заключался вот в чем: в первых шекспировских
постановках я, углубляясь в пьесы, находил возможность
пристроить к ним свои домыслы. Теперь я нахожу в самой
ткани трагедии то, что необходимо мне выразить потому,
что это еще не было показано и я — первый — это открыл.
Разумеется, это мне только кажется. Ничего я не
открываю. Просто я читатель особой эпохи, режиссер
особой жизненной судьбы.
Дело именно в этом — эпохе, судьбе.
1968 год, в который я работаю над «Лиром»: сегодня,
6 апреля, известие — выстрелом из винтовки с оптическим
прицелом убит Мартин Лютер Кинг — противник насилия.
«Все порядочное в «Лире» до неразличимости
молчаливо или выражает себя противоречивой невнятицей,
ведущей к недоразумениям»,— пишет Б. Пастернак.
10*
292
Записи по фильму «Король Лир»
Это обязательно нужно выразить на экране:
косноязычность («антиораторство»!), молчаливость правды.
Со следующим положением Бориса Леонидовича я,
пожалуй, не согласен: «Положительные герои трагедии —
глупцы и сумасшедшие, гибнущие и побежденные» ,9.
Нет. Гибнущие, но все же побеждающие.
Все, что дошло до совершенной ветоши в современном
театре, от чего так счастливо отличается шекспировская
поэзия, мы пробуем протащить в постановки его трагедий.
«Оправдываем» прекрасные народной правдой притчи;
находим обывательские подтексты и убиваем текст.
Это я отлично чувствовал, начиная первую
шекспировскую постановку в 1940 году, об этом писал. А теперь
«укатали сивку крутые горки».
Подальше от «оправданий». Вперед к притче,
эксцентрике, маске.
Слова непоэтического словаря: слякоть, муть, пустое,
мутное, безоблачное небо.
Ни серебристых тонов, ни живописных облаков, ни
броскости искаженной длиннофокусной оптикой
перспективы.
Не о Чехове и не о Беккете нужно вспоминать, думая
о «Лире». Все это — назад от куда более современного,
близкого нашим не только мыслям, но и ощущению
истории, мира Шекспира.
Не ближе ли к нему трагическая глыба первой трагедии
Маяковского? Все еще не понимаемая мною до конца.
Я начинал мальчиком с ее постановки, совершенно ничего
в ней не понимая, но обожая заключенное в ней чувство,
ощущая (вне смысла слов) ее ритмы. Теперь я опять ее
перечитываю.
Что касается музыки для этого фильма, к ней
подходит одна из ремарок трагедии «Владимир
Маяковский»: «Вступают удары тысяч ног в натянутое брюхо
площади».
Записи по фильму «Король Лир»
293
Фраза для проповеди Лира: «главой голодных орд,
в терновом венце...» 20
Гастроли трагиков, мощь их таланта (особенно
впечатляющая на фоне посредственности остальных
артистов) исказили, обеднили содержание трагедии.
Единственный образ закрывал единство образов.
Общеизвестно, что буря в душевном мире Лира
сливается с хаосом стихии. Однако такое представление
недостаточно.
Буря бушует в душе почти каждого из героев.
Их две, бури. Буря зла: дикости, жестокости, борьбы за
власть. И — буря противления злу, мощь которой не менее
сильная. Стихии сшибаются.
Как у Эсхила:
И сшибаются в скрежете, в свисте. Встает
Вихрь на вихрь! Свистопляска! Восстанье
ветров!21
Другая буря ритмически построена так же, как третий
акт,— волнами. Я имею в виду крепнущую силу отпора
бесчеловечности. Она врывается (именно врывается!)
вместе со слугой, восставшим на Корнуэла, Кентом,
Глостером, наконец-то решившимся защитить короля, с вы:
садкой французских войск, Эдгаром, убивающим
Освальда и Эдмонда.
Нужно показать, что это такие же звенья другой
исторической цепи, как общеизвестные зверства борьбы за
власть.
Эту бурю не замечает Ян Котт. Питер Брук ее купирует.
Сознание Лира антропоморфично: буря для него
одухотворена, стихии — живые существа.
И небеса отвечают. Завязывается диалог.
И древнее небо, и очень старый человек не лезут за
словом в карман.
В громе, молниях, дожде нужно найти ответы на
вопросы Лира и обращения к нему, на которые он отвечает.
294
Записи по фильму «Король Лир»
Переписать реплики стихий в тетрадку, как роль.
Установить взаимоотношения партнеров в этом споре.
Главное, как во всяком разговоре,— каждая из сторон
умеет слушать партнера.
Если буря получится на экране лишь погодой —
шекспировского в кадрах будет ничтожно мало. Приближение
бури показывает не барометр, а история.
Шесть человек в исподних рубахах с обнаженными
головами (вокруг шеи намотаны веревки), вышедшие из
городских ворот в XIV веке по призыву бургомистра месси-
ра Жана де Вьена, чтобы, сдавшись на милость
английского короля Эдуарда III, осадившего город, ценой своей
жизни спасти этот город, появились на родине еще раз,
через пять столетий.
Роден хотел, чтобы граждане Кале стояли ногами на
земле: ни цоколя, ни пьедестала, по первоначальному
замыслу скульптора, не полагалось.
Дерюжная рубаха, босые ноги на земле. Ни цоколя, ни
пьедестала — этого же хочется и мне.
Ключевая фраза пьесы: «Вот чума времени:
сумасшедший ведет слепца» («This the times' plague, when madman
lead the blind»).
24 апреля 1968 г. Проба Андрея Попова, Радзинь,
Волчек. Полная катастрофа. Все — даже какие-то части,
казавшиеся мне намечавшимися на репетициях,—
попросту не существует. Худший пример бескрылой,
бессмысленной театральной постановки. Пусть Попов и не подходит
к роли, но все же — артист высокой квалификации, а играл
по-бытовому русского ничтожного старичка.
Сестры мгновенно, с первой же планировки (на пробе,
естественно, не было тех мелочей, которыми я хотел
создать жизненность, а не предвзятое «злодейство» образов)
заиграли мелодраму.
Это, пожалуй, я смог бы преодолеть — они хорошие
артистки. Но от провала главной роли у меня опустились
руки.
Записи по фильму «Король Лир>
295
Нет ли ошибки в моей работе? Того самого
«логического подхода», поисков «оправданий» Шекспира, о которых
я писал в 1941 году?22
Нельзя, особенно в начале трагедии, ничего сделать,
минуя поэтическую сказочность, глубокую древность,
легендарность раздела королевства.
Чем жизненнее играет король, тем меньше остается
шекспировского. Остается глупый, мелкий театр.
Отлично понимаю: только пробы, начало, еще не те
кандидатуры на роли. Все понимаю, но нет силы
выдержать, преодолеть отчаяние, чувство стыда, от которого
некуда деться.
И это — Шекспир?
И это — Лир?
И это — моя постановка?
Нужно узнать всю, как теперь выразились бы,
информацию, данную Шекспиром об образе.
Вычитать ее непросто. Она часто глубоко скрыта под
другими слоями поэзии. Полнота этой — полученной
прямым путем от автора и косвенным от его эпохи —
информации образует плоть образа. Информация автора
дополняется, выправляется информацией о том же предмете —
итогами своей жизни, опыта своего времени.
Ну, а работа с актером?
Прежде всего молчать, не убеждать его в правильности
своих представленией, не кормить с ложки собственной
кашкой.
А ждать и всматриваться, уловить мгновение контакта
внутренней жизни артиста и автора (ставшего уже и
тобой), т. е. общего с ним — так ты уверен! — представления
о жизненных процессах, общего двигательного начала
исследования, в ходе которого мысль гонят любовь и
ненависть.
Уловить это мгновение контакта. В нем всё. От него
и надо начинать. _о
Перед режиссером, ставящим «Лира», три ларца. В
одном из них ключ в шекспировский мир.
296
Записи по фильму «Король Лир»
На золотом — высечены молнии, мчащиеся кони,
вздыблен-ные волосы. Кинематографическая позолота.
Внутри — от силы — Сесиль де Милль.
Второй — серебряный. На нем современные
барельефы, фразы из Кафки, Камю, джинсы и черный свитер.
Третий — железный — неказистая сталь отлита из
осколков мин, колючей проволоки концлагерей,
полицейских наручников, решеток тюрем.
Это вроде небольшого участка земли под плитой в Бу-
хенвальде. Сюда свезена земля из других лагерей, ее
выкопали из мест, где расстреливали. Земля пропитана
кровью.
Я открываю эту шкатулку. Приподнимаю плиту в Бу-
хенвальде.
Это общие слова, но это и величайшая охрана от всего,
заключенного в первые две шкатулки. Это — стыд при
сравнении действительной современной жизни и ее
театральной имитации.
Истинная реальность трагедии — духовный мир
человека по имени Шекспир. Этот мир, бесспорно, отразил
-Жизнь своего века, то, что происходило перед глазами,
чему учили в школе, о чем проповедовали в церкви,
болтали в трактирах, сны, которые тогда снились людям.
Многое, что происходит на наших глазах, чему учат
* десятилетке, о чем болтают в метро, даже сны, которые
нам снятся,— похоже на эту трагедию. Как же это
случилось?
Ответ искать в словаре, на слово «гений».
М. Бахтин пишет, что эпическая память и предание
начинают уступать место личному опыту (даже
своеобразному эксперименту) и вымыслу .
Шекспир и продолжает эпос, и преодолевает его —
личным опытом. Но написанное три с половиной столетия
назад тоже стало — в какой-то части — эпической
памятью и преданием.
Хочется найти единство эпической народной памяти
(масштаба шекспировского эксперимента над легендар-
Записи по фильму «Король Лир»
297
ным) и взгляда с близкого расстояния, в упор, на
современную жизнь.
Место личному опыту!
Современность, современный взгляд — антипоэтичен
(во что обошлась нам эта «поэзия», «романтика» и т. п.!),
а Шекспир — все (и самое прозаическое) — поэзия.
Вспомним, как Рылеев и Вяземский обижались на то,
что поэтический герой, герой поэмы промышляет тем, что
показывает по деревням дрессированного медведя 24.
Припадки отчаяния как болезнь, физическая боль
почти непереносимая.
Эренбург как-то смеялся надо мной: человек,
опровергавший на экране «гамлетизм» XIX века,— сам
типичнейший Гамлет в самом что ни на есть старом
понимании.
Не надо было мне браться за эту работу.
Почему? Слишком понятна мне тяжесть этой ноши. Как
ее поднять?
Тут я, незаметно для себя, вставил почти цитату из
«Гамлета» 25.
Лир — не только герой знаменитой пьесы, самой что ни
на есть великой трагедии, но и житель нашей земли,
спутник поколений. Их не так уж много, тех, кто идут с людьми
по дорогам горя. Люди знают их, как себя.
Потому что они — в каждом.
И вот идет он через века с мертвой дочерью на руках.
И говорит нам: «Вы из камня. Вы столько видели и
молчите».
В конце умирают не только несколько действующих
лиц. Умирает эпоха. Эта цивилизация, общественная
структура закончила свой век.
Нет труб и нет барабанов. Как у Ахматовой:
298
Записи по фильму «Король Лир>
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, господи, тихо,
Что слышно, как время идет 2б.
14 VI
Что-то гротескное в первом выходе короля. Потом он,
издеваясь, говорит о самом себе: «Взгляну, и каждый
подданный трепещет».
Комедия на крови и безумии.
Как штампам уйти из искусства, когда они не уходят из
жизни? Я был бы счастлив найти в трагедии лишь великое
и отвлеченное, но что делать с тем, что видишь своими
глазами?
Шекспир ведь писал не для того, чтобы его искусством
загораживать окошко. Приходит время, и нет порознь
явлений искусства и явлений жизни. Шекспир не отражает
старину, а вмешивается в современность.
Как у Пушкина: в зеркало не смотрятся — его
допрашивают.
Режиссер, ставящий Шекспира, обязательно берет его
с приданым. Питер Брук брал его с Самуэлем Беккетом,
я возьму с Достоевским.
Не верьте тем, кто говорит: одного лишь Шекспира
буду я ставить — то, что он написал. Все его слова, и
больше ни слова.
Это значит: все слова, и ни одной мысли.
Слова остались такие, какими он их некогда написал,
а мысли — не только его мысли, но и уровень знания о
жизни, понимание истории, человека — уже иные. Время
изменилось и подтвердило верность его страсти исследования
жизни, но что-то добавило к ней, иное отменило.
Записи по фильму «Король Лир>
299
Я вслушиваюсь в тугую натянутость струны — в силу
и крутость постановки вопроса, на который нет и не может
быть ответа, но, не задав которого, перестаешь быть
человеком.
6 VII
Я нахожу у Шекспира не «главное», а мысли и чувства,
если можно так выразиться, выстраданные мною,
основанные на жизненном опыте.
Гораздо лучше, чем это мог бы сделать я, подняло из
недр веков пласты этих идей, неразрешимых противоречий
искусство Шекспира, Гоголя, Достоевского.
Мне нужно дать им плоть экранной жизни. Но дать
плоть именно этому — мощному пласту образности,
поднятой страстью поисков возможности осмыслить жизнь,
историю.
Призрачное и реальное — то, что так волновало
Белинского, Гоголя, потом Достоевского.
Начало — мир призраков. Однако меня не тянет к
экспрессионизму, теням и искажающим ракурсам. Это, как
говорил портной Петрович в «Шинели»,— «худой
гардероб». Напротив, хочется совершенного сходства с
жизненными событиями.
Документальная галлюцинация.
Передайте в искусстве море. Мощь удара волны о
берег. Того же вечного моря о тот же вечный берег. Вечный,
как говорится,— но никогда не бывающий таким же, каким
был вчера.
А если хотите, повесьте на стену Айвазовского — море
как живое.
Что же это: кощунственное сравнение красок
Айвазовского и слов Шекспира? Да.
У Цветаевой в «Стихах к Пушкину»:
Критик — ноя, нытик вторя:
«Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры?» Чувство — моря
300
Записи по фильму «Король Лир»
Позабыли о гранит
Бьющегося?..
Вся его наука —
Мощь. Светло — гляжу:
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.
Всё о Шекспире.
В сущности говоря, все три первых акта (включая
бурю) лишь подготовка к главному
представлению-проповеди, которое старый эксцентрик (полномочный
представитель «Матушки Глупости») задает на подмостках
балагана Вселенной (This great stage of fools) 27.
Как это ни странно, что-то от строчек последних,
предсмертных стихов Маяковского:
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
векам, истории и мирозданию 28.
Представим себе это же, только превращенное в
скерцо.
Кажется, я начинаю прикасаться к тому, что делает
Лира — Лиром.
16 VII
«Для развития науки сегодня характерно
лавинообразное увеличение объема информации о закономерностях
материального мира,— пишет академик Н. Н. Семенов,—
это приводит на определенных этапах к стремительному
скачку...» 29
Это все как раз относится к характеру страданий Лира.
Нельзя сказать, что события сгущаются, что они
приводят Лира в смятение, заставляют его мучиться.
Открытия истинного положения вещей лавиной
валятся на него, они не оставляют клеточки покоя в его
духовном мире.
Записи по фильму «Король Лир»
301.
Думая о реализме, жизненности, необходимых
кинематографическому выражению этой трагедии, я думаю о
неуловимой черте, превращающей бричку Чичикова в «птицу-
тройку».
«Сцена дураков» превращается в Театр вселенной. Не
нужно пугаться неопределенной возвышенности таких
эпитетов.
Я имею в виду совершенную конкретность: те
декорации, что созданы тысячелетиями существования гор,
морей, лесов — всего того, что существует вне
пределов исторического.
Мне нужно яблоко, которое надкусила Ева, а не
продукт мысли Мичурина.
Что только ни видится мне — самого странного, самого,
казалось бы, несхожего с Шекспиром, никак с его
художественным методом не связанного,— когда я ощупью (а не
разумом!) — приближаюсь к стилю выражения,
зрительному перевоплощению этой трагедии: «Двенадцать»
Блока, «Ужасы войны» Гойи, лошадь, которую хлещут
кнутами по глазам из сна Родиона Раскольникова...
Лир, шут, Кент идут через бурю, как герои Блока через
ветер.
И ни одна театральная постановка этой пьесы не
кажется мне заманчивой.
Меня восхитила в свое время работа Питера Брука
и Пола Скофилда, но, естественно, мне видится все по-
иному; в противном случае — для чего мне было бы
браться за эту постановку?..
Калибр личности не меняет дело. Все мои добрые,
старинные друзья так восставали: Евгений заносил кулак
на бронзового кумира, Поприщин бил в стены камеры
сумасшедшего дома.
Какие же они цари?
Они-то, разумеется, маленькие люди. А вот Пушкин
и Гоголь...
302
Записи по фильму «Король Лир»
Основа основ: ценность личности. Мера значения
нужного, самого главного для человека.
Не власть, не привилегированное положение, а сердце.
Возможность найти истинную меру вещей в любви к
другому.
Фильм надо было бы назвать «Цена человека».
Одна из множества ошибок моей постановочной
техники: неумение пользоваться «воздухом». Я грешен
пристрастием к сгущенности действия в кадре. При купированном
стихе «воздух» особенно важен.
24 VIII
Корделия действительно должна не уметь
высказываться «вслух». В театре она отлично декламирует, что не
умеет декламировать.
Как только в интонациях, ритме появляется только
(только!) жизненность, пусть и в пределах правды
характеров,— Шекспира нет.
Чего же я хочу? Мистики? Иррациональных сил,
владеющих людьми, двигающих королей и герцогов, как
пешки по шахматной доске истории для разыгрывания
какого-то абсурдного варианта?
Как раз напротив, иного. Мятежа человеческого ума
против этих отвлеченных, бесчеловечных форм
общественного существования, держащихся уже лишь только
на внешних связях обрядов, официальных отношений,
рангов.
Все в первой сцене служат службу какому-то богу (им
только кажется, что это — король), и сам Лир лишь один
из служителей, выполняющих то, что кажется ему мудрым,
а на деле является бессмысленным, противоестественным
и, главное,— бесчеловечным.
— Не верую,— говорит Корделия.
Естественный ответ естественного существа.
Записи по фильму «Король Лир»
303
Самое толковое в «Гамлете» были все же «мышеловка»,
Офелия со старухами. Но все это, увы, тонуло в честной,
исторической картине.
Провинция засосала меня, втянула в тоскливое
реалистическое болото вместе с королем Британии. Внимание!
Опасно! На волю веселой, дикой выдумки.
Все «гуманизмы», «философии», «самые что ни на есть
человеческие отношения и чувства» есть и без меня, в
самом тексте.
Мне надо прежде всего вытащить иное: мюзик-холл
в космосе.
Я же сам написал: «Щророки и клоуны» 30.
28 VIII
Все, о чем пишет каждый исследователь этой
трагедии,— есть в ней. И много* еще другого есть. Но самым
глубинным ходом, главной сцепляющей мыслью проходит
эта: для чего человек живет? В чем смысл его жизни? Что
же главное, что он находит в жизни? В чем —
всепоглощающим душу — он кончает жизнь?
Почему именно Лир — герой этой трагедии? Потому
что он прошел самый долгий путь, выстрадал больше всех
и пришел к самому простому.
Что же это — самое простое?
То, что возникает в душе, то, в чем волен человек:
любовь к человеку. Ненависть и презрение ко всему, что
обесчеловечивает человека.
Проходят годы, и ты понимаешь не то, что заключено
в трагедии, ты открываешь самое главное: это — про тебя.
Это — из твоей жизни; не быта, разумеется, а истории
твоей души, твоего века.
Важно только это. IX 68
Образность Чаплина: период его маленьких комедий.
«Чарли пожарный», «Чарли на балу», «Чарли боксер»
и т. д.
304
Записи по фильму «Король Лир»
Определенный тип и новое положение, в которое он
попадает.
Реквизит новый, а отношения те же — маленький
человек в огромном, враждебном ему мире, среди огромных
враждебных людей и враждебных, не желающих
слушаться вещей.
Философ, желающий постигнуть мир, попадает в
абсурдные положения. На его голове оказывается корона. Его
словам повинуются немедленно.
Но Чарли лишь кажется, что он миллионер. Минута —
и пинком в зад — его вышвыривают из особняка, т. е.
замка Гонерильи.
Но как же «восемьдесят с лишком лет»? Король,
умеющий натягивать тетиву лука. Это — не летописи
предыстории, а условия проведения эксперимента.
Был «Король в Нью-Йорке». Король в древней
Британии.
Чарли, клоун, маленький странный человек. Какой же
он король.
30 окт. 68
Истинно шекспировские кадры, на мой взгляд, у
Хлебникова: «Художник писал пир трупов, пир мести.
Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные, подобно лучу
месяца, бешенством скорби» (цит. по Г. Гору, «Звезда»,
1968, № 4, стр. 179).
Пожалуй, только меню у покойников Шекспира было
иное: не вегетарианское; а остальное — именно так.
Кисловодск, 29 XI 68
Убийство Джона Кеннеди, Мартина Лютера Кинга,
Роберта Кеннеди. Города в дыму пожаров, эпидемия
убийств, поджогов, уничтожения. Темные грозовые тучи,
надвигающиеся на мир.
Когда-то у Гриффита в «Нетерпимости» рефреном был
кадр Лилиан Гиш у колыбели. Теперь — убийца с
винтовкой с оптическим прицелом, оглядывающий четыре
стороны света.
Записи по фильму «Король Лир»
305
Но Камю пишет: «И надо ведь сказать о том, чему
можно научиться во время чумы: в людях больше
достойного восхищения, чем презрения»31.
Видимо, не зря я взялся за эту трагедию.
На репетиции я почувствовал, кажется впервые, какую-
то сторону образности, важную именно для этой трагедии.
Дикость, первобытность, что-то звериное, таящееся в
человеческой природе многих героев и вырывающееся наружу.
Я это услышал: искажение ритмов и звуков речи.
В бешенстве голос Лира срывается — гортанные звуки
шипения дикой кошки, хриплое дыхание зверя. У Юри
Ярвета я услышал что-то схожее со странной заумью
Тосиро Мифунэ, моего любимого актера (его Ярвет
никогда не видел).
Загнанный, затравленный Эдгар — бедный Том —г
срывает голос, задыхается, хрипло шепчет, воет.
Мы, кажется, наконец-то отчаливаем от микрофонной
киноречи.
Сразу же взволновалась Эльза Радзинь: и в Гонерилье
должна слышаться дикая кошка.
Действие «Лира» переходит из цивилизованного
общества в дремучую тьму праистории.
Ошибка — отнесение «Лира» к доисторическому
времени. Представление, будто чем дальше в глубь веков, тем
больше зверства творили люди.
Разве бомбу на Хиросиму сбросили при Каролингах?
Освенцим спланировали и выстроили при готах?
Над каждой сценой, выше самой этой сцены, то
невидимое, что заставляет людей так поступать. Это нужно
сделать видимым.
Всегда та же задача: невидимое превратить в зримое.
Непознаваемое — в познанное?..
Разумеется, нет — иначе все станет базарной
мистикой. Можно попробовать лишь прикоснуться к этому:
показать, что это — общее — связывающее, движущее (в
306
Записи по фильму «Король Лир»
«Лире» к гибели) выражено Шекспиром. Это и есть
трагедия.
21 XII
Все в трагедии соотнесено со смертью. Отношение
всего: человеческой жизни, государственной идеи, рода,
власти, любви, свободы — и смерти.
Начало, кроме всего,—вызов смерти.
Восьмидесятилетний старик утверждает свое право на бессмертие.
Лир и Корделия в плену — вызов смерти, но уже совсем
иного рода. Утверждение бессмертия не насилием
отвлеченной идеи, а бесстрашием. Унижением, обесцениванием
смерти рядом с любовью.
В конечном итоге это простая история — «Король
Лир».
Из всех исторических материалов назойливее всего мне
вспоминается золотая богоматерь X века.
Грозно-окаменелое лицо (ничего от матери, духовной сосредоточенности
позднейших изображений), враждебное всему
человеческому. И сам материал: золото, грубо оправленные
драгоценные камни. Золотое страшилище.
И еще один предмет: натуралистическая, как бы
обрубленная золотая рука.
Какой-то чертов сюрреализм Каролингов.
Золотое изваяние валяется подле разграбленной
часовни. Кругом война, пожары. Лицо статуи горит, золото
плавится.
Термин «трагедия» в этом случае для меня менее
важен, нежели «история».
Это — история, а не частные судьбы. Вот в чем
масштаб исследования жизни.
Как аукнется, так и откликнется.
Это ведь тоже «Лир».
Записи по фильму «Король Лир>
307
Трагедия — шоковая терапия. Без потрясения она
пойдет на холостом ходу.
За столетия места для шока изменились: потрясти
должно не выкалывание глаз Глостеру, а то, что в театре
никогда не игралось,— встреча смерти.
Возмездие не в смерти, а в минуте прозрения перед
смертью. В невыносимой полноте одиночества.
Со всей силой выражать такие минуты. Они, как
правило, или после, или до наступления кульминационной
(в театре!) точки.
Возмездие не в смерти, а в осознании краха — перед
смертью.
Пугать бутафорской кровью — нехитрое дело.
За витринами музея Хиросимы — тотальный распад
живого, тление тела; а дети резвились, хохотали.
Все то — было давно.
Они не понимают краткости пути от было до будет.
Все забылось.
Нужно, чтобы вспомнили.
22 XII
У Гонерильи и Реганы по-особому сложились
отношения с мужьями, у них различные темпераменты, несхожая
внешность. Но обе — дочери своего отца: родовой признак
отчетлив.
Сцена Гонерильи с отцом (в ее замке) напоминает
сцену Лира с Кентом и, одновременно, отличается от
действий отца.
Те же набегающие волнами ритмы, вспышки страсти.
В сценах ревности к сестре она так же сойдет с ума, как ее
отец.
У Лира безумие мудрецов; у старших дочерей —
помрачение рассудка.
Трудность ролей не в том, что материала
(человеческого) мало, напротив, слишком много: глаза разбегаются —
сколько разных свойств заключено в этих бабах.
308
Записи по фильму «Король Лир»
Парадокс Честертона: дайте нам лишнее, а без
главного мы как-нибудь проживем 32.
Так нужно ставить Шекспира в кино.
Формулировка, правда, должна быть уточнена: главное
и без нашего — режиссера и актеров — старания дойдет
(настолько совершенен текст — даже купированный), а
сложность картины жизни, душевного мира людей
необходимо выявить.
«Главное» дойдет, даже если будет происходить вдали,
а «лишнее» (для невнимательного читателя или зрителя),
попав на первый план, углубит и расширит картину жизни,
истории.
Сцена раздела государства («главное» — Лир, дочери,
Кент) может происходить на общих планах. А впереди
окажется герцог Олбэнский: открытые трагические
последствия нерешительности.
Человек, по своему духовному складу неспособный
к действию. Тогда сильным станет перелом характера:
решение действовать. Но слишком позднее. Одна из
причин гибели государства.
24 XII 68
Я забыл пьесу, теперь я могу снять фильм.
Все отчетливее определяются примеры — искусство,
какими-то сторонами близкое к тому, чего мне хотелось бы
добиться на экране.
Философская поэма, где сплавлены категории личного
и исторического, человеческая судьба взаимосвязана с
государственной.
«Медный всадник». «Двенадцать».
Конкретно-жизненное и всемирно-историческое.
Три острия, три пика зрительных образов первой сцены.
Люди и бог. Люди и страх. Люди и правда.
Еще раз я убедился: присочинить к Шекспиру ничего
нельзя.
Записи по фильму «Король Лир»
309
Можно только выявить, сделать материально
существующими его образы. Перевоплотить слова в
изображение. И все.
Ничего, что не находится в самом тексте, придумывать
нельзя. Выходит мерзость: быт дворца, типы царедворцев.
Сухость. Краткость. Нагая проза. Мысли и только
мысли.
И еще одно: ничего в павильонах, кроме актерских
сцен.
Зрительные образы начинаются с натуры.
21 I 69. Ночь после съемки.
Удачи Бруку в его Ютландии и непролазных снегах!
Я буду снимать огороды, чучело, кур.
Кинокамера начинает видеть там, где кончается
абстракция.
Что же — неореалистический «Лир»? Сохрани боже. Я,
разумеется, нарочито перегибаю палку. Будет, конечно,
и Вселенная, лишь бы огород получился.
Огород снять труднее; с Вселенной справиться проще.
Икона середины XIV века, висевшая в кремлевском
Успенском соборе, имела название «Спас Ярое Око».
— Что, милый друг, с тобой? — спрашивает Лир
шута.— Озяб, бедняжка?
Ярое Око впервые увидело не предмет потехи, а
человека.
Обоим людям — самому возвышенному в государстве
и самому униженному — одинаково холодно. Для Лира
это важное открытие.
«Театру жестокости» этого не сыграть.
Три дня гриппа. Съемок нет, но дело движется: условно
говоря, я распрощался с высокопарностью пейзажей.
26 I 69
Обыденная фраза: «никто и не пикнул» — точнее всего
определяет трагичность атмосферы дворца.
310
Записи по фильму «Король Лир»
Снимая ежедневно — уже три месяца,— вглядываясь
в ткань пьесы, я все отчетливее вижу различие ее
поэтических фактур.
Не сглаживать контрасты письма, но напротив,
выявлять их, доводить до резкости столкновений. И не
стыдиться того, что кажется сегодняшнему вкусу наивным,
шаблонным. Плевать я хотел, что об этом думают в Доме
кино, кафе «Флора» на Бульваре Сан-Мишель и журнале
«Кайе дю синема»... Да, авантюрно-приключенческие
черты интриги Эдмонда, условность притчи-сказки начала.
Со своих первых, еще детских шагов в кино я полюбил
наивность так называемых низких жанров экрана.
Восторг, который вызывали у меня «Вампиры» Фейада, до
сих пор в памяти.
Лица Гонерильи и Реганы — белые маски в рамке
темных повязок — память об этих старинных
пристрастиях.
Посмотрим, потеряется ли от соседства с такими
кадрами глубина философских монологов Лира, поэзия мыслей
Эдгара.
У Шекспира — все в свое время.
Чудо в том, что пестрота стилей приводит не к
разноголосице, а к единству — не стиля! — а жизни.
Гюго отлично писал, что если взглянуть на дуб с
эстетической точки зрения, то его листва обременена
орнаментом, а линии ветвей утрированы и манерны. У дуба
отсутствует чувство меры .
Эти записи — следы ударов киркой по земле. Труд
часто оказывался напрасным: вместо шекспировского
золота шел шлак собственных домыслов. Я бросал
разработку, переходил на новый участок: опять пустые усилия...
И все же я не вычеркиваю мысли, которые не
пригодились, гипотезы, заведшие в тупик.
К образной системе приходишь обычно бессистемно.
Сцены, которые пробуешь поставить так, как они были
задуманы, редко удаются. Только неожиданность, мысль,
возникшая от новых, непредвиденных обстоятельств,
помогают снять что-нибудь стоящее.
Записи по фильму «Король Лнр>
311
Импровизация — самое ценное в нашем искусстве —
не возникает в пустоте. Многое из того, что казалось
напрасным трудом, подготавливает возникновение образа.
Нельзя заранее определить форму. Нужно самому быть
в форме.
Разве дело в том, что я прочитал («верно» или
«ошибочно») Шекспира. Он уже давно стал частью моего
духовного мира. Что ли говоря, пророс в меня.
У Шекспира в основе всего — ритм. В ритме — ход
жизни.
Нет ничего настолько чуждого шекспировскому
жизненному движению, как окаменелость монументальности,
внешняя величественность.
«Лира» определяет не возвышенная статичность, не
масштаб обобщенных форм, но как раз обратное: суета,
кипение человеческого муравейника, круговорот
безобразных происшествий.
Что монументального в смене этих приездов, отъездов,
в науськивании лакеев, в мелких интригах, беспокойных
характерах, выкриках, проклятиях, мгновенных слезах,
грубой ругани.
Но огромность мыслей? Да, разумеется.
Диоген высказывал их, по слухам, из бочки. Рабле не
обряжался в тогу, да и Шекспир как будто не был
профессором Оксфорда.
13 III 69
Труднее всего мне пока дается динамика изображения.
Чувство времени ускользает от пластического
определения, эпоха не сгущается до материальности.
И время в этой трагедии не замкнуто. Время
движения — то рывки столетиями вперед и назад, то
непрерывность суток — такая, что слышен ход часов. Но за
движением минутной (даже не часовой) стрелки
человеческой жизни — тяжелый ход истории.
Как бы находишься на уэллсовской машине времени:
поворот рычага — и ты у патриархального костра праисто-
312
Записи по фильму «Король Лир»
рии; летит пространство веков — героическая пора
первых христиан, раннее Возрождение, шекспировская
Англия, еще поворот — наши годы.
Как выразить это на экране без грошовой стилизации,
наивной эклектики нарядов?
Только отсветы эпох. Отблески культур, не доходящие
до определенного стиля. Путь, совершаемый не только
человеком, но и человечеством. Путь, открывающий сквозь
калейдоскоп смен, превращений прочность, постоянность
нерешенных противоречий.
5 IV 69
Задача в том, чтобы внутреннее действие (напряжение
исследования жизни) не обрывалось в конце трагедии,
а продолжалось в духовном мире зрителей.
Не показать, а пробудить.
Конца этой трагедии нет. Продолжение следует.
Мне никогда не представляется шекспировское
действие на площадке, где в строгом порядке расположены
герои. Это скорее толчея на улице, давка в метро в часы
пик, битком набитый бесплацкартный вагон.
Множество людей различных жизненных положений
и особых характеров участвуют в событиях, окружающих
героев.
Окровавленное тело раздавленного машиной
прохожего одиноко лежит на мостовой только краткое мгновение:
вся улица через секунду становится иной. Все уже
вовлечены в событие, все — пусть ненадолго — участники драмы.
Неизбежность заражения. От Лира к дочерям, от
дочерей к их прислужникам. От Гонерильи к Освальду.
По замку мечется, издеваясь над Лиром, зачумленная
челядь, и на лицах его рыцарей уже проступили язвы.
В массовости таких процессов суть трагедии и смысл ее
перенесения в кино: явление способно предстать на экране
во всей его страшной реальности. Пандемия одичания.
30 IV 69
Записи по фильму «Король Лир»
313
В оценке состояния человечества, способах шутить,
оборотах речи безумного Лира я узнаю не древнего короля
в несчастье или библейского пророка, а скорее всего
посетителя таверны «Русалка», где бражничали
елизаветинские вольнодумцы.
Застольные разговоры сэра Уолтера Ролли или
Шекспира мне, правда, не приходилось слышать, и знаю я о них
совсем не много.
Не приходилось мне слышать и споры в парижской
«Ротонде» 35 (правда, я бывал в «Куполе», в конце 20-х
годов сменившем «Ротонду»), но представить себе их мне
легче.
Эренбург писал, что больше всего подходит к тематике
и ощущению этих споров заголовок Маяковского
«Мистерия-буфф» 36.
Его же можно отнести и к определению жанра «Короля
Лира».
1 V 69
Фильм неукротимых идей.
Нагромождение тезисов и их отрицание.
Я слышу удары молотка по гвоздям: бродячий
вольнодумец, сеятель ересей прибивает к дверям храма свои
тезисы 37.
Старинное, извечное: люди, вы погрязли в грехах!
Грядет возмездие...
Пыль, дерюга, бешеные глаза.
Какой там к черту Самуэль Беккет!
27 V 69
Основное состояние во время съемок: не успеваю! Не
успеваю снять, как нужно, додумать как следует.
И это ощущение господствует, даже если вещь
задумывалась годами и во время работы никто тебя не торопит.
Фильм включен в производство, счетчик щелкает, конвейер
не может остановиться...
Он уже был, фильм, радостно придуманный за столом,
потом на репетициях. Я его не раз переснимал, доснимал,
314
Записи по фильму «Король Лир»
монтировал. Шостакович сочинил к нему музыку. Я видел
и слышал этот фильм, когда писал сценарий.
И есть изделие, производством которого я занят. Для
изделия кромсают и переделывают (и я сам переделываю)
тот первый фильм.
План. Метраж. Выработка.
А какую хорошую можно было бы поставить картину.
5 VI
Здесь огромные камни, обломки скал причудливых
форм: одни похожи на древние надгробья с клинописью,
другие на плиты поверженных храмов.
Снять при вспышке молнии такие обломки?.. Пусть они
предстанут перед Лиром, как тяжелый полет злобных
стихий.
Я установил вместе с оператором кадр, уговорился
о движении камеры и свете. Потом взгрустнулось: какие
же это страхи? Детские игрушки. Вот если бы Лиру
померещились в вихре и ливне девушка с веслом и юноша
с мячом, что белеют по всей нашей необъятной стране!..
7 VI Крым
Сколько контрастов заключено в пьесе, даже контра-^
стов чисто зрительных.
Населенность пространства и его необитаемость;
локальность мест действия и совершенное отсутствие
признаков быта.
Если в поэзии есть, условно говоря, Тютчев, то в прозе,
к примеру, можно отыскать Зощенко (в текстах Кента).
Приезд в Нарву.
Ивангород. Опять меня пробуют загнать в архаическую
липу исторического натурализма 38.
Откуда взять силы для сопротивления?
Уже несколько раз, не по своей вине, я оказывался
в этом положении.
«Кино»: не трудятся, а выкручиваются. В моей жизни
за последние годы это случалось не раз. Выкручивался из
«Дон Кихота», снимая вместо Черкасова — Васильева...39
30 VI 69 Нарва.
Записи по фильму «Король Лир>
315
В пределах многих кадров борьба с условным, внешне
красивым. Хочется пыли на дороге, от которой труднее
путь, мучительнее скитания, а на экране солнце,
осветившее пыль на просвет, дает какое-то светящееся марево.
— На большом экране позитив, как бриллиант,—
хвастается помощник оператора.
Черт бы побрал этот бриллиант!
И VIII
Среди этих записей немало таких, какие, казалось бы,
нужно вычеркнуть как лишние, не относящиеся к делу:
меня увлекали мелочи и я пытался развить в действии
положения, которых почти что не было в пьесе.
Почти что.
В этой мере — для труда режиссера — заключено
многое. Из еле заметного, мало примечательного иногда
выводится существенное для главного.
Задумывая фильм, я сочинил целую линию: свита
постепенно покидала человека, лишившегося реальной
власти. Мне хотелось показать историю бесстыдного
отворачивания тех, кто прежде угодливо улыбался и гнул
спину.
На экране остались ничтожные крупицы этой истории.
Но и эти детали поведения на дальнем плане нужны
тому общему, что хотелось показать.
На мировом кинорынке определились законы спроса
к так называемым историческим фильмам: зрелище в
красках, размах и затраты, парадные события, обычаи
и моды старинных времен.
Как раз всего этого в «Лире» не будет. Ни красок, ни
размаха, ни старинных обычаев.
Было бы унизительно обряжать Шекспира в униформу
суперколоссов.
Хотелось бы предельной скромности, строгости черно-
белого экрана. Ничего для «почтеннейшей публики».
Все — для простоты и ясности, возможной полноты
выражения мыслей трагедии.
О серьезном — всерьез.
316
Записи по фильму «Король Лир»
В структуре этой трагедии я нахожу, не только высоты
философской поэзии, но и фильм в сериях.
На ослеплении Глостера и убийстве слуги кончается
одна из серий — «Регана».
Как в старину закрывается диафрагма. Титр «Конец
первой (или третьей?) серии. Смотрите! Скоро
продолжение — „Гонерилья"».
Разжимается диафрагма: Гонерилья и Эдмонд
подъезжают к замку герцогов Олбэни.
Ну, а в чем такая структура должна быть выражена?
В выведении на первый план определенного действующего
лица.
Вот некоторые из этих серий — я озаглавливаю их, не
боясь бульварщины:
Незаконный сын.
Перехваченное письмо.
Переодетый вельможа или история лорда Кента.
Среди бродяг (или: Король в трущобах).
Возвращение младшей дочери. И т. д.
Таллин 16 IX 69
Исполин? титан?.. Нет. Один из многих. Такой же, как
все.
Обыкновенное заблуждение и обыкновенное горе в
обыкновенном, ужасном мире.
Лир и Корделия в плену: террор и глумление
концлагерей. Колючая проволока, собаки, автоматы.
Человечество, согнанное в стадо.
Не эстетически-отвлеченные метафоры, а до полной
натуральности доведенное сходство — не с внешностью,
а с существом таких явлений, масштабом бесчеловечности.
И масштабом человека, восставшего против нее,
способного сказать всем палачам:
— Мы в каменной тюрьме переживем все лжеученья,
всех великих мира.
Дух захватывает при мысли об этой сцене. Завтра
я начинаю ее снимать.
10 X Нарва
Записи по фильму «Король Лир»
317
Я по-своему слышу в потоке белых шекспировских
стихов размеры, ритм.
Как у Слуцкого:
Три мелодии. Марша вроде и
Вроде вальса. И вроде дуды.
И раздумчивая мелодия
О природе людской беды 40.
Вальса я, правда, не слышу вовсе. Зато и марш, и
дуду, и раздумчивую мелодию людской беды — слышу
отчетливо.
14 X 69
Детский врач, педагог и писатель Януш Корчак погиб
в газовой печи треблинского лагеря смерти, отказавшись
от помилования. Он шел на смерть вместе с детьми,
сочиняя им сказку, чтобы они не, поняли, куда их ведут.
Мне захотелось прочесть его книги, больше узнать
о нем.
«Я часто думал о том, что значит «быть добрым»? —
нахожу я у Корчака.— Мне кажется, добрый человек —
это такой человек, который обладает воображением и
понимает, каково другому, умеет почувствовать, что другой
чувствует» 4I.
Пожалуй, нет ничего более страшного для современной
эстетики, чем доброта. Художники боятся доброты, как
черт ладана: как будто бы страшнейшие опасности
подстерегают каждого, кто рискнет заикнуться о доброте, болото
сентиментальности засосет его, он провалится в яму
романтизма. Срам, стыд ему. Само время откажется от него;
из двадцатого века он попятится в викторианский,
девятнадцатый...
Я часто вспоминаю Корчака во время этой постановки.
Кажется, получается. Материал Лира и Корделии
в плену.
То, с чего начинается замысел этого фильма.
Только бы продлить этот образ во времени. Дать ему
покой движения. Иначе — зрительная скороговорка —
318
Записи по фильму «Король Лир»
мой страшный грех, беда, от которой не могу отвязаться.
Нет времени — самое ужасное в киноработе.
Нужна воля преодолеть тысячу препятствий, чтобы
удалось снять не только главное (без чего не обойтись), но
то лишнее, что и создает протяженность зрительного
движения.
Секунду, растянутую до вечности, чтобы потом, разом
месяцы спрессовались в минуты. 25 X
Почему-то все странные, парные антагонизмы этой
трагедии, полюса характеров и воль, образующие единство
железного века, больше всего напоминают мне стихи
Арсения Тарковского:
Мы крепко связаны разладом,
Столетья нас не развели,
Я волхв, ты волк, мы где-то рядом
В текучем словаре земли 42.
Волхвы и волки!
Воспринимать этот фильм, боюсь, будет куда сложнее,
чем «Гамлета». Сопереживать герою нелегко.
Если будут жалеть старика — плохо; испытывать
антипатию к нему — того хуже.
Видимо, нужно мыслить вместе с ним: открывать
реальное положение вещей, задавать себе множество
«почему?», «за что?», «как могло случиться?». И главное: «кто
виноват?»
Отвечать так же, как он: «Я сам».
Боже мой, как я ненавижу съемки! Помесь тоски,
бешенства, физических неприятностей. И всегда
ощущение: не выходит, сколько ни заставляй себя быть
требовательным, не соглашаться с тем, сколько частей кадра
не такие, какими им следовало бы быть. Интересно бывает
от силы час — выстроить кадр, ухватить образную мысль
в пространстве.
И потом — семь часов постылого ремесла. Вот так.
Записи по фильму «Король Лир»
319
Недавно мне попался дневник Франсуа Трюффо. Когда
я задумываю фильм, пишет он, мне кажется, будто я пишу
роман. С первого же съемочного дня у меня чувство, что
я нахожусь на палубе парохода, терпящего кораблекруше-
Что-то толковое можно снять сразу, с маху, что
называется с отчаяния, увлекаясь, не задумываясь и, главное, не
анализируя, не сомневаясь.
Плохо, что я сбился с того отчаяния, на котором снимал
последний месяц в Нарве.
Я остановился на месяц, все смонтировал и потерял
какое-то важное внутреннее состояние. Теперь придется
начинать с начала, а ведь это уже конец.
Фильма?..
29 XII
Съемка шалаша после недели болезни.
Пожалуй, впервые нет мучений от труда в павильоне.
Камыш и солома, а не липа декорации.
20 февраля
Кажется, в этой постановке мне удалось добиться
совершенной свободы актерского существования в
сложнейших обстоятельствах пьесы.
На съемках последних месяцев я снимаю урожай
с посева — долгого и тяжкого труда. Хотя, пожалуй,
тяжким называть его несправедливо: уж больно много радости
было как раз в этом — общении с интеллигентной и
талантливой компанией артистов.
Мы одинаково полюбили одни свойства явлений жизни
и возненавидели другие. Нас связала не эстетика, а этика.
28 II 70
Мы наивно считаем, что разгадываем Шекспира.
Нелепая постановка вопроса.
Это он нас разгадал, а не мы его.
320
Записи по фильму «Король Лир»
Я заканчиваю фильм с ощущением несправедливости.
То, что я с таким трудом строил,— разом разрушится.
Теперь я понял, что трудился над тем самым сложным, что
является основанием театра: собрал, подготовил,
объединил труппу. Долгим трудом мне удалось вместо собрания
исполнителей разного таланта создать то, что было мне так
дорого в молодости,— мастерскую.
Это слово кажется мне верным. Ведь дело не в
профессионалах, пригодных для квалифицированного
исполнения, а в компании единомышленников, смело пробующих
выразить то, что сперва понимаешь скорее чувством,
нежели мыслью, что ускользает от определения словами, что
кажется важным, необходимым выразить. Но что выразить
общеизвестными способами нельзя. И что нельзя выразить
самому в одиночку.
Вот и становится необходимым собрать тех, кто станут
единомышленниками. И дело не только в том, что каждый
из них выполнит хорошо свою часть дела. Что-то перейдет
от человека к человеку, объединит людей.
Именно это, пожалуй, в «Лире» мне удалось больше
всего. В «Гамлете» и ничего похожего не было.
Создан театр; нужно подобрать репертуар, начинать
новые спектакли. Вот только теперь вся работа этих лет
себя и оправдает.
Но теперь нужно прощаться: спасибо, дорогие друзья,
мне было очень интересно работать с вами. Желаю всем
вам удачи. Жаль, что мы трудились в кино и то — самое
важное — чувство общности, воспитанное Шекспиром, его
представлениями о добре и зле, об истинном и мнимом,
о сути искусства и формах ее выражения — не даст
следующих урожаев.
Я строил здание, совсем позабыв, что служу в цирке
шапито.
Сшибут палки, упакуют полотно. Труппа разъедется по
другим городам.
А я, как в «Цирке» Чаплина, грустно подниму
бумажный круг, через который прыгала наездница.
28 III 70
Записи по фильму «Король Лир»
321
Один из моих зарубежных коллег никак не мог понять,
для чего я так долго предварительно репетирую с
артистами.
— Вы начинаете работать с ними задолго до
съемок? — удивлялся он.— Даже не на месте, где вы
будете снимать?.. Что же там можно делать?
Потом он нашел ответ: «Вы просто приглашаете
артистов, которые не подходят к ролям».
Это был хороший режиссер, и артисты в его фильмах
хорошо играли. Он отлично понимал в
кинематографической режиссуре (лучше меня). Он хуже понимал в
шекспировских образах.
Вероятно, в Англии труд, которым я занимаюсь, был бы
излишен. У нас, к сожалению, до сих пор нет жизненной,
реалистической школы исполнения Шекспира.
Я не только ставил шекспировские фильмы, но
пробовал найти какие-то основы такой школы.
«Широта входит в природу человека; когда взывают
к широте, то взывают ко всему человеку, ко всему, что его
составляет, и в ответ является энергия, настоящая
способность жить и действовать,— писал Чехов.— Всякая
узость идет против истинных масштабов жизни, и поэтому
она кончается насилием над нею» (цит. по «Нов. миру»,
1969, № 10, стр. 251).
Худосочию мысли, скудоумию начетчиков Шекспир
противопоставляет щедрость человеческой природы,
размах мысли, глубину чувства.
И заблуждение, и прозрение, и энергия негодования,
и мучительность поисков истины — во всех движениях
Лира эта щедрость.
Последние съемки. Холод, сырость, залезающая в
душу. Основное чувство, как всегда в киноработе,
ускользающих последних дней, часов, минут.
Каждый день я систематизирую оставшиеся кадры: те,
без которых не будет фильма, те, что обязательно нужно
ггереснять, те, что очень хочется переснять, те, что, увы;
11 Г. Козинцев, т. 4
322
Записи по фильму «Король Лир»
вышли плохо, но видно — греха уже не искупить.
Времени совсем мало, времени вовсе нет.
22 IV 70
Исполнение № 10 к фильму «Король Лир»? 44
Голос трагедии. Не какое-либо изящно-поэтическое
музыкальное выражение мотива смерти, а гигантская
мышеловка. Мышеловка во весь мир.
Ужас железной черноты, медного Ничто.
27 V
Сегодня — после дней страшнейшего кризиса всего
фильма, когда казалось, что Ярвета озвучить
невозможно,— пришла надежда. Гердт «заговорил» 45. Я услышал
верный тон звука Лира. В этом вся трудность: звук Лира,
такой же, как его взгляд.
30 VI
Все свои постановки (кажется, только кроме ранних
лет) я заканчиваю либо с ощущением острой,
непереносимой боли от того, что «не так», «не то» (неверный звук,
фальшивое движение, грязный переход...), либо — это все
же легче — тупого, тоскливого неудовлетворения.
Только профессиональная привычка, выработанная
годами, заставляет меня упорно добиваться хоть немного
лучшего.
Ну, а «Лир»? Фальшивый, актерский, неверный звук
многих мест озвучания. Скороговорка в постановке, боязнь
неэмоциональности в многих местах, которые следовало бы
показать холоднее, спокойнее, подробнее.
Удовлетворение от труда Вирсаладзе, большинства
ролей. Здесь я «умер в актере», а нужно было «умереть
в Шекспире».
16 VII
Начинается последняя стадия работы: взвешивание
четвертушек метра пленки, клеточек. Микромонтаж более
важный, чем склейка больших панорам.
Записи по фильму «Король Лир>
323
Налаживание дыхания фильма, плавности хода, где
нужно, а где нужно — стычки кадров, резкости переходов.
24 VII
Наступает период, когда монтажная переводится на
военное положение, потом на осадное. Потом черт его
знает на какое. Видимо, на положение корабля, который
уже наполовину затонул. Режиссер сходит с мостика
последним, чтобы отправиться в сумасшедший дом. Он спятил
с ума на том, что считает, будто корабль можно еще
спасти, вырезав из одного перехода в третьей части шесть
клеток, добавив к другому — в пятой — четверть метра
и заменив два слова в дубле озвучания.
25 VII
Почему так устроено наще дело, что то, что — само по
себе — очень любишь, необходимо хоть немного да
испортить, чтобы, потеряв свое самостоятельное, даже самое
высокое значение, оно стало частью — неотрывной от
целого — фильма.
Так, увы, я часто вынужден поступать с музыкой
Шостаковича. Она не может жить, естественно
развиваться, стать самим движением фильма, если при перезаписи не
смещена ее чисто музыкальная структура (разумеется, не
целиком, а в какой-то части), если не возникают по своим
первоплановым, игровым значениям то стук шагов Лира,
то выкрики, то шепот толпы. И только преодолев, вытеснив
все это — натуральное, естественно жизненное,— она, все
заглушив, слышится во всю мощь, когда король
появляется на краю башни, и музыка становится уже не
оркестром, а молвой легенды.
Стихи неотрывны от звука голоса. Трудно себе
представить, чтобы у Гейне был бас, у Маяковского тенор.
У Мандельштама был какой-то петушиный, ломкий
голос, у Ахматовой прекрасные, глубокие низкие ноты.
Чтобы не оставалось сомнений в совершенном
несходстве Корделии и Офелии (не только по характерам, но и по
11 *
324
Записи по фильму «Король Лир»
звучанию), Шекспир заставляет Лира вспомнить перед
смертью, что у младшей дочери был «низкий голос».
2 VIII 70
14. VIII. Первая спечатанная копия. Все же очень
много от «кино», «игры».
Внимание к звуковой дорожке. Нужно сломать
профессиональную тупость, скорее даже ремесленную, этих
определений: шумы, музыка, речь.
Все это — музыка. Или лучше — шум, гул: гул
времени. Слышимое пространство. Иногда оно воет и плачет, как
пес перед несчастьем. Вой ветра на огромных пустых
площадях. Гул толп и плач детей, топот тысячи ног и — в
совершенной тишине — плач одного старого человека.
Боже мой, и все это называют «озвучанием» и дают на
это несколько рабочих смен. Опять предстоит бой за то,
чтобы добиться хоть части этой образности.
Значит — звук пространства эпох народных страданий,
войн, крахов государств.
Помню ли я этот звук начала революции? Слышу
пустоту замерзших вокзалов, жалобные стоны одиноких
паровозных гудков, ветер, далекий цокот копыт, сухость
выстрелов. И отчетливо помню запах: хлорки —
сыпнотифозной дезинфекции; отхожих мест, засыпанных известью,
и другой, спертый воздух эвакопунктов: махорка, пот,
грязное тряпье.
Собирается материал для звуковой дорожки «Лира».
Последние годы моя режиссерская работа начинается
с исследовательской. Вчитываясь в сочинение, которое
я люблю уже множество лет, я открываю мысли и чувства
автора, существующие не только в тексте, но и между
строчками, отношения не действующих лиц между собой,
а автора и его героев и — самое важное — отношение его
и времени.
И тогда я открываю для себя причину своего
увлечения, всепоглощающего внимания (оно проходит сквозь
Записи по фильму «Король Лир>
325
всю жизнь) к этому автору: это отношение мое и моего
времени.
Автор открыл мне глаза, назвал то, для чего я бессилен
был найти слова.
Тогда начинаешь не читать, а видеть. Зрительное
движение возникает изнутри текста, текст ужимается все
больше и больше. Люди становятся видны вблизи.
Можно начинать постановку.
Ни содержания, ни формы в этом образовании новой
реальности нет: здесь все содержательно и все получает
реальность лишь в особом способе выражения.
А «Лир» кажется мне теперь лучше. Переозвучив почти
все четыре раза, я как будто изъял из фильма то, что мне
так не нравилось. Гердт — молодец, вложил в труд
множество сил и в конечном итоге прекрасно озвучил Ярвета.
Пожалуй, кроме него, никто бы этого не смог сделать.
Давно уже я работал из последних сил. А теперь из
каких?
Перезапись — технический процесс: сведение речевых,
шумовых и музыкальных пленок воедино. Для меня это
восстановление прав поэзии. Купированные строчки,
волны шекспировских стихов вновь слышатся, движутся,
нарастают и откатываются звуковыми волнами: слова,
шумы, музыка становятся единством поэтическим,
метафорическим, а вовсе не натуралистическим, где слышно все
то, что можно услышать в таком случае в жизни.
При перезаписи первых сцен я хочу сохранить
купированные в стихах волны — нарастание, затихание и опять
вскипание гнева Лира: проклятие Корделии, изгнание
Кента, ссора с французским королем.
Э. Ванунц — художник и мастер звукозаписи. Мы
бьемся вместе с ним, чтобы перезаписью добиться этих
контрастов, смены тишины и громкости, заканчивающейся
музыкой — безумием обожествления короля в момент,
когда он совершил самое нелепое и несправедливое дело всей
своей жизни.
326
Записи по фильму «Король Лир»
Стихи сокращены здесь наиболее сильно: гром метафор
и гипербол неминуемо привел бы к условному, к
декламации, но все три нарастающие волны поэзии этого места
сохранены в ритме, ходе монтажа, характере звукозаписи,
в музыке.
Шаги Лира, идущего к народу по деревянной лестнице,
слышнее, чем тутти оркестра.
Скрипы, шорохи, лязги, вой псов — движение
королевского обоза, нелепый и громоздкий пуск машины власти,
свиты, шекспировских «ста рыцарей» — одна из сторон
легенды о короле с головы до пят.
Злой и сухой треск пламени, горящего на зубцах
замка,— иллюминации в честь короля — это грохот
проклятий Корделии, огня, который должен ее испепелить, это
замена метафор и гипербол, нарастание звучания волны
монолога Лира.
25 IX
Во времена немого кино я особенно увлекался ветром.
На большинстве натурных съемок нельзя было услышать
ни слова. Ветродуев тогда не было, и мы работали с
аэросанями. Блоковская метель часто бушевала на моем экране.
Грузовики подвозили свежий, пушистый снег, его
подбрасывали лопатами перед пропеллерами.
Теперь мне в многих сценах хочется слышать ветер. Мы
пробуем множество вариантов звукозаписи: подлинный
ветер в лесу, имитацию. Все кажется мне вялым, хилым,
заставляющим вспомнить шумы театрального спектакля.
Лир у остывшего камина проклинает старшую дочь.
Как добыть звук завывания ветра в трубах?
Слово «завывание» дает повод просить вой пса. Не
то. Пробуем вой шакала. Мешаем его с ветром. Не то.
Приносят вой волков. Смешиваем с двумя пленками с низким
и высоким звуком ветра: как будто тот характер.
Эта звукозапись (соединение четырех, иногда пяти
пленок) становится одним из лейтмотивов фильма. На
площади города, во время пожара, в камине воют волки.
Слава богу, что волки не пишут писем в редакции газет,
разоблачая ошибки в кинофильмах, где все не как в жизни.
1 X 70
Записи по фильму «Король Лир»
327
6/XI. В 3 часа дня закончен «Король Лир».
«Лир» сдан. Комплименты на худсовете в Ленинграде,
в Москве в Комитете.
Радости ни капельки.
Попробую еще несколько дней поработать: убрать
некоторые длинноты, усовершенствовать перезапись.
Сколько всего, что было хорошо задумано, не вышло!
23 ноября.
Вчера вечером — наконец! — я закончил —
окончательно! — «Лира».
Вырвал еще одну (после того, как фильм был принят)
неделю работы. Сокращал, перемонтировал,
перезаписывал.
Мне казалось, что я сделал немало: ритм стал круче,
плотнее звуковая ткань.
Спросил ассистента по монтажу:
— Сколько же я в итоге вырезал?..
— Семнадцать метров.
Просмотры. «Сегодня у нас праздник», «Хочется
поздравить...» и т. д.
Нет радости. Ни хоть капельки ее. Как мало удалось
осуществить из задуманного. Хороший сценарий. Хорошие
(в большинстве) артисты. И проклятое «кино». Хоть бы
один человек — за все три года — успокоил меня, сказал:
не торопись, работай спокойно.
6 XII 70 (возвращение из Москвы)
Фильм, особенно заканчивающийся, всегда являлся
для меня почти физическим мучением. Я до боли
ненавидел, приходил в отчаяние от неудач: они были повсюду,
и я выбивался из сил, стараясь их исправить.
Потом, как боль, фильм утихал, оставлял меня.
328
Записи по фильму «Король Ли-р»
Боль становилась менее острой, она как бы удалялась.
Фильм отдалялся от меня, начинал жить отдельной
жизнью. Она могла меня радовать или приводить в
отчаяние.
Но все это было уже вне меня. Я жил уже чем-то иным.
Когда теперь, после того как «Лир» закончен, меня
спрашивают о замысле фильма, об его главной теме,
концепции и т. п., я теряюсь. Казалось бы, написав об этой
трагедии главу в книге, поставив ее в театре и через три
десятка лет в кино и, наконец, выправив эти записи, я могу
на эту тему петь как птица.
Увы, никакого пения у меня не получается. Ни
объяснять, ни спорить, защищая свою точку зрения, я больше
не могу.
Концепция? Может быть, пейзаж зольника, по
которому бежит в бурю шут... Возможно, то, как солдат пинает
сапогом шута в конце... И конечно же, напев дудочки шута.
Что еще добавить к этому? Походку Лира, когда он идет
с нищими, его волосы в ковыле.
Да, и конечно же, бесконечно тянущаяся нота фа на
закрывающемся черной тучей небе. Да, и эта
заполняющая весь экран серо-черная туча, в которой маленькие
круглые просветы похожи на глаза (меня чуть не сшибло
с ног, когда лаборатория в одной из первых копий
напечатала ее светло-серой: вот тогда «концепция» пропала).
И музыка Шостаковича, бьющая молотами в голову так,
что кажется, сейчас разломается черепная коробка...
<Конец декабря 1970)
Этот заброшенный погост я вижу со всей
отчетливостью. Зарытые в землю намерения, неснятые кадры.
Сколько их. И как на зло те, что казались важными. Долго ждал
съемочного дня, чтобы выразить мысль. Не дождался. Не
хватило упорства.
Мне хотелось выявить родовое сходство отца и дочерей.
Мы искали похожие лица артистов. Отыскать их, конечно,
не удалось. На репетициях пробовали найти схожую черту,
одинаковое проявление в сильные моменты. Например,
Записи по фильму «Король Лир»
329
чуть заметное подергивание уголка рта (отличимое лишь
на крупном плане) — впервые его можно было увидеть
у Лира, после того как Корделия отвечает ему молчанием;
затем Гонерилья встречает отца по возвращении с охоты:
она поворачивается к нему — крупный план — и следы
тика, как у отца. Регана подносила пальцы к губам: она
скрывает волнение. Я помню репетицию, когда Ярвет,
Радзинь и Волчек неутомимо пробовали варианты такой
черты. Наши артисты были отличными товарищами, не
было случая, чтобы они недружелюбно встретили даже
самые дикие предложения режиссера.
Мне казалось важным в моменты крайнего
раздражения показать и родовую общность; Ругон-Макары другой
эпохи.
А «Лира» я уже давно не вспоминаю. Боюсь
вспоминать, счастье, что не вспоминаю. И хорошие рецензии, увы»
меня не радуют. Разумеется, отлично, что не ругают. Но
все равно — тупая, мучительная боль не проходит.
21 II 71
20 авг. Канада появляется суровой — темно-зеленой
и темно-серой 46.
В аэропорту обнаруживается, что две коробки с
фильмом, посланные на Конгресс из Москвы, пропали.
Начинается тревога: «Лир» уже объявлен в программе.
Вечером в комнату университета Британской
Колумбии, где я живу, стучат: директор Конгресса просит меня
зайти в его оффис.
— Хотите знать, где находится король Лир? —
спрашивает меня профессор Рудольф Хабинихт и сразу же
показывает рукой на угол комнаты.— Король Лир здесь!..
На полу стоит ящик.
Ян Котт торжествует. Он имеет все основания
торжествовать: он сближал в своей книге «Лира» и «Конец
игры»; в этой пьесе Самуэля Беккета герои живут в мусорных
ящиках.
330
Записи по фильму «Король Лир>
28 авг. Просмотр «Короля Лира».
Боже мой, какой же это был успех. Сколько длилась
овация? Пока я не ушел из театра. Но и на улице она
продолжалась. И — главное — каждый ловил меня на ходу,
чтобы пожать руку. Заплаканная женщина бросилась из
зала и, запыхавшись, вернулась — уже к машине,—
принесла мне желтые розы. Мадам Брэдбрук из Кембриджа —
та самая, книгу которой подарил мне Эйзенштейн,—
обняла меня и стала целовать.
Фильм принят единодушно и безоговорочно. Какие там
разговоры: что лучше — «Гамлет» или этот фильм?..
Абсолютное признание всего в фильме.
«Лучшего Лира, чем Ярвет,— не было». «С начала
учебного года большинство профессоров начнут свои
курсы английской литературы с рассказа о вашем Лире».
То, что я больше всего слышал от шекспироведов, даже
не касалось Шекспира: «Это лучший фильм, который
я видел за всю свою жизнь».
Конечно, эта аудитория была в каком-то случае самая
лучшая, но она могла бы быть и самая худшая: искажения
существа пьесы она бы не простила 47.
Когда текст «Лира» подвергли анализу в компьютере,
то на первое место вышли союзы but, if (если, но, однако).
Ну, а если закодировать и зарядить в кибернетическую
машину не «Лира», а сочинения о «Лире», какое
выражение окажется наиболее частым? Думаю, «все
человечество». Как только разговор заходит об этой трагедии, «все
человечество» тут как тут. И я, не хуже других, уже не раз
его помянул. Слова, конечно, хорошие. Только почему их
не относят к «Ромео и Джульетте» или «Отелло» (тоже
великим, бессмертным)? Почему судьба сравнительно
небольшого числа людей распространилась на целый мир?
Как сделано все человечество у Шекспира?
Принцип отбора тот же, что и на библейском
корабле. Все сословия, возрасты, интересы. Те, кто
задумываются над смыслом жизни, и те, кто находят его в том,
чтобы убивать тех, кто задумывается; люди, способные
любить, и люди, взращенные для ненависти; те, кто
Записи по фильму «Король Лир»
331
возделывают землю, и те, кто вытаптывают посевы;
те, кто кончают свой век, и те, кто начинают
следующий... Каждый человек и особенный (потому что он
человек), и похожий на других (потому что они
люди). Ковчег несется в черной пучине Вселенной.
Катастрофы нельзя избежать: противоречия
непримиримы.
Нет другой трагедии, где столько говорилось бы о
неравенстве. Оно и в расстановке героев, и в главном герое: он
был и человеком в мантии, и отребьем земли. И, зачерпнув
с обоих материков, вырос над ними: просто человек.
Материя, развитая настолько, что, по словам автора, способна
жить дольше всех и вытерпеть больше других.
Возможности трактовок неограниченны. Каждый
новый взгляд всегда ценен, старые представления
выродились в шаблон. Но каждый, разумеется, читает
классические произведения по-своему. Взамен «всего вместе»48
появляется что-нибудь одно. Все выстраивается чудо как
стройно. Определить тему, идею теперь несложно. Есть
ключ, которым можно отпереть ларчик. Ключ —
концепция. Режиссеры — вместе с исследователями —
предлагают множество таких интерпретаций.
И вот тут мне вспоминается роман Анстея «Венера
в парикмахерской». Подвыпившему молодому человеку
взбрело в голову, когда он возвращался домой через парк,
надеть на палец статуи Венеры кольцо — сдуру вспомнил
он известное предание. Утром в парикмахерской, где он
служил, обнаружилась голая женщина: Венера
принадлежала тому, кто ее призвал. У молодого человека невеста.
Что тут делать? Парикмахер прячет богиню за
занавеску — пусть она увидит ничтожность его профессии и
поймет, что они не пара.
Венера становится свидетельницей его работы.
И здесь начинается концепция.
— Ты силен и могуществен! — восклицает богиня, как
только дверь закрылась за клиентом.— К тебе пробрался
враг. Ты связал его своим плащом и вымазал его лицо
позорной белой краской трусости. Пленник боялся
пошевельнуться, а ты плясал вокруг него танец войны, играя
332
Записи по фильму «Король Лир»
кинжалом под его горлом. Взяв с него выкуп, ты
милостиво даровал ему жизнь.
Такое видение (как выражаются режиссеры) сцены
бритья тоже возможно. Здесь, безусловно, есть
(обращаясь к той же терминологии) свое решение, немало находок.
Отличное дело придумывать подтекст, но и текст
Шекспира прочесть полностью нелегко. Полностью — вот
главная сложность.
Я много писал о Шекспире в русской культуре и
вспоминал Гоголя, Достоевского. Но самый трудный и самый
прекрасный русский Шекспир — это Шекспир Пушкина.
В этот мир входит все. И тут нет концепций.
Наше горе в том, что «концепции» принижают
Шекспира не оттого, что режиссеры мудрили, а потому, что
Шекспир всегда оказывается более мудрым. Мучительно
сложно пробираться в запутанные ходы, лабиринты,
ощущать глубину духовного мира Достоевского, но уже
немало людей смогли открыть этот мир, описать его,
осознать.
Ну, а если нет никакой сложности. Если все так просто.
На поверхности просто. Просто, как фраза «пир
продолжается» 49, как, может быть, самые шекспировские
произведения мировой литературы — маленькие драмы Пушкина.
Иногда даже не драмы, отрывки. Несколько фраз,
доносящихся до Фауста, когда он гуляет по аду:
«Что козырь?» — «Черви».— «Мне ходить».
— «Я бью».— «Нельзя ли погодить?»
— «Беру».— «Кругом нас обыграла!
Эй, смерть! Ты право сплутовала».
— «Молчи! ты глуп и молоденек.
Уж не тебе меня ловить!
Ведь мы играем не для денег,
А только б вечность проводить!» 50
<1971>
г
ЗАПИСИ ИЗ РАБОЧИХ
ТЕТРАДЕЙ
1940—1973
1940—1946
Тот, кто не живет для других, не живет для самого себя:
«Qui sibi amicus est, scito hunc amicuum omnibus esse»
(Монтень) '.
С тех пор, как человек понял — он живет в
несправедливом мире, он начал искать справедливость.
И отсюда возник разговор о смысле жизни. В чем смысл
существования, какова цель, к которой должен стремиться
человек.
И появились две разновидности людей: люди своей
цели и люди общей цели.
Какова своя цель? Богатство. Золото. Карьера. Свое,
корыстное счастье.
Какова общая цель? Счастье всех. Справедливый мир.
Справедливое устройство общества — потому что оно
справедливо для большинства.
Любовь. Это начало. Счастье не только одного, но двух,
а потом семьи.
Пора уничтожить кадр как живописную картину, как
замкнутое в самом себе целое. Монтаж — не экспозиция
выставки. Сюжет — не пyтeвoдиfeль по вернисажу.
Американцы уничтожают рамки кадра и границы стыка
съемкой с хода. Смелым пользованием первого плана
(в том числе и бесфокусного).
Особо противно живописное решение в исторических
картинах.
Основное в кадре и в особенности в пейзаже это чтоб
его не надо было «рассматривать», «обозревать».
Мгновенное впечатление. Ни секунды остановки
внимания. Короткий наплыв — не только сглаживание
переходов, но и новый прием действия.
1940—1946
335
Опять та же проблема, что и раньше. Настроенчество? 2
Болезнь эта не начинается с кадра. Она начинается
с драматургии. Не ведение действия, а «атмосфера». Звон
уже порядком стершихся реминисценций. «Гранитные
берега Невы». В особенности не повезло Парижу и
Ленинграду.
Самое легкое для Лондона — Whistler 3. Опять туманы
и дымки.
<февраль 1940>
28/И. Смотрел «Петра» (2 серию). Последние остатки
немого кино. Человеческие проявления сведены к
произнесению нужного текста на неподвижных крупных планах.
Люди напряжены и загнаны в бутылку.
Основной бедой каждого начала работы является
«приблизительный» образ. Высказывание о герое
«вообще». Лекарство против этой игры «вообще» — два, оба
между собой тесно связанные: конкретность эпохи, стиль,
вырастающий из нее.
<1941>
Главными достоинствами постановки должны,
очевидно, явиться точность и подробность 4. Точная и подробная
характеристика, сделанная максимально экономными
средствами.
Все это, конечно, предполагает основы элементарной
грамоты — второстепенное не должно заслонять основное,
подробное не может превратиться в бессмысленно
перегруженное.
<начало июня 1941)
Самое отвратительное в кинематографе — это
«изображающий» актер на фоне «описывающей» декорации.
Изобразительность и описательность. Выразительность
и драматичность. Драматизованная среда.
Действенность!!!
336
Записи из рабочих тетрадей
Калейдоскоп эмбрионов человеческих драм (опять
фламандцы, опять Хогарт, опять Домье!). И главное,
опять Шекспир!
Наиболее неприятное и ненужное — монтаж по
принципу организации «настроения». Пассивное нагнетание
состояния. Пресловутое «томление». Классическая
затяжка американской кинематографии.
Основной принцип — действенность, драматичность,
максимальная динамичность.
Закономерность присутствия каждого кадра не по
абстрактно ритмическому или индивидуалистически-на-
строенческому принципу, а по необходимости, как
элемента действия, опустить который нельзя.
Что такое идеальный монтаж? Выборка всех основных
элементов действия и пропуск всех несущественных.
Кадр — кульминация данного отрезка действия.
На сегодняшний день наиболее интересное и
неразработанное — контрапунктное ведение действия.
Своеобразный монтаж по диагонали? Перспективный монтаж?
Строение кадра по кулисам действия. Организация глубины
кадра, «кулис действия» по принципу контрапункта. Что
такое глубина в музыке?
Всяческое изъятие описательных кадров.
<начало июня 1941)
Воздушная тревога. Над крышами Ленинграда
возникает вылезшая из чердачного окна фигура дворничихи.
Она в черном ватнике, на голове толстый платок, через
плечо противогаз.
Она спокойно, не торопясь, всходит на крышу и
оглядывает хозяйским взглядом Петропавловскую крепость,
Исаакий, Неву.
Она стоит над Ленинградом, как сторожиха. Она
охраняет город.
Это на нее, на ее добро летят бомбардировщики,
заготовлены 500-килограммовые бомбы и торпеды на
парашютах. Она стоит на крыше, как стояла у ворот или как
выходила в деревне «на околицу».
1940—1946
337
Есть знаменитый образ французской консьержки.
Это ленинградская дворничиха.
На углу Кронверкской и Кировского плакала
Дудинская. И хриплые громкоговорители заиграли, как в плохой
кинокартине, «Лебединое озеро».
Стало вдруг родным и трогательным понятие
«ленинградка». Девушка в сберкассе показалась удивительно
симпатичной, какой-то частицей понятия «дома». Это была
ленинградка.
Первое, чем зажил город, была детская эвакуация.
Детские вещи заняли город. Громоздились на грузовиках
кроватки. Куклы и тряпичные звери виднелись сквозь
веревки и тряпки тюков. Проезжали автобусы, груженные
детьми, как вещами.
Лицом города стало лицо плачущей матери.
Война въехала в Ленинград на фронтовых машинах.
Мчавшиеся машины изменили привычную внешность улиц.
Это было разномастное стадо машин-беженцев.
В едином потоке причудливо смешались самые новые,
изысканные марки латвийских и эстонских малолитражек,
и уже давно не виданных «газиков», и просто каких-то
инвалидов времен зари автомобилизации.
Фронтовые машины делились на тщательно и
профессионально замаскированных, покрытых сеткой с
искусственными листьями или аккуратно раскрашенных
масляной краской, и покрытых самодельной окраской,
размазавшейся от дождя. Грязь облепила их со всех сторон. Грязь
стала защитной окраской. Мчались с измятыми крыльями.
Пробитые пулями кузовы. Стекла были выбиты или
продырявлены круглыми дырками. Из окон торчали ветки.
Двигались грузовики, закрытые кустами. Хмурые, давно не
бритые, обляпанные грязью люди в касках спали на
мешках.
338
Записи из рабочих тетрадей
Движущийся лес из «Макбета» двигался по
Кировскому проспекту.
Как глупые воспоминания о мирном времени качались
на ветру кругляшки знаков уличного движения. Машины
круто заворачивали под белым кругом с красным ободком.
Война ворвалась в Ленинград звуком сирены
воздушной тревоги. И вдруг все звуки настроились в этой
тональности. Завыли тормоза трамваев и машин. Выл ветер в
громкоговорителях радио. Выли закрывающиеся двери.
Секретарь райкома собирает фотографии разрушений:
«Фашисты мне все восстановят!»
Когда-то характер хозяев квартир можно было понять
по занавескам на окнах, по клетке с птицей, по горшочкам
с цветами, зимой по способу заклеивания окон.
Так, проходя по улице, можно было смотреть в окна и
думать о вкусах живущих за этими окнами людей.
Когда объявили о необходимости оклейки стекол
полосами бумаги, весь город стал в крестах, полосках,
квадратиках, зигзагах. И как это ни невероятно, не было ни
одного одинакового окна. Иные были расчерчены белой
бумагой с линеечной точностью, другие коряво облеплены
газетными полосками. Были густые решетки и редкие
кресты. Каждый хозяин расписался на своем окне.
Было очень страшно, ибо в городе сразу пропал
стандарт внешности дома. Потом этот стандарт вернулся.
Бумажные наклейки вылетели вместе со стеклами. Стекла
вместе с рамами. Дома стали стандартно слепыми.
На Поклонной горе рыли противотанковый ров.
Работницы с «Красной зари» узнавали знакомых актеров.
Под ногами была вода. Люди становились опытными.
Возникала особая «окопная мудрость». Специалисты
подбирали окопные сапоги и окопные перчатки. Казалось, что
никто не умеет копать, а ров вырастал на глазах.
1940-1946
339
Над головами летали самолеты, и каждый роющий
бросал копать и смотрел на опознавательные знаки.
Вблизи от трамвайной остановки было странное,
совершенно мирное время. Бродили гуси, висело сохнущее
белье. За столами люди весело ели суп и хлеб. Для нас
это было гордое и странное чувство — хлеб, заработанный
физическим трудом.
Взрыв не был виден, он возник багровым отсветом в
стекле соседнего дома.
Передавали по радио: снаряды рвутся по северной
стороне улицы.
По другой стороне ходили как обычно.
Очередь под обстрелом в полном порядке переходит на
другую сторону.
Разрушенная стена дома. В квартире на столе
громкоговоритель. «Граждане! Опасность воздушного нападения
миновала...»
18/Ш 42. Алма-Ата.
Развитие картины должно быть симфоническим.
Циклы, круги все расширяющихся тем.
Из обычной, малозначащей истории простоволосой
девушки должна вырастать эпоха.
В этой картине должна быть и медь и барабаны
военных сцен — войны XX века с чудовищными механизмами,
со странно вращающимися щупальцами звукоуловителей,
с железным стуком моторов, с черными силуэтами
подвязанных к самолетам тонных бомб, с изрезанным
прожекторами небом, перековерканной землей, вздымающимся
фонтанами взрывов морем.
Это должен быть «Ад» Данте, бури больного времени
Шекспира, «Потоп» Леонардо, «Страшный суд» Микел-
анджело — Апокалипсис!
340
Записи из рабочих тетрадей
23/111. Очевидно, главный недостаток сценария «Город,
в кольце» — линейность его темы. Вообще, то, что мы
считаем «мыслью», «темой»,— только одна из граней
содержания, образа всей вещи, и в тот момент, когда эта
мысль существует как некая легко формулируемая и
прочитываемая сентенция, произведение превращается в
убогую схему, плоскую мораль.
Тема может возникнуть в сознании зрителя только
путем сложных сплетений виденного и слышимого, только
в итоге своеобразного чувственного и мыслительного
монтажа, а не в итоге непосредственного прочтения.
Вообще, в искусстве тема одна — люди, их изменяемые
временем чувства и отношения.
Задача — ракурс времени и логика меняемых временем
(определяемых им) чувств, верность наблюдений и
подробность проникновения в них.
Тема неотделима от образа. Она не может жить на
губах героев. Она в ходе вещи, в ее пластике. Она в
сложном контрапункте людей, среды, природы. И главное —
она в оттенках, а не в выпирающем остове каркаса. Она
в чувственном восприятии, неотделимом от мыслительного.
Нужно искать два ракурса: симфоническое строение
темы сцены, симфонический ее ход, т. е. максимально
обобщенное, захватывающее огромное количество людей,
вовлекающее в себя и лирику, и эпос, и трагедию событий,
и сугубо бытовой акцент на поведении и восприятии
действующих лиц.
Как можно больше строить сцены, в особенности
сугубо драматические, на быте, на нелепостях сохранившихся
кусочков прошлой жизни. Может быть, в первой сцене
среди обломков бродит курица.
Вероятно, вообще неправильная вещь в современной
картине работа на «отобранном» лаконичном тексте. Это
то же, что знаменитые в 20-е годы геометризованные
лаконичные кадры и фотографии.
1940—1946
341
Могут быть два решения военной картины:
бытописательное (оно всегда интересно, если оно точно,
документально, это почти мемуарный интерес, и мы интересны
даже не как художники, а как срвременники) или,
наоборот, обобщение, уход в глубь темы и попытка взять тему
наиболее общо, работая большими понятиями — человек
и время, человек и природа.
Природа — буря в лесу, как продолжение бури войны.
Потом рассвет, оживающая природа. Может быть, ввести
крестьянина-партизана. Это уже план почти толстовский.
Осень. Грязь болота. Мокрые деревья. Порыв ветра,
полет листьев. Туман над болотами.
Мороз. Нет дороги. Снег по пояс.
Одного из раненых сделать ленинградцем. Письмо из
Ленинграда.
Лес с названием тропинок: «Невский проспект»,
«Дерибасовская», «Крещатик».
Враг на русской земле. Противоречие портрета и фона.
Они нелепы и противны среди березок и холмов. И очень
важно показать их походку. Сапоги завоевателей. Пустые
банки из-под немецких консервов на русской земле.
Окурок сигары.
Партизаны. Стратегия молниеносного удара. В полной
темноте врываются в село. Заранее известно, кто куда
бросает гранаты. Секунда — и их уже нет.
1/ХП 42. Рота — как коллективный герой. Эстафета
эмоций от командира до последнего красноармейца.
Радость роты. Горе роты...
Рота как один человек.
342
Записи из рабочих тетрадей
Первые отвоеванные 100 метров показать на картах
различных масштабов.
Мытье, бритье и одевание всего чистого перед боем, а
потом вид после боя.
Микельанджеловский и бетховенский дух, а может
быть, просто толстовский («Война и мир»).
Огромные просторы. Снятые с самолета поля сражений.
Разрушенные города. Плывет и плывет необозримое
пространство России. Израненная земля.
Найти ритм и ход повествования или, вернее, ход
показа. Постепенность открывания, обнаруживания. Так
вести тему беженцев — горе народа, от какой-то детали
на перроне вокзала до беженцев на полях возле Москвы.
Продумать с этой точки зрения панорамы. Постепенность
расширения или, наоборот, сужения темы.
Историчность мест действия: Бородино (?). Истра.
Ясная Поляна.
Историческая фреска.
Из наиболее противных воспоминаний о постановках
«Отелло» — дом Брабанцио. Полотняное сооружение,
наверху вырезанное окошко. На крики Яго и Родриго в
окошке появляется сам лично господин сенатор в подштанниках
с фонарем в руках. В дальнейшем он спускается вниз, за
ним следует бестолковая толпа статистов в пейзанских
париках, вооруженная алебардами из оперы «Гугеноты».
Классический образец театральной жизни из полотна,
картона и фанеры.
В этом нет иного, вымышленного театрального мира,
живущего своими законами, для которого не важны
точности реализма, логика правдоподобия. Это не выдумка,
а поделка, поделка грубая, не похожая, смешная.
1940—1946
343
Одна из трудностей реалистической постановки
Шекспира (а ставить его надо только реалистически!) в том,
что пьесы написаны для условного пространства, а не для
реальной среды.
Брабанцио на сцене «Глобуса» появлялся не из
подобия реального дома, а на верхней сцене, которая не
изображала дом, а была его знаком, условным обозначением,
топографическим символом. Поэтому логические
мотивировки (крик, впервые услышанный в спальне, отсутствие
обитателей нижнего этажа, которые должны были бы
первые реагировать на крик, и т. д.) не важны.
На нашей реалистической сцене это невозможно.
Натуралистическое ведение действия (как было бы в жизни) не
приведет ни к чему, так как для этого нет опоры в тексте.
Значит, нужен поэтический ход. Обобщенный образ.
Новосибирск 31 I 44 5
В искусстве существуют арифметика и алгебра. Четыре
правила арифметики применяют исправные ученики к
любой ситуации: это школа эпигонов МХАТа. Логическое
выстраивание состояния, наивные заветы: конец сильнее,
чем начало, основные места выделены. Общение с
партнером. Действие. Правда.
И алгебра. Характер через алогизмы, диалог вне
внешней связи с партнером. Основная мысль вразрез с видимой
на поверхности мыслью. Игра вразрез с «настроением»,
рвущая в клочья обывательское логизирование.
Нагромождение невероятных по сложности ходов мышления,
чувствования, действования. Трудность и даже
невозможность поначалу понять ход, продолжение мысли, чувства.
Выстраивание лабиринта сложностей характера. Задача,
которую не решить в минуту на школьной доске.
Так играл Хлестакова Чехов, Лира — Михоэлс,
Гранде — Межинский, Тарханов в «В людях».
Ход мистификаций. Построение начал, за которым
последуют неожиданные продолжения, никак не
ожидаемые концы.
Так построена Шекспиром сцена Ричарда и леди Анны.
Таков конец Растиньяка в «Отце Горио». Так начинается
«Смерть Тарелкина». Вероятно, так играл Робера Макера
Фредерик-Леметр 6.
344
Записи из рабочих тетрадей
Планировка должна иметь свой основной образ —
свою генеральную идею на всю сцену. Этот образ —
зрительная метафора сцены. Она возникает из соединения
цвета, света, соотношений человека и пространства, людей
между собой, людей и предметов, людей и среды.
У нас все еще наивно предполагают, что существуют
сами по себе: декорация, удобная для планировки,
освещающий ее «с настроением» свет, режиссер,
образующий красивые переходы актеров, так как стоять все
время на одном месте скучно. Как в балете: «поселяне
собираются вместе, образуя красивые группы».
Нужно найти основную частицу сцены, ее эмбрион,
и, поняв закон ее развития, ритм ее движения, характер
ее все вновь и вновь образующихся конфликтов, дать
ей вырасти в пространственную, цветовую, световую
формулу.
Формулу отношений человека, людей к пространству
и друг к другу.
Так возникла в «Шинели» формула человека в мире
пустот, памятников и вещей. В «Выборгской стороне» —
сгущенной, перенасыщенной человеческой среды. В
«Лире» — генеральная формула выхода из узкого мира,
замкнутого пространства в широкий, безграничный мир.
Отдельная формула: закрывающиеся перед лицом человека
(Лира) ворота — мир, не принимающий человека.
Прежде всего нужно заставить себя увидеть основную
точку сцены. Найти зрительный центр композиции. «Место
распятия» в религиозной живописи.
Иногда это не соотношение пространства. Это ритм.
Извивающаяся линия Л аокоона, бегущий круг «хоровода»
Матисса.
Точка предельного напряжения. Точка кипения. »
Это увиденные и услышанные вспышкой напряжения
внимания, тренируемого все время в определенном
направлении (на задачу сцены, на выявление характеров
действующих лиц, на образный строй автора, на воздух
эпохи), несколько кульминационных моментов.
1940-1946
345
Так, в «Отелло» — крик Яго (пронзительный крик —
как удар по нервам): «Она чудовище с зелеными
глазами...» Отелло в пустоте сената между замершими по бокам
сенаторами. Убийство: кровать на первом плане как ложе
смерти и медленно надвигающееся на зрителя из темноты
освещенное свечой черное лицо. Q .
13 III 45
Послевоенная история. Главное действующее лицо —
убитый на войне. История о том, как он остался в жизни.
Как в решающие моменты память о нем направляет на
хорошее. Спасает от плохого. Это и есть узлы фабулы.
Маленький ребенок, который растет на рассказах о нем.
Интересно, как его образ выявляется в сыне.
Мать вдруг узнает его привычки (зритель знает о них
раньше).
31 111 45
Два героя. Один — главное, что я жив, я понесу в мир
смерть. Второй — ничего, что я умер, я продолжаю нести
в мир жизнь.
Русская тема: память об убитых участвует в построении
совершенного мира.
26 IV- Фархадстрой.
Женщина в поезде. Раненая. Вернулась с войны,
в военной форме. Двое детей. Обучает их с военной
терминологией. Все время говорит девочке: «Учти!»
Сохранение военной привычки. Человек в штатском
козыряет генералу. В неподходящей обстановке военный
разговор: «Разрешите обратиться?», «Разрешите быть
свободным?»
Может быть, это разговор отца с сыном?
«Пирогов». Жизнь сороковых — пятидесятых годов
прошлого столетия. В жизнь входят люди «разного чина».
346
Записи из рабочих тетрадей
Действие из гулких зал Зимнего дворца, из разоряющихся
ампирных усадеб переходит на накуренные чердаки, в
редакции, в университет.
И возникает новый образ Петербурга.
Вместо величавых академических декораций, вместо
Росси, Кваренги, Растрелли — «петербургские трущобы»
и «доходные дома».
Если раньше город возникал через описания мрамора
и гранита, то теперь он возникает через запахи
(Достоевский).
Город всегда является наслоением разных эпох. Иногда
образом является именно это наслоение, иногда должен
быть точен именно какой-то слой. Интересен последний
слой.
(май 1946>
1948
До Белинского — отдельные писатели. После
Белинского — литература. Профессия литератора 7.
Все конфликты и столкновения — конфликты
искателей истины. Конфликты возникают в столкновении
отношений к цели литературы.
Это должна быть картина о литературе. Образы:
рукопись, инкунабула, книга, лубочная книжка, журнал.
Сила искусства. Могущество искусства. Люди плачут
над книгой, смеются, задумываются.
Сила искусства. Запрещенные стихи, над которыми
бессильна могущественная власть.
Сжигают книги. Убивают автора, а его слова живут,
зажигают сердца.
Может быть, частично решать эту тему на Мочалове 8.
Искусство, зажигающее сердца, и волшебник, владеющий
этой силой, не в состоянии удержать дар свой.
(январь)
Мы хотим, чтобы «прошло», и перестали желать, чтобы
«вышло».
1948
347
Бывают сумасшедшие, просиживающие ночи в игорных
домах. Они пробуют понять законы выигрыша. Изучают
комбинации выхода карт, ведут длительные исчисления.
Правила рулетки бессильны над искусством.
Послужной список никогда не входит в биографию художника.
А если сел за зеленое сукно — не жалуйся, что карта не
идет.
17 II 48. Разговор с Б. М. Эйхенбаумом о Лермонтове.
Сразу же после свидания в Ордонансгаузе Белинский
написал статью о «Герое нашего времени». Часть этой
статьи не имеет отношения к повести. Очевидно, это спор
непосредственно с Лермонтовым.
Именно здесь, после встречи с Лермонтовым,
начинается новая линия Белинского. Скептицизм,
действительность.
Тема Лермонтова: фатализм. Но не пассивность, а
бунт. Когда впереди неизвестность — я смелее. Пафос
борьбы, мятежа. «Мцыри».
Искусство не только отражает мир — оно егр населяет.
Работа над каждой вещью не только тренировка
сознания, но и совести. Нынче я беру великий урок у Белинского.
Одному человеку упал на голову кирпич, другому —
роскошная фарфоровая ваза. Стоит ли тому гордиться?
IX 48. Обсуждение какой-то картины. Несмотря на то
что происходит оно в небольшой комнате, ораторы кричат
с неистовой силой, будто на стадионе или в цирке.
Я позабыл похвалы и упреки, но крик все еще стоит
в моих ушах. Выступавшие не убеждали. Они оглушали.
Почему ораторы в наших худсоветах так пылки?
Станиславский о темпераменте и о наигранной
горячности 9.
348
Записи из рабочих тетрадей
Отдача всей жизни искусству и имитация страсти.
Эренбург говорил о великой инфляции патетических
существительных, безудержных глаголов и грандиозных
прилагательных.
То, что писали о Белинском, примерно выглядело так:
вначале под влиянием Шеллинга, Фихте, потом Гегеля,
потом утопических социалистов, потом Фейербаха.
Так и переходил от влияния к влиянию.
Но между прочим, он и сам влиял — на Гоголя и
Кольцова, на Некрасова и Тургенева. Значит, у тех тоже
«вначале влиял Погодин, потом Белинский, потом отец
Матвей и т. д.».
Белинский как грудное дитя, которому меняли
кормилицу. Молоко от груди Станкевича, Бакунина, Гегеля
и т. д.
А может быть, влияла жизнь и он — на жизнь.
Жизнь врывалась гоголевским захолустьем, трагедией
скептицизма на кавказских водах, воронежскими песнями
пастухов.
Она вторгалась в сердце смертью Пушкина,
Лермонтова, Кольцова. Хватала за глотку разбоем Булгарина.
Душила пошлостью Бенедиктова.
И со всех сторон безысходная тоска крепостного права,
цензуры, 3-го отделения.
Мы обычно презираем спор по системе «сам дурак».
В искусстве настоящий спор — это спор произведений.
В кинематографии спорят картины, а не выступления.
Часто мне кажется, что я режиссер, который спорит
с ораторами.
Боюсь превратиться в оратора. Но мне кажется, что
есть мои товарищи — ораторы, которые боятся превра*
титься в режиссера.
«Успех сказанного зависит не только от языка
говорящего, но и от уха слушающего» (Шекспир) 10.
1948
349
Протокол можно составить на уличное происшествие.
Художественное произведение подлежит другому суду.
«Поэты в самом деле, по римскому выражению,—
«пророки»; только они высказывают не то, чего нет и'что
будет случайно, а то, что неизвестно, что есть в тусклом
сознании масс, что еще дремлет в нем» («Былое и
думы») п.
Художественное произведение менее всего похоже на
шашлык.
Хорошие сцены. Плохие сцены. Требующие переделки.
Кусочки лука — вставить надпись. Помидор — новый
финал.
Оценка, выведенная из арифметического подсчета
схемы хорошего и плохого,— так же бессмысленна, как
анализ живописной картины, поделенной критиком на
квадраты.
Наивные люди предполагают, что фильм править очень
легко: удалить все плохие места и оставить только
хорошие.
Счастливые люди художники: никто не предлагает им
отрезать 12 см сверху справа, переписать каблук ботинка
и изобразить на заднем плане корову.
Чужие вкусы, симпатии и антипатии существуют вокруг
живописного полотна. Они не могут влезть вовнутрь него.
Если произведение делалось серьезно, если делал его
художник, то для развития искусства важнее его «свои
ошибки», чем «чужие поправки».
«...Без «человеческих эмоций» никогда не бывало, нет
и быть не может человеческого искания истины»
(Ленин) 12.
«...Моя сила не в таланте, а в страсти... в том, что моя
статья и я — всегда нечто нераздельное» (Белинский.
Письмо Кавелину, 7 дек. 1847).
350
Записи из рабочих тетрадей
Кроме того, его статья являлась таким же (а иногда
и большим) художественным произведением, чем то, что он
критиковал.
IX 48
Притупление рефлекса удивления — самое страшное
для искусства.
«О, друг мой Аркадий Николаевич! — воскликнул
Базаров.— Об одном прошу тебя: не говори красиво».
Как часто мы повторяем это как одну из первых
эстетических заповедей, забывая то, что мудрый Тургенев
вложил эту фразу в уста Базарову, первым свойством
которого было презрение к искусству.
Красиво говорил Шекспир, Гоголь, Белинский и
даже — Маркс.
Любопытно то, что, сочинив этот лозунг, особо красиво
писал сам Тургенев (как пародировал его потом
Достоевский!).
Можно писать по-всякому. Красивое письмо
нестерпимо только тогда, когда фейерверочный блеск фраз
прикрывает бессмыслицу.
Можно описывать смерть и исступленными
гиперболами Шекспира, и лопнувшей аптечной склянкой Чехова.
Опять к «кому это надо?». Особо отлично знал, что
нужно, Базаров. «Нет, брат, это все распущенность,
пустота! и что за таинственные отношения между мужчиной
и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения.
Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться,
как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все
романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть
жука» 13.
Вот часто мы и ходим смотреть жука!
Об этом же разговор Гейне и Гегеля о звездах 14.
А что, если свойство образа, первая его особенность —
есть именно то, что «не ясно»?
1948
351
Тайна искусства. Непостижимость секрета образа.
Как отрывается от земли пьяный кучер и как тройка
становится птицей-тройкой?
Как достигается изобразительная сила «Тамани»?
Как сделан проход по театру в «Даме с собачкой»?
Чудо искусства.
Ввести в сценарий человека с такой идеей: «До сих пор
человечеству говорили, что цель оправдывает средства.
Может быть, настало время утверждать, что средства
оправдывают цель? Как правило, до достижения цели
человечество (поколение, нация, эпоха) не ддживало, а
следующее поколение заставало уже цель в сильно
измененном виде. Вообще, очевидно, цель и средства суть
диалектическое единство, а не различные категории» —
так рассуждает он.
Ему же: «Как объяснить, что искусство не имеет
прогресса? Разве Шекспир выше Гомера, Толстой —
Пушкина и т. д.?»
7 X 48
Белинский писал, что стыдно хвалить то, что не имеешь
права ругать (письмо Герцену, 26 I 1845).
Художник никогда не бросает искусство, но бывает, что
искусство бросает художника.
Опять тренировка совести.
Во время эвакуации я понял, что такое богатство: это
когда у человека отдельно пальто и отдельно одеяло.
Тогда же я выяснил, что мало кто наделал столько горя
людям, как портной, изобретший разрез сзади пальто.
1949
Если в итоге многовекового развития человека
изменилась форма его черепа, рук, нервная система, то
изменилось и сознание — то, что называли дух, душа.
352
Записи из рабочих тетрадей
Наше сознание — итог воспитания тысячелетий. С
детства в отобранном виде мы воспринимаем все, что отобрал
в своей проверке человеческий прогресс, отбираем и
движем вперед, вновь отбирая отрицанием, открытием нового.
Так существуют эстетические нормы Греции, правовые
Рима, одухотворенность средних веков, гуманизм
Ренессанса, анализ XIX века и т. д.
Открытие. Отрицание. Вновь открытие. Иногда
существование в снятом виде. Все это — узнавание вширь
и вглубь человека, общества, мира.
Время при этом процессе — понятие относительное.
Экспрессионисты для нас гораздо большая старина, чем
Пушкин. Белинский часто современник.
Вероятно, огромная неравномерность в процессе
изменения сознания и изменения материально-технических
ценностей.
Наверное, физика Бэкона преодолена любым
школьником, а над Шекспиром все еще плачут наши зрители.
Каждый возраст, каждый период в жизни — это
открытие своего писателя.
Открыть Пушкина куда труднее и важнее, чем открыть
Джойса.
К путям русского искусства: у Чехова была самая
страшная нетерпимость — нетерпимость к нетерпимости.
17/1 49
Способность вызывать ассоциации. Глубинный слой
этих ассоциаций.
Верхний слой. Шекспир боролся с феодализмом. Гоголь
обнажал язвы крепостнического общества.
Но под заглавием «Мертвые души» написал: «поэма»;
Смерть песне, смерть! Пускай не существует!..
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене...15
Вечный обывательский характер. У него свои радости
и свои горести. Никто и ничто не может отнять у него «его
1949
353
счастье». Пусть горит мир, но вот сейчас, в эту минуту, он
вкусно поел или у него хорошо действует желудок — и это
счастье отнять у него нельзя. Слоновью кожу, которою он
отделен от мира, он. считает «жизнестойкостью
организма», «ферментом жизненной силы». Еще он пикник. Тут
и философия насчет пикников и астеников, толстых и
тощих и т. д.
Кроме того, вечная философия о суете сует и всяческой
суете. Он утверждает, что и счастье и горе не имеют
измерения в весе (они лишены понятия количества). Вот
поэтому его счастье от вкусного обеда для него
существеннее, чем счастье народа, его родины.
Если он горюет, то через час уже успокаивается. Ведь
так много возможностей вокруг для «его счастья»!
И конечно, он в совершеннейшей степени двурушник.
Это у него настолько в крови, настолько выработалось
каждодневной гимнастикой (ибо все же он вынужден
существовать в обществе), что он в данную секунду своего
времени — искренен. То же, что и у Хлестакова. Тут и
увлечение, и самозабвение, и пр.
Он по сути добрый, отзывчивый человек, но из-за
животного эгоизма, ставшего подлинной натурой,
лицемерия и величайшей лени приносит много зла.
Он призывает всех к работе, а сам устраивается так,
чтобы ничего не делать.
2 И 49
В письме к Гоголю Белинский писал, что русский народ
атеистичен, потому что — мужик крестится и
почесывается. Религия ко времени Белинского либо превратилась
в бессмысленный обряд, либо в предмет заработка денег —
службу при этом косном обряде, охраняющем помещичье-
феодальный строй («про кого русский мужик сочиняет
похабную сказку — про попа» ). Поп в представлении
народа всегда жирен — выгодная служба, отсутствие
работы, тунеядство — все дело только в исполнении обрядов
и механическом знании «текстов».
Еще религия жила у изуверов и сектантов. И у
интеллигентов-эстетов, которые превращали ее в философию,
искусство и пр.,— но и как всякие либералы, в конечном
12 Г. Козинцев, т. 4
354
Записи из рабочих тетрадей
счете, смыкались с самым махровым крепостничеством*
как бы они ни отмежевывались от него на словах. Поэтому
политически в одном лагере были и невежественный поп,
и изысканный философ-славянофил, и агент 3-го
отделения. Все они (несмотря на различие терминологии) были
плоть от плоти строя, насильственно сохраняющего
средневековые пережитки во имя крепостного права. И,
вероятно, самым неверующим классом было николаевское
чиновничество, самый равнодушный к совести класс, вот
почему так силен был удар «Ревизора» Гоголя, где был
только один чиновничий упрек: «Не по чину берешь!»
Нам трудно теперь поверить, какой смелостью должен
был обладать Белинский, чтобы восстать на авторитет
Бенедиктова. А кто теперь знает фамилии Бенедиктова,
Марлинского, Кукольника!
Потрясает то, что полунищий литератор Белинский
смог до основания разрушить все авторитеты
официального искусства. А ведь все эти Кукольники не зря получали
через Бенкендорфа бриллиантовые перстни. Они должны
были прославить империю в веках. Вероятно, Николай
считал их дело истинно патриотическим.
Прославили же Россию ее подлинные патриоты —
Лермонтов, Белинский, Гоголь, Некрасов. Как раз те, кого
считали разрушителями патриотизма, клеветниками.
Исследователи любили «строить концепцию». Это
обозначало выстраивание цитат. Иногда они выстраивались
так: вначале похуже, потом получше — писатель рос.
Иногда наоборот — деградировал. Тут и знаменитые
измерения на шаги. Особо удобен Пушкин. По этой системе
у него можно набрать цитат на все концепции на свете.
Как старая интеллигентная критика ловко (а впрочем
и не особенно ловко) обрезала цитаты^ Белинского,
превращая его чуть ли не в христианского пророка и в
поминутно заблуждавшегося «загибщика — искателя истины».
Диалектика учит рассматривать противоречия как
закономерности движения, развития, а не как статику
поступков, нуждающихся в вынесении отметок за поведе-
1949
355
ние. «Критика была бы, конечно, ужасным оружием для
всякого, если бы, к счастью, она сама не подлежала —
критике же... судите, верно ли, хорошо ли он это сделал;
а не толкуйте, зачем он сделал это, а не другое, или, вместе
с этим, не сделал и другого» (Белинский) 17.
«Заключу сим: ценсура печатаемого принадлежит
обществу, оно дает сочинению венец или употребит листы
на обертки. Равно как ободрение феатральному сочинению
дает публика, а не Директор феатра. Так и выпускаемому
в мир сочинению ценсор ни славы не даст, ни безславия.
Завеса поднялась, взоры всех устремились к действова-
нию; нравится, плещут, не нравится, стучат и свищут.
Оставь глупое на волю суждения общего; оно тысящу
найдет ценсоров» (Радищев) 18 — для сцены в Вольной
русской типографии перед выходом «Полярной звезды»:
Писарев обижался на Белинского и именовал Пушкина
всеми худыми именами с поразительным ощущением
бесспорности и безапелляционности своего приговора: «...в
так называемом великом поэте я показал моим читателям
легкомысленного версификатора, опутанного мелкими
предрассудками, погруженного в созерцание мелких
личных ощущений и совершенно не способного анализировать
и понимать великие общественные и философские вопросы
нашего века... читающая публика увидит ясно, без всяких
дальнейших толкований, полную ветхость того кумира,
перед которым по старой привычке и по обязанности
службы преклоняется до сих пор все наше филистерство» ,9.
Такой терминологии о Пушкине мог бы позавидовать
Маяковский периода раннего футуризма.
Секрет простой — Писарев перевел прежде всего
поэзию в прозу, вырвал отдельные строфы из монолитного
образа, отдельные стихи из жизни поэта и рассказал их
«своими словами», при помощи «здравого смысла». То же
сделал и Толстой с Шекспиром.
Писарев критиковал Пушкина за строчки, вытаскивал
нравоучение и не понимал, что Пушкин — это Россия,
русский язык, русское мышление, русская культура,—
12*
356
Записи из рабочих тетрадей
а не плохие или*хорошие стихи, с плохой или хорошей MOt
ралью.
Только нужно не забывать, что писать так, как он писал
о Пушкине, было небезопасно. Это была огромная
смелость. «Против течения».
В том, что я писал о Швейке, я упустил еще одну
сторону 20. Швейк — «нищий духом». Он очень добр. Тут
впародии на общественный строй использовано и нечто от
Мышкина. Не зря сразу же в полицейском управлении
появляется сравнение с восшествием на Голгофу. У
Швейка все время «подставление другой щеки».
27 II. Читаю Гоголя. «Сорочинская ярмарка», «Вечер
накануне Ивана Купала».
В чем все же секрет воздействия этих знакомых еще
с детства вещей?
Есть какое-то и чисто физиологическое наслаждение от
перенесения в этот мир, от сплетения возникающих в
сознании образов, пейзажей, от чистого и в то же время
сверкающего всеми красками языка. Есть во всем этом
w какое-то чисто гипнотическое воздействие. Самый акт
отдачи, полной отдачи своего сознания чьему-то другому
сознанию. Творческий акт писателя, который становится
собственным творческим актом. Вовлеченность в
вымышленную жизнь.
Для биографической картины при строении образа
героя необходимо единство его биографии и его
творчества. Только творчество, положенное в основу образа
(т. е. дело героя), превращает его в «рупор идеи», делает
его диктором научно-популярной картины. Одна
биография превращает героя часто в человека, не только не
связанного с делом своей жизни, но и это самое дело
компрометирующего
Перед нами два материала: творчество и биография.
Биография еще при этом относительная. Нельзя полностью
доверять ни сведениям автобиографий, ни мемуарам сов-
1949
357
ремендиков, Стендаль и Гоголь часто нарочно врали про
себя, как будто мистифицировали своих будущих
исследователей.
...Представим себе биографические данные, например,
Гоголя: странная смесь мистического высокомерия, самоу.-
ничижения, религиозного мистицизма и сугубой
практичности, хамства к окружающим", стилизация, например,
любви к Пушкину,, очевидная нелюбовь к Белинскому
и любовь к Шевыреву и. Погодину и т. п.
Нужно ли все это? Очевидно, в той степени, в какой это
может объяснить его творчество.
Обратный ход — отождествление героя произведения
с самим автором — об этой системе писал злобно
Лермонтов 21.
Кроме того, эта система приводит к бесконечному
самоцитированию, а стиль даже писем не есть стиль
разговорный.
Вспомним хотя бы Маяковского. Но в то же время
каждый, знавший Маяковского, узнавал его и в его стихах,
а стихи в его образе (тут и юмор, и ненависть ко
всяческому эстетству, и нарочитая резкая грубость, и тембр голоса,
и походка).
У нас еще практикуется особо гнусный стиль:
арифметическое сложение объясняющего свою деятельность героя
с некоторыми сценами биографии «для отепления»
(любовь к жене, что-нибудь у постели детей, чудаческая
странность).
Попробуем сказать так: в герое должен быть заключен
стиль его произведений.
Лежат у романистов внутри их произведений не только
образы героев, но и образ рассказчика. Образ этот
идеализирован, и в нем часто есть прямые мысли и суждения
автора. Ср. в лирических отступлениях «Мертвых душ»
темы судьбы комического писателя с теми же темами в
«Театральном разъезде».
Далее — ищи в этом отношение к своему творчеству
(иногда их бывает два: показное и подлинное).
Устраивай перекрестный допрос свидетелей (биографий,
переписки, мемуаров) — ищи не биографию, но судьбу
писателя.
Каждый писатель имел биографию и имел судьбу.
358
Записи из рабочих тетрадей
Судьба — это путь творчества, диалектически
конфликтующий с биографией. Противоречиво сплетающейся.
Слово «судьба» кажется каким-то мистическим, чем-то
не зависящим от личного, единичного, человеческого
желания, воли.
У Даля слово это соотнесено с подобными ему словами:
«участь, жребий, доля, рок, предопределение, неминучее
в быту земном».
Тут и лежит истина: писатель вовсе не волен в своем
творчестве, только дело тут не в мистике и божественном
предопределении, а в социальной детерминированности.
Вот почему часто монархисты пишут революционные
произведения (Бальзак), мистики создают школу реализма
(Гоголь).
Вот закономерности этой «судьбы», все то, что
детерминирует творчество, и нужно искать. Следовательно —
писатель и действительность, властно требующая
отражения в его искусстве. Мир и зеркало (Ленин о Толстом, об
отражении революции) .
Тут начинается уже не хронология, но эпоха.
Основной период творчества Белинского —
петербургский, где он заключен в узкие стены редакции и несколько
квартир, а истоки лежат в Чембаре, нищей юности и т. п.
5/V
Казалось бы, с годами должно прибавляться умение,
мастерство и, главное, уверенность. Получается же
обратное: в самой ранней молодости начинаешь с уверенности,
с убежденности в непогрешимости всех своих мнений
и оценок (такая их решительность!), а чем дальше, тем
меньше становится уверенности (я думаю, конечно, о
главном, об основном, а не о привычках ремесла, об
уверенности мысли, а не руки), потому что все более и более
сложной кажется жизнь, все более и более серьезным кажется
дело искусства, гениальными кажутся простые вещи
великих художников, тех самых, которых так простодушно
отрицал в «футуристической» молодости, так как знал
их только по гимназическим хрестоматиям и привык
воспринимать их как заданный урок, за который поставят
отметку.
1949
359
Получается так: начинаешь с непосредственности,
далее следует сознательность, все растущая рациональность.
Потом происходит подведение черты: либо вновь
возникшая, уже совсем на иной основе, непосредственность (под
которой в снятом виде грунт знания, ума), либо все более
и более становящаяся сухой рациональность вместе с
остановившимся на каком-то этапе развитием мастерства,
превращающегося в надоедающий набор штампов, из-за
трусливого (а может быть, и ленивого) стремления
попробовать еще и еще раз применить те же приемы, которые
когда-то принесли удачу, пользовались успехом.
Тут дело не только в развитии таланта, но и в образе
жизни, в тренировке совести, в искушениях, которые
удалось или не удалось преодолеть. Тут дело в легком или
тяжелом хлебе. апг
Борьба с «Музеем восковых фигур». Похожие гримы.
Этого совсем мало. Если только это — то оскорбление
памяти. И чем более внешнее сходство, тем сильнее
чувство оскорбления.
Значит, сходство внутреннее — т. е. характер.
Характер Гоголя — должно ли его изображать? Тоже
недостаточно.
Схожесть с творчеством. Человек, который написал
«Героя нашего времени». Человек, который написал
«Мертвые души».
Единство с этими вещами, с творчеством, но не
биографический комментарий.
Интересно парадоксальное, часто бывшее
несовпадение. Громада гениального творчества и обычный
маленький человек.
Борьба буржуазии с феодальными героями
божественного происхождения (крайняя точка — Оффен-
бах23).
Личная память: Маяковский,-Горький — обычны ли
они? Связаны ли со своим творчеством?
Значит ли это то, что следует переносить цитаты из
произведений в уста автора их? Как не выходят часто даже
цитаты из писем! Помогает ли торжествующая ссылка:
«Это его подлинные слова!»?
25 X 49
360
Записи из рабочих тетрадей
«Отказавшись добровольно от выгод, мне
представляемых системою искусства, оправданной опытами,
утвержденной привычкою, я старался заменить сей
чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени,
развитием исторических характеров и событий...»
(предисловие к «Борису Годунову»)..
Вечное противопоставление двух стремлений, двух
систем искусства. Ср. «Севастопольские рассказы».
Вся история искусства (кроме резких откатов эпох
реакции) всегда устремлена к наибольшему реализму,
натуральности, «похожести на жизнь», но интересно то,
что каждая эпоха, направляя искусство на реализм, дает
ему сразу же и толчок и тормоз. Тормоза были разные.
Классические единства. Чувство красоты и изящества.
Мораль. Отобранность материала. Реализм и натурализм.
Вкус. И т. д.
Начало другого возраста в связи с мыслями о книгах.
А пригодятся ли? Полка Дебюро 24.
1950
Все меньше и меньше становится книг, без которых
трудно жить: Толстой, Гоголь, Чехов. Все эти книги нужно
читать каждый день. Особенно когда работаешь. Они
компас. Прибор, отмечающий соотношение ценностей.
Различие золота и песка.
Уже не хочется перечитывать Бальзака, странна даже
мысль о том, что можно перечитывать Честертона.
Великие реалисты всегда были и великими фантастами
(Гоголь, Диккенс, Бальзак, Свифт, Сервантес, Шекспир,
Маяковский).
Великие бытописатели были не менее великими поэ-.
тами.
I960
361
Чехов. Секрет «Дамы с собачкой». Арбуз и встреча
в театре.
Реализм как повторение, как радость узнавания
знакомого* «Это произошло и со мной. Так же я чувствовал. То
же со мной случилось».
Реализм как открытие: «Так вот какой мир, так вот
какова жизнь!» Неизвестность давно известного.
Почему реализм начинается с гиперболы? Почему все
великие реалисты и натуралисты, каждый по своему,
гиперболичные Гиперболы Гоголя, гиперболический физио-
логизм Золя, гиперболическое добро и зло Диккенса.
Гиперболизм Маяковского.
Великие реалисты никогда не увлекались
отображением жизни, они стремились ее изменить. Они отображали
жизнь только для прояснения своих мыслей, чувств,
верований. Они брали примеры из конкретной жизни, но они
давали этим примерам полет, страсть преувеличения, и в
какой-то момент они рассказывали о чем-то, что больше
наблюдений, точнее фотографии, яснее петита газетной
хроники. Какое-то сверхреальное чувство движения
жизни, передачи времени не в его внешних, видимых каждому
чертах, но в его воздухе, ритме возникало в их
произведениях. И тогда уже не радость узнавания известного
появлялась у нас, но чувство прикосновения к той тайне
жизни, времени, человека, которая и есть основное в
искусстве.
Прежде всего сила зрения. Вглубь. Вдаль. Вширь.
Ясность взгляда, зоркость, прямота.
«Знаете, когда идешь темною -ночью по лесу, и если
в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни
утомления, ни колючих веток» которые бьют тебя по лицу...»-
(Астров. И).
По снижению, по явному парадоксу в развитии сцены.
гениальный конец 2-го акта. Разговор двух женщин, плач
и счастливый смех, и одна хочет играть — так органичен
362
Записи из рабочих тетрадей
был бы конец акта со звуками рояля. Но когда у мужа
подагра, он не любит музыки, и акт кончается словом
«Нельзя!».
Может быть, если ставить «Дядю Ваню», то после этих
слов начинается музыка — их «огонек» в лесу. Под нее они
мечтают.
«Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас!»
(IV).
«Прежде и я всякого чудака считал больным,
ненормальным, а теперь я такого мнения, что нормальное
состояние человека — это быть чудаком» (Астров. IV).
По сути дела, у Чехова sublime et grotesque 25 куда
ярче, чем у Гюго (см. любовную сцену IV акта, вход
Серебрякова и пр.).
Чудо искусства. Тут дело непросто. И Станиславского
и Шаляпина привлекала прежде всего и именно
«театральность». Но им было очень мало лет. А потом они отвергли
это первичное ощущение? Нет. И отвергли, и сохранили.
Сохранили «чудо», но куда более сложное и как бы
внешне вовсе даже и не похожее на это чудо.
То же с кино. Есть первичное ощущение «чуда»
кинематографии. Потом выясняется: это ярмарочные фокусы
киношки.
Ну, а «чудо»? Оно все же есть. Для нас эти чудеса
в трюках «Октябрины», чудесах света «Шинели».
Любое представление об идеях различных эпох
затруднено прежде всего трудностью пробиться к подлинной
мысли сквозь шелуху терминологии. Ничто не стареет
с такой ужасающей быстротой, как терминология (Герцен
о разговорах на гегелианском диалекте26). Очень часто
кажется, что столкнулся с нелепыми мыслями, а
столкнулся всего лишь с давно вышедшей из моды терминологией.
Вспомним терминологию Блока, Маяковского — стихи их
живы, иногда будто написаны сегодня, а теоретическая
терминология часто старше Ренессанса.
XI 50
1951
363
1951
Маяковский. Интонация «Облака». Ответственность
юэта за то, что улица корчится безъязыкая.
Тема Гоголя: почему все, что ни есть в России, обратило
на меня свои очи...27
У Маяковского все эти метафоры насчет
окровавленного сердца, растоптанной души и пр. считались не то
футуристическим эпатажем, не то просто нахальством или
манией величия. Расплата за все это. Еще один пример
реализации метафоры.
Вероятно, поначалу все это чистое ощущение,
предчувствие образа. Но степень глубины отдачи этому
восприятию — отражение действительности. Зеркалом,
протоколом— на обнаженных нервах, на лишенных охраняющих
покровов болевых центрах. Татуировка на сердце,
выколотая миллионами иголочек.
«Потребность счастия, потребность любви, потребность
гармонии, потребность правды, потребность сочувствия,
потребность умиления, потребность деятельности,
потребность самозабвения, потребность саморазумения — все
эти законныя и существенныя потребности человеческого
сердца происходят из одного общего корня жизни, до
которого немногие доводят свое самосознание»
(Киреевский) 28.
III 51
Что за загадочная история о конце писания Шекспира?
Были ли в истории литературы «исписавшиеся
писатели»? В чем тут дело — во внешних обстоятельствах жизни,
в постановке для себя неразрешимых задач (Гоголь,
Толстой) или в причинах чисто механического порядка?
Чем дольше работаю в режиссуре, тем больше
становится записей — задумывания, придумывания, вскрытия,
364
Записи из рабочих тетрадей
раскрытия литературных ассоциаций, живописных
параллелей, музыкальных прояснений. Слова, слова, слова!
Что получается из знаменитого тезиса о том, что
постановка делается на бумаге.
На бумаге ли делалась «Юность Максима»? Репетиция
с «крутится-вертится», с петушиным криком в одиночке.
Как в «Выборгской стороне» не получились все эти
ассоциации банка, Манасевича-Мануйлова 29 и т. п. И как
для Ропшина 30 и подвала вовсе не перечитывался
Достоевский.
Рост моих тетрадей записей.
IV 51
Не есть ли крик Гоголя: «Страшно!» 3| — ощущение
гением сверхреальности своих героев. Настолько сильно
чувство перевоплощения в момент творчества. Что стоит
напряжение этого бытия в чужой шкуре? И когда
начинается вера в реальность созданного героя? Кто-то из
писателей плакал в момент описания смерти героя.
Сосредоточенность, концентрация, выключение всего
окружающего. Сверхвнимание. Пресловутое двойное
состояние писателя, объясненное без всякой мистики.
Гамлет. IV 51 32
Начало. Ночь. Призрак. Смута в государстве.
Канун потрясений и гибели.
Следующая сцена — обычность, обыденность.
Философия: так устроен мир.
Что скрывается под общественным укладом, нормой.
Может быть тема: не так должен быть устроен мир!
Салтыков-Щедрин — две действительности. Та,
которая есть и с которой мириться нельзя, и та, которая должна
быть.
Собственно говоря, противоборствующие фигуры не
король и Гамлет, а Гамлет и Полоний.
Две философии и две действительности.
А не есть ли так называемые жанры просто
одностороннее, плоское и примитивное развитие одного из множе-
1951
365
ственных элементов реалистического письма? Не есть ли
«жанр» всегда скидка на содержание, смысл, постижение
действительности?
Всякое великое художественное произведение всегда
ломает именно эти примитивные, прямолинейные
ограниченности. Так делает Шекспир буквально со всеми
бывшими до него жанрами от маски и моралите до кровавой
трагедии и клоунады. Так Гоголь пишет под заглавием
«Мертвые души» — «поэма». Так Чаплин перерастает Сен-
нетта (даже странно вспомнить о нем и о его жанре!).
А Щедрин? Некрасов (жанр «куплетов»!!! 33)? И пр. и пр.
Пресловутое единство стиля. У Толстого — страницы
сатиры, памфлета, публицистических преувеличений. Речи
адвокатов в «Воскресении».
Реалистический роман уничтожил жанры. После'Баль-
зака смешна мелодрама, после его Вотрена — плутовской
роман (особенно после Стендаля). После «Героя нашего
времени» — поучительная сатира или сентиментальная
повесть.
Остаются только Дюма, Гюго,— но может быть, это и
не такая уж великая литература?
Мелодрама все же не более чем плоские характеры,
штампованные добро и зло и треск риторической
добродетели.
Что же касается комедии, то зритель больше всего
смеялся на «Чапаеве» и «Максиме».
8 IV
Одна из старинных анкет: «Какое знает мастерство
и умеет ли грамоте.— Чернорабочий; грамоте знает».
Это «Статейный список» Достоевского на каторге 34.
Человек, причиняющий зло, наказывает сам себя, сам
себе причиняет величайшие лишения.
Подлинное горе — это не отсутствие денег, славы,
успеха и т. п., но отсутствие чувств.
Выработка чувств, развитие их восприимчивости, силы
отдачи, а следовательно, и силы счастья — дело годов,
всей жизни.
366
Записи из рабочих тетрадей
Старость или стрижет купоны всяческой любви, или
становится полным банкротом. Наслаждение блеском
погремушек не бесконечно.
И тут уже никто и ничем не может помочь.
К спору со славянофилами. Любая из этих систем
религиозной философии неминуемо основывается на
принципах, противных разуму и свободе: смирении и слепом
доверии, выражающемся в точном и неуклонном
исполнении обрядов, самый смысл которых становится уже
изрядно темен. Разговоры Киреевского о чудотворной иконе
(см. у Герцена) 35 — образчик уже полного мракобесия.
Постепенно пропадает философская окраска, и остается
гимнастика, необходимая для карьеры, для политической
благонадежности. «Религиозен», «посещает церковь»,
«соблюдает посты» и т. п.
Автор «Утопии» Томас Мор писал: «Невежда
отбрасывает как грубость все то, что не вполне невежественно...
Один настолько угрюм, что не допускает шуток; другой
настолько неостроумен, что не переносит остроумия;
некоторые настолько лишены насмешливости, что боятся
всякого намека на нее, как укушенный бешеной собакой
страшится воды; иные до такой степени непостоянны, что
сидя одобряют одно, а стоя — другое» 36.
Подлинное искусство берет обычное, простое,
несложное, элементарное и показывает, насколько оно необычно,
сложно, универсально.
Халтурщик все сложное сводит к элементарному, к
лубку. Это вовсе не для простоты понимания, это для простоты
лжи. Все человеческое, психологическое, детально
разработанное, увиденное под микроскопом не сможет мириться
с ложью, приблизительностью, мыслительным штампом.
Марк Твен писал о прекрасном лжеце, который если бы
запачкал брюки разными красками, то создал бы
впечатление, что испачкался, скатываясь с радуги 3?.
1951
367
Над ложью барона Мюнхаузена проводили детство
поколения. Кто не восторгался ложью Дюма и Гюго?
Но есть поговорка: «врет, как сивый мерин». Из
подобного вранья никакого искусства получиться не
может.
Наша кинематография делает теперь, в общем, одну
и ту же картину с теми же надоевшими эпизодами,
словами, ситуациями38. Получается вранье с приправой из
пейзажей и песен. Все представления о мире сведены к
двум-трем плоским изречениям, которые из-за
бесконечного повторения уже просто не усваиваются.
В фильмах о музыкантах все же играет подлинная
музыка.
Но мог ли такой Мусоргский написать «Бориса
Годунова»?
Беганье за гением с моральными претензиями и
объяснениями, поучая его, каким ему следовало бы быть,
когда достаточно радости, что он был. И достаточно трудно
понять его!
Что было бы с нашими биографическими фильмами,
если бы все герои собрались вместе. У Навои была чалма!
IV 51
Величайшее свойство гения заключается в том, что он
творил для всего человечества и для тебя. Он всегда
понимающий тебя, близкий тебе, говорящий о чем-то очень
важном для тебя собеседник. С ним легче жить, от его
общества ты делаешься умнее, лучше, глубже понимаешь
и себя и окружающих. И он всегда в твоей жизни
воскресенье. Только он никогда не учит тебя.
В том и заключается одна из особенностей гениев, что
они не увеличивают силой своего таланта меру описанного
прежде — но меняют саму систему измерения. Упраздняют
прошлую таблицу мер и весов и вводят новые измерения.
Гоголь не описывал лучше, ярче Марлинского экзотику
Кавказа, но начал описывать сорта нюхательного табака
и сукно, из которого шьет свитку уездный заседатель.
Он создал громаду из не замечаемых прежде мелочей.
А громаду Казбека он не замечал.
368
Записи из рабочих тетрадей
1952
Нередко «Гамлет» кажется не только пьесой, но и
материалами писателя к ней: заметками на полях, записями
в дневниках о мысли, которую хочется включить, о
положении, исходная точка которого ясна, но развитие еще не
придумано.
Это становление новой формы литературы. Еще все
в движении, развитии. Еще нет классичности. Золотой
пропорции частей. Еще изобилие и противоречие. Резкое
столкновение старой эстетики канонов и настойчивого
стремления гения к реализму — к отражению реальной
жизни, к постижению ее противоречий, а не к
эстетическому ремеслу — улучшению старых пьес.
Особенно сильно это противоречие, потому что автор не
только драматург, но прежде всего поэт.
Суть в том, что между тем, что должно быть, и тем, что
есть, все сильнее и сильнее становится различие.
И вот наступает день, когда оба эти понятия становятся
уже противоположными.
То, что есть, противоположно, враждебно с ужасающей
отчетливостью тому, что должно быть.
Идеал вовсе не зрел в реальности. Он был лишь в мечте.
Мысль не стала действием. Но она стала побуждением
к действию. И в этом смысл трагедии.
Идеальная мысль стала мыслью критической. И скоро
«мыслящий тростник» превратил ее в действие.
Возникают знаменитые слова об оружии критики и
критике оружия (Маркс) 39.
Появление истинно прекрасного и правдивого
произведения есть пересмотр ценностей всего созданного и вокруг
и тобою. Есть появление стыда. Значит, настоящий,
честный художник оказался способен написать такое, и,
значит, благодарный читатель оценил его искусство, его
правдивость, его благородство.
1952
369
Гамлет — еретик. Он стоит перед страшным
трибуналом эпохи, который, угрожая ему смертью, требует
отреченья.
Он говорит: «А все-таки она вертится!» А все-таки:
«Человек, как он подобен ангелу! Венец всего живущего!..»
От него требуют: признай, что только обходным путем
достигают цели, что только платье определяет цену
человека (это высочайшая мудрость Полония!). Что мир устроен
так, что смерть близкого должны забыть через две недели.
Что все должны шпионить за всеми. Что нет в мире ничего
мудреного и ничего сложного. И что то, что есть, и есть суть
того, что должно быть. Во веки веков!.. Нет дружбы. Нет
любви. Нет закона. Нет совести. Нет правды.
Два ответа еретиков: «Не верую!», «Отрицаю!»
Через всю пьесу проходит осознание мира и осознание
себя как части этого мира. В этом отношении «Гамлет» не
отличается от «Лира». В этом секрет и «бездействия»,
и «мировой печали», и пр.
Вот почему Гамлет «очутился между небом и землей».
Вот почему он не может обвинять всех, не обвиняя
одновременно и себя.
Вот почему «нет в мире виновных» 40. Это не
христианское всепрощение, но бунтарское обвинение и вместе с тем
самообвинение. Это и казнь и самоубийство.
1953
Мания переделки приводит постепенно сценарий к роду
безымянного авторского труда поколений. Только если
фольклор возникает, связанный с бесконечными
просторами природы,— то этот запеределанный сценарий связан
уже с просторами редакторской канцелярии.
«Высота ль, высота поднебесная, Глубина, глубина —
окиан-море...» 4|
Не боги горшки обжигают, но и не редакторы,— их
обжигают специалисты — гончары.
IV
370
Записи из рабочих тетрадей
Картина «Белинский» закончена производством.
У меня был сыпной тиф и туберкулез. Следы этих
болезней как будто прошли. А язвы «Белинского»
остались.
Конечно, Шекспир — оратор, ритор. Это сразу же
видно при самом поверхностном анализе его метафор
и сентенций. Но ритор и Лили 42. Ритор и Гонгора 43. Но
можно ли говорить об единстве Гонгоры и Сервантеса,
Лили и Шекспира?
Это схожесть внешних приемов.
Но есть и схожесть сути, внутреннего движения. И
тогда Шекспир не похож на Лили, но действительно схож
с Цицероном (?).
И схож не фигурами «украшений», но жаром
проповеди. Он — ритор именно в античном (но не ренессансном!)
смысле этого слова. Он политический оратор,
обращающийся к народу. Он требует правосудия. Он
защищает и обвиняет. И он говорит о своем веке,
восклицая знаменитое: «О времена, о нравы!» 44
Комом в горле стоят, торчат, душат не высказанные
в искусстве мысли. Чепуха, что художник — выразитель
любого, всяческого материала. Лишь бы изучил, лишь бы
обладал мастерством.
Художник потому и художник, что умеет слышать
главное в своем времени, и это главное настойчиво,
навязчиво требует от него своего выражения в искусстве. Не
выразить этого главного, основного — не освободиться от
комка в горле.
Начало спектакля. Трагифарс. Сцена страшного
напряжения. Тема: первый шаг новой власти.
Королева — бледная, не дышащая, ничего не
соображающая, ни о чем не думающая. Негнущееся жабо
подпирает подбородок, голова, как отрубленная. Она —
мертвый знак власти. Центр государства. Ее веки иногда
опускаются.
1953
371
Король, еще не уверенный, наглый и в то же время
льстивый, старающийся то карикатурно запугать, то
обольстить. Ему еще неудобно сидеть на троне. Ему еще
непривычно, что на его голове корона. Стараясь, чтобы это
не видели окружающие, он дотрагивается до нее пальцами.
У его ног шут — он улыбается и ему, а потом, под
угодливый хохот окружающих, бьет его, отшвыривает
горбуна ударом ноги.
Полоний — ждущий отношения к нему новой власти.
Вся сцена — секунда общего напряжения. Расстановка
сил. Дислокация новой власти, под маркой законной
королевы.
Король все время спрашивает у нее согласия. Она, ни
о чем не думая, кивает головой. Она как
загипнотизированная.
Власть Клавдия над ней!
В актерской игре величайшая задача в том, чтобы
выразить душевный склад человека, который не говорит
стихами, но мыслит стихами, т. е.— поэтическими
образами.
Найти внутреннюю правду возникновения этих
образов. 17 VI 53
Необходимо создать целую музыкальную партитуру
речи-голоса Гамлета, играя то понижением, то
повышением, то растяжкой, то сухостью, то хрипотой. Это все нужно
искать с самого начала. Тут должно быть и чисто
физиологическое воздействие инструментом речи —
музыкальностью ее, а может быть, иногда и чистым переходом речи
в звук оркестра — тут Кабуки, в особенности в наиболее
сильных сценах. Стон, начинаемый голосом и кончаемый
оркестром. Вступление в оркестр писать актеру
композитором. Крик Моисеи в «Эдипе»!!! 45
У Ильфа и Петрова описано, как писатели собираются
в командировку. На перроне опытный человек говорит:
«Будете петь «Шумел камыш...». Поначалу отрицают.
372
Записи из рабочих тетрадей
Открещиваются. И вот, два-три дня, и хор гремит «Шумел
камыш...» 46.
Поначалу мы хотели снять человеческую,
реалистическую судьбу. Без манекенов и болванов. Куда там!.. Мал
масштаб.
Ну, а как его размахнуть, масштаб? А это было уже
давно знакомо. Прежде всего масштаб создавали, как это
ни покажется теперь странным, цари. Царь должен был
гневаться на историко-биографическое лицо (Глинка,
Пушкин, Нахимов, Белинский, Репин, Попов), стоя на
Иорданской лестнице Зимнего дворца.
У меня были личные хорошие отношения с академиком
И. А. Орбели. Но, когда я — после всех событий с
«Белинским» — позвонил и сказал, что вынужден обратиться
к нему как к директору Эрмитажа с просьбой, Иосиф Абга-
рович вздохнул: «Понимаю — разрешение на съемку
Николая Первого на Иорданской лестнице?..»
И мы запели «Шумел камыш...».
Новое по сравнению с «Лиром» и «Отелло»:
оказывается, существует у Шекспира ряд сцен, где
психологический анализ — т. е. уточнение движения мысли во всех ее
подробностях — не только не помогает, но, наоборот,
мешает, не дает возможности выразить образ сцены. С этим
я столкнулся при работе над сценами призрака (и даже
разговоров о нем). Я пробовал искать то XVI век
(суеверие, боязнь даже говорить об этом, неопределенность,
устрашающая неясность всего произошедшего; все
вырастает из того, что по-английски Дух — it), то необычную
картинность и пластичность рассказа обо всей обстановке
страшной ночи и пр. Ничего не выходило. Немалое место во
всех неудачах, как я сейчас это понял, занимало и то, что
вместе с актерами мы купировали места, казавшиеся нам
неясными, ненужными.
И вот как-то раз, чтобы схватить состояние прошлой
сцены — репетировать мы должны были другую сцену,—
мы просто, без особой сосредоточенности, быстро прочли
подряд текст, и вдруг— мертвая раньше сцена ожила.
Оказалось, что все дело в том, чтобы не заниматься
этим уточняющим анализом, но доверяться стихии сти-
1953
373
ха — поэзии. Мы сразу же восстановили все купюры'.
Оказалось, что в сцене нет ни одного лишнего слова. Суть
в том, что все выражено через поэзию—все ощущения,
мысли, образы. Ничего не может быть вне слова.
Поэтому не случайны и такие странные для нас, на
первый взгляд, ненужные реплику как все те, где само
действующее лицо говорит о том, что, казалось бы, должно
быть видно, а не высказано (типа: «я весь дрожу» и т. п.).
Однако это необходимо, потому что идет, растет,
вздымается волна стиха, и в движении, в силе ритма этой волны
нет и не может быть остановки, т. е. паузы, молчания. Все
в словах. Все через слова.
Нужно забыть, что Шекспира можно играть вне поэзии.
19 X
Подобно тому, как Хлестаков немыслим без
«отсутствия царя в голове» и «легкости в мыслях необычайной»-,
гиперболы вранья и пустяковщины, так и Гамлет
невозможен без решающей для образа лепки всех сцен сомнения,
мучений человека над поисками истины, отчаяния от
невозможности отыскания этой истины. 21 X
Для кино: череп — и раздается (из звона бубенчика)
еле слышная шутовская песня, и череп превращается в
Йорика. А потом —обратное превращение.
20 XI
1954
О моих путях в режиссуре.
18 лет — аппарат на веселом колесе.
22 года — специфика кино. Стиль и жанр. Актер.
30 лет — смысл.
50 лет — правда.
Нет хуже, если сцена сразу получается. Что это
значит — получается? Ложится на привычку. Легко выража-
374
Записи из рабочих тетрадей
ется известным профессиональным опытом. Слагается
арифметическим путем.
Прежде всего — возникает то, что называлось раньше
«тоном» и за что в учебных заведениях ставили отметки.
«Чтобы зритель все время смотрел с напряжением».
«Крепкий ритм, по возможности без пауз, повышение
звучности и быстроты к концу, под занавес».
И действительно — смотреть не скучно... Но что?
Лишь самый верхний слой того, о чем писал Шекспир.
Все это выяснилось на сцене Гамлета и Офелии (III, 1),
где от эффектно-романтической мелодрамы со сменой
резких контрастов мы пришли к внешне спокойной, почти
«чеховской» сцене.
Вообще, Шекспир, сыгранный как Чехов!!!
26 I 54
Разговор об искусстве. Он бессмыслен, если это
повторение. Мало того, он вреден. (Шостакович и подробные
объяснения ему сути необходимой музыки! Все величие его
косноязычности. Красноречие в своем искусстве и
косноязычность в красноречии. Эпидемия красиво говорящих
ораторов.)
Разговор об искусстве всегда был спором, страстью,
борьбой, заострением тенденций. Острой
тенденциозностью. Крутым «перегибом палки».
Такими были теории Толстого об искусстве, когда
и Шекспир превращался в мыльный пузырь, и опера и
балет становились голыми мужиками и бабами, странно
передвигавшимися на гладко обструганных досках пола.
Таким был Станиславский, весь в пылу полемики
с красивой театральностью Малого театра.
Таким был Маяковский, довоевавшийся против
«творчества» и «художества» до фотомонтажей и реклам под
рифму.
И что ж, в итоге крайности успокаивались и наступала
долгожданная «правильность», т. е. «золотая середина»?
Нет, продолжалось движение, борьба
противоположностей. Нескончаемый ход от низшего к высшему.
Бесконечный ход развития.
1954
375
А ведь, в общем, как просто. Прожита жизнь, и вот,
должно быть, если ты художник — есть про что сказать,
и если ты мастер — умение сказать это так, чтобы тебя
поняли.
Сказать же художник всегда хочет то, что чувствуют
и ощущают еще множество людей. Только ему это видно
отчетливее и нагляднее. II 54
Наступает время, когда все теоретические глубины
становятся личным делом режиссера.
Приходит зритель, и он требует, чтобы его растрогали,
рассмешили и, если это трагедия Шекспира,— потрясли.
Растрогали, рассмешили, потрясли. И все это в степени
очень сильной.
Очевидно, растрогали — Офелией. Рассмешили —
могильщиками и Полонием. Потрясли — Гамлетом.
Для того чтобы найти возможность вызвать все эти
эмоции, необходимо, прежде всего, не торопиться в сценах,
где скрыта возможность сильного воздействия. Лепить их
со всей подробностью и постепенностью в набирании хода.
1-й прогон! 31/III
Уже видно горе: нет Эльсинора, нет вывихнутого века.
Он есть, частично, в образе Полония. И только.
Нужно без всякой деликатности, нагло, счастливо,
вызовом морали — делать 1-ю сцену.
Превратить «статистов» в образы, а образы в образ.
А Виттенберг как будто вышел.
Нельзя бесконечно объяснять искусство. Его нужно или
любить или не любить. Научить любить искусство так же
сложно, как обучить любви. Именно на этой основе
возникает порнография. Перечень внешних телодвижений
вместо чувства.
IV 54
376
Записи из рабочих тетрадей
Для кино. Как бы сделать ясным, что Призрак
открывает перед Гамлетом истинную картину жизни; как бы
поднимает завесу над Данией-тюрьмой, и все становится
ясно видным. И на первом плане улыбающийся Клавдии,
похабная Гертруда и пресмыкающийся двор.
Как у Гоголя — «вдруг стало видимо далеко во все
концы света» 47.
9 V 54
Самое великое в искусстве: ведь я это тоже чувствовал,
только забыл или не могу определить, что это.
А теперь вспомнил. И могу рассказать об этом словами.
Или звуками, или красками.
Драматургия Чехова. А если все эти настроения, вся
эта зализанная матовость медлительных
темпов—мнимые. Просто стилизация. Выражение верхнего слоя
приемами искусства начала века, любившего замедленность,
акварельйость, блеклые краски, тихие голоса. Если нет
здесь ни элегий, ни рапсодий, а есть чеховская жизнь,
чеховская — т. е. прежде всего в своем изображении
лишенная красивости, где «осетрина-то с душком»
неминуемо.
Если есть в этих пьесах прежде всего энергия, сила
крика: «так жить нельзя!». Если три сестры не плакуче-
беэ»вол4>ны, но живут в быстром, стремительном ритме.
Если «жизни мышья суета» , а не акварельный танец.
Если-нет никаких золотых осеней и Левитанов, а есть
гнусный мир провинции. Стиль «Нивы», «Осколков» и
«Будильника» . Если не природа аккомпанирует душам, но
нелепая, некрасивая, глупая жизнь контрастирует с ней.
Страшная своею бессмысленностью провинция, а не
элегические настроения.
Может быть, все дело в том, что поэзия таится скрытая
где-то в глубине, в сути образов — и она противоположна
густопсово-прозаической внешности. И может быть, только
в какие-то минуты вдруг этот внутренний слой становится
и наружным.
1954
377
Играть быстро, энергично в среде некрасивой,
прозаической. И только в секунды вознестись поэзией, но поэзией
не акварельной, а высокой, трагической.
Тогда «в Москву, в Москву» на .фоне пьяной песни,
цокота копыт по булыжникам и глупого визга шарманки.-
12 V 54 г.
Может быть, «Быть или не быть» делать патетической
сценой, решенной масштабом выразительных средств.
Может быть, именно здесь есть какой-то огромный
образ смерти, участвующий в сцене как партнер. Тогда
диалог, а не монолог.
Симфоническая музыка. Хор. В кино сцену эту можно
перенести на кладбище, опять в склеп короля. У входа
в храм. Горят сотни свечей. Хор мальчиков.
А может быть, чьи-то совсем простые похороны? Гамлет
завидует вовсе не абстрактному символу смерти, но самому
простому «успокоился»...
18 V 54 г.
Как много можно понять, перечитывая собрание стихов
какого-либо поэта. Обширен и глубок внутренний мир
Блока. И как он обширен и глубок в самом, казалось бы,
маленьком, интимном. Это мир человека, сквозь который
прошло все, чем жил большой человеческий мир. Эпоха,
выраженная, запечатленная на самом чувствительном,
восприимчивом материале — на ткани душевной жизни.
Так подлинный отпечаток — след проходившего миллионы
лет назад доисторического животного — более впечатляет,
нежели обширный, но все же приблизительный, «общий»
доклад об этой эпохе. С одной стороны подлинность —
сама жизнь: и умершая, но одновременно и реально
существующая, неоспоримая, а с другой стороны — слова.
Гений поэта — и есть эта чудовищной силы
«светочувствительная поверхность» душевной жизни. И след эпохи,
на ней отраженный,— реальный, неоспоримый,
продолжающий свою жизнь.
Все дело в личном. И только в личном. Вот мчится на
лихаче по Елагину острову Блок. Он слышит несколько
звуков: храп коня, шуршание шелкового платья спутницы,
378
Записи из рабочих тетрадей
скрип полозьев по снегу 50. Он видит тень, мчащуюся за
санями. И все.
Мы читаем и слышим век, бывшее и существующее.
И то, что было таким личным для поэта,— становится
и нашим личным.
А личное огромно. В нем и общее — и культура,
и биография, и век, и мысль, и желание, и совесть.
V
Волшебство языка. То, что остается истинным
наслаждением, выключая и характеры, и действие. Гоголь знал эту
магию. Он мог заколдовать самыми простыми вещами:
перечислением фамилий, описанием способов соления
яблок. Гроздья слов. Лепестки созвучий. Каких хотите:
комических, патетических, сугубо прозаических,
небывалых, самых затасканных.
Он открывал слова, диалекты, языки наречий,
профессий, возрастов, сословий.
В чудо превращался жест. И все на всю жизнь
помнили, как брали понюшку табака Иван Иванович и Иван
Никифорович.
1 VI Сухуми
Смешно анализировать звук милицейского свистка
с точки зрения теории музыки.
Произведение искусства всегда отражает жизнь. Но
предчувствие, предощущение формы этого отражения
может опережать отражаемое. Тут нет мистики. Просто
в жизни, в глубинных ее слоях зреют будущие процессы.
Так в 1914 г. Блок предчувствовал «Двенадцать» в
«Плясках смерти» («Вновь богатый зол и рад...»).
24. 6. 54 г. Почему «Кин» в Театре драмы им. Пушкина?
Главная задача: советская пьеса.
Иные задачи: мировая культура.
«Кин, или Гений и беспутство». (Гению все дозволено!
Красивая аморальность.) Сочинение с «дурной
репутацией».
1954
379
Есть ли это в самой мелодраме?
Судьба таланта (художника) в классовом обществе.
Талант на службе тунеядцев, превращающийся в никому
не нужный оранжерейный цветок, униженное состояние
художника, превращаемого в шута и придворного
скомороха. Бесправие таланта. Внешнее положение «кумира
общества» и суть — холодное и пустое равнодушие и
бесправие. И отсюда неминуемый для художника плебейский
протест. Картина общественной жизни.
Бунт комедианта. Внешний повод и внутренняя
причина. Бунт таланта. Были разные бунты, и всякое искусство
всегда и было бунтом, пусть даже и бессознательным.
Есть ли все это у Дюма? Отчасти.
Гейне о «Кине»: «Эта пьеса, которую, конечно,
присвоила и немецкая сцена, задумана и написана с такою
живостью, какой мне еще никогда не случалось видеть;
тут отливка, новизна средств, которые как бы сами
предлагают себя, фабула, сплетения которой совершенно
естественно выходят одно из другого, чувства, выходящие
из сердца и говорящие сердцу, одним словом — создание»
(Г. Гейне. С. с, изд. Маркса, т. 3, стр. 431).
Репертуар Фредерика-Леметра и сразу же Каратыгина.
Вовсе не «полупочтенное сочинение», выпущенное на
заднем дворе литературы. История романтической драмы
начинается с Дюма, и пьесы его выше Гюго.
Однако эта пьеса — ограниченная временем, не
перерастающая время, сильная положениями и страстями, но
не раскрытием человеческих характеров.
Переделка Сартра. Нашего друга. Зрителю интересно,
что сочиняют наши друзья. Чем дальше пойдет время —
тем больше они будут терять театры на Западе и
приобретать их у нас.
Психологизация. Характеры. Реализм. Попытка
социальной психологии (принц Уэльский, Елена) там, где
было только добро и зло мелодрамы.
Ирония вместо мелодраматизма. Пусть комедия, но
не салонная комедия.
Необходимость разнообразия жанров. Воскрешение
несправедливо забытого. Обогащение актерской техники.
Интересно смотреть для зрителя. Роль для Симонова.
Не вместо советских пьес или классики, но кроме них.
380
Записи из рабочих тетрадей
Самое страшное, если в монологах про жизнь актеров
появится дидактика, логика. Это он обнажает самые
болезненные раны.
Он съел семь пудоз соли и выплакал ее слезами.
Это должно быть необычайно откровенно. Откровенный
рассказ про свое страдание, свою боль.
Он спивается и бушует от горя и тоски.
Это страшно и горестно, когда, пьяный, опухший и
измазанный, он шляется по трущобам, глуша тоску и
отчаяние.
Во всем этом не должно быть ничего хлюпкого. Только
не неврастеник!
Вероятно, он лучший Отелло, нежели Гамлет.
Комарово 7 VII
Островский написал «Лес», но в это время были и
Мартынов, и Садовский, и Стрепетова, и был еще жив
Щепкин 51,— но никто не упрекал его за искажение
русского театрального искусства. Да и сам он не был ни Аркаш-
кой, ни Несчастливцевым.
Нельзя возмущаться по поводу «Домика в Коломне»
и говорить, что не все кухарки бреются. Также не следует
мерить шаги творчества Пушкина и следить, какой вперед,
какой назад.
VII
Приезжие москвичи и их поучения.
Можно ли приехать, посмотреть спектакль и, «не
отходя от кассы», научить, как жить и работать.
«По морям, по волнам» — в Твери и Калуге, в
Петрозаводске и Ленинграде...
Но для такого скоростного процесса (сразу снял,
проявил, отпечатал и вынул карточку) в фотографии
существует лишь один научно-художественный метод. Так
называемых «пушкарей». Построено это на том, что у
аппарата постоянная наводка на фокус. Аппарат установлен
навечно, перед ним тоже накрепко установлен общий фон
с видом Кавказа или Крыма, и только голова вставляется
в маленький вырез в написанном фоне.
1954
38)
Так поступают и приезжие «пушкари». Фон установлен
накрепко, в нем две цитаты из Энгельса о титанах,
широкими мазками написанные «гуманизм», «реализм» и т. п.
Остается лишь всунуть голову. Тверскую голову,
калужскую, ленинградскую й т.д. и вписать ее в общий фон.
Просмотреть вечером спектакль, а утром вынуть
карточку.
Белинский 8 (?) раз смотрел «Гамлета», прежде чем
написать.
— Да, но он смотрел Моналова!
— Да, но — Белинский!.. XI
Каждая эпоха имела, по сути дела, одну тему. Крах
гуманистических мечтаний у елизаветинцев, история
молодого человека XIX века, бездеятельность и
прекраснодушие конца века, обреченное поколение и т. д.
Что такое правда? Вероятно, это не статическая
истина (даже в каждую отдельную эпоху), но направление
движения — развитие. В этом, очевидно, и заключается
прогресс, что понятий «правды» было множество и все они
были относительными,— но направление движения было
все же единым.
Две правды и одна правда.
Ошибки обходятся человечеству Освенцимом.
У Сервантеса чисто ренессансная защита единств
и т. п. Он решительно за «законы». Там же он и за цензо-
pad).
Любопытно, что и Сервантес повторяет то же, что
и Шекспир: «По словам Туллия, комедия должна быть
зеркалом человеческой жизни...» Нынешние комедии «суть
зеркала нелепости...». Но дальше все как раз
противоположное шекспировской эстетике, сокрушавшей
«законы». Хотя есть и общие бытовые места — злоба на
актеров — судителей драматургического товара. («Дон
Кихот». 1935. 1, стр. 752—755).
382
Записи из рабочих тетрадей
1955
1/2 1955. «Горе от ума»52.
Последняя фраза Фамусова — самое страшное, что
только можно себе представить. Тут он перед разрывом
сердца. Это страшнее всего, что он говорил в пьесе.
Декабрьская метель проходит за окнами.
Бродячим декабрьским ветром занесло в Москву
Чацкого Ч
1-е появление его в сумасшедшем темпе. Молнией!
У него не хватает дыхания — в этом и прелесть сцены и ее
некоторый юмор. В таком ритме не может существовать
Софья.
Чацкий романтический и поэтический.
В диком темпе — фантастично — сплетня. Гремит
музыка, убыстряются танцы. Всем жарко. Пот. Движение
вееров. Крутится снег за окнами.
Воинственная сцена — общество наступает, давит,
уничтожает. Идет сила! Один — и все. Сцена сильная
и злобная. Бьют насмерть.
Одиночество в снежной пустыне.
Дух Герцена.
Жанр — сочетание веселой комедии и трагедии.
Общественной трагедии.
Задача в том, чтобы превратить шаржи в портреты.
И в том, чтобы не только передать смысл (теперь он
общедоступен), но и энергию, движение поэзии.
История с сумасшествием Чацкого: особое русское
безумие, воспетое Гоголем.
У Грибоедова странная ремарка: «уезжает», а не
уходит, убегает и т. п.???
Художник говорит от имени народа попросту потому,
что он испытывает то же, что испытывает народ, а не
оттого, что он «берет заказ». Из глупостей прошлого периода
кинематографии одной из наибольших было требование
показывать в фильме кроме Пушкина, Лермонтова,
Белинского еще и так называемый «народ» — т. е.
схематическую фигуру мужика.
Белинский и был народ. ц
1955
383
Как же, по теории иных критиков, начинается путь
художника? «Режиссер правильно показал... но есть и
некоторые недостатки... артист недостаточно выявил... но это
не может заслонить...»
Есть ли, по их мнению, поиски пути, пробы форм,
эксперимент?
Что же это за странное слово «новаторство» и что оно
обозначает? «Наиболее правильно», что ли?
В чем больше советского народного искусства — в
экспериментах ФЭКСа или в правильном «Белинском»?
Из ФЭКСа вышла «Трилогия», из «Белинского» ничего
не может выйти, кроме творческого тупика.
Новинка сезона: глубокий экран.
Картина цветная и картина со смыслом (необходимо
начать экспериментальную работу в этой области).
26 IV
27 IV 55. У Марло в «Мальтийском еврее» есть два
«злодея». Варавва и его слуга. Если слуга насквозь
условен и отрицателен, то в Варавве уже вся новая поэтика.
Слуга — театральная фигура злодея. Дживелегов
пишет, что, вероятно, эти акты писал уже не Марло 54 (тогда
это еще более показательно).
Варавва — целиком поэзия.
По сути дела, Варавва не более корыстолюбив, чем
Яго — честолюбив. Тут все дело в отрицании, а вовсе не
в завоевании какой-то практической цели.
У Марло — в нарушении всех человеческих и божеских
законов есть пафос. Прекрасно само нарушение. Переход
через черту. Пафос образа — «один против всех». Во имя
золота (Варавва), власти (Тамерлан), знания (Фауст) 55.
Причем это ничем не унижено. Страсть ко всевладею-
щему богатству вовсе не связана с обычной в этом типе
скупостью.
У Вараввы, вернее, даже не страсть к золоту, но страсть
к нарушению законов и морали. То, что он еврей, нужно
Марло вовсе не для психологических или социальных
мыслей, но для отрешенности героя от недвижной социальной
384
Записи из рабочих тетрадей
системы — это герой-одиночка, всем своим положением
стоящий вне общества.
Что же ставит человека в возможность нарушений
божеских и человеческих норм? Золото.
И здесь центр поэзии Марло. Причем у Шекспира («Ти-
мон Афинский») это проклятие, здесь — кумир. Ни на
любовь к дочери, ни на ненависть к христианам не потрачено
ни малейшего поэтического усилия. Только на золото и
власть. Золото — возможность борьбы с системой. Выход
из обреченности в этой системе. Борьба с божественным
предопределением.
Режиссер — поэт, художник, а вовсе не помесь
организатора с членом общества по распространению разных
знаний.
Надо было бы в городах открыть хоть по одному театру
для глубокого экрана.
Суворин записывает в дневнике о неуспехе «Чайки»:
«Если бы Чехов поработал над пьесой более, она могла бы
и на сцене иметь успех». Там же классическая фраза из
постановлений худсовета: «Но и в пьесе есть недостатки:
мало действия, мало развиты интересные по своему
драматизму сцены и много дано места мелочам жизни...» 56
Но это Суворин, а вот Толстой: «О „Чайке"
Чехова Л. Н. сказал, что это вздор, ничего не стоящий, что она
написана, как Ибсен пишет: „Нагорожено чего-то, а для
чего оно, неизвестно"» 57.
Разобралось время.
Немирович-Данченко писал о том, что Крылов «знал
сцену», а Тургенев «не знал» 58.
Искусство делали именно те, кто «не знал». И прежде
всего Чехов.
1955
385
Критики стали писать мемуары за актеров. Это особая
продукция, о которой стоит задуматься. Все актеры,
оказывается, одинаково думали.
Пушкин написал только первую фразу мемуаров
Щепкина, теперь литература помогает актерам куда больше.
Только мемуары ли это?
Мемуары актеров — новый и странный жанр: книга-
мероприятие. Это не биография, не теория искусства — это
мероприятие.
Интересно то, что мемуары актеров, написанные
критиками, рецензентами и редакторами, отчетливо показывают,
какое же, по их мнению, должно быть искусство театра.
Что такое «верное искусство».
А что, если всю статью об Отелло строить на
воинствующем, полемическом значении любовной темы?
Сонеты и пр.
Любовь как политическая тема.
Начало «Двенадцатой ночи». Герцог: «...музыка —
пища для любви». Тема гармонии и хаоса.
Дух любви вмещает все, как океан («Двенадцатая
ночь». 1,1).
См. мои материалы к «Ромео и Джульетте».
15 V 55
Ялта. Май 1955.
«Дон Кихота» начинать со слов экономки,
раздающихся еще в темноте: «Вы только подумайте, сеньоры, что
он задумал: стать странствующим рыцарем в наш 1605 год,
и вы знаете, какое имя он себе сочинил?..»
Появляется надпись: «Дон Кихот Ламанческий».
О тенденциозном искусстве. Толстой — тенденциозен
до бешенства («напившись вина и накурившись — он
пошел и убил»59), до памфлета.
Смерть Холстомера и смерть Серпуховского. Но это
своя тенденция. Она еще вся в движении, развитии, в пылу
нахождения доказательств и борьбы с противником.
13 Г. Козинцев, т. 4
386
Записи из рабочих тетрадей
«Гамлет». К срыванию красивых покровов см. «Смерть
Ивана Ильича».
Люди любят лгать о своих возвышенных чувствах друг
к другу и к явлениям человеческой жизни, а на самом деле
без этих красивых, но лживых слов дело обстоит в жизни
совсем обыденным образом, людей интересуют чисто
практические, холодные, бездушные вещи — во всем они ищут
выгоды, удовлетворения своих мелких, довольно подлых
потребностей и желаний. И если посмотреть со стороны,
без украшений, трезвым взглядом, то так выглядит смерть
Серпуховского («Холстомер»).
Весь интерес в том, что в борьбе с обыденно-пбэтиче-
ским возникает не проза, но, напротив, потрясающая по
силе именно поэтического построения, ощущения,
мышления — образность.
Суть в усилении, выведении на первый план каких-то
одних признаков и опускании, иногда совершенном,
других.
В чем же смысл отбора? В том, что на первый план
выводятся те признаки, которые являются наиболее
существенными, выразительными для смысла этого явления,
для его глубинного значения. Меняются пропорции и
перспективы всего заключенного в материале. Ср. речи
Гамлета матери и речь Толстого (а это именно его речь!) о смерти
Серпуховского.
Черви и начищенные сапоги (сапоги три раза: дорогие,
образ грязного сна в одном сапоге и начищенный сапог на
гниющем трупе).
А некогда, в молодости, все красиво, благозвучно и
приятно для глаза.
Но вот — суть, итог.
Старинный образ нарумяненной женщины и черепа.
«Лир». Параллельность человеческих чувств,
настроений от народной песни и японских танок до сложного
развития у Толстого («Воскресение», дуб в «Войне и
мире»).
Начать собирать материал о поэтичности.
1955
387
В «Смерти Ивана Ильича» Толстой сопоставляет
смерть со всеми мельчайшими, пустяковейшими
житейскими делишками и страстишками. Одной деталью
уничтожаются привычные торжественные и
величественно-печальные ассоциации, связанные с образом гроба. «Внизу,
в передней, у вешалки прислонена была к стене глазетовая
крышка гроба с кисточками и начищенным порошком
галуном».
Смысл всех этих образов: вот за что выдают это люди
и вот что при этом они чувствуют и делают.
В «Смерти Ивана Ильича» начинается все с пустяков
и мелочей, а в середине, вдруг, неожиданно поднимается
огромная трагическая тема смерти. И получается
сопоставление этого непостижимого понятия — и
житейских пустяков. Времени, общества и того, что вне
времени, вне каких-либо общественных понятий и
представлений.
Общественное понятие — это галун на гробе, который
за деньги чистят порошком, и кисточки, которые следует
прикрепить к четырем концам крышки, если мертвец —
богач.
И еще: кому достанется место на службе. Мертвец его
опростал.
Толстого особенно бесит понятие «порядочности»,
«приличия». «Приличие внешних форм, которые
определились общественным мнением», «выдуманные, фиктивные
места» (службы), «ненужный член разных ненужных
учреждений». Умерли и уже давно стали фиктивными и
общественные учреждения и общественная мораль.
Вот где сопоставление: «ложь, ложь эта, совершаемая
над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая
низвести этот страшный торжественный акт его смерти до
уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду...».
К концу в одном абзаце в каждой фразе слово «ложь»,
иногда даже по нескольку раз.
Но ложь у самого Толстого начинается с момента ввода
Герасима. Это уже ложная, нарочитая тенденция, не
лежащая в свободном, естественном, жизненном развитии
самого материала. Это как бы ввод положительного героя,
«светлого начала».
13*
388
Записи из рабочих тетрадей
«Дон Кихот» — баллада о нищем (типа «государево
дитятко»).
Как бы сделать этот фильм не просто реалистичным, но
и поэтическим, народно-эпическим.
А может быть, есть и моменты сгущения гротеска,
буффонады и патетики. Помнить о чисто реалистической
экранизации «Фронта»! VI 55
И опера в «Войне и мире», и богослужение в
«Воскресении» — это не только памфлеты, но и как бы сгусток
искусства Толстого. Здесь — одна из его целей — вот как
люди лгали про это: красиво, причудливо, поэтически,
возвышенно и т. д.— и вот как это просто, грубо и
бессмысленно на самом деле.
Большинство произведений Толстого имеют и
непосредственно высказанную эту полемику с другим искусством.
Так, в «Казаках» в мечтах Оленина выведены все
возвышенные штампы экзотически-кавказских повестей
(Марлинский?). В «Войне и мире» — о генералах,
изображавшихся всегда на коне и с подзорной трубкой в руке. Все
сцены Наполеона (король Римский и его портреты и т. п.).
В «Набеге» после описания старого кавказского капитана,
отправляющегося в операцию во всем старом, описан
модничающий офицер и сказано, что он был из
«образовывавшихся по Марлинскому и Лермонтову». В «Рубке леса»
офицер говорит: «И что смешно, что здесь ужаснейшая
драма разыгрывается, а сам ешь биточки с луком и
уверяешь, что очень весело».
Рассеивается кавказская романтика, и остаются
разговоры о жалованье и расходах, о том, как быстро
снашиваются сапоги при походах. Интересы солдатские,
офицерские, русские реальные характеры.
«Рио Эскондидо». Превращение мексиканской
кинематографии в штамп из одной и той же площади, эффектов
нищеты, притеснения и красного светофильтра.
До смерти ушибленные кадрами «Мексики»
Эйзенштейна.
1955
389
Что получается из попытки объяснить, почему люди
плохо живут. Есть штамп «хорошей жизни», но уже есть
штамп и «плохой жизни».
«Лир». Толстой пишет о Николае на маскараде: «в
своей кавалергардской каске с птицей на голове». Вместо
геральдического двуглавого императорского орла —
птица, помещать которую на головной убор бессмысленный
маскарад («Хаджи Мурат»). Это началось еще с
Пушкина, который смеялся над писателем, писавшим
«благородное животное», но не — лошадь 60. Потом Гоголь писал
о счастье творца возвышенных образов и несчастье
комического писателя61.
Это приближался практический век, и Баратынский
считал, что в нем нет места поэту 62.
Поэт пришел, но особенный.
Прав ли Аникст в том, что народность Отелло в его
душевных свойствах, а не в том, как он заботится о
жителях Кипра? 63
Вовсе не прав (ср. Отелло — труженик войны с семи
лет и сенатор Брабанцио). Даже о киприотах Отелло тоже
заботится — и это совсем не зря написано Шекспиром.
Другие герои — такие же храбрые воины — этим не
занимаются.
Батуми. 28 VI
Связано ли развитие искусства с прогрессом жизни
(железными дорогами, самолетами и т. д.)? И есть ли
в развитии искусства категории динамики, убыстрения
ритмов и т. п.?
Как будто наоборот. Развитие кинематографа идет
к плавности, замедлению, покою прозы.
Шекспир куда «динамичнее» Толстого. Миниатюристы
XII—XIII веков куда экспрессивнее Марке или Курбе.
Комарово VII
390
Записи из рабочих тетрадей
Монологи. Поэтика философской поэзии от Лукреция
до Джордано Бруно (у Бруно, кажется, и повышенность
эмоционального тона). Монологи Вергилия.
В чем действие этих монологов? Движение и развитие.
Каково обычно у Шекспира положение, в котором
возникает монолог (проверить по всем трагедиям).
Момент, когда убираются шасси и — самолет
подымается в воздух.
Комарово, 19 VII 55
Ромм говорил, что в звуковом кино слишком много
слов, а в нем много не слов, но речей. И еще: «забыли
о хорошем кинематографе», а по-моему, о хорошей прозе.
К поэтичности. Суть в том, что элементы, заключенные
в материале, бесчисленны. Возможности отражения не
натуралистического, фотографического (что не является
искусством) бесконечны. Есть привычные пропорции
частей. Что признано существенным и главным (по
принципу эстетическому, религиозному, этическому и т. п.).
Каждая эпоха выдвигает нечто совсем иное. Меняется
соотношение и перспектива частей. Дело не в «остране-
нии» — для прелести узнавания, а в смысловом
переосмыслении.
Так в смерти Серпуховского оказывается важен сапог,
а в «Смерти Ивана Ильича» — кисточки на углу крышки
гроба.
Мог ли быть случай, когда ученого, достигшего
общепризнанного успеха в итоге 834-го опыта, начинали
прорабатывать за 8-й, бывший 12 лет назад?
Но может быть, в искусстве дело обстоит иначе? Ведь
там познание через отражение жизни. Но не зеркальное.
Единство формы и содержания не математическое, не
алгебраическое.
В конце «Записок сумасшедшего» есть ощущение
птицы-тройки.
1955
391
Но что отражают в данном случае эти фразы? Величие
предопределения русского народа?
Какие-то смутные авторские ощущения жизни,
требующие своего отражения в искусстве. Но это еще
настолько смутно, что, вероятно, это отражение происходит не
через сознание, но как естественное выражение
собственного смутного мира ощущений, возникших в итоге
множества воздействий и психологических и физиологических.
А что такое струна, которая дрожит в тумане? 64
И странный и неизвестный в искусстве переход от
комической и даже грубо-комической — гротескной
интонации к лирической и патетической.
Это не свойства жизни, но свойства зеркала. Не
признавать это — типичная метафизика.
Есть в Комарово Дом отдыха — обычное заведение
с очередями в уборную и неуместным кормлением
пирогами. У входа написано: «Дом творчества».
Играет ли роль вывеска? Играет. Омертвело слово:
творчество. Но слова не мертвеют. Мертвеют понятия,
которые эти слова выражают. От частого, бессмысленного
употребления.
«Вечер творчества мастеров кино». Еще одно слово
омертвело: мастерство.
Представим себе афишу: «Творческий вечер мастеров
пера. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Вступительное слово —
Белинский. У рояля Глинка».
Как говорили все эти гении о своем искусстве? Но
Кукольник был не прочь красиво высказаться.
Вся суть в том, что художники и писатели —
незасаленные карты в колоде, которые по ходу игры или
выбрасываются на стол как козырные, или, наоборот,
сбрасываются как ненужные по масти. Игра игрой, а культура
к этому не имеет отношения.
Теория «удобно» в искусстве. Кому должно быть
«удобно»: Сервантесу, Шекспиру, Чехову или товарищу
артисту?
392
Записи из рабочих тетрадей
Чем хуже актер, тем чаще я слышу: «Это удобно!», «Это
неудобно!» Удобна или неудобна реплика партнера,
планировка, ритм, костюм, декорация. Как будто искусство
когда-нибудь бывает удобным!
Все неудобно для обычного актера. Малейший шум
рвет внимание, отвлекает, делает невозможным
сосредоточенность. Репетиция превращается в толкование
Священного писания в женском монастыре. Напряженная
тишина. Шепот. Глубокомысленные лица, осторожные
движения. Скрипнула дверь — и все пропало.
Актер — тончайший инструмент, нежнейшая,
натянутая до предела струна, которую так легко порвать чем-то
неловким, небрежным... Актер — это хрупкая игрушка,
которую режиссер должен обложить со всех сторон ватой.
Покойный Леонидов рассказывал мне о работе над
«Братьями Карамазовыми»: «Я с ужасом ожидал
спектакля... Со страхом отсчитывал время приближения его. Знал,
что будет пытка. В каждом стуле, на который я садился,
были гвозди. Гвозди были в стене, к которой я
прислонялся, гвозди были в полу, по которому я ходил, в потолке,
который на меня обрушивался... Гвозди вонзались в мой
мозг... Так* я играл Митю Карамазова...»
Это было мученье искусством. Величайшая радость для
художника.
С преодоления неудобств начинается искусство.
К истории монологов. Вставки авторских размышлений
и отступлений или внутренний монолог?
Чем объяснить, что в «Быть или не быть» — центр
о «стране, откуда ни один не возвращался», когда именно
история одного из возвратившихся является основой
драматургии?
И может ли быть подобный промах, хотя бы даже
и несведение концов с концами, но касающееся такого
важного (одного из главных в драматургии!) мотивов?
Ведь если бы здесь было развитие мотива, то возможности
развития его, исходя именно из данного случая, были бы
страшно убедительны (ужас существования отца в геенне
огненной и т. п.).
1955
393
Помнить, о Пушкине! Здесь не только отличие от
Мольера в превалировании единственной страсти 65
(кстати, о гамлетизме!), но и в «вольной и широкой его кисти» 66.
«История советского театра». Из Эйзенштейна сделали
«пролеткультовца», т. е. человека, отрицающего
преемственность нашего искусства от мировой культуры67.
Вероятно, историк и не подозревает, что именно
Эйзенштейн и был одним из наиболее образованных художников
нашего времени, протянувшим линию к сегодняшнему кино
не от бывшей киношки, но от Пушкина, китайского
искусства и музыки.
«Гений обнаруживается во всех формулах, даже в
самых примитивных и самых наивных; но формулы
преобразуются и следуют за расширением цивилизаций,— это
бесспорно... Нет прогресса в человеческом творчестве, но
есть логическая последовательность формул, способов
мыслить и выражать свои мысли» (Золя) 68.
Дикари, украшенные зубами и скальпами. Вот зубы
одного, скальп другого. «Смотрите, какой я храбрый волк,
смелый человек и как я борюсь со злыми духами».
«...Если мы в поэзии Пушкина найдем больше
глубокого, разумного и определенного содержания, больше
зрелости и мужественности мысли, чем в поэзии Жуковского,—
это потому, что Пушкин имел своим предшественником
Жуковского»,— писал Белинский 69.
Вот это и есть подлинный разговор историка.
XI
Достоевский в «Дневнике писателя» приводит
турецкую пословицу: «Если ты направился к цели и станешь
дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во
всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до
цели» 70.
394 Записи из рабочих тетрадей
Двадцатые годы. Классической музе тогда
доставалось. Кому только ее не уподобляли. Лишь бы прошлое ее
величавое и, главное, удаленное от жизни обличье сменить
на самое жизнеподобное, не только близкое современности,
но и самым ее обыденно грубым чертам.
Еще Некрасов за шиворот тащил ее с Парнаса на
Сенную площадь, показывая на крестьянку, которую
пороли: «Смотри, сестра твоя родная».
Говоря о словах, размерах, поэтической композиции,
Багрицкий писал:
И с этой бандой символов и знаков
Я, как биндюжник, выхожу на драку
(Я к зуботычинам привык давно).
(«Вмешательство поэта»)
Что угодно, лишь бы не тога, котурны, цевницы,
свирель и т. п.
У Шостаковича в «Носе» пелось: «И с чего это у тебя
руки воняют».
Неслыханная еще быстрота ритмов, резкость,
шершавость созвучий.
Режиссерские экспозиции о Шекспире. Малый театр
о «Макбете» — декларация: «Ничего нового не собираемся
показать, все есть у автора».
Так ли это?
Противоположные мнения о том, «что есть у автора»,
Гете, Пушкина, Белинского, Тургенева и т. д.
В чем величие гения?
Новое рождение.
«Про это»71. Конец поэмы. Вариант «То be or not to
be* 72.
1956
395
1956
«История советского театра». Тут нет слов:
талантливый, своеобразный. Тут никто не видит мир, жизнь, людей,
время по-своему. Тут все богатство оттенков
определений — единственная возможность что-то уловить в
искусстве — сведено к двум словам «правильный» и
«ошибочный». Однообразное мелькание мертвых цифр
отметок — даже не по пятибалльной системе, но по
двухбалльной.
Историк боится этих слов. Они не научны. Не
философичны.
А как же, черт его возьми, писали об искусстве
Белинский, Маркс, Гоголь!
Не «правильно показал», а «вдруг стало видимо далеко
во все концы света...».
Есть еще и такая категория в искусстве: средства
изобразительности и выразительности. В литературе они
наконец уже понятны: язык. Вряд ли кто-либо рискнет
оспаривать необходимость большого словаря для писателя
(Шекспир знаменит кроме всего и количеством слов).
Но вот современная режиссура. Постановки при
хоровом пении и гармошке. При вращающейся сцене. При
вертикальных площадках. При «облаках». Подделка под
кинематограф.
Однозначность и арифметичность игры, не простота
формы, но упрощение психологического движения.
Упрощение характеров, «облегчение» отношений.
...А вот Михаил Михайлович Тарханов слушает рассказ
Чичикова и открывает только один глаз. Вот он выходит на
авансцену и говорит: «Пойду на базар». Пожевывает
губами и добавляет: «Для порядка» 73.
Несется мир в «Тресте Д. Е.». Пляшут гоголевские
рожи. Страшный комизм Гоголя 74. Развеселая «Жирофле-
Жирофля»...
Легкость труда в театре показалась мне сравнительно
со съемками удивительной. Тишина в репетиционной ком-
396
Записи из рабочих тетрадей
нате, несколько талантливых артистов. И все. Я
наслаждался отсутствием «масштаба»: миллионной сметы,
множества людей разных специальностей, находящихся под
твоим началом (я всю жизнь ненавидел быть
«начальством»), сложной техники (увы, и починить звонок мне не
под силу!), опекавших инстанций.
Режиссерский труд напоминал мне старинное
путешествие на татарской линейке в Крыму, с парусиновым
навесом и ленивым возницей, с длительными остановками
у Байдарских ворот, чтобы поесть шашлык, передохнуть
на солнце.
Счастье, когда у режиссера «всего мало». Счастье:
отсутствие «производства».
Работа в театре представлялась мне отдыхом в
санатории по сравнению со съемками (три часа репетиционного
дня в театре и смена съемки), гигиена условий труда в
специально приспособленных помещениях, тишина, уважение.
Лечить нервы кинорежиссеру нужно в театре.
Однако заболеть нервным расстройством легче всего,
увидев свой старый спектакль, возобновленный кем-то
другим, с новыми исполнителями.
В Пушкинском театре, когда начались вводы, я
услышал странные слова: «Да, я с вами согласен, этот артист
действительно не подходит к роли, но никто, кроме него, не
сможет так быстро выучить текст... Вы считаете, этот тоже
не годится? Возможно, но что делать? Он давал заявку на
роль уже давно. Пусть себе играет».
А как же авторское право режиссера?
Постановка превращается в коммунальную квартиру.
В нее въезжают жильцы. Иные с перепуганным от ввода
из-за болезни прошлого исполнителя лицом, иные с
объемистым багажом собственных трюков и трактовок. Новые
жильцы затевают склоку со старыми.
Спектакль превращается в Пантеон русского театра,
где в течение нескольких часов можно услышать отрывки
из Островского, Чехова и Шкваркина, и все это в
обрамлении Шекспира.
Это уже даже не гостиница; это странный дом, где жила
какая-то семья, ее последние остатки робко ютятся по
углам, а по комнатам среди разбросанной мебели мечется
орда случайно зашедших людей.
1956
397
История постановки? Нет, скорее история любви. Со
счастьем, желанием ответного чувства, ревностью.
Я вызывал на длительный разговор каждого участника
массовой сцены. Проводил в театре дни. Собирался на
каждую репетицию, как на свидание.
И все было, как мне казалось, таким же — ответным,
полным чувства — с другой стороны.
Все было и на деле таким. До второго спектакля. На
первом все это еще присутствовало в полной мере. А потом
я увидел вялых артистов, утром после премьеры
списывающих в книжечки расписание репетиций.
А потом помощь критиков... Воздействие
аплодисментов, советы других артистов...
У нашего брата-кинематографиста жизнь фильма как
бы кончается за границей его выпуска (вернее, сдачи
в лабораторию на монтаж негатива). А здесь (я хорошо
понял, что это такое!) был репертуар. И ты поставил один
из спектаклей репертуара.
Я пробовал ходить каждый вечер, писал письма. Но,
увы. Собран урожай сборов, рецензий, и было даже
обсуждение в ВТО.
Всё,— спектакль вошел в репертуар.
У Шекспира вся суть в том, что он улавливал
постоянные конфликты сквозь переменную внешность.
Препятствия на пути добра отличаются формами, но не
сутью.
А суть — доктрина, абстракция, догма, мертвый закон,
бесчеловечное правило против воли, свободных
человеческих чувств, мыслей и дел.
Схема против жизни. Л/
Шекспир. Цитата Толстого об одной мысли 75.
Показать недостаточность, невозможность объятия содержания
этой одной-единственной мыслью на ряде примеров.
Показать отличие возникновения образа, темы от его
сути, глубинного смысла.
398
Записи из рабочих тетрадей
Тезис о переменных и постоянных величинах (точнее,
о злободневных конфликтах и конфликтах
всемирно-исторических).
Движение от мифа к реализму. Реализм именно и
примечателен отсутствием единой мысли — тезиса.
Миф — моралите — роман.
Сюда же — другая однозначность другой трактовки —
Аникст об «Отелло» 76. Отрицание множества черт образа.
Сюда же — идеальное и реальное. Реальны ли герои?
Реальны ли положения?
И дальше: происшествие или поэтическое движение
идеи, образа.
Зрительный образ — мысль, возникшая от него,
обобщающая деталь до общечеловеческого состояния,
философского положения.
Далековатые идеи.
К концепциям. Вся суть в том, что форму искусства,
ломавшую формы моралите, хотят вернуть к философии
моралите, неотделимой от этой формы как наиболее полно
ее выражающей.
Два пласта необходимо поднять, чтобы понять
Шекспира. Его эпоху. И также искусство этой эпохи,
многообразное и противоречивое.
Ошибка Запада, что они пытаются втиснуть бунтаря
Шекспира в «академизм» («Лир» — миракль любви), а
наших, что они вовсе игнорируют эти формы искусства,
считая, что достаточно сказать: «Шекспир — реалист»,
как все станет ясным.
Явление гениев, подобных Шекспиру, взрывающих
и перемешивающих школы, жанры и направления, во
многом схоже — несмотря на разницу веков.
Бальзак и мелодрама. Достоевский и полицейский
роман. Особенно «Маскарад» и «Демон» Лермонтова.
Украинские рассказы Гоголя. Чаплинская качающаяся
земля. Это, конечно, процесс борьбы, но элементы старого
и нового, перемешанные, создают иное отношение частей.
Интересно, как гений, ставящий себе целью изобразить
жизнь, или ломает рамки предшествующих форм более
ограниченного, менее глубокого изображения, или, стисну-
1956
399
тый этими рамками, остается менее сильным, нежели
в случае нахождения своей формы (Бальзак в «Мачехе» —
в ряду Деннери и Пиксерекура 77. См. предисловие к
«Мачехе»— стремление к роману и форма мелодрамы).
На съемках 78 появился какой-то неведомый чин.
Человек с секундомером. Он хронометрировал репетиции,
установку света, съемку. Потом подсчитывал: сколько минут
и секунд занимает полезный метр. В итоге — наиболее
медлительно создававшаяся сцена оказалась наиболее
продуктивной (чердак, три актера, месяцами
репетировавшаяся сцена), а наиболее хорошо организованная
(постоялый двор, трудная массовая игровая сцена) —
наименее продуктивной.
В истоках этой мудрой идеи лежит представление
о стандартной единице производства (деталь продукции,
один ботинок, метр ситца).
Так следовало бы с секундомером подсесть к Толстому
и подсчитать, сколько у него времени уходит на полезную
страницу. А потом сравнить с итогами подобного же
обследования страницы Чехова. И очевидно, кого-нибудь из них
премировать, а другому дать по лапам. И уж во всяком
случае заставить Шолохова писать по их средней норме.
Но с другой стороны: «Дом творчества», «Дерзайте!»,
«Против серости» и т. п. Это, что ли, единство
противоположностей?
Значит ли это, что учет невозможен? Нет. Только там,
где измерение идет на миллиметры, нельзя мерить
аршином.
Может быть, с этого начинать обработку лекций?
«Творческий процесс»? Путь художника? История
перестройки и т. п.
Статьи о «творчестве» начинаются с горделивого
признания: «Начал изучать материал...»
А что же иное? Приступил к работе, понятия не имея
о том, о чем собираюсь рассказывать миллионам людей?..
Конечно, возможно, бывает и такое. Все бывает.
400
Записи из рабочих тетрадей
Вся суть в том, что в искусстве творческий спор есть
непрекращающийся процесс, а не декадное подведение
итогов с выдачей грамот и вынесением выговоров.
1 IX
Неожиданный рывок поэзии. Выход «Дня поэзии».
И новая тема, и истинная традиция искусства. И летопись
эпохи.
Твардовский («За далью даль»), Берггольц,
Мартынов.
Не зря жили и писали старшие поэты.
XII 56
Статья в «Вопросах философии» 79 и шум вокруг нее:
«Мы не позволим сбросить наши достижения в искусстве!»
А как их сбросишь?
Все дело в том, что искусство (уже существующее
произведение) нельзя ни «сбросить», ни «вознести»
приказом.
Футуристы сбрасывали Пушкина с «парохода
современности». А он никак не сбрасывался. Напротив,
высился — все сильнее и сильнее. И дело было не в приказе.
Пушкина нельзя уже ни вознести, ни унизить.
И Маяковского нельзя. А Бурлюка больше и вовсе нет.
Хотя он живет и торгует в Америке.
И с Шостаковичем уже ничего не поделать. Тут тоже не
нужна агитация.
За достижения не нужно бояться. Они останутся.
А то, с чего сошла позолота и стал виден подлинный
материал — папье-маше,— то опять не позолотить.
Так что шум излишен.
XII
Что требуется исследователю (по самому роду этой
профессии)?
1. Перестать пугаться, начать думать, собирать факты.
Сопоставлять их. Открывать закономерность развития.
2. Не подтверждать готовые схемы (глупейшее:
реализм и формализм как аналогия материализма и идеа-
лизма).
1957
401
3. Диалектичность мышления, т. е. отказ от
примитивных: «да, нет», «хорошо, плохо». Историчность
мышления.
4. В искусстве: исследование природы
непосредственного, чувственного. А не только — рационалистического.
5. Отказ от высказываний авторов как «улик»...
Понимание частой противоречивости «теории» художников и
практики.
Исследование — часто пресс, под который кладется
произведение. Пресс приводится в действие: сжимаются
слова, поступки, характеры — и остается выжимка сути
сочинения; она вынимается из аппарата в виде карточки
с анкетой. На ней вопросы и ответы. В чем тема
произведения? Какова его мораль? Кто с кем борется? Какие
препятствия преодолевает (и преодолевает ли) герой?
Положительный он или отрицательный? (Ненужное зачеркнуть).
Чем произведение подтверждает право автора на звание
прогрессивного? Почему оно имеет (или не имеет) право
ставиться сегодня?
Так Чаплин доставал из-под катка часы.
Может быть, признак гениальности и состоит в
невозможности получить под этим исследовательским
прессом сколько-нибудь разумный вариант.
1957
Самое печальное открытие делаешь, когда вдруг с
полной пластической отчетливостью начинаешь понимать, что
листок календаря (день!) отрывается и выбрасывается
вон. Насовсем.
Отношение Толстого с Шекспиром — это «ненависть от
любви». Это стремление во имя догматической идеи убить
искусство. И убить самое дорогое в нем. Приносить жер*
тву, так уж жертву!..
402
Записи из рабочих тетрадей
Так Гоголь кричал отцу Матвею: «Страшно!» И так
Гоголь писал о своем искусстве. Страшный акт отречения.
Вечный ужасающий церковный образ покаяния. Грешен,
что веровал!..
I 57
Спорят о наследии Станиславского, Мейерхольда, а
пока делят наследие Балиева. «Миниатюры», «песенки-
настроения», «музыкальные интермедии» и «пантомимы»
заменяют драму, комедию. Смысл, достаточный для
пятиминутного зрелища, растягивается на три акта. Театр
«Нелетучей мыши». И поскольку с сатирой тоже дело не
ясно — «Прямое зеркало» 80.
Дивное определение маленьких драм Пушкина —
«драматические исследования».
Теперь пишут: «Сохранить традиции Эйзенштейна,
Пудовкина и Довженко». Это отличная мысль.
Но может быть, стоило бы сохранить не только
традиции, но и самих Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко?
Чтобы «жили традиции» или «жили люди»? II
Процесс кинематографической постановки для
режиссера — это поездка на такси, у которого исправно работает
только одна часть механизма — счетчик. Выходит из строя
цилиндр, глохнет мотор, отваливается колесо, а счетчик
почему-то отсчитывает километры, пока машина стоит,
бездействуя, неподвижная, совершенно непригодная для
передвижения.
Режиссер постепенно оказывается в положении
пассажира, у которого есть пятнадцать рублей на проезд
и которому необходимо прибыть к определенному часу.
И вот, все 15 рублей отсчитал отдельно работающий, и
притом безукоризненно работающий, счетчик, а машина
прошла только треть положенного расстояния.
1957
403
Почти задача для учебника арифметики: что же
должен делать пассажир, оказавшийся в таком положении?
Ответ неведомого Малинина и Буренина81: оставшееся
расстояние бежать бегом. Изо всех сил. Пока не сдохнет.
II
Нельзя открывать новые пути, шагая по Невскому
проспекту.
Новые дороги потому и новые, что они нехоженые.
И куда приведут — неизвестно. Не раз и не два приведут
в тупик.
Открывать никогда нельзя сразу же основное, самое
важное. Великие отрытия начинаются с частностей.
В рецензиях на картины стали писать: «новаторство
ракурсов», «острое пользование деталями» (ноги в
кандалах — крупно!), «смелое введение публицистики».
Следует читать: назойливое выделение курсивом
(детская болезнь немого кино 20-х годов) и неумение строить
сюжет, показывать событие в развитии и столкновении
характеров.
За выдумку и фантазию теперь иногда сходит хорошая
память. тп
Сдача «Дон Кихота».
Так замкнулось кольцо. Вначале кричали: «Уход от
действительности!» А потом, после сдачи картины, С. встал
и сразу же сказал: «Вас будут обвинять за границей в
пропаганде!» ¥¥Т АД
III. Москва
Историческое развитие современного общества
выработало в процессе этого развития не только
усовершенствование цивилизации, научного познания, способов
уничтожения людей или — менее совершенно — лечения
болезней, но и нравственные ценности. Внутренние
ценности — как бы рефлексы отношений человека к человеку.
Отсюда — и к людям, обществу. На этих внутренних
ценностях — правилах-рефлексах основана семья (а не толь-
404
Записи из рабочих тетра*дёй
кона половом инстинкте), родство (а не только на военных
преимуществах защиты рода против другого рода),
государство (а не только на подавлении более слабых более
сильными).
Отсюда отвлечение понятия: Правда, Совесть, Вера,
Право.
В порядке процесса отвлечения эти понятия стали
обманными. Вывесками, за которыми дыра, пустота —
черная и страшная, Освенцим.
Именно это видел Шекспир.
Канн. 11. V. Месиво людей, машин, мотороллеров,
собак всех пород, цветов, мод, говоров, укладов.
Кажется, что руль красного шевроле вылезает из чьей-
то спины и голые груди растут из зеленого крыла бьюика.
Бред футуристов оказывается реализмом.
Спрессованность. Какие-то консервы из спрессованных
тел, костюмов, слов, жизней.
Может быть, потом все это нужно опустить в воду:
концентраты разойдутся и получится какой-то
естественный продукт?
Бульварная газета опубликовала интервью с
парижской проституткой: «Ваше мнение о фестивале в Канне?»
Та ответила: «Жаль, что не пришел американский флот.
И слишком много наехало непрофессионалок». Здесь было
бы справедливо открыть памятник. Могилу неизвестной
проститутки. В этом суть.
Джузеппе Де Сантис здесь не котируется. Мы долго
гуляли с ним, и ему не поклонился ни один человек. Он
здесь был никому не интересен.
Для всех картин характерна теперь — замедленность.
Где знаменитый киноритм?
Чрезвычайная подробность характеров. Никакой
спешки.
«Фаустина». Ад. Все потеют. Черти прикуривают qt
хвоста. «Поддай жару!..»
1957
405
Каждая культура имеет свою провинцию. Разговоры
Кокто про Мышкина, про «подставь другую щеку».
А что, если все это чушь. И Фаустина в белье,
читающая газеты (она дошла уже до цен на бензин!!!), на
самом деле и есть абстрактное искусство?
Париж. 21.
«Берлинский ансамбль». «Трубы и литавры». Опять
лица в зал. Получтение, полуигра. Культура движения,
речи, декораций, костюмов (линия фигур! Ноги
вербовщика). И опять (как у Вилара 82) стилизация, отсутствие
жизненного контакта с происходящим на сцене. Нет мне
до этого никакого дела — «не до поросят, когда самого
смолят».
Чехов: постановка вопроса — задача искусству 83. Вот
этого и нет.
Опять приемы кабаре, пригодные для 15 минут. Может
быть, эта форма и логична для содержания. И исчерпывает
себя на 16-й минуте.
27 V 57
Бывает эпоха трагедий, од, комедий. Бывает —
капустников. 2-й раз — фарс, 3-й — капустник. Или — фарс,
а потом просто халтура. Срамная компиляция, без
мотивировок, разыгранная халтурщиками «с бору по сосенке».
Москва. VII
Стендаль поставил эпиграфом к «Красному и черному»
слова Дантона: «Правда! Пусть горькая, но только одна
правда».
О правде — единственном герое — писал Толстой в
«Севастопольских рассказах».
«Нужны горькие лекарства»,— писал Лермонтов в
предисловии к «Герою нашего времени».
В XIX веке слово «правда» было полемическим. И
потому, что истинный художник знал его вкус. Горький.
Фильмы у нас обследуют, но не исследуют. Акт
обследования, например, фильма «Белинский» (бесцветно, иллю-
406
Записи из рабочих тетрадей
стративно, неэмоционально и т. д.) совершенно
соответствует происшествию, но исследование (вариантов
сценария, протоколов худсоветов и т. д.) дало бы совсем иной
результат.
Движение от «Царя Максимилиана» к «Юности
Максима» и к «Дон Кихоту». И движение от «Белинского» к «Дон
К"Х0ТУ>К Дубулты. VIII
Еще в 1899 г. Немирович-Данченко писал Боборыкину
о своем театре: «Всякая постановка должна дать либо
новые образы, либо новые настроения, либо новую
интерпретацию старых мотивов, в крайнем случае хоть
проводить то, что еще не ясно усвоено нашей публикой и нашим
театром. Борьба с рутиною и общими местами должна
быть основою всего дела» 84.
В каждое время возникают свои «общие места».
Причем смена устремлений художников нередко является
попросту сменой общих мест. Были общие места
высказываний героев (историко-биографические картины). Потом
наступила реакция — провозгласили «человечность».
И пошли общие места лошадиной сентиментальности.
Борьба с общими местами — основа! Y
Новая работа начинается, как любовь. А черт ее знает,
как она начинается? Всякий раз по-разному.
Но различие любви и брака по расчету очевидно.
Нельзя выбирать тему с приданым.
Уже множество лет, кончая работу, представляешь
себе один и тот же образ: вершину горы, на которую ты
должен взобраться. Уже нет сил, но ползешь,
карабкаешься, из последних сил напрягаешься — лишь бы хватило их
доползти. А когда взберешься — хорошо будет отдохнуть
на этой вершине.
И что ж потом видишь с нее? Остались старик и старуха
у разбитого корыта...
И надо ползти опять... Y ^7
1957
407
Перечитывая книги, находишь обломки древних
времен.
Например, в «Литературной энциклопедии» в
1932 г. так писалось об одном литераторе: «Как
представитель лишенной хозяйственных перспектив группы, не
заинтересованной в обуржуазивании дворянства, он
особенно остро...» и т. д.
Кто этот представитель? Пушкин (т. 6, стр. 519—520,
«Лишние люди»).
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется... 85
Действующие лица первой трагедии Маяковского,
казавшиеся лишь метафорой: «человек с растянутым лицом»,
«человек с двумя поцелуями», «женщина со слезищей»
и т. п. появились — во всей натуральности, будто
фотографии сочетаний слов, именно таких эпитетов — на холстах
Пикассо.
Во «Владимире Маяковском» поражает предвидение.
Чего стоит одна только ремарка второго акта: «Скучно.
Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в
тогу. Лавровый венок».
Маяковский был великим поэтом, потому что в 1917
году он смог написать «Оду революции». И грандиозным,
потому что в 1918-м сочинил «Хорошее отношение к
лошадям». п Х1 57
Мы так часто говорим об известном, что является
желание, чтобы придумали способ борьбы с произнесением
всем известных положений.
Например, как только оратор сказал то, что все
знают,— штраф. Или в трибуну включена машинка, и как
трюизм — в оратора ударяет ток.
XII. Прага
-408
Записи из рабочих тетрадей
1958
Движение привлекало Шекспира сильнее, чем цвет
и форма предмета. Он-не говорит: «Когда я наблюдаю
окружающую действительность», но: «Когда я наблюдаю
все, что растет» (15-й сонет). Он стремится обострить
впечатление движения. В цвете — изменения и контраст.
Иногда изыскания современного — иного, нежели
теперешнего, значения слова, открытия иных названий
предметов в арго — не только не проясняют смысла, но, напротив,
затемняют его. Так «рыбный торговец», превращенный
в «сводника», уничтожает смысл второй, последующей
фразы: «Тогда не мешало бы вам быть таким же
честным» 86. Как сводник?
Представим себе ученого, задумавшегося над
разговором мужиков в начале «Мертвых душ». Узнав, что
«колеса» на воровском жаргоне значат обувь, этот
исследователь попробует объяснить смысл разговора тем, что
мужики интересуются, можно ли сплавить украденную обувь
в Твери, не накроет ли их полиция в Калуге. Сопоставив
это с жульнической природой Чичикова, ученый будет
считать себя на пороге открытия.
Памятник, голова которого была исполнена одним
скульптором, а фигуры всадника и коня другим, долгое
время существовал в ряду не менее прекрасных скульптур.
Прохожий, останавливаясь подле него, видел классиче*
ский покой бронзы: хотя конь и был поднят всадником на
дыбы, но было в этом — пусть и неестественном для
коня — положении величавое спокойствие, как и
полагалось— согласно античным образцам—для коня,
находившегося под таким всадником. Наездник был подобен
римскому кесарю, на его голове был лавровый венок,
благородно драпировавшая тога покрывала его фигуру, жест
его руки, как и полагалось царственным жестам, был полон
достоинства, на лице застыл покой, глаза — без зрачков —
бесстрастно смотрели в вечность. Бронза увековечила
величавость героя, как и полагалось по канонам: покой,
1958
409
неколебимость, .достоинство государственного мужа,
полного добродетелей.
Я рискнул бы сказать, что это описание памятника
Фальконе87 схоже с оригиналом (надо бы достать
современное описание!).
Но оно кажется совершенно несхожим. Ведь для нас
«Медный всадник» — это прежде всего движение, страсть,
несокрушимая сила движения. Это произошло потому, что
описание Пушкина теперь уже неотделимо от предмета
этого описания.
Но слитность этого описания с оригиналом произошла
именно потому, что в знаменитых пушкинских стихах
уловлено то, что заключено в оригинале,— как одна из
возможностей восприятия этого произведения — но одна,
а не единственная. И вот пришла эпоха (последекабрист-
ская), когда именно эти черты стали основными для
будущих времен. И Пушкин не только увидел фальконетов-
ский монумент, но и увидел с определенного ракурса. В чем
же заключался этот ракурс?
Пушкин прежде всего соотнес медную фигуру с
человеческой. Это для скульпторов очевидно, что монумент —
часть архитектурного ансамбля. Пушкин же соотнес
монумент и с человеческой фигурой. И тогда получился иной
масштаб памятника и человека.
И это было не только эстетическое восприятие, но
и философское.
Человек увидел памятник не с обычной точки зрения, но
снизу, и сразу же иной стала экспрессия движения. Поза
пропала, появилось само движение, динамика усилилась,
потому что изменились отношения. Конь уже не спокойно
поднялся над куском гранита, но вознесся над бездной.
Памятник был увиден не при ясном свете дня, но при
неверном освещении ночи. В свете луны — лицо стало
ужасным.
Но может быть, основное еще не сказано: памятник был
увиден безумцем?
Однако вряд ли это верно. Суть в том, что вовсе не
точка зрения безумия определяет историю
взаимоотношений монумента основателя Петербурга и обезумевшего от
горя его жителя. Эти отношения определяет современная
мысль поэта о масштабе государственных дел, о жестоко-
410
Записи из рабочих тетрадей
сти и величии их, о воле государственных
преобразователей, о щепках, которые летят, когда рубят лес, о величии
государства и хрупкости частной жизни, о путях России, об
истории рубежа века, о путях выхода к морю и еще и еще
множество других мыслей — возможность перечисления
их бесконечна, потому что речь идет об одной из
величайших поэм.
И именно эта — основная — мысль и заставила
исказиться ракурсы, и экспрессия стала неистовой. Но ничуть
не неврастеничной. Это была экспрессия, но не
экспрессионизм.
Вот тут и суть виденья трагедии «Гамлет», а не ее
воспроизведения. Тут и отличие культурных детских
утренников от соприкосновения с сутью неизменно современной
частицы конфликта, заключенной в этой трагедия. Такой
же современной, как взаимоотношения хрупкой
человеческой жизни, маленького людского счастья с многопудовой
бронзовой силой надвигающихся на человека
государственных преобразований.
Прага. 24. I. Золотая улица. Собор св. Вита. Храм
крестоносцев.
Часы. Вновь выходят — неторопливо поворачиваясь
перед окошком и спокойно смотря на прохожих, улицу,
мир, века — апостолы.
Святые древние камни Европы. Память о мысли,
человечности, искусстве. Коллективное усилие людей. Эпоха
наивная и величественная в своей спокойной простоте и
ясности. Романские гробницы. Странный мир готики.
Наслоение эпох — памятники на Карловом мосту.
Бездарный XIX век: пропала поэзия, виденье заменилось
глядением — вялым, поверхностным. (О зорком зрении
мечтал Гоголь; он ненавидел равнодушный, скользящий
глаз.)
Порхающий балет позднего барокко. Всё —
представление. Все принимают позы, манерничают, жеманничают.
В маленькой деревянной группе в витрине собора Лореты
даже распятые пляшут, у них не корчи мук, но позиция
танца. Пляшет и конь. На первом плане одна из фигур
напоминает Пьеро.
1958
411
Набор старинной Европы для любознательных
посетителей: узкий квартал, древняя пивная и обязательно —
всюду, как необходимая часть милой старины,— орудия
пыток, каменная темница и поэтическая легенда с
приправой ужаса.
Старые камни, порхающие святые и железная маска —
через отверстие вливали в ухо расплавленное олово.
Теперь еще — кнедлики и шинок, где сидел Швейк.
Есть в истории каждого путешествия отрадный день:
нелетная погода и — день твой.
Брюссель. 25. Утро. Улица. Оглушение гораздо
большее, чем в Париже: там — иная ширина. Вопли
распродаж. Беснование товаров, цифр.
Кино. Неоновый вопль. Тошно уже от фотографий:
шприц, воткнутый в ляжку. Слишком большое все: груди,
буквы, пистолеты. Рок-н-ролл. Девка в тигровом трико.
Вокруг давка парней, обнаженных до пояса. Груди, мяса,
ляжки, кулаки, мышцы.
Ненависть к такому кино.
Как прекрасны старые камни Европы. Мудрость
пражских часов.
Разговор о модернизме ритмов, ракурсов и пр. Может
и должно ли искусство за этим гоняться? То есть «попадать
в ногу», иначе — в судорогу?
Или «Старик и море». Хемингуэй, уезжающий удить
рыбу.
Дом Рубенса. Фирма!
Театральный фасад (расходы, окупаемые потом ценой
картин). Полы Вермеера ван Дельфта — белые с черным.
Деревянные потолки. И самое странное — парадная
мастерская с дверями для выноса больших картин.
Антресоль с дубовой лестницей. Говорят, по углам ночевали
ученики.
Где нищие каморки святых живописцев, творивших во
имя высокой духовности, удивлявшихся миру — от
далеких гор и озер до складок платья и морщин на руке?
412
Записи из рабочих тетрадей
Пришел мастер. Светский человек. Хозяин фирмы.
Пропала наивность, мудрость души, тонкость чувства.
Пришла «манера». Уверенность.
Хранитель музея — такой же, как и у полотен Энсора.
Такой же, как во всем мире.
Стало темнеть. Зажгли неоновый свет. Порт.
Разведение моста. Портовые кварталы — «запрещенная
полицией» проституция.
Проституция 20-х годов — крикливая, вульгарная.
Здесь — мертвые, неподвижные маленькие клеточки среди
черных улиц. Блестит мокрая мостовая. Среди черноты
освещенные мертвым неоновым светом окошки — в
каждом мертвое лицо. Страшная парикмахерская кукла.
Неподвижная. Не смотрящая на вас. Энсор! И опять черные
закоулки, повороты. Мадонна с младенцем на
обшарпанной стене. «Чайки умирают в гавани»!
История городов. Некогда редко пользовали числа
и совсем редко номера. Дома не имели номеров — они
имели лицо. Дом «Сапог с золотой шпорой», «Луна и
солнце» и т. д. И каждый дом имел свое особое лицо. Потом
пошли дома-улицы, дома-города, улицы-номера. 42-я
улица в Нью-Йорке. Прекрасный дом в Брюсселе —
механизированный улей. Клеточки сот.
Эренбург рассказывал, как на юге Франции,
восстанавливая разрушенный город, Корбюзье выстроил город-
дом. Т. е. вместо домов, улиц и пр.— одм«-единственный
дом. Выгода этого способа строительства — и протесты
(коллективные!) всей Франции: не хотим так жить.
Ну, а кино? Может быть, поэтому оно потеряло свое
лицо. Появились номера. Жанры. Не Гриффит,
Эйзенштейн, Чаплин — но «раздевание», «детектив» и т. д.
Может быть, Чаплин — последний камень старой
Европы?
«Король в Нью-Йорке». Опубликование дневников, но,
к сожалению, превращенных в роман (повесть?).
1958
413
Несоединение двух типов. Характера психологической
драмы и маски, ставшей более жизненной, человеческой,
чем характер.
Не получается то, что так изумительно выходило в
«Новых временах»: история, рассказанная клоунским образом.
Здесь не история — шутовским языком, но повесть с
клоунскими отступлениями, и не то важно, что вне сюжета
и характера, но и вне темы.
Для маленького безработного путаница в мире
механизмов — образ. Для короля-утописта засунуть палец
в пожарный шланг — номер комического актера и, увы,—
не новый.
Начало истории мальчика. Диккенсовский кадр
(рождественский) с мальчиком в снегу (вне климата всего
фильма!). Такой автобиографический кадр с девушкой:
если бы мне было на двадцать лет меньше! Та же
ассоциация с пластической операцией (может быть, он ее все же
сделал?).
Если бы не бояться лихих образов: король без царства,
без гроша в кармане, вынужденный кормиться
рекламой — и обвиненный в коммунизме (автобиографичность
•темы достаточно ясная).
«Ночь клоунов». Ингмар Бергман. Глубина, сложность.
И заимствование.
Сцена маневров с раздевающейся бабой, голым
солдатским мясом и залпами пушек... Мопассан, но скорее
Золя.
Клоун несет ее. Опять не просто несет, но, как говорил
Смердяков,— «специально». Серая, мрачная,
беспросветная жизнь. Арлекины Пикассо. «Дети райка», «Дорога».
История с приездом в город. Визит к директору театра.
Вся так называемая «поэзия театра», а на самом деле
отсутствие реального чувства зала, кулис, колосников,
которое было у Домье.
Главная и наиболее отвратительная сцена драки (кетч)
в цирке. Помесь физиологии с видимым гримом. Изюм
и физиология. Детская игра с бумажкой, в которой нет
конфеты.
414
Записи из рабочих тетрадей
31/1. Пале де бозар. «Новый Вавилон». Выйдя перед
экраном, я ощутил легкость, веселость и — совершенное
спокойствие.
Пражский аэродром. Явление Майкла Тодда 88 и Лиззи
Тейлор. Как в пьесе бр. Тур и Шейнина об Америке,
поставленной в областном театре. Набриолиненные секретари.
Тут же — сойдя с самолета — писание бумаг, подписи.
Лиззи, скупающая сувениры.
Воспоминание о Канне. Лиззи в золотой короне. Прием
у Тодда со львами за витринами. Была какая-то нелепая
бутафория, эстрадная преувеличенность.
Киноязык или мысль в кино. Это же к «современной
форме».
За «киноязык» мы расплачиваемся мелодрамой —
вместо драмы, живописностью — вместо жизненности.
Работа Урусевского очень хороша, в ней и талант,
и высокое качество, и все прочее 89. Что хотите — кроме
новаторства. И в этом нет никакого горя.
«Живописность» — настроение путем светотени, а не
выявление сути наиболее жизненного, характерного,
определяющего время. От нее отказался Москвин, сняв после
«Нового Вавилона» «Юность Максима»,— после
светотени и расплывчатых пятен, ассоциаций вместо предмета
(скачка немецкой кавалерии, канкан, снятый с рук — до
абстрактного мелькания) — ясное утро заводской
окраины, город, завод, маевку, Думу.
Дело не в противопоставлении «хроникальности» —
«живописности», а в выявлении материала (быт, жизнь,
время; точность и подробность) или в его ретуши под
живопись (пятна, эмоциональность, экспрессивность
создания внешней эмоции). Фотография Фигероа и «Рим,
11 часов» 90.
Поиск глубины мысли. Помогает ли ему внешняя
экспрессивность и настроение?
Язык 3-го акта «Короля Лира» экспрессивнее всех
сочинений экспрессионистов, но это пятистопный ямб, ши-
1958
415
рокая строка, метафоры. Рядом с Шекспиром
экспрессионизм — неврастения. Тут и лежит водораздел: неврастения
или сила трагедии? «Старик и море» нельзя написать
судорожным языком 20-х годов, стилизовавшимся под
телеграфный язык. Смелость и новизна этого романа —
новизна постановки вопроса о жизни людей. Мудрость
несовместима с неврастеничностью.
Мудрость — сгущение средств выразительности для
выявления сути жизненных явлений. Это было в работе
Пудовкина и Головни («Конец Санкт-Петербурга»):
деревенский парень, пришедший в страшный, чужой, холодный,
подавляющий своим величием и масштабом город —
императорскую столицу. Революция шла из фабричных
предместий. Провода и стены цехов (может быть, лучше на
примере «Максима»).
Мудрость была в «Земле» Довженко, в садах
«Мичурина», в рыжей осени не только природы, но и жизни, в
морозе и огне.
А здесь — подгонка материала под настроение,
образность, нивелирование материала.
12.2.58
«Смелость и новаторство» показа жизни
экспрессивными ракурсами кадра, сгущением (количественным!)
дробного монтажа. Применением объектива 18 мм, живописной
светотени освещения. Экспрессии всяческих видов.
Все от периода поисков сгущения экспрессивности.
Так дети играют в составление картинки. В ящике
набор кубиков. Когда ребятам надоедают знакомые
кубики, они собирают их невпопад: кошачье ухо и глаз
попадают между лапою и хвостом. Новые сочетания вызывают
веселое удивление, кажутся занятными. Но кубики
остаются кубиками. Игра приедается, как только дети
становятся постарше.
Тургенев: «Обратные общие места»91.
29/III. Западный Берлин. Современный наиболее
потрясающий образ: столкновение несовместимых
контрастов. Полное отсутствие переходов, полутонов; все «на всю
железку».
416
Записи из рабочих тетрадей
Были контрасты и старых городов: Петербург — Росси,
Достоевского, Октября. Старинная и современная
(модерн) Прага, контрасты Парижа.
Но все мало сравнимо с Берлином. «Во всю железку» —
развалины, американизм Курфюрстендама, выставка
современной архитектуры.
Эволюция религии. Павильон Ватикана на
Брюссельской выставке. Такая же кирха в Бонне. Крест модерн
в Кельнском соборе.
Готика с ее фантастикой, видением, пламенным
воображением и обостренной чувствительностью — огромный
мир поэтических образов; и схема — обнаженный чертеж
крепления креста и колоколов. От Квазимодо до кнопки.
Два храма: бетонный столб, превращающийся в крест
и палочки креста на палочках перекрытий, спиральная
лестница в пустоте пролетов. Человек в пустоте.
Колышащиеся механизированные колокола. В них нет
голоса веры.
Вряд ли можно теперь вообще верить в высший мир, но
так верить, во всяком случае, нельзя.
Таксы в зеленых ливреях. Кость резиновая, но с
хрустом.
А не символ ли это искусства?
«Но хруст как настоящий!..» Так обманывают не только
псов.
«Добивайтесь полной имитации хруста!»
Опасно! Внимание к хрусту!
2. IV. Приход в ресторан во Франкфурте. Выход
оркестра во фраках навстречу. Исполнение в мою честь
«Шумел камыш».
Шеф прессы. Одеколон. Сигареты. Аппарат для
облегчения астмы. Завод с утра, кончающийся к ночи. Остается
мягкое чучело с серой маской, на которую нацеплены очки.
Он все же смотрел на меня, как мать на ребенка, когда
я выступал. «Хорошо прочитал стихотворение. Какой вое-
1958
417
питанный, шаркнулчюжкой. И как начитан в свои шесть
лет».
Я доставил ему вначале немало беспокойства, когда он
сообщил мне программу, куда входила и съемка на фоне
всех злачных мест. Потом, услышав ответы на
пресс-конференции, он помягчал, а после аплодисментов на его лице
сияло истинное счастье.
Пьеса Миллера «Смерть коммивояжера» была,
вероятно, про него.
Любопытно, что в большинстве случаев зрители во всех
странах одинаковы, а вот «ценители» и критики вовсе не
схожи.
Зритель Гамбурга не отличается от зрителя
Ленинграда или Антверпена, но 1-й сеанс в Канне вовсе не схож со
2-м (фестивальным), когда появляются терракотовые и
голубые смокинги и обнаженные плечи, прикрытые мехами.
Критик «Фигаро» ничуть не напоминает критика «Е1
Contemporano». Но схожести и разряды тут тоже есть.
И как ни странно, они не в смысле, а в тоне, способе
подхода к искусству. И в тех, кто писали «Сервантес —
марксист» или «советский фильм без идеологии», есть общее.
Отсутствие непосредственности отношения. Для них
фильм — «продукт» чего-то, каких-то политических
явлений. Не произведение искусства, но «предлог».
IV
Критика в изолированном кругу литературных типов:
так Анну Каренину можно вывести из Марии Магдалины.
В общем, действительно можно, потому что круг
человеческой жизни и всего того, что в ней случается, яе так уж
велик и бильярдный гений может уложить шар лишь
в угол и середину.
Но не точнее ли выводить Анну Каренину из
действительности ее времени.
То же и с Фальстафом — он и порок, и обжора, и пр.—
-но он прежде всего — современник Шекспира.
Но и наш современник?
14 Г. Козинцев, т. 4
418
Записи из рабочих тетрадей
В анализе Фальстафа безумно мешают литературные,
мифологические и иные прочие реминисценции.
А у Шекспира все это было куда больше от жизни
(Пушкин — «не смущаемый никаким иным влиянием» 92).
Но сам жизненный тип имел предшественников, и их,
конечно, отражало искусство.
Мы забываем об этом и пишем историю изготовления
зеркал вместо повести о людях, в них заглядывающих.
В пьесе потрясает поток жизни. Масштаб движения
всего муравейника. Масштаб копошения. Всех.
Конечно, Фальстаф — clown, рыжий. Но он рыжий
у ковра истории. Масштаб clownery! 93
Рыжий может пародировать акробата, потому что он —
мнимо неловкий. Фальстаф — умнее всех. И в этом суть его
клоунады.
Аморальность? Но он пародирует не всеобщие
отвлеченные представления, а определенные понятия,
выраженные жизненными характерами. Не вообще «честь»,
а понятие Готспера о чести. Не вообще «мораль», а
политическую мораль государственных деятелей хроники.
Он — оборотная сторона макиавеллевского
гуманистического учения об истории, политике, государстве.
Он — макиавеллизм в комедии, так же как Ричард —
в трагедии.
Великий разрушитель.
2 V 58
Бабель. Который раз перечитываешь его рассказы,
и все еще чудо остается неоспоримым, захватывающим дух
и совершенно необъяснимым.
Это чудо: ясновидение ощущений, отчетливое
представление смутных отзвуков и отсветов пережитого,
передуманного, узнанного. Это восторг от возникновения
образов, дающих своим цветом, вкусом, мудростью — счастье.
Это область физиологического наслаждения искусством.
Это вовсе не единственный род наслаждения
искусством. Но тот, по которому мы особенно изголодались. Этот
род противоречит всему, что писал Пушкин о прозе 94.
1958
419
Сгущение ощущений. Перенасыщенный раствор. Вот
почему цвета красок ослепительны, запахи доводят до
дурноты, характеры вылеплены осязаемым объемом.
Горящий миг увиденной жизни.
Есть схожесть между Бабелем и Довженко. Может
быть, через Гоголя? И во всяком случае — с Шагалом.
Есть ли явления более несхожие, чем Бабель и
неореализм?
Первые годы революции и пятидесятые. Для первых лет
во всех искусствах была характерна эта упоительная
яркость цветов. Икона аскетизма соединялась с колером
вывесок, лубков «Бубнового валета» 95.
Как я увидел с Ланглуа Лентулова, Машкова,
Гончарову 96. Где же здесь был французский сезаннизм? Там же,
где и бабелевская любовь к Мопассану,— в культуре
отношения к искусству, языку, фактуре, но вовсе не в
отражении жизни. Малиновое галифе с серебряным лампасом
действительно гуляло по жизни.
Открылась нефть. До неба забил рассыпающийся
неисчислимым богатством фонтан.
Бабеля трясла лихорадка открытий. Золото оказалось
под ногами. И все было новое, еще не открытое, не
описанное (слабее французские рассказы: это прекрасно, но
уже описано). Не описаны слова, выражения, склад речи
множества людей, целых пластов людей. Они еще не
говорили в литературе. А это чистое золото контрастов,
своеобразия выразительности, «антилитературности» их речи.
Не открыты их характеры, отношения, как они умирают
и любят.
И отсюда необходимость новых изобразительных
средств, чтобы запечатлеть эти новые явления жизни.
Бабель открыл два континента: бойца гражданской
войны и одессита.
Ощущение революции началось с контраста прежде
всего. «Кто был ничем, тот станет всем». Заговорили те, чей
голос не представлял интереса для старого искусства.
О революции немало рассказывали голосом философа,
проповедника, трибуна, адвоката. Теперь о ней
рассказывали речью темного мужика, перед которым открылась
14*
420
Записи из рабочих тетрадей
новая жизнь, ее возможность, которую он больше
понимал через ненависть и надежду, нежели через ясность
программы.
Вероятно, «Конармия» Бабеля и «Двенадцать» Блока
чем-то (внутренне) схожи.
Пространство языка расширялось веками. От народной
поэзии до современного романа накоплялись сокровища
национальной речи. Она образовывалась самой жизнью
народа, расширением и углублением знания реальности,
истории, человека, а не усовершенствованием оттенков
щебета и посвиста. Нелепо сопоставлять пространство
национального языка с загородками литературных
приемов. Такие загоны ломал каждый из крупных писателей.
Мастерство живописца или поэта никогда не
образовывалось от заключения себя в круг «специфики живописи» или
«поэтической темы».
«Поэма без героя» волнует меня с каждым новым
чтением все больше. В чем суть такого моего контакта
с этими образами? Как всегда в искусстве — в
ассоциациях. У Ахматовой трагедия несовпадения пластов образов
Петербурга: судейкинско-сапуновско-блоковско-мейер-
хольдовского (Доктора Дапертутто, символистского
морока «Балаганчика», в котором сам черт не только не
разберется, но и ногу сломает) со страшной ясностью военного,
трагического пейзажа и затем с еще более ясной,
народной, почти частушечной простотой рассказа.
Это история не только искусства, но и интеллигенции,
рассказанная не персонифицированной судьбой, а
столкновением глыб ассоциаций. Своего рода Джойс, но не
в истории одного дня, а в движении эпохи. Трагических
несовпадений.
Фотомонтаж памяти целых исторических эпох.
30 VII
Еще раз о жанрах (дискуссия в «Октябре»).
Категоричность Акимова мало отличается от категоричности
1958
421
«редактора» 97. Могила неизвестного редактора, у которой
навечно горит пламень ненависти неизвестного художника.
Память об Адриане Пиотровском 98.
...Что такое жанр ;и что такое ломка жанра. Халтура
как предмет теории комического (комедия —
бессмысленно, но смешно; «лирическая комедия» — бессмысленно,
потому что комедия, не смешно, потому что
«лирическая») • ' Комарово. 6 VIII 58
Всесвязующая нить. Однако с ней дело тоже непросто.
Одно дело она у героев писателя, а другое — у него самого.
Всесвязующая нить Толстого оказалась не из прочного
материала. То же в конце у Гоголя, у Достоевского.
Но поиски этой всеобъемлющей идеи героями у этих
писателей грандиозны.
Переходить к этой теме от лабиринта сцеплений. Чем
вызвано это мучительное блуждание по нему? Менее всего
развлечением.
24 IX 58
Большие художники презирают глубокомысленную
мину. В дни боя быков на юге Франции Пабло Пикассо любил
участвовать в парадном шествии: он стоял в машине,
едущей впереди, и трубил в трубу. Это не помешало ему
написать «Гернику». И все это — любовь к буффонаде,
карикатуре, цирку, карнавальной яркости — не «хобби»,
а какая-то черта характеров. Может быть, и не только
характеров определенных художников, но и самого
времени, периода искусства.
Мастерство — это отказ, пересмотр. Умение отказаться
от того, что умеешь. Идти вперед. К неизвестному.
Мастерство — неизменное ощущение неумения,
отчаяние от чузства наплыва мыслей и незнание (еще!), как их
выразить.
422
Записи из рабочих тетрадей
Почему я так люблю Шекспира? Потому что он все
предчувствовал. Его гений не только в силе современной
(пожалуй, наиболее для меня современной) форме, а в
том, что эта форма выражает предчувствие.
И что же все-таки, в конце концов, самое главное в его
искусстве? Чувство неминуемости приближающейся
катастрофы.
Примешиваясь ко всему в человеческой жизни — от
любви Ромео до желания Фальстафа пожрать и попить,—
именно это ощущение дает такую современную, жизненную
силу шекспировским трагедиям.
Этого ощущения нет в комедиях, и для меня они лишь
устаревший фарс; сколько раз я их ни перечитываю, то же
впечатление.
29 IX
За некролог о Гоголе Тургенев был посажен на месяц
и выслан потом в деревню. Он вспоминает о беседе в
сибирке «с изысканно-вежливым и образованным
полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей
прогулке в Летнем саду и об „аромате птиц"» ".
Ах, этот разговор о птичьем аромате. Хорошее
название — «Птичий аромат».
Выставка живописи за 50 лет.
Свалка у Сальвадора Дали («Искушение святого
Антония»). Отказ от реализма для аллегории. Сухая, вирту-
озническая живопись. Отказ от жизненности
импрессионизма, выдуманность.
От Босха и Брейгеля к этой фантастике такой же путь,
как от религиозного искусства к муляжам.
Брюссель. Ноябрь.
Прага. 24. XI. «Латерна магика» 10°.
«Кинематограф должен...» Кому он должен? Зрителю
Законоучители. Их много. Указующие стрелки и
маршруты — только этот путь. И обязательно — вперед.
Здесь— назад к Мельесу, чтобы двигаться вперед.
1959
423
Реализм, глубина, поэзия и... магия. «Фокусы и
превращения». Камера обскура. Начало кино.
XX век — не только с его техникой, но и с его поэзией.
Соотношение кино и живой фигуры. «Женитьба».
Не воспевание техники, а сама техника, становящаяся
поэзией. Синерама, стереозвук, полиэкран ждут
художника.
Меня приглашали быть худруком Театра комедии.
Акимова — ставить в кино. Это: «переливать из пустого
в порожнее».
1959
В газете напечатана рецензия на какой-то спектакль:
«спектакль преодолел», «актер не смог преодолеть», «и все
же режиссеру не удалось совсем преодолеть...». Итог —
«несмотря на эти неудачи, театр все же находится на
верном пути».
Каком пути? И что преодолел? Наследственный
алкоголизм? Страсть к азартной игре? Клептоманию?
Нет, пьесу! «Театр трезво видел все эти недостатки
пьесы и приложил немало сил к тому, чтобы преодолеть их
или скрасить». Может быть, ее проще было бы не ставить?
20 II
— Для чего?
— Для обогащения чувств.
— Кому это нужно?
— Людям нужно...
— Но в чем смысл?
— В воспитании человеческого. Человеческих чувств,
отношений, мыслей. Чтобы не скотели.
Это цель искусства: чтобы не скотели.
Исследование словесной ткани «Шинели», сделанное
Эйхенбаумом 101, кажется мне замечательным. Но стран-
424
Записи из рабочих тетрадей
ное положение: чем. яснее открываются волокна этой
ткани, чем больше вчитываешься, тем меньше она
ощущается как ткань. Слово, попадая в ряд иных, не
только приобретает иное значение, но перестает быть словом,,
Эйхенбаум отлично показывает, как. малопочтенное «гет,
морроидальный», заканчивающее ряд других слов, из-за,
звукового его свойства звучит патетически, почти что
трубным, торжественным раскатом.
Но дальше начинается не новая жизнь слов, в ином их
уже литературном качестве: начинается совсем иное —
новая жизнь, новая реальность — действительность, которая
входит в обычную реальность, сливается с ней.
Странное противоречие: «Потемкин», снятый с ходу,
без долгих лет подготовки, теоретических изысканий,—
потрясал, и потрясал не только тем, как были построены
кадры, монтаж, а чем-то иным. И кадры по отдельности
(как бы ни была прекрасна их композиция), и монтаж (как
бы ни был совершенен ритм) переставали существовать —
появилась новая реальность. Искусство не только
объясняло мир, оно его изменяло.
Сергей Михайлович начал огромные теоретические
работы. Он стал исследовать природу пафоса, то есть того
высокого градуса нагрева, той высшей степени
воздействия, которой он сам, своим искусством только что
(несколько лет назад) достиг. Он разложил множество
явлений искусства, обладавших именно такой силой
воздействия на души, и открыл со всей отчетливостью законы
их построения (композиции, движения, столкновения
форм). Но чем яснее открывались ему эти законы, тем
меньшей силой воздействия обладали его фильмы. Я пишу
это не в упрек: не каждая работа рассчитана на крайность
таких впечатлений. «Генеральная линия», звуковые
фильмы были прекрасны, интересны, но ничего равного
одесской лестнице в них не было. Если эмоциональное
воздействие и возникало, то скорей оно возбуждалось музыкой,
нежели пластикой, монтажом. А Сергей Михайлович в это
время уже открывал все новые и новые тайны, узнавал,
«как сделано» патетическое искусство.
Эйхенбаум показал сказ «Шинели», но слова,
поставленные в ряд других слов, образовывали уже не только
иную форму языка, а новую форму реальности. «Ши-
1959
425
нель» — не расторжимой на части реальностью
(совершенно гротескной', фантастической), большей, чем
жизненная,— вошла в жизнь людей и, воздействовав на людей —
через все возрасты — именно как реальность с ее
странными героями, причудливыми словами, небывалыми
чувствами и невиданными пейзажами,— стала реальной частью
мира. Утратила свое место в литературе, чтобы перерасти
ее, став жизнью.
Начиная статью «Мое открытие Америки», Маяковский
написал:
«Езда хватает, сегодняшнего читателя. Вместо
выдуманных интересностей о скучных вещах... вещи,
интересные сами по себе.
Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно
и подробно частности.
Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее».
Но общее — без верности и подробности частностей —
мало интересно. Все жили уже достаточно много, чтобы
знать это общее. Самое неинтересное: вещи, интересные
сами по себе, когда они неизвестны в частностях.
Антикино. Развитие кино идет примерно следующим
образом: выясняется, что же является главным в этом
искусстве, его основой. Потом, развивая определенную
структуру, доводят ее до совершенства, отрабатывают
целую систему выразительных средств, подчиняют все
отрасли техники образовавшемуся стилю. Киноискусство
находит свою сферу.
Именно тогда приходит какой-нибудь молодой и
обычно не очень сведущий в этом деле человек и опровергает все
созданное на экране как некинематографическое. Вернее
сказать, кинематографическое в уже устарелом понимании
этого искусства.
Так Чаплин опроверг «монтаж» и
«кинематографическую динамику» школы Мак Сеннетта.
426
Записи из рабочих тетрадей
Через сколько периодов прошел на моей памяти наш
экран?.. И чем только я сам не увлекался. Одна крайность
сменялась другой. Были годы страстного увлечения
поэзией изображения, «самовитым кадром» («самовитое
слово» по Хлебникову), пластикой, тональностью,
фотографией, обращенной в динамическую живопись, музыкой
монтажа... Неотделимо от всего этого совершенно,
казалось бы, иное: человек на экране, ритм движения,
грубость натурального, типаж, фактура подлинных
материалов.
Звуковое кино: переворот представлений об экране;
проза против поэзии (так казалось!..).
Все это были, разумеется, не поиски какого-то
отвлеченного кино (разве такое бывает?). И бессознательно,
и потом сознательно (и неотделимо от этого, вновь
бессознательно) выражение главного — времени, жизни. Но не
способом копирования, а воссозданием, образованием
новой кинематографической реальности — экранной плоти,
неоспоримо существующей, неопровержимой.
Но разве этого когда-нибудь можно достигнуть? По
дороге к этому лишь цепь неудач.
Мексика. 6 XI. Площадь в Мехико перед собором.
Шествие на коленях. Сколько длится такой марш на
коленях? Несколько минут или столетий?
Странная архитектура церкви. Огромная корона над
порталом. Богоматерь в блестках и мишуре. Портреты
XVII века. Грандиозная сила черных и серых, пепельных
тонов.
Испания Эль Греко, Моралеса и Испания блесток,
мишуры.
Единственный способ что-то узнать: любить. Я люблю
эту Мексику. Раскрашенные, несерьезные виллы — ярко-
зеленые, фиолетовые, оранжевые. Мужчины в каких-то
чересчур черных костюмах и чересчур белых рубашках
с далеко высунутыми манжетами со слишком большими
запонками.
Архитектурное ерничество (Куприн) 102, купеческие
терема. Колониальные гациенды. Одна даже с пушками.
1959
427
Ср. с кварталом новой архитектуры в Западном
Берлине.
Эти мишурные балаганные гала и контуры, чертеж.
Комикс религии, выполненный со вкусом.
Коррида. Начало: убирание бутылок пепси-колы. Ложа
губернатора. Фанфары. Человек в треуголке. Лошадь
пятится задом. Выход. Куадрилья: пикадоры, бандерильеры.
Бедно. Насколько лучше в литературе и кино.
Выбег бычка. Сигание через барьер.
1-й тур: игра зверя и человека. Изящество на стороне
человека. Презрение к силе, элегантность. Яростная
огромная туша и сухопарый поджарый красавец в розовом
плаще.
Но дальше!..
Выезд пикадоров на клячах в стеганых попонах
(старые холстомеры). Тупое неторопливое живодерство.
Втыкание пики. Полосы крови, слюна. Восприятие быком боли:
недоумение, неподвижность. Нет ярости, борьбы.
Ну, а спорт, опасность? Кажется, одного убили. Но это
какое-то тупое уличное происшествие. Можно так
придумать корриду переезда машиной.
...И наконец, с разрешения губернатора, конец.
Замученная, несчастная корова с тяжелым недоумением в
круглых глазах.
«Аматеры» втыкания и вытаскивания шпаг. Сикейрос
сказал: «Вы видели этих танцующих мясников!..»
Сама смерть медлительная, тяжелая. Скотина дохнет
не сразу, бессмысленно, для зверской забавы.
Скоты, набившие цирк, ревут, гогочут над тяжелой
неудачливой судьбой того, кого гонят на бойню.
Американцы пьют виски. Какую-то пожилую англичанку тяжело
вытошнило.
Где варварское великолепие золота, песка, вызов
смерти? Бьющая слюна, грязная шерсть, на которой мокрые
грязные ленты красного цвета. Четверка лошадей тащит,
под рев, по песку тяжелую тушу.
И захотелось не Хемингуэя, а толстовского описания
оперы.
428
Записи из рабочих тетрадей
Народная архитектура Мексики. Вольная планировка
разномастных, разнохарактерных, но гармоничных в
сочетании зданий.
Как Мексика избежала своей викторианской эпохи,
Второй империи и Третьей республики (оперные театре
всего мира. Искусство, «облагораживающее» современный
город).
Чудо в Мексике: традиции народного искусства,
строительство ацтеков, народной скульптуры и поэзии.
Расчлененный мир эмблем: календарь ацтеков в музее,
скульптуры на пирамидах храма солнца. Поэзия
мозаичного мира.
Кусочки поэзии, преданий, истории.
9. XII. В чем неизменная прелесть народного искусства
и вечные кандалы «академического». «Правила».
Угождение вкусу. Отсутствие свежести восприятия, не наивности
неумения — но силы чувства. Происшествие или образ?
Что получается, когда уничтожают традицию. Изделия
из оникса. И теперешние лавки Пуэбло.
Что изображено? Факт, происшествие или суть
ощущения.
Ороско — критический голос революции; Ривера — ее
историограф; Сикейрос — пламя ее энтузиазма.
Ощущение массового движения, его силы,
темперамента восстания прежде всего.
Пора бы прекратить разговоры — неуважительные —
о фотографии. Иная фотография вовсе не тождество
с объектом, а его преображение.
1960
Добрые люди защищают мое желание ставить
«Гамлета».
J960
429
Придумывают оправдание, например: «Нужно ставить
что-то для заграницы». Значит, Шекспир только «для
заграницы»? Для экспорта?
Или еще лучше — одна редакторша, добрая, сказала:
«Нужно считаться с вашим возрастом». Значит,
Шекспир — это «полегче»?
Лучше бы: «Любил этого писателя в состоянии
невменяемости». f n~
1 60 г.
Мы все еще пытаемся отыскать нерушимые законы
искусства, нормативы художественного труда, согласно
которым можно оценить произведение как верное или
неверное, определить меры, с помощью которых можно
установить не особенную, неповторимую ценность труда
художника, а верность или ошибочность его образности.
Гоголь правильно написал «птицу-тройку», Пушкин
верно сочинил «Пиковую даму».
С чем сравнивается — путем наложения,
сопоставления — образность? С жизнью? Историческим процессом?
Уровнем современного мышления?
Широта вкусов — отличное качество. Это свойство
образованного человека. Но в свое время Пушкина
сбрасывали «с парохода современности» не только футуристы,
а и Писарев. А доброжелательный и терпимый ко многому
Чехов писал о Писареве: «Оскотиниться можно не от идей
Писарева, которых нет, а от его грубого тона» ,03.
Разумеется, вовсе не обязательно, чтобы время
успокаивало страсти и все оставалось в истории искусства.
Помещение очищалось от хлама. Многое навечно исчезало
из памяти.
Советская кинематография началась в борьбе.
Дореволюционная русская кинематография — навыки
коммерческого кино — не могла помочь новому экрану.
Станиславский назвал одну из глав своей книги
«Открытие давно известных истин» ,04. Казалось бы, дело
430
Записи из рабочих тетрадей
несложно: нужно узнать об этих истинах от более опытных
людей, прочесть их, эти истины, в книгах классиков.
Все это, бесспорно, можно узнать и таким путем. Но он
мало плодотворен. Суть в том, что нужно эти истины
открыть.
То есть именно я, такой, какой я есть, со своим складом
характера, собственной особой биографией, путем —
жизненным и художническим,— должен открыть, что
Гоголь — гений, Шекспир — грандиозный художник.
— Да ты, брат, попросту невежда. Кто же этого не
знает? Подумаешь, додумался. И еще об этом говорит...
Бесспорно, знают все. Но нужно не узнать, а открыть.
Открыть для себя, своим творческим аппаратом. Вот в чем
суть.
Нужно открыть в Пушкине то, что учит жизни,
искусству именно меня, помогает мне делать мою работу.
Шекспира «открыли» Гете, Пушкин, Белинский,
Герцен, Чехов. Все эти гении открыли, что стратфордский
гражданин был гений. Но суть в том, что каждый
определил эту гениальность по-своему. Общими бъьпи общие
слова: правда, поэзия, народность и т. д. Но до сути
«Гамлета» каждый доходит по-своему. Чтение — это одно,
а виденье сути содержания искусства — иное.
Комарово 22 III 1960
Канн. V. Здесь искажены все меры, ничтожное
возвеличено, значительное обесценено. Чтобы хоть издали увидеть
бездарную и пошлую артистку, люди сбивают друг друга
с ног, а этого человека, лысого, с печальной улыбкой, мало
кто замечает: его имя Луис Бюнюэль.
— Я хотел бы вас познакомить с господином Стейнбе-
ком,— обратился ко мне Ланглуа. Рядом стоял пожилой,
спокойный человек.
Мне, разумеется, известны хорошие слова о пользе
встреч художников разных наций, важности обмена
мнений. Все это, конечно, добрые дела. Только как встретиться
в этой толчее и обменяться мнениями в давке?
Целлулоидная лавочка, в свое время убившая
Гриффита и Штрогейма, здесь превратилась в вавилонское
столпотворение. Те, кто связаны с лавочкой — фирмой, продю-
1960
431
сером,— вынуждены — все же «паблисити» — приехать,
дать пресс-конференцию, появиться на приеме. И наш
брат, во имя «обмена мнениями и встреч художников
разных наций», тащится с икрой и водкой на «русский
прием». Икру и водку разворовывают в ресторане, но все
равно хватает: русское гостеприимство.
Восприятие «Баллады о солдате». Публика Канна.
Чему аплодировали? Перевернутому танку? Сцене в
вагоне. Чувство добра. Наше новое поколение: реальность,
простота, поэтичность.
Трогательность успеха «Дамы с собачкой».
Скандал вокруг фильма «Авантюра» ,05. Как хотелось
бы быть на стороне Антониони.
Есть какое-то ощущение бесконечной проекции одного
и того же фильма — и пейзаж, и выражения лиц, и
положения. Нескончаемый фильм про пару: шведов, итальянцев,
эскимосов, мексиканцев.
Фокус в том, что нынче это все стало как бы сложным.
«Такова жизнь». Интеллектуальный стриптиз.
Утихли скандалы. Свечи в отеле «Амбассадор».
Невеселые яркие птицы в клетках.
— А стоит ли бросать в море монетку?..
«Так жить нельзя». «Жить нельзя». Но что-то я не
слышал о самоубийствах режиссеров. И не все они
гомосексуалисты, наркоманы. У них семьи. Дети.
И они — дети народа.
И — часть человечества.
За что? За что полное волнения и страсти веселое
народное искусство превратили в тягомотину?
432
Записи из рабочих тетрадей
Почему все то, что наше поколение любило в кино,
ушло? Тягомотина фестивалей. Котильонные призы,
бумажные деньги (их забывают на полу в тот же вечер) этих
успехов — и золото народного внимания.
Поиски формы? Отсутствие формы. Длинноты. Темнота
композиций.
Ностальгия? У меня тоже ностальгия — по веселому
Эйзену!
Насколько лучше стал театр. Питер Брук. «Берлинер
ансамбль». Влияние Брехта во всем мире.
Когда женщина не может ответить любовью, она
вежливо говорит: «Я вас очень уважаю».
Я очень уважаю Алена Рене, Антониони.
Водораздел между искусствами лежит не в вопросах
формы — «модерновое» или «старомодный реализм» —
нет запрещенной формы, а в ином: искусство народное или
для избранных. И дело не в гнете коммерсантов или
продюсеров, требующих box office success .
Огромность влияния — в искусстве — Антониони,
Алена Рене и совершенная ничтожность, да и вообще
отсутствие их влияния на народную жизнь — любых стран.
Великолепная ясность народного искусства. Мудрое,
а не умствующее. Из жизни. Про жизнь.
Эйхенбаум. Я познакомился с ним в 1924 году. Человек
небольшого роста с очень высоко поднятой головой,
темными волосами, с прямым, пристальным, полным внимания
взглядом на собеседника. Он трудился над рукописями
Толстого, Лермонтова, Тургенева.
Свойство некоторых талантливых людей: произносите-
ли монологов. Они нуждались в слушателях. Другие —
в собеседниках (Эйзенштейн, Тынянов, Эйхенбаум, Эрен-
бург). Борис Михайлович не мог научиться за всю жизнь,
что люди говорят чепуху, болтают, порят чушь. И он
слушал с удивительной внимательностью. Вежливость. Но и
бешенство.
Критики писали о влиянии на меня Тынянова и
Эйхенбаума. В основном они правы. Ошибались только в-датах.
1960
433
Влияние началось позже. Во времена трилогии о Максиме.
Во времена «С. В. Д.» влияния не було, было с их стороны
странное для моего теперешнего понимания терпение.
К нашим глупостям. Очевидно, смягчающим
обстоятельством было то, что они видели в наших работах еще что-то,
кроме глупостей.
Влияние заключалось в любви и уважении к
подлинному документу, а не к выдумке. Любви и уважении к
Толстому, Гоголю, Пушкину.
Борис Михайлович был дружелюбным критиком моих
спектаклей и фильмов. Я с трепетом давал ему читать свои
шекспировские статьи. И вдруг он позвонил мне: «Что вы
можете посоветовать?» Прогулка по саду подле Народного
дома. Он спешил в магазин за пластинкой.
Мое возвращение из Оксфорда |07.
Видел его в последний раз: «Я как белка. Навалили
орехов. А зубов уже нет».
Человек с очень высоко поднятой головой. Это очень
трудно — сохранить до смерти так высоко поднятую голо-
ву* Комарово. VIII 1960
Тургенев писал Фету, что язык — море. «Оно разлилось
кругом безбрежными и бездонными волнами; наше
писательское дело — направить часть этих волн в наше русло,
на нашу мельницу». (Цит. по «Вопросам литературы»,
I960, № 8, стр. 56).
Ср. с Гоголем о пространстве языка 108. Всем этим в
кино стали вовсе не монтажные приемы, но способ
познания жизни, выработанный литературой, живописью, музы.т
кой — проще говоря, искусством, вообще искусством, а не
живой фотографией.
Кинематография нашла все эти монтажи, панорамы
и т. д., потому что стала искусством, а не напротив — стала
искусством, потому что догадалась снять крупный план.
Эйзенштейн пришел со всей культурой искусства, а не
кинематографического мастерства. У него его и вовсе не
было и не могло быть ниоткуда. Вот в чем секрет такого
быстрого (на второй картине) овладения этим мастерством
у всех.
434
Записи из рабочих тетрадей
Ну, а коль уж зашел разговор о «современной»,
«новой», чисто кинематографической форме, так уж давайте
поговорим всерьез.
Говорят: «вчерашний день», а во вчерашнем — даже
если говорить о формальной смелости, о таком размахе
новаторства, что дух захватывает,— столько заключено,
что весь этот суперсегодняшний динамизм —
провинциальный академизм.
У нас смелость: авторский голос — из итальянских
фильмов.
Может быть, он смелее «грозной вьюги вдохновения»?..
Мыслей о судьбе комического писателя? |09
Может быть, на экранах было — в мире воспоминаний
и снов — нечто подобное по смелости разговору Ивана
Карамазова с чертом?
Ну, а уроки Станиславского,— не надоевшие
проповеди его эпигонов, а его самого?
Суть не в том, что устарели сцены с Алексеем
Карамазовым, а в том, что нет великого режиссера и актеров,
способных поставить и сыграть такие сцены. Русское —
потрясать, глаголом жечь.
Спор затрудняет неясность терминов. Переигрыш
называют трагедией, декламацию и риторику — страстью.
Сильно, а иногда и открыто играть — куда труднее. Так
играли в театре Чехов, Хмелев, Тарханов. В кино — Лоу-
тон, Грета Гарбо, Яннингс, Штрогейм.
Еще раз об эстетике современного стиля.
1961
Литература? Хороший писатель пишет хороший
сценарий. И все.
Литература — это возможность свободы. Возможность
надежды. Вход в мир, над которым никто не властен. Рука,
протянутая Шекспиром.
1961
435
Знаменитое изобретение: два кадра, снятые без всякого
особенного смысла, образуют иное, новое значение —
принесли некоторую пользу и неисчислимые беды.
Ничего нового, интересного не образовывалось.
Скоро это стало не примером монтажа, а грубой,
примитивной склейкой, скорее курьеза «возможностей
кино», нежели эстетической ценности.
Конечно, в искусстве открытие новых материалов вовсе
не происходит в процессе поисков далеких континентов.
Толстой открыл детство человека: оказалось, его еще не
знали. Оно не было занесено на карту. Чехов открыл
обычную жизнь обычных людей. В исследовании этих
областей — таких близких и оказавшихся такими еще
неизвестными — немалую роль играла и наблюдательность.
Однако не она определяла задачу. Суть была совсем не в том,
чтобы описать увиденное.
Об этой сути с непревзойденной точностью писал
Гоголь. Он пояснял: задача художника изобразить
обыкновенное, но «чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно
быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное...».
Итак: «обыкновенное» вовсе не переложимо в его
естественном виде, но из него должно быть извлечено
«необыкновенное».
Что же это такое, «необыкновенное»? На это Гоголь
давал ответ в конце фразы: «и чтобы это необыкновенное
было, между прочим, совершенная истина» по
Вот почему «тем выше нужно быть поэту».
Комарово. 5 II 1961
Тынянов знал непостижимый размах пространства,
и он умел поворачивать пласты времени так, что
неизвестно было, чего больше в анекдоте о подпоручике Киже —
потешного или зловещего. Что это, анекдот, основанный
на недоразумении, или действительность исторического
процесса, превращающая потешную нелепицу в
ужасающую реальность?
436
Записи из рабочих тетрадей
Тынянов писал не «на материале истории» и не «на
фоне истории», он писал саму историю; поэзией он
открывал ее. Гул истории отзывался во всем, что он писал,— не
было на его страницах «жанра».
«Диктатор». Момент в жизни большого художника1:
непосредственное обращение. Прямая «агитация». Гоголь.
Толстой.
И дневник в «Короле в Нью-Йорке».
Проповедь и исповедь.
Счет времени: между фестивалями или между
событиями в жизни народа.
Что было на прошлогоднем приеме в «Мажестике»
и что хвалили в холле «Карлтона»?..
К стремлению «найти единство», сделать все у
Шекспира ясным и понятным относится пьеса Алешина
«Шекспир». В ней с необычайной ловкостью разъясняются все
неясности сонетов. Как известно, одна из этих неясностей
состоит в том, что часть сонетов обращена к мужчине, но
тон их скорее напоминает обращение к возлюбленной,
нежели к другу, а другая — к «смуглой даме».
Автор пьесы предлагает объяснение, ошеломляющее
своей ясностью. Во времена Шекспира, как известно,
женские роли играли юноши. Вот к этому юноше — актеру
и обращает свои стихи Шекспир. А почему же влюбленный
тон? И вот здесь именно заключена ныне раскрываемая
тайна. Дело было в том, что в свою очередь влюбленная
в Шекспира леди переоделась в мужской костюм и
поступила в труппу Бербеджа как юноша-актер на женские
роли. Отсюда возникли у Шекспира и все эти образы
переодетых в мужские платья девушек: Виола и т. д.
Открытие необыкновенно убедительно. Почти все
сходится, не сходится только одно: содержание и образы
сонетов. Именно это обстоятельство делает, конечно, чисто
беллетристической выдумкой и все остальное.
1961
437
Характерно одно: чем более лихое открытие, дающее
ясность всему у Шекспира, тем более в самой этой лихости
«попадания» чувствуется неправда. Несложный и
неглубокий, бездумный подход к явлению, поражающему
сложностью и глубиной. И вовсе не нуждающемуся в этом
прямолинейном объяснении. Понимаемому в единстве
противоречивого открытия, а не в придумывании ловко
перекрещивающихся слов для кроссворда.
Сюда же и все «подлинные Шекспиры».
На одной из конференций ВТО Астангов клялся:
«Каждая фраза Шекспира священна».
Для актера, очевидно, оказалась даже дважды
священной. Так, заключительные слова 1-го акта у него
Гамлет говорил дважды: «Век расшатался. Пала связь
времен».
Артист вместо одного священного слова Шекспира
произносил две его вариации — Кронеберга и
Лозинского. Очевидно, чтобы всем трем было не обидно.
В искусстве прокладывается еще один путь, а не
шлагбаумы опускаются на все иные дороги.
Успех. И сразу же слышишь: «Только так нужно
работать!.. Лишь безнадежно отсталый может идти по
иной тропинке».
Началось с отрицания быта; под «натурализмом»
понималось тогда все реалистическое, это казалось серым,
нудным, «несозвучным». Искали «масштаб».
Потом отрицали «театральное», «литературное»
(анекдоты!). Отрицали «звуковое кино», в особенности слово.
А потом как заговорили!.. «Масштаб» стал декламацией
и роскошью постановки.
Потом появилась «повседневность», быт. На спектакле
«Студенты» в Театре Ленинского комсомола зрители
зааплодировали, когда открыли занавес: на сцене было
общежитие, «как живое», «совершенно как в нашем
институте»,— это поражало (после «масштаба»!),
казалось тогда — новаторством, открытием. А три десятка лет
438
Записи из рабочих тетрадей
назад такой декорации свистели бы: это не театр,
натурализм!..
На моей памяти гордый, довольный собой режиссер
(иногда это бывал я сам!), возвращаясь из монтажной,
хвастался: «Знаешь, я монтировал эту сцену кусками по
несколько клеток!..» — «По несколько клеток?!? Вот это
здорово!»
Потом воспринималось сенсацией: «Знаете, Эрмлер
снял всю сцену одним кадром, на одном месте, без
перемены, в сто пятьдесят метров!..»
«Во всей сцене — ни слова!..», «Два человека сидят
в креслах и говорят всю сцену. Ни движения, только
диалог!..», «Да ну?!?!?!..»
Даже терпеливый и не склонный к оглашенным
утверждениям Тургенев писал: «После „Шинели" трудно
было читать и „Медного всадника"» 1П.
Выяснилось со временем, что вовсе не трудно.
VIII 1961
11.Х. Бухенвальд.
Память. Человек должен быть культурным, т. е. знать
прошлое. Память и забвение.
Как нужно было бы учить во ВГИКе.
Эти памятники. Памятники человечества. Кустарные
камеры пыток и наш век.
К вопросу о современном стиле. Монументализм.
Тевтонские памятники и окровавленная земля
Бухенвальд а.
Стоит ли сдавать в архив Тиля и Гамлета?
Нечего ставить?.. Вот репертуар: «Гамлет». «Шинель».
«Ревизор». «Братья Карамазовы». «Чайка». «Живой
труп». «Кин» — Сартра. «Хулио Хуренито». «Швейк».
«Двенадцать». «Незнакомка». «Джон Рид» Драбкиной
(«Новый мир», 1961, № 6, 7). «Закат», «Гедали», «Ди
1962
439
Грассо» — Бабеля, «Дракон» Шварца. «Лес». «Холсто-
мер». «Смерть Тарелкина». «Невский проспект». «Нос».
«Тевье-молочник». «Последние дни Толстого» 112.
1962
В двадцатые годы была и безоглядность
экспериментов, и широта взглядов на историю культуры. Юрий
Тынянов написал «Архаистов и новаторов», Эйзенштейн
начал исследование структуры пафоса. В наши дни
Тынянов смог бы дополнить свою книгу главами:
неоклассицизм Пикассо, циклы музыки Стравинского,
стихи Заболоцкого (озорной лубок «Столбцов» сменялся
высоким строем оды совсем не потому, что поэт увлекся
поэзией восемнадцатого века).
Возвраты (всегда на новой основе) жанров и форм
являлись в серьезных работах.не стилизацией, а открытием
тех сторон духовной жизни людей, которые не исчезали
бесследно вместе с переменами общественных форм.
Никому еще пока не приходило в голову, что послать
Гильденстерна и Розенкранца на плаху — для Гамлета
вовсе не бездумный акт, очередной удар в драке. Может
быть, это конец истории дружбы детства,
продолжающейся в ином возрасте и, главное, в ином времени?..
Сколько каждый из нас видел (да и узнал на своей
шкуре) таких карьер «друзей детства». 9fi v
Карловы Вары. 10. VI
На экране не отражение мира, а справка: какой из
последних фильмов особенно понравился этому режиссеру.
В этом нет ничего страшного, но лучше ознакомиться
с подлинниками. Кому же охота видеть дурные копии?
«В прошлом году в Мариенбаде». Маленькое кино.
Возмущенные крики, кто-то ушел, кто-то смеялся, шутили,
издеваясь над тем, что видят.
440
Записи из рабочих тетрадей
Легкость неприятия: как найти эмоциональный
контакт, просто понять, что же происходит на экране.
Это был один из тех просмотров, которые
запоминаются, становятся предметом мыслей, споров — с друзьями,
иногда самого с собой. После таких просмотров — иногда
от радости открытия мира новых образов на экране,
а иногда, напротив, от возмущения, желания оспорить,
доказать, и не словами, а тоже экраном — особенно
хочется работать.
Фильм состоит из небольшого числа элементов. И они
повторяются, множество раз повторяются.
Некогда повторение равнялось плохой режиссуре,
монотонности, однообразию. Теперь бесконечность
повторений, колдовство, магия монотонности. Это главный
выразительный прием.
И вот на экране мир призраков и призрачный
мир. В прошлом году в Мариенбаде или три года
назад в Биаррице, а может быть, пять лет спустя в
Швейцарии.
Все тихо, лишь тени белые
В чужих зеркалах плывут.
И что там в тумане — Дания,
Нормандия или тут
Сама я бывала ранее
И это — переиздание
Навек забытых минут? пз
Место действия: курорт. Еще уже: отель.
Космополитическое место. Нет нации, родины, народа, быта. Нет
и жизни. За отелем — пустота, выкаченный воздух.
Для снобов? Эпатаж? Нет, отражение жизни, но
не только жизни — внешней, но и духовного мира.
В нем пустота — несколько смутных ощущений,
ассоциаций.
Уничтожение рассказа, истории, сюжета,
характеров. Всего этого нет. Нет даже движения. Все
опустошено, умерщвлено. Смерть даже не чувства, а и
чувственности. Фрейд? Нет. Нет и темных атавистических
страстей.
Обездушивание. Широкий экран для одиночества.
1962
44]
Простодушность киношки, все испытавшей;
утонченный до максимума, изощренный на всех сюрреализмах
глаз камеры.
Бесится, неистовствует, не может себя сдержать от
ярости Феллини. Юродствует по-испански Бюнюэль
(пасьянс на многие легенды о святой девственнице). Почти
безмолвен Рене.
Бежать из этого мира.
Наступает самая страшная из амортизации ,м.
Огромное «дело о капитализме». Приговор истории.
Приобщен еще один социальный документ — об
уродстве душ («Дракон» Шварца: глухонемые души).
Фашизм — последний этап.
Шутка истории: теперь грубое искусство прошлого —
роман. Джойс чересчур ясен, Кафка прост, Пруст слишком
реален.
Если старая школа актерской игры была основана на
том, как сильнее, ярче выразить чувства, владеющие
человеком, то с Чехова искусство занято обратным: как их
скрыть (письмо к жене П5, смерть в «Чайке»).
Если потом главным стало общение, то вскоре, вслед за
этим, художники занялись разобщенностью, отдельностью
существования людей.
Парадокс: разобщенное общество. Общение
разобщенных людей. От Чехова до Роб-Грийе и «Мариенбада».
Бумажные деньги представляют какую-либо ценность
только в случае обеспечения их золотым запасом
государства.
Слова художника существенны только в соотношении
с его произведениями, личностью, судьбой.
Давно высмеянные выкрики «Про себя скажи!..», «Сам
дурак!..» — в этом случае разумны.. Развелось невесть
сколько «учителей жизни» — самих в быту дельцов,
прохвостов и любителей мелкого блуда.
442
Записи из рабочих тетрадей
На проповедях и учении жить спотыкались гении —
Гоголь, Толстой. Дело художника — показать жизнь,
человека. Какие они есть. А в показе неминуемо зреет
то, что Чехов называл постановкой жизненного
вопроса. Но каждая постановка вопроса — если она правдива
и глубока — таит в себе и некоторый путь к его
решению.
«В тот момент я убедился, что размеры и время — вещи
относительные, что есть в мире возможность управлять
этой относительностью и возможность управлять этой
относительностью принадлежит искусству» (Ю. Олеша.
Заметки драматурга).
Там же Олеша, рассказывая о силе воздействия
переводной картинки — сцене из боксерского восстания
в Китае,— объясняет свойство этой силы, ее основу: «Оно
(изображение.— Г. /С) вошло в сознание как событие, а не
как изображение события».
Ощущение подлинности вовсе не зависит от точности
сходства изображения с натурой. Вернее, с наружностью
натуры. Чаплина с его штанами и походкой вряд ли
встретишь на улице. Однако его лучшие фильмы —
в момент восприятия — кажутся совершенно жизненными.
Причина — сила одухотворенности его искусства.
Только это — одухотворенность — способ управлять
для своей цели размерами и временем, иначе говоря,
расплавлять жаром отношения ровное и длительное
течение реальности. Приближение или удаление,
убыстрение или замедление движения частиц общего создают
новый сплав действительности. Она распадается в
сознании, чтобы возникнуть в ином единстве.
В чем же сила нового единства? Только в силе
духовного существа художника, перенесенного на
материал, жаре отношения, жизненной силе, отданной от себя
материалу, одухотворивших его.
А мы часто утверждаем, что это одухотворение может
быть осуществлено идеями, принадлежащими всем,
отношением, заранее заданным.
VIII 62
1962
443
У Марины Цветаевой свой вариант «То be or not to be»:
О черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — выть...116
«Бедлам нелюдей» — образ-идея совершенно
шекспировский.
Со Смоктуновским вот уже четыре месяца идет
своеобразная работа: пробуются другие актеры на другие
роли. А он — Гамлет — только «подыгрывает». Так
кажется Смоктуновскому. Он даже нервничает: «Пора
начать репетировать!.. Когда же будем работать?..»
А он репетирует уже четыре месяца. И, совершенно
этого не чувствуя, бессознательно усваивает все, что
я задумал. Трактовка сцены, партнеры ставят его
в определенные обстоятельства, из которых ему уже не
вырваться, не свернуть в другую сторону. Он пытался, как
всякий актер, приспособить найденное — Мышкина,
сделать Гамлета в сценах безумия тихим блаженным. С этим
я сразу же (но не без труда) начал борьбу. Теперь этого
нет и в помине. Задача: терпение. Не обокрасть его
возможности, дать ему полную свободу (в достаточно
определенных условиях замысла), чтобы он смог
выразить — не мой замысел (от него ему все равно не уйти),—
а полностью свою актерскую индивидуальность, личность,
это должен быть его Гамлет.
Так я работал с Жаровым, Толубеевым, Скоробогато-
вым, Рашевской. Иначе с Чирковым. Там речь шла
о сохранении обаяния актера.
13.10.62.
444
Записи из рабочих тетрадей
В двадцатые годы спор шел не о приоритете автора или
режиссера, но о самостоятельности, первичности в филь*-
ме — кинематографического. Приоритете, условно говоря^
пленки, а не слов или сценической игры. . ,
На моей памяти кино не раз воевало за свою
независимость. Да и сам я не раз принимал участие
в кровопролитных боях за освобождение экрана. А потом
проходило время, и становилось видным, что «чистая
кинематографичное^» в ее новом понимании
образовалась под сильным влиянием то живописи, то поэзии, то
прозы.
Дверь в сокровищницу «прямого кино» открывали
множеством ключей.
Недавно это делали с помощью Пруста или Джойса, но
при этом говорили, что освобождают экран от
«литературы».
В двадцатые годы мы дрались за кинематограф —
искусство динамических изображений. Но пленку мы
нередко понимали как холст. Не случайно зрение у многих
из нас было воспитано живописью.
Однако представление о развитии кино как о смене
влияний, разумеется, нелепо. Живопись, поэзия, проза —
общие понятия; к примеру говоря, влиял Маяковский, а не
Надсон. Дело было не в смене средств, а в необходимости
выражения новых чувств и мыслей. Отрицание
пассивности, вялости, застоя, академизма было в самой жизни,
в ритме времени.
Экран нуждался в просторе, масштабе, силе
выражения. Даже титры набирали тогда огромными буквами,
часто во весь экран. Крупность искали во всем.
Никакого подобия театральных актов, сцен,
кинематографического действия, как бы происходившего между
поднятием и падением занавеса (из диафрагмы в
диафрагму). Монтажная свобода сопоставлений — вне не
только сюжета, но и жизненных обстоятельств. Связь
обобщающей метафорой, а не взаимоотношением героев.
Особенно привлекал масштаб обобщений, показ
явления, становящегося универсальным. Связь множества
разнохарактерных фактов.
1963
445
Экран должен был изменить свои черты. Когда
Пудовкин показал мне первые съемки «Конца Санкт-
Петербурга»; я был поражен огромностью экрана: город
(отлично знакомый мне), люди — приобрели иные
размеры, объем. Все стало мощным. Я отчетливо помню эти
ощущения. Интересно то, что смотрели мы в совсем
маленьком, рабочем просмотровом зале. Такое же чувство
иного экрана я получал и от композиций Эйзенштейна, от
коней, мчавшихся в «Арсенале» Довженко.
Теперь часто защищают условность в искусстве как
нечто свойственное современной форме. Напротив, отказ
от условности — от обтекаемой предвзятости: это же не
всерьез — самое важное. Прекрасны новые, совершенно не
условные герои «Вкуса меда» Тони Ричардсона.
Но как пробиться к настоящим лицам Шекспира,
и главное, самое трудное, потому что это вкоренилось,
вошло в саму плоть: не бояться вовсе не обаятельных лиц,
сцен, положений.
Какой вред принесло это представление об
обязательной «обаятельности».
1963
Единственное, что я еще не утратил: способность
ненавидеть свои постановки. И способность терзать себя
глубоко, с истинной страстью. Каким я кажусь себе
счастливым во время работы над книгой, задумывая
постановки. И какой ужас снимать: чувствовать и
понимать, что ничего из замыслов не получается, что ничего не
в силах добиться...
«Безвыигрышная лотерея» — вот что такое работа
Современный герой — задумывающийся- человек!
446
Записи из рабочих тетрадей
Я уже давно перестал верить в особенность так
называемой «киноигры». Мне казалось: хороший
театральный актер с легкостью осваивает и игру отдельными
кадрами вместо целостности сцен, и естественность речи.
С «кинематографичностью» я, слава богу, сталкивался
редко — это ухватки бывалых артистов оказываться все
время лицом к объективу (так, чтобы партнеры вынуждены
были стать спиной или боком) и упрашивать режиссера:
«Снимите крупешник!..»
Кажется, Смоктуновский первый на моей памяти
артист, понимающий силу выразительности определенного
положения тела и лица перед камерой, в пространстве
кадра. Иногда, играя, он вдруг прищуривает глаз, чтобы
взглянуть сбоку на объектив. Он понимает силу
выразительности и закрытых и прищуренных глаз, положения
руки, поворота головы. Его пластичность отлична.
Увы, пластичность речи у этого артиста отсутствует. Он
не чувствует ни движения стиха, ни объема фразы. Здесь
он работает как выйдет, «как понесет волна чувства».
Метафора для него лишь затруднение речи.
У Смоктуновского отличное качество: способность
радоваться «во всю железку». Если ему нравится кадр, он
вопит со счастливым лицом: «Туда!..»
Куда же это — туда?.. That is the question *17.
Для меня «туда» — густота закваски,
перенасыщенность раствора. Когда это же, но по-своему, через свои
ассоциации, почувствует (именно почувствует, а не
поймет) Смоктуновский, тогда пойдет настоящий
разговор.
Пока: одевание Офелии, выход королевской четы на
балу, несколько интонаций «флейты», «губки» и, увы, всё.
12 V 63
В первых работах величайшими добродетелями
режиссера мне казались фантазия, упорство в выполнении
своего замысла — умение придумать и заставить
выполнить именно так, как представляешь себе.
1963 447
Теперь пришло иное, противоположное: стыд видимой
на глаз выдумки и величайшая терпимость. Внимание
к складу каждого, с кем работаешь, возможность дать
простор его мыслям и чувствам кажутся мне самым
ценным. Вместо исполнителей — коллектив соавторов.
Правда, для такой свободы нужно самому знать каждый
вход и выход в сценарии.
Я всегда был уверен, что выдумка возникает только на
основе знания. Эллен Терри отлично написала: чтобы
искать эксцентрику, нужно знать, где находится центр ,18.
Наконец-то я начал понимать общую для всех искусств
истину: трудно не выдумывать, а отказываться от выдумок.
И вот вон выбрасывается все — во всяком случае
многое — из того, чем я гордился как «здорово
придуманным», «новым», «еще не показанным» и т. д.
Что же остается? Простой способ жизненного,
человеческого выражения только шекспировского, только
гамлетовского мира образов. Остается гневная гордость
интонации Смоктуновского — Гамлета: «Вы можете
расстроить меня, но играть на мне нельзя».
Нет большей мерзости, чем превращение каких-то
деталей трагедии — в злободневные.
Понятие современности противоположно понятию
злободневности. Первое — огромно, трагично; второе —
мелко, превращение трагического в род «капустника».
Истинная современность получается в выражении сути
прошлого. Это не сопоставление с настоящим, а
предсказывание будущего, открывающегося в глубинах прошлого.
Так задумывался над судьбой Грибоедова Тынянов,
над сказками о Ланселоте Шварц. Над хрониками
Голиншеда Шекспир.
21 VII
Всю жизнь меня не покидает одно и то же ощущение:
совершенная неподготовленность к съемке. Я путаюсь
448
Записи из рабочих тетрадей
в простейшем — монтажном стыке, планировке. Однако
подготовка всегда занимала у меня множество времени,
упорного труда, ознакомления — иногда
исчерпывающего — со всем, что нужно знать в материале, что может
помочь, навести на мысль.
И в итоге совершенная непрофессиональность,
путаница в самом, казалось бы, несложном режиссерском деле.
Особенно это я ощущаю в «Гамлете», пьесе, которую я уже
раз поставил в театре, о которой написал, упорно, годами
правя, несколько больших глав.
Уже снято множество сцен, а каждая новая опять
заставляет меня вновь и вновь искать способов
выражения: то, с чем я пришел на съемку, оказалось неглубоким,
внешним, а часто попросту неумелым. Обычно у меня есть
пластический мотив, но он выражается лишь в отдельных
кадрах,— потом путаюсь в монтажном ходе, часто невязки
кадра с кадром из-за непродуманности переходов.
30 VII
Для меня (говорю только о себе) выяснилась
совершенная неприменимость так называемого рабочего
сценария. Теперь, да и всегда, я перед съемкой обычно
даже в него и не заглядываю. Однако писал его —
особенно «Гамлета» — долго, придирчиво к себе, стараясь
видеть сцены и кадры точно, в деталях. Остаются же
в памяти лишь самые общие пластические мотивы
(безумная-счастливая Офелия среди железного века;
монолог актера на задворках и т. п.). Монтаж, внутреннее
движение сцены всегда выстраиваются на съемке, а еще
чаще — на пересъемках первых дней — от нового,
неожиданного материала: импровизации актера, места съемки,
светового пятна.
Рабочий сценарий — не чертеж фильма. И не
путеводитель по стране, в которую отправляешься, по которому
легко отыскать все улицы, площади и закоулки. Скорее
багаж, забираемый с собой: чемодан ассоциаций.
Удача в искусстве — открытие неизвестной земли,
а как ее отыскать по заранее заготовленному маршруту?..
Обычно искатели находят клад вовсе не там, где начали
впервые рыть землю.
1963
449
Что же, годы работы по подготовке, замыслу потрачены
зря? Нет. Тренировалась память, укреплялись мышцы,
стало более глубоким дыхание. После такой тренировки
легче переносишь путь, больше возможностей не
заблудиться, не свалиться в пропасть.
Но это не более чем тренировка.
А самое главное все же — тренировка совести.
1 VIII
Только теперь мне стало понятным (для нашего труда
«понять» — не просто усвоить, дойти умом, но и
почувствовать существом так, чтобы все иное стало стыдным,
невозможным) то, что писали великие писатели об умении
вычеркивать.
Суть вовсе не в размере произведения — страницах или
метрах,— а в насыщенности, густоте выражения, в глубине
корней. В ненависти к кокетству манерой, к завитушкам,
к хлесткости, лихости письма.
Мысли, и только мысли. Заставить себя настолько уйти
в глубь происходящего, чтобы форма сама
выкристаллизовалась, чтобы движение, развитие, жизнь, заключенная
в произведении, вылилась в форму не потому, что
придумана среда, интонация, род пластики, манера
повествования, а потому, что все лишнее, нежизненное,
запутывающее суть — убрано из кадра, монтажа, сцены,
фильма; все, что придумывалось для красоты, интереса,
согласно профессиональному опыту.
Для нашего дела, вероятно, необходим период
страстных поисков рабочей гипотезы. Наивные
представления о стройности, постепенности замысла: изучение
материала, определение идеи произведения, подбор
выразительных средств и т. п. хороши для общедоступных
лекций и преподавания режиссуры (обычно бесплодного).
Верно иное: шарахание из стороны в сторону, бешеный
«перегиб палки» в каком-то направлении, забредание
в тупики, так, чтобы расшибить лоб в кровь, прийти
в отчаяние от собственной тупости, неумения,
бездарности... И из тысячи опытов вдруг вытянуть ниточку какого-
15 Г. Козинцев, т. 4
450
Записи из рабочих тетрадей
нибудь художественного мотива. Только из множества
отрицаний, проверенных на собственной шкуре, в чем-то
утвердиться.
Что же, на это уходит период рабочего сценария?..
Глупость. Жизнь на это уходит.
Фильм — не дословный перевод, переложение (гнусное
слово «экранизация»), а вольная передача сути мыслей
и чувств.
Перевоплощение, а не пересказ. 4 VTTT
Никогда еще у меня не было такой необходимости
пересмотреть буквально все те способы выражения,
которыми я пользовался в прошлых работах. Произошло
ли это оттого, что современное искусство изобрело
множество новых современных приемов рассказа?.. Нет.
Оттого, что я задумываюсь над очень старинной пьесой
и нахожу, вновь и вновь, совершенную новизну всего, что
только можно рассказать о современной истории, жизни,
человеке.
15 VIII
«Гамлетом» я подвожу итог всей своей жизни. И всему,
что увлекало в искусстве, и всему, выстраданному в жизни.
Хотелось бы осуществить еще одну работу: историю
Христа. Глупости и пошлости многомиллионной киношки
библейских постановок противопоставить самую простую
и самую мудрую притчу о человеке, попробовавшем
принести в мир добро и правду. Историю, где была бы
выжженная солнцем земля, простота домотканых одежд,
суета торгашей и железо солдат. И где был бы простой,
ясный и добрый человек. Лучше этой легенды человечество
ничего еще не сочинило.
Написать ее мог бы Шварц. Жаль, что так мало
удалось сделать в «Дон Кихоте». На экране вышла
ничтожная часть того, о чем я мечтал.
1963
451
Режиссер обязан по долгу службы замечать соринки
в глазах каждого из людей, работающих над фильмом, но
плохо, если он не видит бревна в собственном глазу. Увы,
я надрываюсь под тяжестью этого бревна — оно заметно
мне на каждой съемке.
Как я завидую людям, которым нравится их работа.
Для меня буквально каждый кадр — мученье. Не так, не
доделано, насколько можно было бы сделать лучше!..
С таким ощущением проходит каждая съемка. Нет силы,
нет воли, беспощадного, ни на что не обращающего
внимания упорства. Всего того, чем в кинематографе
и достигается хороший результат.
Как-то на моих глазах один режиссер смотрел свой
материал. Он взвизгивал от восторга, привскакивал на
стуле, как-то по-особенному счастливо подхихикивал, бил
себя по коленкам.
И даже у него уже был инфаркт. 9Q VTH
Первый просмотр всего материала. В этой склейке
куски Смоктуновского, казавшиеся отличными по
отдельности, потеряли силу, перемельчены, суетливы. Он
слишком много играет, оказался снятым, как «жена
режиссера», т. е. с любованием и подробным показом
всего, что умеет делать. Слишком много походок, взглядов,
жестов. Нет грозного покоя. Очевидно, из-за того, что ему
легче играть длительные куски, слишком много
панорамной съемки, нехватка крупных планов; хочется покоя,
глубины взгляда. Неудачна вся средняя часть — от сцены
с Полонием до приезда актеров.
Пропали линии отношений с Клавдием и матерью.
Действие монотонно, сглажены контрасты, отсутствует
патетика, мало гнева. При таком однообразии пластики
нельзя делать две серии.
23 IX
Второй просмотр всего материала Настроение несколь
ко лучше.
15*
452
Записи из рабочих тетрадей
В начале удалось вставками нового материала и
купюрами восстановить ритм; бал и сцена Призрака создали
нужный контраст. Теперь дело в терпении, настойчивости.
И везении: нужно небо и море.
Поэтому сегодня весь день проливной дождь.
3 X
«Форма выражения» — правильны ли такие слова?
Может быть, вернее: «направление движения», «сила
размаха», «сила притяжения» или, напротив, «точка
отталкивания».
Любое, лишь было бы в этом слове — действие, ход,
развитие. Только не отвлеченные, недвижимые понятия.
Вероятно, форма — это тревога, которую нельзя
успокоить, бессонница, над которой бессильно снотворное.
Только не набор приемов, не сознательно выбранный
способ рассказа.
Она отливается сама, и если работаешь всерьез, не
понять ни способа отливки, ни приема лепки.
1 XI. Ленинград
Бернард Шоу пишет о странном противоречии: люди,
боготворившие Шекспира, особенно упорно коверкали его
пьесы — вымарывали текст, дробили действие и т. д. За это
бранили Кина, Ирвинга, недавно Лоренса Оливье
и пр. Казалось бы, установлена необходимость сохранения
всего текста. И все же что-то — самое существенное —
именно тогда и пропадает в быстром потоке стиха. Что же
это «что-то»?.. Жизненная важность, современность
мысли, тепло человечности.
У Шоу — множество страниц о шекспировских
постановках. Я совершенно согласен с его мыслями: прелесть
Барда — поэзия, восприятие слухом музыки стиха,
и я повинен в грехах, за которые Шоу клянет Ирвинга
и Барримора ,19. И все же верность всему тексту — потеря
жизненной интонации. Вероятно, более прав Пастернак:
гениальная проза, иное — стихи. «Его драмы глубоко
реалистичны по духу. Их выполнение по-разговорному
естественно в местах, написанных прозою или когда куски
1963
453
стихотворного диалога сопряжены с действием или
движением. В остальных случаях потоки его белого стиха
повышенно метафоричны, иногда без надобности, и тогда
в ущерб правдоподобию» 120.
Надеюсь, что, варварски купировав стихи, изрезав
метафоры и гиперболы, я дал возможность роста новых
ассоциаций и в монологе о флейте, и о «чуде природы —
человеке», и в мотивах короля, и в некоторых других
местах.
Мне бы хотелось, чтобы купюры делались только для
одного гастролера в этом фильме: для времени. Но теперь,
сняв фильм, как тоскую я по фразам, строчкам,
стихотворным образам. Как бы мне хотелось вставить еще
и еще текст.
Сценарий.
Ялта. Туристы. Потный муравейник. Теплоход на рейде.
Домик Чехова.
Бахчисарай. Дом инвалидов. Человек — геолог,—
заболевший энцефалитом. Семья убита во время войны.
Парень — шизофреник, бессмысленно ржущий,
пристающий к девочкам.
Чуфут-Кале (мертвый город). Дорога. Лестница
в монастырь. Караимское кладбище. Лианы. Ворота,
обитые железом. Следы на камнях — колеи боевых
колесниц в камне, вьющиеся ступени. Синагога. Дом
ученого. Минарет. Ход горой по извилистой дороге. Вид
с обрыва: вьющаяся дорога, высоковольтные передачи.
Живая жизнь и память в камнях: повелитель мира,
господин над горами, хозяин неприступной крепости.
Память истории.
Память войны и фашизма.
Ялта. 18 XI 63
Сегодня не мог оторваться от книжки, читал до ночи,
никак нельзя было переложить на завтра чтение даже
нескольких страниц. Это был не роман, не драма, не стихи.
Но здесь раскрывалась и жизнь, и судьбы.
Необыкновенная поэтичность наполняла рассказ. На страницах был
454
Записи из рабочих тетрадей
просто перечень предметов мебели, вещей. Предметы
и вещи принадлежали Чехову. Иные из них дарили
Станиславский, Левитан и др. Книга — каталог «Дома-
музея Чехова».
Ялта XI
И кадр, и монтаж — многое, что именуется
киноязыком, в «Гамлете» являлось преимущественно способами
закрепления душевного движения.
Лучшим в режиссуре мне теперь кажется способность
мгновенно схваченной импровизации. Эту легкость дает
многолетняя подготовка: выстраданное мироощущение.
Ну, а мировоззрение?.. Искусство, вероятно, и есть
непрерывный поиск правды, ты продолжаешь своей
комариной силой тысячелетний поиск, и если удалось хоть
что-то крохотное сделать — передаешь свое усилие
следующим...
Вот история моей постановки «Гамлета».
18 XII
1964
Думаю, пришла пора в искусстве обратиться к сути
трагического и вовсе забыть о том, что в наши времена
выродилось в фальшь,— о «жанре» трагедии, школе — по
словам Тургенева — ложно-величавой.
Если бы я не боялся слишком уж лихой мистики, то
написал бы, что сам автор — в благодарность за мою
великую любовь к нему — руководил моим трудом. Мягко
улыбаясь (стоит ли тратить время на доказывание
очевидного?), он устраивал дела так, что все, что
я пытался сочинить за него,— не получалось или не
хватало времени это снять. Я сочинил целый огромный
эпизод прохода армии Фортинбраса, а конечно же, автор
устроил так, что мне не дали массовки и не нашлось
подходящего места для съемки; мне очень хотелось
показать зрелище похорон и бала, а он шепнул
начальству — и срезали со сметы два миллиона...
1964
455
Так, не волнуясь и не тратя сил на перебранку, он
отстоял почти все свои мысли. Ну, а что не вышло — я ведь
не последний режиссер, ставящий «Гамлета»,— это-то он
знал отлично.
20 III
Как важно не уметь что-то делать. Я ненавижу
говорить публично, произносить речи. Но меня часто
заставляют выступать. Пристают с ножом к горлу. И тогда
я ораторствую. Говорят, неплохо. А я презираю себя,
ненавижу за то, что «умею говорить». Проклятая привычка
педагога к чтению лекций. Завидую косноязычным, не
умеющим связать двух слов. Ораторство — род
проституции. Умение имитировать страсть. Опыт в той самой
наигранной горячности, которую я так ненавижу у актеров.
В нашем кино все златоусты, есть даже, вероятно,
бриллиантоусты, если такое возможно. Все нашему брату
ясно, и, не отходя от кассы, все умеем сформулировать
с совершенной точностью: что такое искусство, для чего
оно людям нужно, что в нем можно, а что возбраняется под
страхом полного осуждения. Апломб, неоспоримость,
агрессивность, пафос...
Есть пластинка — голоса писателей. Прекрасно читал
стихи Есенин, гениально — Маяковский. Все в этой записи
отлично выступали. Только один из выступавших нешибко
произносил слова, да и текст хромал. Это был Лев
Николаевич Толстой.
Нужна ли писателю трибуна? Необходима —
фигуральная. Нужна ли (в буквальном смысле) эстрада?.. Не
знаю.
29 V 64
В спорах о «Гамлете» критики делятся на два лагеря.
Одних огорчают кадры-символы, других куры.
Кстати, спор о символах, многозначительности и
т. п. шел в Институте театра, музыки и кино в бывшем
Зубовском особняке. Позади выступавшего — за большим
окном — виднелись колонны Исаакиевского собора, часть
надписи «Царю царствующих» и на каких-то его словах
456
Записи из рабочих тетрадей
взлетели над колоннами голуби. А зал был зеркальный,
рококо с огромной люстрой. Попробуй снять такое!
1 VI
Сан-Себастьян. Месса в церкви св. Марии. Вот кому бы
дать первую премию за режиссуру.
Правда, подготовительный период длился тысячелетия
и смету никто не урезывал.
Вспомнил пословицу: «Ни гроша за душой». Режиссер
обязательно должен быть капиталистом.
Странно, что никто из исследователей не обратил
внимания на то, как написана самая, казалось бы,
малодраматическая сцена заговора Клавдия и Лаэрта. По
канонам мелодрамы мести именно здесь полагалось
зловещее сгущение метафор и гипербол. Однако Шекспир
пишет текст Клавдия не как декламационную речь злодея,
а как пишется проза, т. е. неторопливо, обстоятельно,
останавливаясь на жизненных, повседневных
обстоятельствах: быте двора, спорте, воспоминании о каком-то
приезжем дворянине (называется и его фамилия), хотя
этот человек не имеет никакого отношения к событиям
трагедии.
В небольшой сцене заключены и психологические
характеристики Гамлета, Лаэрта и самого короля,
открываются новые подробности характеров.
Реализм, роман теснят условность, театр. А происходит
такой бой жанров в самом невыгодном для реализма месте:
заговоре, высшей точке злодейств самого что ни на есть
разотрицательного героя.
29 VI 64 Комарово
Карловы Вары. Июль. Еще один фильм с мостом из
Антониони. Танцы на фоне зеркал. Так называемая
пластическая острота. И победа над реальностью времени.
1964
457
Трудность режиссуры лишь в одном: на каком фоне вести
диалог. В поезде, на фоне витрин.
Ох уж эти витрины! Память о «Новом Вавилоне».
Я отболел манекенами в 1928 году. Теперь: съемки
способами «синема верите» m и манекены или плакаты —
нечто сюрреалистическое вместе с жизненным. Вместо
«Как он умен, может быть, талантлив, смел,
наблюдателен...» только «Как много он ходил в кино!..».
Диалектика урока у «Летят журавли». Видел ли я
здесь панорамы народной жизни? Ракурсы и дымы.
А по сути род диафильмов. И ничего не меняется оттого,
что фон движущийся. Статичный, вмертвую выстроенный
кадр-картинка. Малоподвижная (по-сложному) камера.
Жаргон пластики «людоедки Эллочки». Еще раз
о киноязыке. Язык или жаргон?
Эротизм «Сладкой жизни» и «Молчания» и клубничка
итальянцев и французов — «прогрессивных».
Коммерческая стилизация под реализм.
Самое чистое и самое грязное: ребенок у замочной
скважины.
Режиссер у замочной скважины!
Искусство Бергмана и Феллини ворвалось в
обтекаемый мир коммерческого кино, сказочек — приятных,
сладких — о Жизни.
Своеобразное иконоборство.
«Человек из Рио» («Жюдекс», «Лимонадный Джо»,
«Это безумный, безумный, безумный мир»).
Воспоминания о наивных днях начала кино.
Понятие веры в искусстве. История с фотографиями
Эрмлера в Режице. Эрмлер верил: он Гариссон, и
хризантема настоящая, и визитка из Режицы — сшита
в Париже ,22. Наивная вера Фейада, Сеннетта. Отсутствие
иронии.
Чувство превосходства, взрослость киноумения. Все
умеют. А человечество верило в ветряные мельницы.
Мода на «плохую эпоху», ее курьезы. Мы любили эту
школу. Никто из нас не владел иронией.
Сейчас — «подсмеиваясь», тогда хохотали.
458
Записи из рабочих тетрадей
Встреча на фестивале с Генри Фондой.
Я узнал его глаза. И рядом — показались чепухой
«скрытая камера», интеллектуальный монтаж и т. п.
Эксперименты в области языка приводят к новым
формам народной речи, языка народной литературы.
Хлебников и Маяковский. «Стачка» и «Потемкин».
Ну а куда вошли приемы «В прошлом году в Марией-
баде»?
Эпигонство, а не продолжение.
Венеция. 6. IX. Бьеннале. Живопись. Самое слабое:
грань предметности. Основное: как мало времени осталось
до того, когда нажмется кнопка.
Так называемая абстракция: подсознание, страх,
атавизм. Еще шаг: тихое движение белых квадратиков на
черном фоне. Мерная игра идиота. Покорность или бунт?
Ужас распада. Потеря национального, разговора —
веселого, важного — народного искусства.
Площадь Св. Марка. Странная история со знаменитой
страной «для туристов». Совершенно знакомое и
незнакомое в искусстве. Замах классики, не передаваемый
в кино, на репродукциях. Над этим уже не властно
механическое искусство.
«Красная пустыня» Антониони. Назад к картинной
галерее. Бедная буржуазия. Сцена с ребенком. Картины
Леже, сюрреалистов, абстрактные. Дежурное: «кровать».
Пейзажи Антониони. Его интерьер: вначале пейзаж.
Поле исследования — шизофрения, ночные страхи.
Идет ли эта история от пейзажей? Философия — машины,
убивающие душу.
«Возмездие» Блока. Ужас индустриализации?
Серьезный ответ на величайшей сложности вопросы. То же
у Чаплина в «Новых временах».
Доктор сказал героине: «Нужно что-то или кого-то
полюбить». Что и кого? Мужчину? Но она же любит
ребенка, и это лучшие сцены.
1964
459
Нужно нашему брату кого-то и что-то любить. А не
только «кино».
В чем сопротивление материала? В ощущении
позирующего перед камерой актера. Нарочито
развернутого. Знаменитые средние планы, где выговаривается
текст.
Суть в том, что актер и камера не две единицы и не
объект съемки и способ съемки, а нечто третье. Это
единство объекта и способа его раскрытия, выражения
главного в нем — и есть кино.
«Все, что тебе надо сделать,— это написать одну
настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты только
знаешь» (Хемингуэй) . Пушкин написал на полях статьи
Вяземского: «Да говори просто — ты довольно умен для
этого» ,24.
Кудрявые фразы, кудрявые кадры. Пустословие.
Пустозрение.
В каждом искусстве начинается пора, когда приходит
время мудрости. И художник повторяет в своем деле слова
Верлена о поэзии: «Все прочее — литература» 125.
Слова, слова, слова.
Кадры, кадры, кадры, ракурсы, блики, наплывы,
двойные экспозиции...
«Все прочее — кинематограф».
Paris. 12 XI 64.
Дикий, раздирающий слух звук полицейской машины.
За модернизированной решеткой — дамы, мужчины.
Вдруг, по воздуху, медленно кружась, падает желтый
лист. Дождь.
Все то же изобилие Золя. Изменяются только
манекены.
Тошнота от изобилия, мутит от наворота вещей.
Все же не было фильма, где были бы показаны не
манекены (этого добра было слишком много), а люди —
через витрины, через вещи.
460
Записи из рабочих тетрадей
Власть вещей. Подле них молодое косматое племя.
Девки в рейтузах и сапогах до. колен. Что-то от
порнографии «конца века».
Тема вещей и человека еще не решена. Дело не в теме
Антониони, а в вещах и людях.
Вот фильм: Вещи и люди.
Paris, 13 XI 64.
«Ревизор» ,26. Убрать штампы гоголевских
иллюстраций «свиных рыл» и т. п. Гоголь во всем этом не отличался
от шекспировских советов актерам.
Величайшая конкретность начиная с 1-й же сцены:
когда? как?
По жизни. Не по прямому тексту.
За всей этой историей огромная, пустая гоголевская
Россия.
Ужасающее пространство (поем, лирические
отступления в «Мертвых душах»).
Образ снежного кома.
Фантасмагория не в масках, а в диком темпе, взятом
с самого начала. Без театральной тягомотины.
Вот где будет немая сцена: все валятся с какой-то
балюстрады. Печать с кадра 127. И может быть,
единственный раз — музыка.
Может быть, немая сцена — чем-то и апокалипсична?
Молния Страшного суда.
Скопление стад машин на перекрестках. Люди
перебегают Елисейские поля, как заяц под фарами
проезжающей в ночи машины. Какой он одинокий, этот
бедный косой, на ночном шоссе.
Это скопление, переполнение, перенасыщение
тревожит, не дает спокойно дышать, жить. Электричество
в воздухе.
Единственный художник, который чувствует атмосферу
этого переизбытка,— Феллини.
1964.
461
А присмотреться ближе: «Всюду жизнь» ,28.
Мероприятие ЮНЕСКО — поставили галочку к фамилии
Шекспира 129:
Смоктуновский в «Гамлете» признан теперь
единогласно. Какой-то критик, разбирая его прошлые работы,
написал: «И естественно, после всего этого, Козинцев
пригласил его играть Гамлета» ,30.
Увы, когда пригласил, всем единогласно казалось
«неестественно». Против была вся съемочная группа.
Сразу же пришли от зрителей протестующие письма
(большинствотребовало Стриженова). Артистка
Касаткина написала в «Литературной газете», что уважает мою
смелость: пригласил актера совсем другого амплуа l3i.
6 XII 64
«Дракон» ,32.
Снять с пикирующего на землю самолета. Впечатать на
1-й план когти. Чешуйчатый хвост.
И так же меняющиеся маски (Энсор).
А на этом звук скрежета, солдатского топота, команды
фельдфебельского гавканья.
Вообще вспомнить «Путешествие на воздушном шаре».
II XII 64
Дракон летит над минаретами Самарканда и
небоскребами. Родильные дома. Кладбища. Сумасшедший дом.
Он летит над пустыней — бегут верблюды. Над
театром, где играют «Три сестры» или «Лебединое озеро».
Над Эйфелевой башней и Вестминстерским аббатством,
над Кижами. Полет — тень дракона.
Время: начало нашего века — до автомобилей.
Прохожие с таксами. Тандем.
Последний призрачный бал «Покрывала Пьеретты».
Сапунов при свечах. Идиллия под властью Дракона.
Лирическая философия Шварца, которую пока я еще
ни разу не видел в шварцовских постановках.
Начало: портрет Шварца. Текст о дате сочинения
пьесы.
462
Записи из рабочих тетрадей
1965
«Братья Карамазовы» 133.
Человеческая привычка за семь тысяч лет... И будем
богами!
На первом плане Иван и Алеша.
Скороговорка на заднем плане, в захлебывающемся,
горячечном ритме Достоевского — Федор, Митя, Грушень-
ка. Какой-то вихрь всего этого.
Опорные пункты: смерть Зосимы. Разговоры Ивана
и Смердякова. Ивана и черта.
Сцены в манере «Шинели» (бал у чиновника).
Легенда о Великом Инквизиторе.
Старая Русса и Вселенная. Молчание. Мир без веры.
13 III 1965 г. Комарово
Нужно не найти более интересные ракурсы, а
одухотворить технику.
Искусство определяет не отношение режиссера и
кинокамеры, а человека и истории.
История врывается в жизнь. Человек — участник
истории, хочет он этого или нет.
Активный или пассивный? Соринка или строитель?
Все больше фильмов на Западе посвящается каким-то
смутным ощущениям, противопоставленным попыткам
познания и — неминуемо вслед за этим — изменения мира.
На экране воспроизводится смутный хаос подсознания,
разорванность отдельных восприятий современного
человека, бессильного понять мир... Немало в фильмах разных
стран и религиозных символов, мистических озарений.
Обычно это выражается какими-то смутными кадрами,
многократными экспозициями, подчеркнуто
искривленными ракурсами.
Когда я вижу эти кадры, мне, профессионалу,
неминуемо приходит мысль — как это ни странно в связи
с этими изображениями смутности и зыбкости
подсознания — мысль о технике. Сложнейшей технике, основанной
на химических и оптических процессах, оснащенных всей
сложностью современного знания.
1965
463
Ну, положим, некогда, в древние времена, отцу-
пустыннику, удалившемуся от мира, изнурившему себя
голодовкой, отказавшемуся от человеческого общества,
и приходили в бреду какие-то смутные видения. Ну
а современному кинематографисту? Бред с помощью
высокоразвитой техники... Вот он входит в ателье,
оснащенное автоматикой, перед ним современный
съемочный аппарат — сложный агрегат, укрепленный на кране,
двигающемся усилиями штата операторов. Сцену,
изображающую эти видения подсознания, освещают
современными прожекторами, специалисты подносят к световым
приборам экспонометры, звукооператоры нажимают
кнопки усилителей, движутся микрофоны, чтобы уловить звук.
Потом химия проявки, лабораторные процессы
печатанья...
И всю эту высокую технику, созданную целыми
развитыми специальностями науки, невозможную без
лабораторий, огромных промышленных предприятий (а на
Западе и сложнейшей финансовой организации банков
и концернов), пользуют для доказательства ненужности
человеческих знаний, науки?..
Отношение Антониони к индустриальному пейзажу. Не
есть ли вся концепция «Красной пустыни» —
поверхностность, надуманность, капризы настроения.
Что же, Антониони ездит не на реактивных самолетах,
а на лошади или передвигается пешком?
И наконец, его пейзаж, который дала ему съемочная
камера, цветная пленка?
Не есть ли вся эта концепция чудовищная
неблагодарность?.. Ведь даже хмурую дымку пейзажей — его
излюбленных — измеряют экспонометром, сопоставляют
со светочувствительностью пленки, иначе что получится из
всей этой дымки? И разумеется, он это знает.
Так чувствительные барышни огорчались тем, что
находятся злые люди, убивающие зверушек и птичек!
Однако это не мешало им кушать этих зверушек и птичек.
25/VI 65. Вдруг меня — не понимаю с чего, каким
ходом ассоциаций — буквально пронзила идея «Мертвых
464
Записи из рабочих тетрадей
душ» 134. Ошарашивающая сила образа, мифа,
неповторимое — в литературе всего мира — новаторство.
Эпопея — фантасмагория современного искусства.
Здесь начало и Кафки и «Чумы» Камю.
Строить оглушающе интересный детективный сюжет —
быстрый, энергичный, вести фабулу.
Зато «из другой оперы» отступления — лирические,
авторские, или детство Чичикова.
Начало: ярмарка, встреча с Маниловым. Ничего от так
называемого «гоголевского стиля» (Боклевский, гротеск
и т. п.). Грязь, лошади, трактиры, навоз и т. п. Скорее что-
то от «Тома Джонса».
Зато дорастающий до кошмара мотив безумия
собственности.
Манилов —,вовсе не сладкий, сентиментальный
растяпа, а прожектер.
Суть не в фигурах — олицетворении пороков, а в
размахе всей этой идеи, гиперболе «Мертвых душ».
Маниловщина среди нищей и дикой крепостной России.
Слава ищущим новые дороги.
Шаг в искусстве по целине — большое дело.
Но падать в ту же лужу, если известно, где она,—
глупо.
Чудо искусства. Нужно уметь, знать?
Нужно отдать свое. Не еще раз пересказать
общеизвестное, всеобщие истины, а открыть их для себя. Сделать
главной целью своей жизни.
Почему-то случается так, что фестиваль притягивает
чем-то схожие фильмы. В Канне 60-го года я только
и делал что подглядывал в замочную скважину спальни: на
кровати (два сеанса в день) копошилась пара в исподнем
белье — французская, итальянская, японская... Зато на
Московском (1965 г.) по экрану прыгают ребятишки т-
аргентинские, японские.
Изначальное проклятие конвейера.
1965
465
Качество хорошего художественного произведения
трудно определить несколькими словами. Говоря о его
содержании, пересказывая сюжет — даже подробно,—
чувствуешь необходимость добавить в конце: не только про
это.
«Палач» Берланги (показанный вне конкурса)
выражает с совершенной ясностью: чтобы прожить в
Испании, нужно не брезговать и тем, чтобы убивать.
Да, есть в фильме такая мысль. И все же: не только про
это.
Плохие фильмы исчерпываются сюжетом,
постановочными приемами. Содержание куцо, приемы
постановки уже давно известны. Задача: маскировать
претенциозностью пустоту.
На глазах происходит изнашивание приемов. В
множестве фильмов (в Москве мы смотрим четыре в день)
повторяется одно и то же. На этот раз: остановка кадра,
воспоминания — контратип, доведенный до белого и
черного. Оглашенный мордобой в комедии (бутылки, беготня
по пианино).
Алена Рене и Антониони уже несут с базара 135.
Впрочем, и «милорда глупого» не забывают. Недавно была
в моде «ностальгия»: с грустной иронией оживляли Фейада
и Мака Сеннетта. 20 Щ[ 65
«Ревизора» ставят так, что эпиграф «На зеркало неча
пенять, коли рожа крива» ровно ничего не значит. Для
зрителей сцена не напоминает зеркала. К сожалению, это
относится и к постановке Мейерхольда.
Задачей Всеволода Эмильевича было показать:
действие происходит в столице и события и лица могут
дойти до полной чертовщины.
Моей задачей могла бы стать иная: действие
происходит и в наши дни. Кончились надписи, и перед
зрителями экран — зеркало.
466
Записи из рабочих тетрадей
Мы еше не оценили мощи крика городничего: «Чему
смеетесь? Над собой смеетесь!..» Мы ведь только этим
и занимаемся.
Вероятно, Гоголь пришел в такое отчаяние от
спектакля, потому что ни о каком «зеркале» и речи быть не
могло.
Каким же должен быть основной, зрительный образ
«Ревизора»? Для кино это один из важнейших вопросов.
Учреждения. Действуют вовсе не свиные рыла,
а чиновничьи.
Надписи: на подписи казенных бумаг, приложении
печати. Звук — только удар печати и скрип пера.
Один из важнейших образов — проход Хлестакова со
свитой чиновников по учреждениям. Великая показуха
с ковровыми дорожками, лихорадочным мытьем полов
в последнюю минуту и мгновенным убиранием с дороги
всего, отражающего истинное положение.
Ужас, охвативший чиновничество. Сцена переносится
в их квартиры. Дрожат с чадами и домочадцами. Готовят
передачу.
Это как эпидемия чумы, охватившая город.
Монтажный ход: пока идет сцена взятки — слух пошел
по городу. Пока Иван Александрович дрыхает, отцы
города трясутся мелкой дрожью, молятся, прощаются
с женами и детьми.
Подкладка всего, с самого начала, делающая
правдивым, неоспоримым всю историю,— великий страх.
Круговая порука страха.
Город с лужами. Потемки, керосиновые фонари. Гремит
пожарный оркестр: бодрая музыка. Под дождиком шагает
начальство. Городничий держит над головой Хлестакова
зонтик.
Почтмейстер совершенно квалифицированно
перлюстрирует письма.
1965
46'i
Вереница пролеток. На первой, спиной к извозчику
стоя едет городничий. Гремит марш. Из монопольки
с матом выбегает пьяный. Держиморда заталкивает егс
обратно, заслоняет спиной дверь.
Во время проезда Хлестакова со свитой (осмотр
города) у окошек недовольные: унтер-офицерская вдова
(пенсионерка), купцы в лавках.
Гоголь снял с проходившего по театру ламповщика его
жизненное платье и надел его на Осипа вместо
театральной хламиды, которая была напялена на актера.
Вот и главная режиссерская задача. Содрать
театральные хламиды. Показать невероятную историю в жизненном
наряде.
Комарово. 4 VIII 65
Как-то так сложилась моя жизнь, что, хотя фильмы,
над которыми я трудился, может быть, иногда и вызывали
внимание зрителей, сам я оставался вдали, что называется,
за экраном. Таков удел нашего брата-режиссера: зрителей
интересуют артисты, возможность знакомства с ними, их
автографы, подробности личной жизни.
В «лучах славы» режиссеры не купаются.
После малоприятного события — исполнения
шестидесяти лет — я узнал, какие они на деле, эти лучи.
Вначале на телевидении устроили мой вечер.
Творческий вечер, как принято выражаться. Какой-то автор
написал, а диктор телегеническим голосом прочел
посвященный мне очерк. Пропали начисто все ставшие для
меня привычными упоминания о формалистических
ошибках в прошлом, о том, как меня перековывали и наконец
я сам, осознав эти свои ошибки, перековался. Ничего этого
уже в помине не было. Все мне простилось, и, видимо, на
копыта мои прямо от рождения подбили правильные
подковы: в них я и трусил разными аллюрами, перевозя
общественно полезную поклажу.
Услышав начало передачи, я удивился: хотя речь идет
обо мне, то же самое я уже слышал — и не раз — о многих
468
Записи из рабочих тетрадей
других режиссерах: Пырьеве, Протазанове и многих
других. Особенно после того, когда они умирали. Все как
один передавали опыт, правдиво показывали, верно
отражали, смело искали, но в то же время продолжали
традиции, создали картины* любимые народом, вошли
в «золотой фонд».,.
Да и не только о режиссерах слышал я не только
подобные, но именно эти самые, стертые, уже ничего не
значащие слова.
Но это было лишь начало. Лучи стали пригревать
посильнее. Стали прокатывать лекцию о моем
«творчестве». Меня пригласили принять в одной из них участие.
Я отказался: быть живым экспонатом и неудобно, да и,
прямо сказать, мало приятно.
Оказалось, что я хорошо поступил, что удрал подальше
от этих самых лучей. Вечер состоял вот из чего: показали
несколько частей бракованного узкого варианта
«Гамлета», потом «Шинели» в постановке Баталова, потом
выступал артист.
Надо сказать: с артистами у меня сложились отличные
отношения, и лишь один считал долгом чернить наш общий
труд. Он именно и выступал.
Каждый из нас в тридцатые годы работал по-своему, но
развитие кинематографии было общим: те же черты можно
увидеть в большинстве фильмов вне зависимости от
характера художников. Васька Буслаев в «Александре
Невском», крушащий оглоблей «псов-рыцарей», состоит
в родстве с некоторыми положениями «Выборгской
стороны».
Дело не в том, что явления, казавшиеся нам тогда
отрицательными, вызывают теперь иные чувства. Задача,
разумеется, не в том, чтобы «оправдать» рыцарей
Тевтонского ордена,— если заниматься их историей,
видимо, следует понять закономерность образования таких
характеров. Одной оглоблей их не сведешь со света. И как
раз в этой части — пафосе крушения оглоблей —
искусству, пожалуй, меньше всего работы.
1966
469
Какой спокойной силой наполнены стихи Твардовского
(«Новый мир», 1965, № 9), особенно о матери. Какое
прекрасное искусство возникает, когда художник не
обращает внимания на злобу дня, когда он сильнее всего
поверхностного в жизни. Когда он прежде всего верен себе.
Не отражает жизнь (ох уж эта артель зеркального дела!),
а очищает от чепухи, кажущейся всем такой уж важной.
Слава богу, поняли, и, кажется, всерьез, что жанр оды
не подходит к современному материалу. Эпоха ложно-
величавого стиля окончилась. И дело идет.
«Председатель», «Рабочий поселок», «Иду на грозу» — уже новый
период кино. Самой благородной картиной была «А если
это любовь?» Райзмана.
29 X 65
1966
Странная общность явлений искусства, казалось бы
ничем не стыкуемых. Ни знанием вещей авторами, ни
окружающим миром. И притом вещей, очевидно,
совершенно самостоятельных, глубоко оригинальных.
Так, лирические отступления Гоголя неожиданно
напоминают концы глав Мел вилла; напоминают переходом
от обыденной к возвышенной интонации.
Среда Кафки (даже появления людей) заставляет
также вспомнить о «Моби Дике».
Мар-дель-Плата. 3. III. Затевается разговор на тему,
частую за последние годы в среде кинематографистов мира
(меньше всего эта тема тревожит советских
кинематографистов): конкуренция телевидения и кино.
Разговор о «кино» вообще, как и о «зрителях» в каком-
то особенно возвышенном стиле (тогда упоминаются все
они в единственном числе, да еще с большой буквы) или
же, наоборот, в низменном среднеарифметическом значе-
470
Записи из рабочих тетрадей
нии (т. е. иначе говоря, о людях, платящих деньги в кассу
за билет или же решивших не платить их, так как фильм не
интересен),— стал отвлечен, утратил содержание.
Случилось так, что старинное «Пойдем в кино» —
сменилось: «Пойдем на фильм».
Это уже давний процесс для других искусств: кто же
спутает «Послушаем чего-нибудь» с «Пойдем на 13-ю
симфонию Шостаковича»? И «почитать книгу» — давно стало
отвлеченным понятием.
Между Феллини и репертуарным фильмом — пропасть
не меньшая, чем между стихотворением Блока и
сочинением про подвиги разведчика.
Кино уже прошло достаточный путь: нет «Сходим
в кино», а, слава богу, есть: «Пойдем на Годара».
Во всем мире запретили автомобильные сигналы.
В Аргентине создан как бы заповедник гудения —
«Беловежская пуща», где резвятся во всю железку
аргентинские водители.
В Англии на рождество выбирался Лорд Беспорядок.
Здесь он не сходит с престола. Нет времени не только
начала сеансов, но и отхода самолета.
Фестивали и их окрестности. Начинать о фестивалях
с первого монолога «В прошлом году в Мариенбаде»: «Я не
знаю, в Канне или на Лидо...»
Премии: за лучшую имитацию Антониони, за
провинциальное издание Феллини, за продающуюся по дешевке
копию Годара.
Лицо, в дальнейшем именующееся «член делегации»,
обязано вести себя как стюардесса: иметь
непрекращающуюся улыбку на лице.
О практике кинофестивалей лучше всего рассказывает
сказка Андерсена «Скороходы». «Я получил первый
приз! — сказал заяц.— Всегда ведь можно рассчитывать
на справедливость, если судьи — твои близкие друзья
и родные. Но присудить второй приз улитке?! Это обида
мне!» «Надо же принимать во внимание усердие и добрую
1966
471
волю...» — возразил ему заборный столб, свидетель
присуждения призов.
Пусть ученые определят фильмопроходимость
человеческого организма. Сколько он, организм, способен
воспринять картин за день, неделю, кинофестиваль?
Часы заводятся на двадцать четыре часа.
Приезжающий на фестиваль заводится на две недели и сразу же как
бы включается в множество совершенно лишенных смысла
движений: смотрит плохие фильмы, переходит с приема на
прием, дает пресс-конференции, ведет разговор с
множеством неинтересных для него людей. На тринадцатый день
завод кончается. На душе подобие знаменитого кадра
рассвета на улицах больших городов: пустота, на тротуаре
мусор, измятые газеты...
Я ненавижу изображение страны, где я родился и живу,
в «стиле рюс» и, приехав в чужую для меня страну, сразу
же, с витрины лавки сувениров в аэропорту — стараюсь
увидеть не то, что знал как экзотическое, а иное —
неизменно менее яркое, вовсе не нарядное, отнюдь не
веселое... В паспорте французская виза, но, к сожалению,
видишь только Канн, вместо Италии перед тобой даже не
Венеция, а Лидо, едешь в Испанию, но попадаешь только
в Сан-Себастьян. Типа поездки купца в древние времена...
И почему-то все мало знающие друг друга люди
называют человека, с которым ведут разговор, «Мой
друг!» (а потом у кого-нибудь спрашивают: «Простите, не
знаете ли вы его фамилию и кто он такой?..»).
Господи, ты создал такое чудо, как кино (как сказал
«мой друг» священник-доминиканец в
Сан-Себастьяне 136), зачем же ты создал и кинофестивали?
Для меня самый страшный вид выступлений — юбилеи
и чествования. Я предпочитаю отвечать подчас на самые
ядовитые вопросы журналистов в Нью-Йорке или
Западном Берлине, нежели сказать несколько теплых слов
шестидесятилетнему товарищу. Я изо всех сил стараюсь,
чтобы ему было приятно, оказана честь полной мерой.
И сразу же захлебываюсь в превосходных эпитетах.
472
Записи из рабочих тетрадей
Это отлично, по заведенному чину исполнял цыганский
хор. Называлось «величание»...
Идея: нет в мире виноватых. В каждом живет подлец.
На каждом — в разной мере — власть патологии
подсознания. Долой «злодеев» и героев. Между Гамлетом
и Розенкранцем различие не велико.
Тогда за что судили эсэсовцев, палачей Освенцима.
Значит, нет виноватых? Право на безответственность силы
над человеком. Порожденной человеком же?
Нет. Мера ответственности за судьбу человечества —
каждого. Совесть — главная тема века.
Достоевский начинает с точнейшего описания. Фразы
поразительной гибкости улавливают каждую деталь^
определяют с совершенной точностью ее форму и свойства.
Детали — одна, сцепленная с множеством других, так же
описанных,— громоздятся на множестве страниц: черты
характера, манера одеваться, повадка, отношения с
другими характерами; другие лица — в чем-то подобные, как-
то связанные с ним. Еще больше точнейше описанных
деталей.
И как итог: совершенная неопределенность,
неуловимость жизненного явления. Полная его удаленность от
реальности. И причастность его к «призрачной жизни».
Так описаны столичные литераторы в начале «Бесов»;
Искусство не стоит на месте. Меняются времена,
обновляется и язык художественных произведений.
Происходит это непростым путем: понятия «старое» и «новое»
сами по себе мало что значат в искусстве. Здесь только
один судья. И приговор его окончательный. Судит время.
Проходят годы, выясняется, что же смогло пройти их
проверку, сохранить жизненную силу, оказаться близким
мыслям и чувствам новых поколений.
Разумеется, на лире теперь никто не играет. Но у ног
бронзового человека в крылатке, наклонившего голову на
1966
473
московской площади, всегда лежат кем-то положенные
цветы, а его слова, выгравированные на постаменте,
оказались пророческими: все еще он любезен народу за то,
что пробуждал добрые чувства.
Недавно в «Литературной газете» состоялась большая
дискуссия на тему о современной постановке классиков.
Различные критики и деятели кино уверенно утверждали,
как именно ее, классику, необходимо ставить. Можно ли
переделывать текст, или же это является недопустимым,
следует ли выдвигать на первый план темы, интересные
для сегодняшнего дня, или же все у него, классика,
одинаково важно.
Настойчивость утверждения определенного способа
подхода к классическим произведениям была такова, что
в конце дискуссии, пожалуй, можно было бы и подвести
итоги, а вслед за этим — перейти к оргвыводам: издать
приказ об отношении к классике; за невыполнение какого-
либо из его пунктов налагать взыскания; наиболее
соответствующие приказу постановки — денежно
поощрять.
Как же можно было бы определить характер моего
отношения к статьям, напечатанным в «Литературной
газете»?
Зависть. Как я им завидую, что все им ясно.
Пожалуй, наиболее ясное, неопровержимое положение:
нельзя для своего замысла перерабатывать пьесу. Все
должно быть найдено в кругу уже написанного. Это-то уж,
во всяком случае, очевидно.
Разумеется, очевидно. Однако, если бы в дискуссии
участвовал один драматург, он бы, пожалуй, не согласился
с нами: Вильям Шекспир. Что он натворил в чужой пьесе
«Гамлет»!..
Да, но он был гений, а старая пьеса — ремесленная
мелодрама. В этом, казалось бы, сомнений быть не может.
Может.
Другой гений, Лев Николаевич Толстой, считал старого
«Короля Лира» куда лучше, художественнее и, увы,
реалистичнее.
474
Записи из рабочих тетрадей
1967
26. II. История с новой архитектурой. Она вошла в быт,
и реактивный самолет оказался родственником зданий
(дом в Милане).
Но эти формы появились в новом искусстве до
изобретения реактивных самолетов (Татлин).
Новая архитектура интерьеров и японские дома
(низенькие столики, светлые гладкие стены, рисунок-
иероглиф).
«Искусство отражает мир». Здесь я это понял.
Небоскребы Токио и Осаки — не отражены. Отражено
только смятение. Геометрия отражается неврастенией.
Понятие «искусство» относительно: оно и «дань
красоте» — девка с веслом, и то, что больше самого
понятия искусства (так понимал его Толстой): оно и обряд,
и быт, и ритуал, и философия, и религия.
Лондон. 8/IV 67. «Колокола ночью». Оправдался ли
принцип Орсона Уэллса: снимать в подлинных местах?
Бой. Силуэты. Знамена на ветру. Тяжесть вооружений,
ударов.
Все время движущаяся камера.
Исторические курьезы: Готспер в бочке.
Неудача с принцем Галем. Удача: смерть, вернее,
похороны Фальстафа.
Обстановка борделя «Кабанья голова». Липа «веселой
Англии»; вероятно, и в жизни не было этого.
Фальстаф с немецкой иллюстрации, что-то от вывески
пивной. Добрая кружка пива. И собеседник принцев.
История — в образе каменных зал, короны, копий,
коронаций. Жанр — проход войск, вербовка рекрутов. Все
эти липовые виселицы.
Набор звезд (Марина Влади, Жанна Моро).
По истории ли все это? Вероятно, да. По Шекспиру ли?
1967
475
Вряд ли. Опять о реализме. Среда «Короля Лира» у
Питера Брука, вначале отвлеченная, вскоре кажется
реальной. Здесь подлинные залы начинают выглядеть
декорацией.
То же и еще хуже у Орсона Уэллса в «Отелло» и еще
хуже у Дзеффирелли в «Ромео и Джульетте».
Когда утром в моем номере гостиницы «Кенсингтон
палас» зазвонил телефон и я услышал голос Питера
Брука: «Я говорю из Парижа; только что закончил вашу
книгу *^7. Я нигде еще не читал про «Лира» то, что вы
написали»,— откровенно говоря, я был очень доволен.
А до этого в киностудии Пайнвуд ко мне подошел Питер
Холл. Первые его слова были: «Я совершенно согласен с
тем, что вы пишете в своей книге. Главное — сделать
поэзию видимой, перевести ее в зрительное качество».
Меня стали раздражать разговоры об «авангарде».
Чешская журналистка просит интервью: «Ваше мнение об
авангарде?»
Что это такое: постоянный чин? Присвоенное звание?
Не меняющееся в течении десятилетий положение?
Что-то вроде околоточного, который ехал перед каким-
то шествием, стоя в пролетке лицом к шествию.
Я за авангард. За Гоголя, Достоевского, Шекспира.
Против какого-нибудь дурня, снимающего фильм
с бессмысленными живыми картинами и неестественными
красками, как в детстве освещали бенгальским огнем
группы, изображавшие ангелов и лестницу куда-то в небо.
Мне осточертели все эти чепуховые фокусы. Какие уж это
эксперименты? Не зря так не любит это слово Пикассо.
Не стоит волноваться,— следующие слова написаны не
таким уж страшным архаистом: «Будьте осторожны! Мода
скоро проходит» (Игорь Стравинский. Хроника моей
жизни. Музиздат, Л., 1963, стр. 177).
Мода проходит, видна глупость «закоренелых
пошляков прежнего «авангарда» (стр. 176).
476
Записи из рабочих тетрадей
Академизм и новаторство — не звания, присуждаемые
пожизненно..Маринетти, восхвалявший Муссолини, мало
походил на авангардиста. Красные жилеты легко
сменяются расшитыми мундирами «бессмертных»,
напоминающими губернаторские.
Неоклассический Стравинский, Пикассо времен «Эн-
гра», романы Тынянова, оды Заболоцкого, поэзия
Мандельштама и Ахматовой имеют мало общего с
академизмом.
Фальк. «Бубновый валет» — радостный мир — яркий,
веселый, в котором все ясно.
Потом уходит уверенность. Пропадает геометрия,
красочность. «В белой шали», автопортрет в красной фе^-
ске, серая картошка на сером столе (подпись —
Самарканд; кругом были халаты, минареты, синее небо).
Мысль теряет отчетливость. Мудрость невеселого, но
спокойного созерцания неяркого мира.
Москва. 5—20 июня 1967.
«Учитель с отличием» (вне конкурса). Обаяние
викторианской мелодрамы. «Хижина дяди Тома». «И чувства
добрые...» Они действительно пробуждаются — и немед-s
ленно пропадают.
«Хан-эль-Халили» (ОАР, вне конкурса). Картина,
снятая за год до выхода «Чихающего Фреда». Пирожок на
сале с повидлом. Вернее, с патокой.
«Верный солдат Панчо Вильи». Открытки «Привет из
Мексики». Дама в красном платье и красных туфлях на
каблуках убивает из снайперской винтовки шесть злодеев-
реакционеров.
Романтизм, выродившийся в пародию. Вот и конец всей
этой якобы фольклорной линии. Может быть, она и была
когда-то фольклорной.
1967
477
Все противопоставления — огульные, гуртовые — если
и имеют некоторый смысл при возникновении («правые» —
«левые» в двадцатые годы, архаисты и новаторы), скоро
обессмысливаются, часто превращаются в явление,
противоречащее его обозначению.
Это происходит теперь с понятием «коммерческий»
фильм и так называемые «проблемные», «авангардные»,
«документальные».
Примеры всему этому можно было увидеть на экране
этого дня.
«Мы будем петь в четверг» (Бельгия). «Социально-
критический» — такое же вырождение «В субботу
вечером, в воскресенье утром» или «Пути в высшее общество»,
как у Фернандеса социальный романтизм дошел до
красотки в красном платье, вышедшей в пустыню убивать
солдат реакции.
Вскрывает? Обнажает? Только лишь безличие
режиссера, убогость его внутреннего мира.
Бывает имитация «проблемы», имитация
«художественности» и даже имитация «смелости».
«Операция «Святой Януарий» (Италия). «А вот это
плохо!» — сказал поп, т. е. я, и подумал: неплохо бы
посмотреть этот беспроблемный, коммерческий фильм еще
раз.
Веселый собеседник, в полной мере одаренный
чувством юмора и темпераментом. Камера в его руках —
не бревно с лентопротяжным механизмом.
: Ну, а искусство? Что же это — лишь ухватка
ремесленника? Отнюдь нет. В фильме, если угодно, можно
отыскать не только веселое баловство, а дух народа.
Почему-то образовалась целая эстетика съемки мира
в зеркальце машины, в которое смотрит шофер, чтобы
следить за тем, что происходит позади него. Чего тут
только не придумали: в стекле бегут деревья (отражения)
в одном направлении, в зеркальце — в другом. Есть, как
говорится, большие достижения на этом участке. Я бы
478
Записи из рабочих тетрадей
даже организовал специализированный фестиваль: «Мир
в зеркальце автомобиля».
Обратно, как выражаются в Сибири, высветленные
кадры воспоминаний.
«Дело братьев Навес» (Бразилия). Пытки и
прогрессивный адвокат. Пытки «во всю железку». Вопили не
только те, кого пытали, но и многие в зале. Те, в зале,
с воплями и ушли из зала.
Но «очень прогрессивный» фильм. Обличающий.
Гуманистический. Здесь уже эстетика по Брессону.
Документальность. Однако — по графе
документальности — отсутствие важнейшего документа: почему адвокат-
защитник не потребовал медицинского
освидетельствования подзащитных (следы пыток). А по «прогрессивности»
нет единственно серьезного исследования. Почему
появились эти палачи, охотники до пыток? Садизм?
Одержимость идеей?
Но положения: «признание под пыткой», «государство
и полиция» — есть.
«Дневник рабочего» (Финляндия). Смотреть фильм не
меньшая пытка, чем те, что показывали в прошлом фильме.
Имитация социальной проблемы, Алена Рене, еще чего-
то и кого-то, по ходу дела крупные планы операций
и полового акта.
За что? За что мучают людей такими фильмами?
Да, еще забыл; из поваренной книги: добавляют
и разбавляют водой тяжесть воспоминаний о войне
(«Хельсинки — моя любовь») ,38.
«Подопечный» (Югославия). Растиньяк
по-белградски. Опять кручение тел и эстетика зеркальца на
смотровом стекле.
«Вор» (Франция). Опять фильм-имитация. Имитация
значительности темы, постановки жизненного вопроса.
1967
479
Уже затертая до дыр стилизация «конца века» с плюшем
портьер и кресел, круглыми матовыми шарами ламп.
И это режиссер «Зази в метро» и «Вива Мария!» —
молодой и веселый, задира и шутник. Тотальный,
тоскливый академизм.
Фильмы ни про что, поставленные никак. Из всех таких
фильмов можно было бы смонтировать один.
Когда еще мальчиком я решил стать режиссером, мой
отец — старый доктор — страшно огорчился. «Что это за
дело,— говорил он мне,— развлекать людей, валять
дурака, чтобы публика веселилась. Дело: дать хлеб,
построить дом, вылечить».
Часто мне кажется, что отец был прав. Чтобы его все же
переубедить — я и взялся за Шекспира.
Итальянский критик Уго Казираги, приводя слова
Твардовского о «Джульетте и духах», сказанные на
заседании Европейского содружества писателей, добавил,
что большинство писавших об этом фильме согласилось
с мнением советского писателя.
«Если думать, что искусство — это отбор,— сказал
тогда Твардовский,— и композиция, то приходится считать,
что в фильме Феллини больше показного мастерства, чем
настоящего искусства» ,39.
Да, разумеется, искусство — это отбор и композиция.
Но отбор из того, что заключено во времени, и
композиция, которой учит время.
Что общего между отбором и композицией у Иерони-
муса Босха и Пушкина или даже у писателей одного
времени, скажем между «Мастером и Маргаритой» Булгакова
и стихами Твардовского? Как будто немного. Можно ли
назвать какое-то из таких произведений щеголяющим
«показным мастерством»?
Да, искусство — это отбор и композиция. Но отбор из
необозримого материала времени, часто пестрого,
противоречивого в каждой частице, а композиция, отражающая,
480
Записи из рабочих тетрадей
как капля в море, композицию истории, где часто концы не
сходятся с концами, а мотивировки ни к черту не годятся.
В «Тенях забытых предков» кровавые лошади (а не
«огненные», как их назвали во Франции), на мой взгляд,
явления гения на экране. Таких несколько мгновений
сияния открытия на экране встречаешь раз в десятилетие.
После болтовни о поэтическом кино, относящейся к
эпигонам Довженко, на экране появилось подлинное
иносказание, зрительный троп смерти, поражающий своей
неопровержимостью, подлинностью, естественностью
сближения, сплава множества признаков в единство метафоры,
динамической зрительной метафоры. В кадре сплавились
в единство: заливающая глаза кровь, уходящий мир^
падение человека на землю — мгновенная перемена угла
зрения, цвета мира. И еще — другие ощущения, назвать
которые нельзя, потому что они воплощены в миг
зрительной динамики, не переводимой на словесный язык.
Причем именно это: резкая смена интонации — в двух
кадрах — поражает несомненностью, необходимостью.
Есть особые отношения таких пар, как Фауст —
Мефистофель: не только жизненные положения, но
и диалог идей.
Какой-то стороной такая пара и Лир — шут, Дон
Кихот — Санчо Панса.
С последними я пробовал оспорить на экране
традиционный контраст: в них и противоречие и единство.
Про Дон Кихота: «Если бы ты безумствовал
втихомолку, сидя в своем углу, это было бы еще полбеды: но
ты обладаешь свойством сводить с ума и сбивать с толку
всех, кто с тобой встречается и разговаривает...» (т. 2,
стр. 738) мо.
Англия. 18 X. «Персона» Ингмара Бергмана.
1967
481
Автобиографическое искусство в «Blow up» M1 и
искусство у Бергмана, Феллини. Сюрреалистический Бергман
и александрийский стих «Молчания». Роль пейзажа.
Крупные планы. Тональность — белое и черное.
Пророчество Эйзена о внутреннем монологе 142.
У честных и глубоких художников темы молчания.
Бога. И себя. Феллини в «8 1/2».
27 X. Счастливый молодой человек 20-х годов и
разгневанный 60-х. Но противоположный эпитет иной:
«успокоенный». Нет. Этого не было.
Хипис'ы: лишь бы не так как есть. Вперед! Вбок! Назад!
Камзолы XVIII века, первобытные люди пещерного
века, христосики, романтики, бакенбарды... что хотите,
только не респектабельность, не убеждения, что все в
мире обстоит в порядке. Что так и должно быть. Нет. Что
хотите, только — не так. Долой то, что есть.
Так 82-летний старик открыл дверь, вышел в ночь.
И он пошел, как в древние времена, с котомкой на плечах
искать в мире правду 143.
А где она? На Пикадили Серкел? 144
Одинаковы ли все бунты молодежи? Однообразно
повторяющееся через десятилетия бормотание: «Разве
это действительное новаторство? Вот в наше время!»
Наше время! Повторяется ли оно? Опыт омоложения
Чаплина в «Короле в Нью-Йорке».
Восторги перед двадцатыми годами.
«Назад к „Бежину лугу"!» как «Назад к
Островскому!» Сочувствия и поучения Марселя Мартена и
итальянских друзей.
Один раз я не на шутку огорчился: в «Молодой
гвардии» с гиком и свистом разнесли наш фильм
«Гамлет» 145.
Подействовали на меня не мысли критика, а его стиль.
Он писал так (в искусстве «нужна сенсация», спектакли,
основанные на зрительной метафоре, и т. п.), как я в 16 лет,
составляя манифесты эксцентризма. Именно тогда —
больше четырех десятков лет назад — мы вывесили в своей
1/г 16 Г. Козинцев, т. 4
482
Записи из рабочих тетрадей
мастерской лозунг, заимствованный у Марка Твена:
«Лучше быть молодым щенком, чем старой райской
птицей!» Прочитав статью, я понял — пришла пора:
молодой щенок нового века зачислил меня в старые
райские птицы. Что делать? От этого естественного
процесса как уберечься? Но оказалось, что автор —
профессор. Тогда мне стало легче на душе.
Боже мой, как трудно определить, чем же именно
является искусство. Что оно, искусство, такое. Те
определения, которые давали философы и эстетики, никогда
не казались мне исчерпывающими.
И вдруг теперь прочитал несколько слов, и все стало
для меня ясным. Да, такая формулировка безусловно
верна. Вот она: «Искусство кончается там, где начинается
Евт. Карпов. Там начинается все что угодно: педагогика,
«светлые идеалы» и проч. болезни. «Здоровье» же
пропадает, и путей к нему оттуда нет» (Александр Блок.
Письмо о театре. 1918).
Не вылезать вперед со своими оценками
происходящего — вот что самое трудное в режиссуре. Самое простое —
выносить оценки. Заставить поверить, что так было,
создать неоспоримую жизненность происходящего. И — не
торопиться с выводами.
Совсем хорошо вовсе обойтись без выводов. Пусть
люди рассудят. Мое дело убедить: так могло быть.
«Так было», а не «я так об этом думаю».
12 XI 67
13 XII 67. Долгожданная (чересчур долгожданная!)
картина Райзмана «Твой современник». Вероятно, Юля —
наш лучший режиссер. Он всегда (за исключением,
кажется, одного-двух фильмов) ставил «про жизнь».
Сила фильма в отсутствии ответов. Они, разумеется,
напрашиваются. Драматургия таких картин в процессе
размышлений: зритель не только втягивается в сюжет,
сопереживает героям, но и захвачен ходом мысли. Черт его
поймет, как разобраться в этом запутанном деле.
1967
483
Здесь, по заветам Чехова, показаны люди, какие они
есть в наше время. И пожалуй, большинство — в их
лучшем качестве, но уж больно сложно сплетать в уме
образы жизни и облики людей... Однако несколько
столетий в истории драмы не прошли зря. Речь уже не идет
о чертях и ангелах.
Здесь отличен Плотников: образ русского человека,
дело делающего, разумного по естественной своей природе,
враждебного и чуждого всему искусственному, мнимому.
Увы, портит — и сильно — конец. Современный фильм
судится не только по тому, что в нем есть, но и по тому, что
в нем отсутствует. Конец в наших фильмах, к сожалению,
не столько венец, сколько гиря, тащущая в воду. Так
случилось с «Председателем».
Спор на тему героического в искусстве не окончен и на
сегодняшний день. Множество слов окончательно
запутывает дело. Существо героического путают со стилем,
способность к подвигу хотят сочетать с пристрастием
к возвышенной речи. Не думаю, чтобы имело смысл
утверждать какой-то один стиль как единственный.
Приходит художник, и то, что считалось невозможным,
безнадежно устарелым, оживает в иных формах. Только
формы неизменно бывают во многом иными, подражание
прошлым приводит лишь к эпигонству. Особенно
нестерпимо оно в романтическом искусстве, отсутствие
одухотворения делает внешне возвышенное попросту напыщенным
и лживым; ораторский жар и металл в голосе вырождается
в митинговщину.
Картины массовок и громких фраз в наше время стали
жанром фильмов, определяемым обычно тем, что народу
на экране куда больше, чем в зрительном зале.
Некоторые наши артисты отлично освоили обаяние
невежества, симпатичность безграмотности,
умилительность отсутствия образования.
До чего же он славный, смотрите — какой хороший:
даже читать не умеет.
Вместо «власти тьмы», что ли говоря, ее обаяние.
15 XII
'Л 16*
484
Записи из рабочих тетрадей
Мы часто пользуемся понятием «штампы», считая, что
оно само собой понятно: ремесленная работа, пользование
давно известными приемами.
Но «штампы», как и все на свете, не застывают навечно,
вырабатываются новые; то, что было в первом применении
интересным, открывающим новое, пошло в ход, стало
всеобщим, давно известным, набившим оскомину. А
фильмы все еще делят на коммерческие, т. е. срабатываемые
известными, проверенными (кассовым успехом) приемами,
и на другие.
Как их определить?
Тут есть разные названия: экспериментальные,
«свободное кино», новая волна и т. д.
Эти некоммерческие фильмы получают обычно призы
на фестивалях. Но и тут уже нередко господствует шаблон.
Новые «антикоммерческие» штампы следовало бы
аннотировать.
1. Конкретная музыка (или отсутствие музыки),
натуралистически снятые моменты (режут петуха,
потрошат зайца, убивают кошку), половой акт, снятый по
возможности подробно, голые ягодицы. Содержание: двое
не могут жить. Потом они живут друг с другом. Потом —
опять не могут жить. Как назвать этот штамп?
2. Музыка — тихая и медленная гитара или тихий
аккордеон. Песенка. Они не могут найти смысла в жизни.
Переспали друг с другом. И опять не могут найти смысла
в жизни. Все это сильно разбавлено городскими
пейзажами, снятыми в дурную погоду. Снимается скрытой камерой.
Желательно две серии. Текста нет. Только подтекст.
Говорится тихо и неразборчиво.
3. Современный стиль: то же, но снято ручной камерой.
Конкретная музыка. Резкая светотень в павильоне.
4. Поэтическое кино: обязательно отсутствие
сюжета. Пейзажей еще больше, чем в штампе № 3.
Авторский голос, сообщающий то, что и без того известно
зрителю.
По фильмам вы не можете понять личность режиссера:
что он любит, что ненавидит,— но можете видеть, какие
фильмы он видел.
Хороший сюжет для детектива.
1968 48&
1968
Хочется вывесить на стене репетиционной комнаты
призыв, подобный «Не курите», «Уважайте труд
уборщицы» и т. п.
Такой вот лозунг: «Мы здесь, чтобы работать, а не
говорить о том, как работаем!»
После разговора с одним актером я вспомнил фразу:
«Потом целую неделю лопатой можно было выгребать из
ушей».
Родителей у этой артистки, честное слово, не могло
быть. Она родилась от рижского журнала мод и
сберегательной книжки.
Отличное русское слово: лютый. Лютая ненависть ко
всем этим жизненным явлениям — жестокости, борьбе за
власть, бездушию.
Не изящное философствование о непостижимости
жизни, а лютая, свойственная русской литературе ярость, до
белого каления, до остановки дыхания.
Чехов писал так: «Главное надо быть справедливым,
а остальное все приложится», «Я ненавижу ложь и насилие
во всех их видах... Мое святое святых —...абсолютнейшая
свобода, свобода от силы и лжи...» И6
Режиссер может сделать многое: придумать
ассоциации, близкие артисту (настроить его на определенную
волну), найти способы съемки — кинематографический
облик характера. Но в одном режиссер бессилен —
подменить собой личность исполнителя.
20 V 68
Не думаю, чтобы новая постановка являлась для
режиссера чисто профессиональной работой.
Речь идет не о применении к делу специальных знаний
или опыта. Приходится как бы начинать жить заново:
выдуманные судьбы, сочиненные события, люди, которых
16 Г. Козинцев, т. 4
486
Записи из рабочих тетрадей
на земле и в помине не было, становятся не только
интересными, привлекающими внимание, но обретают
материальность, их начинаешь воспринимать как
действительность.
Чей-то чужой мир сливается с твоим. Правда, чужим он
не мог быть, иначе нельзя было бы браться за дело. Бог
знает когда открылись двери и ты впервые вошел в этот
мир, и все в нем оказалось имеющим объем, подлинным. Ты
и таких людей, оказывается, знал, то есть не именно этих,
но других, чем-то подобных им. А теперь становится
необходимым узнать все поближе и не только увидеть
события, а оказаться внутри событий, захваченным ими.
Так образуется близость с тем, кто создал этот мир,
потому что все в нем — люди, предметы, цвета, звуки —
это все он.
Нужно узнать мир одного человека, автора сочинения.
Если это сочинение одно из тех, которые принято
называть классическими, то закончить труд над ним
нельзя. Оно уже вошло в твой внутренний мир, и часто
огромный человеческий мир уже виден через него: твое зрение
воспитано им.
Мне хотелось бы еще раз поставить «Шинель», «Дон
Кихота», «Гамлета». Мне кажется, что только теперь
я стал их понимать.
Однако это опять — лишь кажется. Мир Гоголя или
Шекспира безграничен, он движется, живет полной
жизнью, все в нем уже иное, а завтра будет еще иным,
вновь новым.
Так думаешь, чувствуешь.
Совершенной реальности и одновременно какой-то
обобщенности, доходящей в единстве определения до
фантастичности,— этому нужно учиться у Достоевского.
У Достоевского в состоянии героев или точка кипения,
или градус совершенного обледенения, столбняка,
окаменелости. Нагнетение эксцессов. Наворот небывалых
происшествий. Превращение всего в морок. Высший градус
идеи. Ее доведение до крайности.
«...Стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи
и насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь
1968
487
и диаволов водевиль» |47. Гипотезы, вознесенные в безумии
до гипербол!
Первый сон Раскольникова непереносим для чтения.
Достоевский хватает тебя за глотку, вышибает из тебя дух.
Это не лошадь, а тебя он лупит по глазам: смотри, скотина,
что есть жизнь—и твоя жизнь, сопричастность (пусть
даже пассивная) к злу.
Такова она, русская изящная словесность: в шесть
кнутов по глазам.
Тема моральной ответственности, соучастия (Иван
Карамазов и Смердяков, Ставрогин и Федька-каторжник).
Алгебраическая формула косвенного соучастия: «Я не
убивал и был против, но я знал, что они будут убиты, и
не остановил убийц» 148.
Уроки у Достоевского: крутость постановки вопроса,
уверенность в том, что без ответа на него нет жизни
человечеству. И что человек обязан задать себе этот вопрос.
После первой мировой войны Бертран Рассел написал:
«Я не смог никого убедить. Но я не стал соучастником» ,49.
В запале бешенства Достоевский превращал в абсурд
то, на превращение чего в абсурд самой жизнью
потребуются десятилетия.
Он видит существо, еще спрятанное вглубь, но
торопится показать его всем, как ему кажется,— чрезмерно
преувеличивая, высмеивая, уничтожая гаерской
внешностью.
Он пророчествует как раз тогда, когда фиглярничает.
Бывают разные виды ясновидения. Ясновидение
клоунады.
Научились — специалисты по монтажу —
совершенной плавности переходов. И тогда Годар показал силу,
выразительность клейки «не монтирующихся» между
собой кадров (The value of jamp cut ).
16*
488
Записи из рабочих тетрадей
Создали эстетику «киноигры» — тихих голосов,
величайшей сдержанности проявлений. И закричала в голос,
замахала руками и затопала ногами Анна Маньяни.
А типажи «героев»? Понятие «красивого лица» на
экране? Бельмондо и Рудольфо Валентино.
С волками жить — по-волчьи выть.
Ни в коем случае.
Изо всех сил сохранять человеческий голос.
31 X 68
Говоря о новых штампах («клише», как выражаются за
рубежом), нужно не забывать, что в самой обычной
рецензии или интервью начинающего режиссера можно
прочесть: «„Лира" мы перечитываем в эпоху атомных
бомб, Хиросимы и т. п.».
Все это так. Однако еще в «Юности Максима» у нас
был выведен человек «тонкого интеллекта и высокой
души»; он скорбно говорил нашему герою: «Душа моя сидит
в Петропавловской крепости. А я — не живу». Он вышел
веселый и отлично одетый. В его хорошей квартире
встречали Новый год.
Сладко говорить о пепле Хиросимы, представляя себе
его как безусловно горестное, но по-своему эстетическое
явление. «Ах, этот поразительный по трагичности серый
тон!..»
Сервантес — сухорукий солдат, ставший инвалидом
в историческую битву за величие Испании, а потом
бесконечно блуждавший по передним в поисках пенсии,
полунищий гений, готовый на любые дела, чтобы прокормиться,
хорошо знал цену иллюзиям и цену реальной жизни.
И в «Дон Кихоте» он с удивительной силой выразил
и всю тщетность и нелепость иллюзий, не отражавших
действительные реальные силы жизни, и всю гнусность
обыденности.
Так и поставил он вопрос: конечно, нелепо пытаться
защитить мальчишку-пастушонка с помощью рыцарских
1968
489
подвигов. Это смешно, и помешанный тот, кто пытается
объяснить деревенскому пройдохе хозяину, что такое
рыцарская доблесть.
Но так ли уж хорошо попросту пройти мимо, когда
этого пастушонка избивает осатаневший кулак хозяина?
Величие и Сервантеса и Шекспира было в том, что,
увидев всю тщетность гуманистических иллюзий, они
смогли — один в трагедии, другой в комедии — не только
показать эту тщетность, но и не потерять веры в человека.
Хотя при помощи виттенбергской проповеди Гамлету
и не изменить мира, но сердца зрителей с ним, а не с
шагающими по реальной земле Клавдием и Полонием.
Перечисление качеств Дон Кихота занимает много
времени: фантазер, человек, живущий в выдуманном мире,
безумец, храбрец, атакующий ветряные мельницы,
кавалер, отдавший свою высокую любовь девке-скотнице.
Все так. Но под конец он просит вспоминать об Алонсо
Кихано по прозвищу Добрый.
Мало, конечно. Вся радуга фантастических качеств
Дон Кихота и вдруг заурядное — «добрый». Всего только.
Может быть, добрый и справедливый?
Мы, разумные, просвещенные люди, конечно, знаем,
что нет на свете волшебников и что Фрестон — лишь плод
больного воображения нищего идальго. В этом,
естественно, и я уверен. Но вот в том, что ветряные мельницы,
которые он атаковал верхом на Россинанте с копьем
наперевес, были просто жернова для помола муки,
приводившиеся в действие силой ветра, в этом я не уверен.
Не Фрестон, конечно, но и не просто мельница. Муку
теперь перемалывают другой, куда более совершенной
технологией.
А рыцарь все еще скачет с копьем наперевес.
Против кого? За что?
Фильм «Дон Кихот» уже давно закончен, а я все еще
продолжаю над ним трудиться.
Черты современного искусства: недоверие к так
называемому «здравому смыслу»; усиление всех видов
контраста, введение в так называемое высокое искусство как раз
той образности, что считалась низменной, вовсе не
490
Записи из рабочих тетрадей
имеющей отношения к истинному творчеству. Поиски
способов выражения не внешнего покрова жизни, а ее
внутреннего движения.
Кратчайший ход от высших взлетов к низменной
действительности.
Вначале — в детстве — казалось, что вход в этот мир
открывают Маяковский, Пикассо, Мейерхольд.
Теперь — Шекспир, Достоевский, Гойя, Шостакович.
Что это значит: идти по пути наибольшего
сопротивления? И для чего нужно именно этот путь избирать? В чем
добродетель такого путешествия?
Не значит ли это тратить силы на то, чтобы плутать по
самым грязным и непролазным дорогам, лишь бы не
попасть на разумный, неоспоримо прямой путь? Нет, не
значит.
Режиссура многих экранизаций находится на полюсах
совершенного невмешательства в театральную пьесу или
же, напротив, агрессии — педалирования темы.
Не мудрствуя, снимают, как «у автора», т. е. как
в театре; купюры компенсируются бытописанием.
Жизнь, схваченная единством пьесы, не приобретает
новую реальность, а вразброд реализуется. Если говорится
о скачках, то на экране побегут лошади.
Экранизаторы или, вернее, съемщики. Я имею в виду не
киносъемщиков. Можно прописаться на жилплощади
классика. Приписаться к ней. Текст перегорожен
фанерными перегородками кадров; вырублены окна: на дворе
скачут лошади и плавают лебеди.
Коммунальная квартира. Ответственный съемщик
съехал. Осталась только дощечка на двери с именем и
фамилией.
30 XII 68
1969
Не следует считать некоторые парадоксы Лира
относящимися лишь к высоким сферам философии и истории.
1969
491
«Мы хотим записать пластинку, посвященную вашим
фильмам»,— позвонили мне с фабрики грампластинок
«Мелодия». «Позвольте,— удивился я,— как можно
показать труд кинорежиссера вне изображения?..» «Пластинка
должна быть такая, чтобы ее можно было видеть
ушами»,— ответил редактор «Мелодии».
Разговор Лира, Глостера 151 и редактора.
Один из видов современной так называемой
прогрессивной картины: муж, жена, любовник и война во
Вьетнаме.
Некоммуникабельный четырехугольник.
Художественное воздействие: «Какие красивые
краски!..»
Киноэстетика. Почему этот герой стоит в стороне?
В чем смысл того, что он изолирован в кадре от других лиц?
Ответ: артист занят в театре, вечером он уезжает,
завтра снимаем без него.
Во время работы над фильмом я не хожу в кино. Читаю
Толстого, Достоевского, Чехова.
Чему я учусь у них? Стыду за все грациозное, стыду за
все, что отдает эстетическим баловством, невозможным
в наш век.
Читатель находит в классике то, что для него важно
сейчас, насущно необходимо именно теперь.
У мягкого, терпеливого, доброжелательного Чехова
я открываю неукротимую злость, непреклонную
нетерпимость. Вместе с героем он теряет власть над собой. Так
доктор рассказывает княгине все, что он думает об ее
образе жизни («Княгиня»); теряет власть над собой
студент-юрист Васильев («Припадок»).
Задумывая «Припадок», Чехов пишет Плещееву: «Так
как о серьезном нужно говорить серьезно, то в рассказе
этом все вещи будут названы настоящими их именами».
А послав ему рассказ, добавляет: «Рассказ совсем не
подходящий для альманашно-семейного чтения, не
грациозный и отдает сыростью водосточных труб» 152.
492
Записи из рабочих тетрадей
Как хочется и как трудно добиться именно этого на
экране: полного отсутствия,грациозности и чтобы отдавало
сыростью водосточных труб.
Позор альманашно-семейному прочтению Шекспира на
экране. О серьезном — серьезно. Назвать все веши, их
настоящими именами.
Свойство русской литературы XIX века: отклик на боль,
отзыв на страдание. Требование у людей, у всего мира
ответа.
Нетерпимость к тому, к чему притерпелись.
Замысел фильма — вода, уходящая из-под пальцев.
Режиссер не ставит, он выкручивается.
Я бездарный, неопытный профессионал. Единственное
утешение: таким я чувствовал себя всегда.
21 I 69
Увеличение дистанции от предмета и сокращение ее
найдены Булгаковым в сценах Понтия Пилата.
Многое в фантасмагорической части «Мастера и
Маргариты» вышло из наворота гоголевских гипербол: повести
о капитане Копейкине, слухах о Чичикове, ревизоре и
т. п. Из снежного кома сплетен, вымыслов. Конец
«Шинели»: легенда о чиновнике-мертвеце, срывающем шинели
с плеч значительных лиц.
Гоголевский галоп, неистовый пляс я пробовал снять
в «Шинели» и «С. В. Д.». Чертов котильон.
После булгаковских инфернальных героев Иван
Бабичев с подушкой и Кавалеров 153 не кажутся одинокими
в литературе тех лет.
Найдена жидкость, имитирующая кровь; гримеры
научились воспроизводить раны с совершенной
натуральностью.
Нет грима доброты. А без нее нет «Лира», «Братьев
Карамазовых», «Войны и мира». И это — не просто
доброта, а — исступленная доброта, неистовая доброта.
I 69
1969
4^3
«Я должен быть жесток, чтоб добрым быть!» — говорит
Гамлет. «Я должен быть жесток, чтобы меня не упрекали
в сентиментальности»,— говорит современный художник.
Или иначе: «Я должен быть жесток, чтобы фильм собирал
сборы».
Против баловства, игры — ощущение необходимости
трагической силы изображения подлинного.
А баловство вернулось к баловству, и режиссеры
приторговывают стариками-вампирами, иронически
улыбаясь.
Близлежащие ассоциации плохи не потому, что они
приходят первыми в голову. Они прилепились к
произведению, закрывают сделанное автором. Нужно увидеть само
произведение и жизнь.
Традиции искусства — какие-то — обязательно
увидеть, но уже позже, после того, как пробился к жизненному
существу содержания.
Насилие, безумие, сексуальная патология прорывают
цензурные рогатки и занимают сцену и экран Западной
Европы и США послевоенных лет.
Жестокость в искусстве — явление не новое.
Матиас Грюневальд изобразил Христа в Изенгеймском
алтаре во всем ужасе смерти: следы пыток и бичевания на
зеленоватой коже трупа, скорченные в судороге пальцы,
запекшаяся кровь.
У подножия креста Магдалина на коленях —
заломившая руки кликуша.
И все же живопись Грюневальда кажется человечной
рядом с полотном на этот же сюжет, которое я видел в
Нью-Йорке в музее Гугенгейма. Американский художник
трактовал распятие как свежевание мяса, месиво
окровавленной человечины 154. И все.
Вековая история изображения этой темы еще не знала
подобного. Поражала не жестокость сама по себе, а
исключение всего другого: остались лишь кровь, мешанина мяса
и костей, корчи плоти. Краски корежились: холст
раздирали ужас, мучение, отчаяние.
494
Записи из рабочих тетрадей
Определяла ли такую образность жестокость и значит
ли что-либо такой способ сам по себе?
Искусство, отрицающее натуралистическую
зеркальность изображения жизни, фиксирует (в
антинатуралистических формах) культ силы, жестокости, абсурдности
жизненного устройства. Справедливо информирует: так
есть.
Мое дело крикнуть: так не должно быть.
Трагедии Шекспира — зеркало, идущее по столетиям,
показывает именно это: не покорность или безнадежность
отчаяния, а противление злу, отпор бесчеловечию —
надежду.
5 II 69
Образцы монтажа (не по Эйзенштейну!): сцена
Раскольникова и Сони. Кино ли это? Еще какое (т. 9,
стр. 189).
Кадры силы разгримировывающегося Кальверо в
«Огнях рампы».
Соня — Фрейндлих
Порфирий Петрович — Леонов, Папанов
Мармеладов — Толубеев, Плотников
Катерина Ивановна — Сухаревская
Хозяйка пансиона — Раневская ,55
Читая сцены массовых скандалов у Достоевского,
оказываешься как бы вовлеченным в них. Автор вовлек нас
в средоточие кипения страстей, и мы стали не читателями,
а участниками беспорядков, готовыми выкрикивать во всю
глотку лозунги, подсказанные нам человеком,
подстроившим все это.
Не есть ли это начало искусства «хепенинга»:
подстроенного происшествия, импровизированного спектакля, где
зачинщики вовлекают в действие зрителей, зрители
становятся артистами, а артисты, пустившие в ход массовое
действие, превращаются в зрителей. Пиротехнический
огонь актерских страстей перекидывается в души людей,
становится пламенем реального действия. Это не
метафора. «Хепенинги» входят в арсенал средств политической
1969
495
борьбы. Машины, подожженные студентами, горели по-
настоящему.
Вовлечение зрителей в сценическое действие было
частым в начале революционного театра. «24 ноября
состоялся спектакль «Зорь» исключительно для красноармейцев
московского гарнизона. Особенность этого спектакля
заключалась в том, что на нем была осуществлена первая
попытка активного слияния зрительного зала со сценой.
Красноармейцы... участвовали в ходе всего спектакля,
активно реагируя на все его наиболее значительные
моменты» (цит. по В. Мейерхольду. «Статьи. Письма. Речи».
1968, т. 2, стр. 513).
Киноведша выступала по телевидению; она говорила
о «событийном ряде» у Достоевского.
Событийный ряд. Перинный ряд. Обжорный ряд.
Постановка классического произведения — не
воспроизведение его в том виде, в каком оно уже существует,
а следующая стадия его существования, продолжение
жизни, заключенной в живом движении, уловленное живой
тканью искусства.
Это не сохранение в окаменелости, неприкосновенности
какой-то высшей эстетической гармонии, а возможность
бесконечности новых восприятий и, следовательно,
продолжающегося движения.
Единство жизненного движения (современное
значение, жизненная важность исследования действительности)
и исторического движения культуры — уровня знаний
человечества о себе.
В классическом произведении есть те вопросы
существования людей в историческом мире, которые
возникают — в разных костюмах и обстоятельствах, но в том же
существе — перед каждым новым поколением.
Вся жизнь человека и есть стремление — всегда не
приходящее к ответу — решить эти вопросы.
5 IV 69
Говорят о «современной», скрытой актерской игре.
496
Записи из рабочих тетрадей
Ну а Анна Маньяни, Лоутон? Наши — Михаил Чехов,
Тарханов?.. Они, что ли, относились к викторианской
эпохе?
Дело в ином — утоньшении кишки, очень она уж стала
тонка.
Зато легче не осрамиться, остаться «при своих».
Юрий Герман рассказывал мне свой разговор с
женщиной из секции кровного собаководства: «Я размалываю
скорлупу яйца и смешиваю ее с рыбьим жиром — это
витамины, а Фунтик не ест». Женщина-собаковод: «А что
вы сами едите на завтрак?» — «Не понимаю вопроса?» —
«Так вот. Вы кушайте скорлупу с рыбьим жиром. А то, что
сами ели,— отдайте Фунтику».
Решение вопроса о кинематографии, нужной народу.
Сколько явлений относится к понятию
«обожествление», какие только формы оно не принимает?
...Шеренги загадочных лам в оранжевом шелке с
древними бронзовыми лицами и досиня бритыми головами
недвижимо сидели, поджав под себя ноги, перед огромной
золотой статуей. От Будды тянулась через храм веревка;
верующие прикасались к ней, склонялись, шепча молитву.
Полевую руку бога в современном потрепанном мягком
кресле развалился военный в шортах и рубашке хаки; в его
руках был автомат. Солдат наблюдал за порядком.
Я попал в Бангкок в день религиозного праздника. Во
дворе храма толпились приезжие. И здесь были боги, они
сидели на .корточках сплошными рядами на невысоких
террасах; они были своими людьми, их никто не стеснялся.
Торговцы разложили на земле подле их золотых ног
товары, крестьянские семьи готовили пищу, валялись очистки,
отбросы. Мать подняла ребенка, он мочился.
На фоне ярко-синего неба казалось нереальным
азиатское великолепие пагод, расписанных киноварью и
золотом. Со свистом и хохотом прошла пьяная компания.
Американские летчики приезжали в Таиланд с баз после
бомбежек Вьетнама на отдых.
1969
497
Знаки цивилизации выглядели странно. У входа в
восточные бани — грязный притон — висел плакат:
«Опытные массажистки, мыло с витамином „С"».
...Из Москвы в Токио я летел пять дней; приходилось
останавливаться, выжидать летной погоды. От полета к
полету менялись пейзажи, лица, обычаи. Но те же плакаты
встречали меня в каждой новой стране. Земля вертелась;
одним и тем же, неизменным было только лицо агента
007 156. Через тысячу кинотеатров была протянута
веревка. Сколько людей притрагивалось к ней?
...На площади Конституции в Мехико-сити пеоны с
гордыми орлиными лицами опускались на колени и медленно
передвигались к паперти собора. Площадь на коленях
подползала к богу. К обычаю приспособились: колени были
замотаны тряпками.
В городе Таско религиозная процессия заставила меня
прижаться к стене дома: толпа занимала всю улицу. Люди
проходили совсем близко, рядом; я вглядывался в лица:
темный огонь фанатизма горел в глазах и взрослых и
детей. Шли с завороженными недвижимыми лицами. Никто
не обернулся, не перемолвился словом с соседом.
Молчание, шорох шагов.
Что-то древнее, связанное со своим распорядком
жизни, естественное для него, переходит в другие века; рвутся
связи, из обряда выветривается содержание, внешние
формы — старые и новые — перемешиваются, возвышенное
сочетается с низменным. То, что казалось непостижимым,
превратилось в формальность. Так баба в деревне зевает
и по привычке крестит рот.
Возглас ребенка «король голый» — заканчивает эпохи
обожествления.
История движется стремительными рывками к свету и
одновременно назад, в тьму фашизма, расизма. Ужас
тьмы, угрозы, притаившейся за каждым углом.
Тьма, вой, озверение с раннего детства неотрывны для
меня от шествия Союза Михаила Архангела,
черносотенных банд с портретами «государя императора» на
вышитых полотенцах, от харь карателей-белогвардейцев. А
рядом — угодливое молчание: меня же не трогают.
Со всем этим я еще не рассчитался. Все это буду
проклинать в каждой работе, что успею сделать.
498
Записи из рабочих тетрадей
Развитие зрения, видимо, и состоит в том, что там, где
ты раньше видел реальность, теперь находишь условность.
Но, увы, проходит время, и становится видным, что и новые
представления о подлинности являлись мнимыми, лишь
связанными с общими представлениями уже прошедших
годов. И опять перед глазами — подделка, приемы.
Есть только одна, редко удающаяся подлинность:
полнота передачи духовного мира автора, одухотворения им
материала.
На моей памяти зал аплодировал мейерхольдовским
конструкциям на сцене, выстроенным на фоне подлинной
кирпичной стены театрального здания. Никакой
условности здесь не было. Все было из подлинных материалов.
Не меньший восторг вызывали до этого декорации
Художественного театра, где все было без условности, как
в жизни. И даже мебель стояла перед рампой спинками
к залу, образуя четвертую стену.
Отвратительна самоуверенность в искусстве; смешна
претензия людей, которым все ясно.
Начинаешь труд с мучительного незнания, смутных
ощущений, которые неведомо каким путем можно
превратить в мысли, в реальность на куске целлулоида. Есть
только предчувствие. И знание того, что приготовил для
тебя труд других людей. То, чем ты имеешь право
воспользоваться, только добавив к нему и свое усилие.
Умер Блайберг, человек с чужим сердцем 157. Как
хотелось, чтобы именно эта добрая история — антипод
сказки об ожившей тени — имела хороший конец.
23 VIII 69
«Дворянское гнездо» — бисерно-подтяжечная элегия.
Воспоминания о Феллини и Алене Рене. Воспоминаний
о Тургеневе меньше.
1969
499
В предисловиях часто встречается фраза: «Автор
оставил свои статьи такими, какими они были некогда
написаны, и не стал исправлять свои старые сочинения». Как раз
иное, обратное, было характерно для «Глубокого экрана»:
главы переписывались мною множество раз. Книга начала
складываться в конце пятидесятых годов. До этого мне не
раз хотелось написать то о кинорежиссуре, то об актерах
в кино. Все это было связано с педагогической работой.
Я то готовился к приему нового курса, то, выпустив еще
одну группу учеников, хотел закрепить какие-то
положения, казавшиеся важными.
Я собирался закончить и издать такую работу. Отрывки
иногда печатались в журналах, они так и назывались:
глава из книги о киноактере («Искусство кино» —
кажется, в середине тридцатых годов) . Речь шла о теории
кино, о практике — режиссерской и педагогической.
В пятидесятые годы характер записей резко
переменился: мне стало необходимо писать не о кино, а о себе. Что
ли говоря, лет прибавилось, увеличился досуг, вот и
захотелось помянуть на свободе прошлое?.. Нет, дело обстояло
иначе.
Прежде записями — догадками на бумаге, быстрым
взглядом на сделанное,— желанием продолжить или
опровергнуть я готовил, торопясь, ничего не заканчивая в этих
записях, новые фильмы.
Записи часто так и оставались обрывками листов,
записок, еще чаще только тезисами. Я пробовал
объединять записанное, систематизировал, скреплял куски
бумаги, собирал листы в папки. Но начиналась новая работа —
сценарий или фильм.
И — «автор считал необходимым переделывать
написанное прежде, переделывать до неузнаваемости».
Такими словами я однажды и начал предисловие
к книге, которую не только не закончил, но толком и не стал
еще собирать.
Я не согласен с тем, что по внешности нельзя судить.
Часто на человеческом лице проступает какое-то главное
свойство; вдруг видишь, что все наружное, воспитанное,
500
Записи из рабочих тетрадей
усвоенное, в какой-то мере всеобщее исчезает. Лицо
человека, когда он не общается с другими, а углубляется
в дело, получает новое, иное, нежели привычное,
выражение.
У этого человека обычно милая, приветливая улыбка,
он общителен. Сегодня на моих глазах он углубился в
чтение. Что-то жесткое, жестокое, тупо-угрюмое появилось на
его лице. Одна черта характера — холодная, бездушная,
целеустремленная — вытеснила остальные. И как раз это
выражение напоминало маску.
Шварц говорил мне, что ненавидит песье выражение
глаз, которое неожиданно замечает на лицах друзей.
28 IX 69
Умер Корней Иванович Чуковский. Вымирает
прекрасный класс: старая русская интеллигенция. Паустовский,
Маршак.
Что их отличало? Культура? Совесть?
Пожалуй, иное: память. Иные были смелыми, другие
осторожными. Но была норма человеческого поведения,
которую они не нарушали. Не могли нарушить. Они
помнили, откуда произошли. Чехов, Толстой, Короленко, русский
язык, русская литература были для них не пустым звуком.
18 XI 69
«Week end» 159. Пожалуй, наиболее интересная работа
Годара.
Годар не рассказывает, а свидетельствует. Один из
племени «перегибающих палку», он отказался не только от
разыгрываемой истории, но и от связности. От всякой
связности: драматургической, литературной,
композиционной. Нет завязок и развязок, характеров, событий,
нарастаний, кульминаций.
В помине нет экспозиции, ему наплевать на
последовательность, он и не вспоминает о вопросе «что происходит?».
Поначалу мне казалось, что, начиная разговор, он
имеет что сказать примерно на половину взятого времени.
Так, в «Альфавиле» меня увлекло начало: впервые в кино
я увидел реальность фантастики. Потом пошли вздохи
1970
501
о веке, конце поэзии, ирония. Разговор обратился в
болтовню, пусть и с занятным человеком. А «Не переводя дыха--
ние» заставило интересоваться собеседником куда глубже.
В «Week end» случилось так, что качества
кинематографии Годара — бессвязность, разговорность, отсутствие
переходов, нарочитая нелогичность — совпали с
материалом.
Получился удивительно реалистический фильм.
Похоже на жизнь. Сосуществование обрывков идей, жизненных
укладов, привычек разных слоев общества, разговоров,
крутящихся вокруг пустоты, страстей на холостом ходу.
А вокруг становится все больше машин, различнее их
марки, и все огромнее число катастроф.
13 XII
1970
Что такое традиция нашей кинематографии?
Несогласие с тем, что фильм — увеселение, способ провести время,
убить время.
Требование важного места в жизни, реальности дела,
нужного людям. Не развлекать, а потрясать — этого хотел
Эйзенштейн.
Можно ставить «только про это» или «еще и про это».
Этих «еще» неисчислимое количество.
«Кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить»
(Герцен. Цит. по С. Юдину. Размышления хирурга.
«Медицина», Москва, 1968, стр. 65).
Хочется, чтобы экран стал не зеркалом жизни, а лучом
рентгена, просвечивающим время.
Народная мудрость: «Оттерпимся, и мы люди будем»
(Даль).
502
Записи из рабочих тетрадей
Поразительны эти вопросы и ответы: «Аль в людях
людей нет?», «Людей много, да человека нет», «Много
народу, да людей нет»...
Решительное отрицание величия цифры, количества.
Только единицы — достойны уважения; только качество
(душевное, нравственное), а не сила совокупности.
Каждый вечер в Усть-Нарве я смотрю фильмы.
Эйзенштейн говорил мне, что бывают картины, которые
необходимо смотреть: дело не в киноискусстве, а в картине
нравов.
22 IV 70
Как долго нужно трудиться, чтобы суметь себе сказать
по поводу множества вопросов: не знаю...
Вынул из почтового ящика пакет, обратный адрес:
Союз работников кинематографии. Видимо, ничего
интересного: какие-то отчеты по проведенным мероприятиям,
планы будущих (таких же). Успеется. Занялся другими
делами. Потом разорвал конверт, другой пакет —
иностранный.
Распечатал и ахнул: монография «La FEKS» |60. Боже
мой, да это изданная во Франции книга, где итальянский
и французский критики бережно собрали все то, что можно
найти о наших — особенно самых ранних — работах,
снабдили толковыми статьями, библиографией, фильмо-
графией.
Насколько же сильнее напечатанное слово снятого на
пленку. Крохотная книжица В. Недоброво ,61 уже
переведена на несколько языков, повсюду цитируется, а в
1928 г. на нее никто и внимания не обратил. Рецензия
Шкловского в полстранички, моя статья о Чаплине — все
существует, есть.
Какое это важное слово: есть.
1 VII
1970
503
Меня раздражает привычная фраза об очередной
экранизации: «в основу положено одноименное...».
Ничего не положено, и нет основы. Само это
одноименное сочинение должно развиваться.
Что же дает энергию этому развитию? Язык кино? Боже
сохрани.
Время.
«Одноименное» обретает новое существование в среде
развивающегося времени.
Кино — это деталь. Просто с детских лет это мой
родной язык, способ выражения. Я начинал свою жизнь
с безрассудной, страстной любви к кино. И первые мои
шаги в искусстве я сделал по дорожке, ведущей к экрану.
Как мечтал я повторить сам эти прекрасные кадры: погоня
по крышам, лицо во весь экран — самый что ни есть
крупный план, и, взгромоздив треногу на крышу,— крутить
прекрасный общий план с высоты птичьего полета.
Все — щелк монтажных стыков, кадры по несколько
клеток, ореолы контражура и смыкающаяся диафрагма —
все казалось мне истинным волшебством.
И каким ничтожным, ремесленным,
мнимо-художественным кажется мне теперь все это рукоделие.
Все что угодно, только не «кино».
Величайшие наши утописты начались с Базарова. Не
зря Тургенев не так уж много страниц уделяет пользе,
которая получилась из презрения к искусству, но самые
прекрасные — описанию любви и смерти.
Это все к двадцати годам и башне Татлина 162.
Все дело в том, чтобы очень хорошо узнать и понять
несомненную реальность, созданную автором. Она
несомненна именно потому, что впитала во все клетки
произведения жизнь. И ту, которой жил автор, и ту, что была до его
рождения, и ту, что будет двигаться, меняться после его
смерти.
504
Записи из рабочих тетрадей
Следовательно, и ту жизнь, которой я живу.
Знать нужно настолько, чтобы понять: почти ничего не
знаешь. Пробиться к существу и подлинной реальности,
стыдясь определений,— месяцы и годы труда. Препятствия
и ловушки заключены в условности формы выражения
автором (она всегда условна) и в условности способов,
которые тебе известны.
Вот почему начиная со съемок невозможно отвечать на
вопросы интервьюеров. Уже нет не только положений, но
сами определения, слова кажутся пустыми,
обозначающими лишь какие-то общие, школьные понятия.
13 IX
Паскаль писал, что мы способны уловить в
существующем лишь некоторые видимости. Абсолютное знание
невозможно, пространство между неведением и незнанием
неопределенно, и границы его подвижны. Стоит сделать
шаг вперед (в познании предмета), как предмет удаляется.
Он вечно ускользает от нас, и нет ничего, способного его
остановить. Но сами склонности человека требуют
углубления в природу вещей (Pascal «Pentees») 163.
Вечный, неутолимый голод. Или тупость корма,
засыпанного тебе скотниками.
Звонят из Москвы: предложение поехать в Японию на
какой-то симпозиум, в Париж на «встречу друзей».
Неохота. Ни симпозиумов не хочется, и нет у меня
друзей в Париже. Вранье все это. Игра во что-то. А куда
уж мне играть. Не до фантов и пятнашек.
Скорее бы начать новую работу.
25 IX
Просмотры, восторги, споры, поздравления, слухи о
ругани... Обычная, ничем не радующая обстановка первых
недель после окончания работы...
Идти дальше.
Самолет Ленинград— Кисловодск» 10 XII 70
1971
505
А что, если поставить телефильм о блоковском цикле
«Кармен»?
Подлинные места, фотографии, может быть, силуэты.
Сцены из «Кармен». Петербургская метель. Вообще бло-
ковский Петербург. Бег лихача по стрелке. «Синема».
А может быть, цикл «Незнакомка»?
Коойен? Кто-нибудь из поэтов?
29 XII Кисловодск
1971
Дмитрий Сергеевич Лихачев сегодня рассказывал мне,
что у Достоевского в романах действует особая труппа,
несколько амплуа, подобных commedia dell'arte. Рассказ
о событиях ведется автором и героями, однако лексика
показывает, что внутренняя правда характеров
относительна: Версилов разговаривает в «Подростке» так же, как
черт в «Братьях Карамазовых»; подросток излагает
переживания игрока, однако его жизненный опыт не дает ему
возможности испытать такие чувства: они ему вовсе
неведомы.
См. конец «Подростка».
4/1 71 Кисловодск
Хорошо бы организовать охрану хоть истории
советской кинематографии. Вандализм «звуковых вариантов».
«Потомок Чингисхана», озвученный натуралистическим,
бытовым диалогом и лаем псов; звуковой вариант
«Октября» — компиляция из Шостаковича наносит вред куда
больший, нежели старый тапер, «иллюстрировавший»
киноленту.
«Тени забытых предков» я еще полностью не видел.
Половина фильма (которую удалось посмотреть) меня
поразила силой цвета. Пожалуй, после пляски черно-
красных опричников в «Грозном» (отсвет Бакста и Гонча-
506
Записи из рабочих тетрадей
ровой у Дягилева) ничего настолько органически цветного
я на экране не видел. А кровь — скачка красной лошади —
показалась мне гениальной. Таких лихих определений я не
люблю, но другого в этом случае подыскать не мог и не
могу. Гениально. Ни на кого и ни на что не похоже.
Впервые. Поражает. Потрясающе сильно.
В «Цвете граната» потрясения не было, но многое —
сильно. Прекрасна символическая пантомима: красно-
черные платья на бледных орнаментах полотнищ,
развешанных во всю величину кадра.
У Параджанова своя зрительная эстетика: все
расположено фронтально к камере, кадр плоский, как условное
пространство на миниатюрах. Иногда сюрреалистические,
фрейдистские ассоциации, иногда (дети с крылышками)
воспоминание о «Джульетте и духах».
Мне не близка (хотя я могу ею любоваться) его
трактовка цвета: цвет — прекрасный — сфотографирован, а не
является самой плотью кинематографического действия.
Цвет позирует перед кинокамерой, а не вовлечен ею в
развитие мысли и чувства.
Есть два отношения зрителя к живописи: как похоже!
(или — совсем не похоже) и — как красиво! (или —
некрасиво).
Здесь высокая культура, отличное знание (перешедшее
уже в органичность взгляда) зрительного. Вовсе нет
отклика на жизнь.
20 I 71
«Поэт у костра».
Опять я возвращаюсь к фильму, который никогда не
сниму. И который, пожалуй, мне больше всего хотелось бы
снять.
Начало: шкуры белых медведей на полу; камин, за
окном петербургская белая ночь. Все эти «нездешние
вечера». Башенный театр Вячеслава Иванова, описание
чтения стихов перед войной Цветаевой. Какой год?
Непонятно. Выход из «башни» на улицу. Канун революции.
Кажущаяся ничтожность поэта. Величайшая ошибка.
О чем был бы этот фильм? О силе искусства. О победе
искусства. Какой ценой?
1971
507
Поэт у костра. Вакансия поэта. Выясняется, что это
место в истории не бывает пустым. Какого черта писали
о каком-то огне поэзии, который нисходил с небес на душу
поэта. Это было тепло от срубленных поленьев,
возможность отогреться хоть немного, не умереть, окоченев.
И это было священное пламя.
21 II
После мира — первые дни.
Дороги войны. Освобожденные из лагерей (Эрнст
Буш?). Люди разных наций. Разбомбленные города. Как
же начинать теперь жить?
Рассвет у костра. Переодетый, прячущийся убийца.
Что бы я ни делал: писал, ставил, все равно вскоре же,
вновь посмотрев или перечитав, я испытываю не только
неудовлетворение сделанным, но мучительное чувство
стыда — до чего плохо, не настоящее, подделка.
Нет ни одного из поставленных мною фильмов,
которого бы я не стыдился. Когда Ланглуа хотел устроить
«омаж» ,64 в мою честь в Синематеке Франции, я смутился
и постарался сорвать эти просмотры.
28 II
У Камю («Посторонний») ровность рассказа —
восприятия героем всего в жизни: смерти матери, служебной
карьеры, любви, возможности женитьбы и т. д. Все не
имеет особого смысла: ход часов одинаков, что бы ни
происходило в каждую минуту. Герой духовно пуст. Жизнь
для него — а может быть, всех? — лишена смысла. Старик
ненавидит шелудивого пса, но они, ругаясь, мешая друг
другу, все же живут. Пес пропал; жизни тоже нет.
Достоевский для «Записок из подполья» придумал
рефлексию личности, причудливой личности, живущей в
возбужденно-активном состоянии. У Камю полное
отсутствие рефлексии: патология покоя. Безличная личность —
антиличность.
508
Записи из рабочих тетрадей
Интересно, что в «Постороннем» жара, как в
«Преступлении и наказании»; кроме того, отношение
следователя и героя — обратное характерам и положениям
«Преступления и наказания».
Мотив убийства. Патология XIX века и XX.
8 III
Фильм — во всяком случае теперь — начинается с
того, что где-то я нахожу свое и набрасываюсь на него как
зверь. Что же это «свое»? Когда-то («Шинель», «С. В. Д.»,
«Новый Вавилон») — любимое искусство — так мне тогда
казалось; теперь мне кажется иначе, вернее — не совсем
так: в «любимом искусстве» состояла не какая-то
реальность, объективность исторического предмета, а главным
образом мое переживание — сила восхищения, восторг,
природу которого я смутно понимал. Фильм превращался
в попытку повторить, растянуть это свое переживание.
Теперь — иное: затаенный крик, какое-то страдание?
бешенство? восхищение? — которые подступили к горлу,
и — слава богу! — вот возможность это выкрикнуть, еще
раз выстрадать... И освободиться от этого.
Огромная для меня радость: вдруг, неожиданно
приехал Вирсаладзе. Кажется, последний «свой человек». Сел
он напротив меня — после разговора про все на свете —
и спросил: нет ли у вас какой-нибудь теории, что ли, чтобы
было легче туда отправляться?
Небольшая, но есть: делать свое дело как можно лучше,
как можно более честно его делать. Так я теперь пишу:
правлю, переписываю сто раз каждый самый маленький
кусочек. Зачем? Не знаю. Знаю, что книгу так вовек не
закончу. Но что-то не дает мне сдать рукопись (очередные
страницы) машинистке, если чувствую, что еще слова не те
и мысль не точна.
Пока есть силы делать свое дело лучше, честнее, без
баловства, как можно требовательнее к себе, стараясь
подойти ко всему без предвзятости, выявить, «как это
было», защитить то, что кажется настоящим, подлинным
искусством,— против вранья, подлаживания, погони за
1971
509
выгодой. Так трудиться, пока голова не начинает «кренде-
лить», день за днем. И все.
И не вступать — даже сторонкой, через посредников —
приличных людей — в переговоры с чертом.
9 V 71
Я все думаю: почему мне стало так тяжело жить и так
невыносимо тяжело (особенно непрерывно мучающее меня
чувство неудачи всего того, что я делаю) работать? Что,
так изменилось киноискусство и так я от него отстал? Да,
есть и эта причина, но не она главная: поторопившись
и поскорее сняв новый фильм, я опять почувствовал бы
«в руках» камеру, пленку. Но куда сложнее совсем иное.
Легко и весело трудиться было в молодые годы, ощущая
легкое и веселое родство с «киношкой» — детски
прекрасным электрическим балаганом, подхватив эстафету Сен-
нетта, Луи Фейада и мелодрам Гриффита.
Но вот настал день (хлебнул до этого горя уже
достаточно), и понял: за мной ведь не мигающие лампионы,
потасовки комиков с усатыми полицейскими, и не бегство
по крышам, и не XX кинематографически-американский
век, а русский XIX, со всей его невыносимо тяжелой
совестью русского искусства, мученичеством Гоголя и
Достоевского, достоинством Блока, с огромностью их духовных
миров, чувством сопричастности, отклика, душевной
кровоточащей раны.
Ну как мне выдержать тяжесть этого родства?
Объявить (себе!), что я киношник, служащий, кинокартинки
снимаю...
Легко сказать.
У меня был хороший вариант конца «Гамлета»: стена
Эльсинора, шарахаются в ужасе Бернардо и Марцелл: не
торопясь, идет призрак отца, за ним идет Гамлет, то есть
призрак сына. Военные караулы отдают им честь.
29 V
Все, буквально все, чем я занимаюсь теперь, начато
мною в первые годы работы, лет в 14. Немного же я с тех
510
Записи из рабочих тетрадей
пор узнал нового... Частичные усовершенствования и фунт
лиха. Последнее — все же решающее.
Вот в чем, оказывается, горе: научиться плохому легко,
разучиться трудно.
И начинается какой-то новый тур. Только времени уже
нет.
Начинается «кассетное кино». Все же дело делается.
Видимо, то самое соборное искусство, о котором столько
мечтали в предреволюционные годы и которое — кажется,
всего лишь на миг — было создано Гриффитом и
Эйзенштейном: объединение людей высокой идеей,— дошло до
убожества плохих режиссеров, до пародии. И кончилось.
Наступает пора потребления на ходу (телевизор —
искусство в нем лишь мелькает, неотрывно от информации
и спорта). По существу дела, это и есть та самая большая
программа, о которой столько разговоров было. Один
человек или с несколькими близкими, дома, не только не
подготовившись к чему-то более важному или хоть к
какому-то иному, чем обыденному, делу, на ходу проглядывает,
проглатывает кусочками духовную пищу.
Пользуется услугами фабрики-кухни или же, по самой
старинке, в одиночестве наслаждается искусством. С глазу
на глаз, как с картиной, со стихами.
Какой там катарсис. Коммунальные услуги: обслужить
«в основном».
Раньше искусство звало на площадь, собирало людей
вместе. Теперь по первому требованию клиента приходит
на дом. И клиенту нет смысла уходить из дому, чтобы
объединиться общим чувством с тысячами других
клиентов.
Но нечего хныкать, то же произошло с книгой. Не
«клиент», а абонент библиотеки. Книга же не разъединяет.
Нет, соединяет еще больше, не только через пространство,
но и через столетия. Представим себе круглый стол
Шекспира, Пушкина.
Ну а праздник? Тут тоже своя динамика. В театр —
лучший костюм, «пригласить» (слово-то какое!) с собой
любимую девушку. В кино можно и пальто не снимать,
1971
511
а «телик» и кассетное — хоть без штанов. Какой там
возвышенный миг.
Достоевский писал о том, что переплет — целая эпоха
в истории литературы. Значит — не прочитал и выбросил,
а может быть, еще раз прочтет. И чтобы сын потом прочел.
7 VI
Экранизация — в ее нашем обычном понимании — так
же бессмысленна, как лепка статуи по «Возвращению
блудного сына» Рембрандта.
«Правильно» — как у нас пишут — это сделать нельзя.
29 VI. Ужасающее радио: гибель космонавтов ,65.
Истинно прекрасное в нашем веке—и — после долгого
полета — смерть. Земля. Космический корабль. Три
мертвых человека. Оторвавшихся от земли. Опять
вернувшихся на землю.
Из всех фильмов, которые я поставил, мне хотелось бы
(пожалуй, больше других) еще раз снять «Дон Кихота»,
«Короля Лира» (кажется, что теперь я смог бы сделать их
гораздо лучше), мог бы по-иному (умнее, глубже) снять
«Шинель», может быть (не уверен в этом), «Гамлета»...
3 VII 71
Только ли литературная основа создает фильм? Да нет
же. «Дон Кихот», «Лир» — концентраты самой жизни, ее
бродильного, движущегося, трагического начала —
конфликта главных (для меня!) сил. Они же не «отражение»,
а сама реальность, более реальная, чем пустые постановки,
бессмысленные, литературные фабулы и штампованные
характеры, которые разыгрывает сама жизнь,
разыгрывает снаружи, чтобы скрыть внутренний, трагический ход.
Жизнь уходит на то, чтобы понять: наиболее
«фантастическое», «нереальное» и есть не копия, а что-то
вроде рентгеновского снимка, электрокардиограммы самой
жизни.
512
Записи из рабочих тетрадей
В древние времена была магия слова, изображения:
названное, нарисованное могло убить оригинал, то —
главное, что отделяли и обозначали.
Есть и магия умолчания: если дурное запретить
называть по имени, изображать схоже, видимо, оно станет
(сохраненное, защищенное, неуязвимое от слова и
рисунка) хорошим? Или же само по себе исчезнет?..
Пожалуй, здесь есть великое уважение к силе
искусства — назвать, и назвать точными словами — действие.
Москва. Кинофестиваль. 1971.
Кането Синдо. «Сегодня жить, умереть завтра».
Мастерство: большинство составных частей отличны —
артисты (особенно муж, мать, герой), фотография —
японская сила пластики: снег, индустриальные города,
природа (камни, где герой прячет револьвер). Сильны
эмоции — изнасилование, убийство, сексуальность,
проституция — все без «упаковки».
Жестокий мир, поругание детских идеалов, школьная
песня, мечта о разумной жизни, достойной человека.
Различие жить и выжить. Можно жить, чтобы с трудом
заработать на удовлетворение голода, полового инстинкта,
укрыться и одеться. Цена: превращение в автомат. Эта
часть, пожалуй, лучшая: спокойное исследование условий
существования. Тут обычное.
Дальше помесь русского «на дне» (влияние русской
литературы) и японской жестокости. Набор сильно
действующих сцен, которые не так уж сильно действуют.
Тема «заработка» — от бумажки в руке сестры.
Прекрасна первая проститутка со слепыми глазами. Хорошо,
что герою чего-то хочется, куда-то тянет. Через все —
мать.
Что же слабее всего? Мир уже открытый (ср. «Голый
остров»), все вторично, слаба композиция —
перенасыщение крайностями взамен классического покоя «Острова».
Патология общества или автора?
«Энгри янг самурай» 166.
1971
513
«Додескаден». Русские слова «оглашенный»,
«исступленный». Контраст совершенного покоя и взрыва.
Молитва — общение с богом. Они орут на бога.
Кликуши.
Гортанный исступленный крик — от которого рушится
микрофон.
Что рядом с этим хилый «кинематографический» мир!
Куросава.
— А вы наклоните ее немного, и она будет
улыбаться! ,67
О театре Но он говорит не останавливаясь: артист
надевает маску и долго всматривается в зеркало —
состояние духовное, заключенное в маске, переходит в него.
Маски, которые надевает актер, зависят от его таланта.
Это тоже маска, но какое отличие! В торжества выдают из
музеев национальные сокровища, актер появляется в
маске XI века.
Куросава не живет в каком-то ровном ритме: все время
взрывы. Во время разговора непрерывно движутся руки.
Как описать их движение? Это руки мима: оживают
походки артистов. Один палец — резким движением.
Гортанный выкрик. Два пальца. Какое-то кошачье шипение.
Мне повезло: я вижу оркестр — Куросава и его труппа.
Он без устали рассказывает о пьесах Но. Танец,
одушевленный чувством настолько, что кажется, будто
артист не уходит, а улетает со сцены. Один спектакль он
смотрел с утра до ночи без перерыва.
— Приезжайте в Японию: у меня пропуск во все театры
Но.
В момент отдыха он как бы массирует руки.
Руки леди Макбет. Руки безумного, изображающего
трамвайного работника («Додескаден»).
Речь заходит о дзен. Настоятель помог ему выйти из
депрессии после катастрофы с фильмом «Тора, тора, тора»:
«Представь себе, что ты идиот».
Для дзен необходимо сесть так... и Куросава
перебирается на диван, поджимает ноги, кладет руки на колени.
514
Записи из рабочих тетрадей
— Как жаль, что, когда я снимал «Идиота», не было
цветной пленки. Рогожин ходил со свечой по веранде,
в которой были цветные стекла. Цветовые пятна пробегали
по сцене.
— Больше всего я люблю природу. Загорать на солнце,
плавать. Есть зелень, овощи.
Тост «за Но».
— В Японии для почтения прибавляют: «О, Но».
20 авг. 1971. Полет в Ванкувер. Невероятная графика
ледниковых гор. Каким образом догадались
абстракционисты написать эти пейзажи с таким натуралистическим
сходством?
Наглядевшись на ледники, я принимаюсь за журналы.
В «Эсквайере» («Esquire», august 1971) разворот
посвящен кино. На левой странице изображена — в центре —
голая пара в кровати. Вокруг нее огромное количество
людей: так снимают фильмы в Голливуде. Внизу цифры:
18 специальностей — оплачиваемых от 1000 долларов в
день (режиссер) до секретаря (script girl) — 16 долларов.
Расходование света 20 700 ватт.
Это — старое кино.
Правая страница по бокам пуста. Вокруг той же
кровати, с той же любовной парой — всего три человека:
режиссер, оператор — они совсем близко от пары — и
звукооператор. Кроме того, ассистент, функции которого мне
не ясны (он лежит под кроватью).
Светят две лампы, снимают 16-мм камерой, расход
света 2000 ватт. Никто не получает жалованья: все
трудятся на процент с выручки фильма.
Это уже новое кино. Странность только одна: меняются
оборудование и способ съемки, но предмет остается тот же.
Бесконечное разнообразие земного покрова. Будто
слоновая кожа. Поразительная красота отблесков солнца
среди глубины синих и темно-серых плоскостей.
Гренландия.
Нет, это не краски, скорее черное серебро. Кто сказал,
что пейзаж из самолета один и тот же?
Язва, раковая опухоль равнодушия. Какой-то номер
«Paris Match». Как слоеный пирог: последняя модель
шортов, беженцы из Пакистана под проливным дождем,
нет — ливнем, по существу голые. Фотография прекрасна
своей силой выражения. Следующие страницы — тоже
почти голые пляжные дамы во влажных купальниках.
Вечера черной магии в «Олимпии». Перестрелка в Египте.
«Chahel», premiere collection sans «Mademoiselle».
Mademoiselle n'est plus. Vive mademoisell! l68
Бездомные дети Пакистана в трубах. Мустафа ,69.
Apollo XV. Плачущая вьетнамская семья. Петен в
тюрьме. Беженцы из Пакистана. Моды для пляжа.
Улыбающиеся идиотки с мутными глазами. Это все один номер.
Ну хоть не ставьте рядом эти обнаженные тела!
Ванкувер.
«Гамлет: Шекспировский коллаж» Моровица. Милая
студенческая молодежь. По идее пьесы — все происходит
в сознании Гамлета.
Предположим. Но почему же сам Гамлет на сцене?
Тоже идея — нужно довести до ясности то, что у
Шекспира недостаточно ясно: Эльсинор — весь — враждебен,
смеется над Гамлетом, но и сам он отнюдь не герой.
Полоний и могильщик — одно лицо — клоун.
Преступного тут нет ничего. Но Моровиц стекает
с Шекспира, как вода со стекла: за стеклом — спокойный,
естественный, живой, мудрый Шекспир.
На Конгрессе опять разговоры об «адаптации» и
«интерпретации».
Аудитория аплодирует моему определению: интерпре
тация — это биография художника.
Чтобы понять, как много сделала наука, стоит
перечитать старые рецензии. В 1912 году Валерий Брюсов (один
из самых образованных людей времени) упрекал
постановку «Гамлета» в Художественном театре в неуважении к
51,6
Записи из рабочих тетрадей
ремаркам драматурга: у Шекспира написано «комната в
замке», а театр вынес действие на натуру 1Т0. Кто теперь
хоть немного интересующийся Шекспиром не знает, что на
его сцене не было декораций?
Одно время было в моде ругать «комментаторов».
Критики советовали театрам забыть все написанное о
Шекспире и обращаться только к его произведениям.
Отношения науки и театра складывались по-разному.
Пожалуй, это и была одна из главных тем Конгресса.
Не думаю, чтобы совет обратиться лишь к
непосредственному чувству и бросать в печку труды ученых был
разумен. Тут невольно вспоминается спор Вейтлинга и
Маркса, описанный Анненковым. Маркс — довод за
доводом — опровергал теории Вейтлинга. «Но доводы
разума ничтожны, когда речь идет о чувствах»,—
воскликнул тот. «Невежество еще никогда и никому не помогло»,—
ответил Маркс т.
Мне представляются одинаково наивными и режиссеры,
ищущие во вступительной статье к пьесе ее «правильную
трактовку», и те, кто полагаются только на чувство. Нет,
без труда науки не обходился ни один режиссер. По
описаниям Станиславского, Крэг приехал в Москву с
целой библиотекой; Мейерхольд начинал постановку с
совершенного знания предмета.
Что же такое эти «трактовки»? На Конгрессе была
сделана попытка показать несколько опытных
интерпретаций сцен из «Троила и Крессиды». Я предварительно
получил эти трактовки (варианты интерпретаций),
напечатанные на пишущей машинке. Эксперимент не показался мне
возможным не потому, что трактовки были «неверными»,
нет, можно было и так понимать «тему» и «характеры»;
можно было и совсем иначе. Но все эти «концепции»
сами по себе не много значат. В работе режиссера они
начинаются с личности исполнителей ролей, с живого
чувства, которое неожиданно возникло на репетиции, с
того, что вдруг в эту минуту ожило, получило развитие...
Иллюстрировать заранее придуманные «концепции» нельзя.
Но для того чтобы это живое чувство возникло, чтобы
в мир пьесы можно было спокойно войти и знать там
каждый вход и выход — для всего этого и нужно
коллективное усилие множества ученых.
1971
517
Одна из проблем: различие между чтением и
спектаклем. Массовое восприятие театральной аудитории и
одиночество чтения.
Миф о «педантах», «буквоедах», «комментаторах».
Кажется, никогда еще я не слышал столько отменных
острот, такого хохота в зале. Острота о медицинском
образовании: «50% того, чему мы учим,— ложь».—
«Почему же вы не избегаете этой половины в следующий
раз?» — «Если бы я знал, какая это половина!»
Здесь все дружелюбны, заинтересованы друг в друге.
Здесь никто никого не представляет. Все сами по себе. От
себя. От Шекспира.
Вечер в Синематеке (квебекской). «Король Лир».
Следующий день — «Новый Вавилон». Я понял, что так
называемая монтажная фраза (репетиция — подготовка
войны — от скуки до накала страсти) заменяла мне — в те
времена — сцену. А ритм и монтаж — действие: связь
людей. Тут была связь явлений.
Вот фильм, который мне хотелось бы снять: Франсуа
Вийон. Поэт у подножия виселицы, где гциют тела.
Возможность обмануть, перехитрить век. Догма и поэзия:
здесь как бы эссенция и того и другого.
30 IX 71
Всякое дело, которое делаешь, пусть самое маленькое,
пусть никому не нужное (потом посмотрим, узнаем:
нужное или не нужное), нужно стараться сделать хорошо,
верно, по-настоящему. Никаких других мыслей у меня пока
нет.
«Чайка» — это два зрительных образа, два полюса:
театр с видом на «колдовское озеро» и тот же театр —
грубо сколоченные доски, облинявшие, дрянные занавеси
в непогоду, слякоть — через два года.
518
Записи из рабочих тетрадей
И две чайки: убитая и чучело. И живые чайки.
Дом. Стол с игрой в лото. Перечирканные рукописи.
Лекарства Сорина. Чучело чайки. Бессмысленная сцена
с видом на озеро. Ожидающие лошади. Разве все это менее
важно, чем «характеры»?
А потом их костюмы: штаны Тригорина (кажется,
о них — Чехов: они же клетчатые), ботинки, сапоги...
В «Чайке» отчетливо видны крэговские «мощные
эффекты, обращенные прежде всего к зрению» |72.
А пьесу обращают прежде всего к слуху.
Улучшение, осмысление жизни. На мой взгляд, это так
ясно: умножать добро. Продолжать добро, отвечать на
добро добром. И не только тому, кто помог тебе, но и тому,
кому он хотел бы помочь.
И за это даруется тебе царство небесное?
Черта с два, дудки... Просто меньше будет черных
мыслей по ночам.
Ну а зло? Подставлять вторую щеку? Нет уж, увольте,
если этим заняться — миллиона щек не хватит, а у
человека их только две. Отвечать злом на зло? Адский труд. При
нем и жизнь прекращается; человек с утра до ночи
мучается — мало я им, мерзавцам, злом ответил.
Хорошо бы забыть о зле, что тебе причинили.
Выбросить его из памяти. Смотреть только вперед. Заниматься
делом, а не сводить счеты.
10 XII
За последние годы меня особенно злит понятие
«концепции» в искусстве.
Видимо, знает кошка, чье мясо съела. Сам я в начале
работы над Шекспиром с глупой самоуверенностью
сочинял их, нагличая, что именно я, а не кто другой
«правильно» вычитал их в «Гамлете» или «Лире».
В русской культуре нужно научиться отличать то, что
написано так, что после этого все читаешь уже по-другому.
Все дело в том, что Шекспира мы читаем не после
Беккета (я, во всяком случае), а после маленьких трагедий
Пушкина, навечно (во всяком случае, на мой век)
1972 519
уничтожающих привлекательность законченности мысли,
идеи, темы.
Об этом же и Чехов писал: постановка жизненного
вопроса, а вовсе не решение его.
Но у Пушкина в «Пире во время чумы» вопрос не
жизненный (как и в других маленьких трагедиях), а какой-
то вечный вопрос отношения искусства и жизни,
художника и справедливости, человека и смерти... и т. д. до
бесконечности.
Огромные маленькие трагедии, а мы умудряемся из
шекспировских сделать крохотные: на тему.
21 XII
Каждая глава, каждая страница выходит с мучением,
после неисчислимых переделок 173.
Неужели из этого может выйти что-то стоящее?
Ничего не дается легко, не идет естественно. Какой-то
тупик, в который я забрел, а выхода не знаю.
Легко, естественно я придумываю, совсем легко
репетирую с артистами, монтирую.
Проклятие съемки. Ужас писания подряд,
обрабатывания. Видимо, есть у меня какая-то ошибка в способе
работы. Огромная ошибка, обессмысливающая работу.
Довольно поздно мне пришло все это в голову.
24 XII 71
Письмо от Шкловского. О смерти. Он пишет: если
я буду таким же долголетним, как Лев Толстой (он жил на
хорошем воздухе), то мне осталось тридцать семь месяцев.
28 XII
1972
Моя работа основана на сгущении зрительных образов.
Если угодно, чистого, прямого кино. И одновременно
превалирующего нарастающего чувства. Обычно
драматического.
520
Записи из рабочих тетрадей
Ни «худанит», ни «триллер», ни «саспенс» |74, увы,—
всем этим я не только не владею, но даже и выстроить
сколько-нибудь длительное действие по этим
категориям — не хватает терпения.
Что такое работа? К чему — с огромным трудом —
приходишь через десятилетия? Пожалуй, к освобождению
от чужого, от «других» — того, что влияло, что считалось
в свое время «нужным» (кому нужным?). Чужое отстает,
отваливается, и остается свое. Приходишь к одиночеству.
И тогда начинаешь понимать, что то, на что ты способен,
что действительно твое,— образовалось в каком-то
спрессованном, еще не определимом ощущении. Ты его толком
выразить тогда, конечно, не мог. Тогда тебе было лет
17—20. А начала бродить эта главная клетка твоего
художественного организма и того раньше.
Вот и весь твой товар. Дальше ты пробовал его
усовершенствовать и портил, потому что считал, что теперь
ты узнал самое важное.
Это что такое? Нехитрый ответ на два вопроса, на
которые — в этом и состоит все дело — ответов нет.
Первый: что такое искусство? Второй: кому оно нужно?
И опять я выхожу с Гоголем...
7 I 72
Нет этого самого кинематографического кино. Уже
давно его нет на экране. Кино: кадры «Жанны д'Арк»
Дрейера, Чаплин, снимающий грим в «Огнях рампы»,
спокойный и неторопливый Бюнюэль, последний Феллини.
Если бы знали, как тяжело я работаю, как горюю, что
не выходит «как нужно». Наплывов и флеш-беков, что ли,
не хватает? Да нет. Не получается кино эпохи Шекспира.
Как это у Ахматовой: «Двадцать четвертую пьесу
Шекспира...» |75
Нам ее нужно сыграть — вот в чем дело.
22 II 72. Поездка в Хельсинки.
Компания студентов, с которыми я обедал. Один из них
1972 521
прямо семидесятник в очках, долго думающий, очень
серьезный.
Черта им всем суют «Забриски пойнт» и «Флэш»!
Фильм Трюффо «Две англичанки на континенте» (тот
же автор, что и «Жюль и Джим» 176).
Вот где что-то чеховское (ср. «Дядя Ваня»! ,77). Круг
Трюффо. Покой, ясность. Ностальгия? Avant la guere .
Мизансцены: подъемы по лестнице с керосиновыми
лампами с кружевными абажурами. Портьеры. Дома на
берегу моря. Тишина.
История любви немного печальной, немного странной.
«Тихо шелестят страницы».
Французская культура цвета, игры.
Лишение невинности — не оставляющее сомнения. Но
«кетчуп» тут какой-то задумчиво-печальный.
Да, это про людей. Но почему так постоянен круг?
У Трюффо наиболее естественное пользование — без
натяжки и шикования — новой конструкцией рассказа:
слова от автора, прямая речь героев в зал (на крупном
плане и без фона).
Надписи на гранках.
А не хватит ли тебе, дорогой товарищ, шляться по
фильмархивам? Бывают «звезды поп-музыки». Чтобы тебе
не стать «звездой фильмархивов»!
Архивная крыса. Архивная «звезда».
Правда, здешний фильмархив не похож на хобби
старых дев: все молодые, крайне радикально настроенные.
Вообще это интересная история, как фильмархивы
стали явлением прогресса. «Новая волна» — детище
французской Синематеки.
Нелегкой ценой художники платят за свой слова.
И часто то, что выглядело позой, оказывается реальным
делом: фраза оплачена сполна — жизнью. И нужно
отличать тех, кто модничал и, обладая отличным
аппетитом, призывал других к лишениям.
17 Г. Козинцев, т. 4
522
Записи из рабочих тетрадей
«Так жить нельзя»,— писал в дневнике Толстой,
и очень старый человек ушел умирать в ночь, в пустоту.
Так жить нельзя — и Гоголь умер от истощения.
Жаль, что не удастся мне поставить «Ревизора».
Хлестакова должно быть или мало видно — он
ораторствует в другой комнате, или только слышно, а видно —
восприятие его слов. А так он — никакой, вовсе не
гротескный. Его преувеличивают, поэтому он сам не может
быть преувеличением.
Бог ты мой, какие же фильмы можно было бы
поставить!..
Быстро подняли ящик, и на возок. Щелкнул кнут.
Лошади с ходу рысью. Два дня и две ночи. Одна падает на
ходу. Запрягают — в спешке! — другую.
Природа. Мир. Привезли Пушкина. Крестьяне хоронят
его по старинному псковскому обычаю: трижды
раскачивают Пушкина в сторону родного места.
А встреча на ходу: Грибоеда везут... lfi тП 7о
Какая чепуха вдруг врывалась в мою жизнь. Наверное,
для шутки.
— Тут прекрасно готовят тарантула в собственном
соку...
Может быть, не тарантула, а кого-то другого, но сок
был действительно черный. Мы смотрели на них сверху,
как они копошились в яме, и хозяин вылавливал их — для
нас.
Ава Гарднер была в черном платье и белых перчатках.
Сумочка тоже была белая. Она приехала в Сан-Себастьян
из своей виллы — вблизи франко-испанской границы.
Потом Домингин 179 круто разворачивал свою длинную
машину по пустым ночным улицам, барочные церкви
белели в темноте.
Как я сюда попал? Наверное, приснилось. Начитался
в молодости «Фиесты».
1972
523
Есть такое выражение: свалилось наследство,— не
получил его по завещанию, не досталось оно тебе, потому
что, согласно родству, ты был именно тот, кто и должен был
вступить в его владение. Нет, именно свалилось — на
голову или же на сердце.
То ли дело было в молодости: я мечтал завладеть им,
бесценным для меня,— погонями Мака Сеннетта,
злодеями Фейада и улыбкой Лилиан Гиш при помощи пальцев,
растягивающих губы, и потом эта магия кинокамеры,
ножниц и чудес мюзик-холла (последние сокровища были
неясны, но несомненно бесценны).
Опись того, что я хотел наследовать, была выставлена
на стенах ФЭКСа: плакаты комических и сериальных.
Наследство, увы, я мигом промотал, впопыхах снял все
способы трюковых съемок и сымитировал любимые маски
и амплуа.
А потом война, а затем... затем много чего. И свалилось
мне на голову наследство выстраданной мысли Шекспира,
Гоголя, Достоевского.
Разве я способен, достоин владеть им?
28 III 72
Венгрия. 11/IV. Музей.
Эль Греко. Что получится, если его сымитировать
соответствующей оптикой? То, что уловимо: внешние
черты, индивидуальные способы выражения (деформация,
цвет). То, что неуловимо: мерцание веры, не окаменевшей
в догматы. Мерцание. Созерцание. Внутреннее зрение —
улавливающее ощущение.
Какое? Желание воплотить невоплотимое. Остановить
движущееся так, чтобы оно двигалось дальше.
В пространстве?
В пространстве твоей души.
Встреча с режиссерами и актерами.
— Почему вы ставите «классику»? Что вы думаете
о современном фильме?
17*
524
Записи из рабочих тетрадей
— Том, где играют в пиджаках и закуривают
сигареты?
Бонбоньерка лоскутной империи. Шкатулка?
Эпоха выстраивается фронтом: монументы
императрицы Виктории, канадские преднебоскребы, аргентинские
излишества, австро-венгерские бонбоньерки.
Как увековечивают, прославляют навсегда, не щадят
денег, чтобы показать: сегодняшнее — вечное. А если
вечное — значит, классическое.
А потом курьез в камне, архитектуре. Не создали даже
стиль. Зачем? Нам все стили — античность, готика,
возрождение — все про нас. Мы всё наследовали.
Модно, потому что безвкусно, «барокко».
Кто же были для каждого поколения дедушки и
бабушки?
12 IV. Равнинная Венгрия. Город Дебрецен. Свой
музей: бюсты тех, кто подарил его городу.
Фасады — эклектика — алтари
индустриально-коммерческого века. Витрины. Империя фасадов.
Ратуша: чудовищное нагромождение — пьедестал к
фигурке на крыше. Черепица.
Выступление в киноклубе. Откуда идет чума на нашего
брата? Научился говорить.
Первые слова об Енее в Венгрии 180. Вторые... Третьи...
Мы учимся выступать, чтобы разучиться мыслить,
говорить.
Вдумаемся в смысл этого слова — «выступление».
«Выступает»... «Выступает, словно пава».
Выступал, словно пава. Выступление —
выпендривание.
И в то же время «трагический тенор эпохи» ,81.
«Я выступаю — значит, я существую» — такое ведь
тоже бывает.
Способ жить, сохраняться: после всего, что делаешь,
смотреть, как в щелочке кассового механизма выскочила
1972
525
цена того, что сделал. «Я хорошо выступил». Сколько
нулей?
Убит день. Кто убийца?
22 IV. Доклад г-жи Вейман о научном подходе
к озвучанию «Лира» 182. Анализ текста: «мой» — пастер-
наковский — подлинник. Нюансы смыслов, корни слов.
Большая, серьезная, научная работа.
В озвучании начисто была потеряна поэзия. Не
лингвистическое соответствие, а разрушение всего
душевного движения.
Архитектура тембров голосов в озвучании. Бас Лира.
Более низкий голос у Эдмонда, чем у Глостера. Шут пел
песни на собственную музыку. Звукооператором сняты все
форте Шостаковича. Лир без бури. Музыка
Шостаковича — мое больное место. По которому ох как бьют.
Очень серьезная работа. Научная.
Нужно самостоятельно дойти до какой-то мысли, своей
мысли, и понять, что она совсем старая, всеобщая мысль.
Но вот тогда-то и кажется: теперь можно начинать
работать. Но уже поздно.
Старая история. 28 IV 72
Когда приходит журнал, я со страхом нахожу свою
очередную главу, принимаюсь за чтение ,83.
Отчаяние охватывает меня: мысли и наблюдения,
может быть, сами по себе и интересные, но почему я так
отвратительно пишу? Манерная проза, игрушки ритма; не
ясное развитие мысли, а непрерывная литературная игра.
Я сам это терпеть не могу, но почему-то не могу
избежать такой формы изложения.
Главное то, что я сам себе множество раз повторяю: не
подменяй выстраданное — вымученным.
У меня же есть что-то за душой, реально выстраданное,
но вот нужно писать, и я бесконечно правлю фразы, и все
становится вымученным.
14 V
526
Записи из рабочих тетрадей
Convegno di studi sulla Fabrica dell'attore eccentri-
co ,84.
Люди за столами записывают в блокноты. Спокойные,
умные лица. Серьезные, интеллигентные.
«Мы подаем свисток...» (цитата реждека) 18э — все
записывают.
В зале при чтении всех этих цитат не было слышно
смеха. «Женитьбу» объясняют так, как у Толстого оперу,—
только в целях науки, а не сатиры. Задача невозможная:
пересказать то, что было на сцене.
«Мнение критики было скорее отрицательным» — все
изучено.
Материал из «Истории». Материал — история.
Меня убивали словом «формализм», теперь хотят
чествовать присвоением мне такого титула. Я боюсь, что
Крыжицкого здесь сожгли бы на костре за его
отречение 186.
Отношения кино с литературой представляются
ясными. Чего проще: хороший писатель пишет хороший
сценарий.
Литература для человека (вообще искусство) —
возможность свободы воли. Погружение в мир, над
которым никто не властен.
Встреча двух людей — тебя и Толстого, тебя и
Шекспира. Совершенное согласие двух людей. Или спор, тогда
пробуждение твоего, личного.
И еще — эта неподчиненность пространства, в которое
ты погружаешься,— надежда. Среди людей рождаются
Чехов, Шекспир. И все в мире тогда становится по-
человечески, по-людскому. Люди — людеют.
Шекспировский семинар в Тбилиси . Здесь в
университете — живая среда.
Я всем интересен. И все мне интересны.
Отличные спектакли в Театре им. Руставели.
Мастерские художников.
X 72
1972 527
Художник Давид Какабадзе. Его портрет (10-х годов)
на фоне синей горы, розовых цветов. Потом Париж.
Абстрактная живопись. Потом...
Рассказ вдовы. Святые женщины — вдовы
художников. Они, кажется, появились только в наш век. Их много.
Поставить 2-ю серию «Дон Кихота».
Сюжет проясняется в середине, когда Карраско
и священник везут Дон Кихота домой в клетке,— основной
эпизод.
Эпизоды: кукольный театр, «волшебный конь»,
сожжение библиотеки. Кого он спасает?
«Новые похождения Дон Кихота». Гринько. Леонов.
В фильм включить кадры Васильева (общие планы) 188.
Восстановить Ламанчу.
Появился критерий оценки: «не хуже других».
Блок писал о неслиянности .
У меня чувство невместимости в экран.
Одновременно: полет американцев на Луну и резкое
увеличение бомбардировок Вьетнама — накануне
ожидавшегося мира.
Одновременно! — вот в чем суть.
Работать — сверяться, проверять по времени. И
отказываться от работы, если твоя работа не одновременна
с нерешимым (но примириться с которым нельзя!)
противоречием.
Как раз то, что невозможно решить, чувство
раздвоенности, расщепленности всего — и есть кнут,
который тебя гонит.
Бичи ямба у Блока ,90. Именно бичи, с непереносимым
звуком посвиста и непереносимой болью от удара — ни
посидеть, ни прилечь, нужно двигаться, кричать от боли.
27 XII
528
Записи из рабочих тетрадей
1973
Русская литература показывала оба крайних полюса
земного и небесного — с человеческой точки зрения.
В одном времени, настоящем: небо было «с овчинку»;
в другом — будущем: «в алмазах».
20 I 73
В самом происхождении кино заключен первородный
грех.
В генах кино — противоречие часто неразрешимо-
трагическое: искусство и техника. Хуже — искусство
и промышленность. Родился кентавр. Горе в том, что те, от
кого зависел его рост, не знали, где хвост, где голова.
Считалось главным, чтобы про голову его вовсе забыли.
Его пускали на пастбище при условии, чтобы он давал себя
взнуздать, повиновался шенкелям.
В силу входили машины, куда там автомобили —
реактивные двигатели.
Посмотрев иные фильмы, можно всплакнуть, как
Есенин: «Милый, милый смешной дуралей» 191. Только
переезжает его мило потешные прыжки на лугу не
«стальная конница», а счетно-вычислительная канцелярия
при кассе или каком-нибудь отделе, которая по своему
устройству, системе на «одном винте» (у Маяковского про
Чикаго), делает невозможным состояние при ней на любой,
пусть самой ничтожной, должности «милого, смешного
дуралея». Ни ездить на нем, ни запрягать его для
перевозки (это теперешних-то грузов), ни даже увеселять
какого-нибудь лорда (в любой стране) или его деток
в часы отдыха на природе.
Крэг писал о человеке, который в ответ на то, что
старая корова захотела есть, достал свою скрипку и сыграл
ей мелодию под названием «Песня о старой корове и ее
хозяине»: «Теперь не то время, когда растет трава,
запомни, добрая корова, запомни» 192.
И Эйзенштейн, и Гриффит, и Вертов, и Шуб хорошо
слышали этот напев. Стихи же Есенина о милом дуралее
и его прыжках на лугу — исполнение той же песни, только
не хозяином пастбищ, через которые проложили (хорошо
1973
529
известным в истории путем) железную дорогу, а другим
жеребенком.
Такие, как известно, долго не выживают сами, даже
если в порядке исключения немного травы для них
и растет.
Что делать с кентавром?
Говорят, он играет на какой-то цевнице? Тогда зачем
ему зад с хвостом и копыта? Выбраковать его из стада
полезных для хозяйства животных — и все дело.
Тут я слышу голос: «О себе скажи!»
Скажу: «Я — кентавр-Холстомер. Совсем дрянь мое
Рецензенты действительно думают, что так называемая
«экранизация» имеет право, если у режиссера есть,
красиво выражаясь, «одержимость» произведением
автора — необходимость его «переложить на язык кино».
А не сложнее ли обстоит дело?
Само произведение, его мир (а не одни только герои!)
продолжает свое существование, его не только
перечитывают, а оно вросло в реальность, стало действительностью
развивающейся жизни, жизни самого художника. Он как-
то раз взглянул (бог его ведает по какой причине)
и увидел: братцы, да это же есть, продолжается, еще будет.
И это уже, оказывается, было один раз — записано,
уловлено не в статике, а в движении исторического,
духовного, какого еще конфликта?
Давайте же... перечитаем, что ли? Да, конечно,
обязательно, и с пристрастием, но это ведь сторона
внешняя, а внутренняя иная: заглянем в зеркало, которое
уже раз перед людьми поставили, чтобы они, заглянув,—
ужаснулись? обрадовались? заплакали?..
Да, всё вместе, наверное. Чтобы более полной жизнью
жили эти часы.
Нет противоречия мастера и ремесленника. Есть иное:
художника и приспособленца.
530
Записи из рабочих тетрадей
У Достоевского пейзаж не фон для действия, а причина
действия.
У Гоголя пейзаж еще того менее фон или же
географическое уточнение действия, места действия.
Пейзаж — если вообще можно говорить об этом понятии
у автора «Мертвых душ» — одна из конфликтующих
сторон диалектики жизни: огромность, несоизмеримость ни
с какими границами и мерами пространства России
(вообще земли) и куцости, мелочности, узости,
ничтожности дела, которым занят человек. Они ведь, гоголевские
герои, заперли себя не только в ничтожные мирки,
клетушки усадеб, но и всю возможную беспредельность
духовной жизни загнали в мизерность, куцую ничтожность
жизненной цели.
Простор земли и простор, замах замысла человеческого
дела (см. письма Гоголя с юных лет об огромности дела,
которым он хотел не заняться, а всю жизнь свою
посвятить) и клетушка, где сидит в четырех стенах
пустота — мысли, чувства, цели, смысла жизни.
Въезд в усадьбу Тентетникова, как вступление в эпос.
Эпос пейзажа и «дробь и мелочь» жизни, дел человека.
Величайшая мера и ничтожнейшая.
Один молодой режиссер, отвечая на анкету
«Литературной газеты» по кино, в разделе «Какие фильмы вам
больше всего понравились?» назвал — в числе прочих —
«Король Лир». К сожалению, я не обрадовался: другие
картины по его вкусу не только не имели ничего общего
с «Лиром», но и друг с другом. Что же все-таки объединяло
«У озера», «Ватерлоо» и еще какие-то?
Их поставили те люди, которые могли бы оказаться
автору ответов полезными.
Кисловодск. II 73
Написать статью в защиту славного ремесла. Золотых
рук. Против дырявых рук, опущенных рук.
Ну а как узнать ремесленников в плохом понимании
слова? Это простое дело. Те, кто не говорят, что трудятся,
1973
531
а что «создают», им «мешают создавать подлинное
искусство», они «творят».
Мне в жизни повезло. Я трудился вместе с людьми, от
которых не только никогда ничего не слышал о
мучительности их «творческого процесса» или о том, как трудно
«создавать». Они говорили о своем труде в деловом
характере, только обыденными словами или шутили. Так
говорил Андрей Николаевич Москвин, так говорит
Шостакович.
Козыряют тем, что они «творцы», отпетые халтурщики.
В кино, как правило, все (или многие) считают дело,
которым они занимаются, профессию, которой владеют, не
то недостаточно почетной, не то лишь подготовительной
к какой-то другой, право на которую они заслужили или
тем, что уже много лет занимаются своим делом, или (это
еще чаще) тем, что люди другой, более высокой, по их
мнению, профессии — менее подготовлены или же менее
талантливы, нежели они.
Тут есть истина, примеров хватает.
Мораль? Гнать халтурщиков-режиссеров, а вовсе не
подтягивать до их уровня отличных вторых режиссеров.
До чего же смешно, что здесь, в Кисловодске, где
я решил забыть про все это кино, я сочиняю статью для
газеты «Кадр». Мало этого, именно эта статья «мешает
отдыху», «противопоказана отдыхающему».
Почему я не ответил на анкету «Литературной газеты»?
И почему отвечаю в «Кадре»?
Снижение уровня. Снижение качества. Так работают
нехотяи ,93. И всякий, кто хочет трудиться иначе,—
скандалист, придира, человек с воспоминаниями о том, что
было при царе Горохе.
Что было при царе Горохе и так ли это несущественно?
Одиночка в «Юности Максима» снималась 9 раз. Снимал
Москвин, играли Чирков и Тарханов. «Новый Вавилон»,
1928 год — неудобный для производства, неподатливый
Москвин.
Представление об «в общем и целом». От согласия
режиссера, который на все согласен, лишь бы ставить
(другие еще худшие сценарии брали — сходило), до
532
Записи из рабочих тетрадей
худсовета: «Сегодня у нас праздник, поздравляем
коллектив».
Вот и заглавие статьи: «Сегодня у нас будни».
Искусство — всегда! — будни, тяжелый труд,
преодоление. Ничего не «сойдет». Должно выйти. Нечестно плохо
работать. Нечестно думать: кто будет смотреть на
дрожащие фоны надписей?
На все смотрят. Всё видят.
Фраза у русского писателя. Кадр в советском
киноискусстве.
Художники, которых мы называем великими, не
зеркала, отражающие нашу жизнь, а светила на звездном
небе. Они сопровождают круговорот земли, и в разное
время мы видим по-разному их свет. И сочиняем, по
возможностям возраста, о цивилизациях, которые
существуют на этих неизвестных планетах и которые
обязательно должны быть похожими на наши.
«Макбета» можно было бы поставить в современных
костюмах. Атмосфера дипломатических банкетов и
военных путчей.
Лес движется просто: его взрывают. Деревья не идут,
а взлетают в воздух (рапидом).
Ведьмы — составительницы гороскопов.
Начало: военная машина (джип) в тумане. Маленький
придорожный бар. Три полупомешанные подавальщицы.
Замок — действительно замок, и фамильный, Макбета.
В этот телефильм входят и чужие игровые сцены.
Может быть, из фильма Хичкока о трех безумных
старухах.
Для «Кадра». Бытующее противопоставление
мастерства ремесленничеству крайне неопределенно и скорее
вносит путаницу в дело.
Я сам смотрел фильм одного режиссера в каких-то
отдельных областях — актерской игры, например,— не без
удовольствия.
1973
533
Им убедительно рассказана и неплохо выявлена
нравственная проблема, но экран для режиссера — нечто
вроде клубной сцены, на которой трудно разместить
артистов и декорации выглядят как-то
непропорционально. Сюжет и исполнение берут свое, и в конце концов,
казалось бы, не в этой сборной декорации и этом убогом
освещении по старинке — софитами — и рампе дело.
Если так, значит, зря прожил свою жизнь Эйзенштейн,
да и братья Люмьер выдумали лишь способ репродукции
движения, «живая фотография» так ею и осталась, а сама
по себе, как способ выражения, область искусства
оказалась бесперспективной.
Кто же снимал? Ремесленник? Нет, ничего бездушного,
бесхитростно состроенного для зарплаты в работе нет.
Значит, мастер? Нет, если речь идет о кино.
Мер, которыми нужно мерить, утвержденных
комиссией мер и весов,— в искусстве нет. Они относительны,
каждое время или даже течение определяют свои
собственные.
Появляется, к примеру говоря, «академизм и
новаторство» — понятие не менее путаное, подверженное еще
более быстрому влиянию временных, относительных
воздействий.
На наших глазах «авангардиста» производят в
«академики», и если одновременно работы, которые он делает,
становятся хуже — он озлобляется (его, признанного, и,
изволите видеть, непризнанные не признают). Все идет
вкось и вкривь.
Что такое «заумь» и словотворчество в категория>
кинематографических опытов? У Вертова они сопряжень
с публицистикой.
По мнению А. Лейтеса 19\ Хлебников был прежде всегс
художник-фантаст. «Словотворчество (эти неустанные
поиски слов, еще не заселенных смыслом) было словотвор
чеством фантаста. И в упражнениях над числами
и в лингвистических экспериментах Хлебникова привлека
ло одно и то же фантасмагорическое начало... В нем жил?
неизменная и страстная потребность сочетать несочетае
534
Записи из рабочих тетрадей
мое, вкладывать смысл в то, что кажется бессмысленным»
(стр. 227).
Ср. Гоголь! Как все-таки склейки невпопад получают
исторический и нравственный национальный смысл.
В начале новой литературы было трагическое осознание
неслиянности жизненных элементов: национальных и тех,
что ворвались в прорубленную Петром — не окно, а дыру.
И все стало заплатами.
Цель Хлебникова «...расширить понятие о слове... Он
открыл для себя, что между словом-понятием и словом-
звуком лежит целая гамма эмоциональных значений, не
поддающихся логическому определению. Он утверждал,
что наряду со словами, имеющими вполне отчетливый
смысл, могут существовать слова иррациональные —
такие, как «смеярышня», «хохочество» (смысл которых
только смутно брезжит)...» (стр. 228).
«Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от
недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами;
другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов
для их выражения» (Пушкин, стр. 229). Утопия 20-х годов
была непростой. Дело было не только в том, что такая
могла только чудиться, не способная осуществиться. Тут
было много сторон. И тут было начало особых заготовок.
Отношение режиссера и зрителя вовсе не некое
стабильное, нехитрое положение: ставлю для народа, хочу,
чтобы мои фильмы пользовались успехом.
Начну с последнего, «пользоваться успехом»,— товары
хорошо идут, у покупателя они имеют спрос.
Иное: не пользуются успехом, затовариваются, нет
спроса.
Ну а если режиссер хочет, не чтобы фильмы
пользовались успехом, а чтобы они вызывали мысли
и чувства достаточно сложные, тяжелые?
И есть ли что-нибудь общее между «зритель»,
«читатель» и «потребитель» — тот, которого нужно
обслужить.
А если не «обслужить», а с которым нужно вместе
задуматься, испытать общее чувство; общение с которым
нужно тебе не потому, что ты зарабатываешь на жизнь
1973
535
товарами общего пользования, а потому, что без этого
духовного общения с неисчислимым множеством людей
для тебя, да ты имеешь смелость думать — и для них,
жизнь становится духовно беднее, чувства серее, мыслей
меньше.
Первый вопрос: уважаешь ли ты того, с кем хочешь
общаться, существует ли акт духовного общения, отклик
его на явления жизни — неисчислимые — такой же, как
твой? Или ты считаешь его за человека ниже тебя,
которому твоих мыслей и чувств не понять и нужно-то ему,
по сути дела, не жить напряжением духовной жизни,
а убить полтора часа времени так, чтобы он и не заметил,
как они прошли.
Пример режиссера, уважающего человека, к которому
он обращается,— для меня Иоселиани.
В конце пятидесятых годов началась дискуссия между
Шарлем Бодлером и Виктором Гюго. Гюго соглашался, что
Бодлер уловил «le fresson nouveau» — «новый трепет».
Трепет? Зыбь на воде после бури? трепет страха?
«Вы идете вперед...— писал Гюго Бодлеру.— Но... поэт
не может продвигаться один. Нужно, чтобы двигался
человек. Итак, шаги человечества суть шаги искусства.
Итак, слава „прогрессу"» (Жюль Ренар. Дневники. М.,
1965, стр. 14).
Красиво. Но теперь мы знаем, что каждый шаг
прогресса есть и шаг регресса. И черт их знает, как они
шагают: в ногу, перегоняя друг дружку? А может быть, их
по отдельности и нет? Они тело и тень, причем меняются
местами. Кто шагает: человек или тень?
Одно можно утверждать: по отдельности их нет. Разум
и безумие, величайший прогресс и дремучая дикость
взаимосвязаны, детерминированы друг другом.
Икар учился летать, чтобы безлобый убийца с дубиной
поджидал на перекрестках авиалиний.
Человек, занимающийся каким-либо делом, должен
непрерывно трудиться, то есть этим самым делом
536
Записи из рабочих тетрадей"
заниматься ежедневно, стараясь исполнять его как можно
лучше, вникая в его смысл.
Все в этом простом положении, применимо к труду
кинорежиссера, обстоит сложно. Работа — сценарии,
которые ставишь, получаешь со все большей сложностью,
и перерывы между временем, когда у тебя в руках
оказывается написанный писателем или самим тобой
сценарий, становятся все большими. В начале работы этих
перерывов почти не было: мы снимали фильм за фильмом,
особенно не раздумывая, необходимо ли нам браться
именно за этот материал. Однако я не припоминаю
случаев, когда мы брались бы за него по посторонним существу
нашего дела — искусства кинематографии — причинам,
когда нас принуждала бы к этому выгода или приказы.
Очевидно, какая-то внутренняя необходимость (иногда и
неосознанная) побуждала менять материал, жанры.
И я, год за годом, непрерывно трудился: снимал,
преподавал, вернее, экспериментировал вместе с
учениками, писал, пробуя отыскать связи, поставить в ряд явления
искусства и жизни, обобщая то, что снималось, пытаясь
открыть еще мало известный нам, но притягательный
материк — кинематографию.
Потом уже время уходило на то, что я только писал —
уже не для дела, подготовки к новой работе, а для себя.
Противник был передо мной: установленные вкусы,
мнения, критерии оценки, даже целая наука, выпускавшая
толстые тома истории театра или кино.
Большинство из того, что там писалось, я опровергал,
должен был опровергать. Нужно было размотать начало,
проследить движение, поставить на места имена — для
меня не только художников, но товарищей.
Для чего я все это писал? Чтобы издать потом книгу?
Нет. Об этом я не думал, да и надежды на издание тогда,,:
в конце сороковых — начале пятидесятых годов, у меня не
было. Нужно было и уйдя из кино продолжать им, своим
делом, заниматься ежедневно, думая о нем, разбираясь
в том, что в нем происходит, находя свое место в общем
труде.
Анкета «Литгазеты» о кино. Она представляет особый
интерес именно потому, что, казалось бы, каждый ясный
1973 537
вопрос, поставленный в ней, предполагает и готовый ответ
«сознательного кинематографиста».
Я на нее не ответил: все вопросы представляются мне
неясными, а ответы неточными.
«Как вы относитесь к сексу в кино?»
Попробуем уточнить. Например: к показу обнаженного
женского тела на экране? Значит, к примеру говоря, как
я отношусь к стихам Демьяна Бедного о «Земле»
Довженко 195, где женщина без платья была показана
у нас впервые? Я за Довженко. Порнография, работающая
на кассу, мне отвратительна. Я против порнографии
и одновременно — с не меньшей силой неприязни —
против попыток выдать за порнографию открытый показ
того в отношениях людей, о чем иногда предпочитают
умалчивать в искусстве, но что художнику нужно показать.
Убийцы героя «Земли» убили не только человека, убили
продолжение человеческой жизни, оборвали связь,
гармоническую связь природы, и горе его невесты — не только
картинный кадр в черном платке, но и горе живой плоти:
она уже не станет матерью.
Ну а жестокость? Тут уж дело, казалось бы, ясно?
Увы, нет. Черви в мясе, которым собираются кормить
матросов «Потемкина», рассеченный глаз, убитая
женщина, волосы которой подымаются дыбом, когда разводят
мост. Что это?
«Для кого создается фильм? Для всех или для элиты?»
Ну а что такое «элита»? Эстеты в башне из слоновой
кости? Укажите адрес этой постройки. Рембо, ставший
коммунаром? Пикассо, репродукции которого висят теперь
в большинстве квартир? «Ваши стихи никогда не
поймут»,— получил записку Маяковский. «Зайдите через
столетие,— ответил Маяковский,— посмотрим». Ста лет
не понадобилось. Для кого Чайковский писал «Евгения
Онегина»?
Художник не пишет «для кого-то». Он живет в мире
и всей жизнью связан с множеством чувств и людей.
Вакуума нет.
Нельзя оборвать эти связи — притяжение любви
и ненависти. Нельзя остановить время, жизнь человека во
времени. Нет «творчества» и «жизни». Есть труд
в меняющемся мире; Есть торговля, есть черный рынок
538
Записи из рабочих тетрадей
искусства, и есть оторванная от потребностей населения
«торговая сеть»: «жри, что дают», «посетите наше кино».
Что сегодня? Танцы под баян? Лекция о ревматических
заболеваниях? Крутят кино! «Какое? Кажется, про
разведчиков?» — «Нет, это про любовь. Красиво
поставлено. В красках».— «Пошли. А куда деваться? Убьем
полтора часа...»
«Если бы вы начинали жизнь с начала, хотели бы вы
стать кинорежиссером?»
Нет. Завидую художникам (так я начинал), писателям,
композиторам — их труд не подвержен случайностям,
стечению обстоятельств (чаще неудачных). Фильм может
не получиться или выйти хуже, чем задумано, по многим
непредвиденным для режиссера обстоятельствам.
Они устранимы? Нет, тут есть и объективные причины
(комплекс «кентавра» 19§).
23 III. Дорога Кисловодск — Ленинград.
Так называемые «эпохи» для каждого складывались
по-особому. Тут без памяти о детстве мало что можно
понять. Гимназия была для меня ужасом. Я ее страстно
ненавидел. С этих самых ранних лет я ощутил ужас
одиночества: от процентной нормы приема до совершенной
чуждости — прежде всего душевной — тупости,
невежеству. Ощущение отчаяния — не могу, не умею, не понимаю,
боюсь.
Искусство началось с полного подъема всех духовных
сил.
С детского нашего театра «Арлекин» и затем ФЭКСа.
Фильм «Юность Максима» вошел в жизнь, в общее
дело. То же потом случилось с «Гамлетом». Тут не успех.
Речь идет о другом: тебя поняли.
Это не обязательно успех искусства, это — теплее
жить.
Не понять относительность успехов для настоящего
дела (оно в требованиях к себе: настоящего, правды —
конечно, своей, выстраданной правды искусства — на
горючем всей жизни, на горючих слезах) — тупик,
отупение, озлобление на «нынешних»: «Вот в наше время
была молодежь...» и т. д.
1973
539
Совершенная внутренняя уверенность в своей правде.
В том, что ты не ловчишь, не увиливаешь.
Быть самому себе судьей. Не дай бог испытывать этот
суд. А без него — ничего сделать в искусстве нельзя.
Фигура умолчания — целая поэтика. Из системы
умолчания образуется красноречие. И какое!...
В кино теперь — повсюду — нехватка мыслей, идей.
Все хоть немного оживает, когда возрождается старый мир
чувств, когда толчок находят в прошлом, каком-то уже
забытом периоде.
«Кабаре» — ожила Лиа де Путти, Валеска Герт,
немецкий экспрессионизм конца 20-х годов. Марлен
Дитрих.
Даже прическа Лизы Минелли кажется теперь
занятной 197.
Новый принцип оформления, начатый Мейерхольдом,
а может быть, раньше, фотомонтажом, дада; реальность
в театре, даже не реализм, а натурализм отдельных
деталей, но само пространство условно.
Самолет на Берлин 5 IV
Веймар. 7 IV. «Маска, сочиненная В. Шекспиром по
случаю вступления на престол короля Дании Фортин-
браса» — вот такое название.
Я не могу похвастаться сенсационным открытием: мне
не удалось найти в архивах неопубликованную пьесу
Барда. Речь идет о куда более скромных вещах.
Неожиданно для себя мне стало ясным чередование, порядок
событий. При этом несколько изменилась их очередность
и появилось третье событие, вычитанное мною при
внимательном чтении «Бури» и сопоставлении ее с
«Гамлетом».
540
Записи из рабочих тетрадей
В Веймаре шла речь о высоких материях: катарсисе,
закономерности явлений истории в трагедиях автора, кому
была посвящена конференция, под портретом которого все
мы сидели и знали о нем точно, вероятно, лишь одно —
этот портрет не был на него похож.
Итак, финал: Гамлет подает свой голос за Фортин-
браса. Историческая гармония. Спор Дании и Норвегии,
несправедливый пакт мира и т. д. будут выправлены.
Будущий владыка — «нежный принц». Правда, он же
бесцельно готов уложить в землю тысячи людей, а земля —
клочок сена, никому из этих, кого будут убивать, не
нужный...
И меня уже в давние времена тревожило это
противоречие. «Очищение» у меня на сцене никак не
получалось.
«Это просто шум продолжающейся жизни. Один
человек умер, а жизнь шумит себе дальше»,— ответил мне
на мои недоумения Пастернак 198.
Сегодня в ходе прений мне открылась ясная
преемственность, восстановилась шекспировская связь
времен — с участием его героев и его самого.
Только одно звено пришлось переставить: сперва
в Данию пришел Фортинбрас. «Остальное — молчание»,—
сказал не Гамлет, а поэт в ответ на предложение сочинить
«маску» по случаю вступления на престол Фортинбраса.
Шум жизни продолжался. Но поэзия умолкла. Пришла
немота вследствие расхождения интересов заказчиков
и вкуса поэта.
«Слова, слова, слова» не хотелось произносить; честнее
было торговать не словами, а земельными участками.
Да и шума жизни в Стратфорде было, вероятно,
меньше.
Странный турнир предстает передо мной: шахматный
сеанс одновременной игры на многих досках. За каждой
игрок, свято веря в какую-нибудь «сицилийскую партию»,
или «веймарский вариант», или «коттовскую комбинацию
со сменой сразу же многих фигур» 199, пробует добиться
мата академическим интерпретациям.
1973
541
А по проходу между столиками, на которых
расставлены все эти хитро задуманные партии, которые должны
привести к несомненной победе на каком-нибудь тридцать
четвертом ходу (пятом акте или выводе статьи), проходит
гроссмейстер, лица которого нам не различить, потому что
он слишком хорошо знаком с детства (и чем лучше мы его
узнавали, тем больше менялись черты его лица),— артист
и владелец паев в компании Бербеджа — и легким
движением мизинца сдвигает фигуры, мешает партии,
приводит к абсурду любые законченные концепции (в том
числе и Шекспир — Беккет).
Слабый Гамлет XIX века? Да, но он убил шесть
человек. Колеблющийся убил, не колеблясь.
Сильный? Но он то и дело что. сам говорит о своей
бездеятельности и даже предлагает дать ему оплеуху — он
и это стерпит.
Черный? Белый? Неореалистический?
Антиакадемический? А мне все эти «анти» напоминают антиалкогольные
напитки, бескофеинный кофе и антиникотиновые
папиросы.
Мне часто приходилось (хорошо, что пишу об этом
в прошлом времени) слышать разговоры, вернее,
высказывания: был ли Шекспир пессимистом или оптимистом?
Если пессимист, то и нет нужды ставить «Гамлета»,
поскольку весь этот пессимизм нам вовсе несозвучен.
Другое дело, если выискать в «классическом наследии»
нужный народу оптимистический, плотский, веселый дух
Ренессанса — оптимистический гуманизм.
И действительно, есть он, оптимистический конец, даже
в трагедиях, в «Гамлете»: «The rest is silence» 20°.
Это Гамлет умер, а Шекспир просто замолчал.
Молчание было сперва, судя по некоторым
предваряющим его интонациям, в «Буре» и «Как вам это понравится»,
но эти привкусы некоторой печали и горечи не так уж
глубоки.
Это хорошо — молчать. «Блажен, кто молча был
поэт...», «Мысль изреченная есть ложь...» 201
Неплохо забыть о меценатах и вкусах зрителей в тихом
провинциальном городе, накопив небольшой капитал.
542
Записи из рабочих тетрадей
Опять писать? Нет уж, увольте. «Вот мое стило»
9. IV. Берлин. «История жизни и смерти Ричарда III».
У Шекспира «Ричард III» начинается не только
с виселицы и казней, но, напротив,— пришло веселое,
«мирное, расслабленное время» с его танцами под звуки
«нежно-похотливой лютни», «распущенными нимфами».
Ричард — грубый, уродливый — человек интриги,
борьбы; негодный для этого мира — он мстит ему.
Обстановка берлинского спектакля больше подходит
для «Макбета». «Ленивые забавы мирных дней» —
контраст не был бы сильнее? В тексте его нет. Но есть
в самом Ричарде — наперекор, вразрез, против течения.
Боже мой, какая у Шекспира картина появления
Глостера при умирании короля и его разговор с королевой
на тему, что он «груб», а умирающий король хочет всех
помирить, «выяснить отношения». Прямо мороз по коже!
И сколько в берлинском спектакле потерь от
«интерпретации».
Современный немецкий Шекспир — зрительно —
фотомонтаж Гартфильда: склеен трон и виселица, как
доллар и гувервилл.
Коллаж от Гартфильда до Моровица.
Дух Гюго и Делакруа. Найдена манера игры, цвет.
Площадка.
Чего нет? Воздуха истории. И тайны. Крэг как бы еще
не родился.
Найден стиль спектакля. И опять Шекспир пожал
плечами: слова, слова, слова...
Ошибка в том, что сразу же выкладываются все карты
на стол. Все вовлечены. Даже ребенок сразу же так рубит
все мечом, что, может быть, убить его — законное дело?
Снижение мифа. Для чего? Как в жизни. Это мы сами
знаем.
У Крэга ничего не знали.
Стиль найден — и все отлично, но смотреть нет
интереса: сколько времени нужно, чтобы разглядеть со
всех сторон этот фотомонтаж. И внутренний.
Шекспир и отчуждение. К Брехту? Или к тайне Крэга?
Ричард III — конферансье, как в кабаре.
1973
543
К зрителю обращается не Ричард, а Шекспир. К нам?
К зрителям «Глобуса»?
Такое обращение к нам предполагает нашу реакцию.
Какую? Гнев? Ненависть? «Народ безмолвствует»? Мы
смеемся.
Прощание со смехом с прошлым. Но у Шекспира не
прошлое: это и настоящее и будущее.
Кроме того: «Чему смеетесь?»
«Венеру в парикмахерской» ° кончить своей
интерпретацией «Бури», увы...
И все же, увы, интерпретация. Того хуже —
«фотомонтаж». Того хуже — «агитка». Я ведь тоже из числа тех, кто
отвечает: «Какие ваши следующие планы, товарищ
режиссер?» — «Интерпретации, интерпретации,
интерпретации...»
Шекспировское искусство родилось на пустой сцене, на
пустых сценах. Потом — в XVIII, XIX, начале XX века
сцену стали загромождать все больше: вносили мебель
(«историческую»), росло число бутафорских предметов
(«эпохи»), количество кулис и задников, тронов, скамей,
ларей.
Среди этого множества вещей, расписанных
плоскостей, источников света Шекспиру уже стало трудно
пробираться, проходить вперед поближе к людям —
архитекторы, декораторы, специалисты по свету не столько
обставляли постановку его пьес, сколько отделяли ее
(«историей», «эпохой», «стилем») от людей.
Каких? Новой эпохи, но тех, кто, рождаясь,
сталкивался с горем, несправедливостью вельмож и даже
медлительностью судей, не говоря уже о призрачности их
заслуг в глазах новых невежд, короче говоря, смертных,
как было смертно и их время.
Крэг задал только один вопрос: почему же бессмертно
то, что всегда говорит так верно о смертном. Он ответил:
потому что говорит о вечном. А кто знает, что есть
вечность, рождение, смерть?
И он начисто убрал все со сцены. Велел вынести вещи,
выбросить расписанные холсты. Показать место
действия — не дворцы или поля — а пространство, уни-
544
Записи из рабочих- тетрадей
версальное. То, что создается искусством, казалось бы
основанным лишь на времени,— музыкой.
Потом стали немного поправлять Крэга. (Я не говорю
о реставрации оперного или натуралистического
Шекспира — это принесло некоторые успехи тем, кто уже умер,
и уже позабыто.)
Появился Брехт.
И уже есть типовые проекты хороших шекспировских
постановок («коллаж» студенческих спектаклей, необрех-
товский фотомонтаж).
Самолет Берлин — Ленинград 14 IV 73.
Теперь знаю, как поставить приход Фортинбраса:
автоматчики занимают посты. Перерезаются провода
телефонной связи (ну, пусть языки колокола). Фортинбрас
занимает кабинет Клавдия.
Появляются перепуганные министры в подштанниках,
прикрываясь одеялами или одеваясь на ходу.
Фортинбрас, ломая кинжалом замок шкафа,
спрашивает: «Где место происшествия?» Горацио, обливающийся
слезами. Фортинбрас, продолжая отдавать приказания,
заглядывает в окно и на ходу дает распоряжение об обряде
похорон Гамлета — это его ответ прямо в физиономии
министров: знайте, как я буду властвовать. И не забудьте
ничего из того, что я сейчас говорю. И так по всем статьям
церемониала.
Обводит взглядом лица. Садится. Велит всем сесть.
Несколько способов нашей критики шекспировских
спектаклей: «правильно» показал, что...; «неправильно»;
у Шекспира эта фраза (иногда слово!) обозначает иное...
Так Аникст писал о моем «Гамлете» в театре2-4,
а рецензент «Вечернего Ленинграда» гневался: почему нет
Фортинбраса 205. У Шекспира приход Фортинбраса
значит... Рецензент прочитал какую-то статью Морозова
и считал, что я ее не прочитал.
Потом критика как-то цивилизовалась: стали
разбирать «интерпретации»: есть достоинства (оригинальное
прочтение), но есть и недостатки.
1973 545
Пустое дело. Они обычно у человека так нераздельны,
что излечить его можно лишь хирургическим
вмешательством. «Недостатки» убирали у Эйзенштейна и
Мейерхольда, как опухоли. И без наркоза резали.
Отразить? Что? Раскрыть? На какую ширину и длину?
Прикоснуться. Ступить несколько шагов по этой земле.
Но своими шагами.
Пинский считает, что есть «магистральный сюжет
жанра» 206. «То внутреннее родственное... в чем
обнаруживается концепция жанра у художника».
Ну а если эту концепцию он получил по наследству, уже
готовой,.общими местами жанра — как наших «историко-
биографических» нелегкой памяти?
Тогда «магистральное стремление» разрушить каноны
жанра, родственность приемов разрушений, нарушений
правил.
Есть «магистральный сюжет» художника и времени.
Были свои завязки и развязки у русских лирических
поэтов — с обязательными финалами.
В магистральном сюжете шекспировской судьбы
участвуют чума, пуритане, требование кассы и вкусы
меценатов.
Его уход (исход?) определила, как бы мы теперь
сказали, не борьба на два фронта (профессионально-
театрального убожества и придворно-меценатской
угодливости), а нежелание попусту тратить силы в такой борьбе.
Одним из самых больших успехов в кинопрокате
оказался фильм «Воспоминание о будущем». Ни
закрученной фабулы, ни красивых артисток. Мало того, жанр не
из «кассовых»: научно-популярный (впрочем, научного
там было мало).
В чем же дело?
Нет вывода. Сами не понимаем, как же такое может
случиться, говорит предприимчивый автор.
И каждому хочется посмотреть загадки без отгадок.
546
Записи из рабочих тетрадей
Чаще же показывают отгадки на загадки, которые
и детям давно не задают.
Фильм, возле которого я брожу, опять на меридианах
катастроф.
Отвратительность одичания, бездушие, насилие...
А где-то личность, человеческая личность, подымающая
свой отдельный, особенный голос: не думайте за меня!
Я думаю, решаю, действую. Или решаю уйти от
действия — это ведь тоже принятие решения, поступок.
Самолет Берлин — Ленинград 14 IV 73
Еще и еще раз — учиться читать.
Горе учебных заведений, общих: отучивают от чтения,
настаивая на чтении «главных» (для диктанта, истории
литературы и т.д.) мест; специальных: учат «правильно»
интерпретировать, а не свободно, со всей волей своих,
личных пристрастий читать — невольно подключаться
к «силе созданья, уже заключенной в душе художника»
(Гоголь) 207, к тому, не исчерпаемому другими словами,
большему, чем слова, потому что это уже не слова, а
реальность сознания человечества. Это — в
унаследованном, в генах, с детства, с первых произнесенных слов,
чувстве, еще не уловимом твоими словами, но ставшем
движущейся тканью — как бы литературной, а на деле
продолжающейся жизни сознания человечества. Той его
части, которая хочет сознавать, осознавать, находить себя
в осознании общего, в причастности.
Сценарий — современный, который мне хотелось бы
поставить, должен был бы показать одновременно срезы
разных пластов жизни: развития — поражающего —
науки, техники, цивилизации — стерильный мир
лабораторий, освоение космоса, и не только одновременно, но
и взаимосвязанно: рост зощенски-паскудного
мелкотравчатого бескультурья, глупости, пошлости и
самодовольства райкинских героев. И рост террора, варварство
тщательно разработанных и технически совершенных
1973
547
форм дикости разбоя — всех этих краж самолетов,
убийств заложников.
Разбой небольшой шайки на перекрестках вселенной.
«Интерпретация» — совершенная, очевидная ясность
«главной темы», к наиболее наглядному, отчетливому
выражению которой стремишься, страстно увлеченный
именно такой целью, работаешь, но по ходу работы — со
сценарием, артистами, на съемках — постепенно теряешь
представление о том, что прежде казалось тебе «главным».
Совсем другое со всех сторон, из-под множества строчек
вылезает наружу, кажется необходимым для
выражения — без этого, идущего в сторону от «темы», «идеи», нет
полноты жизни. То, что представлялось ясным, приводит
к схеме, все наглядное уже хочется запрятать подальше,
умолчать о нем: «неясное», трудноопределимое —
жизненно неотчетливое — меняет пропорции, создает новые
мерила.
«Шекспировское», «сервантесовское», «гоголевское» —
такие эпитеты становятся все менее ясными, но все более
важными, глубокими, огромными по захвату жизни,
динамике, связям вещей, возникающим, распадающимся
и опять образующимся.
По каким закономерностям?
Пробую уловить, пытаюсь... ощутить жар этой жизни,
ритм ее превращений.
<25 апреля 1973 года)
г
ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛИ
Принятые сокращения
АК — Архив Григория Михайловича Козинцева (хранится у В. Г.
Козинцевой, Ленинград)
ПСС — Полное собрание сочинений
СС — Собрание сочинений
Пространство трагедии
Книга «Пространство трагедии» была выпущена Ленинградским
отделением издательства «Искусство» в 1973 г. До этого она
публиковалась по главам в журнале «Искусство кино» (1971, № 7—10; 1972,
№ 1, 4, 6, 8, 11; 1973, № 1). Журнальный текст не имеет существенных
расхождений с текстом книжного издания. Отрывки из публикаций
в журнале были переведены и напечатаны в периодических изданиях
ГДР, Польши, Чехословакии и других стран. В 1977 г. книга вышла на
английском языке под названием «King Lear. The Space of Tragedy»
с предисловием П. Брука в Лондоне (издательство Heineman) и затем
в США (University of California Press).
Козинцев приступил к работе над книгой еще во время съемок
фильма «Король Лир». После многократной правки текста
непосредственно в рабочих тетрадях на записях, отобранных для книги, были
сделаны специальные пометки — указания для машинистки. Второй этап
отбора и окончательная правка велись уже по машинописному тексту,
который дополнялся вновь написанными разделами.
В начале 1971 г. первые главы были переданы в журнал «Искусство
кино», а вскоре вся рукопись была сдана в издательство. В апреле
1973 г. Козинцев подписал верстку. Книгу он не увидел — она вышла
в свет осенью.
Печатается по тексту издания 1973 г.
1 Из «Поэмы без героя» (1940—1962).
2 См.: Эйзенштейн СМ. Нежданный стык.— В кн.:
Эйзенштейн С. М. Избр. произведения. М., 1968, т. 5, с. 303—310. (В
дальнейшем при ссылках на это издание будет указываться номер тома
и страницы.)
3 См.: Мейерхольд В. Э. Балаган.— В кн.: Мейерхольд
В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968, ч. 1, с. 221—229. (В
дальнейшем при ссылках на это издание будет указываться только номер
части и страницы.)
4 См.: ЭйзенштейнС. М. За кадром.— Т. 2, с. 283—296.
5 Имеется в виду фильм К. Брауна «Анна Каренина» (1935).
6 У Достоевского — «связующая мысль». См.:
Достоевский Ф. М. Идиот.—ПСС. Спб., б. г., 11, с. 89. (В дальнейшем при
Примечания
551
ссылках на это издание будет указываться только номер тома и страницы).
7 КобоА., КэндзабуроО. Время малых жанров.— Иностр
лит., 1965, № 8, с. 225—227.
8 Имеется в виду пьеса «За запертой дверью» (1944).
9 Имеется в виду повесть А. Шамиссо «Необычайные приключения
Петера Шлемиля» (1814).
10 Киреевский И. В. Письмо к А. С. Хомякову от 15 июля
1840 г.— СС. М., 1910, т. 1, с. 67.
11 См.: Пастернак Б. Л. Люди и положения.— Новый мир, 1967,
№ 1, с. 235.
12 См.: Ч е х о в А. П. Крыжовник.— ПСС. М.— Л., 1931, т. 8, с. 436.
13 Киркегор С. Несчастнейший.— В кн.: Северные сборники.
Спб., 1908, кн. 4, с. 25, 26.
14 Киркегор С— Там же, с. 52. Аю^аХцта.
15 Имеется в виду пьеса «Конец игры» (1957).
16 См.: Amengual В. A propos du «Pre de Bejine».— Cahiers du
cinema, 1968, № 203, p. 6.
17 Имеется в виду кн.: В о ё е k J. Navrat к Eisen§teinovi. Praha, 1966.
18 См.: Л у н а ч а р с к и й А. В. Об А. Н. Островском и по поводу
его.—Известия, 1923, 11 и 12 апр.
19 Из стихотворения «Друзьям» (1909).
20 Герасимов М. М. Документальный портрет Ивана
Грозного.— Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М., 1965,
вып. 100, с. 141.
21 Т ы н я н о в Ю. Н. Из записных книжек.— Новый мир, 1966, № 8,
с. 135.
22 Кафка Ф. Дневники.— Вопр. лит. 1968, № 2, с. 152.
23 СмирновВ. Мечта, отлитая в металл.— Правда, 1967, 4 окт.
24 Б у н и н И. А. Освобождение Толстого.— СС. М., 1967, т. 9, с. 31.
25 Brook P. The Empty Space. London, 1968, p. 124. На русском
языке книга П. Брука «Пустое пространство» была издана в 1976 г. (М.).
26 Мандельштам О. Э. Комиссаржевская.— В кн.:
Мандельштам О. Э. Египетская марка. Л., 1928, с. 156.
27 Из стихотворения «На смерть Комиссаржевской» (1910).
28 Из стихотворения «Русский бред» (1919).
29 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание.— Т. 8,
с. 155—156.
30 Достоевский Ф. М. Бесы.— Т. 13, с. 384.
31 См.: Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта.—
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 119.
32 Из письма Б. Л. Пастернака от 20 октября 1953 г. (АК).
33 Имеется в виду рукопись книги Л. Е. Пинского «Шекспир»,
которая вышла в свет в 1971 г. (М.).
34 В фильме «Полуночные колокола» (1966).
552
Примечания
За См.: Толстой Л. Н. О Шекспире и его драме.— СС. М., 1964,
т. 15. с. 310.
30 См.: Достоевский Ф. М. Подросток.— Т. 14, с. 20.
37 См.: Блок А. А. Дневники.—Соч. М., 1955, т. 2, с. 379.
36 Цвета е в а М. И. Мой Пушкин. М., 1967, с. 203.
ЗУ См.: Мейерхольд В. Э. «Борис Годунов». Из замечаний на
репетициях.— Ч. 2, с. 388—389.
40 Из предисловия к поэме «Возмездие» (1919).
41 Мейерхольд В. Э. Письмо от 18 сентября 1906 г.— В кн.:
Волков Н. Мейерхольд. М.—Л., 1929, т. 1, с. 259.
42 Пастернак Б. Л. Заметки к переводам шекспировских
трагедий.— В кн.: Литературная Москва. М., 1956, с. 805—806.
43 М а р ш а к С. Я. Две беседы.— Новый мир, 1968, № 9. с. 181.
44 В фильме «Земля» (1930).
45 См.: Чаплин Ч. Моя биография. М., 1966, с. 20.
46 См.: Виноградов А. К. Три цвета времени. М., 1931, с. 507.
47 Из поэмы «Паноптикум» (1943).
48 Б а л ь з а к О. Предисловие к «Человеческой комедии».— СС. М.,
1951, т. 1, с. 16.
49 Б у н и н И. А. «Мадрид».— СС, т. 7, с. 199.
50 Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные.— Т. 7, с. 84.
51 Достоевский Ф. М. Хозяйка.— Т. 2, с. 11.
52 Там же, с. 18.
53 Достоевский Ф. М. Бесы.— Т. 13. с. 270—271.
54 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание.— Т. 8, с. 222.
55 Там же, с. 134.
56 Там же, т. 9, с. 270.
57 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1873 г.— Т. 19,
с. 299.
58 Мейерхольд В. Э. «Ревизор». (Экспликация спектакля.) —
Ч. 2, с. 110—115.
59 См.: Бедный Д. Мейерхольдовская старина из «Золотого
руна».— СС. М.. 1965, т. 6, с. 46.
60 Гоголь Н. В. Вторая редакция окончания «Развязки»
«Ревизора».— ПСС. М., 1951, т. 4, с. 134. (В дальнейшем при ссылках на
это издание будет указываться только Номер тома и страницы.)
61 Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями.—
Т. 8, с. 221.
62 Тургенев И: С. Рецензия на драму С. А. Гедеонова «Смерть
Ляпунова».— ПСС. М.-^- Л., 1960, т. 1, с. 261.. ,
63 Немецкий театр, организованный в 1948 г. Б. Брехтом
и Е. Вейг.ель.
04 Мейерхольд В. Э. К постановке. «Зорь» в. Первом театре
РСФСР.—Ч. 2, с. 16.
Примечания
553
65 Мейерхольд В. Э. Театральные листки.— Ч. 2, с. 26—27.
66 Ш к л о в с к и й В. Б. Ход коня. М., 1923, с. 147- 149.
67 Мейерхольд В. Э. О театре. Спб., 1913, с. IV.
68 Б л о к А. А. Письмо от 5 августа 1902 г.— Соч., т. 2, с. 526.
69 В г о о k P. The Empty Space, p. 65.
70 Из стихотворения «Послание пролетарским поэтам» (1926).
71 Беленцева Н. А. Часы и дни.—В кн.: Прометей. М., 1968,
№ 5, с. 318.
72 Мейерхольд В. Э. «Ревизор». Беседа с актерами.—Ч. 2,
с. 121, 122.
73 К неб ел ь М. О. Вся моя жизнь. М., 1967, с. 71.
74 М е й е р х о л ь д В. Э. Пушкин и Чайковский.— Ч. 2, с. 300—301.
75 Ломоносов М. В. Риторика. Спб., 1748, с. 25.
76 Эйзенштейн С. М. Автобиографические записки.— Т. 1,
с. 306.
77 М е й е р х о л ь д В. Э. Из доклада о репертуарном плане...— Ч. 2,
с. 476.
78 Вольтер. Письмо м-м дю Деффан от 10 августа 1772 г.— Цит.
по кн.:Державин К. Н. Вольтер. М.,* 1946, с. 461.
79 Из стихотворения «Голубые глаза» (1934).
80 См.: Михоэлс С. М. Актерское призвание.— В кн.: Михо-
элс С. М. Статьи. Беседы. Речи. М., I960, с. 70. См. также: М е й е р-
хол ьд В. Э. Ч. 2, с. 560.
81 3 е н к е в и ч Л. А. Человек и океан.— Неделя, 1969, № 24, с. 11.
82 В предисловии к поэме «Возмездие» (1919).
83 См.: Книга о живописи Леонардо да Винчи, живописца и
скульптора флорентийского. М., 1934, с. 100.
84 СулержицкийЛ. А. Крэг в Художественном театре.— В кн.:
Леопольд Антонович Сулержицкий. М., 1970, с. 338.
85 См.: Крэг Г. Актер и сверхмарионетка.— В кн.: Крэг Г.
Искусство театра. Спб., б. г., с. 45—70.
86 См.: Ч у ш к и н Н. Н. Гамлет — Качалов. М., 1966, с. 27.
87 См. там же, с. 16.
88 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС. М.,
1954, т. 1, с. 336.
89 Shakespeary in a Changing World. London, 1964.
90 Г. Крэг — сын Э. Терри и пасынок Г. Ирвинга.
91 См.: Крэг Г. Искусство театра, с. 60.
92 См.: Wyspianski S. Hamlet. Krakow, 1961, s. 18—19.
93 См.: К о 11 J. Shakespeary Our Contemporary. New York, 1966,
p. 69.
94 Б л о к А. А. Дневник. Запись 26 декабря 1908 г.— Соч., т. 2, с. 399.
95 См.: Bablet D. Edward Gordon Craig. London, 1966, p. 136.
18 Г. Козинцев, т. 4
554
Примечания
96 Craig G. Towards a New Theatre. London, Toronto, 1913.
97 К р э г Г. О сцене и движении.— В кн.: Крэг Г. Искусство театра,
с. 25.
98 См.: Bablet D. Op cit., p. 145.
99 Вахтангов Е. Б. Письмо от 8 июля 1911 г.— В кн.: Леопольд
Антонович Сулержицкий, с. 484.
100 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС, т. 1,
с. 340.
101 См.: Ильинский И. В. Побеждающий Мейерхольд.— В кн.:
Встречи с Мейерхольдом. М., 1967, с. 257.
102 Craig G. The Russian Theatre To-day.— The London Mercury,
1935, № 192.
103 Ч у ш к и н Н. Н. Гамлет — Качалов, с. 44.
104 См. там же, с. 52—54.
105 Имеется в виду рукопись книги В. Шверубовича «О людях,
о театре и о себе>, которая увидела свет в 1976 г. (М.)
106 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС, т. 1,
с. 343.
107 Д о р о ш е в и ч В. М. Гамлет.— В кн.: Дорошевич В. М.
Избранные рассказы и очерки. М., 1962, с. 120—123.
108 Там же, с. 482.
109 См.: Brook P. The Empty Space, p. 66.
1.0 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС, т. 1,
с. 341.
1.1 Из стихотворения «Пророк» (1826).
1.2 См.: Пушкин А. С. (Наброски предисловия к «Борису
Годунову».) — ПСС. М., 1937, т. 9, с. 77. (В дальнейшем при ссылках на
это издание будет указываться только номер тома и страницы.)
1.3 Крэг Г. Письмо от 1 января 1956 г.—В кн.: Книппер-Чехо-
ва О. Л. Переписка. М., 1972, ч. 2, с. 252.
1.4 См.: Станиславский К. С. А. П. Чехов в Художественном
театре.— СС, т. 5, с. 338; Чехов А. П. Письмо к О. Л. Книппер от
2 января 1900 г.— В кн.: Чехов А. П. О литературе и искусстве. Минск,
1954, с. 350.
1.5 См.: Крэг Г. Пьесы и драматургия.— В кн.: Крэг Г. Искусство
театра, с. 86.
1.6 Из стихотворения «Сергею Есенину» (1926).
1.7 Knight G. The Wheel of Fire. London, 1967, p. 165.
1.8 Мейерхольд В. Э. Театральные листки.—Ч. 2, с. 26—27
1.9 Горький А. М. В. И. Ленин.—СС. М., 1952, т. 17, с. 16.
120 Маркс К. Письмо к Ф. Энгельсу от 15 апреля 1869.—
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 242.
121 Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1968, с. 107.
Примечания
555
122 Толстой Л. Н. Дневники. Запись 10 апреля 1884 г.— ПСС. М.,
1952, т. 49, с. 75.
123 См.: Spurgeon С. Shakespeare's Imagery and What It Tells
Us. Cambridge, 1939, p. 335—336.
124 Fo w 1 e г G. Father Goose. New York, 1934.
125 См. примеч. 120.
126 Козинцев Г. М. Народное искусство Чарли Чаплина.
См. т. 3 наст, изд., с. 87—125.
127 С г a i g G. Index to the Story of My Days. London, 1957, p. 125.
128 Книга Иова. I. 2; XXX, 3—4, 8.
129 Из стихотворения «Ночное небо так угрюмо» (1865).
130 Из стихотворения «Завещание» (1840).
131 Пастернак Б. Л. Письмо к А. О. Наумовой от 30 июля
1942 г.—В кн.: Мастерство перевода. 1969. М., 1970, сб. 6, с. 357.
132 Пастернак Б. Л. Заметки к переводам шекспировских
трагедий.— Лит. Москва, с. 796—797.
133 Galop funebre (франц.) — похоронный галоп.
134 См.: Ч е х о в А. П. Письмо к Ал. П. Чехову от 4 января 1886 г.—
СС. М., 1963, т. 11, с. 64.
135 Толстой Л. Н. Письмо к Н. Н. Страхову от 23 апреля 1876 г.—
ПСС, т. 62, с. 269.
136 См.: Данилов С. С. «Женитьба» Н. В. Гоголя. Л., 1934,
с. 89—94.
137 Методологические проблемы истории советского кино.—
Искусство кино, 1972, № 6, с. 107.
138 Достоевский Ф. М. Ряд статей о русской литературе.
Введение.—Т. 19, с. 25—26.
139 Имеется в виду картина Т. Жерико (1819).
140 Перефразировка определения С. М. Эйзенштейна «монтаж
аттракционов» (см.: Эйзенштейн С. М. Т. 2, с. 269).
141 Из поэмы «Облако в штанах», гл. 2 (1915).
142 П а с т е р н а к Б. Л. Заметки к переводам шекспировских
трагедий.— В кн.: Литературная Москва, с. 806.
143 W e I I w а г t h G. The Theatre of Protest and Paradox. New York,
1964.
144 В фильме «Происшествия» (1922).
145 Цит. по: Green N. Antonin Artaud: Poet Without words. Ne
York, 1970, p. 30.
146 Ibid., p. 47.
,47A г t a u d A. Le Theatre et son Double. Paris, 1938.
148 Цит. по: Green N. Op. cit., p. 219.
149 Гарсиа Лорка Ф. Теория и игра беса.— В кн.: Гарсиа
Лорка Ф. Об искусстве. М., 1971, с. 78—81.
150 Ф.-Т. Маринетти (1876—1944) — итальянский писатель, глава
18*
.556
Примечания
и теоретик европейского футуризма; с 1919 г.— сподвижник Муссолини,
прославлял милитаризм и фашистскую агрессию.
151 См.: Достоевский Ф.М. Записки из подполья.— Т. 5, с. 162.
152 Эйзенштейн С. М.— Т. 3, с. 144.
153 Из стихотворения «Зона» (1912).
154 См.: Пушкин А. С. <3аметки о народной драме и о «Марфе
Посаднице» М. П. Погодина.) — Т. 9, с. 173.
155 S a i 1 1 е t M. In Memoriam: Antonin Artaud.— In: Artaud A. The
Theatre and its Double. New York, 1958, p. 147.
156 Green N. Op. cit., p. 218.
157 ЭйэенштейнС. М. Неравнодушная природа.— Т. 3, с. 139.
158 Эккерман И.-П. Разговоры с Гете. М., 1934, с. 566—567.
159 См.: Г е т е В. Годы учения Вильгельма Мейстера.— СС. М., 1935,
т. 7, с. 248.
160 Мейерхольд В. Э. К постановке «Зорь» в Первом театре
РСФСР.— Ч. 2, с. 14.
161 М е й е р х о л ь д В. Э. Театральные листки.— Ч. 2, с. 27.
162 In: Shakespeare Tragedy of King Lear. London, 1895, p. IV.
163 Ц в е т а е в а М. И. Из писем критику.— Новый мир, 1969, Л° 4,
с. 194.
164 Из стихотворения «Петербург» (опубликовано посмертно в
1910 г.).
165 См.: Белинский В. Г Письмо к В. П. Боткину от 1 марта
Щ\ г.— Белинский В. Г. Письма. Спб., 1914, т. 2, с. 213.
166 Блок А. А. «Король Лир» Шекспира.— СС. М:, 1936, т. 12,
с. 234.
167 Речь идет о съемках фильма «Гойя», в котором Д. Банионис
исполнял главную роль.
168 Sight and Sound, 1969, Autumn, p. 182—183.
169 БабельИ. Э.Ди Грассо.— В кн.: Бабель И. Э. Избранное. М.,
1957, с. 272.
Записи по фильму «Король Лир»
Включенная в эту подборку часть записей 1957—1971 гг. печатается
по тексту рабочих тетрадей с учетом авторской правки рукописи, а те
записи, которые первоначально были отобраны и перепечатаны, но не
вошли в книгу,—с учетом правки в машинописном тексте.
1 Золя Э. Натурализм в театре.— ПСС. Киев, 1903, т, 45, с. 70.
2 См.: К о 11 J. «King Lear» and «Endgame».— In: Kott J.
Shakespeare Our Contemporary, p. 127—168.
Примечания
557
3 Имеется в виду кн.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики
Достоевского. М., 1963.
4 Имеются в виду картины на исторические темы художника
Г. И. Семирадского и фильм П.-П. Пазолини «Евангелие от Матфея»
(1964).
5 Павлов И. П. Надгробная речь.— Известия, 1935, 2 нояб.
6 ...политический фильм — это. так сказать, Уолт Дисней плюс кровь
(англ.). Цит. по: К u s t о w M. Without and Within.— Sight and Sound,
1967, Summer, p. 114.
7 Пьеса С. Беккета (1952).
8 См.: История философии. М., 1941. т. 1, с. 393.
9 Ч. Кин (1811 —1868) в своих шекспировских постановках
стремился к исторической достоверности декораций; Г. Крэг (1872—1966)
ставил Шекспира в обобщенном, условном оформлении.
10 Гюго В. Из трактата «Вильям Шекспир».— СС. М., 1956, т. 14,
с. 300.
11 См.: Веселовский А. Н. Славянские сказания о Соломоне
и Китаврасе.— СС. Пг., 1921, сер. 3, т. 1, вып. 1, с. 131 — 136.
12 Очень трудно быть судьёй в наше время [англ.). Г-жа
Гофмейстер — жена чешского художника А. Гофмейстера, председателя
жюри Международного кинофестиваля в Карловых Варах (1964).
Козинцев был членом жюри.
13 Б у н и н И. А. Освобождение Толстого.— СС, т. 9, с. 8.
14 ДостоевскийФ. М. Преступление и наказание.— Т. 8, с. 388.
15 Перефразировка строки из поэмы А. А. Блока «Двенадцать»
(1918): «Ветер, ветер — на всем божьем свете!»
16 Из той же поэмы А. А. Блока.
17 Анненский И. Ф. Книга отражений. Спб., 1906, с. III.
IS Мандельштам О. Э.. Разговор о Данте. М., 1967, с. 10.
19 Пастернак Б. Л. Заметки к переводам шекспировских
трагедий.— В кн.: Литературная Москва, с. 806.
20 Из поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах» (1915).
21 Эсхил. Прикованный Прометей. М., 1935, с. 89.
22 См. статью Г. М. Козинцева в кн.: «Король Лир» в Большом
драматическом театре им. М. Горького. Л.—М., 1941, с. 47—48.
23 См.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского, с. 144.
24 См.: Пушкин А. С. (Заметки о ранних поэмах.) — Т. 9, с. 169.
25 См. акт 3, сц. 1.
26 Из стихотворения «Когда погребают эпоху...» (1940).
27 Эта огромная сцена дураков («Король Лир», акт 4, сц. 6).
28 Из стихотворения «Неоконченное [V]» (1930).
"Семенов Н. Н. Союз химии с биологией.—Известия, 1968,
21 июля.
558
Примечания
30 Название раздела четвертой главы книги «Глубокий экран»
(т. 1 наст, изд., с. 272).
31 Цит. по: Д н е п р о в В. Д. Субъективное в морали.— Иностр.
лит., 1968, № 10, с. 203.
32 См.: Честертон Г. Диккенс. Л., 1929, с. 166.
33 См. в наст, томе с. 250.
34 См.: Г ю г о В. Из трактата «Вильям Шекспир».— СС, т. 14, с. 275.
35 Знаменитое кафе на бульваре Монпарнас, в котором в 1910—
1920-х гг. собирались люди искусства.
36 См.: Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. М., 1961, кн. 1 и 2,
с. 213.
37 В 1517 г. М. Лютер прибил к дверям замковой церкви
в Виттенберге тезисы против католицизма.
38 Запись связана с тем, что декорации в Ивангородской крепости,
сделанные до приезда Козинцева, были выполнены излишне
натуралистически.
39 См. об этом в «Глубоком экране» (т. 1 наст, изд., с. 262)
40 Из стихотворения «Три мелодии».
41 К о р ч а к Я. Как любить детей. М., 1968, с. 6.
42 Из стихотворения «Песня под пулями».
43 Приведено по памяти. См.: Искусство кино, 1968, № 6, с. 111
44 Имеется в виду запись одной из частей (номеров) музыки
Д. Д. Шостаковича.
45 Роль короля Лира озвучивал 3. Я. Гердт.
46 Запись сделана во время полета в Канаду на Первый
международный шекспировский конгресс.
47 Успех фильма на конгрессе нашел свое отражение в
многочисленных откликах в прессе и письмах к Козинцеву. (Подборка откликов
опубликована в газ. «Кадр», 1972, 12 мая.) Так, греческий режиссер
и актер Д. Малаветас писал: «Человеку редко представляется
возможность оказаться лицом к лицу с шедевром. Когда на Первом всемирном
шекспировском конгрессе пятьсот делегатов из всех стран, глубоко
взволнованные, вскочили со своих мест и стоя устроили овацию Григорию
Козинцеву и его последней работе — «Королю Лиру», мы знали, что
только что мы увидели шедевр». Шекспировед профессор П. Милвард:
«Английский народ еще никогда не получал своего голоса,— может быть,
Шекспир был его голосом первый и последний раз. И только сегодня
нашелся режиссер из России, который сделал для английского народа то,
что не смог осуществить ни один английский режиссер: он сохранил
верность всем оттенкам значений Шекспира и показал его трагедию
такой, какой она была задумана...» В сборнике материалов конгресса
«Shakespeare 1971. Proceeding of the World Shakespeare Congress.
Vancouver, August 1971» (Toronto and Buffalo, 1972) авторы
предисловия К. Линч и Дж. М. Маргесон отметили: «...наш особый триумф —
первый показ фильма Григория Козинцева «Король Лир» в Северной
Америке. Мы имеем честь напечатать в этом томе доклад профессора
Примечания
559
Козинцева, относящийся к этому фильму> (р. VI; доклад Козинцева
«Гамлет» и «Король Лир», театр и кино — р. 190—199).
48 Имеются в виду слова Эдгара «Бессмыслица и смысл — все
вместе» (акт 4, сц. 6).
49 Из заключительной ремарки трагедии А. С. Пушкина «Пир во
время чумы» (1830).
50 А. С. Пушкин. «Что козырь?» — «Черви».— «Мне ходить...» (1825).
Записи из рабочих тетрадей
1940—1973
В архиве Козинцева сохранились тетради, связанные с его работой
над фильмами и спектаклями 1930—1940-х гг. Уже в них, наряду
с выписками из литературных источников, конспектами бесед, планами
и разработками отдельных эпизодов и т. д., появляются, особенно
в 40-х гг., записи более общего характера. С января 1949 г. Козинцев вел
тетради регулярно. Чем дальше, тем все больше эти записи становились
ему необходимыми. Не случайно он отчеркнул на полях воспоминаний
А. К. Гладкова мысль В. Э. Мейерхольда: «Собственно, опыт заключается
не в том, что меньше пробуешь и бракуешь, а в том, что постепенно все
большую часть работы учишься делать наедине с собой» (Тарусские
страницы. Калуга, 1961, с. 302).
Козинцев последовательно нумеровал тетради, а на обратной стороне
обложек указывал даты начальной и конечной записи и перечислял
основные темы, облегчая таким образом свою дальнейшую работу.
Например, в тетради, которую Козинцев начал 17 февраля 1973 г. в поезде
по дороге в Кисловодск, написано:
О Хлебникове (20-е годы, творяне)
«Tempest» (глава «Загадка финала»)
Пейзаж у Гоголя
«Гоголи ада»
О Станиславском
• Статья о положении в кино
Райкин
Творяне (для «Глубокого экрана»? «Пространство трагедии»?)
В перечне тем, не являющемся, конечно, сухим оглавлением (темы
записывались по мере заполнения тетради, в разной степени выделялись
подчеркиваниями, рамками разного цвета, стрелками и т. п.), видны
и замыслы новых, к сожалению не осуществленных, работ. Так, Козинцев
не только собирался поставить фильм по «Буре» («Tempest») Шекспира,
но и предполагал написать работу о судьбе художника на примерах героя
«Бури» Просперо и самого Шекспира. Характерно также, что
приведенный здесь далеко не полный перечень записанного относится
к тетради, которая велась в санатории,— даже на отдыхе Козинцев ни на
один день не прекращал свой интенсивный труд.
Почти во всех тетрадях много вклеенных текстов, напечатанных
560
Примечания
автором на пишущей машинке. Вклеены также записи, сделанные вне
дома,— на маленьких страницах блокнотов, гостиничных бланках,
развернутых почтовых конвертах — Козинцев работал и в дороге,
и в перерывах на съемках, и в командировках. Кроме того, вклеены
черновики некоторых писем различным адресатам, содержащие
положения, к которым Козинцев предполагал вернуться в дальнейшей работе.
К новому, 1973 году Ю. Ярвет подарил Козинцеву тетрадь,
оформленную в виде книги в тисненом кожаном переплете, с надписью,
начинавшейся словами: «Да будет Новый год для Вас годом творческого
горения и годом творения большого кино». На обороте титульного листа,
поставив дату начала тетради, Козинцев приписал: «Книга — подарок
дорогого Ярвета». Эта тетрадь оказалась последней — записи в ней
оборвались в конце апреля 1973 г.
1 Монтень М. Опыты. Кн. 3, гл. 10. Монтень с изменениями
приводит слова Сенеки из «Писем»: «Знай, что кто друг себе, тот и друг
всем» (латин.). См.: Монтень М. Опыты. М.— Л., 1960, кн. 3, с. 285,
479.
2 См. т. 2 наст, изд., с. 16.
3 Уистлер Джеймс (1834—1904) — американский
живописец-импрессионист, много работавший в Лондоне.
4 Речь идет о фильме «Великий лекарь».
5 В это время Козинцев работает над постановкой «Отелло»
в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. (Во
время войны театр находился в эвакуации в Новосибирске.)
6 См. примеч. 107 к «Глубокому экрану» (т. 1 наст, изд., с. 510).
7 В 1948 г. Козинцев работает над фильмом «Белинский».
6 П. С. Мочалов (1800—1848) — великий русский трагический
актер, которому В. Г. Белинский посвятил статью «Гамлет» Шекспира.
Мочалов в роли Гамлета (1838).
9 См.: Станиславский К. С. Работа актера над собой.— СС,
т. 2, с. 38, 51—52.
10 У. Шекспир. Бесплодные усилия любви. Акт 5, сц. 2.
11 ГерценА.И. Былое и думы. М., 1937, т. 2, с. 223.
12 Л е н и н В. И. Рецензия. Н. А. Рубакин. Среди книг.— ПСС, т. 25,
с. 112.
13 Т у р г е н е в И. С. Отцы и дети. Л., 1946, с. 29.
14 См.: Гейне Г. Признание.—ПСС. Спб., 1904, т. 2, с. 348.
15 Из стихотворения К. К. Случевского «Ты не гонись за рифмой
своенравной».
16 Цитируется по памяти. См.: Белинский В. Г. Письмо
Н. В. Гоголю от 3 июля 1847 г.— Белинский В. Г. Письма, т. 3, с. 233.
17 Белинский В. Г. Ответ «Москвитянину».— ПСС. Пг., 1917,
т. 11, с. 2, 25.
1Ь Р а д и щ е в А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву.— ПСС.
М.—Л., 1936, т. 1, с. 335.
19 П и с а р е в Д. И. Пушкин и Белинский.— В кн.: Писарев Д. И.
Примечания
561
Избр. произведения. М., 1935, т. 2, с. 303—304.
20 См. т. 3 наст, изд., с. 88—89. В своем экземпляре сборника
«Чарльз Спенсер Чаплин» (М., 1945) Козинцев отчеркнул абзац о Швейке
(с. 55) и приписал сбоку: «Суть в том, чья точка зрения!»
21 См.: Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени.— ПСС. М.—
Л., 1957, т. 6, с. 202.
22 См.: Ленин В. И. Лев Толстой как зеркало русской
революции.— ПСС, т. 17, с. 206—213.
23 Имеются в виду оперетты Ж. Оффенбаха (1819—1880), в которых
античные боги и герои были представлены в сниженном, пародийном виде.
24 В библиотеке Козинцева было собрано много книг по пантомиме,
буффонаде, цирку, гротеску и т. п. на нескольких языках. Одной из первых
была книга Ж. Жанена о Дебюро «История двадцатикопеечного театра»
(Спб., 1835), приобретенная Козинцевым в 1921 г. Французское издание
этой книги (Париж, 1833) приобретено в 1935 г. Проблемами
эксцентрического и гротескного искусства Козинцев занимался до последних дней
(см. т. 3 наст. изд.).
25 Возвышенное и гротескное (франц.).
26 См.: Герцен А. И. Былое и думы, т. 2, с. 194—196.
27 См.: Гоголь Н. В. Мертвые души.—Т. 6, с. 221.
28 Киреевский И. В. Отрывки.—ПСС. М., 1911, т. 1, с. 280.
29 О Манасевиче-Мануйлове см. т. 1 наст, изд., с. 402—403, 405.
30 Персонаж фильма «Выборгская сторона».
31 Г о г о л ь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями.— Т. 8,
с. 221.
32 В 1951 г. Козинцев начал готовиться к постановке «Гамлета»
в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина.
33 Имеются в виду водевили, которые Н. А. Некрасов писал в начале
своей-литературной деятельности.
34 «Статейный список о государственных и политических
преступниках, находящихся в Омской крепости в каторжной работе 2-го разряда
июня 19-го дня 1850 г.» приведен в кн.: Гроссман Л. П. Жизнь
и труды Ф. М. Достоевского. М.— Л., 1935, с. 67.
35 См.: Герцен А. И. Былое и думы, т. 2, с. 416—417.
36 Мор Т. Утопия. М.—Л., 1935, с. 38.
37 См.: Т в е н М. Из «Записных книжек».— СС. М., 1961, т. 12, с. 516.
38 Имеются в виду историко-биографические фильмы конца
1940-х — начала 1950-х гг. См. об этих фильмах в «Истории
советского кино» (М., 1975, т. 3, с. 98—116).
39 См.: Маркс К. К критике гегелевской философии права.
Введение.— Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 422.
40 У. Шекспир. Король Лир. Акт 4, сц. 6.
41 Из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко» (либретто
композитора).
42 Д. Лили (1553—1606) — английский писатель, драматург.
562
Примечания
43 Л. де Гонгора-и-Арготе (1561 — 1627) —испанский поэт.
44 Цицерон М.-Т. Первая речь против Катилины.—В кн.:
Заговор Катилины. М.— Л., 1934, с. 180.
45 Речь * идет о спектакле М. Рейнхардта «Царь Эдип> по пьесе
Г. фон Гофмансталя, в котором А. Моисеи исполнял главную роль.
Его отчаянный крик в финале спектакля потрясал зрителей.
46 Приведено по памяти. В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой
теленок> (гл. 26) говорится о песнях «Стенька Разин> и «Вниз по
матушке по Волге».
47 Г о г о л ь Н. В. Страшная месть.—Т. 1, с. 275.
48 У А. С. Пушкина в «Стихах, написанных ночью во время
бессонницы> (1830): «Жизни мышья беготня...»
49 Журналы для массового читателя, выходившие в конце XIX —
начале XX в.
50 У А. А. Блока в стихотворении «На островах» (1909): «И хруст
песка и храп коня».
51 Неточно. «Лес» написан в 1870 г., А. Е. Мартынов умер в 1860 г.,
а М. С. Щепкин — в 1863 г.
52 Речь идет о задуманной Козинцевым постановке комедии
А. С. Грибоедова.
53 Использованы слова из первой надписи фильма «С. В. Д.»: «Сто
лет назад, когда в ожидании неизбежного мятежа застыли большие
дороги Российской империи, бродячим декабрьским ветром занесло
в трактир близ южного города странного постояльца».
54 См.: Дживелегов А. К. Марло.— В кн.: История английской
литературы. М.— Л., 1943, т. 1, вып. 1, с. 373.
55 Речь идет о героях пьес «Тамерлан Великий» и «Трагическая
история доктора Фауста».
56 Дневник А. С. Суворина. М.— Пг., 1923, с. 125.
57 Там же, с. 147.
58 См.: Немирович-Данченко В. И. Мысли о театре.—
В кн.: Немирович-Данченко В. И. Театральное наследство. М., 1952, т. 1,
с. 195.
59 Приведено по памяти. См.: Толстой Л. Н. Для чего люди
одурманиваются? — ПСС. М.— Л., 1933, т. 27, с. 273, 276.
60 См.: П у ш к и н А. С. (Начало статьи о русской прозе.) — Т. 9, с. 30.
61 Го гол ь Н. В. Мертвые души.— Т. 6, с. 134.
62 См. стихотворение «Последний поэт» (1835).
63 А. А. Аникст сообщил составителям, что он высказал эту мысль
в личной беседе с Козинцевым.
64 См.: Гоголь Н. В. Записки сумасшедшего.— Т. 3, с. 214
65 См.: П у ш к и н А. С. Table-talk.— Т. 9, с. 407.
66 П у ш к и н А. С. (Заметка о «Ромео и Джульетте»
Шекспира.) — Т. 8, с. 46.
67 Имеются в виду «Очерки истории русского советского драматиче-
Примечания 563
ского театра» (М., 1954, т. I). О С. М. Эйзенштейне см. с. 132—133.
68 3 о л я Э. Натурализм в театре.— ПСС, т. 45, с. 10.
69 Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина.—ПСС
т. 11, с. 261.
70 Д о ст о е в с к и й Ф. М. Дневник писателя за 1876 г.—Т. 20,
с. 43.
71 «Про это» — поэма В. Маяковского (1923).
72 «Быть или не быть» (англ.) — первая строка монолога Гамлета
(акт 3, сц. 1).
73 В спектаклях МХАТа «Мертвые души» (1932) — Собакевич
и «В людях» (1933) -— булочник Семенов.
74 Имеется в виду постановка В. Мейерхольдом «Ревизора»
Н. В. Гоголя (1926).
75 Имеется в виду запись Л. Н. Толстого в дневнике от 11 октября
1859 г.: «Сильно трагично, хотя и неверно и полно одной мысли. Этого нет
во мне» (СС. М., 1965, т. 19, с. 238).
76 См. примеч. 63.
77 А. Деннери и Г. де Пиксерекур — французские драматурги XIX в.,
авторы мелодрам.
78 Речь идет о съемках фильма «Дон Кихот».
79 Имеется в виду статья: Назаров Б. А., Гридне-
в а О. В. К вопросу об отставании драматургии и театра.— Вопр.
философии, 1956, № 5, с. 87—94.
80 Козинцев иронически перефразирует название театров малых
форм «Летучая мышь» (1908—1920, руководитель Н. Ф. Балиев)
и «Кривое зеркало» (1908—1931, руководитель до 1928 г. А. Р. Кугель).
81 Имеется в виду распространенный дореволюционный сборник
задач по арифметике А. Ф. Малинина и К. П. Буренина.
82 Ж. Вилар (р. 1912) — выдающийся французский театральный
режиссер.
83 См.: Ч е х о в А. П. Письмо А. С. Суворину от 27 октября 1888 г.—
В кн.: Чехов о литературе и искусстве, с. 187.
84 Немирович-Данченко В. И. Избр. письма. М., 1954,
с. 156.
85 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Нам не дано предугадать...»
(1869).
86 «Гамлет», акт 2, сц. 2. Пояснение к этой сцене см. в кн.:
Морозов М. М. Комментарии к пьесам Шекспира. М.— Л., 1941, с. 14.
87 Э. М. Фальконе — французский скульптор, автор памятника
Петру I в Петербурге; голову Петра лепила его ученица М. А. Колло.
88 Американский кинопродюсер, муж киноактрисы Э. Тейлор.
89 Имеется в виду операторская работа в фильме «Летят журавли».
90 Г. Фигероа — мексиканский оператор. Фильм «Рим, 11 часов»
снимал оператор О. Мартелли. Козинцев противопоставляет
экспрессивный стиль фильмов Фигероа («Мария Канделярия», «Рио Эскондидо»
564
Примечания
и др.) реалистической работе Мартелли, типичной для итальянского
неореализма.
91 См.: Толстой С. Л. Тургенев в Ясной Поляне.—Голос
минувшего, 1919, № 1—4, с. 233.
92 П у ш к и н А. С. (Наброски предисловия к «Борису
Годунову».) — Т. 9, с. 87.
93 Клоун, клоунада {англ.).
94 См.: Пушкин А. С. (Начало статьи о русской прозе.) — Т. 9,
с. 31.
95 Объединение московских художников (1910—1916), в которое
входили П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. В. Лентулов, И. И.
Машков, Р. Р. Фальк и др.
96 Козинцев вместе с приехавшим к нему в Ленинград директором
французской Синематеки А. Ланглуа посетил Русский музей и его
запасники.
97 Имеется в виду статья: А к и м о в Н. П. Трудности и перспективы
жанра.—Октябрь, 1958, № 6, с. 149—153.
98 Пиотровский А. И.— ученый, литературовед, писатель и
переводчик, работая в 1928—1937 гг. редактором, а затем и художественным
руководителем киностудии «Ленфильм», оказывал огромную помощь
сценаристам и режиссерам. Подробнее см. в т. I наст, изд., с. 85—88.
99 Тургенев И. С. Литературные и житейские воспоминания.—
ПСС, т. 14, с. 74—75.
100 «Латерна магика» — кинотеатральное представление, созданное
в ЧССР в 1958 г. и основанное на сочетании кинопроекции с живыми
актерами. Подобный прием был использован в одном из эпизодов
спектакля Козинцева и Трауберга «Женитьба» (1922).
101 Имеется в виду: Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель»
Гоголя.— В кн.: Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л., 1924, с. 171 —
195.
102 Имеется в виду дом А. И. Куприна в Гатчине.
103 Чехов А. П. Письмо А. С. Суворину от 11 марта 1882 г.—
Чехов А. П. О литературе и искусстве, с. 268.
104 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.— СС, т. 1,
с. 295.
105 В советском киноведении для этого фильма М. Антониони
принято название «Приключение».
106 Кассовый успех {англ.).
107 Козинцев смешил Эйхенбаума и своих друзей придуманным
рассказом о том, как очень дружелюбно встретившие его студенты и
преподаватели Оксфорда стали поглядывать на него как на Хлестакова, после
того как он сказал им о своих дружеских отношениях и частых встречах с
Борисом Михайловичем.
108 См.: Г о г о л ь Н. В. Несколько слов о Пушкине.— Т. 8, с. 50.
109 Гоголь Н. В. Мертвые души.—Т. 6, с. 135, 134.
1,0 Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине.— Т. 8, с. 54.
Примечания
565
m См.: Тургенев И. С. Воспоминания о Белинском.— СС. М
1956, т. 10, с. 291.
1.2 В последнем случае речь идет не о конкретном литературном
произведении, а о теме.
1.3 Из стихотворения А. А. Ахматовой «Уж я ль не знала
бессонницы» (1940). Выделено Козинцевым.
1.4 В стихотворении В. В. Маяковского «Разговор с фининспектором
о поэзии» (1926): «Приходит страшнейшая из амортизации —
амортизация сердца и души».
1.5 См.: Ч е х о в А. П. Письмо О. Л. Книппер от 2 января 1900 г.—
8 кн.: Чехов А. П. 6 литературе и искусстве, с. 350.
1.6 Из стихотворения «О слезы на глазах!..» (цикл «Стихи к Чехии»,
1939).
117 Вот в чем вопрос {англ.). У. Шекспир. «Гамлет», акт 3, сц. 1.
1.8 См.: Терри Э. История моей жизни. Л.—М., 1963, с. 113.
1.9 См.: Ш о у Б. О драме и театре. М., 1963, с. 413, 461, 480—481,
543—544 и др.
,2° Пастернак Б. Л. Заметки к переводам шекспировских
трагедий.— В кн.: Литературная Москва, с. 794—795.
121 Течение ао французском документальном кино 1960-х гг.
122 См. об этом т. 1 наст, изд., с. 63.
123 X е м и н г у э й Э. Праздник, который всегда с тобой.— Иностр.
лит., 1964, № 7, с. 115.
124 П у ш к и н А. С. Критические заметки на полях книг.— Т. 9,
с. 551.
125 Из стихотворения П. Верлена «Искусство поэзии» (1884).
126 Речь идет о задуманной Козинцевым экранизации комедии
Н. В. Гоголя.
127 Имеется в виду прием «.стоп-кадра».
128 Название картины Н. А. Ярошенко (1888).
129 На юбилейной сессии ЮНЕСКО, посвященной 400-летию со дня
рождения У. Шекспира, Козинцев сделал доклад и были показаны
отрывки из фильма «Гамлет». В АК имеется копия отчета
Козинцева о командировке в Париж, где им отмечен формальный характер
сессии.
130 См.: Туровская М. И. Гамлет и мы.—Новый мир, 1964,
№ 9, с. 226.
131 См.: Касаткина Л. И. Это меня волнует.— Лит. газ., 1962,
9 авг.
,32 Речь идет о задуманной Козинцевым экранизации пьесы
Е. Л. Шварца.
133 Речь идет о задуманной Козинцевым экранизации романа
Ф. М. Достоевского.
134 Речь идет о задуманной Козинцевым экранизации поэмы
Н. В. Гоголя.
566
Примечания
135 См. у Н. А. Некрасова: «...придет ли времечко... когда мужик не
Блюхера и не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет?>
(поэма «Кому на Руси жить хорошо», гл. «Сельская ярмарка»).
136 См. т. 1 наст, изд., с. 291.
137 Речь идет о книге Козинцева «Наш современник Вильям
Шекспир», вышедшей на английском языке в 1966 г. (Kozintsev G.
Shakespeare: Time and Conscience. New York).
138 Ироническая параллель с фильмом А. Рене «Хиросима, моя
любовь».
139 Твардовский А. Т. Речь на конгрессе Европейского
сообщества писателей.— Иностр. лит., 1966, № 1, с. 247.
140 Сервантес М. Дон Кихот Ламанческий. М.—Л., 1932,
т. 2, с. 738. Выделено Козинцевым.
141 «Увеличение» (англ.) —фильм М. Антониони.
142 См.: Эйзенштейн С. М. «Одолжайтесь!» — В кн.: Избр.
произведения, т. 2, с. 76—79.
143 Имеется в виду уход Л. Н. Толстого из Ясной Поляны.
144 Площадь в Лондоне, на которой в конце 1960-х гг. собирались
хиппи — молодежь, протестовавшая против буржуазных норм и
установлений.
146 Имеется в виду статья: Турбин В. Н. Гамлет сегодня
и завтра.— Молодая гвардия, 1964, № 9, с. 302—313.
UG Чехов А. П. Письмо А. С. Суворину от 9 декабря 1890 г.—
ПСС. М., 1949, т. 15, с. 131; письмо А. Н. Плещееву от 4 октября 1888 г.—
Там же, т. 14, с. 177.
147 Д остоевски й Ф. М. Бесы.—Т. 13, с. 384.
148 Там же, с. 264.
149 Приведено по памяти. См. в статье: Кон И. Люди и роли.—
Новый мир, 1970, № 12, с. 188.
150 Ценность монтажа скачками (англ.).
151 См. акт 4, сц. 6.
152 Чехов А. П. Письма А. Н. Плещееву от 15 сентября и от
13 ноября 1888 г.— В кн.: Чехов А. П. О литературе и искусстве, с. 176,
195.
153 Герои романа Ю. К. Олеши «Зависть» (1927).
154 См. об этом т. 2 наст, изд., с. 225.
155 Речь идет о задуманной Козинцевым экранизации романа
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
156 Имеется в виду серия английских фильмов разных режиссеров по
романам И. Флеминга о похождениях Джеймса Бонда (агента 007).
157 Ф. Блайберг — второй в мире человек, которому была сделана
пересадка сердца хирургом К. Барнардом (3 января 1968 г.).
158 См.: Козинцев Г. М. Отрывки из книги о киноактере.—
Искусство кино, 1938, № 1, с. 49—59.
159 Конец недели (англ.).
Примечания
567
160 Ve г done M., Amengual В. La Feks. Lion, 1970.
161 He добро во В. В. ФЭКС. М.—Л., 1928.
162 Проект Памятника III Интернационала (1919), принадлежащий
В. Е. Татлину; не осуществленный, он сыграл важную роль в развитии
пространственных искусств в 1920-е гг. (См. об этом т. 1, с. 46—48 наст,
изд.)
163 См.: Паскаль Б. Мысли.— В кн.: Ларошфуко Ф. де. Максимы.
Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. де. Характеры. М., 1974, с. 123.
164 Hommage (франц.) —букв, почтение, дань уважения. Здесь —
мероприятие в чью-то честь.
165 При завершении полета на космическом корабле «Союз-11»
погибли космонавты Г. Т. Добровольский, В. Н. Волков, В. И. Пацаев.
166 По аналогии с «angry young men» (сердитые молодые люди —
англ.).
167 Козинцев рассказал А. Куросаве о маске театра Но, висящей в его
кабинете (см. с. 15 этого тома).
168 «Шанель», первая коллекция без Мадмуазель. Мадмуазель
больше нет. Да здравствует Мадмуазель! (франц.). Имеется в виду
Габриэль Шанель, основательница и глава фирмы «Шанель»,
скончавшаяся в 1971 г. Слова Козинцева — ироническая перефразировка
выражения «Король умер. Да здравствует король!».
169 Герой фильма «Путевка в жизнь» (1931), беспризорник.
170 См.: Брюсов В. Я. «Гамлет» в Московском Художественном
театре.— Ежегодник императорских театров, 1912, вып. 2, с. 43.
171 См.: Воспоминания о Марксе. М., 1940, с. 161 — 162.
172 См.: К р э г Г. Искусство театра, с. 23.
173 Речь идет о книге «Пространство трагедии».
174 «Худанит» (от англ. «who done it?» — кто сделал это?) — одно из
обозначений детектива; thriller (англ.) — произведение с острым,
захватывающим и вызывающим ужас сюжетом; suspense (англ.) —
прием нагнетания беспокойного, напряженного состояния у
кинозрителей.
175 Из стихотворения А. А. Ахматовой «Лондонцам» (1940).
176 Автор романов, по которым поставлены эти фильмы Ф. Трюф-
фо,— А.-П. Роше.
177 Имеется в виду фильм по пьесе А. П. Чехова.
178 Перед войной (франц.).
179 Испанский матадор, друг Э. Хемингуэя. См. о нем: X э м и н-
г у э й Э. Опасное лето.— Иностр. лит., 1961, № 2.
180 О Е. Е. Енее см. т. 1 наст, изд., с. 78.
181 Из стихотворения А. А. Ахматовой «И, в памяти черной пошарив,
найдешь...» (1960<?>, цикл «Три стихотворения»).
182 На Шекспировской конференции в Веймаре состоялась премьера
«Короля Лира», дублированного на немецкий язык. 21 апреля, после
просмотра, Козинцев сделал в рабочей тетради тезисную запись: «Глава:
568-
Примечання
«А что потом?» Дубляж и окрестности. Необходимость международной
конвенции. Белесая копия «Гамлета»: призрак в 12 часов дня». Из этой
и некоторых других записей видно, что Козинцев собирался написать
новые главы к книге «Пространство трагедии», одну из которых
предполагал посвятить проблеме судьбы фильма после завершения
работы над ним режиссера.
183 В это время в журнале «Искусство кино» публиковались главы
«Пространства трагедии».
184 Конференция по изучению Фабрики эксцентрического актера
(итал.).
180 На конференции цитировался сб. «Эксцентризм» (Пг., 1922), где
в сообщении о диспуте 5 декабря 1921 г. сказано: «Мы подаем четыре
свистка». В архиве Козинцева сохранился полный текст «Манифеста
эксцентрического театра», в котором кроме «свистков» актеру,
режиссеру, драматургу и художнику был еще пятый: «Теоретику — по Козьме
Пруткову: «заткни свой фонтан». «Реждек» — см. т. 1 наст, изд., с. 50.
186 См.: т. 3 наст, изд., с. 170.
187 С 8 по 13 октября 1972 г. Козинцев принимал участие в работе
Первого всесоюзного шекспировского симпозиума. Сборник материалов
симпозиума (Грузинская шекспириана. Вып. 4. Тбилиси, 1975) посвящен
памяти Г. М. Козинцева.
188 В. В. Васильев — дублер Н. К- Черкасова в фильме «Дон Кихот».
См. о нем. т. 1 наст, изд., с. 262.
189 См, предисловие к поэме А. А. Блока «Возмездие» (1919).
190 См. там же.
191 Из стихотворения С. А. Есенина «Сорокоуст» (1920).
192 См.: С г a i g E. G. Index to the Story of My Days, p. 8.
193 Неологизм В. В. Хлебникова. См.: Лейте с А. Хлебников —
каким он был.— Новый мир, 1973, № 1, с. 226.
194 Там же.
195 Имеется в виду стихотворный фельетон Д. Бедного (Известия,
1930, 4 апр.).
196 См. в этом томе с. 528—529.
197 Действие фильма «Кабаре» происходит в Германии в начале
1930-х гг. Исполнительница главной роли Л. Минелли (р. 1946)
причесана под популярную немецкую киноактрису Л. де Путти
(1901 — 1931). В. Герт — немецкая эстрадная танцовщица 1930-х гг.,
которую Козинцев видел во время ее гастролей в Ленинграде (1928).
М. Дитрих (р. 1904) — известная немецкая актриса 1920-х — начала
1930-х гг. (позже работала в США).
198 Козинцев своими словами излагает мысль Б. Л. Пастернака из
его письма от 4 марта 1954 г. См.: Пастернак Б. Л.,
Козинцев Г. М. Письма о «Гамлете».— Вопр. лит., 1975, № 1, с. 219.
199 Имеется в виду концепция Я. Котта, изложенная в кн.:
К о 11 J. Shakespeare our Contemporary.
200 Остальное — молчание (англ.).
Примечания
569
201 Из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца
с поэтом» (1824) и Ф. И. Тютчева «Silentium» (1830).
202 См. стихотворение В. В. Маяковского «Разговор с
фининспектором о поэзии» (1926).
203 Этим названием романа Ф. Анстея Козинцев условно озаглавил
начатую в 1971 г. (см. в этом томе, с. 515—516) работу о концепциях и
интерпретациях Шекспира.
204 А н и к с т А. А. Быть или не быть у нас Гамлету.— Театр, 1955,
№ 3, с. 62-81.
205 Беньяш Р. М. Творческие искания.—Веч. Ленинград, 1954,
6 июля.
206 Л. Е. Пинский прислал Козинцеву рукопись своей работы
«Магистральный сюжет комедий Шекспира». Цит. по рукописи.
207 Гоголь Н. В. Портрет.—Т. 3, с. 112.
Указатель имен
Аверченко А. Т. 65, 155
Адомайтис Р. В. 193, 248, 249
Айвазовский И. К. 299
Айседора — см. Дункан А.
Акимов Н. П. 157, 276, 420, 423, 564
Алешин С. И. 436
Андерсен Х.-К. 470
Аникст А. А. 389, 398, 544, 562, 569
Анненский И. Ф. 237, 290, 557
Анстей Ф. 331, 569
Антониони М. 431, 432, 456, 458, 459,
463, 465, 470, 564, 565
Антуан А. 155, 218
Аполлинер Г. 218, 223
Аппиа А. 150
Арагон Л. 90
Арто А. 218, 220, 223—226, 229
Астангов М. Ф. 439
Аташева П. М. 34, 35
Ахматова (Горенко) А. А. 8, 68, 297,
323, 420, 476, 520, 565, 567
Бабанова М. И. 99
Бабель И. Э. 261, 418—420, 438, 556
Бабле Д. 149
Багрицкий Э. Г. 394
Бакст (Розенберг) Л. С. 505
Бакунин М. А. 348
Балиев Н. Ф. 402, 563
Балтрушайтис А. А. 242
Бальзак О. де 91, 358, 360, 365, 398,
399, 552
Банионис Д. Ю. 65, 82, 249, 556
Баратынский Е. А. 131, 389
Барнард К. 566
Барримор (Блайт) Дж. 452
Барро Ж.-Л. 220
Баталов А. В. 468
Бах И.-С. 159, 166
Бахтин М. М. 273, 296, 556, 557
Бедный Демьян (Придворов Е. А.)
100, 537, 552, 568
Беккет С. 30, 31, 272, 278, 292, 298,
313, 329, 518, 541, 557
Белевцева Н. А. 111, 553
Белинский В. Г. 241, 299, 346—355,
357, 358, 381, 382, 391, 393—395,
430, 556, 560, 563—565
Белый Андрей (Бугаев Б. Н.) 127, 276
Бельмондо Ж.-П. 488
Бенедиктов В. Г. 348, 354
Беньяш Р. М. 569
Бербедж Р. 436, 541
Берггольц О. Ф. 400
Бергман И. 284, 413, 457, 480
Берланга Л. 173
Бестужев (Марлинский) А. А. 354,
367, 388
Блайберг Ф. 498, 566
Блейк У. 71
Блок А. А. 17, 36, 48, 49, 64, 73, 89, 106,
107, 128, 131, 136, 148, 223, 246, 301
362, 377, 378, 380, 420, 458, 470, 482,
509, 527, 552, 553, 556, 557, 562, 568
Блюхер Г. Л. 565
Боборыкин П. Д. 406
Бодлер Ш. 219, 223, 535
Боклевский П. М. 464
Бонапарт Л. 551
Борис Годунов 186
Борис Леонидович — см.
Пастернак Б. Л.
Борис Михайлович — см.
Эйхенбаум Б. М.
Босх И. 200, 422, 479
Боткин В. П. 556
Браун К. 550
Брейгель Питер Старший 200, 266,
422
Брессон Р. 478
Брехт Б. 102, 217, 223, 229, 278, 432,
542, 544, 552
Брик О. М. 190
Брук П. 29—33, 48, 109, 119, 121,
159, 224, 225, 226, 229, 250, 278, 279,
293, 298, 301, 309, 432, 475, 550,
551
Бруно Дж. 390
Брэдбрук М. 330
Брюсов В. Я. 515, 516, 567
Булгаков М. А. 479, 492
Булгарии Ф. В. 348
Бунин И. А. 47, 52, 92, 284, 551, 552,
557
Буренин К. П. 403, 563
Бурлюк Д. Д. 400
Бучма А. М. 38
Буш Э. 54, 507
Бэкон Ф. 352
Бюнюзль Л. 173, 430, 441, 520
Указатель имен
571
Валентино Р. 488
Ван Гог В. 21
Ванунц Э. Г. 260, 325
Васильев В. В. 314, 527, 568
Вахтангов Е. Б. 113, 151, 223, 554
Вейгель Е. 552
Вейман 525
Вергилий М.-П. 390
Верлен П. 459, 565
Вермеер Дельфтский Я. 411
Вертов Дзига (Кауфман Д. А.) 196,
528, 533
Веселовский А. Н. 557
Веселовский С. Б. 36
Вийон Ф. 517
Вилар Ж. 405, 563
Вине Р. 96
Виноградов А. К. 552
Вирсаладзе С. Б. 9, 66, 67, 77, 81, 90,
120, 122, 186,206,210,211, 322,508*
Влади М. (Полякова М. В.) 474
Вокач А. А. 65, 260
Волков В. Н. 567
Волков Н. Д. 552
Волчек Г. Б. 65. 294. 329
Вольтер (Аруэ М.-Ф.) 85, 127, 553
Всеволод Эмильевич — см.
Мейерхольд В. Э.
Выспяньский С. 146
Вьен Ж. де 294
Вяземский П. А. 297, 459
Ганс А. 219
Гарбо Г. 434
Гарднер А. 522
Гарин Э. П. 108
Гариссон (Псиландер В.) 457
Гарсиа Лорка Ф. 220, 221, 555
Гартфильд — см. Хартфилд Д.
Гегель Г. 60, 173, 241, 348, 350
Гедеонов С. А. 552
Гейне Г. 323, 350, 379, 560
Герасимов М. М. 37, 551
Гердт 3. Е. 322, 325, 558
Герман Ю. П. 496
Герт В. 539, 568
Герцен А. И. 351, 362, 366, 382, 430,
501, 560, 561
Гете И.-В. 188, 227, 228, 394, 430, 556
Гиш Л. 304, 523
Гладков А. К. 559
Глинка М. И. 391
Гоголь Н. В. 22, 31, 49, 52, 73, 98.
100—102, 107, 112, 125, 160, 189,
194—199, 253, 268, 299, 301, 332.
348, 350, 352—354, 356—361, 363,
365, 367, 376, 378, 382, 389, 391,
395, 398, 402, 410, 419, 421, 422, 429,
430, 433, 435, 436, 442, 460, 466,
467, 469, 475, 486, 509, 520, 522.
523, 530, 534, 546, 552, 555, 559—
565, 569
Годар Ж.-Л. 277, 470, 487, 500, 501
Гойя Ф. 55, 301. 490
Голиншед (Холиншед) Р. 133, 447
Головин А. Я. 105
Головня А. Д. 415
Гольбейн Ганс Младший 55
Гомер 351
Гонгора-и-Арготе Л. де 370, 562
Гончарова Н. С. 419, 505
Гор Г. С. 304
Горький М. 173, 359, 554
Горюнов В. В. 37
Гофман Э.-Т. 105
Гофмансталь Г. фон 562
Гофмейстер А. 557
Гофмейстер 283, 557
Гоцци К. 105
Грибоедов А. С. 382, 447, 562
Гриднева О. В. 563
Гримальди Дж. 80
Грин Н. 224
Гринько Н. Г. 527
Гриффит Д.-У. 147, 168, 304, 412, 430,
509, 510, 528
Грицюс Й. А. 66, 214, 239, 242, 248
Гроссман Л. П. 561
Грюневальд М.— см. Нитхардт М.
Гугенгейм С. 493
Гуссерль Э. 218
Гюго В. 188, 281, 310, 362, 365, 377,
379, 535, 542, 557, 558
Д'Аннунцио Г. 112
Дали С. 422
Даль В. И. 358, 501
Даль О. И. 247
Данилов С. С. 195, 555
Данте А. 200, 290, 339, 557
Дантон Ж.-Ж. 405
Дебюро Ж.-Г. 360, 561
.572
Указатель имен
.Делакруа Э. 542
Де Мена П.— см. Мена П. де
Де Милль С. 296
Деннери А.-Ф. 399, 563
Державин Г. Р. 131
Державин К. Н. 553
. Де Сантис Д. 404
Деффан дю 553
Дживелегоэ А. К. 383, 562
.Джойс Дж. 352, 420, 441, 444
Джонсон Б. 225
Дзеффирелли Ф. 89, 475
Ди Грассо Д. 261, 556
Диккенс Ч. 360, 361, 557
Диоген Синопский 311
Дисней У. 557
Дитрих М. (Лош М.-М. фон) 539, 568
Дмитриев В. В. 254
Дмитрий Дмитриевич — см.
Шостакович Д. Д.
Днепров В. Д. 557
Добровольский Г. Г. 567
Довженко А. П. 88, 243, 402, 415, 419,
445, 480, 537
Домингин Х.-Л. 522
Домье О. 73, 336, 413
Дорошевич В. М. 158, 554
Достоевский Ф. М. 16, 17, 20—22, 50—
52, 56, 63, 73, 82, 94—96, 98, 102,
106, 116, 124, 160, 192, 198, 201,
222, 270, 273, 290, 298, 299, 332,
. 346, 350, 364, 365, 393, 398, 416, 421,
462, 472, 475, 486, 487, 490, 491, 494,
495, 505, 507, 509, 511. 523, 529,
550—552, 555—557, 561, 563, 565,
566
Драбкина Е. Я. 438
Дрейер К.-Т. 33, 219, 268, 288, 520
Дрюон М. 289
Дудинская Н. М. 337
Дузе Э. 148
Дункан А. 141, 162
Дюма А. 365, 367, 379
Дюр Н. О. 112
Дюси Ж.-Ф. 144
Дягилев С. .П. 505
Евгений Евгеньевич — см. Еней Е. Е.
Еврипид 118
Егоров В. Е. 142, 143, 151
Елизавета I Тюдор 186
Еней Е. Е. 90, 102, 119, 120, 122, 137,
138, 186, 524, 567
Есенин С. А. 68, 169, 455, 528, 568
Жанен Ж. 561
Жаров М. И. 443
Жарри А. 218
Жемье (Тоннер) Ф. 218
Жене Ж. 225
Жерико Т. 555
Жуковский В. А. 393
Заболоцкий Н. А. 439, 476
Зайчиков В. Ф. 99
Зенкевич Л. А. 131, 553
Золя Э. 272, 361, 393, 413, 459, 556,
562
Зощенко М. М. 314
Ибсен Г. 384
Иван IV Грозный 35, 36, 551
Иван III 213
Иванов В. И. 506
Ильинский И. В. 99, 554
Ильф и Петров (Файнзильберг И. А.
и Катаев Е. П.) 371, 562
Инна Григорьевна — см. Мочало-
ва И. Г.
Ионеско Э. 278
Иоселиани О. Д. 535
Иосиф Абгарович — см. Орбели И. А.
Ирвинг Г. (Бродрибб Д.-Г.) 145, 163,
452, 553
Итикава С. 12
Кавелин К. Д. 349
Казираги У. 479
Какабадзе Д. Н. 527
Камю А. 22, 296, 305, 464, 507
Кандинский В. В. 136
Каратыгин В. А. 379
Карпов Е. П. 482
Касаткина Л. И. 461, 565
Катилина Л.-С. 561
Кауфман М. А. 196
Кафка Ф. 41, 167, 296, 441, 464, 469,
551
Качалов В. И. 153, 156, 158, 159, 162,
163, 553, 554
Кваренги Д. 346
Кеннеди Д. 3Q4
Указатель имен
573
Кеннеди Р. 304
Кин 280, 557
Кин Э. 452
Кинг М.-Л. 133, 291, 304
Киреевский И. В. 26, 363, 366, 551. 561
Китон Б. 108
Киркегор С— см. Кьеркегор С.
Клейман Н. И. 35
Клер (Шомет) Р. 219
Кнебель М. О. 113, 553
Книппер-Чехова О. Л. 162, 554, 565
Кобо А. 21, 22. 551
Козлов Л. К. 35
Кокто Ж. 405
Колло М. 563
Кольридж С. 188
Кольцов А. В. 348
Комиссаржевская В. Ф. 48, 49, 148,
223. 551
Кон И. С. 566
Константин Сергеевич—см.
Станиславский К. С.
Кончаловский П. П. 564
Коонен А. Г. 505
Корбюзье — см. Ле Корбюзье
Короленко В. Г. 500
Корчак Я. (Гольдшмидт Г.) 317, 558
Котт Я. 146, 272. 278, 284, 293, 329, 568
Кох И. Э. 244
Кроммелинк Ф. 99
Кронеберг А. И. 437
КрэгГ.31,91, 141, 142, 143, 145, 147—
160, 163-166. 168, 178, 180, 217,
219. 230, 237, 258, 280, 528, 542, 543,
544, 553, 554, 557, 567
Крыжицкий Г. К. 526
Крылов В. А. 384
Кугель А. Р. 563
Кукольник Н. В. 101, 354. 391
Куприн А. В. 564
Куприн А. И. 426, 564
Курбе Г. 389
Куросава А. 16—21. 62. 216. 513, 567
Кьеркегор С. 30, 284, 551
Лабрюйер Ж. де 567
Ланглуа А. 419, 430, 507, 564
Ларошфуко Ф. де 567
Ле Корбюзье (Жаннере Ш.-Э.) 237,
412
Левитан И. И. 376, 454
Лев Николаевич — см. Толстой Л.'Н.
Леже Ф. 458
Лейтес А. М. 533. 568
Ленин В. И. 173, 349, 358, 554. 560, 561
Лентулов А. В. 419, 564
Леонардо да Винчи 138, 238, 339, 553
Леонидов (Вольфензон) Л. М. 392
Леонов Е. П. 494, 527
Лермонтов М. Ю. 183, 287, 347, 348,
354, 357. 382. 388, 391, 398, 405, 432,
561
Лили Д. 370, 561
Линч К- 558
Лихачев Д. С. 505
Л. Н.— см. Толстой Л. Н.
Лозинский М. Л. 131, 437
Ломоносов М. В. 114, 553
Лонги П. 105
Лотреамон (Дюкас И.) 219
Лоутон Ч. 434. 496
Лукреций 390
Луначарский А. В. 34, 155, 551
Лэм Ч. 235
Люмьер братья О. и Л. 533
Лютер М. 558
Мазина Д. 267
Мак Сеннетт — см. Сеннетт М.
Малаветас Д. 558
Малинин А. Ф. 403, 563
Мальковати Ф. 196
Мандельштам О. Э. 48. 127. 290,'323,
476, 551. 557
Маньяни А. 488, 496
Маргесон Д. М. 558
Марке А. 389
Маркс К. 55, 173, 178. 350, 368, 395,
551. 554, 561, 567
Маркс К. и Энгельс Ф. 551, 554, 561
Марлинский А.— см. Бестужев А. А*.
Марло К. 383, 384, 562
Марсо М. 71
Мартелли О. 563
Мартен М. 481
Мартинсон С. А. 112
Мартынов А. Е. 380, 562
Мартынов Л. Н. 400
Маршак С. Я. 87, 500, 552
Матисс А. 344
Маханькова Е. А. 256
Машков И. И. 419, 564
574
Указатель имен
Маяковский В. В. 68, ПО, 131, 169,
209, 292, 300, 313, 323, 355, 357,
359—363, 374, 400, 407, 425, 455,
458, 490, 528, 537, 557, 563, 565, 569
Межинский С. Б. 343
Мейерхольд В. Э. 12, 31, 70, 73, 99—
106, 108, 109, 111, 112, 114—118,
142, 152, 155, 157, 168, 170, 217, 219,
223, 228, 229, 402, 444, 465, 490, 495,
539, 545, 550, 552—554, 556, 559, 563
Мел вилл Г. 469
Мельес Ж. 422
Мена П. де 267
Мерзин Л. Р. 212, 247, 248
Микеланджело Буонарроти 71, 267,
339
Милвард П. 558
Миллер А. 417
Минелли Л. 539, 568
Мифунэ Т. 16, 18, 19, 215, 305
Михаил Леонидович — см.
Лозинский М. Л.
Михоэлс (Вовси) С. М. 130, 142, 175,
289, 343, 553
Мичурин И. В. 301
Моисеи А. 371, 562
Мольер (Поклен Ж.-Б.) 393
Монтень М. де 146, 334, 560
Монферран А. 212, 213
Мопассан Г. де 413, 419
Мор Т. 366, 561
Моравиа (Пинкерле) А. 275
Моралес Л. де 426
Моро Ж. 474
Моровиц Ч. 157, 224, 515, 516, 542
Морозов М. М. 544, 563
Москвин А. Н. 89, 102, 414, 531
Мочалов П. С. 159, 346, 381, 560
Мочалова Й. Г. 65, 69, 84
Мусоргский М. П. 367
Надсон С. Я. 444
Назаров Б. А. 563
Найт Д.-У. 32, 104, 170
Натали — см. Пушкина Н. Н.
Наумова А. О. 555
Недоброво В. В. 502
Некрасов Н. А. 73, 348, 354, 365, 394,
561, 565
Немирович-Данченко Вл. И. 153, 384,
406, 562, 563
Нитусардт М. 94, 493
Ницше Ф. 218, 269
Оксман Ю. Г. 195
Олеша Ю. К. 442, 564
Оливье Л. 279, 452
Орбели И. А. 372
Ороско Х.-К. 428
Островский А. Н. 34,103,380, 396, 551
Отан-Лара К. 218
Оффенбах (Эбершт) Ж. 280, 359, 561
Оэ К. 22, 551
Павлов И. П. 87, 275, 557
Павон П. 220
Паганини Н. 227
Пазолини П.-П. 274, 556
Папанов А. Д. 494
Паскаль Б. 504, 566
Пастернак Б. Л. 26, 49, 59, 60, 73, 86,
131, 183, 212, 258, 264, 280, 291. 292,
452, 540, 551, 552, 555, 557, 565, 568
Паустовский К. Г. 500
Панаев В. И. 568
Петен А. 516
Петр I 103, 534, 563
Петренко А. В. 65
Пиаф (Гасьен) Э. 88
Пикассо П. 24, 28, 55, 88, 289, 407, 413,
421, 439, 475, 476, 490, 537
Пиксерекур Ш. 399, 563
Пинский Л. Е. 60, 61, 545, 551, 569
Пиотровский А. И. 421, 564
Пиранделло Л. 278
Писарев Д. И. 355, 429, 560
Питоев Ж. 223
Плещеев А. Н. 491, 566
Плотников Н. С. 483, 494
По Э. 226
Погодин М. П. 348, 357, 556
Полевой Н. А. 101
Попов А. А. 294
Попова Л. С. 99
Прокофьев С. С. 35
Протазанов Я. А. 468
Пруст М. 441, 444
Прутков Козьма (Толстой А. К., Жем-
чужниковы А. М. и В. М.) 568
Пудовкин В. И. 223, 402, 415, 445
Путти Л. де 539, 568
Пушкин А. С. 52, 76, 111, 159, 160, 188, .
Указатель имен
575
223. 226, 298, 301. 332, 348, 351, 352.
354—357, 380, 382, 385, 389, 391,
393, 394, 400, 402, 407, 409, 418,429,
430,433,459. 479. 510, 519, 522, 534.
552—554, 556—560, 562—565, 568
Пушкина Н. Н. 111
Пырьев И. А. 468
Рабле Ф. 311
Радзинь Э. Я. 65, 294, 305, 329
Радищев А. Н. 355, 560
Райзман Ю. Я. 469, 482
Райкин А. И. 559
Раневская Ф. Г. 494
Рассел Б. 487
Растрелли Б.-Ф. 346
Рашевская Н. С. 443
Рейнхардт М. 562
Рембо А. 219, 223, 537
Рембрандт ван Рейн 257, 511
Ренар Ж. 535
Рене А. 32. 432, 441, 465, 478. 498, 566
Ривера Д. 428
Римский-Корсаков Н. А. 561
Ричардсон Т. 157, 445
Роб-Грийе А. 441
Роден О. 294
Розенберг М. 190
Ромм М. И. 390
Росси К.-И. 346, 416
Роше А. 567
Рубакин Н. А. 560
Рубенс П.-П. 411
Руо Ж. 21, 273
Рылеев К. Ф. 297
Рэли (Ролли) У. 313
Садовский (Ермилов) П. М. 380
Салтыков-Щедрин М. Е. 364, 365
Сапунов Н. Н. 106, 461
Сартр Ж.-П. 22, 146, 379, 438
Светлов М. А. 51
Свилова Е. И. 196
Свифт Д. 360
Сейе М. 224
Семенов Н. Н. 300, 557
Семирадский Г. И. 274, 556
Сенека Л.-А. 560
Сеннетт Мак (Синнотт М.) 108, 177,
365, 425, 457, 465, 509, 523
Сервантес Сааведра М. де 198, 360,
370, 381, 391, 417, 488, 489, 566
Сергей Михайлович — см.
Эйзенштейн С. М.
Сергей Сергеевич — см.
Прокофьев С. С.
Сикейрос Д. 427, 428
Симонов Н. К. 379
Синдо К. 512
Скоробогатов К. В. 443
Скотт В. 61
Скофилд П. 30, 31, 289, 301
Слуцкий Б. А. 247, 317
Случевский К. К. 560
Смирнов В. 551
Смоктуновский И. М. 443, 446, 447,
451, 461
Солико Багратович — см. Вирса-
ладзе С. Б.
Соломон Михайлович — см. Ми-
хоэлс С. М.
Сосницкий И. И. 100
Софокл 118
Сперджон К. 176
Станиславский К. С. 20, 118, 141, 142,
147—160, 217, 230, 237, 347, 362,
374, 402, 429, 434, 454, 553, 554. 559,
560, 564
Станкевич Н. В. 348
Стейнбек Д. 430
Стендаль (Бейль А.-М.) 89, 224, 229,
357, 365, 405
Стоппард Т. 157
Стравинский И. Ф. 439, 475, 476
Страхов Н. Н. 555
Стрепетова П. А. 380
Стриженов О. А. 461
Суворин А. С. 384, 562—564, 566
Сулержицкий Л. А. 142, 149, 151, 154,
158, 553, 554
Сухаревская Л. П. 494
Танашев К. 234, 235
Тарковский Аре. А. 318
Тарханов (Москвин) М. М. 54, 343,
395, 434, 496, 531
Татлин В. Е. 31, 474, 503, 567
Твардовский А. Т. 400, 469, 479, 566
Твен Марк (Клеменс С.-Л.) 366, 482,
561
Тейлор Э. 414, 563
Терри Э. 145, 447, 553, 565
576
Указатель имен
Тешигахара С. 22, 23, 24
Тешигахара X. 21, 22, 24
Тодд М. 414
Толстой Л. Н. 47, 54, 62, 64, 69, 70, 75,
76, 111, 158, 160, 173, 174, 183, 284,
351, 355, 358, 360, 363, 365, 374,
384—389, 397, 399, 401, 405, 421,
432, 433, 435, 436, 442, 455, 473, 474,
491, 500, 519, 522, 526, 551, 554, 555,
557, 561—563, 566
Толстой С. Л. 173, 554, 564
Тблубеев Ю. В. 443, 494
Трауберг Л. 3. 87, 196, 564
Трюффо Ф. 319, 521, 567
Туллий — см. Цицерон М.-Т.
Тулуз-Лотрек (Монфа) А.-М. 21
Тур (братья) (Тубельский Л. Д. и
Рыжей П. Л.) 414
Турбин В. Н. 566
Тургенев И. С. 101, 348, 350, 384, 394,
- 4*5, 422, 432, 433, 438, 454, 498, 503,
552, 560, 564
'Туровская М. И. 565
Тынянов Ю. Н. 38, 51, 195, 196, 432,
435, 439, 447, 476, 551
Тышлер А. Г. 151
Тьеполо Дж. 196
Тютчев Ф. И. 183, 314, 563, 569
Уистлер Д. 560
Улнтко В. С. 186
Урусевский С. П. 414
Уэбстер Д. 38, 226, 231
Уэллс О. 32, 62, 89, 167, 168, 474, 475
Фальк Р. Р. 476, 564
Фальконе Э.-М. 409, 563
Фейад Л. 310, 457, 465, 509, 523
Фейербах Л. 348
Феллини Ф. 208, 441, 457, 460, 470,
479, 481, 498, 520
Феофан Грек 267
Ф«рнандес Э. 477
Фет (Шеншин) А. А. 433
Фигероа Г. 414, 563
Фихте И.-Г. 348
^Флеминг И.-Л. 566
Фонда Г. 458
•Фредерик-Леметр А. 343, 379
- Фрейд 3. 440
Фрейндлих А. Б. 494
Хабинихт Р. 329
Хартфилд Д. (Херцфельде X.) 542
Хемингуэй Э. 24, 275, 411, 427, 459,
565, 567
Хичкок А. 532
Хлебников В: В.304, 426,458, 533, 534,
559, 568
Хмара Г. М. 96
Хмелев Н. П. 434
Хогарт У. 336
Холл П. 224, 475
Хомяков А. С. 551
Хуни X. де 221
Цветаева М. И. 65, 236, 299, 443, 506,
552, 556
Цицерон М.-Т. 370, 381, 561
Чайковский П. И. 537, 553
Чаплин Ч.-С. 54, 88, 108, Ю9, 178, 276;
303, 320, 365, 401, 412, 425, 442, 458,
481, 502, 520, 552, 555
Черкасов Н. К. 37, 314, 568
Честертон Г.-К. 308, 360, 557
Чехов Ал. П. 555
Чехов А. П. 24, 28, 158, 160, 166, 168,
189, 253, 275, 292, 321, 350, 352,
360—362, 374, 376, 384, 391, 396;
399, 405\ 429, 430, 435, 441, 442, 453,
454, 483, 485, 491, 500, 518, 519, 526; •
551, 554, 555, 563—566
Чехов М. А. 54, 113, 157, 343, 434; 496
Чирков Б. П. 443, 531
Чуковский К. И. 500
Чушкин Н. Н. 153, 553, 554
Шагал М. 3. 93, 419
Шаляпин Ф. И. 362
Шамиссо А. 25, 551
Шанель Г. 567
Шапиро И. С. 67, 240, 246, 248
Шварц Е. Л. 77, 438, 441, 447, 450; 461/
500, 565
Шверубович В. В. 153, 554
Шевырев С. П. 357
Шейнин Л. Р. 414
Шекспир У. 18, 20, 22, 29, 32, 38—40,
42, 44, 46—49, 52, 59—61, 63, 66, 68,
69, 73—75, 83, 89, 98, 99, 103, 104,
109, 125, 127, 129, 131, 132, 139, 142,
144—146, 148, 157—160, 163, 168,
174, 180, 181, 183, 188, 190—192,
Указатель имен
577
198, 200, 202, 203, 215, 217, 226, 227,
229—231, 235, 246, 247, 258, 272,
274—276, 279—281, 288, 290, 292,
295—302, 304, 306, 308, 310, 311,
313, 315, 319—322, 324, 328, 330,
332, 336, 339, 343, 348, 350—352,
355, 360, 362, 363, 365, 370, 372—
375, 381, 384, 389—391, 394 — 398,
401,404,408,415,417,418, 422, 429,
430, 434, 436, 437, 446, 447, 452, 456,
461, 473—475, 479, 486, 489, 490,
492, 494, 510, 516—518, 520, 523,
526, 541-544, 556—563, 565, 569
Шелли П.-Б. 224
Шеллинг Ф.-В. 348
ЛИенберг А. 268
ОИендрнкова В. К. 248
Шиллер Ф. 228
Шкваркин В. В. 396
Шкловский В. Б. 104, 196,502,519,552 %
Шолохов М. А. 399
Шостак М. С. 90
Шостакович Д. Д. 59, 66, 81, 211, 212,
242, 251, 253—258, 260, 261, 264,
265, 289, 314, 323, 374, 394, 400,470,
490. 505, 525, 531, 558
Шоу Д.-Б. 452, 565
Штрогейм Э. 130, 131, 148, 168, 430,
434
Шуб Э. И. 528
Щедрин — см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Щепкин М. С. 380, 385, 562
Эдуард 111 294
«Авантюра» — см. «Приключение»
«А если это любовь?», реж. Ю. Я.
Райзман <1961> 469
«Александр Невский», реж. С. М.
Эйзенштейн (1938) 35, 468
«Алчность», реж. Э. Штрогейм (США,
1924) 130, 148
«Алфавиль», реж. Ж.-Л. Годар
(Франция, 1965) 270, 500
«Анна Каренина», реж. К. Браун
(США, 1935) 17, 550
Эйзен — см. Эйзенштейн С. М.
Эйзенштейн С. М. 12, 16, 23, 33—38,
80, 95, 115, 117, 148, 149, 168, 178,
182, 185, 195, 196, 208, 221 — 223,
225, 330, 388, 393, 402, 412, 424, 432,
433, 439, 481, 494, 501, 502. 510, 528,
533, 545, 550, 553, 555, 556, 562, 565
Эйнштейн А. 276
Эйхенбаум Б. М. 47, 189, 194, 347, 423,
424, 432, 433, 564
Эккерман И.-П. 227, 556
Эль Греко (Теотокопули Д.) 222, 426,
523
Энгельс Ф. 380, 554
Энджер К. 224
Энсор Д. 412, 461
Эренбург И. Г. 276, 297, 313, 348, 412;
432, 558
Эрмлер Ф. М. 438, 457
Эсхил 293, 557
Юдин С. С. 501
Юля — см. Райзман Ю. Я.
Юрий (Юри) Евгеньевич — см.
Ярвет Ю. Е.
Юрий Николаевич — см.
Тынянов Ю. Н.
Юткевич С. И. 35
Яннингс Э. 434
Ярвет Ю. Е. 84—87, 119, 134, 135, 210,
240-243, 249, 305, 322, 325, 329,
330, 560
Ярошенко Н. А. 565
«Антракт», реж. Р. Клер (Франция,
1924) 219
«Арсенал», реж. А. П. Довженко
(1928) 445
«Балаганчик», пьеса А. А. Блока, реж.
В. Э. Мейерхольд, Театр В. Ф. Ко-
мнссаржевской (Петербург, 1906)
106, 420
«Балаганчик», пьеса А. А. Блока,реж
Ж. Питоев (Париж, 1923) .223
Указатель фильмов и спектаклей
578
Указатель фильмов и спектаклей
«Баллада о солдате», реж. Г. Н.
Чухрай (1959) 431
«Бежин луг», реж. С. М. Эйзенштейн
(1936—1937, фильм не был
завершен) 34, 481
«Бежин луг», реж. С. И. Юткевич и
Н. И. Клейман (1967) 35
«Белинский», реж. Г. М. Козинцев
(1951) 370, 372, 383, 405, 406, 560
«Борис Годунов», трагедия А. С.
Пушкина, реж. В. Э. Мейерхольд,
Государственный театр им. Вс.
Мейерхольда (Москва, 1936, спектакль не
был завершен) 552
«Братья Карамазовы», отрывки из
романа Ф. М. Достоевского, реж.
Вл. И. Немирович-Данченко,
B. В. Лужский, МХТ (1910) 392
«Броненосец Потемкин», реж.
C. М. Эйзенштейн (1925) 221, 222,
424, 458, 537
«Буря», драма У. Шекспира, реж.
П. Брук, Международный центр
театральных исследований (Париж,
1971) 225
«Вампиры», реж. Л. Фейад (Франция,
1915—1916) 310
«Ватерлоо», реж. С. Ф. Бондарчук
(Италия, 1970) 530
«Великий диктатор», реж. Ч.-С.
Чаплин (США, 1941) 276, 436
«Великий лекарь», реж. Г. М.
Козинцев и Л. 3. Трауберг (1940—1941,
фильм не был поставлен) 560
«Великодушный рогоносец», пьеса
Ф. Кроммелинка, реж. В. Э.
Мейерхольд, Гос. высшие театральные
мастерские (Москва, 1922) 31, 99,
158
«Верный солдат Панчо Вильи», реж.
Э. Фернандес (Мексика, 1967) —
476
«Вива, Мария!», реж. Л. Маль
(Франция, 1965) 479
«Вишневый сад», пьеса А. П. Чехова,
реж. К. С. Станиславский и
Вл. И. Немирович-Данченко, МХТ
(1904) 159
«Вкус меда», реж. Т. Ричардсон
(Англия, 1961) 445
«В людях», по произведениям М.
Горького, инсценировка П. С. Сухотина,
реж. М. Н. Кедров, МХАТ (1933)
343, 563
«Возвращение Максима», реж. Г. М
Козинцев и Л. 3. Трауберг (1936)
80, 274
«Вор», реж. Л. Маль (Франция, 1966)
478
«8 1/2», реж. Ф. Феллини (Италия,
1963) 147, 481
«В прошлом году в Мариенбаде», реж.
А. Рене (Франция, 1961) 439, 441,
458, 470
«В субботу вечером, в воскресенье
утром», реж. К. Рейс (Англия, 1960)
477
«Выборгская сторона», реж. Г. М.
Козинцев и Л. 3. Трауберг (1938) 344,
468, 561
«Гадибук», трагедия С. Ан-ского, реж.
Е. Б. Вахтангов, театр-студия «Га-
бима» (Москва, 1922) 223
«Гамлет», реж. Т. Ричардсон (Англия,
1969) 157
«Гамлет», реж. Л. Оливье (Англия,
1948) 285
«Гамлет», реж. Г. М. Козинцев (1964)
9, 53, 66, 67, 89, 90, 98, 121, 122, 129,
140, 207, 212, 246, 252, 256, 281, 287.
303, 318, 320, 330, 364, 428, 448, 450,
454,455,461, 468, 481,486, 509, 511,
538, 558, 565, 567
«Гамлет», трагедия У. Шекспира,
Малый театр (1837) 381
«Гамлет», трагедия У. Шекспира,
постановка Г. Крэга, реж. К. С.
Станиславский и Л. А. Сулержнцкий,
МХТ (1911) 31, 141, 142, 150—152,
156, 158, 164, 516, 567
«Гамлет», трагедия У. Шекспира, реж.
В. С. Смышляев, В. Н. Татаринов,
А. И. Чебан, МХАТ 2-й (1924) 157
«Гамлет», трагедия У. Шекспира, реж.
Н. П. Акимов, Театр им. Евг.
Вахтангова (Москва, 1932) 157, 276
«Гамлет», трагедия У. Шекспира, реж.
Г. М. Козинцев, Академический
театр драмы им. А. С. Пушкина
Указатель фильмов и спектаклей
579
(Ленинград, 1954) 258, 370, 544,
558, 561
«Генеральная линия» — см. «Старое
и новое»
«Герцогиня Амальфи», пьеса Д.
Уэбстера, реж. Д. Мак Уинн,
Шекспировский мемориальный театр (Страт-
форд-он-Эйвон, 1960) 226, 231
«Гильденстерн н Розенкранц
умерли» — см. «Розенкранц и
Гильденстерн мертвы»
«Гоголиада», сценарно-режиссерская
разработка Г. М. Козинцева по
повестям Н. В. Гоголя (1971 — 1973,
фильм не был поставлен) 559
«Гойя», реж. К. Вольф (СССР —
ГДР, 1970) 556
«Голый остров», реж. К. Синдо
(Япония, 1960) 512
«Горе от ума», комедия А. С.
Грибоедова, реж. Вл. И. Немирович-
Данченко и К. С. Станиславский,
МХТ (1906) 159
«Гражданин Кейн», реж. О. Уэллс
(США, 1941) 167
«Грозный» — см. «Иван Грозный»
«Дама с камелиями», пьеса А. Дюма-
сына, реж. В. Э. Мейерхольд,
Государственный театр им. Вс.
Мейерхольда (Москва, 1934) 130
«Дама с собачкой», реж. И. Е. Хейфиц
(1960) 351, 431
«Две англичанки на континенте», реж.
Ф. Трюффо (Франция, 1971) 521
«Дело братьев Навес», реж. Л.-С.
Персон (Бразилия, 1967) 478
«Д. Е» («Даешь Европу»), по роману
И. Г. Эренбурга, реж. В. Э.
Мейерхольд, Государственный театр им.
Вс. Мейерхольда (Москва, 1924) 395
«Дети райка», реж. М. Карне
(Франция, 1944) 413
«Джульетта и духи», реж. Ф. Феллини
(Италия, 1965) 479, 506
«Диктатор» — см. «Великий
диктатор»
«Дневник рабочего», реж. Р. Ярва
(Финляндия, 1967) 478
«Додескаден», реж. А. Куросава
(Япония, 1970, в советском
прокате — «Под стук трамвайных колес»)
513
«Дон Кихот», реж. Г. М. Козинцев
(1957) 121, 286, 314, 385, 388, 403,
406, 450, 486, 489, 511, 527, 563, 568
«Дорога», реж. Ф. Феллини (Италия,
1954, в советском прокате — «Они
бродили по дорогам») 267, 413
«Драма жизни», пьеса К. Гамсуна,
реж. К. С. Станиславский и Л. А. Су-
лержицкий, МХТ (1907) 141
«Дядя Ваня», пьеса А. П. Чехова,
реж. К. С. Станиславский и
Вл. И. Немирович-Данченко, МХТ
(1899) 142
«Евангелие от святого Матфея», реж.
П.-П. Пазолини (Италия, 1964) 556
«Евгений Онегин», опера П. И.
Чайковского, реж. К. С. Станиславский,
Оперная студия (Москва, 1922) 118
«Жанна д'Арк» — см. «Страсти
Жанны д'Арк»
«Женитьба», по пьесе Н. В. Гоголя,
текст и постановка Г. М. Козинцева
и Л. 3. Трауберга, ФЭКС
(Петроград, 1922) 116, 195, 196, 423, 526.
564
«Женщина в песках», реж. X. Тешига-
хара (Япония, 1964) 21
«Жизнь Человека», пьеса Л. Н.
Андреева, реж. К. С. Станиславский и
Л.А.Сулержицкий.МХТ (1907) 141
«Жирофле-Жирофля», пьеса А. М.
Арго и И. А. Адуева, музыка Ш. Леко-
ка, реж. А. Я. Таиров, Камерный
театр (Москва, 1922) 395
«Жить», реж. А. Куросава (Япония,
1952) 18
«Жюдекс», реж. Ж. Франжю
(Франция, 1964) 457
«Жюль и Джим», реж. Ф. Трюффо
(Франция, 1961) 521
«Забриски Пойнт», реж. М. Антониони
(США, 1969) 521
«Зази в метро», реж. Л. Маль
(Франция, 1960) 479
«Замок интриг», реж. А. Куросава
(Япония, 1957) 18, 21, 62, 216
5S0
Указатель фильмов и спектаклей
«Земля», реж. А. П. Довженко (1930)
415, 537
сЗори», пьеса Э. Верхарна, реж.
В. Э. Мейерхольд, Театр РСФСР 1-й
(Москва, 1920) 103, 107, 495, 552,
556
«Иван Грозный», реж. С. М.
Эйзенштейн (1944—1945) 35, 36, 38, 505
«Идиот», реж. А. Куросава (Япония,
1951) 16—18, 514
«Иду на грозу», реж. С. Г. Микаэлян
(1965) 469
«Интолеранс» (английское название
американского фильма
«Нетерпимость») — см. «Нетерпимость»
«История жизни и смерти
Ричарда III», по исторической хронике
У. Шекспира «Ричард III», реж.
М. Векверт, Немецкий театр
(Берлин, 1972) 542
«Кабаре», реж. Б. Фосс (США, 1972)
539, 568
«Колокола ночью» — см.
«Полуночные колокола»
«Конец Санкт-Петербурга», реж.
В. И. Пудовкин (1927) 415. 445
«Кориолан», трагедия У. Шекспира,
реж. М. Векверт, «Берлинер
ансамбль» (ГДР, 1965) 215
«Король в Нью-Йорке», реж.
Ч.-С. Чаплин (Англия, 1957) 304,
412, 436, 481
«Король Лир», реж. Г. М. Козинцев
(1970) 7, 26, 28, 29, 33, 44, 66, 80, 8.6,
89—91. 93, 94, 103, 116, 129, 133 —
136, 139, 140, 168, 178, 193, 206, 208.
214—216, 246, 252, 256, 260, 264,
266—268, 284, 285. 291, 292, 305,
306, 309, 311, 313, 315, 320, 322, 324,
325, 327—330, 344, 412, 511, 517,
525. 530, 550, 556. 558. 567
«Король Лир», реж. П. Брук (Англия,
1971) 29, 32
«Король Лир», трагедия У. Шекспира,
реж. Г. М. Козинцев, Большой
драматический театр км. М. Горького
(Ленинград, 1941) 7, 258, 557. 558
«Король Лир», трагедия У. Шекспира,
реж. П. Брук,-Королевский
шекспировский театр (Стратфорд-он-Эй-
вон, 1962) 29, 230, 475
«Красная борода», реж. А. Куросава
(Япония, 1965) 19
«Красная пустыня», реж. М. Анто-
ниони (Италия, 1964) 458, 463
«Лес», комедия А. Н. Островского,
реж. В. Э. Мейерхольд,
Государственный театр им. Вс. Мейерхольда
(Москва, 1924) 112
«Летят журавли», реж. М. К.
Калатозов (1957) 457, 563
«Лимонадный Джо», реж. О. Липский
(Чехословакия, 1964) 457
«Максим» — см. трилогия о Максиме
«Мандат», пьеса Н. Р. Эрдмана, реж.
B. Э. Мейерхольд, Государственный
театр им. Вс. Мейерхольда (1925)
157
«Марат-Сад», сокращенное название
пьесы П. Вайса «Преследование и
убийство Жан-Поля Марата,
представленное труппой дома
умалишенных в Шарантоне под руководствам
маркиза де Сада», реж. П. Брук,
Королевский шекспировский театр ,в
помещении лондонского театра
«Олдуич» (1964) 29
«Марат-Сад», реж. П. Брук (Англия,
1966) 29
«Мариенбад» — см. «В прошлом году
в Мариенбаде»
«Мария Канделярия», реж. Э. Фернан;
дес (Мексикз, 1944) 563
«Маскарад», драма М. Ю. Лермрн-
това, реж. В. Э. Мейерхольд,
Александрийский театр (Петроград,
1917) 105, 158
«Мать», реж. В. И. Пудовкин (1926)
223
«Мексика», имеется в виду фильм
«Буря над Мексикой»,
смонтированный американским продюсером
C. Лессером в 1933 г. из части
материала, который был отснят
группой С. М. Эйзенштейна в
Мексике в 1931 г. для фильма «Да
здравствует Мексика!» 388
«Мертвые души», пьеса М. А.
Булгакова по поэме Н. В. Гоголя, реж.
Указатель фильмов и спектаклей
581
К. С. Станиславский, В. Г. Сахнов-
ский и Е. С. Телёшева, MX AT (1932)
563
«Мичурин», реж. А. П. Довженко
(1948) 415
«Молчание», реж. И. Бергман
(Швеция, 1963) 457, 481
«Мудрец» — см. «На всякого мудреца
довольно простоты»
«Мы будем петь в четверг, как и в
воскресенье», реж. Л. деЭш
(Франция— Бельгия, 1967) 477
«Мятеж Скорпиона», реж. К. Энджер
(США) 224
«На всякого мудреца довольно
простоты», комедия А. Н. Островского
в переделке С. М. Третьякова, реж.
С. М. Эйзенштейн, Первый рабочий
театр Пролеткульта (Москва, I92&)
34, 196
«На дне», реж. А. Куросава (Япония,
1957) 18
«Наполеон», реж. А. Ганс (Франция,
1927) 219
«Не переводя дыхания», реж.
Ж.-Л. Годар (Франция, 1959) 501
«Нетерпимость», реж. Д.-У. Гриффит
(США, 1916, в советском прокате —
«Зло мира») 148, 304
«Нибелунги», реж. Ф. Ланг
(Германия, 1923-1924) 93
«Новые времена», реж. Ч.-С. Чаплин
(США, 1936) 413
«Новый Вавилон», реж. Г. М.
Козинцев и Л. 3. Трауберг(1929) 182,253,
414, 456, 458, 508, 517, 531
«Нос», опера Д. Д. Шостаковича, реж.
Н. В. Смолич, Академический
Малый оперный театр (Ленинград,
1930) 254
«Ночь клоунов» («Вечер шутов»),
реж. И. Бергман (Швеция, 1953)
413
«Огни рампы», реж. Ч.-С. Чаплин
(США, 1952) 494, 520
«Одна», реж. Г. М. Козинцев и
Л. 3. Трауберг (1931) 89, 234
«Окровавленный трон» — см. «Замок
интриг»
«Октябрина» — см. «Похождения Ок-
тябрины»
«Октябрь», реж. С. М. Эйзенштейн и
Г. В. Александров (1927) 216, 505
«Операция «Святой Януарий», реж.
Д. Ризи (Италия, 1965) 477
«Отелло», трагедия У Шекспира, реж.
Г. М. Козинцев, Академический
театр драмы им. А. С. Пушкина
(Ленинград, 1944) 560
«Отелло», реж. О. Уэллс (США, 1952)
475
«Палач», реж. Л. Берланга (Испания,
1963) 173, 465
«Персона», реж. И. Бергман (Швеция,
1966) 283, 480, 481
«Петр Первый», вторая серия, реж.
В. М. Петров (1939) 335
«Пирогов», реж. Г. М. Козинцев
(1947) 345
«Подопечный», реж. В. Слиепчевич
(Югославия, 1967) 478
«Пожарный», реж. Ч.-С. Чаплин
(США, 1916) 303
«Покрывало Пьеретты», пьеса А. Шниц-
лера, реж. А. Я. Таиров, Камерный
театр (Москва, 1916) 461
«Полуночные колокола», реж. О. Уэллс
(Испания, 1966) 474, 551
«Последний, решительный», пьеса
В. В. Вишневского, реж. В. Э.
Мейерхольд, Государственный театр им.
Вс. Мейерхольда (Москва, 1931)
223
«Потемкин» — см. «Броненосец
«Потемкин»
«Похождения Октябрины», реж.
Г. М. Козинцев и Л. 3. Трауберг
(1924) 196, 212, 253, 362
«Председатель», реж. А. А. Салтыков
(1964) 469, 483
«Приключение», реж. М. Антониони
(Италия, 1959) 431, 564
«Происшествия», реж. К. Отан-Лара
(Франция, 1923) 552
«Процесс», реж. О. Уэллс (Франция —
Италия—ФРГ, 1962) 167
«Путевка в жизнь», реж. Н. В. Экк
(\93\ У567
«Путешествие на воздушном шаре»,
582
Указатель фильмов и спектаклей
реж. А. Ламорисс (Франция, I960)
461
«Путь в высшее общество» («Место
наверху»), реж. Д. Клейтон
(Англия, 1958) 477
«Рабочий поселок», реж. В. Я. Венге-
ров (1965) 469
«Раскольников», реж. Р. Вине
(Германия, 1923) 96
«Ревизор», комедия Н. В. Гоголя,
Александрийский театр (Петербург,
1836) 100
«Ревизор», комедия Н. В. Гоголя, реж.
В. Э. Мейерхольд, Государственный
театр им. Вс. Мейерхольда (Москва,
1926) 99, 100, 101, 105, 107, 108. 112,
116, 152, 223, 465, 552, 553, 563
«Рим, 11 часов», реж. Д. Де Сантис
(Италия, 1952) 414, 563
«Рио Эскондидо», реж. Э. Фернандес
(Мексика, 1948) 388, 563
«Ричард III», историческая хроника
У. Шекспира, реж. В. Я. Софронов
и Г. И. Гуревич, Большой
драматический театр им. М. Горького
(Ленинград, 1935) 151
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы»,
пьеса Т. Стоппарда, Оксфордский
театр (Англия, 1963) 157
«Ромео и Джульетта», трагедия
У. Шекспира, реж. Ф. Дзеффирелли,
театр «ОлдВик» (Лондон, 1961) 475
«Сатирикон», реж. Ф. Феллини
(Италия, 1969) 208
«С. В. Д.», реж. Г. М. Козинцев и
Л.З. Трауберг (1927) 195, 196,433,
492, 508, 562
«Сегодня жить, умереть завтра», реж.
К- Синдо (Япония, 1971) 512
«Сладкая жизнь», реж. Ф. Феллини
(Италия, 1959) 457
«Сон в летнюю ночь», комедия У.
Шекспира, реж. П. Брук, Королевский
шекспировский театр (Стратфорд-
он-Эйвон, 1970) 225
«Спартак», балет на музыку А. И.
Хачатуряна, балетмейстер Ю. Н.
Григорович, Большой театр СССР
(1968) 67, 211
«Старое и новое», реж. С. М.
Эйзенштейн и Г. В. Александров (1929)
424
«Стачка», реж. С. М. Эйзенштейн
(1924) 222, 458
«Страсти Жанны д'Арк», реж.
К.-Т. Дрейер (Франция, 1927) 33,
520
«Студенты», пьеса В. А. Лившица,
реж. Г. А. Товстоногов, Театр им.
Ленинского комсомола»
(Ленинград, 1950) 437
«Твой современник», реж. Ю. Я.
Райзман (1967) 482
«Тевье-молочник», по Шолом-Алей-
хему, инсценировка И. М. Добру-
шина и Н. Е. Ойслендера, реж.
С. М. Михоэлс, Государственный
еврейский театр (Москва, 1938) 130
«Тора, тора, тора», реж. К. Фукасаку
и Т. Масуда (Япония — США, 1969;
А. Куросава отказался от работы
над этим фильмом) 513
«Трест Д. Е.» — см. «Д. Е.»
Трилогия — см. трилогия о Максиме
Трилогия о Максиме, реж. Г. М.
Козинцев и Л. 3. Трауберг, общее
название фильмов «Юность Максима»
(1934), «Возвращение Максима»
(1936) и «Выборгская сторона»
(1938) 269, 365, 383, 415, 432
«Увеличение», реж. М. Антониони
(Англия, 1966) 566
«У озера», реж. С. А. Герасимов
(1969) 530
«Уход», сценарно-режиссерская
разработка Г. М. Козинцева фильма о
Л. Н. Толстом (1965—1973, фильм
не был поставлен) 69
«Учитель с отличием» («Учителю с
любовью»), реж. Д. Клэвелл (Англия,
1967) 476
«Фаустина», реж. Х.-Л. де Эредиа
(Испания, 1957) 404
«Фронт», реж. Г. Н. и С. Д. Васильевы
(1943) 388
«Хижина дяди Тома», реж. Г. Радванп
(ФРГ, 1965) 476
Указатель фильмов и спектаклей
583
«Хиросима, моя любовь», реж. А. Рене
(Франция — Япония, 1959) 566
«Царь Максимилиан и непокорный
сын его Адольф», реж. Г. М.
Козинцев (Киев, 1919) 406
«Царь Федор Иоаннович», трагедия
А. К. Толстого, реж. К. С.
Станиславский и А. А. Санин, МХТ (1898)
142
«Цирк», реж. Ч.-С. Чаплин (США,
1928) 320
«Чайка», пьеса А. П. Чехова, реж.
Е. П. Карпов, Александрийский
театр (Петербург, 1896) 384
«Чайка», пьеса А. П. Чехова, реж.
К. С. Станиславский и Вл. И.
Немирович-Данченко, МХТ (1898) 159
«Чайки умирают в гавани», реж.
Р. Кейперс, И. Михилс, Р. Верхаверт
(Бельгия, 1957) 412
«Чапаев», реж. Г. Н. и С. Д.
Васильевы (1934) 365
«Чарли на балу», реж. Ч.-С. Чаплин
(США, 1915) 303
«Чарли пожарный» — см.
«Пожарный»
«Человек из Рио», реж. Ф. де Брока
(Франция, 1963) 457
«Чарли боксер» — см. «Чемпион»
«Чемпион», реж. Ч.-С. Чаплин (США,
1915) 303
«Ченчи», трагедия А. Арто по новелле
Стендаля и драме П.-Б. Шелли, реж.
А. Арто, театр «Фоли-Ваграм»
(Франция, 1935) 224, 229
«Чертово колесо», реж. Г. М.
Козинцев и Л. 3. Трауберг (1926) 194
«Чихающий Фред» («Чихание Фреда
Отта»), американский фильм,
снятый У.-К. Диксоном для
кинетоскопа Т.-А. Эдисона (1895) 476
«Шинель», реж. А. В. Баталов
(1959) 468
«Шинель», реж. Г. М. Козинцев и
Л. 3. Трауберг (1926) 91, 109, 116,
194, 195, 269, 344,362,462, 486,492,
508, 511
«Ширмы», пьеса Ж. Жене, реж.
П. Брук, экспериментальная труппа
П. Брука и Ч. Моровица «Театр
жестокости» (Лондон, 1964) 225
«Эдип» («Царь Эдип», «Эдип и
сфинкс»), по пьесам Софокла —
Г. фон Гофмансталя, реж. М. Рейн-
хардт, Немецкий театр (Германия,
1910) 371, 562
«Экраны» — см. «Ширмы»
«Это безумный, безумный, безумный,
мир», реж. С. Крамер (США, 1963)
457
«Юность Максима», реж. Г. М.
Козинцев и Л. 3. Трауберг (1934) 87, 92,
364, 406, 414, 488, 531, 538
Содержание
3 От составителей
6 Пространство трагедии
266 Записи по фильму «Король Лир». 1957—1971
333 Записи из рабочих тетрадей. 1940—1973
550 Примечания
570 Указатель имен
577 Указатель фильмов и спектаклей
Григорий Михайлович
КОЗИНЦЕВ
Собрание сочинений в пяти томах
Том 4
Редактор С. В. Дружинина. Художественный редактор
М. С. Стернина. Технический редактор Г. С. Устинова.
Корректоры Л. Н. Борисова, Н. Д. Кругер
ИБ № 1951
Сдано в набор 13.01.84. Подписано в печать 28.08.84. М.-24902.
Формат 84 X Ю8 '/з2■ Бумага тип. № I, для иллюстр. мелов.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 30,76. Усл. кр.
отт. 31,39. Уч.-изд. л. 30,34. Тираж 25 000. Изд. № 572. Заказ
№ 1260. Цена 3 р. Издательство «Искусство», Ленинградское
отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской
Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское
производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени
А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136,
Ленинград, Чкаловский пр., 15.
Григорий КОЗИНЦЕВ