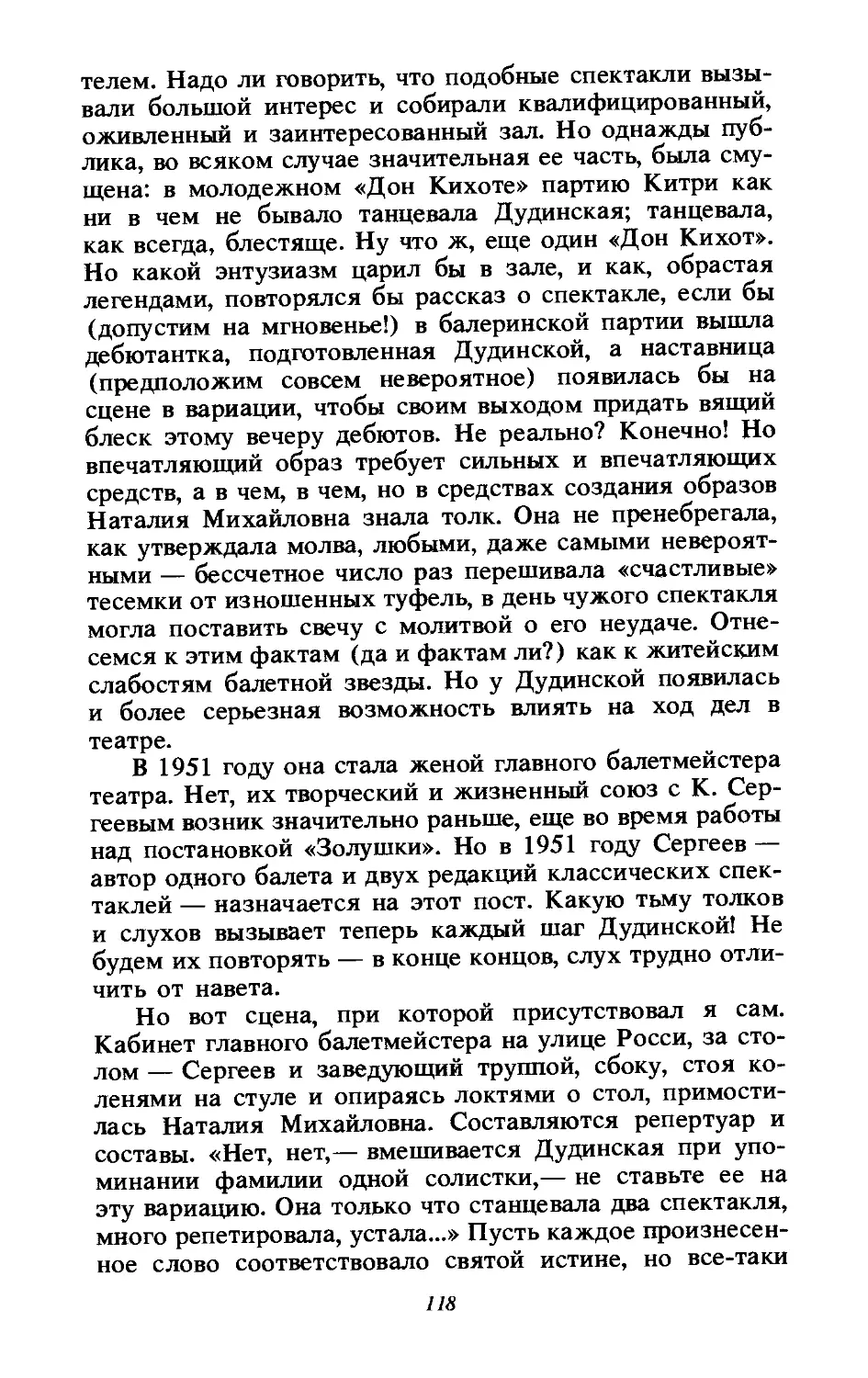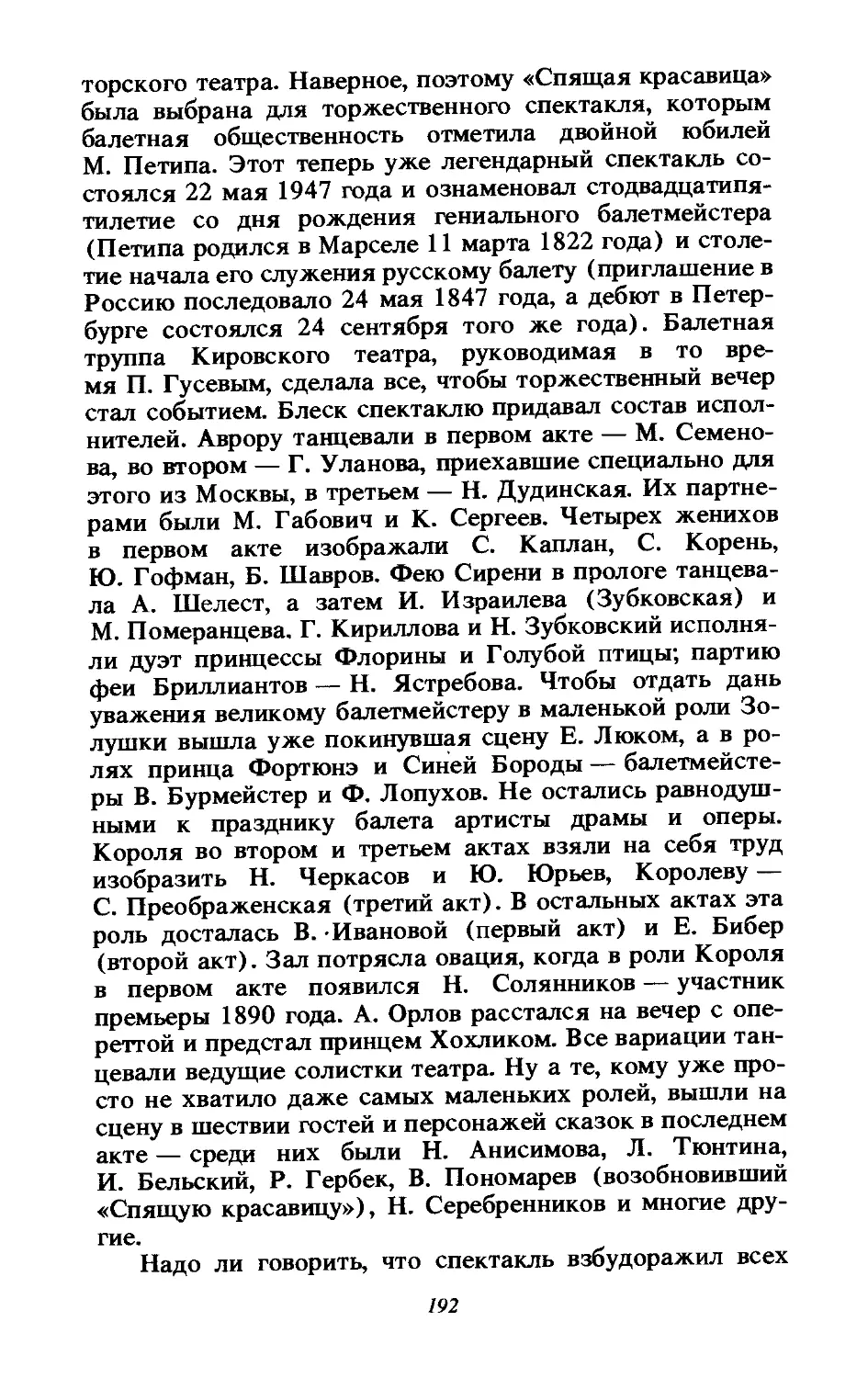Автор: Черкасский Д.
Теги: театр искусствоведение биографии и мемуары опера
ISBN: 5-87334-001-3
Год: 1994
Текст
Дмитрий Черкасский
ЗАПИСКИ
БАЛЕТОМАНА
Пятьдесят лет в партере
Кировского театра
6х LIBRiS
TATA.SIliN
д
Москва
Издательство
«Артист. Режиссер. Театр»
1994
Подготовка текста В. Чистяковой
Предисловие В. Красовской
Художник Е. Бермант
В издании книги приняли финансовое
и организационное участие:
Любовь КУ НАКОВА
Ольга ЧЕНЧИКОВА
Ирина КИРСАНОВА
Марат ДАУКАЕВ
Юрий ПЕТУХОВ
Николай ОСТАЛЬЦОВ
Сергей ШТЫКОВ
Общество любителей балета России
(президент Евгений СУББОТИН)
Ч 490700<)000-1- безобьявл.
174(03)—94
ISBN 5—87334—001—3
@ Д. Черкасский, 1994 г.
ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ
Слово «балетоман» издавна произносят с ироническим
оттенком. Оно понятно. Традиция связывает это слово с щед-
ринскими сластолюбивыми старичками, «на заставах команду
имеющими», с «бриллиантовым рядом» партера из стихотво-
рения Некрасова «Балет». А на деле слово это само по себе
вполне почтенное, хотя смысл его менялся с переменами в ба-
лете. Недаром «балетоманство» Пушкина кончилось, когда
Дидло подрастратил чистый лиризм своих хореографических
фантазий, отчего и «надоел» поэту. В начале нашего века
русский балет берег ценности классического наследия и вдох-
новенно чеканил новые. Тогда бок о бок с балетоманами ста-
рого закала — А. А. Плещеевым, К. А. Скальковским, Н. М. Бе-
зобразовым, С. Н. Худековым — появились В. Я. Светлов,
А. Я. Левинсон, А. Л. Волынский — люди высокой культуры,
сочетавшие широту знаний с деятельной и глубокой мыслью.
Притом и те и другие оставались по статусу балетоманами,
то есть любителями балета, а не профессиональными крити-
ками. Тем не менее каждое утро петербуржец, развернув
газеты, мог пробежать краткий отчет о вчерашнем представ-
лении или задуматься над серьезным разговором о сути и
судьбах балетного искусства. После 1917 года сословие бале-
томанов сохранялось по инерции. До самой войны 1941 —
1945 годов еще привычно было наблюдать фигуры балетома-
нов в облюбованных креслах бывшего Мариинского театра.
После войны их становилось все меньше, а новых... новых
вроде бы не было вовсе. Об этом стоило пожалеть, особенно
на фоне бедственного положения профессиональной балетной
3
критики, прочно вязнувшей в болоте начальственных запре-
тов и приказов.
Но вот где-то к исходу 40-х годов в сильно поредевших
рядах ленинградских балетоманов появился новобранец. Впро-
чем, молодой человек в форме морского офицера балетоманом
себя не рекомендовал, держался обособленно и скромно,
однако ж с достоинством. За его плечами чуялось не одно
поколение российских интеллигентов.
Что влекло будущего автора «Записок балетомана», Дмит-
рия Черкасского (1924—1989), в Кировский театр? Скорее
всего, музыкальные пристрастия и интересы. Ведь в музыке
он был профессионалом, ибо выпускник Военно-морского
училища 1947 года закончил в 1953 году Ленинградскую
консерваторию по композиторскому факультету. Судьба не по-
дарила нам в его лице второго Римского-Корсакова, хотя
он сочинил «тургеневский балет». Полковник, с 1953 года
преподаватель военного училища в городе Пушкине, он восемна-
дцать лет, до конца жизни, заведовал там кафедрой электро-
техники. Но артистическая жилка билась властно. Это заявля-
ло о себе с порога его квартиры: старинная мебель, книги
в темных кожаных переплетах, коллекции пластинок и видео-
кассет с балетами мирового репертуара — все приглашало в
мир незаурядной, разносторонне одаренной личности.
Незаурядность мнений и вкуса окрашивает и страницы
«Записок балетомана». Стоит сразу заметить, что эти «Записки»
лишь малая часть литературного наследства Д. А. Черкасского.
В целом оно охватывает пятьдесят лет. Здесь же временные
границы обозначены 50—60-ми годами и вмещают шесть ста-
тей: три посвящены вершинам хореодрамы, три — видным
актерам той поры. В книгу не вошли размышления о более
поздних событиях на сценах Кировского и Малого театров,
портреты актеров 70—80-х годов, заметки о гастролях зару-
бежных трупп, хотя все они столь же достойны внимания.
Все равно, даже публикуемая малая часть, впуская нас в мир
личных взглядов (это упрямо подчеркивает автор), открывает
оригинально увиденные стороны балета, ставит проблему
взаимного тяготения балета и времени, жизни балета во вре-
мени. Пусть неизбежная ностальгия о минувшем, желание
«снова пережить счастье тех далеких минут» иной раз сдви-
гает линзы объективного анализа. Это, в общем-то, входит
в правила игры: так или иначе, из суммы субъективных мне-
ний слагается уходящий в историю образ недавнего прош-
лого.
Спорность иных суждений как раз зависит от несовпаде-
4
ния исторического времени и времени знакомства автора книги
с иными постановочными и актерскими свершениями ленин-
градского балета. Автор утверждает, например, будто слава
Улановой родилась в «Ромео и Джульетте» Прокофьева —
Лавровского, то есть в 1940 году, тогда как на самом деле
этой славе к той поре минул добрый десяток лет. Рядом с
Р. И. Гербеком — первым Тибальдом ленинградской балетной
сцены — он ставит Б. Я. Брегвадзе как «создателя» роли
Меркуцио, хотя создал ее исполнитель премьеры А. В. Лопухов.
Наконец, он напрасно считает Т. М. Вечеслову первой Заремой
«Бахчисарайского фонтана».
Ошибка с Улановой понятна. Д. А. Черкасский не видел
Лебедя Улановой в вагановской постановке «Лебединого озера»,
не видел ее Коралли в «Утраченных иллюзиях» Асафьева —
Захарова, а Марией в «Бахчисарайском фонтане» застал,
когда непоказная естественность ее сценического бытия уже
уступила мастерству всемирно известной звезды. Кроме того,
ему не довелось посмотреть Уланову во вдохновенных дуэтах
с К. М. Сергеевым — ее довоенным Зигфридом, Вацлавом,
Люсьеном и Ромео. Бывшая ленинградка, Уланова сохранилась
в его памяти как гастролерша, выступающая с более или
менее удобными партнерами. И в этом качестве он, как лучом
прожектора, осветил драгоценные мгновения улановской
Джульетты-девочки, Джульетты, сраженной любовью, прекло-
няющей колена в храме, встречающей смерть. Несмотря на
десятки статей и книг, посвященных великой балерине, где,
казалось бы, исчерпывающе описана эта коронная роль,
Д. А. Черкасский представил нам в новом ракурсе духовный
мир и пластический облик ее Джульетты.
После войны Черкасский не пропускал в Кировском теат-
ре ни одного балетного спектакля и в том же «Ромео» годами
наблюдал сменявшиеся составы актеров. «Приходя на любой
спектакль, ты встречал своих давних, старых знакомых»,—
вспоминал он и как бы за руку провожал в историю их всех —
от ведущих и знатных до скромных исполнителей эпизодиче-
ских ролей, и даже тех, что украшали многофигурные ансамб-
ли. Неоценимы, например, портреты В. К. Ивановой — синь-
оры Капулетти, Р. И. Гербека — Тибальда, Б. Я. Брегвадзе —
Меркуцио... В них — блестящее руководство для нынешних
и грядущих актеров. Зоркости портретиста, меткости его суж-
дений и художественной наглядности в переводе танца на
язык литературной прозы мог бы позавидовать иной профес-
сиональный писатель о балете.
Вместе с тем Д. А. Черкасский отлично знал, что имеет
5
ряд преимуществ балетомана перед критиком и охотно такими
преимуществами пользовался. Ведь критику не след вдаваться
в закулисную жизнь театра. Автор книги был знаком со мно-
гими актерами, с некоторыми дружил, и его повествование
подчас украшают шутки и экспромты, ходившие в балетной
труппе.
Впрочем, Д. А. Черкасский вообще знал цену хорошей
шутке и сам умел изящно и кстати пошутить. Статье «Бахчи-
сарайский фонтан» он предпослал слова Пушкина из письма
Вяземскому: «Бахчисарайский фонтан», между нами, дрянь,
но эпиграф его прелесть»,— и тем самым как бы переложил на
плечи Пушкина собственную оценку козырного туза советской
хореодрамы. Это помогло быть беспристрастным и отделить
объективное место «Бахчисарайского фонтана» в истории на-
шего репертуара от творческого «миллиметража» балетмейстера
Р. В. Захарова. Первое значительно, второй ничтожен, и Чер-
касский деликатно показывает и доказывает это, особенно
когда сопоставляет разные признания из книжки Захарова
«Искусство балетмейстера». Впрочем, фигура Захарова, даже
несмотря на экскурсы в другие его балеты, не слишком зани-
мает автора. Д. А. Черкасский как бы нехотя касается скуч-
ного предмета и походя роняет общеизвестное — ио хорео-
драме как таковой, и об одном из ее столпов в частности.
В этой статье на первом месте опять актеры — светила теат-
ральной юности Черкасского. Здесь его снова можно упрекнуть
в чуть ноншалантном отношении к истории. «Уланова и Вече-
слова обе работали над премьерой»,— сообщает он, хотя
премьеру готовили Уланова — исполнительница роли Марии
и О. Г. Иордан — первая Зарема, а в очередь с ней эту роль
исполняла В. И. Каминская. Т. М. Вечеслова вошла в спектакль
позже, опередив другую блистательную Зарему — А. Я. Ше-
лест. Но ударный смысл статьи о «Бахчисарайском фонтане»
опять-таки в анализе образов, созданных актерами 40—60-х го-
дов, и в центр ее оправданно выдвигаются портреты двух
Зарем: Вечесловой и Шелест.
Как истый балетоман, Д. А. Черкасский прежде и больше
всего ценил в балете балерину. Она являла собой средоточие
его интересов и мыслей, шел ли разговор о шедевре академизма
XIX века, о хореодраме, хореографической миниатюре или
о пробах в области новейших балетных стилей и структур.
А от места балерины в любом из видов балетного зрелища
во многом зависело отношение Черкасского к самому этому
виду. Потому, например, он откровенно предпочитал полно-
метражный трехактный спектакль другим формам балета. То
6
есть такой спектакль, где балерина выступает центром раз-
нообразных ансамблей, царит в дуэтах с партнером, а главное,
танцует в каждом акте одну, а то и две виртуозные вариации.
«Миниатюра,— заявлял он,— все-таки всего-навсего миниатю-
ра». И, отдавая должное одноактным опусам Джорджа Балан-
чина и хореографическим миниатюрам Л. В. Якобсона, сер-
дечно любил «Баядерку», «Спящую красавицу» и «Раймонду».
Эти творения Петипа он знал наизусть и уверенно ставил на
их представлениях отметки, начиная от героини вечера —
балерины и кончая новенькой, промелькнувшей в рядах корде-
балета. Причем тон отметок год от года менялся.
Застав в 50-х годах расцвет и закат поколения балерин,
начинавших в 30-х, автор «Записок» сохранил свежесть тех,
первых впечатлений и живо передал их юношеский накал.
К числу замечательных страниц книги относятся сравнитель-
ные характеристики Вечесловой и Шелест в роли Заремы,
Дудинской и Шелест в роли Лауренсии. Однако, старший
сверстник поколения, которое пришло на сцену Кировского
театра в 50-х годах, летописец смотрит на вещи его глазами,
судит его судом.
Нагляднее всего, при подчеркнутой беспристрастности тона,
это выражено в очерке «Наталия Дудинская и Константин
Сергеев». Очерк написан в 1986 году, занимает два с половиной
авторских листа и дает с высоты птичьего полета долгий, бо-
гатый событиями путь двух славных ветеранов ленинградского
балета. Показывает не искажая фактов, но самый отбор этих
фактов многозначителен и выдает, что человеческие симпатии
автора героям статьи не принадлежат.
Начиная очерк пробежкой в рань ленинградского балета,
Д. А. Черкасский подводит читателя к сквозной мысли статьи:
казенный оптимизм тогдашнего советского искусства оказался
благоприятной почвой для развития талантов Дудинской и
Сергеева, оба «вписывались во Время, сами влияли на него,
становились его выразителями, решая свои насущные за-
дачи».
А перейдя к этим задачам, он подробно вникает в «кухню»
театральных интриг, не без раздражения описывая, например,
церемонию появления Дудинской в партере Кировского театра
на спектаклях ее учениц.
И он холоден к Сергееву настолько, что откровенно призна-
ется: «...мне, видевшему Сергеева во всех ролях десятки раз,
сейчас нелегко восстановить в памяти подробности его танца».
Признание кажется странным. Ведь даже теперь, спустя три-
дцать лет после ухода Сергеева со сцены, можно уловить от-
7
свети его движений, отголоски его манеры у танцовщиков,
получивших уже из вторых рук роли, в которых некогда блистал
Сергеев. Словно бы сам чувствуя это, Д. А. Черкасский пояс-
няет: «Манеру сергеевского танца лучше всего характеризуют
два слова — сдержанность и достоинство». Можно, конечно,
ограничиться и сказанным,— но достаточно ли одних этих
слов для полной истины? И Д. Черкасский набрасывает ряд
беглых, контурных, но все-таки верных характеристик Сергеева,
где, уступая чувству справедливости, отдает должное аристо-
кратизму и благородству его романтических героев. Естествен-
но, что, умеренно ценя Сергеева-танцовщика, Д. Черкасский
вовсе холоден к Сергееву-балетмейстеру, признавая кое-какие
достоинства лишь за первым его балетом — «Золушкой». А на
поверку Черкасский в самом главном единомышленник Сер-
геева, ибо, как и он, прежде всего нежно любит классические
традиции Петипа: одно из видных мест книги занимает его
описание спектакля «Спящей красавицы» 1947 года в честь сто-
летия приезда Петипа в Петербург.
Ослепительно предстают в статье сценические создания
Дудинской. Наследница академических совершенств, завоева-
тельница новых рекордов в классическом танце и последняя
из олицетворений парадного стиля императорской балетной
сцены, она должна была покорить и покорила последнего
представителя гордого сословия балетоманов. И как бы ни
тщился он свое восхищение умерить, оно прорывается в описа-
ниях Авроры, Раймонды и Лауренсии Дудинской. Здесь все
становится по местам: балетоман восхищенно и почтительно со-
зерцает Балерину.
Интимней и доверительней рассказывает Д. А. Черкасский
о танцовщицах своего поколения, а тех, что моложе его, любит
иной раз и отечески пожурить. Например, благосклонно отно-
сясь к Любови Кунаковой, он распекает ее за то, что 7 декабря
1983 года она ничего не разглядела в роли Раймонды: «Стоит
ли выходить на сцену и трудиться три акта»,— ворчит он.
Зато танцовщиц своего поколения он судит развернуто,
пристально и пристрастно. Две последние главы его книги —
два портрета балерин, чья творческая юность совпала с корот-
ким, но бурным расцветом ленинградского балета на рубеже
50—60-х годов. Одна глава называется «Ирина Колпакова»,
другая — «Алла Осипенко». В первой главе автор определяет
два «способа существования человека» — «жить как хочется
и жить как надо»,— и поясняет, что Колпакова всегда испове-
довала второй способ. Что ж, спору нет, сценический путь
Колпаковой протекал под девизами порядка и воли к труду.
8
Однако в целом формула расплывчата. Не потому ли в следую-
щей главе Д. А. Черкасский справедливо устанавливает, что
Осипенко никогда не жила как надо, но не утверждает притом,
будто она жила, как ей хотелось. И поступает благоразумно,
ибо такое утверждение было бы неосновательным. Давний
рыцарь Осипенко в партере балетных спектаклей, Д. А. Чер-
касский отлично знает, как много значили в ее судьбе случай
и чужая злая воля. И если карьера Колпаковой действительно
зеркально отражала «жизнь как надо», то стезя Осипенко
была чревата бедами и срывами, казалось бы, ниспосланными
роком.
Почему же — «казалось бы»? Да потому, что автор всем
ходом рассказа о талантливой современнице подводит к мысли:
трагедию Осипенко предопределила природа ее характера,
врожденные свойства ее личности. Да, эту замечательную
балерину не берегли, с нею не считались так, как того требовали
ее капризный, неуравновешенный норов и ее божественный дар.
Но самый склад таланта, неподвластного требованию «жить
как надо», предопределял неуживчивость Осипенко в любой
труппе, с любыми хореографами и партнерами.
Д. А. Черкасскому уже не довелось увидеть «Исповедь
балерины» — недавно вышедший на экраны фильм об Осипен-
ко. Фильм достоин всяческих похвал за превосходно подобран-
ные пленки с партиями Осипенко в балетах «Лебединое
озеро», «Каменный цветок», «Антоний и Клеопатра», в хорео-
графической миниатюре «Минотавр и Нимфа»; превосходны
и кадры из домашней, духовно замкнутой жизни балерины.
А главная мысль фильма такая: теперь, когда перед Осипенко
открылись бы — на выбор!— все дороги к мировой славе, иначе,
совсем не так трагично, сложилась бы ее творческая судьба,—
зта мысль неверна. В конце фильма героиня восклицает:
«Поздно!». Но поздно ли? Спору нет, события могли пойти
как угодно иначе, но, думается, все равно обернулись бы в тра-
гическом ключе. Так в любых условиях и обстоятельствах
непременно понеслась бы к трагедии судьба Настасьи Филип-
повны из романа Достоевского.
Портрет Осипенко Д. А. Черкасский написал в 1984 году,
то есть задолго до появления фильма. Но если сопоставить
эту, по сути дела, сжатую монографию с фильмом, может пока-
заться, будто она с ним спорит. Д. А. Черкасский признается
на первой странице, что Осипенко для него не просто замеча-
тельная балерина, чьим волшебным даром он был околдован,
но и человек, которого он знал более тридцати лет. А это дает
все права на то, чтобы обосновать свой взгляд, выдвинуть свой
9
поворот проблемы — и показать мучительное противоборство
между величайшим талантом и сложным характером. Он
проникновенно воспевает талант, тонко ловит образы танца,
а притом беспощадно пронизывает свой анализ примерами
срывов и признает победу характера — трагическую победу
в неравной борьбе.
Высокая мера откровенности — одна из привлекательных
сторон «Записок балетомана». Стиль ясен, открыт и прост
(ведь заметки-то — для себя), ничто здесь не втиснуто в рамки
издательского метража или ограничено бдительностью цензуры.
Бывает, рассказ скользит по поверхности событий и фактов,
а притом сверкнет удивительно живыми подробностями —
дорогими находками для «маленькой истории» балета (ею так
небогата наша литература). С другой стороны, раздумья автора
могут быть глубоки, серьезны, могут проливать неожиданный
свет на, казалось бы, давно известное и пройденное. Наконец,
ценнейшее качество этой книги — искренность и свобода
самовыражения ее даровитого автора.
В. Красовская
ПОЧЕМУ Я НАЧАЛ ПИСАТЬ
1983 год... Прошла балетная премьера. Отшумели
споры, предпремьерные слухи, сложилось мнение, все
успокоилось. И началась жизнь спектакля: нередко ко-
роткая — всего пять-шесть, а иногда лишь два представ-
ления (чтобы станцевали оба состава), обычно нормаль-
ная — на несколько сезонов, изредка счастливая — на
долгие годы, в разных театрах, с разными исполните-
лями. Но независимо от результата работы на другой
день в «Ленинградской правде» появится короткая,
в десять строк, заметка: «Вчера в... театре состоялась
премьера балета на музыку...». Далее идут фамилии
балетмейстера, художника, дирижера... «Главные партии
исполняли...» И наконец: «Спектакль прошел с большим
успехом». В финале возможна и такая редакция: «Спек-
такль был тепло принят зрителями», что может либо
констатировать факт, либо отнюдь не отвечать действи-
тельности, поскольку на деле холодность публики была
лишь слегка завуалирована цветами и дружными, но
непродолжительными аплодисментами почитателей ба-
летмейстера и исполнителей. Если постановщик или
актеры имеют личный контакт с прессой, то заметка
сопровождается фотоснимком сцены из спектакля, что
принято считать свидетельством значительности теат-
рального события.
Затем печатное слово замолкает надолго. Проходят
недели, месяцы, иногда и того более, и, наконец, появ-
ляется рецензия. Нередко тот же перечень фамилий,
11
краткий или подробный пересказ содержания, несколько
слов об истории спектакля (если он имеет историю),
оформлении и где-то перед самым концом или, во всяком
случае, во второй половине рецензии, об исполнителях.
X создала убедительный (глубокий, разносторонний,
психологически точный — это уж как угодно) образ;
У хорош, но не в полной мере доносит душевную драму
героя; Z — еще надо продолжать работать над ролью
(отсюда, видимо, следует, что все остальные создали
шедевры и им работать уже нет надобности)... Если
место позволяет, то упоминаются и другие составы
исполнителей, где к фамилиям присоединяются такие же
мало что проясняющие прилагательные. Впрочем, сведу-
щему читателю эти прилагательные все же кое-что
говорят. Правда, для того чтобы они заговорили, надо
знать многое: отношения автора рецензии с постановщи-
ком и исполнителями, расстановку сил в театре, поло-
жение и авторитет критика. Все эти факторы нужно
уметь оценить именно на день написания рецензии, так
как в театре все меняется быстро.
Вот образчик такой рецензии и способ ее расшиф-
ровки.
В 1981 году в Кировском театре возникает идея по-
ставить «Сильфиду». Спектакль с успехом уже идет в ре-
дакции той же Эльзы Марианны фон Розен на сцене
Малого театра оперы и балета и потому, вообще-то, не
очень нужен. Но подобное обстоятельство не смущает
театр. Важно, что премьера должна стать новым триум-
фом Г. Мезенцевой, а перенос спектакля будет считаться
постановкой Е. Виноградовой. Однако триумфа не полу-
чается. По общему мнению, несмотря на то, что премьеру
танцует Галина Мезенцева, второй спектакль с участием
Ирины Колпаковой оказывается удачнее в силу более точ-
ной отделки партии и проникновения в стиль хореогра-
фии.
По прошествии времени в «Ленинградской правде»
появляется рецензия А. Дегена, которой отводятся три
колонки.
Полторы из них уходят на изложение истории созда-
ния балета и доказательства, что его новая постановка
необходима и отличается от спектакля, идущего в Малом,
хотя это отнюдь не так, а некоторая камерность балета
«Сильфида» более соответствует сцене Малого, отчего
там спектакль только выигрывает.
12
Далее следует большой пассаж, посвященный Мезен-
цевой: «Г. Мезенцева самой природой предназначена для
ролей героинь романтических балетов. Неординарность
ее внешнего облика, с такими привлекательными в
«Сильфиде» удлиненными линиями «тальониевских» рук,
эмоциональная нервность танца говорят за это. Но мало
родиться Сильфидой — надо стать ею. На этом нелегком
пути многое найдено удачно. Перед нами прелестное
юное создание, в котором чисто девичье любопытство
неотделимо от ощущения ежеминутной радости сущест-
вования, а легкокрылость, полетность — от редкостного
простодушия. В Сильфиде — Мезенцевой ощущается
главное — ее необыкновенность, уникальность. Однако
при всем обилии интересного в ее новой работе пока
что немало и эскизного — такого, что не вполне соответ-
ствует масштабу дарования балерины».
Обратите внимание: много комплиментов, легкое со-
жаление, что еще не все совершенно, и ни звука о танцах
в данном спектакле, хотя рецензируется балетный спек-
такль, а Мезенцева не драматическая актриса. Далее
следует более краткий разговор в том же роде о других
исполнителях. Но наступает трудный момент: умолчать
о Колпаковой нельзя: ее звание, общественное положе-
ние и вес в театре исключают это. А хвалить очень не
хочется. И тогда в последней колонке возникает абзац:
«В другом спектакле главные партии Танцуют опытные
мастера — И. Колпакова и С. Бережной. В их интерпре-
тации зритель как бы воочию видит, чем обязаны «Силь-
фиде» не только «Жизель», но и «Шопениана». Все. Что
означает этот изящный период — сам автор рецензии
объяснить вряд ли сможет. Но это и не важно. Задача
выполнена: ни одной похвалы и легкий намек на возраст
балерины...
Но как бы ни складывались отношения, каким бы
ни было на самом деле художественное качество спек-
такля, я не помню, чтобы в последнее время приходилось
читать о том, что спектакль не удался, что исполнители
балета плохо танцевали... Всегда все хорошо или почти
хорошо.
Слов нет, от театральной рецензии нельзя требовать
абсолютной объективности. Наоборот, хорошая рецензия
должна нести печать личности критика, чутко восприни-
мающего танец, пристрастного в своих оценках, что-то
горячо поддерживающего или горячо отвергающего...
13
Но все же критик обязан отличать черное от белого,
ведь в противном случае теряется смысл критической
деятельности.
Чтобы реально представить спектакль, следовало бы
сравнить несколько отзывов. Но обилие рецензий на один
спектакль — теперь явление крайне редкое (исключе-
ние— спектакли Григоровича да иногда Виноградова),
а расхождения в оценках почти не случаются. Между
тем в прошлом тому масса примеров.
После опубликования рецензии пресса с балетным
театром в расчете. А спектакль живет, подчас дораба-
тывается, появляются новые исполнители, нередко окра-
шивающие его в иные тона; он может и буднично влачить
свою жизнь, а затем незаметно сойти со сцены. Все это
вне поля зрения критики и не зафиксировано печатным
словом. Только спектакли-долгожители могут рассчиты-
вать на повторное упоминание в печати, связанное с
юбилеем или возобновлением.
Исчезнув со сцены, спектакль остается только в памя-
ти труппы и зрителей. Только в памяти остаются сверше-
ния артистов, шумные восторги и потрясения зрителей.
Только память сохраняет образ балерины, темперамент
характерной танцовщицы, обаяние и парящий прыжок
премьера. Только память. Проходят годы, встречаются
люди и звучит: «А помните?..». Но память — ненадежная
и хрупкая вещь, да и она имеет предел — память уходит
вместе с людьми.
Что же остается? Статьи в периодике типа «Люди
искусства», «Творческий портрет», монографии о боль-
ших мастерах. Но обычно статьи подобного рода повест-
вуют о парадной стороне творчества, об успехах, побе-
дах. Они чаще всего появляются в связи с юбилеем, по-
бедой на представительном конкурсе, предстоящим на-
граждением; они могут быть написаны интересно и с
пониманием. Но они пишутся к случаю... Отсюда их од-
носторонность.
Монография дает большие возможности. Но право
на монографию надо заслужить. Трудом, талантом, ху-
дожественными свершениями и, наконец, официальным
признанием. Монография о народном артисте СССР за-
кономерна, о народном артисте республики — возможна,
но кто станет издавать книгу о просто хорошем танцов-
щике? (С другой стороны, не о каждом народном, право
же, стоит писать.) Монография — это всегда в каком-то
14
смысле итог, обобщение, а обобщение сглаживает част-
ное, живые черточки, преходящие мгновения сценической
жизни.
О балетном театре пишут мало, печатают еще меньше,
а напечатанные соображения подчас так отшлифованы,
что их помнишь, пока взгляд бежит по строчке. Мы
отвыкли от оригинального суждения, от всего, что отли-
чается от ординара. Необычная мысль, самостоятельная
оценка, высказанные печатно, кажутся дерзостью. Мо-
жет быть, поэтому так всех всколыхнул, а многих и за-
дел «Дивертисмент» В. Гаевского. Может быть, по-
этому такой острой и болезненной была реакция на
эту книгу.
Нет, ни газетные статьи, ни книги (по крайней мере,
такие, какими они чаще всего бывают теперь) не в со-
стоянии отразить живую жизнь балетного театра, помочь
удержать в памяти дорогие и радостные минуты многих
прекрасных спектаклей.
Но ведь еще остаются пленки...
О, пленки — это опасная вещь! Снимать балет стали
давно, почти сразу же после возникновения кино. Мы
видели на экране Павлову, Гельцер. Что кроме любопыт-
ства, удивления и недоумения вызывают эти кадры?
Разумеется, мы полны пиетета перед великими именами,
мы искренне верим в гениальность, величие и не хотим
верить своим глазам, а потому охотно все списываем на
несовершенство кинотехники. Да, техника была несовер-
шенной... Но такой ли несовершенной она оставалась
и перед войной, когда снимали Семенову, Дудинскую,
Чабукиани? После войны был сделан фильм «Мастера
русского балета». В нем снимались Уланова, Дудинская,
Сергеев, Плисецкая. Уланова в то время уже отказалась
от «Лебединого озера», и потому можно думать, что кине-
матограф запечатлел ее слишком поздно. Но Дудинская
лишь за несколько дней до того, как я впервые смотрел
этот фильм, танцевала «Лебединое озеро» на сцене, про-
изводя глубокое впечатление. Появление ее на экране из
зарослей тростника в туго завитом в бараньи кольца
черном парике уже тогда заставило содрогнуться, но та-
нец казался безупречным.
Балет «Ромео и Джульетта» сняли поздно, когда Ула-
новой было далеко за сорок. Но великая балерина еще
танцевала: можно было посмотреть и фильм и спектакль.
Потрясенный я уходил из театра, под большим впечат-
15
лением — из кинозала. Казалось, фильм почти адекватен
спектаклю. Говорили, что экран даже раздвинул узкие
рамки сцены. Недавно я смотрел эти пленки. Погрешно-
сти формы и техники у Дудинской смущают, еще более
смущает кощунственное сомнение в гениальности Улано-
вой — Джульетты. И это думаю и говорю я, испытавший
потрясение на многих спектаклях этих изумительных
балерин. Тем более этот вопрос задаст человек, который
никогда не видел Уланову на сцене. Несовершенство
техники кино?
Настала эра телевидения. Мы смотрим на сцене Пли-
сецкую, Осипенко, Колпакову, Максимову, Васильева...
Они совершенны. Фиксация их танца на пленке также
совершенна. Но что скажем мы (если доживем) об этих
пленках через десять лет, мы, которые многократно
видели этих прославленных артистов на сцене, мы,
утверждающие, что телевизионные записи «Ледяной де-
вы» Осипенко, «Галатеи» Максимовой, «Кармен» Пли-
сецкой великолепны? Опять усмотрим несовершенство
техники?
А может быть, аппарат ни при чем? Может быть,
объектив беспристрастно запечатлевает Время и пред-
ставление современников об идеале?
Музыка, литература, архитектура, живопись фикси-
руют свои шедевры на бумаге, на холсте, в камне. Но
музыка оживает только благодаря современному интер-
претатору-исполнителю. Литературную эпопею XIX
века читает человек века XX. Он со своих позиций с вы-
соты опыта своего времени воспринимает минувшее.
Бывает, что поколения людей равнодушны к полотнам
художника или даже целой художественной школы,
а затем потомки в них открывают для себя целые миры.
Одни поколения безжалостно ломают старые, обветшав-
шие здания, которые мешают им жить, а другие бережно
воссоздают их заново, тщательно реставрируют.
Самое удивительное, что иногда такие метаморфозы
происходят на протяжении жизни одного поколения.
Достаточно вспомнить, как в 50-е годы балерины Киров-
ского театра выбрасывали из квартир мебель красного
дерева, заменяя ее современной, а в конце 60-х начали
неутомимый поиск сохранившихся крох этого же крас-
ного дерева, канделябров в стиле ампир и прочей ста-
рины.
Ну а танец? Минуту назад опустился занавес, а его
16
уже нет. Он существует только в эмоциях зрителей,
которые шумно и благодарно вызывают участников
спектакля. Потом зритель расходится, остывает, остает-
ся только память о спектакле, которая в суматохе буд-
ничных дел ослабевает и тускнеет. Можно восстановить
балетный спектакль и заново интерпретировать шедевр
Петипа. Восстановить и интерпретировать искусство тан-
цовщика невозможно. Оно существует только в единении
со зрителем. Оно сиюминутно. Даже если оно зафикси-
ровано в техническом отношении совершенно, то оно
живо до тех пор, пока его объединяет со зрителем время.
Если между танцем и нами пролегло Время, то из танца
уходит жизнь. И тогда мы с удивлением, растерянностью,
грустью или злорадством смотрим старую балетную
пленку.
Может быть, тем, кого кино когда-то обделило своим
вниманием, не стоит об этом сожалеть? Может быть, им,
наоборот, повезло: памяти о них, легенды о них никогда
не коснется тень недоверия или сомнения?
О, пленки — опасная вещь!..
Но для чего я пишу обо всем этом?
Может сложиться впечатление, что, взявшись за эти
записки, я хочу исправить положение, заполнить пробел.
Конечно, нет. Я не настолько тщеславен, чтобы ставить
подобную цель, и не настолько самоуверен, чтобы ду-
мать, будто такая задача мне по силам. К тому же если
уж браться за подобную работу, то начинать ее надо
было значительно раньше.
В известной мере потребность писать возникла от
желания отчетливее осознать характер и направление
пути, пройденного на моих глазах более чем за сорок лет
ленинградским балетом.
Но и это не главное.
Тогда что же подтолкнуло к письменному столу?
Время. Возраст. Время и возраст. Возраст заставил
меня понять избитую истину — «все проходит», истину,
которой мы с восхитительной смелостью пренебрегаем,
когда нам нет тридцати, которую мужественно преодо-
леваем от тридцати до пятидесяти пяти и которая с такой
непреложностью делается нам очевидной после этого
срока. Время отдалило меня от театра, наполнявшего
мои молодые годы незабываемыми минутами восторга.
Оно сменило на моих глазах три поколения балетных
артистов, сдвинуло точки отсчета, до неузнаваемости
17
изменило лицо театра. Театр, который всегда жил во
мне, рядом со мной, который чуть не стал моей судьбой,
стал уходить, отдаляться, терять ясность очертаний.
И тогда остро захотелось вернуть его, воскресить,
уберечь для себя, снова пережить счастье тех далеких
минут. Захотелось рассказать о моем театре, о том, каким
его видел я, о том, каким его вижу сегодня.
Дмитрий Черкасский
1983
СПЕКТАКЛИ
«БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ФОНТАН»
«Бахчисарайский фонтан», между
нами, дрянь, но эпиграф его пре-
лесть.
А. С. Пушкин
Незаинтересованно, без всяких оттенков, на каком-
то усредненном mezzo forte играет оркестр. Музыка,
и без того не бог весть какая, звучит уныло, стерто —
еще немного, и, кажется, раздастся шипение старой,
заезженной пластинки. По раз и навсегда установленным
траекториям движутся персонажи балета, исполнители
с разной степенью успеха проделывают знакомые и на-
доевшие комбинации. Зритель, наш добрый, хорошо вы-
школенный зритель, ведет себя тоже традиционно: хло-
пает после каждого акта, встречает дирижера аплодис-
ментами перед последним, отзывается одобрительными
рукоплесканиями на заключительную позу вариации или
характерного танца; и только вспышки вежливо сдержи-
ваемого кашля — проявление неизбывного, перманентно-
го ленинградского трахеита — свидетельствуют, что
публика не захвачена спектаклем. На сцене с трудом
маскируемое равнодушие, в зале благосклонное любопыт-
ство. В Кировском театре идет «Бахчисарайский фон-
тан».
С недоумением и грустью смотрю на сцену, вгляды-
ваюсь в полутемный, слабо мерцающий бликами позоло-
ты зал. Неужели это тот спектакль, который в 1934 году
возвестил начало эры хореодрамы, драмбалета на совет-
ской сцене? Неужели это тот самый балет, удачи и на-
ходки которого на долгие годы предопределили пути
развития советского хореографического театра? Неуже-
ли это он пробудил к жизни необыкновенное дарование
20
двадцатичетырехлетней Улановой, стал этапным в твор-
ческой биографии многих балерин и танцовщиков труппы
Кировского театра? Неужели, наконец, художественные
принципы этого, теперь такого безобидно-незатейливо-
го спектакля, возведенные в абсолют, стали источником
неисчислимых бед и потерь для нашего балета? Трудно
поверить, что именно на нем зал Кировского театра
затихал, почти не дыша, а затем взрывался громом
нескончаемых, восторженных оваций. Когда глядишь на
сцену сейчас, это кажется невероятным, а утверждение,
что «Бахчисарайский фонтан» был одним из сильнейших
впечатлений моей театральной молодости, звучит почти
неправдоподобно. И тем не менее это так.
Конечно, проще всего, сославшись на пятьдесят лет,
отделяющих нас от премьеры, объявить спектакль без-
надежно устаревшим, а мое восторженное отношение
к нему — неискушенностью и пылкостью балетного нео-
фита. Но ведь зал театра в те времена был заполнен не
только пылкими юнцами, да и мне самому уже тогда,
на рубеже 40—50-х годов, спектакль не казался столь
новаторским, безукоризненным и совершенным. Но тем
не менее спектакли «Бахчисарайского фонтана» той поры
были действительно художественным явлением. Недаром
после премьеры в Кировском театре балет перенесли
в Большой театр, он обошел почти все сцены страны
и вышел за ее пределы.
Как всякий манифест — а «Бахчисарайский фонтан»
несомненно был манифестом хореодрамы — он отличал-
ся некоторой категоричностью, в силу которой даже его
недостатки подавались как принципиальные достижения,
а реальные успехи как первооткрытия, хотя источники
их были известны, и их можно было увидеть на сцене
того же Кировского театра. Сам же постановщик спек-
такля был убежден, что обладает балетной истиной
в последней инстанции. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно заглянуть в книгу Р. Захарова «Искусство балет-
мейстера», сданную в печать в июле 1953 года и чрезвы-
чайно характерную как для самого автора, так и для
времени, в которое она была написана.
Обстановку в балетном театре перед созданием своего
первого спектакля Захаров описывает следующим обра-
зом: «В то время балет переживал сложный период
своего развития. Балетмейстеры бросались в разные сто-
роны и не могли себе ясно представить, по какой же
21
линии должно развиваться искусство балета. Так, напри-
мер, Ф. Лопухов искал спасения в насыщении класси-
ческого танца акробатическими движениями и трюками.
Другой балетмейстер, К. Голейзовский, в эту пору нахо-
дился под влиянием западного «модерн-балета», вернее,
тех мюзик-холлов, через которые в свое время проникли
к нам так называемые «гёрлс». Третий балетмейстер,
Л. Якобсон, в те годы вовсе отрицал классический танец
и провозглашал замену его чистой пантомимой. Эти
балетмейстеры в своих работах... путались сами и по-
скольку они были авторитетами для балетных трупп
Москвы и Ленинграда, то и вели за собой по неправиль-
ному пути талантливых, способных артистов и других
балетмейстеров»*. Поставив на место своих современ-
ников, автор столь же четко расставил оценки и пред-
шественникам: «И. Вальберх, Гильфердинг, К. Дидло,
А. Глушковский, Жюль Перро, Лев Иванов, А. Горский
были наиболее яркими творцами содержательных, реа-
листических балетов... Титюс, Сен-Леон были типичными
танцмейстерами... Они насаждали в балете кукольность...
В балетах, сочиненных этими балетмейстерами, не могло
быть художественной правды, ибо они были далеки от
жизни... В путы... формалистического направления попал
талантливый балетмейстер М. Фокин... Став на этот путь
откровенного декаданса, Фокин, человек большого та-
ланта, погиб как художник. Даже огромная одаренность
не спасла его от идейного и творческого тупика». Сделав
обзор почти двухсотлетней истории русского и советского
балета, Захаров не счел необходимым хотя бы упомянуть
о М. Петипа: то ли он не укладывался в ясную схему,
начертанную Ростиславом Владимировичем, то ли его ба-
летмейстерская деятельность показалась автору мало-
заметной и не заслуживающей внимания.
Во всяком случае, становилось ясно, что выводить
балет из тупика суждено было самому Захарову, и он,
только что окончивший театральный институт с дипло-
мом режиссера драмы, горя желанием ввести ряд нов-
шеств в практику сочинения балетных спектаклей, с энту-
зиазмом взялся за дело. Смелость неофита легко понять,
тем более что на этот раз он оказался победителем, но
нельзя также не отметить, что идеи, породившие хорео-
* Захаров Р. Искусство балетмейстера. М., 1954. Далее все ссылки
по этому изданию.
22
драму «Бахчисарайский фонтан» были не только его
идеями; они носились в воздухе, подготовленные всем
течением художественной жизни балета 20—30-х годов.
В формировании их существенную роль сыграли две
тенденции. Первая, так сказать, «разрушительная», цели-
ком или частично отрицала всю предшествующую рус-
скую культуру. Понятия «балет» и «императорские теат-
ры» воспринимались как синонимы, что само по себе
служило достаточным основанием для ликвидации, а ро-
маны М. Кшесинской с членами царствующего дома
делали это требование безупречно аргументированным.
Конечно, далеко не все придерживались такой крайней
точки зрения, но само существование ее в разных вариан-
тах приучало к нигилистическому, неуважительному
отношению к классическому наследию, служило теоре-
тическим обоснованием его переделок и «улучшений».
Другая,— «созидательная», утверждая в балете принцип
реализма,— делала это прямолинейно, механистически,
чрезвычайно сужала, а подчас искажала само понятие
реализма. Она подрывала веру в выразительные возмож-
ности танца, заставляя во имя правдоподобия (но не
художественной правды!) ориентироваться на пантоми-
му, искать сюжетные оправдания существования танца
в балете. Доводы, используемые в полемике и практике,
тогда были отнюдь не академические. Ломались карьеры,
творческие судьбы. Надолго не у дел остался Лопухов,
не реализовал свои возможности Голейзовский...
Реалии художественной жизни тех лет формировали
Захарова. В многоголосице мнений он отбирал то, что
было ему ближе, что соответствовало его дарованию,
а отвергал и обесценивал, возможно, инстинктивно, то,
чем сам не обладал.
Безусловно, сильной и привлекательной стороной
Захарова был его режиссерский дар. Он умел выстроить
спектакль, рассчитать и подготовить его кульминации,
насытить его интересными подробностями. От него же
пошли те методы работы, которые затем были подхваче-
ны адептами хореодрамы — чтение экспозиции балета
на труппе, предварительная застольная работа с актера-
ми и их самостоятельная подготовительная, использова-
ние системы Станиславского. Все это, по его мнению,
«должно было повести балет по пути овладения методом
социалистического реализма». Но Захаров не был под-
линным хореографом, мыслящим категориями танца.
23
Если в сфере дивертисментного танца он чувствовал
себя уверенно, то в действенных сразу же ощущалась
ограниченность фантазии, творческого потенциала. Само
деление танца на действенный и дивертисментный, пред-
ложенное именно Захаровым, его высказывания проли-
вают свет на творческие взгляды и возможности балет-
мейстера. Поэтому небезынтересно привести их здесь.
Согласно Захарову, действенными танцами могут
считаться те, «в которых раскрывается содержание бале-
та и образы его героев... выявляются человеческие ха-
рактеры... Дивертисментные танцы характеризуют среду
и место, где происходит действие». Опираясь на эти
формулировки, заведующий кафедрой хореографии
ГИТИСа профессор Захаров тут же относит танцы бе-
лого кордебалета «Лебединого озера» к дивертисмент-
ным, так как они «дают представление о том, где проис-
ходит действие балета «Лебединое озеро» и где живет
заколдованная девушка-лебедь». Хотя от такого разъяс-
нения берет легкая оторопь, не будем всерьез обращать
на него внимание и отнесем на счет не совсем удачной
формулировки, вышедшей из-под пера маститого профес-
сора. Но далее Захаров растолковывает свое понимание
действенного танца. В качестве примера он использует
начало своего же «Бахчисарайского фонтана»: «...из-за
деревьев показалась фигура юноши, он кого-то ищет:
«Где Мария? Вот, кажется, мелькнуло ее платье... но нет.
Где же она?». Мария на цыпочках подкрадывается
сзади к Вацлаву и быстро закрывает ему глаза руками.
От неожиданности Вацлав резко поворачивается, но,
узнав Марию, радостно улыбается. «Здравствуй, Ма-
рия!» — говорит он, протягивая к ней руки. «Здравствуй,
Вацлав!» — отвечает Мария, но быстро ускользает от
него. Вацлав бросается ее догонять». И далее (курсив
мой): «Все движения танцующих должны передавать это
содержание, ибо они рождены им, точной задачей каж-
дого танцевального куска». Вот так. Какое счастье, что
исполнители премьеры «Бахчисарайского фонтана» еще
не читали книги Захарова. Они увидели в этой сцене не-
сколько другое содержание и не свели его к воплощению
известной с незапамятных времен канонической форму-
лы флирта. В противном случае балет вряд ли взволновал
бы современников, продержался на сцене 50 лет, а я с тре-
петом вспоминал те далекие спектакли конца 40-х —
начала 50-х годов.
24
Чтобы завершить разговор о Захарове-хореографе,
остановимся еще на одном эпизоде. «Бахчисарайский
фонтан» был написан Б. Асафьевым на программу
Н. Волкова еще до того, как к работе над балетом при-
влекли Захарова. Естественно, он внес в спектакль ряд
дополнений. Подчеркивая, что «речь шла не о вставках
таких сцен, которых могло бы и не быть в спектакле,
а именно о серьезных драматургических узлах, без кото-
рых произведение было бы менее выразительно», Заха-
ров упоминает мазурку первого акта, сцену возвращения
Гирея с набега, во время которой в гарем приносят
плененную Марию,— во втором, татарскую пляску и
казнь Заремы — в четвертом. Но особенно он подчерки-
вает важность введения им образа Нурали. Любопытно,
что цель создания нового персонажа балетмейстер свя-
зывает с необходимостью более глубокой и полной ха-
рактеристики Гирея: «Все качества и поступки Нурали —
его смелость, ловкость, решительность и жестокость —
являются как бы отражением качеств и поступков са-
мого Гирея, каким он был до встречи с Марией. Под
влиянием любви к Марии Гирей понял, что существует
иной... внутренний мир человека, иные идеалы и чувства,
которые... настолько переродили его дикую натуру, что
все то, что составляло прежде смысл его жизни, стало
вдруг ему бесконечно далеким и чуждым. В четвертом
акте после бесплодной попытки развлечь Своего властели-
на воинственной пляской и казнью Заремы Нурали...
удается наконец привлечь внимание своего господина.
Гирей... вглядывается в лицо своего еще так недавно
любимого военачальника... и внезапно понимает, что у
него с ним нет больше ничего общего: Нурали остался
прежним, а он уже другой. Они чужие друг другу».
Слов нет, предложения Захарова послужили на пользу
спектаклю, сделали его динамичнее, эффектнее, а появле-
ние Нурали вполне оправдано. Но Захарову не пришла
в голову такая естественная для хореографа мысль, что,
будь у Гирея дуэт не только с Марией, но и с Заремой,
а также другие танцевальные сцены, его образ раскрылся
бы во всей полноте и без помощи вспомогательного
персонажа, а мысль Белинского о перерождении дикой
души через высокое чувство любви (которую сам Захаров
считал ключевой для спектакля) была бы выявлена
подлинно хореографическими средствами. Впрочем, слу-
чись это — возник бы совершенно иной спектакль.
25
Оценивая творческий облик Захарова, я, несомненно,
проецирую на эту оценку свое сегодняшнее отношение
к его постановочной деятельности; сказывается и эволю-
ция, проделанная самим Захаровым. Идеи, питавшие
новаторство балетмейстера, достаточно быстро исчер-
пали себя, а каждый его новый балет все убедительней
обнаруживал слабость и ограниченность Захарова-хорео-
графа. Так случилось, что первый спектакль двадцати-
семилетнего балетмейстера «Бахчисарайский фонтан»
оказался его лучшим творением. В него он вложил все,
что имел, сказал все, что мог сказать. Чтобы убедиться
в этом, достаточно привести список работ Захарова.
За «Бахчисарайским фонтаном» (1934) последовал в
1936 году «хореографический роман» «Утраченные иллю-
зии», где Захаров, развивая свои находки, в еще большей
степени предстал режиссером, чем хореографом. Он
увлек труппу новыми актерскими задачами, новым мето-
дом подготовки к спектаклю, проявил немало изобрета-
тельности, однако создать балет о балете (сюжет «Утра-
ченных иллюзий» рассказывает о жизни труппы Париж-
ской оперы) без балета оказалось безнадежной затеей.
Не спасли ни серьезность намерений, ни значительность
первоисточника, ни режиссерские ухищрения, ни блиста-
тельный ансамбль исполнителей — Уланова, Дудинская,
Сергеев, Шавров. Спектакль прошел всего несколько
раз. Он остался в истории советского балета, но не в его
репертуаре. За «Утраченными иллюзиями» последовали
«Кавказский пленник» (1938), «Золушка» (1945), «Ба-
рышня-крестьянка» (1946), «Медный всадник» (1949),
«Красный мак» (1949) и, наконец, «В порт вошла «Рос-
сия» (1964).
Судя по виденным мною «Красному маку», «Медному
всаднику», «Золушке», спектакли Захарова становились
все более тяжеловесными, перегруженными бытовыми
подробностями, а их хореографический язык оставался
неразработанным и однообразным. Пожалуй, наиболее
благополучным в этом отношении был «Красный мак»,
но именно здесь, несмотря на революционный сюжет,
нашли применение каноны старого балета с обязатель-
ными вариациями, pas d’action и сценой сна. Многократ-
но обруганный и раскритикованный самим Захаровым
императорский балет сослужил ему на этот раз хорошую
службу. Странно только, что уже после постановки
«Красного мака» Захаров позволил себе следующий
26
выпад в адрес Лопухова: «Балетмейстер Ф. Лопухов,
создавая «Светлый ручей», руководствовался эстетиче-
скими нормами старого придворного императорского
балета и перенес их в новый балет, приклеив к новому
содержанию».
Четырехактная, десятикартинная громада «Медного
всадника», по существу, представляла собой собрание
живых картин, а его единственная по-настоящему тан-
цевальная сцена — «Дворик Параши»,— не лишенная
приятности, состояла из общеизвестных хореографиче-
ских банальностей. «Золушку» не спасали ни сказочный
сюжет, ни великолепная музыка Прокофьева, ни техни-
ческие и материальные возможности Большого театра:
спектакль при внешнем обилии танцев был эклектичен
и абсолютно лишен поэтичности. Что же касается по-
следнего ленинградского спектакля Захарова «В порт во-
шла «Россия», то, кроме недоумения и чувства нелов-
кости за маститого балетмейстера, он ничего не вызывал.
Эта постановка с очевидностью продемонстрировала,
к чему пришел балетмейстер и несомненно ознаменовала
собой общий кризис хореодрамы и неспособность Заха-
рова к дальнейшему творчеству.
Да, поистине дни создания «Бахчисарайского фонта-
на» оказались звездным часом Захарова. Он сочинил
волнующий спектакль, продуманный, выстроенный ком-
позиционно, изобилующий блестящими находками, выра-
зительными мизансценами, спектакль, в котором тонкий
психологический анализ сочетался с непосредствен-
ностью, эмоциональной приподнятостью, спектакль... Я
готов написать еще много хвалебных слов в адрес
постановщика. И все же славу «Бахчисарайскому фонта-
ну» создали его первые исполнители. Кажется удиви-
тельным, что они, в сущности, на ограниченном мате-
риале сумели подняться до таких высот. Но как ни па-
радоксально именно это обстоятельство — неспособ-
ность Захарова создать развернутый хореографический
текст главных партий, его приверженность пантомиме,
методы работы, попытка придать каждому движению
сюжетное содержание — подвигли их на напряженный
творческий поиск, а недоверие к выразительным воз-
можностям танца, характерное для того времени, заста-
вило искать новые средства в смежных сферах и видах
искусства. Такое оказалось под силу немногим. Необхо-
димы были не только одаренность, но и пытливый ум,
27
жажда работать, дерзать, пробовать, добиваться; необ-
ходимы были понимание задачи и творческая одержи-
мость.
В создании «Бахчисарайского фонтана» участвовали
Г. Уланова — Мария, О. Иордан и Т. Вечеслова — За-
рема, К. Сергеев — Вацлав, М. Дудко — Гирей. Спек-
таклем дирижировал молодой Е. Мравинский, его оформ-
ляла В. Ходосевич. О каждом из них можно сказать
много добрых слов, истратить не один десяток эпитетов.
Но на этих страницах я буду писать только об Улановой,
Вечесловой и Шелест. Последняя вошла в спектакль
через девять лет после премьеры, но ее Зарема стала
одним из шедевров актерского исполнительства в этом
удивительном и таком противоречивом балете.
«Бахчисарайский фонтан» начинается сценой свида-
ния Марии и Вацлава, а следовательно, выходом Ула-
новой. В этом выходе нет ничего от традиционного
антре прима-балерин. Он никак не подготовлен ни
музыкально, ни хореографически. Да и сама Уланова
не пыталась придать ему эффектность и значительность,
что, впрочем, вряд ли и было возможно при ординарном
содержании сцены, незамысловатой хореографии и
хороших, но отнюдь не ошеломляющих профессиональ-
ных данных самой балерины. Уланова обладала лег-
ким, но не очень большим прыжком, достаточным,
но совсем не поражающим шагом. Зато арабеск ее был
чист и строг по форме, в нем корпус и ноги балерины
делили пространство на три равных угла, что сейчас почти
невозможно увидеть. Форма ног была выразительна, но
особенно утонченно красив их низ с хорошо схваченной
стопой. Это, конечно, украшало танец Улановой, но не
делало его в технологическом плане чем-то исключитель-
ным, выдающимся. Так потом танцевали эту партию
многие... Секрет воздействия Улановой был в ином.
Бесчисленные арабески и аттитюды (ничего другого
балетмейстер не смог предложить) Уланова окрашивала
почти неуловимыми, не поддающимися словесному
определению оттенками. Взгляд, наклон головы, чуть
измененный ракурс или высота придавали им бесконеч-
ное разнообразие. Изменчивые полутона окутывали
танец какой-то смягчающей очертания дымкой, обвола-
кивали его атмосферой душевности, искренности,
непосредственности лирического высказывания. Но в
28
тончайших переливах этого танца не было ничего от
рафинированности. Он был целомудрен, светел, покоен.
Уланова заставляла следить за собой неотступно, заво-
роженно. Так смотрят, отдыхая душой, на струи тихой
вечерней реки, на изменчивые очертания легких облаков,
на неуловимые тени, пробегающие по угасающим
углям костра — тихо, сосредоточенно, умиротворенно.
Было всегда как-то обидно, когда благодарные апло-
дисменты разрушали это настроение в финале дуэта.
Но они же возвещали и первый переломный момент
в сценическом действии. Асафьев и Захаров готовят
его мастерски. Глухой рокот литавр создает ощущение
неустойчивости и тревоги; как юркие змейки на
его фоне проскальзывают неоконченные обрывки мело-
дии. Исчезает Мария, вслед за ней устремляется
Вацлав, крадучись появляются и скрываются татарские
лазутчики, пробегает встревоженная стража замка.
Снова мелькает в лунном свете белое платье Марии,
безуспешно пытается найти ее Вацлав. Ощущение
тревоги растет, вот-вот что-то должно случиться, но
вместо этого распахиваются двери замка, звучит полонез
и по маршам лестницы в парк спускаются две извиваю-
щиеся шеренги танцующих. Действие вступает в новую
фазу. Начинается бал.
Несмотря на постоянно декларируемое новаторство
Захарова, этот центральный эпизод первого акта решен
вполне традиционно. Образец, которому балетмейстер
следовал,— польский акт «Ивана Сусанина». Оттуда со-
став сюиты танцев: полонез, мазурка и краковяк. Оттуда
же взята идея создания посредством этих танцев
обобщенного портрета польской шляхты. Правда, Заха-
ров добавляет к общей массе двойку панненок, двойки
юношей и стариков с их танцем-состязанием, придумы-
вает и режиссирует занимательные подробности вроде
терзаний незамеченной и обойденной в танце тщеславной
красавицы. Здесь, в сфере характерного танца, он
чувствует себя гораздо увереннее. Пожалуй, в хореогра-
физическом отношении сцена бала — самый цельный и
интересный фрагмент спектакля. В этом смысле с ней
может соперничать только татарская пляска из последне-
го акта.
В польском акте «Сусанина» есть еще вальс. В сюите
танцев «Бахчисарайского фонтана» его нет, но вариация
Марии написана quasi valse. Здесь Уланова находила но-
29
вые краски образа Марии. Польская княжна танцевала
под взглядом многочисленных знатных гостей. Посадка
прежде мило склоненной головки здесь делалась гордели-
вой, подтягивался и выпрямлялся корпус, более чекан-
ным становился жест вскинутой над головой руки.
Но свобода движений сохранялась. С детства привыкшая
к свету, Мария не страшилась его. Внимание окружаю-
щих ей было привычно. Но новые пластические интона-
ции Уланова вводила осторожно. Это был не сочный
мазок, а, скорее, тонкая лессировка, придающая
портрету очарование и живость.
Глядя на Уланову в адажио, я часто задумывался,
любит ли Мария Вацлава. Эта мысль появлялась не слу-
чайно. Уланова танцевала не любовь, а предощущение
любви, не чувство, а поэзию его пробуждения. Признания
Вацлава Марию смущали, озаряли трепетным светом, но,
казалось, еще не западали в душу, не овладевали всем ее
существом. Совсем не так воспринимала ее Джульетта
признания Ромео, совсем по-другому смотрела на него.
Мария Улановой доверчиво и радостно склоняла голову
на грудь Вацлава, но делала это как сестра, встретившая-
ся с любимым братом.
Этому впечатлению способствовало еще одно обстоя-
тельство. При всей трепетности и искренности поведения
Марии в эпизодах первого акта в ней присутствовала
еле уловимая отстраненность, сдержанность. Это была не
надменная замкнутость или холодность польской аристо-
кратки, не тем более сухость или скованность. Марию
Улановой отделяла от всех какая-то погруженность в се-
бя, в мир своих чувств и эмоций, не до конца еще осознан-
ных ею самой. Но этот недоступный и едва угадываемый
внутренний мир юной полячки говорил о важнейшем —
ее духовности. Возможно, этому ощущению способство-
вала существенная особенность танца Улановой: его
внешняя скромность, простота и естественность
неизменно соединялись с тонкой, подвижной эмоцио-
нальностью, проявляемой сдержанно, почти скупо и
оттого особенно значительной. Искусство Улановой было
вообще немногословно.
Сколько я потом видел Марий! Многие исполнитель-
ницы хорошо танцевали (не хуже — возможно, и лучше
Улановой), были наделены привлекательной внешностью,
обаянием, лирическим даром, рисунок роли у них был
тщательно и умно разработан, но они не вытеснили
30
из моей памяти образ Марии, созданный Улановой.
Думаю, что именно сочетание тончайшего лиризма
и духовности сделали Марию Улановой подлинно
пушкинским образом, образом романтической поэмы.
Героиня Улановой была не только и не столько персона-
жем некоей драмы, происшедшей где-то на грани XVII—
XVIII веков, она воочию воплотила мечту романтиков
начала XIX века и молодого Пушкина о прекрасном,
но недосягаемом идеале.
Не знаю, было ли все это итогом осознанной рабо-
ты и устремлений Улановой. Возможно, подобный сплав
возник непреднамеренно, имея истоком личные качества
самой актрисы: ее неброскую внешность, подчеркнуто
сдержанную манеру поведения в жизни, умение сохра-
нять в общении дистанцию...
Между тем бал достигал апогея. На самом взлете
темпераментного краковяка к ногам хозяина замка падал
окровавленный воин. Татары!
Сцена боя, о создании которой так любовно и с чув-
ством гордости рассказывает Захаров в книге, действи-
тельно принадлежит к удачам спектакля, да и вообще к
самым ярким достижениям балетмейстера. Она блестяще
срежиссирована, динамична, состоит из многих запоми-
нающихся эпизодов (например, ксенз с крестом в руках,
пытающийся защитить им двух панненок). Калейдоскоп
отдельных сцен составляет единую, развивающуюся и
нарастающую crescendo линию. Даже паузы между
эпизодами, даже пожар замка, его дым и пламя мастер-
ски включены в общую композицию и нагнетают
напряжение. Но венцом сцены боя, заключительным
и сильнейшим аккордом всего акта становится появле-
ние Гирея.
Опустела сцена, кое-где остались только тела убитых,
в окнах замка полыхает огонь. Бой переместился в другое
место. Из горящего дворца, плохо различимые в клубах
дыма, появляются Вацлав и Мария: он с саблей в руке,
она укутанная шарфом, с арфой, под звуки которой еще
недавно танцевала перед восхищенными гостями. С пер-
вым появившимся вражеским воином Вацлав справляет-
ся легко, кажется, еще мгновение — и они спасутся.
И тут появляется Гирей. Он врывается как мощный
хищник. Его стремительный бег на присогнутых ногах на-
поминает повадку пантеры, руки как крылья разметаны в
стороны, сзади, вздыбленный ветром, всполохом пламени
31
летит плащ. Описав полукруг, Гирей замечает беглецов
и застывает в полной динамики позе. Возникает живая
картина: слева Вацлав с Марией за спиной, в центре
Гирей, справа за ним Нурали и татарские воины.
Все неподвижны, только языки пламени мечутся в окнах
гибнущего дворца. Коротким жестом Гирей останавли-
вает готовых ринуться на Вацлава татар и снова засты-
вает. Вацлав отчаянно бросается на Гирея, тот, непод-
вижный до последнего мига, мощным, хорошо рассчи-
танным ударом поражает его. В ужасе отворачивается
Мария. Гирей устремляется к своей добыче, срывает с нее
шарф и... цепенеет. Неподвижная, с распахнутыми
глазами смотрит Мария на Гирея, их взгляды
встречаются... Гирей медленно склоняется перед своей
пленницей. Занавес.
Сколько писали об этой великолепной и емкой в своей
выразительности мизансцене Захарова! Во взгляде и позе
Улановой усматривали смелость, волю, мужество. Ду-
маю, что Уланова здесь воплощала только оцепенение
ужаса. В считанные мгновения сценического времени
вряд ли и возможно было сыграть что-то более сложное
и многозначительное. Но секрет впечатляющей силы
сцены, секрет ее неоднозначного восприятия, по-моему,
заключается именно в ее полной статичности. Расчет-
ливо подготовленная динамикой боя, мгновенной сменой
мизансцен после появления Гирея, она заставала
зрителя врасплох и подгоняла его встревоженную фан-
тазию. В этот момент Улановой, кроме самой ситуации,
уже ничего играть было не надо. Все оставшееся
за пределами видимой пластики возникало в воображе-
нии зрителей, направляемом представлением о Марии,
уже созданным Улановой в первом акте. Мне, например,
всегда казалось, что, встретив взгляд Марии, необуздан-
ный деспот впервые видит в нем достоинство — что-то
незнакомое, поражающее своей новизной и покоряющее.
Ведь в конце концов смысл пушкинской поэмы и заклю-
чен в победе духовности над жестокой тиранической
силой.
Действие второго акта балета развертывается в гаре-
ме Гирея. Лениво развлекаются жены-затворницы, драз-
нят евнухов; приглашают к неге и покою разбросанные
повсюду подушки, приглушенно журчат струи фонтана.
Словом, традиционный ориентальный гаремный набор,
который с удовольствием изображали на сцене конца
32
прошлого века. Нет только обнаженных одалисок. Зву-
чит томный вальс. Из правой кулисы, еще до подня-
тия второго занавеса, окруженная прислужницами, появ-
ляется Зарема.
Если партия Марии не отличается у Захарова инте-
ресной и развитой хореографией, то с партией Заремы
дело обстоит отнюдь не лучше. Во-первых, она просто
мала и, по существу, сводится к распадающемуся на
три части хореографическому монологу во втором акте и
полупантомимной сцене в третьем, а во-вторых, она
основана на тех же арабесках и аттитюдах, ее хореогра-
фический текст лишен какой-либо индивидуальной ок-
раски. Можно только поражаться, как, используя каждое
мгновение пребывания на сцене, каждую позу, каждый
шаг, и Вечесловой, и Шелест удалось добиться столь
захватывающего результата. Если при исполнении пар-
тии, насыщенной вариациями и адажио, впечатление
различной трактовки может возникнуть просто в силу
различия физических данных танцовщиц (я уже не го-
ворю о сознательной работе по воплощению творческого
замысла), то в этом случае добиться различного плас-
тического толкования столь однообразного и ограничен-
ного материала практически не представлялось возмож-
ным. Действительно, внешний рисунок роли у Вечесловой
и Шелест был почти одинаков. Они точно следовали
тексту, сочиненному Захаровым. И тем не менее их
Заремы были совсем разными, причем ни одна из них
не уступала другой в совершенстве воплощения и силе
характера. Источником этого различия была самобыт-
ность индивидуальностей замечательных балерин. В эпи-
зоде появления Заремы обе они подчеркивали не томную
негу, которую так часто пытаются передать ленивым
шагом и колыханием бедер, не упоенное самолюбова-
ние и настойчивую демонстрацию своей красоты, а
отрешенность. Но как различны были истоки этой отре-
шенности.
Зарема Вечесловой, вознесенная любовью Гирея на
недосягаемую высоту, гордо и, возможно, чуть презри-
тельно взирала на окружающий ее гаремный мир. Что
ей мышиная возня, интриги и жалкие ссоры каких-то
наложниц, что ей льстивое угодничество евнухов, завист-
ливые и восхищенные взгляды? Все это недостойно вни-
мания избранницы Гирея. Но, пренебрегая, она все же
не забывает о всеобщем, пусть и показном, преклоне-
нии. Она слишком женщина, чтобы забыть о нем, оно
позволяет Зареме Вечесловой еще острее, сладостнее
ощутить беспредельность и силу своего чувства к Гирею.
Зарема — Шелест тоже отстранена от гаремного ми-
ра. Но для нее он просто не существует. Любовь к
Гирею это первое, всесильное и необъяснимое чувство,
заполнившее ее существо. Оно подчинило себе Зарему,
не оставило места ничему другому, стало смыслом ее
жизни, да нет — самой жизнью. Она просто не слышит
слов гадания, ее глаза лишь скользят по стеклу услуж-
ливо поднесенного зеркала, до нее не доносится шум об-
щей возни. Зарема — Шелест вслушивается в себя, она
целиком погружена в свой мир, заполненный без остат-
ка Гиреем.
Зарема горда. Но Зарема Вечесловой горда своей
властью над сердцем Гирея, исключительностью своего
положения. Гордость героини Шелест оберегает ее
чувство от любых посторонних посягательств.
При своем появлении Зарема — Шелест поражала
зрителей красотой. Об этом необходимо сказать особо.
Ленинградская сцена знала еще одну Зарему-кра-
савицу — Инну Зубковскую. Ее красота признавалась
всеми, не только мужчинами, что не удивительно, но
и женщинами, что бывает гораздо реже. Действительно,
облик Зубковской всегда вызывал восхищение: обладая
яркой, даже броской наружностью, которая так часто
соседствует с вульгарностью, она владеет также безуп-
речным чувством стиля. Яркость глаз, четкий рисунок
бровей, губ, линию шеи она любит подчеркивать золоты-
ми кольцами цыганских серег, но тут же смягчает
эту «дерзость» .спокойной гладью туго зачесанных блес-
тящих черных волос. Этой точно найденной прическе
она оставалась верна почти всегда и даже если иску-
шение побеждало — например, в период всеобщего
увлечения париками,— то ненадолго. Зубковская пони-
мала, что, уступая моде, она теряет какую-то долю
своеобразной, присущей только ей красоты. Эту тему
можно было бы развивать достаточно долго, но если к
сказанному добавить, что природа наделила Зубков-
скую и великолепными изысканно-удлиненными линия-
ми, то читатель легко поймет, почему на ее спектаклях
то и дело раздавалось: «Боже, как красива Зубковская
в Зареме!».
О красоте Заремы — Шелест тоже говорили много и
34
часто; присоединяясь к общим восторгам, я и теперь
готов повторить: «Боже, как красива была Зарема —
Шелест!». Однако перестановка слов в этом возгласе
для меня не случайна. Если Зубковская отдавала взай-
мы свою красоту персонажу спектакля, как дают на
один вечер элегантное и модное платье близкой подруге,
то Шелест делала прекрасным сам персонаж. Осле-
пительная и гордая красота ее Заремы была сутью,
стержнем создаваемого ею образа, что ощущалось почти
мгновенно, после первых ее шагов в филигранно сде-
ланном выходе.
Но вот шум, общее оживление, мелькание в резных
переплетах окон татарских бунчуков возвещают о возвра-
щении войска и Гирея. Сейчас для Заремы настанет
радостный миг встречи. Служанки освобождают ее
от покровов красного парчового халата, и Зарема остает-
ся в открытом золотисто-белом, богато украшенном жем-
чугами наряде. В белой чалме, увенчанной султаном,
с переплетенными над головой руками она, стоя на
пальцах, устремленная, как пламя свечи, вверх, прибли-
жается в медленном pas de bourre к хану. Она вся
открыта, вся на виду. Ведь ею любуется он, ее Гирей.
Это танец — призыв. Но его пластику Вечеслова и
Шелест интонировали по-разному. В Зареме Вечесловой
было больше страстности, открытого порыва, чувствен-
ности. Героиня Шелест, более сдержанная, даже в эту
минуту оберегала свое чувство от тщеславной суетности,
что придавало танцу удивительную наполненность и
значительность.
Но призыв Заремы не получает ответа. Ее останав-
ливает отсутствующий взор Гирея. Истинная женщи-
на — Зарема Вечесловой — может найти этому лишь
одно объяснение: поблекла ее красота. Она бросается
на ложе, хватает зеркало и внимательно, придирчиво изу-
чает свое отражение. Ее взгляд напряженно иссле-
дует каждую черточку, а когда бесстрастное стекло
убеждает, что красота ее безупречна, Зарема успокаи-
вается. Ее не волнует появление в гареме новой плен-
ницы; пускай Гирея отвлекут от забот наложницы с
подносами, полными спелых плодов, пусть развлечет
его маленькая плясунья с колокольчиками, час Заремы
еще настанет.
Послушная воле постановщика, не найдя отклика на
свой призыв, Зарема — Шелест тоже бросается к
2**
35
зеркалу. Но она не скользит по нему взором в поисках
едва заметных изъянов. Не эта суетная женская мысль
толкнула ее к нему. Взгляд ее темных глаз присталь-
но вперяется в зеркальную глубину. Она не смотрит —
она вопрошает судьбу, силясь в мерцающей потусто-
ронности стекла найти ответ. Может быть, он показался
безрадостным, может быть, зеркало не дало ответа, но
Зарема погружается в тяжелую думу, от которой ее
пробудят только звуки рояльной каденции.
И снова этот хореографический монолог Вечеслова
и Шелест танцевали различно, вернее, при абсолют-
ной идентичности текста наполняли его разным содер-
жанием. Зарема Вечесловой начинала танец, исполнен-
ная сознанием могущества своего женского обаяния
(ведь зеркало подтвердило, что она прекрасна), обаяния,
которое не может оставить Гирея равнодушным. Сла-
достны и пленительны были изгибы ее бедер, вкрадчивы
движения колышущихся рук. Какое мужское сердце
способно не откликнуться на этот призыв? Еще мгнове-
ние — и Гирей сожмет ее в своих объятиях. Но уходят
мгновения, Гирей безучастен, и Зарему охватывают
смятение, страх. Пластика ее теряет свою кантилен-
ность, прыжки становятся резкими, «рваными», туры
судорожными, а когда, наконец, Зарема осознает, что
отвергнута, то все ее существо охватывает бурная,
ослепляющая ярость. Теперь пальцы ног отчаянно
втыкаются в землю, почти разнузданно изгибаются
бедра: Зарема, задыхаясь от бессилия, выдает свое пора-
жение. О, какой козырь она дала соперницам! Сразу
же ее поражением пытается воспользоваться вторая
жена хана, а когда Гирей, не взглянув, уходит, град
насмешек обрушивается на Зарему. С ней торопятся
расплатиться за все: за гордость, за пренебрежение,
за былое счастье. Ведь месть так сладостна, если оче-
видно, как жестоко ранит каждая насмешка. Зарема
окончательно теряет голову, и, когда на мгновение
она остается с Гиреем наедине, то, уже почти ни на
что не рассчитывая, бросается к нему за объяснением.
Ответ Гирея безжалостен — Зарема больше не нужна, и
его однозначность и непререкаемость не оставляют
никаких надежд. Зарема теряет сознание.
Трудно сказать, о чем передумала Зарема — Ше-
лест, пока возлежала на парчовых подушках, но
начинала она свой монолог собранно, сдержанно и до-
56
стойно. Его значительность, выразительная красота как-
то вуалировали призывность пластики, чувственность и
истому. Казалось, что такой Зареме, не только делившей
с Гиреем ложе, но и познавшей его чувства, думы,
духовную сущность (вспомните: «Давно все думы, все
желанья Гирей с моими сочетал»), трудно и мучительно
опуститься до публичного «зазывания» своего повели-
теля, на что так легко и охотно идут остальные обита-
тельницы гарема. Она знает, что ее Гирей и без этих
ухищрений все поймет. Но поскольку он остается нем
и слеп, поскольку ни одна струна его души не отзыва-
ется на призыв — мир рушится для Заремы. Ее охваты-
вает не ярость и не отчаяние покинутой женщины, не
бешенство ревности, отнимающей разум, а безысход-
ное, глубокое горе, ужас внезапного одиночества, пони-
мание бессмысленности дальнейшего существования.
Мы становимся свидетелями трагедии, крушения, распа-
да человеческой судьбы. Зарема потрясена: измена близ-
кого (единственного на всем свете!) человека отделяет
ее от остального мира. Ее не ранят насмешки обитатель-
ниц гарема, она просто не слышит их. В памяти проно-
сятся картины былого, бесконечного, ничем не омра-
ченного счастья:
«...и с этих пор
Мы в беспрерывном упоенье
Дышали счастьем; и ни раз
Ни клевета, ни подозренье,
Ни злобной ревности мученье,
Ни скука не смущали нас».
Нет, невозможно, чтобы Гирей разом все забыл, и
Зарема бросается к Гирею, чтобы взглянуть в его глаза.
Она готова увидеть в них все: гнев, подозрение, холод-
ность, жалость на худой конец. Но видит пустоту; и
именно это, а не безжалостная решимость, с которой он
освобождается от ее объятий, сражает Зарему.
Не знаю, достаточно ли ясно приведенное описание
дает читателю этих страниц представление о разнице
трактовки партии двумя удивительными балеринами.
Но если требуется короткая формулировка этого разли-
чия, то я бы сказал так: Вечеслова темпераментно и
обольстительно воплощала драму покинутой женщины,
женщины гарема, которая весь смысл существования
видит в служении своему повелителю, а высшее
37
счастье — в счастье принадлежать ему; Шелест же, воп-
лощая трагедию отвергнутой любви, любви преданной и
страстной (эта тема задана сюжетом, и без ее убедитель-
ного воплощения создание образа Заремы немыслимо),
танцевала еще и крушение гармонии мира, трагедию
обманутого доверия. Зарему — Вечеслову Гирей бросал,
Зарему — Шелест — предавал. Таков был замысел бале-
рин. Так это воспринимал и зритель. Но значительная
разница в решении образа Заремы приводила к одному,
еще более серьезному различию, которое я понял и оце-
нил далеко не сразу, а только после памятного мне до
сих пор спектакля.
Приезжая на гастроли в Ленинград, Уланова танце-
вала «Бахчисарайский фонтан» обычно вместе с Вечесло-
вой. В этом не было ничего удивительного, их связы-
вало многое: общность биографий — одногодки, они
вместе учились в хореографическом училище у одних и
тех же учителей, вместе были приняты в театр, обе
стали участницами премьеры «Бахчисарайского фонта-
на», наконец, их связывала долгая, пока еще ничем не
омраченная, дружба. Их дуэт в этом спектакле тогда
почти всеми почитался идеальным. Но однажды в уже
объявленном спектакле Вечеслову внезапно заменили
Шелест.
Театр, как водилось в таких случаях, был пере-
полнен. Не уместившись в своей ложе, артисты балета
рассыпались по ярусам и вперемежку с безбилетной
молодежью расположились на барьерах лож. Я, не утруж-
давший себя в те годы предварительной покупкой биле-
та (как и теперь — занятием хлопотным), безуспешно
рыскал по партеру в надежде найти свободное место.
Положение казалось безвыходным. Выход, как всегда
в таких случаях, нашла Зинаида Васильевна — тогдаш-
ний страж партера, дама немолодая, импозантная, стро-
гая, гроза самодеятельных «зайцев», с которыми она
расправлялась виртуозно и молниеносно, но располо-
женная ко мне (за что я ей до сих пор благодарен) и
приходившая на помощь в трудных случаях. Она-то и
водворила меня в кресло четвертого или пятого ряда
партера, посадив владелицу этого кресла мне на колени.
Владелице было лет десять, ее сопровождала мама или
моложавая бабушка, о чем я был проинформирован
предварительно той же Зинаидой Васильевной и
предупрежден, что на коленях у меня сидит будущая
38
балерина. Это была М. Васильева, действительно тан-
цевавшая впоследствии на сцене Кировского театра.
Первый и второй акты балета прошли прекрасно.
Видно было, что и Уланова и Шелест танцуют с
подъемом, находятся в хорошей форме. Это наэлектризо-
вывало зал и обостряло мое восприятие. Спектакль явно
удавался. Все с нетерпением ждали третьего акта, по
залу циркулировал слух, что из-за внезапности замены
балерины будут танцевать его без единой совместной
репетиции. Но, во всяком случае, ничто не предвещало
того художественного потрясения, которое мне дове-
лось испытать.
Известно, что третий акт балета начинается сценой
одиночества Марии, разделяемой на две части приходом
Гирея. Как часто теперь эта сцена с элементарным,
чтобы не сказать убогим, хореографическим содержа-
нием, с обилием длиннот (чего только стоит бесконеч-
ное воспроизведение игры на арфе) становится испыта-
нием зрительского терпения. Как часто актрисам, не об-
ладающим подлинным лирическим даром, улановской
палитрой тончайших оттенков чувства, нечем заполнить
нескончаемое время. Они томятся сами, изображая
томление Марии, и безбожно томят зрителей. Приход
Гирея на некоторое время оживляет сценическое
действие, а затем оно снова возвращается в прежнее
однообразное русло. Сама музыка балета, где ритмы
мазурки без всякого перехода сменяются грустной,
унылой мелодией гобоя, создает здесь для исполнитель-
ницы дополнительные сложности. Забавно, но и печаль-
но смотреть теперь на сцену Кировского театра, где
резвящаяся под звуки мазурки Мария вдруг останав-
ливается, оглядывает нависающие сине-зеленые стены,
старательно изображает на своем лице «ах да, я же в
гареме» и принимается добросовестно изображать скорбь
и страдания своей героини. Слов нет, этот переход
психологически труден, тем более что он не сделан
самим балетмейстером, но все же актриса, танцующая
на сцене, где спектакль был создан, не имеет права на
такую беспомощность и неосведомленность в приемах
хореодрамы.
Разумеется, на том спектакле подобные мысли не
приходили в голову. Магия таланта Улановой и заклю-
чалась в том, что каждый миг пребывания своей
героини на сцене она наполняла подлинной жизнью
39
духа. Она не пользовалась локальными красками: печаль
ее Марии была светла, а воспоминания о прошлом
в ритмах мазурки прикрыты флёром грусти — потому
так органично и естественно одно переходило в другое.
Но, обладая этим бесценным даром, Уланова осоз-
нанно соединяла его с тщательно разработанной, много-
кратно отрепетированной и все же первозданно-вдох-
новенной пластической выразительностью.
Взгляните на старые фотографии Улановой, сделан-
ные вскоре после премьеры, нет, не взгляните, а вни-
мательно рассмотрите их. Этих фотографий сравнитель-
но много, они общеизвестны и часто репродуцируют-
ся. Постарайтесь забыть о старомодности грима, усугуб-
ленной тщательной ретушью, не обращайте внимания на
их статичность, иногда даже застылость, и чрезмерную
четкость контуров, вызванную условиями съемки в
ателье, простите плоский, невыразительный свет — ведь
этим фотографиям почти полвека, техника ушла далеко
вперед, и мы привыкли к совсем другой манере. Но если
усилием воли вам удастся преодолеть архаические
приметы времени, то откроется совсем иное.
Вот Мария с Гиреем. Его рука на ее правом плече.
Оно опустилось, пытаясь освободиться от тягостного
прикосновения; другая рука тянется к плечу, чтобы от-
вести руку Гирея. Черты лица с прикрытыми глазами
почти спокойны, но выражение его скорбно, по нему
разлит какой-то отблеск боли. Нет, это не борьба —
Мария уже теряет силы, и ощущение бессилия создает
мягкая, «скатывающаяся» линия приподнятого левого
плеча, опущенного правого и безжизненно повисшей
руки.
Другая фотография... Мария на коленях, сжалась ко-
мочком, Гирей, склонившись над ней, прижимает одну
руку к груди, а вторую простирает над Марией. Сейчас
он уйдет. Как бессильно лежит правая рука Улановой
на полу, левая сейчас тоже коснется пола, поникла
голова — выразительна изогнутая линия спины, продол-
жаемая руками!
Есть и другие снимки — сделанные по ходу спек-
такля. Некоторые из них приведены в книге Б. Льво-
ва-Анохина «Галина Уланова». Мария у колонны,
ее только что настиг роковой удар. Тело еще полно
жизни, рука, заведенная за спину, прикрывает рану,
вторая воздета; линии рук составляют идеальную пря-
40
мую, параллельно повторенную отведенной ногой, а
откинутая голова, прогнутый корпус с этой же ногой
образуют напряженную кривую. Совмещение двух ли-
ний — согнутого лука и прямой стрелы — создает осо-
бую экспрессию, подчеркнутую судорожно согнутой
кистью и разведенными пальцами, касающимися ко-
лонны.
Посмотрите все сами, только помните — старые
фотографии надо уметь смотреть!
А тем временем стих гарем, забылась тревожным
сном Мария, привычным движением раскатила циновку
служанка и улеглась перед входом (ее долгие годы изоб-
ражала М. Халина) — и виолончель, как бы блуждавшая
до этих пор в потемках, наконец нащупывает начало
мелодии. Появляется Зарема.
С первого же pas de chat, огромного, ломко-тревож-
ного, стало ясно, как напряжена Зарема — Шелест.
Возможно, к обычному волнению, сопровождающему вы-
ход на сцену, здесь добавился груз ответственности
совместного выступления с Улановой, может быть, и
впрямь не было репетиции и она ожидала каких-нибудь
неожиданностей, но обостренное внимание и насторо-
женность актрисы, как это бывает у талантливых
людей, непостижимым образом слились с душевным
состоянием ее героини, тоже настороженной, с трудом
сдерживающей себя. А дальше началось чудо. Каждый
жест, взгляд, каждый взмах ресниц, еле уловимое движе-
ние одной балерины немедленно рождали отклик в дру-
гой, и этот отклик, мгновенно уловленный, понятый,
прочувствованный, снова рождал ответный импульс. Зна-
комый до мелочей порядок сцены вдруг обрел магичес-
кую сиюминутность, превратился в первозданную импро-
визацию. То был диалог, спор, поединок двух находя-
щихся на грани срыва людей, не ведающих, как они
поведут себя через несколько секунд. А ведь актрисы
ничего не меняли в каноническом тексте сцены —
импровизационными, первозданными были психологи-
ческая разработка эпизода, способ существования. В па-
мять врезались почти физическая осязаемость внут-
реннего сопротивления, которое преодолевала Шелест,
чтобы стать на колени перед Марией, широко откры-
тые, испуганные, непонимающие глаза Марии — Улано-
вой, взрыв-арабеск Заремы с тюбетейкой Гирея в гневно
вытянутых руках, беспорядочные, как у бабочки, бью-
41
щейся о стекло, метания Марии, хватающейся руками
за стену. Но, пожалуй, больше всего захватила неудер-
жимость движения, беспрестанность нагнетения, cres-
cendo, которое неумолимо вело эту сцену к изумитель-
ному финалу — моменту смерти Марии.
Сцена смерти Марии — общепризнанный пласти-
ческий шедевр Улановой. Она таковым была и в этом
спектакле, но прозвучала в тот вечер особенно пронзи-
тельно, ибо оказалась подготовлена всем развитием, ло-
гикой предыдущего действия, прозвучала как долгая,
томительная пауза, в мгновения которой динамика, дви-
жение, жизнь превращаются в статику, покой — в
смерть. И посвящена эта пауза не изображению смер-
ти, а умиранию, истаиванию движения. Уланова не
акцентировала боли смертельного удара. Ее заломленная
за спину рука останавливала поток движения, ставила
точку. Застывали Зарема, Гирей, служанка, замирал
зритель, и в напряженной тишине отрешенно, не взгля-
нув ни на кого, Уланова поворачивалась и медленно
соскальзывала вниз по колонне. Это бесконечное пре-
красное, не теряющее ни на миг пленительной непре-
рывности скольжение умирало, истаивало постепенно;
замедлялось движение корпуса, спокойно, как для сна,
опускалась голова, и, наконец, движение изживало себя
в бессильной и прекрасной пластике соскальзывающей
руки. Но в удлиненности, протяженности этого движе-
ния ничто не напоминало изощренности, текучести
линий модерна, все было естественно, просто, спокой-
но. Только после того как Мария Улановой замирала
возле колонны, Зарема, Г ирей, да и зрительный зал обре-
тали способность дышать. Гордо, даже величественно
(Вечеслова делала это упоенно) Зарема — Шелест от-
крывала грудь разящему клинку Гирея. Она не расправи-
лась с соперницей, она утвердила себя, сравнялась с
Гиреем.
Третий акт этого незабываемого спектакля, безус-
ловно, стал его кульминацией и, возможно, одним из
лучших выступлений двух замечательных балерин. Уже
тогда в зрительном зале, потрясенный правдивостью,
эмоциональностью, покоряющей искренностью исполни-
тельниц, я ощутил, что Уланова и Шелест танцевали
нечто большее, чем то, что составляет сам сюжет «Бахчи-
сарайского фонтана». Что-то до конца не поддающееся
осознанию — масштаб дарования, глубина и тонкость
42
эмоций, красота формы? — делало их не только прек-
расными Марией и Заремой, но и носительницами двух
начал, героинями подлинно пушкинского спектакля. Дуэт
балерин идеально воплощал пушкинское упоение
любовью, жизнью (ведь автору «Бахчисарайского
фонтана» было всего двадцать четыре года), его
обостренное восприятие ее контрастов, восторженное
преклонение перед Байроном,— словом, романтизм Пуш-
кина. И если Мария Улановой материализовала извечную
мечту романтиков об идеально прекрасном, в силу своей
идеальности погибающем при соприкосновении с
жизнью, то Зарема — Шелест вдохновенно поведала о
другой ипостаси романтизма — страстном, горячем
отрицании несправедливых и губящих чувства законов
жизни и об отчаянной борьбе, которая часто, увы, приво-
дит к поражению и гибели.
Романтизм улановской Марии был уже давно отмечен
критиками. Но никто не заметил и не сказал, что, в
сущности, своим исполнением Марии Уланова выходила
за рамки хореодрамы и разрушала ее эстетические
принципы. Парадоксально, что балерина, имя которой
стало знаменем нового направления, участница создания
двух его шедевров — «Бахчисарайского фонтана» и «Ро-
мео и Джульетты», своим гением одновременно доказы-
вала и вскрывала ограниченность хореодрамы как худо-
жественного течения, опиравшегося на суженное, догма-
тическое понимание категории реализма. Какой ирони-
ческий привкус приобретает диалектика этого факта,
если вспомнить, что своей феноменальной славой,
формированием своей артистической индивидуальности
Уланова во многом обязана именно этому направлению.
Уж если кто и должен был стать символом, олицетво-
рением принципов этого направления, то это, конечно,
Татьяна Михайловна Вечеслова. Ее самобытная индиви-
дуальность, отмеченная темпераментом, обаянием,
экспрессией и четкостью красок, легко и привольно
существовала в рамках хореодрамы. Она также принадле-
жала к создателям этого направления. Ее Зарема воспри-
нималась осязаемо и реально, она была женщиной из
плоти и крови, прекрасной, желанной и отвергнутой,
безоглядной в своих чувствах. Но, создавая этот восхити-
тельный образ, балерина оставалась в границах метода.
Более того, опираясь на принципы и эстетику хореодра-
мы, Вечеслова вдохнула новую жизнь в старый-преста-
43
рый спектакль императорского театра и создала свою
незабываемую Эсмеральду. Ее Нунэ и Паскуала, Татьяна
и Параша — искристые, очаровательные, героические,
бесхитростные — разве не доказательства ее глубокого
понимания идей драмбалета, ее покоряющей артистич-
ности и талантливости. Может быть, не так уж не права
Вечеслова, когда с горечью говорит о том, что вся ее слава
досталась Улановой. Будем справедливы: официальная
оценка деятельности Вечесловой не соизмерима с тем
вкладом, который она внесла в сокровищницу ленинград-
ского и советского балета. Но что делать!.. В конце
концов, Америку открыл Колумб, а названа она именем
Америго Веспуччи. С другой стороны, как не привести тут
слова, сказанные когда-то Натаном Альтманом: «У меня
нет звания, но есть имя»! Вечесловой не стоит огорчать-
ся — имя ее вошло в историю балета.
Рассказывая о памятном для меня спектакле с учас-
тием Улановой и Шелест, я не могу в связи с этим не
упомянуть еще об одном вечере — в Большом театре,
на котором я оценил и особенно остро ощутил искрен-
ность Улановой на сцене. На этот раз Заремой была
Л. Черкасова. Балерина, хотя и с красивыми линиями,
большим прыжком, но с округлым, простодушным, очень
русским лицом, своим обликом не соответствовала пред-
ставлению о Зареме. Воплощала она чувства Заремы
тоже не слишком вразумительно. Я взглянул на Улано-
ву: она делала все, что положено, но ее глаза удивлен-
но и чуть растерянно смотрели на снующую перед ней
партнершу. Взорвавшись, я готов был произнести по
адресу Черкасовой обидные слова, но сразу же проникся
к ней симпатией, когда мне рассказали о ее собственной
оценке своей Заремы. Она была обезоруживающей:
«Я близ Рязани рождена...». К сожалению, часто, даже
все понимая, артист не в состоянии отказаться от непод-
ходящей для него роли.
Вспоминая выступления Улановой, Вечесловой и Ше-
лест в «Бахчисарайском фонтане», поражаешься той
естественности, искренности, с которой воплощались их
намерения. Порой казалось, что секрет впечатляющей
силы их созданий кроется только в таланте балерин.
Но познание приходит в сравнении. Казалось бы, чего
проще плавно сползти на землю по колонне. Однако
сколько раз я наблюдал у других исполнительниц,
отнюдь не лишенных таланта, как напрягается, а затем,
44
ломая непрерывность линии, перехватывает колонну ру-
ка, как согнутые в коленях ноги уже плохо держат кор-
пус, как, опустившись на одно колено, а затем удобно
пристроившись у основания колонны, они снова вспоми-
нают о руке и «лирическим», грешашим красивостью
жестом обозначают смерть Марии. «Ну и что,—
возразят мне,— стоит ли придираться к таким мелочам».
Но дело в том, что эти еле заметные швы, разрушая
кантилену пластики, превращают вдохновенное созда-
ние искусства в добросовестную, профессиональную, но
все же работу, а потрясенного зрителя — в равнодушного
наблюдателя.
Партия Заремы оказалась для многих тоже не прос-
тым орешком. На моих глазах произошла попытка
Дудинской включить ее в свой и без того огромный,
охватывающий почти все спектакли Кировского театра,
репертуар. Казалось, что могло предвещать неудачу?
Блистательная балерина с филигранной, безотказной тех-
никой, в артистичности которой уже никто (кроме нес-
кольких упрямцев, уныло долдонивших свое довоенное
«техничка») не сомневался, танцовщица широчайшего
диапазона, она вправе была танцевать эту партию и рас-
считывать на успех. Наконец, она была прекрасной Ни-
кией, чей костюм с шальварами был близок костюму
Заремы, а танец со змеей — предтечей монолога захаров-
ской героини перед Гиреем. Однако дебют в этой партии
принес Дудинской неудачу, почти провал.
Как всегда, Дудинская отнеслась к работе серьез-
но, по рисункам Вирсаладзе были сшиты новые костюмы,
все почитатели ее таланта находились на своих местах.
Спектакль начался в лучших традициях тех времен. Но
дальше произошло необъяснимое. Для меня, не про-
пускавшего почти ни одного спектакля Дудинской (как,
впрочем, и Шелест), разговоры о ее наружности, худобе
носили отвлеченный, умозрительный характер — это
был хорошо знакомый человек, о внешности которого
уже как-то не задумываешься. Однако, когда зазвучал
вальс и взгляд непроизвольно устремился к правой кули-
се, я увидел нечто странное. Сначала появился нос Ната-
лии Михайловны, за которым последовала она сама. С
первых шагов стало очевидно, что ее Зарема некрасива.
И дело было не в неудачном гриме, прическе или
костюме. Роковую роль сыграла неверная психологичес-
кая установка: Дудинская со свойственным ей напором
45
демонстрировала, подчеркивала, доказывала всем красо-
ту Заремы. В орбиту ее внимания были включены и
прислужницы, и евнухи, и зрители. Но чем деятельней
она утверждала неоспоримую истину, тем меньше ей
верили. Она плавно и величаво шествовала в своем чер-
но-красном одеянии, а казалась мелкой и суетливой. Как
истинный художник, Дудинская, очевидно, сама почув-
ствовала фальшь сложившегося положения, и это вывело
ее из равновесия: когда начались танцы, безотказная
техника вдруг отказалась ей повиноваться — она не
справлялась с комбинациями, которые в других балетах
не доставили бы ей ни малейшего затруднения. Второй
акт произвел гнетущее впечатление; что было в третьем
я не помню, таким неинтересным было исполнение.
Вскоре Дудинская сделала еще одну попытку и стан-
цевала теперь уже утренний спектакль. Очевидно, ре-
зультат был таким же. С тех пор балерина к «Бахчи-
сарайскому фонтану» не возвращалась...
...Прошло пятьдесят лет. Спектакль по-прежнему в
репертуаре театра. Сошла со сцены блистательная плеяда
его исполнителей. От поколения к поколению балетных
артистов переходили партии, обрастая штампами, теряя
подробности хореографического текста, стираясь и ниве-
лируясь, как пятаки, бесконечно переходившие из рук в
руки. Постарел, обветшал и сам спектакль, во многом
утратили привлекательность породившие его идеи. Но-
вые балерины, известность которых родилась в ажиота-
же конкурсных баталий, ориентируемые на виртуоз-
ность прыжков и вращений, равнодушно проходят мимо
более чем скромных хореографических достоинств пар-
тий Марии и Заремы. Они просто не знают, не дога-
дываются, какие волшебные узоры можно вышить на
этой скромной и, чего греха таить, серой канве. Имена
Улановой, Вечесловой, Шелест для них театральная
легенда, не подкрепленная никакими зрительными, эмо-
циональными ощущениями. Если же неудовлетворенная
жажда работы или случай сводят кого-то из них с
«Бахчисарайским фонтаном», то готовят они партию
спокойно, бестрепетно, превращая таинство встречи с
пушкинским образом и его постижение в прозаическую,
повседневную работу.
Ну а пока колеблются балерины, не дремлют со-
листки: балеринские партии переходят в их репертуар.
Уровень исполнения, соответственно, понижается.
46
Серия юбилейных спектаклей (пятидесятилетие со
дня премьеры, семидесятипятилетие Улановой, семидеся-
типятилетие Вечесловой), а также пред- и послеюби-
лейные спектакли 1984—1985 годов со всей очевид-
ностью это продемонстрировали. Справедливости ради
следует отметить, что театр попытался придать старому
спектаклю праздничный вид: подновили декорации,
почистили и кое-где заменили костюмы. Но космети-
ческий ремонт не скрыл грустной истины: театр не
смог сохранить душу спектакля, во многом забыл, утерял
приемы исполнения хореодрамы, не захотел провести с
новыми исполнителями серьезную и кропотливую работу
по осмыслению психологической партитуры роли.
Оставим в стороне исполнение роли Марии И. Колпа-
ковой, А. Сизовой и Е. Евтеевой — они формировались
и готовили эту партию в другой период жизни театра,
да и не они определяют сейчас сценическую жизнь
спектакля. Теперь Марию чаще танцуют Т. Васильева,
О. Лиховская, в партии Заремы подвизаются Е. Мартин-
сон, Е. Шерстнева, Л. Галинская. Профессионализм их
не вызывает сомнения. Но, право же, трудно постичь
логику творческих аргументов, приведших к назначению
на партию Марии — Васильевой, не обладающей ни под-
линным лирическим даром, ни необходимой сценичес-
кой формой. Почему яркие, но грубоватые внешние дан-
ные Мартинсон и ее броская, размашистая манера
танца обеспечили ей выступление в роли Заремы на
втором году работы в театре? Где и как проявился талант
Шерстневой, подвигнувший руководство балета на от-
важный эксперимент — поручение характерной танцов-
щице двух ответственных балеринских партий (Заре-
ма и Уличная танцовщица в «Дон Кихоте»)? Не имеют ли
все эти факты общий знаменатель — безразличие к худо-
жественному уровню спектакля?
Если выступления ряда исполнителей, вошедших ны-
не в «Бахчисарайский фонтан», не заслуживают серьез-
ного разговора, то несколько иначе дело обстоит с рабо-
той Л. Галинской. Театральная молва считает ее сейчас
лучшей исполнительницей партии Заремы, что, очевидно,
совпадает с мнением руководства, включившего Галин-
скую в юбилейные спектакли. Что говорить, данные тан-
цовщицы благодатны для исполнения роли Заремы: она
стройна, достаточно высокого роста, красива. Правда,
ноги, да и вообще пластика ее танца суховаты, но при
47
определенной отшлифовке этот недостаток может быть
завуалирован. Не знаю, кто готовил партию с Галин-
ской, но эта работа выгодно отличается вдумчи-
востью, тщательностью, вниманием к деталям. Исполни-
тельница безусловно понимает логику поведения своей
героини, она чувствует стиль спектакля, свободно справ-
ляется с хореографией. Словом, перед нами профессио-
нальная, вызывающая уважение работа. Но (ох уж эти
«но»!) при всех достоинствах исполнения ее Зареме
недостает главного — масштаба личности, неповтори-
мости,— иначе говоря, индивидуальности. Это емкое и
как будто неопределенное в своих границах понятие
включает многое: импульсивность психологических реак-
ций, самобытность выражения эмоций, свой взгляд на
характер персонажа и мотивацию его поступков, све-
жесть пластической интерпретации, интонирования зна-
комых жестов и поз — словом, все то, что покоряет
зрителя и ведет к рождению живого, неповторимого в
своей человеческой сути образа. Пусть не обидится на
меня Л. Галинская, если она когда-нибудь прочтет эти
строки — да и разумно ли обижаться на констатацию
факта, что природа не наделила тебя уникальным да-
ром,— но именно ее исполнение и именно в силу его
несомненно положительных качеств особенно остро
заставляет почувствовать, насколько прочно забыты тра-
диции, как снижены критерии, определяющие сегодняш-
ний уровень исполнения спектакля. Обидно видеть, как
на прославленной сцене блуждают блеклые тени некогда
прекрасных творений. Обидно и тревожно.
Впрочем, Галинская, как уже сказано, тактично,
достойно и профессионально выполняет порученную ей
работу. Но может ли быть спокоен театр, не решающийся
расстаться со спектаклем, некогда бывшим его славой
и гордостью, и позволяющий ему влачить безрадостное
существование.
Конечно, Уланову, Вечеслову, Шелест заменить
невозможно. Невозможно, да и не нужно повторять их
сценические создания. Но театр, сохраняя спектакль,
ставший вехой в его истории, просто обязан сохранить
школу и традиции исполнения хореодрамы, обеспечить
участие в нем лучших сил, сделать все, чтобы дух высо-
кого искусства его не покидал.
1985
48
«ЛАУРЕНСИЯ»
Воспоминание об этом балете наполняет мою душу
светлым, радостным чувством. Сколько восторгов я испы-
тал во время этого спектакля, сколько удивительных
мгновений! Он навсегда останется в памяти ослепитель-
ным праздником танца. И хотя его драматизм захваты-
вал подчас не меньше, чем стихия танца, он никогда не
оставлял ощущения подавленности и мрака. Если это и
была трагедия, то поистине оптимистическая. Начав
свою жизнь на сцене Кировского театра в марте
1939 года, «Лауренсия» шла затем на многих сценах
страны и за рубежом. Но ни спектакль Большого
театра, в котором танцевала М. Плисецкая, ни спектакль
Тбилисского театра, где его поддерживал сам В. Чабукиа-
ни, не смогли подняться до сияющего уровня первой
ленинградской постановки, где ему долгую и славную
жизнь обеспечили две выдающиеся исполнительницы
заглавной партии — Н. Дудинская и А. Шелест.
Написанные рядом и в определенной последователь-
ности, эти два имени живо напомнили мне атмосферу
зрительного зала тех лет. Соперничество двух балерин, их
отношения долгие годы были предметом постоянных
разговоров в труппе и в зале, определяли эмоциональ-
ный настрой зрителей.
Наталия Михайловна Дудинская в послевоенные го-
ды, и особенно в самом начале 50-х годов, была приз-
нанной прима-балериной театра. Ее отточенное, блиста-
тельное мастерство было в расцвете, появление на сцене
49
вызывало восторг; она пользовалась любовью зрителя,
и на ее спектакли собирался весь балетный Ленинград.
Зал в эти дни преображался, кругом мелькали знакомые
лица, царило праздничное возбуждение. Актерская ло-
жа — в ту пору правая парадная ложа бельэтажа над
ложей директора — была забита актерами: в первом
ряду восседали балерины театра, затем подающие надеж-
ды солистки, сзади стояли мужчины. Ближе к залу у
колонны часто сидела Е. Люком. Все, кому не хватило
мест в ложе, растекались по ложам бенуара и бельэтажа
и, вперемежку с молодежью, безбилетно посещавшей
спектакли, усаживались на барьерах. В партере сидели
маститые балетоманы, среди которых, благодаря их габа-
ритам, легко было заметить доцента университета Г. Руб-
цову и актера Театра комедии А. Савостьянова. Словом,
все были в сборе. Кстати, в то время молодежь театра
постоянно бывала на балетных спектаклях, да и балерины
считали необходимым посещать «чужие» спектакли. Кро-
ме того, каждый балет шел в присутствии художествен-
ного руководителя. Безусловно, все это способствовало
профессиональному росту и поддержанию уровня труп-
пы: находящиеся на сцене всегда знали, что танцуют под
присмотром многих внимательных и понимающих глаз.
Сама Дудинская к посещению другими артистами своих
спектаклей относилась ревниво и спустя несколько дней
могла между прочим осведомиться у молодой танцов-
щицы о причинах ее отсутствия на прошедшем спек-
такле.
Партия Лауренсии стала вершиной в творчестве Ду-
динской. Она была поставлена В. Чабукиани в расчете
на ее уникальную технику, и в ней же впервые со всей
полнотой проявилось актерское мастерство балерины.
Дудинская заслуженно считалась создательницей и луч-
шей исполнительницей этой партии. И вдруг в эту «свя-
тая святых» кощунственно вторглась Алла Яковлевна
Шелест. Ее выступление в «Лауренсии» было столь
блистательно, захватывало такой экспрессией и драма-
тизмом, что поставило под сомнение непреложность
истины и вызвало тревогу в сплоченных рядах почита-
телей таланта Дудинской.
Самобытное творчество Шелест не могло не
привлечь к ней любовь зрителей, за ней внимательно
следили из зала, где у балерины была своя постоянная
публика. Поставленный перед фактом «клан Дудинской»
50
волей-неволей должен был выразить свое отношение к
спектаклям Шелест. Одни просто их игнорировали, дру-
гие же, не в силах побороть искушение, не пропускали
их, но в зависимости от хода спектакля резюми-
ровали: «Десять (пятнадцать) лет танцует, пора бы уже
научиться танцевать». Или: «Да, хорошо. Но за десять
(пятнадцать) лет уже можно научиться танцевать».
Первый вариант произносился с ледяным выражением,
призванным обозначить бесстрастную объективность,
второй — со снисходительной улыбкой сожаления на
лице.
Такой линии поведения можно было придерживаться
в отношении всего общего репертуара Дудинской и Ше-
лест. Исключение составляла «Лауренсия». Здесь чаша
весов успеха могла качнуться в любую сторону, в силу
чего спектакль требовал неусыпного внимания. Поэтому
на «Лауренсии» с участием Шелест зал был столь же
блистательным, а весь «цвет» противной стороны нахо-
дился на своих местах. Сама Дудинская часто появля-
лась в уголке директорской ложи, чтобы выяснить,
как идут дела на сцене.
Я искренно восхищался обеими балеринами, старался
не пропускать их спектакли, но почему-то числился по
«ведомству» Шелест и на спектаклях Дудинской часто
слышал вопрос: «А вы что тут делаете?»»
Даже репертуар театра, казалось, строился с учетом
этого негласного состязания. Могло пройти три «Лебе-
диных озера» с Дудинской и ни одного с Шелест, но
если объявлялась «Лауренсия» с Дудинской, то можно
было не сомневаться в том, что через несколько дней
балет пойдет с Шелест. Такой порядок сохранялся дол-
гие годы (других исполнительниц партии Лауренсии не
было) и нарушался только в торжественных случаях,
когда обе балерины появлялись в одном спектакле
и Шелест танцевала Хасинту, с которой она начинала еще
до войны. В этих случаях особый интерес приобретал
«Танец шести» во втором акте: зал внимательно считал
туры, но я не помню случая, чтобы балерины дали повод
для торжества противоположной партии — каждая из
них сильно делала шесть туров и «ныряла» в гордый
арабеск.
По описанным причинам, а также потому, что труппа
любила спектакль, на «Лауренсии» почти всегда царила
атмосфера праздника.
51
Балет начинается почти сразу же с выхода балери-
ны. Но выход этот необычен и всегда забавлял меня —
Лауренсия появляется верхом на ослике. Ослика приво-
дили на спектакль из цирка, а я жил напротив него и
часто, направляясь в театр, видел четвероногого артиста,
чинно шествующего в ту же сторону. Глядя на это
послушное животное я всегда думал, какой грандиоз-
ный скандал с участием двора и их императорских вели-
честв или высочеств закатила бы М. Кшесинская, если
бы ей, приме-балерине театра, предложили появиться
верхом на осле. Козочка, скачущая вокруг осыпанной
бриллиантами нищей цыганки — очаровательно, но
осел — это уж слишком! Дудинскую (времена меняют-
ся) это обстоятельство ничуть не смущало. Она выезжа-
ла из левой кулисы с сияющей улыбкой на лице. Улыб-
ка предназначалась всем — парням, столпившимся
вокруг нее, подругам, снующим по деревенской площади,
и в первую очередь, разумеется, зрителям. Но в этой
улыбке, открытой и радостной, сквозили еще и удоволь-
ствие встречи с любимой ролью, жажда скорей окунуть-
ся в стихию виртуозного танца, ощутить свою власть
над ним и над залом, желание и предвкушение успеха.
В отличие от Дудинской Шелест выезжала с рассеян-
ной, словно блуждающей улыбкой на ослепительно кра-
сивом лице, с гордо поднятой головой, царственно
покоящейся на длинной шее. Казалось, она улыбается
своим затаенным мыслям, и только появление Фрондосо,
остановившего ослика, отвлекало ее от них. Лишь в
этот момент она окидывала зрительный зал рассеянным
взглядом и включалась в шутливую игру.
Если выход(точнее выезд) Дудинской был полон энер-
гии, желания покорять, ослеплять, то у Шелест домини-
ровали гордая красота, значительность и некоторая от-
страненность. Но, несмотря на различие красок, выход
обеих балерин был эмоционально насыщенным, и по
нему каким-то неведомым чувством я всегда мог опреде-
лить, насколько удачным будет спектакль.
Но вот кончалась игра с осликом, утихала беспоря-
дочная суета на площади, Менго брался за скрипку и
начинались танцы. Уже первые движения раскрывали
суть балетмейстерской манеры Чабукиани: балет сочи-
нялся на основе классики, окрашенной тогда неведомым
для нас, взятым совсем не из «Дон Кихота» испанским
колоритом. Остро воткнутый в пол носок ноги с согнутым
52
коленом сообщал рисунку танца терпкость, характер-
ность, кисти рук, описывающие круги, а затем застываю-
щие в угловатом, закрытом положении, напоминали о
кастаньетах, которыми в спектакле пользовались не
так уж часто, притопывания ногами, специфические
для танца под стук собственных каблуков — все
это придавало свободно льющемуся потоку классичес-
кого танца необычность и броскость. Только через многие
годы, наконец познакомившись с подлинными испан-
скими танцами, мы в полной мере смогли оценить
зоркость и чуткость балетмейстера, так тонко уловив-
шего дух испанского танца и так свободно и органично
соединившего его с классикой.
Одним из первых танцев, которым начиналась кра-
сочная их череда, был характерный «Лирический
танец». Он в полной мере являл достоинства хореографии
Чабукиани. Особенно в нем запоминались руки, кисти
которых описывали округлое движение, напоминающее
жест фокусника, достающего предметы из воздуха. Это
движение начиналось внизу, а затем руки поднимались
все выше, выше, и последний раз кисть очерчивала круг
над головой танцовщицы. Хороша была в этом танце
И. Утретская. В ее откинутом корпусе, вытянутых вперед
и поддерживающих платье руках, красивых, графично
прочерчивающих круги кистях сквозила < изысканность
и какая-то петербургская элегантность. Да и весь ее
облик, посадка головы с гладко причесанными черными
волосами были значительны и благородны. В двойке,
обрамляющей танец солистки, можно было видеть очаро-
вательное, с пикантно вздернутым носиком лицо Лели
Петровой, которую все так звали, чтобы отличить от
сестры — видной солистки Нинели Петровой. Она долгие
годы сохраняла свою прелестную внешность, благодаря
которой была всегда заметна даже в самых «глухих»
кордебалетных танцах.
Затем, отчаянно кокетничая с Менго, в танцы всту-
пала Паскуала. В «Лауренсии» тех времен было две
Паскуалы — Т. Вечеслова и Ф. Балабина, к которым
позже присоединилась третья — Г. Кекишева. Они все
танцевали профессионально, уверенно, но, конечно,
наиболее интересна в этой партии была Вечеслова. Артис-
тизм, сценическое обаяние и бисерное, легкое и неправдо-
подобно быстрое pas de bourree делали Паскуалу Вечес-
ловой очаровательной, а ее вариации сверкающими. Ее
53
темперамент все время рвался наружу. Она тормошила
Менго, смело прыгала с разбега к нему на колени, забав-
лялась с его скрипкой, показывала девушкам «движения
танца и все это проделывала озорно и азартно. Ее игра
органично переходила в танец, который в вариациях
благодаря ее исключительной координированности был
легок и артистичен. Но когда дело доходило до «Тан-
ца шести», то часто возникала проблема с турами. Ве-
чеслова тогда уже мало занималась и не всегда была
в ладу с техникой. Она довольно рано, в сорок три года
(в 1953 году), ушла со сцены, но ушла блистательно.
Ее прощальный спектакль запомнился и заслуживает
подробного описания.
По театру ходил забавный рассказ, свидетелем фина-
ла которого я был. Приехавший танцевать «Лауренсию»
Чабукиани, посмотрев репетицию, заявил Вечесловой:
«Таня, на своих спектаклях ты можешь делать все, что
хочешь. Но в моем ты обязана скрутить шесть туров».
Не знаю, как отреагировала Вечеслова на подобное заяв-
ление, но когда Шелест, Дудинская и она стали в ряд,
вид ее был полон непреклонной решимости. Загремела
музыка. Стремительно сделав шесть туров, устремилась
в арабеск Шелест, занеся ногу чуть не за спину партнера,
молниеносно «скрутила» их Дудинская, настала очередь
Вечесловой. Взяв сильный форс, она начала крутиться,
но уже после второго тура ее отчаянно понесло в сторо-
ну, испуганный партнер с трудом поймал ее, но, лихо
оттолкнувшись от его живота и деятельно работая
руками, все время подкручиваемая Паскуала победно
завершила пресловутые шесть туров. Венцом этого вир-
туозного, но совершенно не предусмотренного pas стал
арабеск с ногой крючком и очаровательная улыбка в
зал. Успех был полным. Зал весело отреагировал и был
в восторге — Вечеслову любили и она всегда имела успех
в этом балете.
Первые танцы сразу же создавали праздничный
эмоциональный тонус и готовили зрителя к встрече с
героиней.
Окруженная мужчинами, Лауренсия оказывалась
в центре сцены, и начинался ее танец. После двойного
пируэта следовали jetes и перекидные. Дудинская дела-
ла туры стремительно, а следовавшее за ними первое,
еще небольшое jete было полно энергии взведенной,
но сдерживаемой пружины. У Шелест туры были чуть
54
замедленными, а первый прыжок тяжеловатый, значи-
тельный, как будто она нехотя начинала соло. Но и у той
и у другой танец быстро набирал силу и блеск.
Природа танца Дудинской и Шелест была очень
разной. Стремительный, звонкий, полный энергии, танец
Дудинской был открыт и радостен. Он излучал радость
самой балерины, которая с наслаждением танцевала,
восторгаясь легкостью преодоления технических труд-
ностей. Пребывание на сцене для нее было минутами
счастья, смыслом жизни, наградой за часы кропотливой
работы. И, сияя счастьем, Дудинская щедро дарила его
другим, приглашала зрителей разделить радость этих
звездных минут. Но, обращаясь непосредственно к залу,
Дудинская умела сохранить дистанцию — ни она, ни
зал ни на минуту не забывали, что танцует блиста-
тельная прима-балерина. Ее открытость не становилась
панибратством, напор и энергия никогда не приобретали
оттенка грубоватой спортивности. В танце всегда при-
сутствовали интеллигентность и порода. Это был петер-
бургский танец, в нем жили традиции императорского
балета.
Упиваясь танцем, с радостью погружаясь в его сти-
хию, Дудинская никогда не теряла контроль ни над свои-
ми эмоциями, ни над сценической ситуацией.
Особенности физических данных Шелест — тяже-
ловатая форма ног, крупные кисти рук, гордая посадка
головы — изначально придавали ее танцу значитель-
ность. Большой сильный прыжок не делал ее танец лег-
ким, полетным, он подчеркивал силу, в нем чувство-
валась энергия преодоления притяжения. В отличие от
отточенной техники Дудинской, которая ее никогда не
подводила, Шелест обладала ненадежной техникой.
Иные считали, что Шелест вообще ее не имела,
поскольку нельзя назвать техникой то, что в любую
минуту может подвести. Это, конечно, не так. Ее техни-
ческие возможности были достаточно велики, но, буду-
чи человеком импульсивным, нервным, она не могла
танцевать стабильно. Если балерина чувствовала подъем,
если она верила в этот вечер в свои силы, если спек-
такль начинался удачно, то техника послушно служила
ей и танец приобретал блеск, свободу и совершенство
формы. Тогда ей что называется с ходу удавалось
все. Но если творческое настроение не приходило, если
вдруг почему-то возникали сомнения, то все рассыпа-
55
лось, уходило из-под контроля и срыв можно было ждать
в любом, самом безобидном месте. Возможно, чувство
неуверенности и многие случайности возникали из-за
близорукости балерины, которая, безусловно, мешала ей
на сцене и, может быть, была причиной травмы, полу-
ченной во время «Лауренсии». Если Дудинская испыты-
вала на сцене минуты ничем не омраченной радости и
творческой свободы, то Шелест сцена неудержимо мани-
ла, но и пугала. Думаю, что каждый выход для нее был
связан с преодолением и внутренней борьбой.
Шелест было свойственно драматизировать танец.
Там, где другие исполнительницы танцевали сентимен-
тальную историю («Слепая» Якобсона), Шелест пережи-
вала драму, где другие переживали драму (хотя бы танец
со змеей в «Баядерке»), Шелест танцевала трагедию.
В лучших спектаклях «Лауренсии» танец Шелест был так
же блистателен, как и у Дудинской, но сверкал он другим
огнем. При всей его силе и даже апломбе в нем присут-
ствовал едва уловимый оттенок нервной тревожности.
Особенности танца каждой из балерин проявлялись
сразу же, в начале первого акта. В диагональной комби-
нации с четырьмя юношами у Лауренсии впервые возни-
кали «испанские» позы, так интересно введенные Чабу-
киани в классический танец. В характере этих поз обнару-
живалось различие исполнительниц. У Дудинской они
были острые, бравурные, ставящие точку, заставляю-
щие публику взрываться аплодисментами. Здесь, забегая
вперед, отмечу конец вариации второго акта. Заканчи-
вая вихревые вращения по диагонали и принимая
финальную позу, Дудинская с силой «втыкала» носок в
землю. Это была точка, конец танца. Но венчала бале-
рина его неожиданным движением губ, которые
быстро раскрывались, как будто она хотела сымитировать
звук хлопка открываемой бутылки шампанского. После
такого финала в зале начиналось безумие, и, хотя бале-
рина повторяла свою находку на каждом спектакле, дей-
ствовала она безотказно, покоряя органичностью и зара-
зительностью. Любопытно, что впоследствии, когда
К. Федичева, подготовившая партию Лауренсии под ру-
ководством Дудинской, попыталась повторить этот трюк,
он ничего, кроме иронических улыбок в зале, не вызы-
вал. Вот уж действительно, перефразируя древних: что
можно Юпитеру, то нельзя быку.
Позы Шелест были менее острые, в них меньше
56
ощущалась динамика только что закончившегося движе-
ния, но они восхищали своей завершенностью. Они были
исполнены гордости и оттеняли некую дистанцию между
балериной, ее партнерами и залом. Вообще, несмотря на
свое положение прима-балерины и блеск танца, Дудин-
ская, в отличие от Шелест, никогда не забывала, что
изображает простую крестьянскую девушку. Она и ко-
кетничала с Фрондосо попросту, и как-то бесхитростно
отказывала ему (отходя от Фрондосо, она разводила
руками и будто слышалось, как она шепчет: «Ну что я
могу сделать. Ну не хочу я, не хочу...»), а затем после
смелого поступка Фрондосо сама открывала ему объятия.
Очень забавно и уморительно добросовестно она стирала
белье в ручье — сначала быстро-быстро трет, полощет,
сильно выкручивает, а потом медленно и аккуратно
складывает в корзину. Наверно, точно так же сама Ду-
динская стирала свои репетиционные принадлежности.
После такой сноровистой работы, естественно, необхо-
димо отереть пот со лба, что и делала Дудинская.
Шелест создавала менее конкретный, менее реальный
персонаж. Ее Лауренсия не была обычной крестьянской
девушкой, она не была даже первой красавицей деревни
(хотя красота ее поражала зрителей). Она воплощала
гордый, свободный дух испанцев. Она осознавала свою
любовь к Фрондосо, только увидя его в новом, неожидан-
ном для нее, свете героического поступка. Даже стирала
по-другому: округлыми, красивыми балетными движе-
ниями она колыхала белье где-то высоко над повер-
хностью воды, не утруждая себя доскональным воспроиз-
ведением бытового процесса.
Но вернемся к первому акту. Вереница танцев,
непрерывно следующих один за другим, так захваты-
вала зрителей, накаляла атмосферу, что требовалось
особенно эффектное завершение. И таким завершением
становилась кода дуэтного танца Лауренсии и Фрон-
досо. Построенная на диагональном движении (туры
с руки партнера в позу аттитюд), она исполня-
лась в таком чеканном ритме, так неудержимо неслась к
завершающей точке, что нагнетаемое ею напряжение,
казалось, станет непосильным как для исполнителей,
так и для зрителей. Она объединяла чувства героев,
давала Фрондосо уверенность в том, что эта девушка
не может остаться равнодушной к его любви. Это вселя-
ло в него надежду, почти уверенность. Но... Лауренсия
57
неожиданно выскальзывала из рук кружащего ее Фрон-
досо и исчезала в проеме какого-то строения.
Танцы на площади внезапно прерывало появление
Командора, роль которого безукоризненно исполнял
Борис Васильевич Шавров. В прошлом первый танцов-
щик театра, перетанцевавший вместе с Е. Люком весь
классический репертуар, участник фокинских балетов, он
в мое время играл только мимические роли, лучшей из
которых безусловно был Командор. Внешность Шаврова
не производила особого впечатления; он был небольшого
роста, пожалуй, даже некрасив, но с первой же минуты
заставлял пристально следить за собой. Его пружинистая
походка, циничный взгляд слегка прищуренных глаз, над-
менность по отношению к окружающим сразу выдавали
в Командоре человека необузданного, привыкшего удов-
летворять свои страсти, не считаясь ни с кем и ни с чем.
Вместе с тем умение носить костюм, манера снимать
перчатки, грация движений, благородный жест руки
свидетельствовали об аристократическом происхождении
этого развратного сластолюбца и наделяли Командора
своеобразным обаянием, которому трудно было проти-
виться. В черном костюме с белым плащом на плече и
серебристом шлеме с перьями Командор Шаврова был
настоящим грандом, словно сошедшим с полотна старого
испанского мастера. Но броская декоративность персо-
нажа в исполнении Шаврова удивительно органично со-
четалась с тщательной проработкой деталей, с тончайшей
психологической нюансировкой.
Выпив предложенный ему кубок вина, Командор
усаживался в поставленное для него кресло и начинал
рассматривать девушек. Он явно скучал, интрижки с
бесхитростными деревенскими красотками ему надоели.
Но каким блеском загорались его глаза при виде Лау-
ренсии, как сразу он подбирался, какой упругой делалась
его походка, когда он обходил ее, отделяя от группы деву-
шек. Было ясно: теперь он не успокоится, пока не
добьется своего.
В сцене встречи Командора был момент, который как
в зеркале отражал характер творческого состояния
Дудинской и Шелест на сцене. Дудинская почти никогда
не допускала импровизаций, партия у нее была тщательно
сделана, разработана до мельчайших подробностей,
детали костюма продуманы, пригнаны. Крайне редко с
ней на сцене случались какие-нибудь неожиданности.
58
Несмотря на то, что танцевала она темпераментно,
самозабвенно, с головой окунаясь в стихию танца, бале-
рина трезво контролировала весь творческий процесс и
никогда ничего не забывала. Приветствуя Командора,
девушки двигались перед ним в pas de bourree и бросали
к его ногам цветы, тогда как он беззастенчиво, скучаю-
щим взором разглядывал деревенских красоток. Жадный
взгляд Командора пугал Лауренсию, и она роняла
цветы. У Дудинской цветы с проволочными стебельками
к этому моменту были уже тщательно разобраны (было
любопытно наблюдать, как, находясь еще в углу сцены,
но уже делая pas de bourree, она быстрыми движениями
пальцев деловито разъединяла их) и эффектно рассыпа-
лись по-одному.
Про Шелест нельзя было сказать, что она творила
только импульсивно, импровизационно. Она так же тща-
тельно продумывала свои партии, много времени прово-
дила перед зеркалом в поисках выразительных ракур-
сов, ценила костюм и его детали. В «Лауренсии» костюмы
Шелест и Дудинской были одинаковы, а в других
спектаклях ее костюм мог быть совершенно другим.
Но, появляясь на сцене и погружаясь в эмоциональную
атмосферу спектакля, она нередко теряла четкий кон-
троль над сценической ситуацией, забывала мелкие,
но нужные детали, иногда неожиданно и вдохновенно
импровизировала. Однажды в первом акте Шелест
надела длинные красные серьги. Выход был великоле-
пен. Серьги подчеркнули красоту и гордую посадку го-
ловы. Но, когда дело дошло до танцев, длинные подвески
начали хлестать балерину по лицу, так как она не
подумала их как следует укрепить. Положение станови-
лось угрожающим: злосчастные украшения могли испор-
тить весь акт. Но неожиданно, прямо во время танца
Шелест великолепным, царственным жестом сорвала
их и швырнула на землю. Сделано это было так орга-
нично, что запомнилось на многие годы. Я долго жалел,
что этот эпизод Шелест не включила в зафиксированный
рисунок роли. Что же касается злополучных цветов,
то справиться с ними балерине почти никогда не удава-
лось. Почти не помню случая, чтобы цветы из рук Шелест
рассыпались дождем, они падали со стуком, спутанным
комком. Но если Дудинская в этот момент передавала
только испуг, то у Шелест эмоция была сложнее —
испуг боролся с оскорбленной гордостью.
59
Заметив недоброе, толпа скрывала Лауренсию, и Ко-
мандору приходилось смирить свою прихоть. Следовал
приказ разойтись, и, когда на площади оставались за-
мешкавшиеся Паскуала и Лауренсия, вновь появлял-
ся Командор. Изменив тактику, он с поклоном приглашал
девушек в замок. (Этот поклон у Шаврова был элеган-
тен, но в нем сквозила легкая ирония — нельзя же
всерьез кланяться деревенщине!) Однако «лестное» пред-
ложение отвергалось, и потерявший терпение Командор
поручал «черную работу» паре солдат, которые должны
были затащить девушек в замок.
Одного из солдат — Ортуньо — почти всегда изоб-
ражал Ю. Мальцев. Окончив училище в 1952 году, он
как классический танцовщик не состоялся. Зато Мальцев
оказался способным характерным актером и в богатой
талантами труппе Кировского театра не потерялся. Осо-
бенно удачными были его работы в миниатюрах Л. Якоб-
сона «Сильнее смерти» и «Встреча» — в последней из
них он изображал матроса, узнающего в пристающей к
нему проститутке сестру, и, танцуя вместе с К. Феди-
чевой, достигал здесь подлинного драматизма. Роль
Ортуньо он исполнял на самом высоком художествен-
ном уровне, характерном для многих эпизодических ро-
лей в спектаклях театра того времени. Эти маленькие
роли были продуманы, до мельчайших подробностей
разработаны и артистично, заинтересованно сыграны.
Уровень их исполнения в не меньшей степени, чем
блестящие танцы солистов, свидетельствовал о культуре
театра. К сожалению, сейчас традиция подобного ис-
полнения забывается, и актеры, играющие небольшие
роли, часто сводят свои задачи к выполнению чисто слу-
жебных функций.
В исполнении Мальцева Ортуньо был большим, силь-
ным, но слегка уже оплывшим, грубым животным. На его
широком, лоснящемся лице блуждала плотоядная улыб-
ка, красноречиво свидетельствующая о его нравах. Руки
его не брали, даже не хватали, а облапливали, что осо-
бенно становилось заметно в следующей сцене с Хасин-
той. Он был туп, самодоволен и труслив. Все эти ка-
чества своего персонажа Мальцев успевал продемонстри-
ровать и слить в запоминающийся живой образ в считан-
ные минуты сценического времени. Занавес опускался,
когда он после неудачной попытки выполнить приказа-
ние Командора, споткнувшись о лопату, подставленную
60
Менго, оказывался на земле и с натугой размышлял,
как это могло случиться.
Во второй картине первого действия («У ручья»)
танец, столь щедро лившийся в первой, уступал место
приемам драмбалета. Проделки Паскуалы и розыгрыш
Менго, объяснение Фрондосо и Лауренсии, сцены Ко-
мандора и финал акта решены были с помощью панто-
мимы. И лишь развернутая сцена солдат и Хасинты
может быть отнесена к лучшим образцам действенного
танца, сочиненным в хореодрамах 30—50-х годов. Прав-
да, еще оставалась борьба Лауренсии с Командором,
включавшая в себя несколько танцевальных движений и
поддержек, но подлинным действенным танцем эта сцена
все же не становилась. Казалось бы, обилие пантомимы
должно было сделать эту картину проходной и малоинте-
ресной. Но благодаря актерскому мастерству исполни-
телей она смотрелась с напряженным вниманием, а дра-
матизм эпизода с участием Хасинты всегда захватывал.
Обычно ее профессионально и выразительно исполняли
Н. Красношеева и Г. Иванова. Считанные два-три
гала-спектакля, в которых Хасинтой была Шелест, не
позволяют мне теперь, спустя тридцать лет, подробно
описывать ее исполнение. Во всяком случае, Хасинтой с
косичками и бантиками, какой она запечатлена на до-
военной фотографии, я ее уже не видел. Наверное, при
таком облике Хасинты насилие над девушкой, почти
ребенком, придавало этой сцене дополнительные краски
и делало поступок Командора омерзительным.
В этой сцене Шавров психологически точно и особен-
но выразительно играл два момента. Он не слушал
мольбы Хасинты, его интересовала лишь ее внешность
и, когда после беглого, но опытного обзора наступало
разочарование, он лаконичным, равнодушным жестом
отдавал ее на забаву солдатам. Но зато каким гневом
вспыхивали его глаза, как яростно вырывал он из рук
Менго пращу, как властно и беспощадно приказывал
учинить жестокую расправу. Только этих двух эпизодов
было достаточно для исчерпывающей характеристики
персонажа. А таких моментов в роли имелось немало.
В картине «У ручья» был эпизод, благополучный
исход которого не всегда зависел от исполнителей,
а меня заставлял волноваться. Получив тревожное
известие, Командор, вынужденный отложить распра-
ву, вскакивает на коня и уезжает во главе отряда.
61
Обычно лошадь на сцене водит под уздцы конюх. Но тут
он только выводил ее, а со всем остальным актер
должен был справляться сам. Шавров был хорошим
наездником; умел обращаться с лошадью и сменивший
его в роли Командора С. Кузнецов. Но сколько раз мне
потом приходилось наблюдать, каких усилий стоило
исполнителю развернуть коня и проехать на нем под
низко опущенными ветвями дерева, сколько раз это зло-
счастное дерево и вся декорация ходила ходуном,
когда, несмотря на все ухищрения, Командор задевал
его и рисковал остаться без головы. Однажды лошадь
начала метаться, не давая возможности даже вскочить на
нее. Музыка подходила к концу, укротить строптивое
животное не удавалось, и тогда, в сердцах махнув рукой,
Командор пошел на войну пешком.
Чтобы не возвращаться более к Командору, скажу
несколько слов о исполнении этой партии С. Кузнецовым.
Его Командор был красив, декоративен. Артист превос-
ходно носил костюм, имел безупречные манеры, осанку,
но сущность характера у него была разработана менее
подробно, чем у Шаврова. Командору Кузнецова не хва-
тало жестокости, холодного эгоизма, цинизма. Глядя
на элегантного, красивого Кузнецова, я не раз думал,
что будь его Командор чуть менее прямолинеен в своих
действиях, он бы легко добился удовлетворения своих
желаний, не восстанавливая женщин против себя. Ведь
сопротивляться его обаянию совсем не хотелось. Не
правда ли, редкий случай, когда эффектный внешний
облик исполнителя привел к нежелаемому результату.
Второй акт балета возвращает зрителя в стихию вир-
туозного танца. Свадьба Лауренсии и Фрондосо снача-
ла развертывается по канонам старого доброго балета:
танцуют старики, танцует четверка девушек и юношей,
огнем врывается знойная и дикая пляска «Фламенко»,
танцуют два юноши; одна за другой следуют четыре
вариации — Хасинты, Паскуалы, Лауренсии, Фрондосо,
парадно проходит «Танец шести», радостно, азартно
и виртуозно исполняется «Свадебный танец» героев
и, наконец, все завершается общим «Танцем с каста-
ньетами». И вот тогда, в кульминационный момент
веселья, врывается со своими солдатами Командор.
В этом акте виртуозность танца Дудинской достига-
ла апогея, бурю в зале всегда вызывала ее прыжковая
вариация. В лучших своих спектаклях Шелест также
62
танцевала безукоризненно, но самое сильное впечатле-
ние производил широкий размах ее танца. Главный же
секрет воздействия на зрителей у обеих балерин заклю-
чался в самоотдаче, в радостном упоении танцем.
Надо сказать, что в «Лауренсии» самозабвенно
танцевали не только солисты — спектакль был праздни-
ком для всей труппы. Свой вклад в праздничную атмосфе-
ру балета вносили замечательные исполнители характер-
ных танцев. Н. Анисимова и Р. Гербек исполняли «Танец
с кастаньетами», их дуэт строился на контрасте бурного
темперамента танцовщицы и сдержанно-элегантного
танца партнера. В «Фламенко» производила впечатление
Н. Стуколкина, несмотря на то, что ее раз навсегда
усвоенная манера танца мало менялась от балета к бале-
ту. В мужском дуэте всегда выделяется И. Бельский.
Превосходно, на одном дыхании, начиная уже с перво-
го акта, танцевали в спектакле четверка девушек и чет-
верка юношей — это были Н. Козловская, М. Шамшева,
М. Померанцева, Н. Штомпель (одну из них иногда сме-
няла К. Юргенсон) и их партнеры А. Кумысников, X. Му-
стаев, Н. Шарыгин, Т. Бабанов. Роль этих персонажей
в «Лауренсии» отнюдь не проходящая. Их танцы, разно-
образные и сложно поставленные, все время сопут-
ствуют танцам Лауренсии и Фрондосо. Неряшливое и
формальное исполнение могло бы легко сбить накал спек-
такля, разрушить целостность впечатления от партий
главных персонажей. Но, к счастью, все были на высоте.
Увлеченность исполнителей, чувство стиля и высокий
профессионализм делали их танцы неотъемлемой частью
и украшением спектакля. Это чуть ли не единственный на
моей памяти пример по-настоящему ансамблевого испол-
нения. (Пожалуй, так же безупречно в смысле ансамбля
танцевали Н. Козловская и М. Померанцева цветочниц
в «Дон-Кихоте».) Составляя гармоничный ансамбль, чет-
верки юношей и девушек с большим чувством такта
аккомпанировали танцам героев. Их исполнение лепило
форму спектакля и усиливало впечатление от него.
Третий акт балета решен опять в традициях хореодра-
мы. Танец в нем как-то неожиданно (после великолеп-
ной, созданной с размахом и фантазией хореографии
второго акта) уступает место весьма примитивной
пантомиме. Чабукиани, который так свободно и легко
себя чувствовал на просторах танца, не смел даже поду-
мать о возможности создать хореографический образ
63
восстания, как потом, спустя четверть века, поступил
Ю. Григорович, создавая сцену погони в «Легенде о люб-
ви». Чабукиани пытался на сцене воспроизвести бытовую
достоверность событий и потерпел поражение. Григо-
рович, уйдя от быта и передав эмоциональный взрыв,
чувства и помыслы участников погони, создал одну
из ярчайших и достоверных сцен спектакля. Конечно, не
следует винить Чабукиани: слишком непререкаем в то
время был авторитет эстетики драмбалета, слишком
убедителен недавний успех Вайнонена в «Пламени
Парижа». Это было время расцвета драмбалета. Только
год оставался до его вершины — «Ромео и Джульетты».
Любопытно, однако, что и тогда существовали люди, ко-
торые считали, что спектакль кончался после второго
акта, и сразу же после его конца уходили домой. Это
были вовсе не ясновидцы, наоборот — дремучие балето-
маны, не желающие двинуться от Петипа ни на шаг,
которые и «Лауренсию» не признавали, но вынуждены
были снизойти до нее только из-за блистательного танца
артистов. Как бы то ни было, третий акт дает исполни-
телям значительно меньше материала по сравнению
с двумя предыдущими и ставит исполнительниц заглав-
ной партии в трудное положение. Но для Дудинской
и Шелест этих трудностей как будто не существовало.
Они обе танцевали с таким трагедийным размахом, с та-
ким накалом чувств, что мурашки бежали по спине и
думать о недостатках постановки не было времени.
Истерзанная, в остатках подвенечного платья, появ-
ляется Лауренсия из глубины сцены и медленно бредет
вперед. Вид испуганных, подавленных мужчин приводит
ее в ярость. Она сзывает женщин, издевается над тру-
состью и покорностью мужчин, призывает к сопротив-
лению и, наконец, подымает народ на восстание. Все это
составляет содержание монолога Лауренсии. Но создан-
ный средствами пантомимы, почти без танца (в этом
акте пальцевая техника вообще не используется), он не
производил серьезного впечатления. И для зрителя и,
очевидно, для исполнительниц он служил своеобразным
crescendo, подходом к эмоциональной кульминации
акта — так называемому «Танцу с палками». Прозванный
так не без иронии, он действительно на своей периферии
производил несколько комичное впечатление. Хасинта и
Паскуала, делающие по одному большому pas de chat
и отчаянно путающиеся при этом в длинных юбках,
64
женский кордебалет, бестолково размахивающий рука-
ми, в которых каждая танцовщица держала по аккурат-
ной одинаковой белой палке — вряд ли все это могло
претендовать на серьезное изображение гнева восставше-
го народа. Но во время спетакля зритель не мог рассу-
ждать, он был во власти яростного, экзальтированного
танца Лауренсии. И Шелест и Дудинская производили
здесь огромное впечатление.
Сейчас, через много лет, когда я пишу эти строки,
перед моим внутренним взором возникает Дудинская.
С растрепанными волосами, с горящими глазами, похо-
жая на гневную, неумолимую фурию, она властно
брала в свои руки все: и кордебалет, и оркестр, и зрителя.
Мерный, маршевый ритм музыки, казалось, взнуздывал
ее стремительные движения, сдерживал клокотание
страстей. Предельно напряженные руки и ноги в своих
движениях как будто прорывали какие-то неведомые
преграды. В огромной амплитуде движения, в жесте
была такая экспрессия, такая сила, такой железный
внутренний ритм, что вдруг все трансформировалось:
не дирижер вел оркестр и спектакль, а движению рук
Дудинской подчинялся и он и оркестр. Кордебалет,
захваченный властным темпераментом балерины, здесь
сливался, становился монолитным и на одном дыхании
повторял ее движения.
Но танец обрывался, на сцене начиналась суета:
бежали солдаты, бежали Флорес и Ортуньо, бежали
крестьяне, по сцене метались прожектора. Эта суета
венчалась эффектной мизансценой: Командор и два сол-
дата с сундуком сокровищ — в окружении восставших.
Затем шла расправа над Командором, и, наконец, снова
звучала музыка прерванного танца. Здесь наступал один
из самых волнующих моментов спектакля: Лауренсия,
возглавлявшая восставших крестьян, вдруг опускалась
на колени. Это движение, столь впечатляющее, было
наполнено неоднозначной содержательностью. Так на
колени можно опуститься пред богом для клятвы, под
тяжестью руки палача в застенке инквизиции, но жест
руки, сопровождавший движение, кричал: «Нет! Ни-
когда!», а лицо светилось непреклонной волей фанатика,
готового на все. Только радости одержанной победы
не было в нем.
Дудинская опускалась на колени стремительно,
взмах руки был ломкий, острый, экспрессивный, во
3-1167
65
всей позе звучал вызов. Гордая Лауренсия Шелест,
опускаясь на колени, вскидывала голову, движение руки
было шире, завершенней по форме, она была трагичней,
она понимала, что самое страшное еще впереди. Но
длилось это мгновение, а затем твердым шагом во главе
восставших Лауренсия двигалась вперед, взмахивая
платком, снятым с себя. Так кончался спектакль.
Заключительный акт «Лауренсии», несмотря на значи-
тельно менее интересную хореографию, производил силь-
ное, а часто и захватывающее впечатление благодаря
выдающемуся исполнению заглавной партии А. Шелест
и Н. Дудинской. Масштаб их невероятного, почти гипно-
тического воздействия на зрителей стал особенно ясен,
когда партию Лауренсии стали танцевать другие испол-
нительницы. Ни В. Цигнадзе, которая появлялась
иногда на ленинградской сцене еще во времена Дудин-
ской и Шелест, ни впоследствии О. Моисеева, Н. Боль-
шакова и Т. Терехова не смогли справиться по-настояще-
му с хореографией «Лауренсии» и наполнить танец
содержанием и блеском. Только, пожалуй, К. Федичева,
обладавшая сильной техникой и грубым напором, в
какой-то мере справлялась с такой задачей. Но это был
блеск начищенной медной кастрюли, а не благородного
старинного кубка. Что же касается третьего акта, то
никто не смог даже приблизиться к уровню прославлен-
ных балерин. Собственно, с появлением других исполни-
тельниц и стали отчетливо заметны недостатки этого
акта. Пока «Лауренсию» танцевали Дудинская и Шелест,
думать об этом просто не было ни времени, ни необхо-
димости.
Партнерами Дудинской и Шелест в «Лауренсии» были
многие. Я видел В.-Чабукиани, К. Сергеева, С. Каплана,
Б. Брегвадзе, С. Кузнецова. Поставленная Чабукиани
для себя, партия Фрондосо требует от исполнителя
не только блестящего мастерства, виртуозной техники,
но и больших физических сил. Поэтому она в репертуаре
танцовщиков оставалась сравнительно недолго. Исключе-
ние составлял сам Чабукиани. Когда он приезжал на
гастроли, что бывало не так уж часто, спектакли «Лаурен-
сии» шли с особым подъемом. Время уже наложило
печать на танец Чабукиани, и видевшие его до войны
вздыхали. Но его кипящий темперамент, азарт, стре-
мительность и напор вращений, какая-то верткая, почти
звериная пластика безотказно действовали на зрителя.
66
Он, что называется, заводил зал и труппу. Однажды
я видел, как на таком спектакле, стоя в ожидании своего
выхода, Дудинская непроизвольно пританцовывала и
хлопала себя по ногам, полная нетерпения и желания
танцевать. А когда она, наконец дождавшись вступления,
вылетела на середину сцены, то превзошла самое себя.
Незабываемо танцевал Чабукиани второй акт и особенно
вариацию, где делал по прямой двойные пируэты в разные
стороны. После этой вариации в зале начинался вопль.
Иногда, правда, Чабукиани прибегал и к странным
трюкам. Однажды во втором акте он появился в белых
лосинах, надетых прямо на голое тело. Девицы взвыли,
успех превзошел все мыслимые пределы, но зрелище
было отнюдь не эстетичным, да и сама затея выглядела
малодостойной. Рассказывают, что однажды в аналогич-
ной ситуации острая на язык Агриппина Яковлевна
Ваганова при виде танцовщика обернулась к сидящим
с ней в ложе и с непередаваемой интонацией возвестила:
«И без окуляров вижу такой букет!». Но гастролеру
Чабукиани такие вольности сходили с рук. Здесь уместно
вспомнить, что значительно позже даже попытка Р. Ну-
реева надеть лосины вместо штанов в последнем акте
«Дон Кихота» вызвала яростное сопротивление К. Сер-
геева и привела к скандалу. А ведь это было уже в то
время, когда сам Сергеев, безукоризненно затянутый,
танцевал в лосинах «Золушку». А сколько разговоров
вызвала безуспешная попытка Л. Якобсона одеть в 1958
году исполнителей «Триптиха Родена» в робы! Сейчас,
когда грудь балерин смело просвечивает через натянутую
синтетику «хиланок», когда мужской костюм (с учетом
качества изготовления и материалов) тоже мало что
скрывает, когда переплетенные замысловатым узлом тела
партнеров оказываются распростертыми на планшете
сцены чуть ли не в течение всего адажио и когда, как
забавно заметила А. Осипенко, совершенно не ясно,
какое место перед выходом на сцену следует канифо-
лить, со снисходительной улыбкой можно вспомнить эти
эпизоды прошлого. Но снисходительная улыбка гаснет,
когда вдруг выясняется, что «Минотавр и Нимфа» Якоб-
сона или «Двухголосие» Эйфмана, многие годы идущие
на сцене, не могут быть показаны по телевидению или
вдруг делаются нежелательными при составлении
программы столичных гастролей. Видно, «блюстители»
никогда не переведутся и опыт по «охране нравов» их
3" 67
коллег предыдущего поколения и нулевой результат
(в перспективе) их деятельности никогда не охладят
новых ортодоксов. Сиюминутный же результат этой рабо-
ты бывает, увы, чрезвычайно чувствительным.
Очень хорошо танцевал партию Фрондосо Б. Брегвад-
зе. Обаятельный, почти мгновенно завоевывающий
симпатии зала, он обладал темпераментом и виртуоз-
ностью, позволявшими ему создать впечатляющий образ.
Мастерское владение техникой дуэтного танца давало
ему возможность одинаково успешно танцевать и с Ду-
динской, и с Шелест; с каждой из них он составлял
гармоничный ансамбль. А это было совсем непросто,
так как манера балерин очень различалась, а стреми-
тельность Дудинской в турах иногда просто пугала парт-
неров. Так, неопытный, совсем еще молодой С. Кузнецов
никак не мог приладиться к разным партнершам. Спек-
такль с Дудинской прошел далеко не гладко, подобное
же повторилось и на спектакле с Шелест. Так как «пра-
вила игры» запрещали прямые высказывания по поводу
танцев Шелест, то Дудинская, которая не преминула
появиться в театре и, очевидно, не без удовольствия
наблюдала за напряженной «кухней» дуэтов, сокрушенно
качала головой, приговаривая: «И я с ним танцевала!».
Танец Брегвадзе привлекал, помимо технической сво-
боды, какой-то легкостью, естественностью и увлечен-
ностью. С блеском и размахом он делал кабриоли, стре-
мительно вертелся, так же стремительно перемещался
по сцене. Он органично жил в роли, радовался сам и
нес радость зрителю. Возможно, его Фрондосо не хва-
тало героического размаха. Даже сцену с Командором
у ручья он проводил с оттенком веселой иронии, будто
не сознавая дерзости и далеко идущих последствий своего
поступка. Но это ничуть не снижало обаяния, привле-
кательности созданного Брегвадзе образа. Наоборот,
даже шло на пользу спектаклю, так как выгодно подчер-
кивало героический, почти трагедийный размах исполне-
ния партии Лауренсии.
Брегвадзе танцевал «Лауренсию» много и, пожалуй,
долгое время был основным партнером Дудинской
и Шелест в этом спектакле.
Позже Дудинская несколько раз танцевала «Лаурен-
сию» и с Р. Нуреевым. Это были еще первые его шаги
на сцене, и в театре зубоскалили: «Связался черт
с младенцем». Хореографическая одаренность Нуреева
68
была очевидна. Легкость прыжка, напор вращений,
очень индивидуальный, выразительный изгиб корпуса
и темперамент производили сильное впечатление.
Но особенно запомнились напряженные, нервные ноги
танцовщика и отточенный абрис их линий. Однако сам
спектакль не был удачным. Отсутствие опыта не позво-
лило Нурееву создать завершенный, осмысленный образ,
что подчеркивалось присутствием на сцене Дудинской.
Подлинного ансамбля в их танце не было. Вообще,
сцена Кировского театра знала Нуреева только как
прекрасного танцовщика; он уже блестяще танцевал,
но только подходил к пониманию закономерностей
создания хореографического образа. Этот опыт пришел
к нему позже, когда ленинградский зритель Нуреева
уже не видел.
Здесь уместно сказать несколько слов об обстоятель-
ствах его «побега», которые мне неоднократно рассказы-
вали очевидцы.
Нуреев кончил Ленинградское хореографическое
училище в 1958 году по классу А. Пушкина. Уже на вы-
пускном спектакле, где он с А. Сизовой танцевал
классический дуэт из «Корсара», стало ясно, что в труппу
пришел интересный исполнитель. Ярко одаренный, но без
серьезного общего образования и воспитания, вспыль-
чивый и импульсивный, он быстро занял заметное поло-
жение в труппе театра, что, вероятно, кружило ему
голову. Но он много и серьезно работал, тянулся к зна-
ниям, культуре. В его репертуаре вскоре появились мно-
гие классические балеты. Я видел его в «Баядерке», «Дон
Кихоте», «Лауренсии», «Жизели». Первой его настоящей
премьерой должна была стать «Легенда о любви». Но на
последние репетиции он ходил неаккуратно (существова-
ла версия, что его специально занимали в другом
репертуаре), произошел скандал с Григоровичем и
премьеру танцевал А. Грибов.
Гастроли 1961 гоДа в Париже и Лондоне были первым
большим выездом театра за рубеж после несостоявшихся
парижских гастролей 1954 года. Тогда труппа театра
приехала в Париж, но спектакли были отменены француз-
ским правительством в связи с трауром из-за поражения
французских войск в Индокитае.
Первые парижские выступления Нуреева сразу же
были замечены, и вокруг него быстро образовалась
компания французской «золотой молодежи». Приглаше-
69
ния в рестораны и частные дома сыпались одно за
другим, Нуреев их принимал, поздно возвращался в гос-
тиницу, что противоречило правилам, установленным
для участников гастролей. Сергеев требовал ежедневных
посещений уроков, Нуреев возражал и заявлял, что
график занятий будет строить сам, в соответствии с заня-
тостью в репертуаре. Произошло несколько неприятных
объяснений, и руководство решило отправить Нуреева
домой. Это решение от него скрыли. Тем временем он
ходил по парижским магазинам, покупая книги и ма-
териалы для костюма Ферхада, которого все же хотел
станцевать после возвращения в Ленинград.
Когда труппа прибыла в аэропорт для перелета
в Лондон и Нуреев вместе со всеми собрался садиться
в самолет, к нему внезапно подошли и сказали, что он
вместе с еще каким-то проштрафившимся участником
гастролей из постановочной части полетит на другом са-
молете, и не в Лондон, а в Москву. Растерявшийся, взвол-
нованный Нуреев метался, со слезами на глазах просил
разрешения ехать со всеми вместе, спорил. Напрасно.
Тогда он подбежал к барьеру, отделяющему поле от
провожающих, перепрыгнул через него и обратился
к полицейскому. Утверждают, что в толпе были его
новые друзья, которые быстро увезли его и сразу же
связали с французскими властями. Возможно, что и
раньше члены этой компании делали Нурееву определен-
ные предложения, но несомненно, что «прыжок к славе»
(как хлестко писали потом западные журналисты) был
спровоцирован неуклюжими действиями руководителей
поездки и неожидан не только для них, но, вероятно, и
для самого Р. Нуреева...
С «Лауренсией» по иронии судьбы связаны не только
многие триумфальные спектакли Дудинской, но и один
из двух ее сокрушительных провалов, свидетелем
которых я был.
В 1964 году, 26 марта, театр отмечал двадцатипяти-
летний юбилей спектакля. Большинство участников
премьеры уже давно оставили сцену, но Дудинская
решила исполнить заглавную партию. К этому времени
уже шел тридцать второй сезон ее пребывания на сцене и,
естественно, при всем мастерстве и фанатичном отноше-
нии к работе потери были ощутимы. Предприятие
было рискованным, но Дудинская, что называется,
шла ва-банк. Думаю, она просто не могла представить,
70
что материал роли, которым она столько лет владела
в совершенстве, может стать ей неподвластным, и твердо
верила, что усилием воли, максимальной концентрацией
сил снова подчинит его себе.
Уже с репетиций начали, однако, приходить
тревожные слухи. Многое не получалось. Сергеев сове-
товал кое-что изменить, Дудинская не соглашалась,
ссорилась и нервничала. Наконец настал день спектак-
ля. Театр был набит до отказа. Появление Дудинской
верхом на осле было встречено овацией. Возбужденная,
сияющая, с пятнами взволнованного румянца на лице,
пробивавшегося сквозь грим, она выглядела молодой
и даже красивой. Все предвещало блистательный спек-
такль. Прошла сцена с Фрондосо, Лауренсия встала
в позу и... На первом же двойном туре Дудинскую мотну-
ло и понесло в сторону. Это было так неожиданно,
неправдоподобно, что зал всколыхнулся растерянным
шумком и стих. Но хуже всего, что растерялась сама
Дудинская. Вряд ли она считала, что первый же тур
может таить для нее какую-то опасность. Подводные
камни, о которых она знала и к которым наверняка
готовилась, лежали впереди. Отказала не техника, сдали
нервы. Дальше началось что-то невообразимое. Не полу-
чалось все. Растерянная, сразу же постаревшая Дудин-
ская металась по сцене. Брегвадзе, танцевавший Фрон-
досо, самоотверженно пытался помочь чем мог. Если бы
хоть на минуту можно было остановиться, уйти со сцены,
собраться с силами... Но музыка неумолимо гнала
вперед ничего не понимающую, смятенную балерину.
В довершение ко всему мелкая случайность подчеркнула
эту жалкую ситуацию. Дудинская накануне поцарапала
подъем ноги и перед спектаклем заклеила царапину
пластырем, замазав его тоном. Пластырь отклеился и
теперь беспомощно болтался на ноге, делая и без
того растерянную балерину какой-то особенно несчаст-
ной. Наконец, подошла заключительная диагональ; ее
чеканный, нагнетающий напряжение ритм окончательно
добил Дудинскую. Казалось, она просто теряет ориенти-
ровку и не может сообразить, куда следует двигать-
ся. Брегвадзе, помогая, подталкивая ее вперед, давал
направление, наконец, схватил в охапку (Дудинская пло-
хо держала корпус, поза получилась совсем невразу-
мительной) , и, покрутив, вытолкнул ее за кулисы. Смот-
реть на все это было мучительно, хотелось опустить глаза.
11
Небольшая пауза за сценой позволила Дудинской
немного прийти в себя, и конец акта прошел отно-
сительно благополучно. В антракте между картинами
произошло чудо. Восторженный хор почитателей из труп-
пы успел убедить ее (или, по крайней мере, Дудинская
дала себя убедить), что танцует она чуть ли не лучше,
чем прежде. Во всяком случае, она овладела ситуацией
и сцену с Командором, не представляющую больших
технических сложностей, провела уже уверенно.
Далее спектакль пошел благополучно, и хотя, конечно,
он не мог подняться до уровня прошлых лет, но все же
вызвал шумную и благодарную реакцию зала.
Дудинская еще раз доказала, какой несокруши-
мой волей она обладает.
Прошло сорок пять лет со дня премьеры «Лаурен-
сии». Уже двадцать лет не танцуют Дудинская и Шелест.
Первая, если верить справочнику, ушла из театра в 1962
году, но на самом деле продолжала танцевать и далее.
Последний раз я видел ее на творческом вечере в филар-
монии 12 июня 1967 года. Вторая оставила сцену в 1963
году, станцевав один раз за несколько дней до уволь-
нения Мехменэ Бану. Потускнели в памяти зрителей
шумные овации и восторги, пережитые на их спектак-
лях. Четыре балерины пытались танцевать Лауренсию, но
ни одной из них не удалось создать самобытный образ.
Балет сошел со сцены и стал забываться. Что ж, такая
судьба постигает многие постановки. Это естественно. Но
так ли это естественно, когда речь идет о спектакле,
бывшем когда-то гордостью театра, признававшемся для
него этапным.
Кировский театр неразрывно связан с историей рус-
ского и советского балета. В наследие от XIX века
мы получили шедевры Петипа, Чайковского и Глазунова,
созданные на этой сцене и по-прежнему ее украшающие.
Более ста сорока лет театр сохранял и сохраняет
«Жизель», он спас ее от забвения для всего мира. Сколько
поколений блистательных балерин и танцовщиков
прошлого и нашего времени реализовали свой талант
в «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Раймонде»,
«Баядерке», «Дон Кихоте», «Жизели». Театр гордит-
ся, что эти шедевры живут на его сцене. Сколько речей
и печатных призывов сохранить классику мы слышали
и читали. Сколько редакций и переделок выдержали
72
великие балеты под покровом этих призывов. Но, так или
иначе, мы сохраняем классику для следующих поко-
лений.
Ну а что оставит наш XX век грядущему XXI?
Разве за сто лет не было создано ничего достойного?
Забылись балеты М. Фокина, появившиеся в 10-е годы,
и дело здесь не в тексте — некоторые из них с грехом
пополам вспомнили в начале 60-х годов («Египетские
ночи» и «Карнавал»). Оборвалась традиция исполнения.
Лишь одна «Шопениана» благодаря заботам А. Вагано-
вой сохранилась на сцене. Канули в вечность и прочно
забыты искания 20-х годов. Ничего не сохранилось из
творчества Ф. Лопухова, и вряд ли сейчас возможно
что-либо восстановить (не говорю сейчас о его фрагмен-
тах в чужих спектаклях). А ведь то немногое, что мы
видели в исполнении А. Осипенко и Н. Большаковой
из «Ледяной девы», заставляет горько сожалеть об этой
потере. Незавидна и судьба лучших спектаклей 30—40-х
годов, с которыми связаны выдающиеся достижения
театра и история развития советского балета. Дважды
возобновлялся и снова исчезал из репертуара балет
«Ромео и Джульетта», и каждое его возобновление по
духу своему все дальше уходило от первоначального
прославленного спектакля. Не сходит со сцены «Бахчи-
сарайский фонтан», но его состояние и общий уровень
исполнения таковы, что в пору снимать и этот спектакль.
Он требует капитального возобновления, но реставриро-
вать в первую очередь надо не декорации и костюмы,
а принципы исполнения хореодрамы, которые труппа
забывает, теряет. Исчезла «Лауренсия», ушел из репер-
туара «Спартак», поставленный значительно позже.
Список можно было бы продолжить.
Так что же передаст театр новому веку? Отдает ли
себе отчет руководство балета, что позаботиться о сохра-
нении лучших спектаклей XX века должно именно оно
и именно теперь. Больше уже откладывать нельзя: ведь
сейчас еще можно использовать знания и опыт людей,
бывших свидетелями и участниками их создания.
Неужели случится так, что когда-то в XXI столетии
в «Вечере старинной хореографии» будет идти фрагмент
«Лауренсии», весьма приблизительно восстановленный
по сохранившимся фотографиям, описаниям и обрывкам
старых кинолент. Сейчас все с благодарностью вспо-
минают о деятельности Ф. Лопухова и А. Вагановой по
73
сохранению классического наследия. Но пора вспомнить,
что уже существует классика XX столетия. Она сложи-
лась как итог работы нескольких поколений композито-
ров, балетмейстеров и актеров театра. Это страницы
истории советского балета, более того — национальной
культуры. Театру необходимо в полной мере осознать
свою ответственность перед грядущим. Хотелось бы,
чтобы и теперь зритель мог видеть лучшие спектакли
прошлых лет; хотелось бы, чтобы традиции исполнения
этих балетов не прерывались, чтобы каждое поколение
артистов могло находить в них стимул для бесконечного
движения вперед.
Время быстротечно, а в балете особенно... Этого не
следует забывать!
1983
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
Этот спектакль стал, пожалуй, вершиной течения,
названного потом драмбалетом. Термин, который неред-
ко использовался и воспринимался как ругательный,
по существу, точно выразил суть процесса, происходив-
шего в нашем балете 30—50-х годов. Истоком этого про-
цесса было желание преодолеть рутинность и штампы
старых спектаклей, условность пантомимы прошлого
века, а главное, потребность освоения’ новой тематики
на хореографической сцене. Начавшийся поиск привел
балетный театр к большой литературе, произведениям
Пушкина и Бальзака, Гоголя и Лопе де Вега, позво-
лил убедительно воплотить пафос героической рево-
люционной темы. Эстетика драмбалета воспитала артис-
тов, способных пластикой и танцем выразить глубинные
движения человеческого духа. Правда, адепты драмба-
лета, добиваясь осмысленности, выразительности
и правдоподобия на хореографической сцене, все меньше
доверяли танцу, начали «стесняться» его, мотивиро-
вать его присутствие бытовой ситуацией, пользовать-
ся движениями, перенесенными непосредственно из
жизни на балетную сцену. Эта тенденция усугублялась
и привела наконец к исчерпанию эстетической системы
в целом и к негативной реакции на нее. Разумеется,
в разных произведениях превалировали слабые или силь-
ные стороны эстетики драмбалета, что объяснялось
в первую очередь хореографической одаренностью поста-
новщика, его профессионализмом и культурой. Поэтому
75
в рамки одних и тех же принципов укладываются
«Бахчисарайский фонтан» с его великолепно продуман-
ной драматургией и анемичной, скудной хореографией,
«Лауренсия» с ее стихией своеобразно преломленного
классического танца, анекдотические в своей фальши,
бездарности и беспомощности «Родные поля» и поэтич-
ный, сотканный из окрашенного в национальный колорит
классического танца и лукавого бытового юмора «Шура-
ле». Диапазон огромен... И среди этого многообразия
возвышается балет «Ромео и Джульетта».
Этот шекспировский спектакль, теперь уже легендар-
ный, всегда связывается в первую очередь с именем
Галины Улановой. Ныне многим кажется, что только
сила ее артистического гения создала ему почти
мифическую славу. Действительно, Джульетта —
откровение Улановой. Если ее гениальная Жизель не
помешала оценить многих других блистательных испол-
нительниц роли, если великолепные Одетты — Одиллии,
и Авроры были до и после Улановой, то для зрителей
моего поколения, видевших Джульетту — Уланову,
других Джульетт не существует. «Ромео и Джульетта» —
слава Улановой, но это и ее счастье. Ибо такое
свершение возможно было только в таком спектакле.
А с ним связана плеяда блистательных имен.
Прокофьев. Без его гениальной музыки разве родил-
ся бы такой спектакль, страстный, наполненный ренес-
сансным духом, населенный огромным миром красоч-
ных, полнокровных персонажей? Его музыка стала душой
балета. Дружно обруганная поначалу публикой, не поня-
тая самими исполнителями, она в первую очередь обусло-
вила успех балета, наполнила его высокими страстями,
правдой жизни, колоритом эпохи. Дирижер И. Шер-
ман, участник премьеры, рассказывал об инциденте,
происшедшем на одной из сценических репетиций.
К. Сергеев, репетировавший Ромео, долго не мог спра-
виться с одной комбинацией и благополучно закончить
ее в музыку. В сердцах он бросил: «Эта какофония
безгранична!». Моментально из темного зала последова-
ло: «Как и глупость балетного актера». Реплику подал
Прокофьев, зашедший в зал посмотреть репетицию
и невидимый в темноте для ее участников. Воцарилась
тишина. Ожидали взрыва. Но Сергеев смолчал, повер-
нулся, направился в дальний угол и снова начал неудав-
шееся место. (Вообще, Прокофьев, насколько мне
76
известно, обладал острым языком, которого побаивались.
Мой учитель по консерватории, Владимир Владимиро-
вич Щербачев, как-то на занятиях упомянул такой
эпизод.’ Молодой Прокофьев, автор Первого фортепьян-
ного концерта и «Скифской сюиты», своей смелостью
эпатировавших многих, прогуливаясь по пляжу в Терио-
ках, увидел греющихся на солнце Рахманинова и Мет-
нера. Со свойственной молодости задором, желая под-
черкнуть, что музыка Рахманинова и Метнера — вче-
рашний день, он заметил: «Вот трупики сушатся».) Не
только Сергеев неодобрительно относился к музыке
в репетиционный период. Молва сохранила весьма
прохладные отзывы о ней... Улановой. Ей даже приписы-
вали двустишие, гулявшее тогда по театру:
«Нет повести печальнее на свете,
Чем музыка Прокофьева в балете».
Позже все изменилось. Музыка убедила, покорила
всех. И теперь, когда мы слушаем ее с огромным
наслаждением, разве мы вспоминаем, что когда-то иные
из нас иронизировали над аккордами-ударами в момент
гибели Тибальда? Очевидно, когда сталкиваешься с но-
вым явлением искусства (но искусства!), не следует
спешить и лихо утверждать: «Какая чушь!». Вероятно,
лучше скромно признать: «Я этого не понял ». Но как
отличить истинно новое искусство от модной чуши?
Свою энциклопедическую эрудицию, блестящее
знание Шекспира отдал спектаклю профессор А. Пиот-
ровский, помогая разработке его экспозиции и консуль-
тируя постановку.
Режиссировал спектакль С. Раддов. Он активно
помогал балетмейстеру Лавровскому, и в значительной
мере ему спектакль обязан своей изумительной «выстро-
енностью».
П. Вильямс в своих декорациях так воплотил атмос-
феру средневековой Вероны и так тонко уловил колорит
музыки, что его монументальное живописное оформление
воспринималось как единственно возможное. Казалось,
что только в этом мире, созданном воображением
художника, могли жить, чувствовать и действовать
персонажи балета.
Вот такие «феи» стояли у колыбели спектакля.
Да и сам Л. Лавровский, накопивший к тому време-
ни достаточный балетмейстерский опыт (уже были
77
поставлены «Фадетта», «Катерина», «Кавказский
пленник»), был готов к главной постановке своей жизни.
Не следует забывать, что в распоряжении Лавровского
была труппа Кировского театра, имевшая богатейший
творческий опыт постановок «Ледяной девы», «Бахчи-
сарайского фонтана», «Утраченных иллюзий», «Пламени
Парижа», труппа, находящаяся на творческом взлете,
по существу, ведущая труппа страны. Правда, на первых
репетициях она была настроена по отношению к Лавров-
скому несколько скептически, но работа все поставила
на свое место. Именно в этой труппе танцевала и форми-
ровалась уже двенадцать лет Уланова, чей гений так
выразил себя в этом спектакле. Да, это счастье для
нее, счастье для всех нас, что столько талантов встрети-
лось, чтобы создать «Ромео и Джульетту». Счастье, что
художественные устремления балета 30—40-х годов так
точно совпали с индивидуальностью артистки. Работай
она тогда в Большом театре или придись ее расцвет на
иное время, как знать, была бы еще одна прекрасная
Жизель и Одетта — Одиллия, но не было бы великой
Улановой... Но какой смысл гадать... Джульетту ставили
на Уланову, и в этом спектакле она стала легендарной
Улановой.
Нет смысла писать об улановской Джульетте. Об этом
столько сказано, столько написано, что трудно что-либо
добавить. Хочу лишь сказать о некоторых моментах,
которых всегда ждал, которые заставляли пробегать хо-
лодок по спине и которые навсегда запечатлелись в
памяти.
На спектакль публика приходила уже взбудоражен-
ная, возбужденная, заранее готовая восхищаться и пере-
живать. Этому способствовал миф, созданный вокруг
имени Улановой, репутация спектакля, а затем и то, что
спектакль был гастрольный (Уланова из Москвы приез-
жала нечасто), а значит, сопряженный с трудностями
доставания билетов. Перед театром всегда стояла толпа
неудачников, вид которых еще больше подогревал
настроение попавших.
Несмотря на это, спектакль начинался как-то
скромно, без криков и оваций, которых, казалось, можно
было ожидать. Когда открывался занавес и возникал
триптих (Джульетта, Лоренцо, Ромео), аплодисменты
вспыхивали, но быстро угасали, словно публика опаса-
лась в их шуме что-то утерять. По-настоящему привет-
78
ствовали Уланову в начале первой ее сцены («Джульетта-
девочка»). Уланова не выглядела юной и такой уж
хрупкой, но ее легкий прыжок, ломкие движения кор-
пуса, когда она уклонялась от рук кормилицы, мелкий
перебор на пальцах в pas de bourree создавали образ
юности и хрупкости. Не успевала кончиться эта игра-
возня, как наступал первый важный момент. Мать подво-
дила Джульетту к зеркалу. Привычным движением
Уланова оглаживала волосы, легкие ладони скользили по
шее, платью и вдруг застывали на груди. Этот момент
осознания подростком своего женского естества был
всегда так внезапен, так пронзителен и краток по сце-
ническому времени, что оставлял сильнейшее впечат-
ление.
Второй момент, которого я всегда ждал, был в сцене
бала. Спускался полукруглый занавес, отделявший Ромео
и Джульетту от праздничной толпы, и герои оставались
одни. Вознесенная над Ромео, опираясь коленями на
его грудь, Уланова, чуть согнув плечи и шею, напря-
женно всматривалась в лицо Ромео. Руки, приподнятые
в локтях в каком-то незавершенном движении, готовые
то ли нежно опуститься на лицо Ромео, то ли взмет-
нуться, на мгновение застывали. И вдруг наступало
прозрение. Как будто действительно удар любви («стрела
Амура» — такое затасканное выражение, что опошляет
описание, но думаю, что Лавровский давал пластическое
толкование именно этой метафоры) пронизывал
Джульетту сладостной болью. Одну руку она прижимала
к сердцу, тыльной стороной другой прикрывала глаза,
защищая их от сияния лица Ромео. Корпус надла-
мывался и начинал оседать. Все это происходило мгно-
венно, будто что-то хрустнуло внутри, но не резко,
движения лились, истаивали в истоме; поза была точно
фиксирована, многократно выверена (я видел более
десятка спектаклей) и вместе с тем словно плыла,
очертания рук, кистей были зыбки, трепетны. Навер-
ное, именно в этой двойственности заключалась неотра-
зимость мгновения и психологическая глубина, неодно-
значность происходящего, именно потому хотелось ви-
деть этот момент еще и еще, и каждый раз он был
потрясением. Но вот проходил миг, и Ромео опускал
Джульетту в арабеск.
Дальше шла сцена на балконе, которой заканчи-
вался первый акт. Вот тут я вынужден сказать, что и на
79
солнце бывают пятна. У меня эта сцена всегда оставляла
чувство внутренней неудовлетворенности. По смыслу это
лирическая вершина спектакля. Ведь если первой встре-
че Ромео и Джульетты сопутствуют сначала юная безза-
ботность, а потом естественные робость, скованность,
разрушаемые только что рассказанным эпизодом, во
время венчания герои погружены в глубокое спиритуа-
листическое состояние, связанное со святостью момента
и места, а две последние их встречи окрашены горечью
разлуки или ужасом смерти, то именно здесь, в сцене
на балконе, должна разлиться рахманиновским поло-
водьем чувств чистая, светлая любовь. Но этого не
происходило...
Думаю, что это связано в первую очередь со свой-
ствами музыки Прокофьева. Гениальная, горячо мною
любимая, буквально несколькими тактами создающая
рельефный театральный образ — чего стоит характе-
ристичность танца с подушками — она по своей природе
(в этом балете по крайней мере) музыка короткого
дыхания, мозаичная. И если именно эти свойства музыки
населили спектакль великим множеством тонко очер-
ченных, а затем так же точно сценически воплощенных
персонажей, позволили создать убедительный образ
жизни средневекового города, они же, эти свойства,
вступили в противоречие с эмоциональным содержа-
нием любовной сцены.
Мне всегда казалось, что Ромео и Джульетта не
успевают высказаться до конца за те мгновения музыки,
которые им отпущены, не успевают поведать безгра-
ничность чувств, испытываемых ими. А потому и хорео-
графия в этой сцене часто сбивается на общие места,
не достигая выразительности других дуэтов Ромео и
Джульетты.
Ну а Уланова? В моей эмоциональной памяти (хотя
саму сцену я помню очень подробно) остался лишь
момент, когда Джульетта выслушивает признание
Ромео (диагональная вариация героя). В ее неустойчивом
силуэте, трепетных руках, небольших боковых смеще-
ниях — такой восторг, на лице такое счастье...
Может быть, рассказанное обусловлено субъектив-
ностью восприятия? Но ведь восприятие и не бывает
вполне объективным. Даже если балерина, допустим, во
время фуэте вполне откровенно сорвалась с пальцев
и не докрутила положенное, то можно услышать:
80
«Танцевать не умеет, зачем пустили на сцену!» или «Ка-
кая очаровательная танцовщица, правда, фуэте сделала
не совсем удачно».
Как бы то ни было, но уже после первого акта начи-
налась буря восторгов.
Второй акт. Венчание. Всегда принято говорить о
пластическом шедевре Улановой — смерти Марии. Но
сцена венчания имела в основе тоже пластический ше-
девр — арабеск Улановой. Весь этот эпизод был испол-
нен сдержанности, удивительного целомудрия и одно-
временно какой-то осторожности, внутренней скованнос-
ти, словно герои боялись расплескать чувство благогове-
ния, переполнявшее их. Поэтому переливы оттенков
чувств, мимолетность поз, жестов, взглядов, присущие
сценическому существованию Улановой, здесь исчезли,
уступая место экономным, но чрезвычайно выразитель-
ным позам. К таким моментам принадлежало, например,
начало венчания. После появления Джульетты, ступав-
шей по лилиям, которые разбрасывал на ее пути Ромео,
начинается их диагональный ход к алтарю. Когда в ор-
кестре расцветала скрипичная фраза, Джульетта с вытя-
нутой вверх рукой, поддерживаемая за нее Ромео, пере-
ходила в позу первого арабеска. Арабеск этот был неот-
разим; невысокий, на 90 градусов, он покорял изумитель-
ной красотой линии груди, устремленной к алтарю,—
линией, плавно переходящей к ноге и истаивающей в
складках белого платья. Эта поза была не только красива,
но исполнена глубокого смысла. Казалось, Джульетта
сердцем стремится к Мадонне, моля сохранить ее огром-
ное и хрупкое счастье. Затем Ромео наклонял Джульетту
к алтарю, что еще больше усиливало выразительность
позы, и, наконец, опускал любимую на колено. В этой
позе, поддерживаемая за плечи партнером, Уланова
запечатлена на многих фотоснимках с Сергеевым, Га-
бовичем, Ждановым.
Не думаю, что этот арабеск, производивший столь
сильное впечатление, был результатом сознательной ра-
боты Улановой. Возможно, здесь проявились ее изуми-
тельная природная гармоничность и пластическая ода-
ренность. Вспоминается один случай. В начале 50-х годов
я по делу был у Галины Сергеевны. Шел длинный, более
часа, разговор, в положительном результате которого я
был чрезвычайно заинтересован. Уланова была просту-
жена и куталась в теплый халат. В середине разговора,
81
увлеченный им и не думая ни о чем другом, я вдруг оста-
новился: Уланова, слушая, подняла руку и глубже за-
пахнула воротник халата. Это простое бытовое движение
было таким гармоничным, таким совершенным, что я не-
произвольно замер. Перенесенное на сцену, оно могло
бы стать откровением в какой-либо роли, войти в исто-
рию, сделаться мифом. ‘
Вернемся к спектаклю. После венчания идет одна из
центральных сцен балета — народный праздник и пое-
динки: Меркуцио — Тибальд и Тибальд — Ромео. Здесь
Джульетта появляется лишь на мгновение в окне дома
и в ужасе отшатывается, убедившись, что убийца бра-
та — Ромео. Лавровским этот эпизод поставлен так, что
все внимание сосредоточено на участниках поединка,
госпоже Капулетти, толпе, слугах. Для невнимательного
зрителя появление Джульетты может вообще пройти
незамеченным, ибо только падающий на колени и прости-
рающий к ней руки Ромео побуждает взглянуть на окно
дома. Иными словами, в роли Джульетты это, безуслов-
но, эпизод проходной. Как и все прочие исполнительни-
цы, Уланова в отчаянии металась у окна, заламывая ру-
ки. Но однажды...
Я видел Уланову десятки раз не только в «Ромео», но
и в «Жизели», «Бахчисарайском фонтане», «Шопениане»,
и могу утверждать, что в 1944—1954 годах она танцевала
стабильно (не говорю о потерях, связанных с возрастом).
Партии ее были давно сделаны, четко отрепетированы,
многократно выверены. Разумеется, у нее, как у всякой
балерины, случались более и менее удачные спектакли,
но диапазон колебаний был невелик, и в целом к импро-
визациям в эти годы она не тяготела. Во всяком случае,
у меня сложилось такое впечатление по ее ленинградским
спектаклям, которые я не пропускал. В Москве я ее видел
значительно реже, но и там впечатление оставалось таким
же. Но однажды... Вместо того чтобы метаться в окне,
Уланова, появившись, вдруг застыла с широко раскрыты-
ми от ужаса глазами. Одной рукой она судорожно сжала
горло, сдерживая крик, а другой, протянутой вперед, с
как-то слабо шевелящимися пальцами, отстраняла от се-
бя ужас случившегося. Она словно не могла до конца
осознать коварство судьбы, подстроившей такое. Это
длилось мгновение, а память хранит это мгновение трид-
цать лет. Обычно же этот крошечный эпизод сразу забы-
вался, заглушенный исступленной трагичностью фина-
82
ла — траурным шествием и проклятиями синьоры Ка-
пулетти.
Начинался третий акт, в котором все сосредоточено
на судьбе героев, и Уланова почти не покидает сцены.
При поднятии занавеса она сидит на ложе и, склонив-
шись над Ромео, нежно гладит его, прильнувшего к ее
ногам. Я уже писал о красоте арабеска Улановой, о ее
способности придавать линии прогнутого корпуса совер-
шенную законченность и выразительность. Так и здесь
в бытовой позе — в сгибе спины, в слегка опущенных
вперед плечах, в покачивании корпуса было столько неж-
ности, тихого счастья и вместе с тем обреченности, что
сердце сжималось. Одновременно жест руки, скользив-
шей по спине Ромео, был исполнен почти материнской
ласки — так можно укачивать заснувшего ребенка. И
делалось ясно, с какой трагической быстротой прошла
Джульетта путь от беззаботной шалуньи до любящей и
страдающей женщины. А ведь все эти ощущения воз-
никали еще до начала хореографического дуэта, при виде
почти застывших фигур. Очевидно, феномен воздействия
Улановой во многом заключался в неоднозначности каж-
дого момента ее сценической жизни, в способности бале-
рины вызвать у зрителя широкий круг ассоциаций, оттен-
ков чувства, глубоко субъективных, но именно поэтому
делающих ее творчество близким для каждого. Иначе
в чем же ее сила? Ведь существует немало балерин, тан-
цующих в технологическом отношении лучше Улано-
вой. И прыжок у них выше, и шаг больше, и вращения ку-
да стремительней...
Прощание с Ромео, а затем сцена объяснения с роди-
телями и Парисом у Улановой были наполнены таким
множеством психологических штрихов и оттенков, что
смотрелись напряженно, с неослабевающим вниманием,
с боязнью что-либо пропустить. Среди этого богатства
подробностей мое внимание всегда останавливал взгляд
Джульетты — Улановой на Париса, исполненный такой
тоски и мольбы, что он невольно отступал перед ним,
а также последнее усилие воли, которым сидящая на
полу Джульетта выпрямляла корпус, затем сразу же
надламливавшийся, как только захлопывалась дверь за
отцом.
После этого наступал один из знаменитых моментов
роли — бег Джульетты к патеру Лоренцо. Набросив чер-
ный плащ, Уланова бежала вдоль рампы от правого края
83
к левому. Эти короткие мгновения были ярчайшим
эмоциональным всплеском. Фигура Улановой воплощала
безумный порыв, неудержимость. В ней жило и стреми-
тельно двигалось все: ноги, несущие ее вперед, грудь,
рассекающая воздух, плечи и руки, придававшие бегу
какую-то ломкость и отчаянность. Тут зал всегда взры-
вался овацией. Потрясал сам момент, но одновременно
то была и реакция на напряженность, с которой смотре-
лась предыдущая сцена. В овации зритель бессознатель-
но находил выход накопившемуся напряжению.
В сцене с родителями и затем в монологе перед при-
нятием напитка в партии Джульетты часто использован
ход на пальцах — pas de bourree. Это распространенное
и по виду несложное движение, которое делают все —
любая танцовщица почти в каждом балете. Как способ
перемещения по сцене оно доступно всем. Но придать
ему образность, эмоциональную окраску умеют немногие
балерины. Мастерицей делать pas de bourree звонко, че-
канно была Вечеслова: казалось, что норовистая козочка
перебирает своими копытцами. Pas de bourree Улановой
было особым. Она его делала очень мелко, перебирая не
всей стопой, а главным образом пальцами. Это особенно
было заметно, когда она двигалась вперед спиной и боком
к зрительному залу. Оттого ее движение приобретало
плавность, плечи и корпус совсем не вздрагивали, как это
нередко бывает, а жили своей самостоятельной, не свя-
занной с ногами, жизнью. В этом очень индивидуально ис-
полняемом pas были трепетность и обаяние, которые так-
же работали на образ Джульетты.
Наступала заключительная сцена в склепе. Как натя-
нутая белая струна в лучах прожекторов плыла Джуль-
етта на вытянутых руках Ромео. Перед тем как поднять-
ся к саркофагу Ромео опускал левую руку, и тело Джуль-
етты с распростертыми руками, запрокинутой головой
глубоко прогибалось и последний раз застывало в руках
любимого. Корпус Улановой был перегнут не в талии, а
где-то выше, грудь устремлена к небу, и от нее корпус
и ноги безжизненно стекали вниз. Поза поражала как
экспрессивностью, так и совершенной красотой своих
линий.
Самые последние мгновения спектакля Уланова про-
водила особенно сдержанно. Осознав, что Ромео мертв,
она тоже переставала жить, и потому момент физического
расставания с жизнью оказывался для нее нетруден. Пос-
34
ле удара кинжалом (без всякой аффектации) она надла-
мывалась и тихо опускалась на тело Ромео. Так их и нахо-
дили, лежащих крест-накрест...
По окончании балета публика не сразу стряхивала
с себя оцепенение, поэтому полагавшийся в конце вос-
торженный крик возникал не сразу, лишь постепенно на-
бирая силу. Букетов-веников огромного размера на мос-
ковский манер тогда еще не было, но благодарность
публики была искренней, овация — продолжительной.
В своем рассказе об улановской Джульетте я нередко
упоминал о корпусе балерины. Всем хорошо извест-
но, в качестве азбучной истины, что окраску позе, эмо-
циональность, выразительность танцу чаще всего прида-
ют руки. Разумеется, Уланова великолепно владела рука-
ми, они жили, говорили, были предельно выразительны,
но истинно улановское заключалось в пластических воз-
можностях ее корпуса, в его трепетности, подвижности,
гибкости. Как часто теперь мы видим балерин с велико-
лепно разработанными ногами и руками, но неподвиж-
ным, лишенным пластичности корпусом. Как много они
теряют, как обедняют свои выразительные возможности.
Правда, сейчас двойные туры перестали быть проблемой
для всех, не исключено, что нормой станут тройные.
Возможно подобная виртуозная выучка закрепощает кор-
пус или просто о нем перестали думать, считая это
неважным.
Но вернемся к спектаклю. Партнером Улановой
по гастрольным спектаклям сначала был М. Габович, а
затем Л. Жданов. Из них я предпочитал М. Габовича,
элегантного, благородно-сдержанного, продуманно и убе-
дительно строившего роль. С К. Сергеевым я видел Ула-
нову только однажды, в 1960 году, на прощальном вечере
Р. Гербека. Давали второй акт «Ромео и Джульетты».
Кроме того, шел второй акт «Раймонды» и первый акт
«Дон Кихота». Спектакль был торжественным, празднич-
ным, публика находилась в приподнятом настроении,
внимание сосредоточивалось на герое вечера; появление
вместе с Гербеком Н. Анисимовой (она к этому времени
уже оставила сцену) в «Испанском марше» «Дон Кихота»
вызвало бурю в зрительном зале. В этой обстановке сцена
венчания прошла как-то незаметно и глубокого впечатле-
ния не произвела. Талант Улановой требовал сосредото-
ченного внимания, она не принадлежала к числу балерин,
которые мгновенно подчиняли зал, и обстановка припод-
85
пятой суматохи не способствовала восприятию этой чуд-
ной сцены. Однако наэлектризованный зал устроил дол-
гую овацию, не отпуская Гербека, Уланову, Сергеева.
Уланова выходила на поклоны, закутавшись в черный
плащ, спускавшийся складками до земли. В какой-то мо-
мент от неосторожного движения плащ распахнулся и
изумленные зрители увидели ноги Улановой в... сапож-
ках. Она в тот же вечер уезжала в Москву, до поезда ос-
тавались считанные минуты и, пока шел конец второго
акта, она, опасаясь опоздать, переоделась. Большинство
в зале было шокировано, эпизод расценили как неуваже-
ние к зрителям и сцене Кировского театра. Несмотря на
преклонение перед талантом Улановой, об этом долго
не забывали. (Мне же эпизод показался мелочью и не вы-
звал такого взрыва эмоций. К тому времени Уланова
научила меня разделять сцену и жизнь. Однажды ее не-
корректный поступок по отношению ко мне доставил мне
немало горьких минут и сыграл определенную роль в ре-
шении оставить композицию.)
После этого спектакля в кулуарах нередко звучали
сожаления о том, что распался такой прекрасный дуэт.
Передавалась якобы сказанная после спектакля Серге-
евым фраза: «Какая у нее удобная талия». Не знаю, зву-
чало ли в этих словах сожаление и вообще были ли они
сказаны, но вряд ли постоянный партнер Наталии Ми-
хайловны Дудинской в жизни и на сцене мог выразиться
более определенно.
Партия Джульетты — высшее достижение Улановой.
В спектакле она так же занимала доминирующее поло-
жение. Но художественную ценность в балете имело все
окружение Джульетты — весь тот средневеково-ренес-
сансный мир, с неподражаемым совершенством воссоз-
данный труппой Кировского театра. Характерно, что
отсутствие Улановой в спектакле не наносило ему не-
поправимого ущерба. Каждая исполнительница роли
Джульетты, опираясь на всю образную систему спектак-
ля, вносила в него что-то свое. Почти для каждой из них
соприкосновение с этой партией стало заметной вехой в
творческой биографии. Могу утверждать, что я не видел
плохих или совсем слабых Джульетт. Мне довелось
увидеть в этой партии А. Шелест, Н. Петрову, Э. Минчо-
нок, Н. Макарову, И. Колпакову, А. Сизову, Е. Максимо-
ву и даже Н. Красношееву, станцевавшую эту партию
всего один раз перед уходом на пенсию. При всем разли-
86
чии уровня их мастерства и масштаба дарования, каждая
из них создала достаточно убедительный образ.
Хотя мировая слава пришла к Улановой в Большом
театре, мне всегда казалось, что, лишенный ауры ленин-
градского спектакля, образ ее Джульетты в чем-то
проигрывал. Во всяком случае, в спектаклях Большого
Уланова производила на меня меньшее впечатление, чем
в незабываемых — ленинградских.
Не стану касаться исполнения партии Джульетты
другими балеринами. Отмечу только, что поныне помню
гордо вскинутую голову Джульетты — Шелест и ее
взгляд на разгневанного синьора Капулетти. В этом
взгляде были вызов, готовность к сопротивлению, гор-
дость. Такая Джульетта была готова на все испытания.
Большой, сильный прыжок Шелест показал, что в пар-
тии имелись хореографические пласты, не использован-
ные Улановой.
Привлекательной, женственной и обаятельной была
Джульетта Н. Петровой. Ее внешние данные, мягкость,
молодость как нельзя более подходили к этой роли. Прав-
да, у нее возникали сложности с вариацией на балу, на
что театральные острословы не преминули откликнуться
эпиграммой:
«В тебе достаточно сценической культуры,
Осталось лишь одно — освоить туры».
В поведении Петровой на сцене присутствовали интел-
лигентность, чувство стиля, сценическая культура, в выс-
шей степени свойственная труппе Кировского театра
40—50-х годов. Эта культура и позволила актерам театра
создать художественно завершенные образы.
В балетном театре общепринято, что на все, даже эпи-
зодические роли спектакля готовится несколько составов.
Актеры болеют, получают травмы, по-разному склады-
вается их загрузка, в итоге одну и ту же роль поочередно
танцуют разные исполнители. Это продиктованное самой
жизнью правило к «Ромео и Джульетте» будто не отно-
силось.
Складывалось впечатление, что в день этого спектакля
никто не болел, ни с кем ничего не случалось, никто в дру-
гом месте занят не был. Приходя в театр, ты неизменно
встречал своих давних, старых знакомых: слуг Капулет-
ти (Т. Балтачеев, Б. Брускин, Ю. Дружинин), куртиза-
нок (К. Златковскую, Т. Капустину и А. Улитину, а позже
37
К. Лопухову), нищих (3. Мачан и В. Осокину), корми-
лицу (Е. Бибер).
Хотя все они исполняли небольшие эпизоды, роль
их в спектакле была отнюдь не эпизодической.
Балтачеев, Брускин и Дружинин практически начи-
нали балет. Появление слуг, заспанных, потягивающихся,
предельно обыденных, исподволь готовило контраст с
первой уличной схваткой, а сцена неудачной попытки
полакомиться хозяйским кушаньем своим грубоватым
юмором оттеняла высокую романтику первой встречи
Ромео и Джульетты.
Развязные куртизанки, сопровождающие Тибальда,
дополняли его характеристику. Походка их была вульгар-
на, особенно у Капустиной, которая нагло двигалась
животом вперед (откуда у балетной актрисы живот?).
Они бесстыдно демонстрировали свои ноги, затянутые
в мужские лосины. А это надо уметь сделать, поскольку
вид женской ноги, затянутой в трико,— в балете норма.
В сцене схватки Тибальда с Меркуцио они вольготно рас-
полагались вверху, на балюстраде, бурно приветствуя
наперекор народу на площади успехи своего покровителя.
Их группа, поднятая над толпой, как бы завершала орга-
низацию сценического пространства. Но актрисы чутко
соблюдали меру, и, находясь в вершине построения ми-
зансцены, не отвлекали внимания на себя от главных со-
бытий, происходящих внизу.
Нищие как будто вообще не имели никакого отноше-
ния к происходящему. Они без дела болтались по площа-
ди, крали яблоки у торговки, обворовывали зазевавшую-
ся иностранную пару и вдруг на один (но какой важный!)
момент становились выразителями настроения толпы,
когда после предательского ранения Меркуцио мальчиш-
ка запускал апельсином вслед уходящему Тибальду.
Разумеется, все, о чем я пишу, было поставлено
балетмейстером и режиссером, но затем филигранно,
до малейших подробностей разработано исполнителями,
и заинтересованно, с полной отдачей воплощалось ими
на каждом спектакле. Говорят, что В. Осокина, чтобы
добиться характерной лопоухой внешности своего персо-
нажа — уличного мальчишки — подклеивала гумозом
кончики ушей. (Будет ли сейчас молодой актер возиться
со сложным гримом ради проходного эпизода?). Но уси-
лия по созданию эпизодических персонажей окупались
сторицей. Они воспринимались как живые характеры,
88
запомнились на десятилетия, а замена их со временем
другими исполнителями создала какое-то неудобство в
восприятии спектакля, и, как вскоре выяснилось, их уход
лишил его существенных красок. Исполнители эпизодов
умело и тонко воссоздавали атмосферу средневекового
города, в которой полнокровно жили, любили, страдали
основные персонажи шекспировской трагедии.
Здесь мне хотелось бы рассказать о трех исполните-
лях...
Валентина Константиновна Иванова играла синьору
Капулетти. В прошлом ведущая характерная танцовщи-
ца, она в мое время уже изображала королев и делала
это с высоким артистизмом и вкусом. Ее королевы были
красивы, элегантны, величественны и безупречно арис-
тократичны. Аристократизм и значительность были орга-
нично присущи Валентине Константиновне. Однажды я
столкнулся с ней в гастрономе, она покупала нехитрые
продукты. Иванова отдала чек продавщице и, получив
от нее сверток, поблагодарила ее. Но, протягивая чек и
наклоняя голову в знак благодарности, она мгновенно за-
ставила вспомнить театр: королева милостиво протягива-
ла руку фрейлине и царственным наклоном головы от-
пускала ее.
Танцующей В. Иванову я видел только в «Щелкун-
чике» в танце «Кофе» («Восточный»), где запомнилась
изысканная пластика ее рук. Все качества королев Ива-
новой присутствовали и в синьоре Капулетти. Она появ-
лялась в спальне Джульетты красивая, холодноватая, на-
дежно защищенная броней векового патрицианства. Как
нежно и вместе с тем строго она отклонялась от ласк
расшалившейся дочери, которые могут испортить ее при-
ческу. Она любуется Джульеттой, но в ее чувстве к ней
больше гордости (растет дочь-красавица!), чем тепла.
Она безусловно в доме хозяйка, которая может, если
захочет, повлиять на мужа. Но брак с Парисом — это
умный шаг, и она поддерживает синьора Капулетти. По-
тому позже она отвергнет мольбы Джульетты. Образ
синьоры Капулетти очерчен сразу, и уже при первом вы-
ходе Ивановой казалось, что характеристика ее героини
исчерпывающа. Но наступала сцена бала, начинался «Та-
нец с подушками», и образ укрупнялся, превращаясь в
символ эпохи. Конечно, опору для обобщения дает музы-
ка Прокофьева, достигающая в «Танце с подушками»
предельной характеристичности. Артистка, однако, мас-
89
терски использовала предоставленные ей композитором
и хореографом возможности.
Несмотря на кажущуюся простоту «Танец с подушка-
ми» таит много трудностей.
Все начинается с костюма. Тяжелыми, крупными
продольными складками платье ниспадает спереди и сза-
ди, переходя на пол. Оно скрывает фигуру, тяжелит ее,
и исполнительнице надо уметь дать почувствовать, что
под богатой парчой скрыт тонкий стан, передать харак-
терную для средневековья посадку фигуры. Эта посадка,
взятая со шпалер и гравюр, требует выставленного вперед
живота, несколько откинутой назад спины и слегка нак-
лоненной шеи. Если осанка танцовщицей схвачена вер-
но, то тяжелая парча вдруг оживает, полотнища платья
приходят в движение, отделяясь от фигуры и открывая
ее на мгновение. Облик исполнительниц завершают руки,
сложенные впереди с мягко опущенными кистями. Они
должны почти не касаться ткани, не мешая ей струиться
в пышных складках. Костюм, постановка головы и
корпуса, линия рук передают надменность и аристокра-
тизм участниц бала, наполняют танец ароматом эпохи.
Разумеется, это происходит лишь в том случае, если ис-
полнители — мастера, понимающие цену каждой детали.
К сожалению, многие сегодняшние исполнители не
справляются со всеми этими премудростями, поскольку
просто не подозревают об йх существовании.
Но Валентина Константиновна Иванова знала цену
всем «мелочам» и умела их облечь в совершенную форму.
Статная, с горделивой посадкой головы, с холодной улыб-
кой на устах, она шествовала в мерном ритме танца;
манера носить костюм была безупречна, руки с длинны-
ми кистями как бы стекали по парче в изысканной линии,
завершаемой платком, который она держала кончиками
пальцев. Женский кордебалет тех далеких спектаклей
чутко улавливал стиль танца и достойно аккомпанировал
солистке. Помню момент, в котором Иванова была непов-
торима. В середине танца есть эпизод, когда танцуют
одни женщины. Перед началом его они стоят неподвиж-
но, опустив одну руку перед собой, а другой вознеся
подушки над головой. Вот сейчас должна начаться мело-
дия, и за какой-то миг перед началом движения корпус
артистки слегка «надламывался» в талии, устремлялся в
сторону, и только затем в эту же сторону возникал и сам
ход.
90
Это было так упоительно красиво, так мимолетно
и так впечатляюще, что я всегда готовился к этому
моменту, чтобы его не пропустить. Это «предощущение»
движения передавала на моей памяти только Валентина
Константиновна.
Не следует забывать, что образность танца несли и
мужчины. Их мерная, тяжелая поступь, сильные, цепкие,
жесткие обводки дам, куртуазные поцелуи создавали
ощущение власти, силы, глухой, затаенной жестокости.
А когда на это полифонически накладывалась холодная
красота и аристократическая изысканность женского
танца, то возникал образ эпохи, уже уходящей, но еще
страшной своим бездушием и силой. Благодаря испол-
нителям «Танец с подушками» становился одной из вер-
шин спектакля, придавая ему шекспировскую глубину и
размах.
Впервые попав на «Ромео и Джульетту» в Большой
театр (это был улановский спектакль, и я гордо восседал
на месте, оставленном для меня самой Улановой), я ис-
пытал горькое разочарование. Синьору Капулетти танце-
вала Е. Ильющенко. Когда она появилась в «Танце с по-
душками» и уютно сложила на животе руки, я был убит.
У меня мелькнуло в голове, что сейчас она достанет се-
мечки и начнет их лузгать. Что поделать, ведь восприя-
тие балета зачастую ассоциативно и один непродуман-
ный или неточный жест может вызвать ассоциацию, на-
чисто уничтожающую задуманный образ. Исполнители
должны это понимать. Одним словом, «Танец с подушка-
ми» был загублен, а я надолго лютой ненавистью (не
забывайте, что я был молод) возненавидел эту акт-
рису.
Если бы роль синьоры Капулетти оканчивалась на
балу, то уже одного «Танца с подушками» В. Ивановой
было бы достаточно, чтобы создать законченный образ.
Но в финале второго акта ее героиня открывалась зрите-
лю совсем иной и неожиданной гранью. Когда Ромео
убивает Тибальда, на крики кормилицы из дома выбегает
синьора Капулетти. Она бросается к убитому племянни-
ку, горе ее подкашивает, и она падает на его тело. Но тут
же выражение горя принимает ритуальный характер:
синьора Капулетти рвет одежды на груди, распускает
волосы. Именно поэтому Иванова несколько театрально
все это проделывала. Но почти одновременно в ее героине
возгоралось иное чувство, выражение которого не было
91
сковано обычаем и ритуалом,— яростная жажда мести.
В этот момент облик Ивановой делался страшен
своей мрачной исступленностью. Сидя на носилках с те-
лом Тибальда, вознесенная над толпой, синьора Капу-
летти воссылала проклятья дому Монтекки, всему жи-
вому и дышащему, и эти ужасные проклятья тяжелым
камнем падали вниз и пригибали к земле людей. Так
на яростной и трагедийной ноте оканчивала этот акт
В. Иванова.
Звучание спектакля, степень его приближения к духу
Шекспира, его впечатляющая сила во многом зависят от
исполнителей ролей Тибальда и Меркуцио. Если испол-
нители ограничиваются добросовестным воспроизведе-
нием рисунка роли, то финал второго акта превращается
в эффектное зрелище жестокой стычки и вероломного
убийства симпатичного парня малосимпатичным сопер-
ником (даже ординарным исполнителям не удается сде-
лать эту блестяще поставленную сцену скучной). Но
если артисты — творцы, художники, крупные актерские
индивидуальности, если они любовно и тщательно
разработали свои роли, наполнив их правдой жизни, то
образы делаются полнокровными, вырастают до обобще-
ния, и финал второго акта превращается в противобор-
ство двух жизненных систем, двух философий, двух
эпох.
Ленинградский спектакль украшали две поистине
великолепные актерские работы: Тибальд — Р. Гербек
и Меркуцио — Б. Брегвадзе.
Когда я случайно встречаюсь в фойе театра с Робер-
том Иосифовичем и мы перебрасываемся несколькими
словами о последних балетных новостях, я не перестаю
удивляться, как э.тот приветливый, небольшого роста,
по-молодому стройный человек мог быть на сцене
воплощением зла, жестокости, разрушительной силы.
Тибальд Гербека был именно таким. Когда он появлялся
в бело-красно-голубом костюме и коротком красном пла-
ще, с кривой усмешкой-ухмылкой на лице, с падающей на
лоб жесткой прядью волос, то сразу же заставлял неот-
ступно следить за собой. С каким наслаждением он ввя-
зывался в первую же уличную стычку, как издевательски
нагло вел себя с более слабым противником, с каким
сарказмом глумился над указом герцога Вероны. Уже это
первое появление Тибальда содержало точную экспози-
цию образа, порождало ощущение достоверности сущест-
92
вования персонажа на сцене. Затем следуют эпизоды
Тибальда на балу и на просцениуме с уличным торговцем
и куртизанками. Казалось бы, проходные эпизоды сцены
бала и, в общем-то, нехитрое противопоставление манеры
поведения Тибальда и Меркуцио с торговцем и торговкой
фруктами (один глумится, а второй не торгуясь покупает
весь товар) дают актеру мало материала для углубления и
развития образа. Но глядя на то, с какой бездумностью
Тибальд готов броситься в схватку с Ромео и нарушить
тем самым все законы гостеприимства, с какой жадной
грубостью он целует куртизанку, с какой садистской
жестокостью водит шпагой перед лицом испуганного тор-
говца и любуется впечатлением, производимым им при
этом на куртизанок, чувствуешь, какая неуемная злоба
неизменно кипит в Тибальде. Эта злоба не дает ему ни ми-
нуты покоя, делает невыносимой для него вид чьей-то
улыбки, радости, она снедает его, побуждает ввязываться
во все новые и новые ссоры, сеять вокруг себя вражду.
Это психологически углубляет образ, делает его неодно-
значным, ведет от частности к обобщению. Тибальд
в спектакле почти не танцует (исключение — «Танец с
подушками»). Казалось бы, это лишает балетного актера
основных средств создания образа. Но пластика Гербека
была столь убедительна, что как-то забывалось об отсут-
ствии танца. Особо следует сказать о походке Тибальда.
Она была широка, Тибальд легко и вольготно переме-
щался по всей сцене, но слегка согнутые в коленях ноги,
чуть загребающие ступни делали ее приземленной, сколь-
зящей, какой-то «подъезжающей». Она напоминала дви-
жения пантеры, змеи, вызывала ощущение чего-то ковар-
ного, враждебного, неприятного.
Но вот наступал финал второго акта, а вместе с ним
и кульминация роли. Тибальд, окруженный куртизанка-
ми, появлялся наверху, на балюстраде, и сразу же заме-
чал Меркуцио. Искренность веселья, беззаботность, сим-
патия карнавальной толпы к Меркуцио мгновенно выво-
дили из себя Тибальда, и он, даже не дав себе труда хотя
бы по-настоящему завести ссору, бросался в схватку.
Ирония Меркуцио, его беззаботность, приводили Ти-
бальда — Гербека в бешенство. Казалось, что глаза его
наливались кровью, он зверел, жаждал уже не просто
драться, но убивать. Он с остервенением, напролом
бросался на Меркуцио, но тот мастерски защищался... И
вот предательский удар из-под руки Ромео нанесен. Со-
95
вершилось, по существу, убийство. Спокойно, нарочито
картинно Тибальд — Гербек вытирал шпагу, цинично
целовал ее, как будто она принесла ему победу в честном
поединке, и посылал привет своим дамам, шумно и раз-
вязно приветствовавшим его победу. Проделывая все
это, он презрительно наблюдал за агонией своего против-
ника.
И тут наступал один из ярчайших моментов роли.
Когда становилось ясно, что рана Меркуцио смертельна
и жить ему осталось считанные минуты, Гербек повора-
чивался спиной к умирающему, вытягивал в его сторону
руку, а затем кисть руки падала вниз. Этим движением
кисти он как бы перечеркивал существование Меркуцио,
издевательски подводил итог его жизни; в нем было
столько жестокости, холода, что делалось не по себе...
Обнажалась душа изверга; это чувствовали все, кто был
на площади, и в ужасе отшатывались от Тибальда, когда
он, поворачивался, чтобы уйти в дом. И только когда
дверь за ним закрывалась, у мальчишки-нищего хватало
смелости швырнуть вслед ему апельсин. Последний че-
канный жест Гербека был так точно найден, так глубоко
наполнен страшным смыслом, что повторить его оказа-
лось невозможно. Талантливый А. Гридин, великолепный
Северьян и Визирь в балетах Ю. Григоровича, сменив-
ший Гербека в роли Тибальда, сохранил этот жест, но де-
лал его более мягко, хотя все же достаточно выразитель-
но. В. Лопухов в последнем возобновлении балета, воз-
можно, опасаясь упрека в подражании, заменил его ка-
ким-то неопределенным движением руки. Пропал не
только жест, но и смысл: кульминационное мгновение ро-
ли стало проходным.
Последний бой с Ромео Тибальд Гербека проводил
яростно, ослепленный ненавистью, жаждой крушить и
убивать. Когда он, смертельно раненный, с кинжалом в
руках, нечеловеческими усилиями под страшные удары
оркестра стремился все же поразить Ромео, казалось,
что это уже не человек, но обезумевшее от ярости
животное. Ромео и отбрасывал его тело, как тушу беше-
ного, злобного зверя. Именно злоба помогала Тибальду
прожить еще несколько мгновений, когда он бился в по-
следних судорогах.
Достойным партнером Гербека в спектакле был
Б. Брегвадзе. Окончивший училище в 1947 году, молодой
танцовщик получил роль Меркуцио на третий сезон рабо-
94
ты в театре. Обладая виртуозной техникой, Брегвадзе сде-
лал главным элементом создания образа танец. Уже в
эпизоде, известном под названием «Маски», где партию
Меркуцио составляют маленькие кабриоли, баллонне,
танец Брегвадзе был так сверкающе легок, уморительная
рожица маски так симпатично ухмылялась, что сразу
же возникал образ шутника, весельчака, жизнелюба. Ка-
залось, что слышны шутки и остроты Меркуцио. Он ни
секунды не находился в покое: ноги стремительно летели
над планшетом сцены, движения искрились, плащ вился
вокруг стремительной, стройной фигуры. Это впечатление
закреплялось виртуозно станцованным шуточным тан-
цем на балу.
Дамы и кавалеры, забыв свою чопорность, кор-
чились от смеха, потому что иначе просто невозможно
было смотреть на головоломные трюки, вытворяемые
Меркуцио, на его лукаво «грозящие» жесты и расплываю-
щуюся улыбку маски.
Когда же Брегвадзе снимал маску, в ход шло не
менее сильное оружие, чем технически отточенный та-
нец,— его обаяние. Я мало знаю артистов, которые обла-
дали бы столь открытым, располагающим к себе обаяни-
ем. Пожалуй, только В. Васильев может сравниться в
этом отношении с Брегвадзе. В черном костюме и крас-
ной шапочке он появлялся на плошади и тотчас пускался
в стремительный танец со служанками. Был щедр и доб-
рожелателен с торговкой фруктами. Легко и естественно
становился центром веселья карнавальной толпы. Озор-
но, но не зло шутил с кормилицей. И в какой-то момент
приходило ощущение, что его любят не только за легкий
характер и веселое балагурство, но за доброе отношение
к людям вообще, независимо от того, кто перед ним —
благородный синьор или простой горожанин. Но вот на-
чинался поединок Тибальда — Гербека и Меркуцио —
Брегвадзе. Столкновение этих двух персонажей, создан-
ных двумя замечательными актерами, переставало быть
просто сюжетной ситуацией, но воспринималось как
схватка добра и зла. Это переносило спектакль в другое
измерение и делало его по-настоящему глубоким, шекс-
пировским. Меркуцио легко и беззаботно начинал схват-
ку с Тибальдом, он не испытывал чувства ненависти,
для него поединок — азартная игра, еще одна возмож-
ность остро почувствовать счастье существования на
земле, и, даже когда его настигает предательский удар
95
Тибальда, он до последнего вздоха хранил свою привя-
занность к жизни и радости.
Сцена смерти Меркуцио блистательно поставлена
Лавровским. Она детально разработана, пластический
и психологический рисунок роли тщательно продуман,
но не теряет своей непосредственности. В балетном ре-
пертуаре, на мой взгляд, лишь одна сцена сопоставима
с ней по силе воздействия на зрителя — сцена сумасше-
ствия Жизели. Брегвадзе целиком шел за балетмейсте-
ром. Он точно придерживался заданного рисунка, но де-
лал это искренно и артистично. Вся сцена шла .при пол-
ной тишине в зале, которая возникает только тогда, когда
зритель захвачен и напряженно следит за действием. И
когда жизнь покидала Меркуцио, в зале не оставалось
равнодушных.
Второй акт балета, включающий сцену венчания, пое-
динок Меркуцио и Тибальда, их смерть и проклятия синь-
оры Капулетти, при описанном составе исполнителей
производил неизгладимое впечатление...
Шли годы. Спектакль, блистательно начавший жизнь
на сцене Кировского театра в 1940 году и обошедший
многие сцены мира, выпал из репертуара родного театра.
Помимо соображений репертуарной политики, тут сказа-
лась реакция на драмбалеты — негативное отношение
к ним в 60-е годы. Затем состоялось возобновление,
в котором интересно выступил в роли Тибальда А. Гри-
дин, и снова долгое забвение. Наконец, 29 апреля 1983
года последовало второе возобновление спектакля, сде-
ланное для гастрольной поездки в Москву.
Странное чувство владело мной в тот вечер. Волнова-
ла встреча с любимым балетом, радовало, что постановка
Лавровского не устарела, вопреки многочисленным ут-
верждениям, и не потеряла своего художественного зна-
чения. Но одновременно мне все время казалось, что
я не погружаюсь в стихию спектакля, а только рассматри-
ваю его поверхность, аккуратно подкрашенную и под-
новленную. Складывалось впечатление, что исполнители
заняты воспроизведением внешней формы балета, а ду-
ховная жизнь персонажей или их не интересует, или
им недоступна.
Партию Джульетты танцевала И. Колпакова. Роль
была ею сделана ранее, тщательно разработана и
отрепетирована. Как всегда подтянутая, аккуратная,
все понимающая и танцующая, несмотря на возраст,
96
в очень корректной форме, она более чем все остальные
воссоздает стиль и культуру спектакля. Но академизм
ее исполнения не одушевлен проблеском живого чувства
и не находит эмоционального отклика в душе.
Более чем странное впечатление производит ее
постоянный партнер С. Бережной в роли Ромео. Его
внешний вид, тусклые, спутанные волосы, унылое лицо
вызывают желание как следует его умыть, причесать,
отгладить. Где уж в этой ситуации воспринимать лири-
ческого героя, тем более что исполнение Бережного не
претендует ни на что иное, кроме простого, правда, впол-
не профессионального, воспроизведения текста партии.
Характерно, что рецензент «Советской культуры»,
давая чрезвычайно положительную оценку спектаклю,
показанному на гастролях в Москве, не смог ничего
написать о Бережном и ограничился упоминанием факта
исполнения им роли Ромео. А ведь это ведущий танцов-
щик театра, вполне профессиональный, танцующий весь
лирический репертуар.
Такое же ощущение усредненного исполнения оста-
ется от работ В. Лопухова (Тибальд), Б. Бланкова (Мер-
куцио) и А. Хабаровой (синьора Капулетти). Если сам
материал роли и благоприятная внешность Бланкова
создают иллюзию относительного благополучия, то Ка-
барова многое утеряла в стилистике исполнения «Танца
с подушками», чем наносит ему невосполнимый урон.
Пожалуй, только одна А. Каширина в роли Кормилицы
еще помнит и понимает стиль спектакля. Ее исполнение
(вполне самостоятельное) сохраняет преемственность
и выдерживает сравнение с работами ее предшествен-
ниц Е. Бибер и Т. Шмыровой. Она вносит ту необходимую
краску, которыми когда-то так буйно сверкал спектакль.
Но одна краска не создает многоцветья... Складывается
впечатление, что балет не интересен сегодняшней труппе,
его стиль забыт, преемственность поколений и традиций
исполнения прервалась. Все это тем более странно, что
Брускин и Балтачеев работают в театре, на спектакле при-
сутствовал Гербек, здравствуют и многие другие испол-
нители. Когда я пожаловался Ирине Александровне Кол-
паковой на утерю кордебалетом деталей и стиля в «Танце
с подушками», она согласилась со мной и даже показала,
как правильно надо делать движение. Словом, возможно-
стей для творческого возобновления и восстановления
спектакля достаточно. Не ясно только, есть ли желание
6—1167
97
сохранить этот блестящий спектакль, вписавший важ-
ную страницу в историю театра.
Жемчуг, когда его перестают носить, умирает, спек-
такль, которым не живет труппа, который не показывают
регулярно,— тоже.
Не постигла ли такая судьба балет Прокофьева —
Лавровского «Ромео и Джульетта»?
1983
СУДЬБЫ
НАТАЛИЯ ДУДИНСКАЯ
И
КОНСТАНТИН
СЕРГЕЕВ
Хорошо, когда на кухне порядок: протягиваешь не
глядя руку — и струя воды уже льется в нужную каст-
рюлю. Хорошо, когда порядок в личной библиотеке: по-
вернешь голову — а знакомый корешок уже дружелюб-
но поглядывает на тебя с полки. Хорошо, когда порядок
на транспорте: есть уверенность, что поезд придет вовре-
мя. Вообще, хорошо, когда порядок — все удобно, прос-
то, понятно... Не потому ли так неизбывно во все времена
было стремление к нему? Вот только представление о нем
почему-то у всех разное.
Искусство тоже всегда стремились упорядочить. Не
избежал этой участи, разумеется, и балет. После рево-
люции для начала его пытались вообще отменить. Устой-
чивое словосочетание «императорский балет» и несколько
демагогических, но звонких фраз, казалось, делали эту
акцию совсем несложной. Но балет сопротивлялся и ус-
тоял, правда, не без ощутимых потерь: канула в вечность
часть репертуара, сильно поредела труппа. По давности
лет теперь многое уже забылось, но, во всяком случае,
считается, что кончилось все ко всеобщему удовольст-
вию. Напоминанием о той поре служит возникшая тогда
и не решенная до наших дней проблема сохранения клас-
сического наследия.
Оправившись от первых потрясений и восстановив
некоторую часть наследия, но зато растеряв другую, балет
начал экспериментировать. (Насколько этот эксперимент
был талантлив, смел и провидчески устремлен в будущее,
100
мое поколение поняло только на юбилейном вечере
Ф. В. Лопухова в 1971 году, когда были показаны восста-
новленные крохи из его сочинений разных лет.) Однако
снова последовал окрик. Балет замер, а после паузы вновь
расцвел, на сей раз эпохой хореодрамы.
На первых порах, казалось, что все проблемы наконец
счастливо решены. Симметричный порядок классическо-
го балета был все же каким-то подозрительным поряд-
ком — уж очень зашифрованы, не наполнены конкрет-
ным реально-повседневным смыслом были его вариации,
па-де-де, па-д’аксьон. Эксперимент же всегда вызывал
тревогу и недоверие — еще не известно, к чему он приве-
дет. Бессюжетные композиции вели, казалось, прямой
дорогой к формализму и «их» искусству, а сюжетец
иногда (если за сочинение, к примеру, брался Касьян
Голейзовский) получался такой, что лучше не надо...
Одним словом, эротика!
Теперь оснований для сомнений не было. Хореодрама
напрямую связала танец с социально значимым содержа-
нием. Наконец балет стал доступен пониманию, встал
на истинный путь. Доказательством тому служили родив-
шиеся на ленинградской сцене шедевры: «Бахчисарай-
ский фонтан», «Лауренсия», наконец, «Ромео и Джульет-
та». Однако в пылу восторгов по поводу утверждения
подлинного реализма в балете как-то не сразу заметили,
что хореодрама слишком жестко привязала танец к сю-
жету. На этой привязи танец стал хиреть и увядать. Даже
когда противоречия хореодрамы стали различать не толь-
ко самые талантливые и проницательные, когда блеск ис-
полнительского мастерства труппы уже не мог скрывать
их, то и тогда еще долго пытались игнорировать эти
тревожные признаки увядания. Оно и понятно — уж
очень не хотелось расставаться с балетным «реализмом».
Более того, новое течение симфонического танца, выводя-
щее балет из тупика абсолютизированной хореодрамы и
открывающее пути для дальнейшего его развития, было
воспринято вначале как отход от реалистического искус-
ства и заветов классиков, хотя исходной точкой для него
стали именно вершинные достижения хореографическо-
го мышления конца XIX века.
Если становление и расцвет хореодрамы, ознамено-
ванный созданием «Ромео и Джульетты» (1940), заняли
около десятилетия, а ее безбедное существование и дли-
тельное умирание — почти тридцать лет, то с симфони-
707
ческим танцем все обстояло иначе. Новое течение заяви-
ло о себе сразу, в течение трех лет, такими ослепительно
талантливыми спектаклями и так быстро достигло
своего апогея («Легенда о любви» — 1961 год), что
сделало почти невозможным свое дальнейшее посту-
пательное развитие. Возникла редкая, если не исключи-
тельная ситуация в истории бесконечного развития ба-
летного искусства.
Идеи хореодрамы, составляющие ее суть, исчерпали
себя значительно раньше, чем прекратилась реальная
практика использования этого метода. Только талант
постановщиков и великолепных исполнителей еще долгие
годы скрывал окостенелость и мертвенность канони-
зированных догматов. Симфонический танец начал
сдавать свои позиции отнюдь не потому, что исчерпал
внутренние возможности метода, а лишь потому, что
хореографы, его утвердившие (а не исполнители!), не
удержались на уровне своих первых и, как оказалось,
вершинных достижений, а следующее поколение балет-
мейстеров, исповедующих этот метод, не смогло поднять-
ся до эталонов. Слишком уж высокие требования предъ-
являет этот метод к хореографическому — именно хорео-
графическому — мышлению! Добротные, профессио-
нальные работы, вполне приемлемые в хореодраме, здесь
воспринимаются с куда меньшим удовлетворением, а то
и дискредитируют сами идеи симфонического балета.
Не исчерпав себя, но как-то поблекнув, симфоничес-
кий танец незаметно трансформировался в нечто другое.
Под знакомые звуки теперь уже хорошо отлаженных
разговоров о сохранении и сбережении классики насту-
пил новый, современный период. В чем его суть? Один
из мэтров ленинградского балета, О. Виноградов, утверж-
дает, что сейчас настало время слияния лучших черт
хореодрамы и симфонического танца. Допустим, что это
так. Но что даст настоящего, серьезного это время кок-
тейля, узнается лет через десять — пятнадцать. Во вся-
ком случае, претендовать на место в ряду со спектаклями
времен славы ленинградского балета сейчас могут, пожа-
луй, только «Ярославна» О. Виноградова, «Идиот»
Б. Эйфмана и «Макбет» Н. Боярчикова (правда, даже
им не хватает для этого громкой славы и широкого
распространения).
Да, идут годы, десятилетия, слагается история
ленинградского балета, вбирая в себя судьбы людей,
102
связавших жизнь с этим прекрасным и неумирающим ис-
кусством. Судьбы радостные и печальные, оправдавшие
надежды или принесшие горькое разочарование и неудо-
влетворенность, незамеченные и оставившие след. От
многого зависели эти судьбы: от одаренности, случая,
упорства, работоспособности, да мало ли от чего... Но
над всеми ими властвовало Время, почти не ощутимое
живущим# в нем, но властно диктующее свои требова-
ния. Проще всего было тем, кто, имея хорошие профес-
сиональные данные, лишен был природной индивидуаль-
ности. Такие легко и органично вписываются в любое
время, усваивают любые доктрины, на них всегда держал-
ся и держится театр, они его основа. Счастливы были те,
чей дар, даже скромный, совпал с веяниями времени.
Они расцветали под благосклонным вниманием и получа-
ли от театра значительно больше, чем могли рассчиты-
вать. Зато трудная судьба ждала тех, чья индивидуаль-
ность пришлась не ко времени; и чем она была уникаль-
нее, крупнее, тем острее воспринимались это несоответст-
вие и несправедливость, проистекавшая из него. Действи-
тельно, как мог реализовать себя трагический дар А. Ше-
лест в пору, когда даже редкая трагедия могла быть
только оптимистической, а слово «типическое» почти
исключало понятие «индивидуальное», легко путаемое
с поносимым «индивидуализмом».
Но были художники, которые, вписываясь во Время,
сами влияли на него, становились его выразителями, ре-
шая свои задачи, направляли движение театра, предопре-
деляли тем самым его будущее. К таким редким людям
избранной судьбы безусловно относятся Наталия Михай-
ловна Дудинская и Константин Михайлович Сергеев,
чья жизнь уже почти полвека неразрывно связана
с ленинградским балетом.
Н. Дудинская была блистательной балериной. Среди
крупных танцовщиц ленинградской сцены, включая Ула-
нову, я не знаю, пожалуй, ни одной, которая столь полно
и совершенно воплощала бы на сцене и в жизни это поня-
тие. За долгие годы каждодневного употребления мы
трансформировали смысл слова «балерина». Достаточно
бойкой шестикласснице уверенно пропрыгать на пальцах
какую-нибудь заштатную вариацию, как в дежурном га-
зетном отчете о хореографическом училище будут про-
изнесены не менее дежурные похвалы «молодой балери-
не». Стоит посредственной солистке с грехом пополам
103
станцевать центральную партию спектакля — новая
«балерина» готова. Если нужно назвать профессию кор-
дебалетной танцовщицы, то даже не очень далекие от те-
атра люди в просторечии для краткости скажут «ба-
лерина». Перерождение понятия вызвали время, условия
жизни, но в неменьшей степени этому способствовало из-
менение характера балетного спектакля. Ну кому из ба-
летмейстеров прошлого века пришло бы в голову доста-
вить балерину на сцену верхом на осле или одеть одина-
ково с кордебалетом и долго не выделять ее из общей
массы? Все блестящие шествия и марши, торжественные
ритуалы бесконечных свадеб и балов, стройные ряды
кордебалета, ожерелье солисток с их вариациями, галант-
ность нетанцующих кавалеров — все тогда существовало
ради главной драгоценности спектакля — Балерины. Ра-
ди нее шли долгие поиски формы, нашедшие свое вопло-
щение в па-де-де, ради нее возникла эстетика — нет, це-
лая философия антре. Да и зал с блеском позолоты и
люстр, обнаженных плечей в полукружье лож, мерцани-
ем золотого шитья мундиров и эполет тоже был для
нее — все собрались сюда, чтобы увидеть ее и восхи-
титься ею — единственной, неповторимой — Балериной.
Но, принося жертвы своему кумиру, балет многое
требовал взамен. Чтобы стать балериной, надо было
иметь физические данные, талант, индивидуальность,
темперамент... Чего только не надо иметь! Дудинская
обладала всем... или виртуозно создавала иллюзию пол-
ного обладания. При относительно небольшом росте
(особенно по современным понятиям) благодаря удач-
ным пропорциям и достаточно длинным ногам она не
казалась мелкой и безукоризненно соотносилась с разме-
рами зеркала сцены, подчиняя ее просторы силой и раз-
махом своего танца. У нее был большой шаг и стреми-
тельные, полные динамики и силы крученой пружины,
вращения. С удивлением я как-то услышал в профессио-
нальном разговоре, что прыжок у Дудинской был не так
уж велик, скорее, даже средний. На сцене, в танце он
казался исключительным и если не обладал силой и
полетностью прыжка Шелест, то привлекал стремитель-
ностью преодоления пространства, взмахом и шпагатом
«натянутых» ног, протяженностью полета — Дудинская
в жете на исходе прыжка как-то закидывала вытянутую
вперед ногу, продлевая парение. Природа наделила бале-
рину заметным «иксом», что не позволяло ей уверенно
104
делать фуэте, но отнюдь не мешало остальным вращени-
ям. Одновременно это придало линиям ее ног особую
выразительность в различных ракурсах. В сочетании с
предельной выработанностью, идеальным ощущением по-
зы, собранностью такая особенность делала ее ноги, я бы
сказал, «породистыми», наделенными особой изыскан-
ностью. Даже деформация одной стопы, которая появи-
лась позже и, конечно, не украшала, не могла разрушить
этого впечатления. Дудинскую многие считали некраси-
вой, но, думаю, несправедливо. Конечно, она не могла
выдержать сравнения с общепризнанными красавицами
театра или очаровательными «куколками». Ее слегка
вытянутое лицо с достаточно правильными чертами,
хорошо очерченными ртом и линией подбородка оживля-
ли большие выразительные глаза. Но особенно его укра-
шала улыбка — счастливая, сияющая. Это сияние есте-
ственно выражало восторг самой Дудинской, радость
свободного бытия в стихии виртуозного танца и безот-
казно воздействовало на публику. Нет, только недобро-
желатели могли утверждать, что Дудинская некрасива.
У нее выразительное, интересное, интеллигентное лицо!
Да, многое нужно иметь, чтобы стать балериной. Но
чтобы быть балериной, нужно не только многое иметь, на-
до уметь быть балериной. Вот этим даром — быть бале-
риной — Дудинская владела сполна.
Надо заметить, что профессия балерины в силу своей
исключительности — профессия трудная и даже опасная.
Идея единственности, неповторимости, уникальности
сопровождает балерину всю ее театральную жизнь. Вся
система балетного спектакля направлена на ее утвержде-
ние, весь ритуал подготовки к спектаклю с суетой
одевалыцицы, парикмахера и массажиста вокруг бале-
рины, весь домашний быт с самоотверженными, вложив-
шими все силы и душу в своих дочерей матерями и почти
молитвенным шепотом: «Танечка (Валечка, Аллочка)
спит перед спектаклем», традиционный для Кировского
театра восторг зрительного зала и череда капельдинеров
с букетами, толпа поклонников и поклонниц, преданно
ожидающих мийуты внимания своего кумира и всегда
готовых услужить, взгляды мужчин, скользящие по
стройному, гибкому и сильному телу, ежедневное при-
дирчивое, внимательное наблюдение за собой в зерка-
ло — все приучает балерину к мысли о собственной иск-
лючительности. Это манит, кружит голову, но далеко не
105
всем под силу. Сколько законченных, безнадежных и в
конечном итоге несчастных эгоисток породила эта про-
фессия; сколько неустоявших и закружившихся в вихре
мужского поклонения расплатились печальной и одино-
кой старостью; сколько незаметно растеряли и унизили
свое дарование в лабиринтах театральных интриг, ут-
верждая и защищая балеринское положение; сколько
не поняли или забыли, что единственное моральное
оправдание исключительности балерины — это работа,
работа, работа, преданное, каждодневное, ни на минуту не
прекращающееся служение своему искусству. Дудинскую
не миновали многие соблазны, искушали разные демоны,
но последнего она не забывала никогда: она неутомимо,
самозабвенно, фанатично работала. Для этого надо иметь
ум, волю, характер. И все это Дудинская имела. Она хо-
тела быть балериной, знала, как ею быть, и была ею.
Не следует думать, что судьба, одарившая Дудинскую
всем необходимым для ее будущей карьеры, поспешила
расчистить своей избраннице путь на балетный Олимп.
Как известно, Дудинская была выпущена на сцену Киров-
ского театра в 1931 году. К тому времени потери труппы,
вызванные событиями Октябрьской революции (отъезд
за границу ведущих балерин), были уже возмещены.
Пять лет восхищала публику уникальным талантом
М. Семенова, уехавшая только год назад в Москву
(помощь судьбы?), подходил к концу третий год работы
в театре Т. Вечесловой и Г. Улановой, в расцвете было
изысканное дарование О. Иордан, еще десять лет остава-
лось танцевать Е. Люком, уже поражала своими вращени-
ями Ф. Балабина, выпустившаяся вместе с Дудинской.
Утвердиться в такой труппе было непросто. Нет, конеч-
но, Дудинской с ее отточенной, броской, напористой тех-
никой не грозило забвение. Она сразу была замечена,
скоро получила ведущие партии в классических балетах,
познала успех, но так же быстро заслужила несколько
уничижительную и категоричную в своей краткости ха-
рактеристику: «техничка». В этом была своя закономер-
ность. К хорошим, чистым танцам в театре давно при-
выкли и, хотя молодая танцовщица существенно возвы-
шалась над добротным академическим уровнем, этого
теперь казалось мало. Идеи хореодрамы уже носились в
воздухе. Дудинская не без пользы для себя приняла
участие в создании ее первых заметных опытов — «Пла-
мени Парижа» (1932) и «Утраченных иллюзиях» (1936),
106
но особого успеха ей это не принесло. Тонкий психоло-
гизм искусства Улановой и обаяние артистизма Вечесло-
вой привлекали публику тех лет куда больше, чем уве-
ренный академизм танца Дудинской. Последняя была
танцовщицей яркой, блестящей, но все же танцовщицей.
Такая расстановка сил, возможно, устроила бы другую
актрису, но только не Дудинскую. Находясь в центре
творческой жизни театра, принимая участие в создании
новых спектаклей, наблюдая опыт других, готовя себя
к будущим, еще неведомым работам, она без устали со-
вершенствовала свое и без того завидное мастерство. Эта
самоотверженная работа предопределила судьбу. Дудин-
ская вписалась во Время. Ее танец, теперь свободный,
сильный, полный внутренней энергии, оказался созвуч-
ным эпохе становления героической темы в балете.
Искания, собственно, начались еще несколько лет
тому назад. Они были не мыслимы без героизации муж-
ского танца. Ермолаев их начал, а после его перехода в
Большой театр на ленинградской сцене эти искания были
продолжены В. Чабукиани. Дудинская стала его постоян-
ной партнершей. Подоспело время «Лауренсии».
Как соблазнительно объяснить этот подарок судьбы,
бесценный для Дудинской, цепью счастливых случайнос-
тей и удачливостью артистки. Могла вообще не возник-
нуть идея этого балета, мог не состояться дуэт с Чабукиа-
ни, а если бы «Лауренсию» поставил другой балетмейстер
не исключено, что родилась бы еще одна хореодрама
с обилием бытовых подробностей... Все-таки не пустые
слова, что в цепи случайностей проявляется закономер-
ность. Распался союз Вечесловой и Чабукиани, казалось
бы, скрепленный шумным успехом американских гастро-
лей, композитор Крейн написал «Лауренсию», Чабукиа-
ни начал ставить балет — но таким, каким он стал, во
многом сделала его Дудинская: она была готова к этому
«случаю», шла к нему через семь лет упорного, умного
труда.
В «Лауренсии» Дудинская предстала не только блис-
тательной танцовщицей, но и талантливой актрисой,
вдохновенно играющей свою роль. Более того, образо-
вался неразрывный сплав этих двух качеств. Исчезла,
канула в прошлое поругиваемая «техничка», родилась
Балерина.
Мои воспоминания о танцах Дудинской довоенной
поры отрывочны и смутны. Да и что мог увидеть в них
107
подросток, только начинающий приобщаться к театру.
Но сохранилась пленка с фантастическим вращением —
пять туров! — зафиксировавшая танец Дудинской и Ча-
букиани в «Баядерке». Она общеизвестна, как общеизве-
стна и снисходительно-ироническая улыбка, с которой
говорят о форме их танца профессионалы нынешних
дней... Что ж, иные времена, иные песни — тогда танце-
вали так. Впрочем, неизвестно, что сказала бы, например,
Ваганова, а она бы обязательно что-нибудь сказала, по
поводу вертикальных шпагатов Н. Павловой, надоедливо
демонстрируемых в спектакле любого стиля. Конечно,
можно улыбаться, глядя на старую пленку, но не заме-
тить экспрессию, талантливость и покоряющий, актив-
ный посыл танца тоже вряд ли возможно. Танцуют вы-
дающиеся танцовщики!..
Прошли годы войны. Уехала в Алма-Ату, а затем в
Москву Уланова (второй подарок судьбы). С 1 сентября
1944 года Кировский вновь стал работать в Ленинграде.
Наступило мое время в театре. Из пермской эвакуации
Дудинская вернулась во всем блеске отточенного мастер-
ства. Теперь она была бесспорной первой балериной теат-
ра. Кто мог сравниться с ней? Иордан? Ее время подходи-
ло к концу, а жизнь в блокадном Ленинграде и болезни
ускорили уход со сцены. Вечеслова? Обаяние, одарен-
ность и актерское мастерство позволяли ей теперь безбед-
но существовать в театре, не обременяя себя настоящей
работой и не посягая на «Раймонду», «Спящую красави-
цу» и прочую трудную классику. Да и танцевала ли она
когда-нибудь технически по-настоящему хорошо? Что
представляли собой ее «Дон Кихоты» начала 30-х годов?
Фейерверк виртуозности или море обаяния? Все вспоми-
нают, как очаровательна она была, но как она танцева-
ла — не говорит никто. Физические данные Балабиной
не давали ей шанса в конкурентной борьбе. Вот только
Шелест... Кто мог подумать, что эта неприметная с виду
девочка, появившаяся в театре через шесть лет после Ду-
динской, так быстро наберет силу, а ее талант так властно
заявит о себе? Потрясающая своей гордой красотой и
трагизмом Зарема — ладно, куда ни шло. Но, войдя в
«Лауренсию» — спектакль выношенный, выстраданный,
рожденный Дудинской, спектакль, ознаменовавший ее
неоспоримый, общепризнанный, выдающийся успех,—
она станцевала его так... Нет, здесь без борьбы не обой-
тись! И Дудинская боролась (чтобы быть единственной,
108
первой — приходится бороться), боролась азартно, изоб-
ретательно, всеми доступными ей средствами. Возможно,
некоторые из этих средств были не вполне безупречны.
Но следует признать, что самым сильным и самым чест-
ным среди них было прекрасное, доведенное почти до
абсолюта мастерство.
Репертуар Дудинской послевоенных лет поражает
размахом и диапазоном. «Спящая красавица» и «Лебеди-
ное озеро», «Раймонда» и «Баядерка», «Дон Кихот» и
«Жизель» станцованы ею во всех ленинградских редак-
циях. Она участница создания и первая исполнительница
«Гаяне», «Золушки», «Милицы», «Весенней сказки», «Та-
раса Бульбы», «Медного всадника», «Маскарада», «Али
Батыра», «Тропою грома». Дудинская не проходит мимо
даже такого безнадежно нелепого и неталантливого
балета, как «Родные поля». Из семнадцати спектаклей,
созданных в театре с 1944 по 1960 год, когда Дудинская
станцевала в последней своей премьере — «Маскарад»,
она не участвовала только в пяти. Что это — всеядность,
отсутствие вкуса, непомерные притязания премьерши?
Нет, в первую очередь — неуемная жажда работы, твор-
чества, великолепное мастерство, позволяющее освоить
почти любой материал. А кроме того, Дудинская никогда
не забывала старую театральную мудрость: танцуешь
сама — значит, не танцуют соперницы. Она следовала ей
неукоснительно. Три афишных спектакля в месяц (два-
три дня отдыха, неделя на подготовку) стали для нее
законом, и изменить его не могло ничто — ни обстоятель-
ства, ни стихии, ни болезни. Я не помню случая, чтобы
Наталия Михайловна отменила, не станцевала свой
афишный спектакль. Теперь кажется непонятным, что
удерживало ее от участия в «Эсмеральде» и «Красном
маке». Уважение к Вечесловой? Но она ведь дерзнула
взяться за «Бахчисарайский фонтан»? Думаю, дело в дру-
гом. Как великолепный профессионал, владеющий
всеми секретами своего ремесла, Дудинская так же точно
знала его границы. Именно это позволяло ей при, каза-
лось бы, безграничном диапазоне, отметать то, что все-
таки лежало за его пределами. Ведь она не могла позво-
лить себе неудачи или даже полуудачи — она должна
быть всегда первой. А если неудачи и случались ( о них я
уже писал), то за долгую, тридцатилетнюю карьеру такое
происходило крайне редко, да и реакция была отмен-
ной — роль мгновенно исчезала из репертуара. Когда
109
речь шла о танцах, о сцене, у Дудинской был безупреч-
ный вкус. Непонятно, правда, куда он девался, когда
дело доходило до бытовой одежды; может быть, стрем-
ление к самоутверждению, броскости, укрощенное на сце-
не академизмом, здесь проявлялось во всей необузданной
силе?
Так или иначе, Дудинская имела почти безграничный
репертуар и прекрасно справлялась с ним! Не потому ли
свою первую подлинную премьеру Шелест станцевала
только на девятнадцатый год работы в театре — «Спар-
так» (1956). Что она создала в партии Эгины — общеиз-
вестно.
Как же все-таки танцевала Дудинская? Что бы там
ни писали и ни говорили, хореодрама не была ее стихией.
Несмотря на участие во многих спектаклях этого направ-
ления, подлинный успех в этом жанре ей сопутствовал
только дважды: в «Лауренсии» и почти через двадцать лет
в «Тропою грома» (1958). Первый спектакль сделал ее
балериной, окончательно сформировал ее стиль, вто-
рой — по существу, стал завершением ее творческого пу-
ти. В этом, безусловно, есть своя закономерность. «Лау-
ренсия», целиком выстроенная (и прекрасно срежиссиро-
ванная Э. Капланом) по законам балета-пьесы, все-таки
не вполне хореодрама: обилием и буйством танцевальной
стихии она более прочно связана, как не покажется это
странным, с традиционным старым балетом типа «Дон
Кихота», чем любое другое драмбалетное произведение.
В атмосфере виртуозного классического танца, естест-
венно и вдохновенно сотворенной фантазией молодого
Чабукиани, Дудинская чувствовала себя свободно. Имен-
но с помощью танца лепился образ, танец был главным
выразительным средством. Для Дудинской это был оп-
тимальный вариант драмбалетного спектакля, только
такой материал мог проявить лучшие черты ее дарования
и суммировать все наработанное за предыдущие годы.
Сергеев, балетмейстер иного склада, создавал «Тро-
пою грома» значительно более экономными хореографи-
ческими средствами. Да и возможности Дудинской за че-
тыре года до ухода со сцены были, естественно, более
ограниченными. Зато теперь она была вооружена огром-
ным опытом — профессиональным и жизненным. Она
познала цену любой детали — взмах хлыста, пластика
раскованной современной походки, призванная скрыть
внутреннее напряжение, поворот головы — теперь
НО
все шло в дело. Да и сама драма ее героини, необходи-
мость скрывать, глушить возникшее чувство — давала
возможность избегать развернутых танцевальных компо-
зиций. Когда же наступала кульминация — в час ночного
свидания в вельде — и хореограф создавал большой ду-
эт, то исполнители наполняли его такой искренностью
чувств, экспрессией и производили столь сильное впечат-
ление, что, право же, не хотелось разбираться в качест-
вах самой хореографии. Да, создав образ Сари, Дудинс-
кая воочию показала, какой умной, точной и тонкой ак-
трисой стала бывшая «техничка», еще раз доказала ста-
рую истину: талант — это труд.
И все же самых больших, важных, а главное, не-
повторимых своих свершений Дудинская достигла в
классике, в спектаклях, если можно так выразиться,
«большого стиля». Среди них в первую очередь назову
«Спящую красавицу», «Раймонду» и, пожалуй, «Баядер-
ку». Я сознательно исключил из этого списка «Дон Ки-
хот». Дудинская танцевала его блестяще, с абсолютной
технической свободой, с упоением. Упругую энергию
прыжков и напор стремительных вращений озаряла ее
лучезарная улыбка и казалось, что каждое появление
Китри заливает сцену ослепительным светом дополни-
тельно включенных прожекторов. Она умела, так же как
в «Лауренсии», быть душой спектакля, всех раззодорить,
заставить радостно отдаться темпам бравурной танце-
вальной стихии. Не мог лениво и небрежно войти в нака-
ленную ее темпераментом атмосферу спектакля Эспа-
да — он азартно врывался на сцену, умножая восторг
зрителей и готовя своими танцами триумф вариации
Китри. В этих спектаклях Дудинская была связана
десятками нитей с партнерами, солистами, кордебалетом.
И все же «Дон Кихот» с его открытым, «площадным»
темпераментом, с демократизмом характера героини,
не мог с моей точки зрения, выявить сути, уникальности
таланта Дудинской. Мне пришлось видеть других бале-
рин, которые в «Дон Кихоте» добивались столь же впе-
чатляющих результатов. Но так, как танцевала Дудинс-
кая «Спящую красавицу» и «Раймонду», на моем веку
еще никто не танцевал. Здесь, как в «Дон Кихоте» и «Лау-
ренсии», она, разумеется, тоже была центром спектакля,
его средоточием, но какой совершенно иной смысл
вкладывался теперь в это доминирующее положение.
Своим танцем Дудинская воскрешала в памяти латинс-
777
кий корень понятия — Domine — господин, бог. Ее Авро-
ра была лучезарной богиней, представшей перед восхи-
щенным залом в обрамлении барочной роскоши всего
спектакля. Трепет стаккатного шороха обрывков ищущей
выхода и разрешения мелодии в момент ее появления
разрешался не легким и мимолетным прыжком юного
существа, а сильным, гордым, роскошным в своей власт-
ности pas de chat. В кипении звуков адажио вращения
сверкали и множились, ее рука, подаваемая женихам, не
искала опоры, а жаловала своим прикосновением; deve-
loppes a la seconde вздымались вверх, как скипетр в дер-
жавной руке, а звенящие, раскаленные фанфары труб
возносили к неведомым высотам непоколебимый, вели-
чественный аттитюд. Но, купаясь во всеобщем восхище-
нии, вдохновляясь им и позволяя любоваться собой, она
ни на мгновение не забывала о своей исключительности.
Между ней — Балериной — и всем остальным сказоч-
ным, да и реальным, миром существовала дистанция,
порожденная безупречностью ее мастерства и понима-
нием его покоряющей силы. Высокомерия, надменности,
отчужденности не было, но дистанция была. Она ут-
верждалась с первых же мгновений спектакля и сохра-
нялась на всем его протяжении, танцевала ли Дудинская
изысканную вариацию или задумчиво и отрешенно
плыла над кордебалетом нереид или снова одаривала зал
лучезарной улыбкой в последнем акте. Богине можно
поклоняться, восхищаться ею, но встать рядом с ней не-
возможно. Такая интерпретация хореографии действи-
тельно доступна только подлинной балерине. А ведь Ду-
динской, как и всем другим исполнительницам партии
Авроры, приходилось решать сотни технологических
проблем этого сложнейшего спектакля: бороться с уста-
лостью, сохранять равновесие, думать о дыхании, да мало
ли о чем нужно заботиться на протяжении этого длин-
ного и трудного балета. Как-то я спросил одну обаятель-
ную и жизнерадостную Аврору ленинградской сцены,
как она чувствует себя во время спектакля к концу
первого акта. Безжалостно разрушая очарование, она
коротко ответила: «Подыхаешь!». А затем, немного поду-
мав и представив себе всю полноту ощущений, добавила:
«Да еще вниз головой». (Имелся в виду наклонный
планшет сцены и положение на нем заснувшей волшеб-
ным сном Авроры.)
Какой выверенной и безотказной техникой должна
112
была обладать Дудинская, каким мастерством и силой,
чтобы так роскошно, царственно, победительно танцевать
«Спящую красавицу». Конечно, ее Аврора ничем не на-
поминала юную шестнадцатилетнюю принцессу. Это бы-
ло столь очевидно, что не могло не быть использовано,
когда балерина стала сдавать. Даже в 1979 году автор
монографии о И. Колпаковой М. Ильичева не смогла
отказать себе в удовольствии напомнить читателям: «Де-
бют Колпаковой прошел успешно. Она вошла в спектакль,
напомнив невзначай, что героине всего шестнадцать лет
и никакой блеск мастерства не заменит сияния юности».
Что ж, все правильно и вполне годится как полемический
ход. Но стоит ли походя и небрежно упоминать о мастер-
стве столь исключительном? Действительно, И. Колпако-
ва вскоре стала лучшей исполнительницей партии Авро-
ры и прекрасно танцевала ее многие годы. Она, по суще-
ству, стала родоначальницей новой трактовки. Но если
быть абсолютно честным и, пользуясь отдаленностью
событий, еще и беспристрастным, то следует признать,
что интерпретация Дудинской ближе первоначальному
замыслу Всеволожского, гениально воплощенному Пе-
типа и Чайковским. «Спящая красавица» — грандиозный
балет-феерия, спектакль «большого стиля» и танцевать
его должно в этом стиле — с размахом, блистательно,
грандиозно.
Среди балетов классического наследия «Раймонда»
стоит особняком — она несет в себе какую-то загадку.
Ну что еще можно желать: прекрасная музыка, блиста-
тельная хореография, танец за танцем, один краше друго-
го, сменяются нескончаемой чередой, балерина, не успе-
вая прийти в себя от одной вариации, уже принимается
за другую, великолепные, восхищающие своим колоритом
декорации и костюмы С. Вирсаладзе (чего стоит синяя
пачка и гранатовая диадема на голове Раймонды — Ше-
лест) — а мы сидим в зале и Вздыхаем: «Скучно!». Взды-
хали, глядя на безупречные по форме танцы И. Колпако-
вой, вздыхали, любуясь красотой и изысканностью линий
И. Зубковской, вздыхали... ох, многих можно вспомнить
балерин, на чьих «Раймондах» мы вздыхали или, что еще
хуже, негодовали. Обычно в этой странности винят либ-
ретто: и смысла в этом балете мало, и герой появляется
сначала во сне, и только потом наяву, и Белая дама ни
к чему... Дважды меняли либретто балета, а смысла в
танцах многих Раймонд как не было, так и нет. А ведь в
113
«Раймонде», по-моему, есть скрытый сюжет, способный
наполнить трепетом чувства огромную партию героини.
Это история пробуждения чувственности, осознания сво-
их влечений, своей женственности.
С некоторых пор юную Раймонду волнуют смутные
желания. Появление Абдерахмана пробуждает их с новой
силой. Его необыкновенная внешность, страстные мольбы
о любви волнуют и манят. Пиццикато Раймонда танцует
для него, с восторгом убеждаясь, как велика ее власть
над пришельцем. Иначе с чего бы сдержанный сарацин
(а не необузданный дикарь, каким его часто изображают)
бурей ворвался в круг танцующих, нарушая стройное
течение праздника. Раймонде стоит немалых усилий,
покидая гостей, скрыть под чопорностью поклона свои
волнения и трепет. Наконец, она в кругу друзей. Внима-
тельно всматривается юная красавица в знакомые с дет-
ства лица танцующих под звуки ее лютни трубадуров...
Сравнивает. Начинается сон. Завороженно, замедленно
и бесстрастно движется Раймонда в объятиях своего
далекого рыцаря-жениха. Когда же возникает Абдерах-
ман, желания вспыхивают с новой силой. Раймонда испу-
гана, мечется, но неудержимая сила влечет ее к Абдерах-
ману. (Стремящаяся спастись бегством, но бегущая по
диагонали к партнеру и бросающаяся ему на руки бале-
рина — более нелепую балетную натяжку придумать
трудно.) Видение исчезает. Наступает утро. В смущении
Раймонда пытается скрыть свои пылающие щеки. Новая
встреча с Абдерахманом — теперь уже наяву. Воскрес-
шие в памяти ночные грезы окутывают девушку тревож-
ной истомой. Трепещут ресницы, прикрывающие глаза,
она отворачивает голову. Раймонда боится, что, если
взгляды встретятся, Абдерахман поймет все. Это наваж-
дение, но бороться у нее нет сил. И Раймонда безвольно
отдается во власть похищающего ее сарацина. Появляет-
ся де Бриен. Раймонда в смятении, она не знает, какой
исход поединка предпочесть. Абдерахман погибает, на-
важдение рассеялось. Облегченно вздыхает Раймонда.
Теперь она с романтически преданным де Бриеном.
Дудинская не танцевала приведенный сюжет, но ее
трактовка партии Раймонды была близка ему. Всей
силой и обаянием своего танца она славила женствен-
ность, являя разные ее лики. Ведь в конце концов быть
Балериной — это значит быть Женщиной во всем ее ве-
личии, красоте и славе.
114
На «Раймонде» Дудинской никто не вздыхал и не то-
мился — все неотрывно смотрели на сцену. Роскошь ба-
леринского выхода сменяло отточенное пиццикато. Чис-
тота поз, лирика вариации с шарфом оттеняла внутрен-
нюю сосредоточенность адажио (оно заснято и до сих
пор производит впечатление). Pas d’action, станцован-
ное эффектно, значительно, завершалось бурей враще-
ний коды. И наконец, наступало grand pas с его знамени-
той рояльной вариацией. Это был апофеоз искусства
Дудинской. Даже Плисецкая с ее неповторимыми рука-
ми не могла достичь такого эффекта. Вариация Дудин-
ской венчала спектакль, удостоверяла ее полную победу,
безоговорочную подчиненность ей публики. В легких
ударах кистей рук звучал гордый, почти надменный
вызов, который тотчас же вуалировался мягкой, уклон-
чивой линией корпуса и скользящим pas de bourree,
а чеканная, но вместе с тем легкая подача releve вдруг
завершалась ветерком заключительных chalnes и изящ-
ным неожиданным лукавством финальной позы —
этакая «шалость гения». (Прием теперь почти что забы-
тый, которым часто пользовалась, например, Балабина:
вереница ее стремительных туров не завершалась ожи-
даемой чеканной позой, а вдруг нечаянно прерывалась,
словно истаивала; на лице появлялась милая улыбка,
означающая нечто вроде: «Ах, что-то я совсем заверте-
лась» — трюк безотказно действовавший на публику.)
Таким образом в филигранно станцованной вариации,
не нарушая единства ее формы, Дудинская успевала
еще раз продемонстрировать все лики своей героини.
Так исполнить вариацию способен только мастер.
К двум названным спектаклям, где ярче всего про-
явился дар Дудинской танцевать спектакли «большого
стиля», «Баядерку» можно прибавить лишь с некоторыми
оговорками. И дело тут не в балерине: слишком значи-
тельны переделки, исказившие первоначальный облик
балета. В последней редакции он утерял целый акт —
и говорить о чистоте его стиля просто бессмысленно.
Конечно, «Танец со змеей» производил сильное впечат-
ление, но здесь у Дудинской была серьезная соперница —
Шелест (опять Шелест!). Ее эмоции казались трагич-
ней, серьезней, глубже; на их фоне переживания Ни-
кни — Дудинской приобретали несколько мелодрамати-
ческий оттенок, что, впрочем, вполне соответствует му-
зыке (Дудинская всегда была безупречно музыкальной
115
балериной). Но когда дело доходило до финальной час-
ти, то захватывающим темпераментом почти экстатиче-
ской пляски Дудинская брала реванш: поднимая ввысь
корзину с цветами, она в каком-то захлебывающемся,
беспощадном ритме втыкала, вколачивала пальцы ног
в землю, словно наказывая себя за минуты сомнений;
глаза блестели, лицо озаряла счастливая, сияющая улыб-
ка — знаменитая улыбка Дудинской. Даже костюмы
подчеркивали различное звучание этого танца двух ба-
лерин — глубокий цвет черного бархата, пепельно-серый
и винно-красный — у Шелест и серо-сиреневый, сверкаю-
щий серебром,— у Дудинской.
Если первые два акта допускали сравнения, то в акте
«Теней» Дудинская не имела соперниц. Поражала та
непреложная очевидность, с которой ее танец нес идею
возмездия. Она, как, впрочем, здесь и следует, ничего
не играла, ничего не изображала, лицо было спокойно и
скорбно. Но безукоризненная форма, скрывающая даже
намек на работу, в сочетании с внутренней силой, вла-
стным владением всем пространством огромной пустой
сцены делали танец значительным и отрешенным, а тре-
бовательный жест воздетой к небу руки с завернутой
ладонью напоминал о неизбежности расплаты. Может
быть, именно абсолютная точность образа, создаваемого
Дудинской в этом «бессюжетном» акте, привела к тому,
что у других балерин воздетая рука перестала воспри-
ниматься в нужном эмоциональном ключе, а теперь из-за
неточности позировки и вовсе потеряла всякий смысл.
В этом сложность исполнения «чистой» классики. Куда
проще объявить «чистый», бессюжетный танец бессодер-
жательным.
На рубеже 40—50-х годов Дудинская достигла пика
своей творческой формы и мастерства. Уже само по себе
это феноменально, ведь балерина протанцевала уже
двадцать лет, срок, когда многие начинают жить старым,
наработанным, подумывая о пенсии. Но такое не для
Дудинской. Она с блеском танцует и классику, и новые
балеты, премьеры которых следуют одна за другой, иные
из них специально создаются для нее; «Золушка» (1946),
«Весенняя сказка», «Милица» (1947), новая редакция
«Раймонды» (1948), «Медный всадник» (1949), «Шура-
ле» (1950), новая редакция «Спящей красавицы»
(1952) — становятся ступенями ее успеха. Не застав-
ляют теперь ждать себя и награды: звание народной
116
артистки РСФСР (1951) — Дудинская ждала его два-
дцать лет, три государственные премии — за «Золушку»,
«Раймонду» и «Шурале»; немногим позже о ней появляет-
ся книга — редкость по тем временам. Дудинская купа-
ется в лучах своей славы, каждый ее выход на сцену
собирает блестящий зрительный зал, ценители хореогра-
фии не пропускают ни одного ее спектакля, оканчиваю-
щегося шумными овациями, она много и жадно работает,
она, несомненно, прима-балерина театра.
И в этот момент, на вершине успеха, Дудинская
совершает ошибку: она забывает, упускает из виду, что
даже очевидная, непреложная истина, доказываемая че-
ресчур настойчиво, делается сомнительной. Сейчас, когда
ее мастерство абсолютно, а творческий авторитет непре-
рекаем, лишний спектакль, станцованный вместо другой
балерины, еще десять минут оваций ничего уже не при-
бавят к блистательной славе. Наоборот, они могут дать
повод к иронии, к сомнению в их спонтанности. Именно
сейчас время подумать о будущем. У Дудинской есть все
основания из первой балерины ленинградского балета
когда-нибудь превратиться в его патриарха, Первую ле-
ди, обожаемую, окруженную толпой благодарной моло-
дежи, которой она помогла найти себя на прославленной
сцене. Ведь не может же она не понимать, что чудес не
бывает, а время безжалостно. Над этим импозантным
образом будущего надо не только подумать уже сейчас,
но и начинать его созидать. Возможно, Дудинская все
понимала, задумывалась... но пожертвовать ради этого
будущего овациями даже одного вечера?.. Нет! Она для
этого слишком женщина, Балерина. Что ж Дудинскую
можно осудить, но можно и пожалеть: не первая, да и не
последняя, она совершила эту ошибку. Уж какие умные
головы впадали в нее! Вот похоже, что сейчас повторяет
ее Г. Товстоногов, правда, ему не надо уходить со сцены,
а после нас... но эту проблему уже решил Людовик XV.
И Дудинская продолжает блеском своего танца, фа-
натизмом работы, всеми доступными (но всегда ли до-
стойными?) для нее средствами доказывать свою исклю-
чительность.
В то время была популярна такая форма работы с
молодежью — молодежные спектакли. В них все или
почти все партии танцевались впервые. Спектакль долго
готовили. Печаталась специальная афиша и если дебют
был удачен, то партия оставалась за молодым исполни-
117
телем. Надо ли говорить, что подобные спектакли вызы-
вали большой интерес и собирали квалифицированный,
оживленный и заинтересованный зал. Но однажды пуб-
лика, во всяком случае значительная ее часть, была сму-
щена: в молодежном «Дон Кихоте» партию Китри как
ни в чем не бывало танцевала Дудинская; танцевала,
как всегда, блестяще. Ну что ж, еще один «Дон Кихот».
Но какой энтузиазм царил бы в зале, и как, обрастая
легендами, повторялся бы рассказ о спектакле, если бы
(допустим на мгновенье!) в балеринской партии вышла
дебютантка, подготовленная Дудинской, а наставница
(предположим совсем невероятное) появилась бы на
сцене в вариации, чтобы своим выходом придать вящий
блеск этому вечеру дебютов. Не реально? Конечно! Но
впечатляющий образ требует сильных и впечатляющих
средств, а в чем, в чем, но в средствах создания образов
Наталия Михайловна знала толк. Она не пренебрегала,
как утверждала молва, любыми, даже самыми невероят-
ными — бессчетное число раз перешивала «счастливые»
тесемки от изношенных туфель, в день чужого спектакля
могла поставить свечу с молитвой о его неудаче. Отне-
семся к этим фактам (да и фактам ли?) как к житейским
слабостям балетной звезды. Но у Дудинской появилась
и более серьезная возможность влиять на ход дел в
театре.
В 1951 году она стала женой главного балетмейстера
театра. Нет, их творческий и жизненный союз с К. Сер-
геевым возник значительно раньше, еще во время работы
над постановкой «Золушки». Но в 1951 году Сергеев —
автор одного балета и двух редакций классических спек-
таклей — назначается на этот пост. Какую тьму толков
и слухов вызывает теперь каждый шаг Дудинской! Не
будем их повторять — в конце концов, слух трудно отли-
чить от навета.
Но вот сцена, при которой присутствовал я сам.
Кабинет главного балетмейстера на улице Росси, за сто-
лом — Сергеев и заведующий труппой, сбоку, стоя ко-
ленями на стуле и опираясь локтями о стол, примости-
лась Наталия Михайловна. Составляются репертуар и
составы. «Нет, нет,— вмешивается Дудинская при упо-
минании фамилии одной солистки,— не ставьте ее на
эту вариацию. Она только что станцевала два спектакля,
много репетировала, устала...» Пусть каждое произнесен-
ное слово соответствовало святой истине, но все-таки
118
жене главного балетмейстера следовало быть осторож-
ней. Иначе как-то трудно поверить, например, в такую
случайность: с завидным постоянством вслед за Феей
Ивановной Балабиной, не обладавшей шпагатным шагом,
в диагонали «Сна» из «Дон Кихота» неслась «прыгучая»
и «шагастая» Л. Алексеева, и той же маленького роста
Балабиной приходилось просить А. Осипенко не прибли-
жаться к ней более чем на десять шагов в сцене встречи
соперниц, когда их ставили вместе танцевать «Баядерку».
Небрежность завтруппой? Возможно. Но на своих спек-
таклях таких небрежностей Дудинская не допускала,
прекрасно понимая, что дорогому камню требуется хо-
рошая оправа. Она любила, например, чтобы подруг
Раймонды танцевали Н. Ястребова и И. Зубковская, и,
хотя каждая из них имела уже свои спектакли и их
творческие интересы изменились и выросли, они еще дол-
го составляли «почетный эскорт» Наталии Михайловны.
Но хотя при желании тут можно увидеть только эго-
истический расчет, сама по себе идея сильных, «макси-
мальных» составов, теперь почти забытая, по существу
верна. Она помогает хранить спектакли достойными тра-
диций прославленной сцены, во многом решает пробле-
му занятости балерин в репертуаре. Пора уже вспомнить,
что фея Бриллиантов, принцесса Флорина, Белая кошеч-
ка, Злюка, Кривляка — балеринские партии. Их танцева-
ли Шелест, Вечеслова, Балабина, Кургапкина, Ястребо-
ва, Осипенко, Колпакова, и танцевали не дебютантками,
а в расцвете своего дарования. Какие художественные
соображения ныне мешают исполнять эти парти балери-
нам? Почему станцевать Гамзатти и теперь считается
престижным, а Вакханку в «Вальпургиевой ночи» или
вальс в «Сусанине» — нет? Когда-то его не гнушалась
сама Наталия Михайловна. Вероятно, и в этом можно
увидеть ее стремление расширить и так уже почти без-
граничный репертуар. Однако, как бы то ни было, ради
истины следует еще раз повторить. Да, Дудинская
танцевала блистательно; да, она была несомненной
прима-балериной театра. Но, по праву занимая первое
положение, она, теряя понимание реальности, нарушая
равновесие внутритеатральной жизни, начала превращать
его в исключительное. В своем эгоистическом самоутвер-
ждении, она, вероятно, не думала, что нарушает естест-
венный ход развития труппы, закон смены поколений,
что за овации и поклонение придется платить, настанет
119
время вражды, отчужденности, потери уважения, даже
унижения. Именно тогда сеяла Дудинская семена тех
горьких минут, которые она, например, испытала при вне-
запном ее отстранении от участия в парадном спектакле
«Спящей красавицы» в честь высокого дипломатического
гостя по требованию «высших инстанций» — до нее на-
верняка донеслись отзвуки злостных пересудов в труппе
по этому поводу. И все же, не заботясь о последствиях,
Дудинская упорно добивалась своей цели. Это не могло
не деформировать творческие судьбы других талантли-
вых людей, не могло не вызывать противодействия.
Накапливалось скрытое неудовольствие. Неизбежен был
взрыв.
Но здесь необходимо, прервав повествование, вер-
нуться назад и рассказать о втором персонаже этой
истории, деятельность которого в не меньшей степени
подготовила чреватую взрывом ситуацию.
Казалось бы, трудно назвать человека, который сде-
лал для ленинградской балетной сцены больше, чем Кон-
стантин Михайлович Сергеев. Танцовщик, украшавший
своим талантом сцену Кировского театра в течение три-
дцати двух лет, руководитель балетной труппы, управ-
лявший ею пятнадцать лет, балетмейстер, поставивший
на прославленной сцене семь многоактных спектаклей,
наконец, уже много лет, начиная с 1973 года, художе-
ственных руководитель хореографического училища —
святая святых ленинградского балета, где во все
времена зарождалась его слава. Не правда ли, более
импозантного послужного списка придумать трудно.
К нему стоит присмотреться повнимательней.
В 1944 году, когда мои театральные впечатления
стали систематическими, Сергеев находился в зените
артистической славы, хотя, возможно, вершина пути
была и пройдена. Он начинал свой пятнадцатый сезон
в театре. Уже были станцованы все партии классического
репертуара, позади осталась работа над ролями Вац-
лава, Люсьена, Фрондосо, легендой стал дуэт с Улановой
и их совместные выступления в «Ромео и Джульетте».
Утвердился новый дуэт — с Дудинской. Впереди были
партии Принца («Золушка»), Евгения («Медный всад-
ник»), Андрия («Тарас Бульба») и Ленни («Тропою
грома»).
Как ни странно, мне, видевшему Сергеева во всех
ролях десятки раз, сейчас нелегко восстановить в памяти
120
подробности его танца как такового. Не запомнились
ни особая манера исполнения отдельных движений, ни
только ему свойственные технические трюки, ни испол-
ненные обаяния проходные движения (как, например,
врезался в память отточенно-озорной удар ногой по
бубну Нуреева в финале третьего акта «Дон Кихота»).
Его техника была надежной, но не броской. Он легко
справлялся с любыми трудностями, делая это аккуратно
и неподчеркнуто. Танец не поражал ни фантастическими
темпами, ни исключительной легкостью и полетностью
прыжка. Он был уравновешен и чист по форме. Пожа-
луй, манеру сергеевского танца лучше всего характеризу-
ют два слова — сдержанность и достоинство. И тем не
менее Сергеев был необыкновенным танцовщиком —
«чистейший образец» лирического героя. В поэтической
атмосфере лирико-романтического балета он чувствовал
себя свободно, органично. Ему не надо было заучивать
перед зеркалом изысканные позы принцев и графов,
чтобы убедить в знатности их рода. Он просто был гра-
фом или принцем, жил и терзался их страстями и муками.
Аристократизм и благородство не были внешними атри-
бутами его героев, они являлись сутью их натуры. Вся-
кий нажим, подчеркнуто виртуозная подача хореогра-
фического текста неминуемо пришли бы в противоречие
с характером такого героя, разрушили цельность и обая-
ние образа. Но этого не случалось — гармония танца
и сценического поведения была безупречной.
Не в последнюю очередь такому впечатлению спо-
собствовали внешние данные Сергеева. Тогда они идеаль-
но совпадали с общепринятым представлением о муж-
ской красоте. Возможно, сейчас нам не хватало бы в них
некоторой «готической удлиненности», изысканности ли-
ний, но судить о его данных по кинофильмам не следует.
В съемках уже зафиксирован результат деформации:
широковаты бедра, несколько тяжелы ноги, развитые
мышцы брюшного пресса дают повод говорить об из-
лишней полноте.
Подстать внешности была и духовная организация
актера, прочитываемая в характерах его персонажей.
Она уравновешена, ей не свойственны рефлексия и
изнуряющий самоанализ, биение смятенного интеллекта.
(Может быть, хорошо, что мечта Сергеева — станце-
вать Гамлета — не осуществилась.) Миру сергеевских
героев присущи цельность и ясность. Печаль его персо-
121
нажей светла, горе сдержанно, трагические коллизии поч-
ти никогда не разрушают их душевного мира. Гармонич-
ность эта казалась врожденной, само собой разумеющей-
ся. На самом деле она являлась результатом тщатель-
ной, скрупулезной работы, плодом выверенного мастер-
ства.
Среди многочисленных прекрасных принцев Сергеева
особой цельностью замысла, тщательностью проработки
и совершенством воплощения отличался Альберт —
герой старинной, немеркнущей «Жизели». Обаяние этого
образа настолько велико, влияние его так сильно и оче-
видно прослеживается в ленинградских Альбертах
следующих поколений (даже у тех исполнителей, кото-
рые никогда не видели Сергеева на сцене), что сейчас
многие считают Сергеева родоначальником традиции
исполнения этой партии на советской сцене. Старожилы
театра, однако, утверждают, что первым исполнителем,
пересмотревшим дореволюционную трактовку роли,
был Борис Васильевич Шавров, идеи которого стали от-
правной точкой поисков Сергеева. Но, как бы то ни
было, Альберт Сергеева был безупречен в своей завер-
шенности. Такого Альберта Жизель не могла не полю-
бить и уж, конечно, не простить. Только ослепление
первого чувства мешало девушке разглядеть в этом юно-
ше, одетом в крестьянский костюм, знатного вельможу.
Изысканность манер сквозила во всем — в одергивании,
колета, в нетерпеливом жесте, которым Альберт удалял
оруженосца, в не терпящем возражения взгляде, мгно-
венно понятом лесничим Гансом. Ухаживая за Жизелью,
Альберт не отдавался безотчетному юношескому порыву,
он любовался ею и... снисходил до нее. Встреча с невес-
той при не совсем удобных обстоятельствах, конечно,
была ему неприятна, но не повергала в полную растерян-
ность. Батильде, когда она станет его женой, придется
привыкнуть еще и не к таким его «фантазиям» (пре-
лестный жест неопределенно воздетой вверх руки на
вопрос о странности его костюма). Он не терял самообла-
дания ни в этой неловкой ситуации, ни позже, при встре-
че с вилисами. Даже когда положение делалось явно
угрожающим и он склонялся перед Миртой, смятения
не было в его лице, а манеры оставались безупречными.
Отношение Альберта к Жизели-тени было окрашено тон-
кими оттенками элегической грусти. Уже медленный вы-
ход — сосредоточенный, сдержанно-скорбный и, пожа-
122
луй, чуть картинный благодаря нарочитой небрежности
распадающегося букета цветов и живописности складок
плаща — настраивали именно на эту тональность. Не
меняла ее и заботливая внимательность, нежная преду-
предительность в дуэте. Завершал же балет поразитель-
ный, трогательный момент — Альберт покрывал мелки-
ми, нежными, какими-то очень интимными поцелуями
слабо трепещущие пальцы Жизели, уже скрывающейся
в могильном холме (тогда еще сохранялась эта милая
подробность старого балета, затем почему-то — не иначе
как по лености постановочной части — отмененная:
Жизель не уходила со сцены и не скрывалась в могиле
под крестом, а опускалась в люк, прикрытый цветами,
справа, почти на авансцене). Альберт Сергеева грустил,
страдал, но не испытывал смятения, потрясения. Он ухо-
дил из спектакля таким же, как был,— аристократич-
ным, неотразимо прекрасным и эгоистичным — ну, мо-
жет быть, чуть-чуть более просветленным и умудрен-
ным.
Думаю, что в приведенном описании присутствует
более определенная критическая интонация, чем в вос-
приятии тех спектаклей далеких времен. Ведь столько
прекрасных разных Альбертов прошло за эти годы перед
моими глазами — Нуреев, Васильев, Барышников, Дол-
гушин, Мишель Рено, Аттилио Лябис... Тогда же с «Жи-
зелью» происходило что-то странное.
Талант Улановой, ее Жизель создали вокруг балета
ореол какой-то мистической неприкосновенности. Его
имели право танцевать только боги. Обязанности богов в
Ленинграде исполняли Дудинская и Сергеев. Поэтому
увидеть «Жизель» в те годы можно было только либо с
Улановой, приезжавшей из Москвы со своими партнера-
ми — Габовичем, а позже с Ю. Ждановым (что было не
так уж часто), либо с Дудинской и Сергеевым. Долгое
время они были единственными исполнителями этого
балета, к которому не подпускали никого, поддерживая
идею неприкосновенности. А. Шелест смогла станцевать
Жизель только после длительной борьбы; А. Осипенко
так и не станцевала ее, убежденная (сначала кем-то,
а затем уже и собой), что эта партия не для ее данных.
Не реакция ли на этот негласный, но долгий запрет пре-
вратила теперь партию Жизели почти что в размен-
ную монету, и если когда-то на ленинградской сцене
царила одна Жизель, то теперь, толпясь и тесня друг
123
друга, танцуют десять. Но тогда, в эпоху многих, теперь
уже развеянных иллюзий, единоличное право балерины
на партию казалось почти естественным.
А между тем сейчас вряд ли кто-то серьезно возьмется
утверждать, что партия Жизели целиком ложилась на
данные Дудинской; скорее, наоборот — ей, балерине
активно-волевого стиля танца, она была противопоказа-
на. Однако Дудинская танцевала Жизель успешно. Как
это ни парадоксально звучит, дорогу к успеху ей проло-
жила Уланова. Жизель Улановой, завораживающая про-
стотой и силой лирического высказывания, при всей сво-
ей поэтичности была далека от хрупких, удлиненно-
невесомых, гравюрно-прекрасных Жизелей прошлого.
Силой воздействия своего таланта она заставила не одно
поколение зрителей забыть о них, убедила, что Жизель
может быть совсем иной. (Не потому ли через много
лет мы были так ошеломлены обликом и танцами Лиан
Дейде, воочию представшей перед нами романтической
тенью прошлого? Не потому ли так взволновала и тронула
еще задолго до этих гастролей попытка Шелест воскре-
сить впечатления от старых гравюр?) Но, предложив
свою трактовку, Уланова облегчила задачу Дудинской.
Уж ей-то, при всем своем мастерстве, вряд ли бы удалось
вписать Жизель в романтическую традицию. Избавлен-
ная от этой необходимости, Дудинская смогла танце-
вать «Жизель», не слишком деформируя свою индиви-
дуальность. Ее Жизель производила впечатление ака-
демической чистотой танца, сдержанным драматизмом,
продуманностью целого и филигранностью отделки всех,
даже мельчайших, деталей роли. Подобным же образом,
правда, в несколько другом интонационном ключе, впо-
следствии решала эту трудную для себя задачу И. Колпа-
кова. Что же, вполне возможный вариант — безупреч-
ность уже сама по себе всегда производит впечатление.
Но сила впечатления от спектаклей Дудинской приумно-
жалась необыкновенной слаженностью ее дуэтного танца
с Сергеевым. Это привлекало в первой же сцене. Взмах
ног в pas de basque, не предельно высокий, чтобы даже
намеком на напряжение не нарушить очарования бес-
печной игры, траектории полетов в jete были безукориз-
ненно синхронны. Казалось, что исполнители не только
танцуют, но и дышат в унисон. Это впечатление от их
танца поддерживалось и усиливалось необыкновенной
разработанностью и естественностью общения; любой
124
наклон головы, взгляд не пропадал втуне, он немедленно
находил ответную реакцию у партнера.
Именно в «Жизели» делалось очевидным, как много
новых творческих импульсов получила Дудинская от об-
щения с Сергеевым. Отчетливее зазвучали лирические
интонации, психологически тоньше, разнообразней стала
сценическая жизнь ее героинь. Это не было механическим
заимствованием приемов. Близкое соприкосновение с
великолепно вылепленными героями Сергеева будило
фантазию, требовало другого качества сценического су-
ществования. Разумеется, влияние было взаимным,
однако в обратном направлении оно ощущалось менее
заметно — несмотря на то, что Сергеев всего на два года
старше Дудинской, его творческий облик, с моей точки
зрения, окончательно сформировался значительно
раньше. Впрочем, как знать, его интерес к виртуозности,
проявившийся в партии Принца («Золушка»), его озор-
ной «демократизм» — не влияние ли это Дудинской?
Ведь этот первый балет Сергеева был одновременно
и первой совместной большой, серьезной работой.
Несомненно, «Золушка» оказалась значительной ве-
хой в судьбе Сергеева, она как бы разделила его жизнь
на две части: в первой (довоенной) ее половине остался
восхитительный танцовщик, легендарный партнер Ула-
новой, первый исполнитель роли Ромео, теперь начал
складываться деятель. Изменилось все: личные привязан-
ности, партнерша, цели и устремления. С «Золушки»
начался путь Сергеева-балетмейстера.
Если не считать редакции балетов Петипа (к ним я
еще вернусь), то до сего времени Сергеев поставил на
сцене Кировского театра пять балетов. Это «Золушка»
(1946), «Тропою грома» (1958), «Далекая планета»
(1963), «Гамлет» (1970), «Левша» (1976).
Два из них — «Далекая планета» и «Левша» — вряд
ли заслуживают серьезного разговора. Первый был по-
спешной и спекулятивной попыткой откликнуться на
модную тему и продемонстрировать свою «нечуждость»
новым веяниям в хореографии. Второй — просто не-
удачный спектакль. Судьба обоих была одинакова —
они быстро сошли со сцены, не оставив по себе добрых
воспоминаний ни у зрителей, ни у исполнителей. Впрочем,
не совсем так: «Далекая планета» сослужила некоторую
службу Г. Комлевой — запомнились ее острые по рисун-
ку прыжки со смелым приземлением на пальцы.
125
Более счастливой оказалась сценическая жизнь «Гам-
лета». Он удерживался в репертуаре несколько лет, в нем
приняли участие многие известные танцовщики и бале-
рины (Барышников, Долгушин, Панов, Моисеева, Феди-
чева, Сизова, Евтеева, Комлева). Это был профессио-
нально сделанный спектакль, свидетельствующий о
серьезности намерений, знаниях и вкусе постановщика.
Он показал, что время пробило серьезную брешь в орто-
доксальной приверженности Сергеева к драмбалету.
Фабула балета излагалась без мелочных подробностей,
неизбежных для хореодрамы; постановщик, гордясь
своей смелостью, отказался от реквизита (не потому ли
он несколько раз отмечал это в своих интервью); хорео-
графия дуэтов Клавдия и Королевы несла на себе
отблеск «новой» лексики (прошло десять лет со дня
премьеры «Легенды о любви» и «Ленинградской симфо-
нии»).
Все свидетельствовало о попытках Сергеева твор-
чески освоить идеи и опыт так активно не принятого им
направления. Однако нельзя было не заметить их по-
верхностный, неглубокий характер, заимствование толь-
ко внешних приемов. Если Григорович в знаменитом
эпизоде погони хореографически воплощал ее образ,
экспрессию, то Сергеев, отказываясь от рапир в поединке
и заменяя их батманами, все-таки передавал подробно-
сти и перипетии конкретного боя. Внешняя форма
изменилась — метод хореодрамы сохранился. Конечно,
возможен и такой вариант, но, к несчастью, хореография,
при всей своей корректности, оказалась лишенной свое-
образия и, если не захватывающей, то хотя бы трогающей
эмоциональности. История Гамлета была рассказана
внятно, но однозначно; спектакль вызывал любопытство,
но не волнение. Вдобавок наиболее выразительные
хореографические находки постановщика (фрагменты
партии Лаэрта, вариация безумной Офелии) оказались
не связанными с заглавной партией. Партии Гамлета
не хватало глубины и содержательности для интеллекта
Н. Долгушина или захватывающей танцевальности для
таланта М. Барышникова. В конечном счете это стало
решающим обстоятельством жизни балета — пристой-
ной, но недолгой.
Значительного успеха Сергеев-балетмейстер добился
по существу дважды, в тех случаях, когда замысел его
спектакля целиком укладывался в рамки созданной до
126
него системы. Так было с «Золушкой», так случилось
и с «Тропою грома».
Балет «Тропою грома» — безусловно, талантливый
образец зрелой хореодрамы. В нем налицо все признаки
жанра — способ изложения сюжета, метод создания
образов, соотношение пантомимы и танца, наконец,
мотивы его возникновения: танцуют либо участники
праздника, вечеринки, либо герои — свои любовные дуэ-
ты. Все подчинено законам драмбалета, вот только
сложность отношений героев и проблемы, их волнующие,
не совсем обычны.
К созданию балета Сергеев пришел во всеоружии —
у него были навыки постановки больших спектаклей,
бесценный личный актерский опыт создания почти всех
шедевров хореодрамы, с ним была Дудинская, теперь
тоже знающая все тонкости драмбалета. Две централь-
ные роли спектакля, поставленные на себя и на Дудин-
скую, отличающиеся глубиной разработки психологии,
достоверностью в передаче чувств, выпуклостью реали-
стических деталей и не только прекрасно станцованные,
но выразительно сыгранные, уже могли обеспечить успех
спектакля. Кроме того, прочно опираясь на классику и
окрашивая ее движения элементами непривычного для
зрителя африканского фольклора, Сергеев (следуя Чабу-
киани) создал интересную хореографию ряда персона-
жей балета. Разнообразны и выразительны получились
вариации трех служанок (на премьере их танцевали
Г. Кекишева, Н. Петрова, Г. Иванова), вариация Лиззи,
танец с гитарами и многое другое. На их фоне «европей-
ская» хореография партии Сари выглядела рельефной,
выпуклой. К сожалению, неудачным получился финал
спектакля: сцена гибели Сари и Ленни решалась иллю-
стративно, как-то поспешно, а толпа, призванная симво-
лизировать пробуждающуюся Африку, не спасала поло-
жения. Сергеев, чувствуя слабость финала, пытался ме-
нять его, но по-настоящему точный вариант так и не был
найден. Это, конечно, снижало впечатление от спектакля,
но тем не менее балет имел успех. Единственный из
спектаклей Сергеева, он был перенесен на другие сцены
и достаточно долго держался в репертуаре. Интерес
к нему угас вместе с потерей интереса к хореодраме.
Обидно только, что его забвение увлекло за собой в небы-
тие прекрасную музыку Кара Караева.
127
Венцом творчества Сергеева-балетмейстера, как это
нередко бывает, оказался его первый балет — «Золушка».
Ему выпала долгая и счастливая судьба — спектакль
недавно отпраздновал сорокалетие. Здесь соединилось
все, чтобы обеспечить успех: вековая традиция балета-
сказки, обольстительные и капризно-изменчивые образы
музыки Прокофьева, обаяние вечного сюжета, велико-
лепные возможности труппы театра... Все благосклонно
предлагало поддержку молодому балетмейстеру. И он, не
мудрствуя лукаво, принял ее. Построение, хореографи-
ческие формы спектакля вполне традиционны: сюиты
танцев, большие вальсы, череда вариаций фей, дуэты и
вариации солистов. Они заданы не только музыкой бале-
та, они близки и понятны самому балетмейстеру. Однако
в лучших балетах прошлого (а только их мы практически
знаем и сравнивать можем только с ними) эти традицион-
ные формы, нередко построенные на постепенном разви-
тии одного и того же пластического лейтмотива, обра-
зуют величественные композиции, создавая драматур-
гию спектакля. Они часто сравнимы с грандиозными
симфоническими полотнами. В «Золушке» этого нет.
Ее хореография довольно дробна. Даже там, где слияния
номеров настоятельно требуют сюжет и архитектоника
спектакля (сюита фей времен года, «галопы» Принца,
странствующего в поисках исчезнувшей незнакомки),
Сергеев не пытается выстроить большую форму, он
продолжает мыслить изолированными номерами, огра-
ничивая логику развития хореографического материала
только их пределами. Да и сама хореография, сочиненная
балетмейстером, несмотря на общее благоприятное впе-
чатление, с моей точки зрения, достаточно умозрительна:
естественный ход развития движения вдруг подменяется
неожиданным, искусственно придуманным продолжени-
ем. От этого хореографический рисунок подчас кажется
суховатым, неудобным, лишенным мягкой задушевности.
Ощущается это и в заключительном дуэте героев, и в
вариациях фей, и особенно в вариациях сестер, где, будь
это изолированным явлением, такую хореографию можно
было бы оправдать взбалмошностью их характеров.
Возможно, именно по этой причине спектаклю Сергеева
недостает в полной мере одухотворенной поэтичности
и таинственной сказочности.
И все же в «Золушке» много привлекательного. Обая-
ние ей придает неожиданная для балетной сцены лукавая
128
улыбка, с которой рассказана эта старая сказка. Сергееву
не хватило смелости посмотреть на героиню балета
глазами Е. Шварца, Н. Акимова и Н. Кошеверовой —
этому противились как традиция, так и данные первой
Золушки — Дудинской. Но его Принц (дважды его —
балетмейстера и исполнителя), несомненно, мог посе-
литься в этой очаровательной киносказке. Великолепно
обходящийся без непременных папы и мамы — Короля
и Королевы, дерзко попирающий дворцовый этикет,
озорной, чуть ли не современный юноша, он все-таки
оставался сказочным принцем, благородным и прекрас-
ным. Эта двойственность образа и составляла секрет его
привлекательности. Как часто последующие исполнители
нарушали равновесие красок. Но, надо сказать, что со-
хранить гармонию здесь было не так легко — балет-
мейстер создавал образ для себя, в расчете на свою
редкостную, неповторимую индивидуальность.
В таком же, но более гротесковом ключе решена
первая сцена сестер и мачехи — один из самых привле-
кательных эпизодов балета. Она хорошо придумана и
тщательно разработана. Ее детали сочны, интересны и
остро характеристичны. В первых тактах прихотливо
пульсирующей музыки Сергеев удивительно точно увидел
манерный жест руки, втыкающей иголку и тянущей
нитку. Возможно, этот момент, открывающий спек-
такль,— одна из лучших пластических находок балет-
мейстера. Так же с выдумкой поставлены сцены с порт-
нихами и учителем танцев. И, конечно же, впечатление
в немалой степени усиливало исполнение — Шелест и Ве-
чеслова были неподражаемыми, великолепными Злюкой
и Кривлякой. Одна исходила злобой, мучая всех и прежде
всего саму себя; другая «слова» не могла сказать в про-
стоте, освободиться от глупой манерности, как не могла
освободить свою голову, протиснутую под ручку кресла.
К сожалению, в развитии партий сестер постановщику
не удалось сохранить столь же высокий уровень. Их
вариации и сцены на королевском балу хотя и несут
приметы характеров, но не так уж интересны по хорео-
графии, а финальная сцена носит оттенок какой-то
поспешности решения и заполнена банальностями.
Что касается партии героини балета, то она произво-
дит двойственное впечатление. Большая, насыщенная
техническими сложностями, подчас не слишком замет-
ными для зрителя, она не стала выигрышной балерин-
7—1 167
129
ской партией. Для этого в ней не хватает яркого кульми-
национного эпизода. По логике сюжета им должен был
стать бал во дворце — встреча Золушки с Принцем —
либо заключительный дуэт-аморозо. Но ни там ни
здесь Сергеев не смог достичь высокого эмоционального
взлета. Можно возразить, что скромному облику Золуш-
ки противопоказан балеринский блеск. Конечно, так!
Но тогда партия должна покорять хрустальной чистотой
и прозрачностью рисунка, тонкостью и свежестью лири-
ческих красок, застенчивостью и недосказанностью
пластики поз. Такими качества хореография Сергеева,
увы, тоже не обладает. И дело здесь не только в масштабе
таланта самого балетмейстера, но и в природе индиви-
дуальности балерины, для которой партия создавалась.
Очевидно, здесь налицо ситуация, которую можно оха-
рактеризовать выражением солистки и репетитора
М. Н. Шамшевой: «Серый Волк изображает Красную
Шапочку». Не потому ли балерины, танцевавшие Золуш-
ку после Дудинской, данные которых куда больше соот-
ветствовали облику героини, даже имея в этой партии
несомненный успех, все-таки не смогли создать глубоко
западающий в душу образ — материал не давал для того
оснований.
Ну что же, Сергеев не создал шедевра, но все-таки
его версия прокофьевской «Золушки» осталась пока что
лучшей. До ее уровня не поднялся спектакль О. Вино-
градова на сцене Малого оперного театра (я, правда,
не видел его первого, новосибирского варианта), а срав-
нивать ее с аляповатой и эклектичной затеей Захарова
в Большом театре вообще не приходится. Но милый,
улыбчивый спектакль сослужил плохую службу ленин-
градскому балету — он открыл Сергееву дорогу к посту
главного балетмейстера театра, который он занимал в
общей сложности около пятнадцати лет.
Любому главному балетмейстеру, с точки зрения
труппы, всегда чего-нибудь недостает. Сергееву недоста-
вало слишком многого и слишком важного. Судите сами.
Вряд ли нужно доказывать, что первейшая обязанность
главного балетмейстера — формирование нового репер-
туара: он его должен создавать сам или приглашать
других хореографов. Здесь все зависит от его эрудиции,
эстетических критериев, чувства нового. Интересы
театра (в идеале) тут должны главенствовать надо всем:
личными пристрастиями, ревностью, страхом перед успе-
130
хом другого мастера, соображениями конъюнктуры.
В реальной жизни часто бывает не так, скажем лучше —
не совсем так. И все же... Хотя Сергеев — знаток клас-
сики, питательной почвой, на которой вырос его талант,
была хореодрама. Многими своими лучшими сцениче-
скими созданиями он был обязан именно ей. Его творче-
ское самосознание сформировалось в рамках этой эсте-
тической системы.
Сформировалось и — увы! — ограничилось ею. Дру-
гие пути развития балета (во всяком случае, в 50—60-е
годы) Сергеев активно не принимал.
Общеизвестно, как он воспринял первые (а, как потом
выяснилось, чуть ли не самые лучшие) спектакли нового
направления. И если инициатором мелочно-скандальных
придирок к балету «Легенда о любви» по поводу без-
нравственности опрокинутого шпагата Мехменэ Бану
Сергеева делает молва, то полное неприятие «Каменного
цветка» зафиксировано протоколом: «Это спектакль, ли-
шенный социальной среды, народности, времени и про-
странства, а потому и жизненной силы. Он не может
выдаваться за достижение советского балета». Надо от-
дать должное Сергееву, он знал, что следовало говорить,
чтобы дискредитировать спектакль! Безусловно, Сергеев
был вправе высказать свою точку зрения на балет Григо-
ровича. Но не приходится сомневаться и в том, что имен-
но ортодоксальность взглядов Сергеева делала его
кандидатуру особенно симпатичной начальству при наз-
начении на высокий пост главного балетмейстера, ибо
взгляды эти исключали возможность неприятных неожи-
данностей и пугающих новшеств. Обе стороны были
довольны друг другом. Расплачивался же за трогатель-
ный альянс театр.
Внимательное изучение списка премьер балета Киров-
ского театра за время руководства К. Сергеева (1951 —
1955 и 1960—1970) позволяет сделать некоторые выво-
ды. Исключим возобновление старых спектаклей: они,
как известно, необходимы, но не могут привести к крутым
поворотам в жизни театра. Не будем также принимать
во внимание одноактные балеты — они появлялись, как
правило, в связи с творческими вечерами по инициативе
самих исполнителей и имели короткую сценическую
жизнь.
Что же остается? Какую лепту в развитие балета
внес театр в период руководства К. Сергеева — театр,
7**
131
прославившийся как творец новаторских произведений
русского, советского, мирового искусства хореографии.
«Родные поля» (1953) и «Тарас Бульба» (1955) — за
первые пять лет; «Клоп» (1962), «Далекая планета»
(1963), «В порт вошла «Россия» (1964), «Жемчужина»
(1965), «Страна чудес» (1967), «Испанские миниатюры»
(1967), «Горянка» (1968), «Волынщик из Стракониц»,
«Гамлет» (1970) — за вторые десять лет. Из полного
списка, хронологически охватываемого приведенными
выше датами, мною исключено четыре спектакля —
«Отелло» и «Маскарад» (1960), «Легенда о любви» и «Ле-
нинградская симфония» (1961). Два первых были заду-
маны и созданы еще до назначения Сергеева при главном
балетмейстере Б. Фенстере. На представлении «Мас-
карада» — своего последнего балета, 29 декабря
1960 года,— правда, уже не будучи главным балетмейсте-
ром, во время спектакля он и скончался. «Легенда о
любви», хотя и выпускалась формально под эгидой Сер-
геева в марте 1961 года, но балет уже был в основном
готов к моменту смены руководства театра, остановить
работу Сергеев не мог, но и содействия не оказывал.
Скорее, наоборот. Он не одобрял этого изумительного
спектакля, принесшего вскоре заслуженную славу театру
и ставшего — увы!— последним балетом Кировского
театра, широко разошедшимся в подлиннике или произ-
вольных копиях по отечественным и зарубежным сценам.
Что же касается «Ленинградской симфонии», то исключе-
на она из списка не по формальным соображениям,
хотя и представляет собой одноактный балет. Ее идейное
и художественное значение в развитии балета слишком
велико, чтобы руководствоваться только внешним при-
знаком. Но . недавно, выступая на конференции в
ВТО после юбилейного, почему-то утреннего, спек-
такля «Ленинградской симфонии» (двадцатилетие со дня
премьеры) И. Бельский с горечью вспоминал, какие труд-
ности пришлось преодолеть, чтобы поставить этот балет:
он считался внеплановой работой, репетировался только
в свободное время и даже аскетизм его оформления
во многом был обусловлен нежеланием руководства
финансировать постановку. Исходя из сказанного, вряд
ли следует выпущенный таким образом спектакль зачис-
лять в актив главного балетмейстера.
Итак, одиннадцать премьер за пятнадцать лет. Не так
уж мало — по нашим меркам, если ограничиться лишь
132
арифметикой. Но если присмотреться к списку внима-
тельней, картина приобретает совсем другой вид.
«Волынщик из Стракониц», «Далекая планета» и
«Жемчужина» так недолго были в репертуаре, что мно-
гие люди, даже близкие к театру, не могут вспомнить о
них. Это были очень слабые спектакли. Немногим долее
задержались на подмостках «Родные поля» и «В порт
вошла «Россия». Зато они знамениты тем, что более
нелепых и бездарных творений никто не помнит. И если
сами «Родные поля» не радовали никого, то вдохновлен-
ная ими «Родная зябь» — капустник, разыгранный акте-
рами Театра комедии и самого Кировского, веселил
всех, а «каверзный вопрос» (арабеск — аттитюд с ногой
крючком) и «блистательный ответ» (двойное ассамбле со
шлепком ладонью по лбу) в сцене защиты дипломного
проекта — неизменно вызывали взрыв восторга.
Что же остается? Три профессиональных спектакля
(«Тарас Бульба», «Горянка» и «Гамлет») и талантливые
балеты Л. В. Якобсона («Клоп» и «Страна чудес»). Не
слишком ли незначительный результат пятнадцатилет-
ней работы театра таких традиций, масштаба, возмож-
ностей? Динамичные, зажигательные ритмы «Испанских
миниатюр» и азарт, с которым танцевала их труппа,
не могут изменить этот грустный итог. Миниатюры, хотя
и испанские,— все-таки всего лишь миниатюры. Что зна-
чительного за эти долгие годы сделал сам Сергеев, каких
талантливых балетмейстеров он пригласил, какие начи-
нания поддержал, какие имена открыл? Якобсон был из-
вестен как хореограф давно, с 1942 года он уже штатный
балетмейстер театра. К тому же творческая судьба Якоб-
сона, этого талантливейшего, самобытного мастера,
в стенах Кировского театра была нелегкой, и Сергеев
причастен не к самым светлым ее страницам. Может
быть, наступило безвременье и талантливых балетмейсте-
ров просто не было? Отнюдь! На грани 60-х годов в
недрах Театра имени Кирова рождаются два самобытных
таланта. Их дебюты — неожиданные, сенсационные —
с непреложной очевидностью возвещают о появлении
больших дарований. Допустим, тогда, по горячим следам,
было трудно оценить место этих премьер в истории
советской хореографии, хотя о значении их писали
наиболее прозорливые балетные критики. Но не оценить
одаренность их создателей было просто невозможно.
Руководство театра оценило и оперативно приняло меры:
133
один из хореографов с почетным правом дотанцевать до
пенсии в 1962 году был отпущен для руководства балетом
Малого оперного театра, другого, два года спустя, с не
меньшим почетом проводили в Москву. О приглашении
на постановку в родной театр речь более не заходила...
Не следует думать, что сомнительность репертуарной
политики Сергеева не ощущалась уже тогда. Возможно,
масштаб ее пагубных последствий стал ясен в историче-
ской перспективе, но что она заводит труппу в тупик,
лишает ее творческой активности — стало ясно доволь-
но быстро.
Позиции определились четко. Дудинская жаждала
безраздельного первенства. Сергеев не желал рисковать,
выходить за пределы привычного; поддержка талантли-
вых балетмейстеров-новаторов отнюдь не входила в его
планы. Труппа же не хотела мириться ни с тем, ни с дру-
гим; она требовала перемен. Конфликт стал неизбежен.
Первый раз он вспыхнул в 1955 году. Двадцать
пятого февраля в газете «Правда» появилось письмо
«Что мешает росту молодых дарований», подписанное
А. Макаровым, К. Шатиловым и Н. Зубковским. Его
авторы, отметив, что «театр снизил свою творческую
активность в области балета», без обиняков назвали
причину. «Руководитель большого коллектива балета
главный балетмейстер К. Сергеев не поддерживает твор-
ческих начинаний коллектива, нередко глушит инициа-
тиву...
О подавлении творческой инициативы свидетельству-
ет и положение нашей актерской молодежи. Приведем
один из примеров. Конец прошлого сезона ознаменовал-
ся тем, что в главной роли в «Лебедином озере» успеш-
но выступила молодая, одаренная танцовщица Н. Тимо-
феева. Ей повезло — главный балетмейстер в это время
находился в отъезде. Но на афишах нового сезона Н. Ти-
мофеева появилась лишь после долгого перерыва и то
благодаря вмешательству дирекции и партийной органи-
зации». (Кстати, вскоре после этой истории Тимофеева
уехала в Москву и с 1956 года стала работать в Большом
театре.) «Руководитель балетной труппы К. Сергеев и
балерина Н. Дудинская ревниво охраняют свою монопо-
лию на многие первые роли балетного репертуара. Так,
например, они единственные исполнители главных ролей
в «Жизели». Совершенно недостаточно наличия одного-
двух исполнителей в спектаклях «Лауренсия», «Золуш-
134
ка», «Ромео и Джульетта»... Молодые артисты, получив
новые роли, редко имеют возможность хорошо их отре-
петировать. За четыре дня, в порядке срочной замены
заболевшей исполнительницы, подготовила ведущую
роль в балете «Баядерка» молодая танцовщица А. Оси-
пенко». И заключение: «О творческом росте молодежи
нет должной заботы». Разумеется, это письмо представ-
ляло собой только надводную часть айсберга сложных
переплетений интересов, сил и влияний в театре. Но скан-
дал разразился. Сергеев с поста главного балетмейстера
был снят.
За период 1951—1955 годов Сергеев не поставил
ни одного оригинального спектакля. Он отклонил приня-
тый ранее (до 1951 года) новый вариант «Корсара»
(его поставил Малый оперный театр) и отложил на не-
определенное время постановку уже принятого театром
«Спартака» (Якобсону удалось его выпустить только в
1956 году). Первый срок своего пребывания на посту
главного балетмейстера Сергеев ознаменовал лишь по-
становкой новой редакции «Спящей красавицы» (1952).
Следует отметить, что работа Сергеева по редактиро-
ванию старых балетов составляет весьма значительную
часть его балетмейстерского творчества. Таких возобнов-
лений в своей редакции им сделано пока что четыре:
«Раймонда» (1948), «Лебединое озеро» (1950), «Спящая
красавица» (1952) и через много лет «Корсар» (1973).
Первые три спектакля живут на сцене Кировского театра
уже три десятилетия. Выросло не одно поколение зрите-
лей, воспитанное на них и воспринимающее их как эталон
классического балета. Во всех частях света театр пока-
зывал эти спектакли во время гастролей. Они — его
визитная карточка. Благодаря им за труппой утвердилась
репутация самой консервативной или, что звучит более
лестно, самой бережливой и мудрой хранительницы
заветов и художественных ценностей прошлого.
Возобновления старых балетов продемонстрировали
высокий профессионализм Сергеева, его глубокое знание
классики, они создали ему (не без содействия М. Петипа)
репутацию крупного балетмейстера-реставратора, сыгра-
ли значительную роль в его жизни. Но всегда ли были
необходимы эти редакции театру?
«Раймонда» была безусловно нужна. После разруши-
тельных экспериментов предвоенного времени шедевр
Глазунова—Петипа исчез из репертуара, стал забывать-
135
ся. Ощущалась настоятельная необходимость возвраще-
ния балета на сцену, где он когда-то был создан. Если
верить советской энциклопедии «Балет» (что возможно
далеко не всегда, в особенности когда речь заходит о
первых исполнителях балетных премьер, если они потом,
не дай бог, оказывались за рубежом; но в этом случае,
я думаю, ей можно поверить — статья о Сергееве в этом
издании, надо полагать, была с ним согласована), то при
«создании редакции классических балетов... Сергеев со-
кращал пантомимные сцены, наделял мимические партии
танцевальными характеристиками, учитывал достижения
в области техники дуэтного и сольного танцев, стремился
к цельности режиссерской концепции». Все эти принци-
пы в обновленной «Раймонде» действительно воплощены
довольно последовательно. Во имя «целостности режис-
серской концепции» и неизбывного нашего страха перед
«мистицизмом» из спектакля изгнана Белая дама (до сих
пор не могу уразуметь, почему лишь мелькавшая в этом
балете Белая дама — мистицизм, а поднимающиеся из
могил и танцующие целый акт вилисы в популярной
«Жизели» — романтизм и почему одно очень плохо,
а другое вполне хорошо); наделен танцевальной харак-
теристикой Абдерахман; наверное, сокращены пантомим-
ные сцены. Но учитывать «достижения в области техни-
ки дуэтного и сольного танцев» Сергеев мог, только меняя
хореографию Петипа. И Сергеев меняет. Он ставит за-
ново фантастический вальс и переделывает адажио в кар-
тине «Сон», очевидно, считая эти фрагменты неудачей
М. Петипа, изменяет хореографию сцены Раймонды и
Абдерахмана в том же «Сне», добавляет вариацию Жана
де Бриена, воссоздает по-своему забывшиеся мелочи.
Этого оказывается вполне достаточно, чтобы возобнов-
ленный спектакль Петипа считался отныне работой
Сергеева, а туманная формулировка первых программ —
«композиция спектакля К. Сергеева, танцы М. Петипа
и К. Сергеева» — призвана усилить это впечатление.
Расчет точен: балетмейстер-постановщик Сергеев (вмес-
те с художником и исполнителями) удостаивается Ста-
линской премии. Только после этого содержание прог-
рамм и афиш делается более достоверным и совершает
эволюцию от «постановки М. Петипа, возобновления и
постановки в новой режиссерской редакции К. Сергеева»
(в 1951 году) до «постановки М. Петипа, возобновления
в новой режиссерской редакции К. Сергеева» (в 1983 го-
756
ду). Таким образом, чтобы назвать вещи своими именами
понадобилось более тридцати лет.
Вслед за «Раймондой» настает черед «Лебединого озе-
ра». В новой редакции этого балета уже не было столь
насущной необходимости, так как в то время на сцене
театра шла интересная и вполне корректная послевоен-
ная версия Ф. Лопухова, вернувшая балет от постановки
А. Вагановой к первоисточнику. Редакция Сергеева в
основном коснулась первой картины и последнего акта,
где он, отказавшись от трагического финала, предусмот-
ренного самим Чайковским, сочинил апофеоз торжест-
вующей любви. В целом редакция Сергеева, отличающая-
ся вкусом, тонкой стилизацией пересочиненных танце-
вальных фрагментов, оказалась удачей, хотя некоторая
вялость драматургии последнего акта снижала общее впе-
чатление. Но утверждать, что она была существенно луч-
ше возобновления Лопухова, с уверенностью тоже нель-
зя. Несомненным приобретением новой редакции стали
только оформление и костюмы, выполненные С. Вирса-
ладзе.
Наконец, редакция «Спящей красавицы». Здесь, с
моей точки зрения, инициатива Сергеева пришла в проти-
воречие с интересами театра, если не нанесла им ущерб.
Так случилось, что из всех балетов «императорского»
репертуара «Спящая красавица» меньше всего пострада-
ла от бега времени. Она практически все время сохраня-
лась в репертуаре, ее не пытались кардинально переде-
лать или изменить ее либретто (как это было с «Раймон-
дой» и «Лебединым озером»). Если отвлечься от вариа-
ции феи Сирени и некоторых поправок, внесенных
Ф. Лопуховым, она оставалась единственным подлинным
спектаклем Петипа на советской сцене (в той мере, в
которой это понятие может быть применимо к балету,
просуществовавшему более чем полвека). Именно поэто-
му «Спящая красавица» была выбрана для юбилейного
спектакля, посвященного 125-летию со дня рождения
Петипа. Разумеется, это обстоятельство в первую очередь
необходимо было учитывать, решая судьбу шедевра про-
шлого. Если работа над «Раймондой» оправдывалась
отсутствием балета в репертуаре, необходимостью вер-
нуть его из небытия, если определенные изменения в
«Лебедином озере» мыслимы вследствие сильнейшего
разночтения звучащей музыкальной композиции и под-
линной партитуры Чайковского, то в «Спящей красави-
137
це», где слияние музыки и хореографии идеально, где
это совершенство возникло как следствие теснейшего
сотрудничества двух гениев, менять что-либо можно
было только с великой осторожностью. Конечно, спек-
такль изрядно обветшал, он требовал тщательного возоб-
новления, новых декораций, костюмов, но...
Но Петипа не мог защитить свое детище, и Сергеев
отважно приступил к редактированию. Разумеется, были
произнесены все необходимые заверения о «бережном
отношении», о сохранении «самого ценного», о верности
«славной традиции». Вряд ли сам Сергеев теперь вра-
зумительно сможет объяснить, почему адажио принцессы
Авроры с четырьмя женихами — «самое ценное», а за-
ключительное па-де-де — не самое и его можно переде-
лать; почему, несмотря на разрушение гармонии хорео-
графической композиции, pas d’action в сцене дриад —
самое подходящее место спектакля для демонстрации
достижений современной поддержки. Но тогда, чувствуя
себя маститым мэтром, Сергеев веровал, что «соответ-
ствует требованиям современности», и твердо знал, где
следует учесть «достижения в области техники», неведо-
мые устаревшему Петипа.
Старую «Раймонду» мало кто знал, многочисленные
переделки «Лебединого озера» на сцене Кировского и
других театров приучили к возможности инвариантных
решений, но дошедшая через десятилетия почти нетро-
нутой «Спящая красавица» была у всех на виду, и ее
новый лик — роскошный, отсвечивающий оттенками
балетных пачек и пылающим багрянцем осеннего леса
(снова прекрасная работа С. Вирсаладзе) — наглядно
показал, во что же, однако, обошлись амбиции рестав-
ратора. Главный балетмейстер с завидной смелостью
ставил свои композиции в один ряд с подлинной хорео-
графией Петипа. Не слишком ли дорогой оказалась плата
за «целостность режиссерской концепции»?!
Разумеется, слишком вольное обхождение с наследи-
ем было сразу отмечено, но оказалось всего лишь еще
одним аргументом в разгоревшейся снова борьбе. Когда
же Сергеева и на этот раз сняли с поста главного балет-
мейстера, то восстановить подлинный текст шедевра так
никто и не удосужился. В конце концов, искажая текст,
Сергеев все же создавал солидные, достойные академи-
ческой сцены спектакли. Ну а текст — да кого всерьез
заботят авторские права давно умершего старика и мно-
138
гие ли знают о существовании этого подлинного текста,
и тем более помнят его? Причин для беспокойства нет!
Тем более что все «самое ценное», как нас уверяют,
заботливо сохраняется. Та же энциклопедия «Балет»
устами А. Соколова заверяет, что сергеевские редакции
оказались наиболее жизнеспособными. «Наиболее жиз-
неспособные» — значит, самые лучшие? Разумеется, три-
дцатипятилетним существованием на сцене редакции
Сергеева в первую очередь обязаны своим достоинст-
вам — откровенно плохие спектакли вряд ли прожили
бы столь долгий срок. Но не следует забывать, что первое
двадцатилетие, за которое к ним привыкли, их охранял
(с некоторым перерывом) авторитет главного балетмей-
стера театра. Последующие же главные балетмейстеры
предпочитали ставить собственные спектакли и классиче-
ским наследием не увлекались.
К таким мыслям подталкивает судьба последней
редакции Сергеева — «Корсар». И опыта, казалось, было
уже предостаточно, и соавтор прежний (Петипа), а ре-
зультат получился иной — спектакль сохранялся в репер-
туаре недолго. Случайная творческая неудача? Вряд ли.
Просто ситуация оказалась другой. Три шедевра Петипа
могли выдержать редакционные изменения. На то они и
шедевры. Старый «Корсар» не обладал четкой драматур-
гией, и на этот раз было действительно необходимо,
используя прекрасную хореографию, заново построить
спектакль. Сделать это Сергееву не удалось. Однако,
продержись «Корсар» под надежной охраняющей дланью
на сцене лет двадцать, пожалуй, привыкли бы и к нему,
и числился бы он в графе «бережно охраняемое насле-
дие».
Оживление жизни балетной труппы, связанное с на-
значением Б. Фенстера, было недолгим — всего четыре
года. А затем, после года скрытой борьбы, на пост глав-
ного балетмейстера в конце 1960 года снова вернулся
Сергеев. Разумеется, он сделал тактические выводы из
прошлых событий, но мог ли он изменить своим эсте-
тическим привязанностям, сделаться деятелем авангард-
ного толка? Естественно, все вернулось на круги своя и
борьба вспыхнула с новой силой. Новое письмо, подпи-
санное И. Колпаковой, А. Осипенко, А. Шелест, Н. Кур-
гапкиной, О. Моисеевой, Н. Петровой и А. Сизовой,
появилось на этот раз 1 апреля 1962 года в «Известиях».
В нем были отброшены все фигуры умолчания. Снова
139
звучит обвинение: «Новые работы балетмейстеров, новые
актерские дарования... у нас в театре, прежде чем выйти
на сцену, преодолевают значительные трудности». Вы-
ражается тревога «о творческой обстановке, об этике
художественной жизни». Упомянув о профсоюзном
собрании с 36 выступлениями, в которых «прозвучала
правда о взаимоотношениях главного балетмейстера
К. Сергеева с коллективом», авторы продолжают:
«К. Сергеев и Н. Дудинская пользуются заслуженной
славой замечательных танцовщиков... Но шли годы. Их
талантливые сверстники один за другим уходили. Н. Ду-
динская и К. Сергеев продолжали танцевать... В 1951 го-
ду К. Сергеев возглавил нашу труппу, а Н. Дудинская
заняла положение ведущего педагога классического тан-
ца. Само по себе такое положение закономерно. Но,
для того чтобы сохранить свое исключительное положе-
ние первых танцовщиков, К. Сергеев и Н. Дудинская
вольно или невольно мешали новому поколению артистов
сравняться с ними... При К. Сергееве, интересовавшемся
лишь укреплением своего личного престижа, в театре
не стало творческой обстановки. Стремясь к славе тан-
цовщика прибавить славу балетмейстера, К. Сергеев
перекраивал пользующиеся мировой известностью клас-
сические балеты и, разрушая лучшие их страницы, при-
сваивал себе лавры великих Иванова и Петипа». Затем,
рассказав о некотором творческом оживлении, насту-
пившем в театре при Б. Фенстере и его трагической кон-
чине, балерины утверждают, что после повторного назна-
чения Сергеева «коллектив, богатый талантами, привык-
ший жить творческими поисками, снова должен был
превратиться в труппу К. Сергеева и Н. Дудинской».
Стоит ли дальще пересказывать содержание письма?
Смысл и тон его и так предельно ясны. Не забыт и вы-
нужденный уход из труппы Н. Долгушина, подчеркнуто
бесцеремонное обращение главного балетмейстера с
классическим наследием.
Словом, сказано все. Более того, 16 июня 1962 года
«Известия» снова возвращаются к этой теме. Обвинив
театр в волоките с рассмотрением письма, газета рас-
сказывает об ответе партийного бюро, которое, по суще-
ству, признает многие обвинения в адрес Сергеева (серь-
езные недостатки в организации работы труппы, стиль
руководства, высокомерие, необъективность оценки ра-
бот актеров, нежелание прислушаться к критике). В итоге
140
газета приходит к неутешительному выводу, что «в театре
недостаточно ответственно и серьезно оценивают создав-
шееся в балетной труппе положение. То, что сделано и
намечено, вряд ли существенно изменит саму творческую
атмосферу в коллективе. Именно поэтому вызывает
удивление упорное молчание тех ленинградских органи-
заций, которые... должны быть заинтересованы в даль-
нейшем развитии советского хореографического искус-
ства».
Но газета удивлялась зря. Ленинградские организа-
ции, да и министерство, молчали не случайно. Им нужен
был Сергеев, их вполне устраивала эта фигура с устояв-
шимися (чтобы не сказать ретроградными) устремления-
ми, стилем, импозантностью. Ну а хореографическое
искусство... С этим непредсказуемым новаторством
только одни хлопоты и беспокойство. Да и зачем волно-
ваться и пороть горячку, если всем известно, что совет-
ский балет — лучший в мире.
Словом, «бунта балерин» оказалось недостаточно,
чтобы вторично низвергнуть Сергеева с поста главного
балетмейстера. Однако он сильно осложнил положение в
театре его и Дудинской.
В 1961 году перестает танцевать Сергеев, в 1962-м —
незаметно уходит из труппы Дудинская. В другое время
она не преминула бы устроить блестящий прощальный
вечер с овациями и морем цветов. Но сейчас обстановка
в театре слишком накалена. Впрочем, Дудинская про-
должает выступать в некоторых спектаклях до 1964 года
(у меня сохранилась программа от 3 марта 1964 года,
свидетельствующая о ее выходе — кажется в последний
раз — в роли Сари в балете «Тропою грома»). Кроме
того, она дает в Большом зале Филармонии свои твор-
ческие вечера, где даже в июне 1967 года танцует
вместе с Б. Брегвадзе «Миниатюру» Крейна в постановке
Р. Гербека и, эскортируемая А. Гридиным и И. Чер-
нышевым, обозначает «Испанский танец». Этот вечер,
несмотря на оглушительный успех, с непреложной оче-
видностью свидетельствует, что форма окончательно
утеряна и выходить на сцену далее невозможно. Карьера
балерины окончена.
Пустеет и класс усовершенствования, который Ду-
динская вела в театре с 1951 года. Естественно, его
покинули все балерины, подписавшие статью. Не сделала
этого, кажется, только А. Сизова. Но, несмотря ни на что,
141
Дудинская не может допустить, чтобы ее имя исчезло с
театральных афиш. Теперь в той же Филармонии устраи-
ваются «вечера балета артистов Театра оперы и балета
им. С. М. Кирова класса усовершенствования Н. М. Ду-
динской». В них принимают участие Г. Комлева, А. Сизо-
ва, Г. Кекишева, Н. Большакова, Э. Минчонок, начи-
нающие В. Ганнибалова, Е, Евтеева, С. Ефремова, но
самыми крупными буквами печатается фамилия Наталии
Михайловны.
С 1964 года Дудинская, не оставляя педагогическую и
репетиторскую работу в театре, начинает преподавать в
хореографическом училище. Казалось бы, у нее есть все
основания сделаться выдающимся педагогом — огром-
ный личный опыт, великолепное владение технологией
классического танца, знание методики А. Вагановой,
чьей любимой ученицей была Дудинская, наконец, опыт
работы в классе усовершенствования балерин театра.
Конечно, чтобы стать великим педагогом, надо иметь
выдающийся педагогический талант. Дудинская, оче-
видно (это показало время), не обладала им; но, к сожа-
лению, все ее многочисленные достоинства не помогли
сделаться ей хотя бы высокопрофессиональным педаго-
гом, подчеркиваю — педагогом. Фанатично и скрупу-
лезно работавшей балерине теперь не хватает обыкно-
венного терпения. Дудинскую, очевидно, слишком ин-
тересовал результат, успех ее учениц любой ценой, воз-
можность вместе с ними еще раз выйти на сцену, кото-
рой она отдала всю жизнь, предстать перед восхищен-
ным залом. Разве можно упустить такую возможность?
Нет настоящих устойчивых вращений? Не важно. Мож-
но «натаскать» фуэте на один раз. А если сорвется, то,
конечно, в этом виноват случай и волнение неопытной
ученицы. И вот уже ученицы Дудинской танцуют труд-
нейшие па-де-де. Им не до стилистических особенностей
хореографии, образа, «пронесло» бы только с техникой.
Девочка средних возможностей появляется в венгер-
ском grand pas Раймонды, ученицы шестого класса — в
«Оживленных фресках». Академизм и фундаменталь-
ность выучки приносятся в жертву эффекту. Это вызы-
вает тревогу и удивление. Неужели сама Дудинская,
танцевавшая с таким непогрешимым чувством формы, не
видит ошибок своих учениц?
А тут еще происходит трагическая история с Валей
Симуковой. Щедро одаренная природой, с прекрасными
142
данными, эта ученица Дудинской обращает на себя все-
общее внимание. Она выступает во многих концертах,
танцует в школьном «Щелкунчике», ее собираются за-
нять в спектаклях театра. И вдруг на пороге счастливой
творческой жизни Симукова умирает. Как водится в та-
ких случаях, немедленно поползли слухи, Дудинскую об-
виняли в том, что якобы она заставила уже больную де-
вочку репетировать очередной концерт. Нелепо было бы
придавать им какое-либо значение. Но не исключено, что
нетерпеливый педагог не рассчитал нагрузку талантли-
вой ученицы, тем более что сама Дудинская никогда не
жалела себя и умела подавить физическое недомогание
во время работы. Кто знает, дали ли перегрузки, если
они были, лишний шанс роковой болезни. Теперь эта
печальная история почти забылась и напоминает о ней
только белая мраморная стела с контуром танцовщицы в
арабеске, затерянная в глубине Богословского клад-
бища. Ее выполнила скульптор Янсон-Манизер и устано-
вил театр на могиле В. Симуковой.
В конце 60-х годов складывается не только облик Ду-
динской-педагога. К 1970 году, когда она, после ухода
Сергеева с поста главного балетмейстера, тоже покидает
театр, отшлифовывается и превращается в своеобраз-
ный ритуал появление ее в зрительном зале театра. Этот,
казалось бы, незначительный бытовой факт отрабаты-
вается так тщательно и повторяется столь регулярно и
неуклонно, что о нем следует упомянуть.
В зрительном зале еще пустынно, но на одном из кре-
сел первого ряда лежат роскошные розы — значит, На-
талия Михайловна в театре. Зал наполняется, и на-
ступает момент, когда зрители уже сидят, оркестр в сбо-
ре, а свет через мгновение начнет меркнуть. Именно в
этот момент — ни минутой раньше, ни минутой позже —
в опустевшем проходе появляется Дудинская. Она с оза-
боченным видом, не поднимая глаз, спешит к своему мес-
ту. Вспыхивает легкий шелест первых аплодисментов, и
публика, еще не понимая в чем дело, подхватывает их; по
залу бежит шепоток: «Дудинская! Смотрите, Дудин-
ская!». Аплодисменты усиливаются, и, польщенная
«внезапным» происшествием, Наталия Михайловна, зар-
девшись, усаживается в кресло. Пролог окончен. Спек-
такль может начинаться. Подобное, вызывая снисходи-
тельные, либо иронические улыбки посвященных,
повторяется с завидным постоянством и точностью.
143
Только однажды краски были положены гуще, правда, и
случай был выдающийся — торжественный концерт,
посвященный семидесятилетию со дня рождения и пяти-
десятилетию творческой деятельности Дудинской (26 но-
ября 1982 года). Дудинская шла по центральному прохо-
ду, а с двух сторон из кресел партера ей под ноги бросали
красные гвоздики. Каждый цветок был для нее полной
неожиданностью. Она вздрагивала, отсранялась от летя-
щего цветка, вспыхивала и лучезарно улыбалась, как
когда-то покоряюще-лучезарно улыбались ее героини.
Вся режиссура была безупречной. Зал стоя приветствовал
прославленную балерину. Не встала только Алла Яков-
левна Шелест — у нее для этого было более чем доста-
точно оснований.
Но ни блеск официальных торжеств, ни знаки искрен-
него или организованного внимания не могут скрыть,
что любовь и уважение к этим двум выдающимся танцов-
щикам отнюдь не всеобщие и совсем не адекватны их зна-
чению и заслугам. Что ж, платить, расплачиваться в
жизни приходится за все.
Гегемонистские устремления Дудинской отразились
горечью и обидой в судьбах многих балерин. Они обер-
нулись нестанцованными ролями, не поставленными для
этих балерин спектаклями, нераскрытыми возможнос-
тями. Они во многом определили деформированную судь-
бу целого поколения танцовщиц. Еще очевиднее сказа-
лась на судьбах мастеров ленинградского балета, труппы
в целом деятельность Сергеева. Если его первое пребыва-
ние на посту главного балетмейстера театра затормо-
зило поступательное развитие ленинградского балета, то
второй десятилетний «понтификат» окончательно прер-
вал творческий поиск. Театр замер, традиция оборвалась.
Сцена, на которой в течение двух столетий было созда-
но почти все, что составило гордость и славу русского,
советского балета, померкла. Сергеев сделал для этого
все, что мог,— он упрямо целпялся за отжившее, его
стараниями были удалены из театра два самых крупных
балетмейстерских дарования новой эпохи, не случайно
родившиеся именно здесь.
Яркая вспышка премьеры «Легенды о любви» (1961)
оказалась последней. Театр, традиционно бывший генера-
тором новых идей в балетном искусстве, молчит с тех
пор уже четверть века. Он и сейчас не может подняться
до высот своих прежних свершений.
144
С 1973 года прославленная чета снова трудится вмес-
те под одной крышей — теперь уже в Ленинградском хо-
реографическом училище. Увы, последние тринадцать
лет, прожитые училищем под художественным руковод-
ством Сергеева, далеко не лучшие в его долгой истории.
Было бы несправедливо винить в этом только Дудинскую
и Сергеева. Со времен Вагановой многое изменилось: в
стране появились десятки хореографических училищ,
сильно продвинулась вперед методика преподавания,
повысился технический уровень танца. У истоков этого
процесса стояло Ленинградское хореографическое учи-
лище. Теперь же?.. Вряд ли приходится утверждать, что
ленинградская балетная школа по-прежнему лидер бес-
конечного поступательного движения. Разумеется, бы-
лые заслуги, традиции придают ему некую импозант-
ность: оно и старейшее, и орденоносное, и академическое,
и даже имени... А тем временем реальное существование
ленинградского стиля танца стало проблематичным и
обрело, скорее, ретроспективный оттенок. Кастовая
замкнутость ленинградских балетных сцен давно нару-
шена (когда-то училище блистательно справлялось с
комплектованием ленинградских трупп), и теперь на них
ведущее положение занимают выпускники других школ.
Выпуск сильной или, по крайней мере, заметной ин-
дивидуальности стал теперь случаем исключительно ред-
ким. Уж, наверное, Наталия Михайловна на вечере, по-
священном ее семидесятилетию, не упустила бы случая
устроить в grand pas из «Пахиты» парад балерин. Однако
даже этот экстраординарный состав выглядел следующим
образом: В. Ганибалова, И. Горохова, Н. Юрьева (вы-
пуск 1967 года), Е. Балуева, Е. Алканова (1972), Е. Во-
ронцова, Л. Галинская (1973), М. Лешенюк (1976), В. Ле-
бедева (1977), Е. Леленкова, Г. Полонская, В. Евдоки-
мова (1978), Е. Дмитриева, Н. Иванчук, Е. Павлова
(1981), Е. Адаменко, О. Никитина, Г. Рахманова (1982).
Вряд ли его можно назвать впечатляющим. А ведь он —
результат педагогических усилий Дудинской за 18 лет.
Впрочем, попытка улучшить его любыми выпускницами
последних лет не привела бы к существенному изменению
уровня. Может быть, только А. Асылмуратова да М. Кул-
лик — чуть ли не единственная фундаментально вы-
ученная и технически оснащенная ученица Дудинской —
внесли бы в эту картину оптимистическую краску. Но
одна, даже две ласточки не делают весны. Увы, сегодняш-
145
няя ситуация мало напоминает годы легендарных регу-
лярных выпусков А. Вагановой. Конечно, всегда можно
сказать, что талант явление нечастое. Однако Пермское
училище и Л. Сахарова с завидным постоянством по-
ставляют балерин во многие, в том числе столичные, труп-
пы, повторяя в наше время феномен Вагановой. Тут уж
трудно что-либо возразить. Остается только поднимать
глаза к небу, когда та же Людмила Павловна Сахарова за-
являет без обиняков прямо в стенах дома на улице Росси,
что элементарным движениям в Ленинградском училище
обучают методически неверно.
Поистине трудно, не искажая истины, утверждать,
что Ленинградское хореографическое училище сохра-
няет лидерство.
Да, Сергеев возглавил училище в момент, когда оно
было далеко не на подъеме. Но какие, собственно, име-
лись основания полагать, что человек, пятнадцать лет
сдерживавший порывы театра к новому, вдруг, сделав-
шись художественным руководителем училища, изменит-
ся и поднимет его коллектив на поиски новых путей?
Сергеев этого и не сделал. А умиление перед выпускными
спектаклями, бесконечная череда званий и титулов педа-
гогов, трепетность юных мешают многим рассмотреть,
что происходит за колоннами фасада столь ветхого внут-
ри здания.
Но стоящих на месте всегда обгоняют. Более того,
неподвижность означает деградацию. Горько, если для
Ленинградского хореографического училища под худо-
жественным руководством К. Сергеева это станет (не
стало ли?) необратимым процессом.
Уходит время, отдаляя от нас изумительные сцени-
ческие создания Наталии Михайловны Дудинской и Кон-
стантина Михайловича Сергеева. Уже мало кто из се-
годняшних зрителей помнит их танцующими. Еще мень-
ше тех, кто задумывался над ролью, которую сыграли два
блистательных мастера в судьбе театра, которому они,
казалось, так преданно служили. Да, было все: триумфы и
самоотверженный труд, необдуманные поступки и точно
рассчитанные комбинации, творческие сомнения и не-
пререкаемая уверенность вельможного чиновника. Были
вдохновение и расчет, широта и мелочность, заслужен-
ная слава и непомерность амбиций — все было в этих
больших жизнях. Долгие годы Дудинская и Сергеев
воплощали Время. Долгие годы, вознесенные на его гре-
146
бень, они направляли бег этого потока в театре. Можно
ли осуждать, а тем более судить? В память о том прекрас-
ном, что было, и в память о радости соприкосновения с
Искусством, в память обо всем светлом, связанном с
именами этих изумительных мастеров, так хочется от-
странить остальное, забыть, последовать древней муд-
рости: простим им — ибо не ведали, что творят.
Вот только не ведали ли?
1986
ИРИНА КОЛПАКОВА
Герой Социалистического Труда, Лауреат Государст-
венной премии, лауреат всесоюзных и международных
конкурсов, обладательница Золотой звезды Парижского
фестиваля танца, народная артистка СССР, кавалер орде-
нов Ленина и Трудового Красного Знамени, депутат Вер-
ховного Совета СССР и других советов разных созывов...
В этом блистательном перечне званий, должностей и
наград не хватает только Ленинской премии.
Кто из советских балерин недавнего прошлого и со-
временности увенчан такими лаврами? Кто может срав-
ниться блистательностью карьеры? Если встать на весь-
ма наивную, но распространенную точку зрения, что зва-
ния определяют масштаб таланта, то придется признать,
что ни Дудинская в прошлом, ни Плисецкая и Максимова
в настоящем не достигли тех художественных высот, не
танцевали и не танцуют лучше, чем это делает прима-
балерина Театра имени Кирова Ирина Колпакова. Лишь
уникальный талант Галины Улановой, лишь ее уже леген-
дарная сценическая деятельность были отмечены более
внушительным списком отличий.
Но не будем уподобляться простодушному зрителю.
Вряд ли кто-либо возьмется утверждать, что творчество
таких блистательных балерин, как Дудинская, Шелест,
Осипенко, совершенство техники Максимовой и Семеня-
ки, проникновенность сценических образов, созданных
Плисецкой и Бессмертновой, меркнут в сравнении со сце-
ническими созданиями и масштабом дарования Колпа-
148
ковой. Скорее, наоборот, результаты сравнения часто бу-
дут не в ее пользу.
Но тогда почему Ирина Колпакова занимает такое ис-
ключительное положение в официальной иерархии бале-
рин?
Как всякий человек искусства, достигший исключи-
тельно высокого положения, Колпакова имеет немало
недоброжелателей и завистников, склонных объяснить ее
головокружительную карьеру отнюдь не сценическими
достижениями, а удачливостью и умелой закулисной дея-
тельностью. Такое предположение исчерпывающе объ-
ясняет все. Конечно, нельзя не согласиться, что в любом
деле, а особенно в искусстве, фактор удачи играет замет-
ную роль, а умное поведение всегда и везде способствова-
ло, а не вредило успеху. Но удовлетвориться таким
объяснением может только человек необъективный, не
желающий замечать безукоризненный академизм танца
Колпаковой и блистательное, эталонное, до сих пор
непревзойденное исполнение ею роли Ширин.
С другой стороны, даже объективного зрителя обилие
и непомерная щедрость отличий смущают и несколько
озадачивают, уводя в сторону от серьезного осознания
значимости творческой деятельности Колпаковой в эво-
люции ленинградского балета. А то, что ее исполнитель-
ское творчество — заметный этап этой эвцлюции, теперь,
когда прошло 33 года со дня ее выхода на сцену, пред-
ставляется несомненным.
Начиналось же все обычно, традиционно и достаточ-
но скромно. В 1951 году в выпускных спектаклях я уви-
дел тоненькую, хрупкую девушку, танцующую два дуэта
из «Спящей красавицы»: Авроры и Дезире из последнего
акта и принцессы Флорины и Голубой птицы. Она была
изящна, сияюще чистенькая, а ее аккуратный и легкий
танец производил приятное впечатление. Весь ее облик
напоминал саксонскую статуэтку, наивную и милую в
своей незамысловатости. Выпускница не отличалась
блестящими данными, шаг ее даже по тем временам не
выглядел большим, красотой линий она также не отлича-
лась, но подкупала легкостью и основательностью вы-
учки.
Колпакову приняли в труппу, и она довольно быстро
стала появляться в спектаклях. Это были двойки, тройки,
вариации в классических балетах — феи в «Спящей кра-
савице» (Резвости, Нежности, Сапфир), баядерки из вто-
149
рого акта и вариации из акта «Теней», наконец, принцес-
са Флорина и Повелительница дриад. Всюду Колпакова
демонстрировала одни и те же качества: чистоту и хруп-
кость облика, тщательность отделки движений, легкость и
воздушность прыжка. Ее слишком прямые и поэтому не
очень выразительные ноги с всегда старательно вытяну-
той стопой легко и точно выполняли все мелочи, руки с
красивыми легкими кистями координированно вторили
движениям ног и корпуса, но вся эта чистота, выверен-
ность формы не создавала ощущения блеска, а забота о
точности подавляла живое чувство. Похоже было, что в
очаровательную статуэтку создатель забыл вдохнуть ду-
шу. Но тогда это не тревожило и не казалось существен-
ным, так как думалось, что рамки творчества Колпако-
вой определились — она будет профессиональной и
очень приятной солисткой. Уж слишком правильным, а
потому несколько безличным был ее танец. Ноги, подвиж-
ные и элегантные в allegro, сразу же теряли выразитель-
ность, выполняя developpe. Позы ecarte также казались
сухими, прямолинейными, и только арабеск был чист и
красив. Особенно это чувствовалось в вариации Повели-
тельницы дриад; ей не хватало размаха, образности, бале-
ринского апломба. Их заменяли легкость, воздушность и
холодок. Более благоприятное впечатление оставляла
принцесса Флорина, где перечисленные достоинства Кол-
паковой лучше ложились на хореографический материал
и образ, а хрустальные переливы ее танца были созвучны
тембру флейты, переливам и трелям мелодии.
Я не случайно упомянул здесь о developpe. Манера его
исполнения говорит о многом и часто проясняет инди-
видуальность и балеринский масштаб. Многие исполни-
тельницы в этом движении видят только способ подъема
ноги и ценят в нем лишь высоту. А ведь это процесс,
танец и все обаяние его заключено в развитии движения.
У настоящей балерины developpe исполнено смысла и
красоты: вначале нога медленно скользит напряженным
носком по опорной ноге, затем, достигнув нужной высо-
ты, плавно отрывается и, сохраняя выворотность, очер-
чивает плавную линию в воздухе и медленно чуть-чуть
сверху укладывается и застывает на должном уровне. Та-
кое еле заметное «укладывание» придает developpe ве-
личавость, и как меркнет, теряет свою поэзию это движе-
ние, если нога последним усилием снизу вверх дотяги-
вается до требуемого уровня. Хорошее исполнение deve-
150
loppe подчеркивает мягкость и эластичность ног, красо-
ту их линий, неповторимость балеринских данных. К со-
жалению, этими качествами ноги Колпаковой не обла-
дали, хотя линии их были чисты и строги. Возражая оп-
понентам, указывавшим на невыразительность ног, за-
щитники молодой танцовщицы обычно цитировали фра-
зу, сказанную некогда А. Вагановой: «Ноги, ноги! У
Иры хорошая голова».
Действительно, в серьезности намерений и умении
добиваться задуманного Колпаковой отказать было нель-
зя. Разочаровывало только, что ее намерения и интересы
не шли дальше области технологии танца. Однако для
начинающей танцовщицы это само по себе не мало.
Хрупкость облика, неподчеркнутая, но точная манера
танца привлекали внимание к Колпаковой и давали по-
вод видеть в ней лирическую танцовщицу. Ее ввели в
«Шопениану», а затем, в 1954 году, при возобновлении
«Щелкунчика» в декорациях и костюмах С. Вирсаладзе
ей поручили первую балеринскую партию — Машу.
Премьера состоялась 21 марта и ознаменовала собой от-
крытие второго тура смотра творческой молодежи балета.
Партнером Колпаковой был И. Уксусников; в первом ак-
те роль Маши играла Малика Сабирова, китайский танец
исполнял Ю. Григорович, в розовом вальсе были заняты
А. Грибов и А. Гридин, а в детском pas de trois выступал
ученик Ю. Соловьев. Соединение в одном спектакле этих
танцовщиков, которые потом так много значили в твор-
ческой жизни Колпаковой, знаменательно.
«Щелкунчик» не стал заметной удачей Колпаковой.
Она, как всегда, была хрупка, легка, форма ее танца от-
личалась чистотой, а рисунок рук благородством и сдер-
жанностью. Но благородство и чистота рисунка опять
оборачивались холодком, суховатостью, а сдержан-
ность — отсутствием тепла и сердечности. К тому же
танец не всегда был свободен от технических погрешнос-
тей. В целом ее исполнение оставляло приятное впечатле-
ние. Но, пожалуй, в этот вечер больше говорили о Вирса-
ладзе, о его розово-серебристой елке, костюмах.
По существу, в полуудаче спектакля Колпакова не
так уж была повинна. Ведь музыка балета ставит испол-
нительницу в весьма двойственное положение. Работая
над партитурой в 1891 году, за два года до своей неожи-
данной и, возможно, таинственной смерти, Чайковский
был погружен в мир отнюдь не сказочных детских эмо-
757
ций. То было время «Пиковой дамы» и Шестой симфонии,
время напряженного и мучительного раздумья над це-
ной и смыслом жизни. Не спасает красивая фраза
Б. Асафьева, которая охотно цитируется всеми исследо-
вателями, что «Щелкунчик» — «совершеннейшее худо-
жественное явление: симфония о детстве, нет, вернее, о
том, когда детство — на переломе, когда уже волнуют на-
дежды еще неведомой юности... когда сны влекут мысли и
чувства вперед, а неосознанное — в жизнь, только пред-
чувствуемую». Скорее, справедливо утверждение истори-
ков, что сюжет «Щелкунчика» был не мил Чайковскому.
«Щелкунчик» был написан вопреки сценарию, и под тя-
жестью гениальной партитуры рухнули стены сладкого
сказочного Конфитюренбурга, а вместе с ними и воз-
можность создать совершенный, гармоничный спектакль.
Постановка В. Вайно не на 1934 года, почти без измене-
ний повторенная в 1954 году, только в незначительной
степени исправила роковой разрыв между музыкой и сце-
ническим действием и ставила исполнителей почти в без-
выходное положение. Особенно это было заметно при
любом составе исполнителей в последнем грандиозном
па-де-де: умные, чуткие балерины, следуя за музыкой,
закрывали глаза на сюжет и танцевали трагедию; глупые,
лучезарно улыбаясь, изображали под потрясающую
своим драматизмом музыку оживление праздника. Но
что говорить: ведь сам Чайковский написал эти гениаль-
ные страницы для феи Драже и принца Коклюша!
Правда, «Щелкунчик» Вайнонена дорог многим и по-
ныне. С ним связаны воспоминания детства; поколения
балетных артистов, начиная со школьных лет, перетанце-
вали в нем множество партий; наконец, в спектакле есть
прекрасные танцы — вальс снежинок, розовый вальс, па-
де-де и детское па-де-труа. Может быть, именно поэтому
некоторые так упорно не хотят признавать постановку
Ю. Григоровича — первую серьезную попытку прибли-
зить спектакль к партитуре. Мне лично дорог этот спек-
такль, хотя я отлично сознаю, что многие умные, точные
и вдохновенные его решения не всегда подкреплены столь
же вдохновенной и выразительной хореографией, кото-
рой можно было ожидать от Ю. Григоровича.
Как бы то ни было, но профессиональные успехи Кол-
паковой были замечены, и, хотя мне казалось, что масш-
табу ее дарования не под силу настоящие балеринские
партии (речь идет не о технических, а об эмоциональных
152
возможностях), Колпаковой поручили новую работу —
Марию в «Бахчисарайском фонтане». Чем руководство-
валось «балетное начальство», делая такой ввод,— од-
ному богу известно. Ведь в 1954 году Мария Улановой
была еще реальностью и тончайший психологизм ее ис-
полнения не был затуманен далью времени. Скорее всего,
сказалась производственная необходимость — Марию
танцевали только Г. Кириллова и Н. Петрова, а внешние
данные Колпаковой позволяли надеяться на удачу. Перед
танцовщицей встала трудная задача — впервые ей надо
было не только танцевать, но и жить напряженной духов-
ной жизнью. А этого Колпакова как раз и не умела. Вот
тут и вступила в дело хваленая когда-то Вагановой «Ири-
на голова».
В 50-е годы труппа Кировского театра представляла
собой уникальное явление. Почти все артисты балета —
выпускники одной (и ведущей!) школы, почти все балери-
ны и солистки — ученицы Вагановой. Эта труппа умела
танцевать по-настоящему. И одновременно, создав на
своей сцене все шедевры советской хореодрамы, эта труп-
па умела танцем, пластикой, пантомимой выразить лю-
бые тончайшие оттенки человеческих переживаний, соз-
дать яркие, крупные характеры. Эта труппа знала цену
точному жесту, выразительному взгляду, танец понимал-
ся здесь как категория образная, эмоциональная, духов-
ная. Свой опыт работы над хореодрамой труппа привнес-
ла и в исполнение классического репертуара. И, хотя
идеи драмбалета уже теряли свою привлекательность и
не за горами был кризис этой эстетической системы, в
исполнительском искусстве ее опыт сохранял свое благо-
творное значение. Вот почему так ярко и разнообразно
блистали таланты Улановой, Дудинской, Шелест, Вечес-
ловой, вот почему так запомнились отлитые в совершен-
ную пластическую форму создания Шаврова, Гербека,
Михайлова. Минуло время, сменились балетные поколе-
ния, на сцену пришли танцовщики и танцовщицы, не про-
шедшие такой школы актерского мастерства, часто счи-
тающие хореодраму скучной архаикой, в которой нечего
танцевать, артисты, ставящие превыше всего форму тан-
ца, высоту прыжка, скорость и число вращений.
Не в этом ли причина нивелирования индивидуаль-
ностей, не потому ли нам так часто теперь не хватает со-
держательности танца, не потому ли бывает скучно на
спектаклях Кировского театра?
153
Но в 1954 году еще было у кого учиться и было жела-
ние учиться. И Колпакова училась. Сознательно, рацио-
нально. Она ставила перед собой определенные задачи и
так же сознательно, рационально, с присущим ей чувст-
вом меры и вкуса решала их. Это и предопределило ре-
зультат работы. В первом акте, где в распоряжении тан-
цовщицы был достаточно развитой (хотя и не бог весть
какой интересный) хореографический материал, Колпа-
кова была изящна, грациозна, легка. Прозрачность и
чистота ее линий хорошо сочетались с, красивым по фор-
ме, элегантным, но абсолютно холодным танцем ее парт-
нера В. Семенова. В этой ситуации отсутствие порывис-
тости, восторженного проявления первого чувства еще
как-то оправдывалось аристократической сдержан-
ностью. Но в третьем акте, по существу лишенном танце-
вальное™, при всей грамотности и продуманности испол-
нения, Колпаковой нечего было сказать. Образ мерк, ут-
рачивал поэтичность и не волновал. Партия Марии тем
не менее осталась в репертуаре балерины. Со временем
жизненный и сценический опыт обогатили ее, сделали бо-
лее разработанной, отделанной. Но по существу ничего
не изменилось — исполнение осталось на том же кор-
ректном, интеллигентно-профессиональном уровне, не
более.
Для меня эта работа поставила под сомнение амплуа
Колпаковой, которую в театре продолжали считать ли-
рической танцовщицей. Конечно, внешние данные актри-
сы, ее облик сразу же говорили в пользу такого опреде-
ления. Но ведь лиризм — это прежде всего эмоциональ-
ность, взволнованность, задушевность, склонность к ду-
шевным излияниям. А как раз именно этих качеств и не
хватало танцу Колпаковой. Нет, он не был абсолютно без-
душен, теплая нота юного, чистого, несмелого чувства все
время звучала в нем, но этого робкого дыхания было бес-
конечно мало для создания образа Марии, явно недоста-
точно для того, чтобы быть лирической танцовщицей и
тем более лирической балериной.
Вообще, казалось, что масштаб танца, а особенно
внутренних данных Колпаковой не балеринский, ограни-
ченный и что это никогда не позволит ей стать подлин-
ной балериной.
И тем не менее Колпакова балериной стала!
Извечно существует две возможности существования
человека в обществе — жить как хочется и жить как на-
/54
до. В реальной жизни людей, идеально воплощающих эти
принципы, почти не встречается. Каждый из нас ценой
бесконечного ряда компромиссов находит свое место на
пути между этими двумя полюсами. Безусловно, Колпа-
ковой ближе второй тип существования. Она точно по-
нимает, что надо делать, и целеустремленно следует по
избранному пути. И здесь, в ежедневных занятиях, кру-
говороте организованности и стихийности театрально-ба-
летной жизни, проявился редчайший дар актрисы — уме-
ние умно работать.
Общим местом стало утверждение, что жизнь балет-
ного актера — постоянный труд. Конечно, это так, но
верно и то, что можно часами стоять у палки, бездумно
махать ногами, добиться даже определенного физичес-
кого прогресса и ни на шаг не продвинуться в искусстве
танца. У Колпаковой все было по-другому. Каждый ее
спектакль, каждое выступление всегда были маленькой
ступенькой вверх, каждый раз ставились определенные
задачи и отыскивалось их решение, каждая ошибка учи-
тывалась и исправлялась. Это был почти незаметный для
зрителя труд, труд муравья, но труд, вызывающий удив-
ление и уважение. Конечно, у Колпаковой, как и у любой
балерины, были спектакли более и менее удачные, у нее
так же могла заскользить нога, могло не выйти какое-то
трудное движение. Но это частности. Я же говорю о тен-
денции.
Вслед за Марией Колпакова станцевала Золушку. В
этой партии стали заметны успехи танцовщицы, а чисто-
та, прозрачность и внешние данные как нельзя более
подходили к облику сказочной героини. Но существенно
новых качеств эта работа в творческий облик Колпаковой
не внесла: очаровательная сказочность образа соседство-
вала с отрезвляющей уравновешенностью исполнения.
Но вот в 1956 году на шестом сезоне работы в театре
Колпакова станцевала Аврору. Этой работе суждено бы-
ло стать этапной в ее судьбе; она же стала одной из вер-
шин в ее репертуаре. «Спящую красавицу» часто назы-
вают энциклопедией классического танца. В этой энцик-
лопедии Колпакова основательно изучила не одну стра-
ницу. Она еще в школе танцевала в вальсе, была одним
из двух пажей Авроры в третьем акте, появилась в числе
пажей со скрипками, затем последовали феи, принцесса
Флорина и, наконец, пришла долгожданная возможность
прикоснуться к самой заветной странице.
155
Уже первые спектакли обратили на себя внимание.
Привлекали чистота и совершенство формы танца, трога-
ли юность, угловатость и милая робость молодой испол-
нительницы. Таких Аврор на ленинградской сцене уже
давно не было. Колпакова нарушила канон, выработан-
ный блистательным исполнением Дудинской. Низвергая
старых кумиров, критики стали усиленно подчеркивать,
что героине балета всего 16 лет, а некоторую робость ис-
полнения противопоставляли «ложной эффектности» и
«раздражающей уверенности иных балерин». За всеми
разговорами и пересудами, отмечая несомненный успех
Колпаковой, как-то не заметили, что этот успех для Кол-
паковой был принципиален — в партии Авроры она впер-
вые вышла на сцену балериной. Именно в «Спящей кра-
савице» ей впервые удалось органично соединить в ху-
дожественное целое форму и содержание, а точнее, безу-
пречной формой выразить возвышенный, обобщенный
философский смысл волшебной сказки. Разумеется, это
случилось не на первом спектакле, но это случилось.
С тех пор Колпакова танцует «Спящую красавицу»
уже почти 28 лет. За эти годы ее исполнение неоднократ-
но трансформировалось. Первые спектакли, привлекшие
детской непосредственностью и угловатостью, легкостью
и воздушностью, очаровательным «французским» жеман-
ством, но лишенные внутреннего развития образа, усту-
пили место тщательно отделанным и филигранно станцо-
ванным спектаклям 60-х годов. В них выразительная и
благородная форма наполнялась тонкими оттенками
эмоциональности: взволнованная радость первого акта
соседствовала со светлой уравновешенной лирикой и меч-
тательной грустью второго, а финальное па-де-де было
исполнено очарования пробуждающейся женственности
и светлого счастья. После первых ошеломляющих (а в
Америке, как говорят, просто триумфальных) спектак-
лей А. Сизовой — новой исполнительницы роли Авро-
ры — в танце Колпаковой появилось некоторое стремле-
ние подчеркнуть его виртуозный характер. Но серьезная
болезнь надолго вывела из строя опасную соперницу и
вообще лишила ее возможности впредь подняться до вер-
шин академической техники. Колпакова стала бесспорно
лучшей Авророй в Ленинграде, да и вообще одной из луч-
ших исполнительниц этой труднейшей партии. Танец ее
сделался уравновешенным, совершенным по форме, не-
замутненно-ясным и блестящим. Но это не было осле-
156
пительное сверкание бриллианта, скорее, этот танец сиял
переливчатым матовым блеском перламутра. В нем было
что-то от очарования прекрасной нежно-розовой статуэт-
ки французского или саксонского фарфора. Его красота и
глянец нет-нет да и отдавали чем-то кукольным, детским,
инфантильным. Эмоции были пленительны, но не глубо-
ки, тонкие оттенки никогда не становились ясно очерчен-
ным, полнокровным чувством. Аврора Колпаковой жила
в волшебном мире, где нет места земным страстям.
Прошли годы, и время, отнимая физические силы, за-
ставило пересмотреть рисунок партии. Гордо и чисто
очерченные аттитюды, статуарные экарте сменились пас-
тельными полупозами, легкий, воздушный прыжок усту-
пил место такому же воздушному, но не акцентируемо-
му полупрыжку. Танец утратил свободу и широту. Но Ав-
рора Колпаковой осталась такой же чистой, перламутро-
во-розовой, только в блеске этой коронной партии стало
заметнее холодное сверкание льдинок рассудочности и
зрелого академизма. Вот тогда-то, на 28-м году жизни
этой великолепно сделанной партии, телевидение сочло ее
«созревшей» и зафиксировало на пленку (кстати, это еще
один штрих к разговору о пленках).
Вспоминая лучшие выступления Колпаковой в «Спя-
щей красавице», понимаешь их законченность и совер-
шенство, сознаешь, что в них балерине удалось наиболее
полно проявить свою индивидуальность. Но странное де-
ло, вместе с тем память не сохранила каких-то личност-
ных, присущих только Колпаковой, моментов спектакля.
Мы вздыхаем: «Ах, как бежала с плащом Джульетта —
Уланова; ах, как шествовала, не замечая никого, в своем
парчовом халате Зарема — Шелест; ах, с каким непод-
дельным шиком ударяла ладонями в «венгерской» ва-
риации Раймонда — Дудинская; ах, как Аврора — Кол-
пакова...» и тут я понимаю, что не могу закончить подоб-
ным образом начатую фразу, потому что Колпакова ли-
шила свою Аврору ярко выраженной индивидуальности.
Нет, конечно, она отдала ей свой прелестный облик, чис-
тоту линий танца и легкость, но чистота и безупречность
классического танца привели к обобщению, к созданию
совершенного, почти эталонного, но уже не индивидуа-
лизированного образа. Поэтому если уж кончать нача-
тую фразу, то сделать это можно только так: «Ах, как хо-
рошо танцевала Аврора — Колпакова!».
Нарушая хронологическую последовательность, ду-
157
маю, что сразу же будет уместно сказать и о другой пар-
тии классического репертуара Колпаковой — Раймонде
(1963). К этому времени мастерство Колпаковой находи-
лось в расцвете, за плечами был опыт премьер «Камен-
ного цветка», «Легенды о любви» и «Берега надежды»,
исполнение Авроры доведено до совершенства, актерское
мастерство отшлифовано в спектаклях, выстроенных по
канонам хореодрамы,— в работе над партиями Панноч-
ки («Тарас Бульба»), Дездемоны («Отелло»), Нины
(«Маскарад»). Казалось, что при таких условиях встреча
с новым классическим шедевром предвещала выдающий-
ся успех. Собственно, исполнение этой роли так и оце-
нивается балетной критикой. В. Чистякова хвалила Кол-
пакову за то, что «не делает особых попыток извлечь со-
держание из сюжета. Она слышит музыку и танцует ее...
Подобно солирующему инструменту оркестра; чуткому к
тончайшим изгибам мелодии, она раскрывает музыкаль-
ную программу — обобщенную и содержательную»*.
Еще дальше пошла в своих положительных оценках
М. Ильичева в монографии о Колпаковой, посвятив осно-
вательному разбору этой партии несколько страниц. Пе-
речисляя достоинства исполнения, она среди прочих
указывает на чуткость, с которой Колпакова уловила раз-
личие эмоциональных оттенков партий Авроры и Раймон-
ды, и инструментальность лирического дарования бале-
рины.
Мне же дело представляется по-другому.
В «Раймонде» Колпакова получила в свое распоряже-
ние грандиозную сокровищницу классического танца.
Пять вариаций, коды, адажио, pas d’action и, наконец, вен-
герское grand pas, гениально поставленное Петипа, об-
разуют так же, как и в «Спящей красавице», величест-
венную симфонию, наполненную глубоким содержа-
нием. Но образный строй «Раймонды» другой. Если «Спя-
щая красавица» повествует о борении добра и зла, о все-
могуществе добра, о юности, едва расставшейся с дет-
ством, о неудержимом стремлении к счастью, то «Раймон-
да» воспевает юность, уже вошедшую в пору любви и тре-
петно раскрывающуюся ей навстречу, томимую неясны-
ми, смутными видениями, воспевает женственность, на-
чало ее расцвета. Ведь недаром сны Раймонды заполнены
видениями идеального рыцаря и страстного сарацинского
* Ленинградский балет сегодня. М.— Л., 1967, с. 105.
158
шейха, объятия которого пугают, но и волнуют ее. И не
так уж «небогат содержанием» сюжет «Раймонды», не так
уж «наивно искать в нем опору для образа», как это ут-
верждает В. Чистякова. Не случайно действие «Раймон-
ды» отнесено в средние века, для которых характерен
культ Прекрасной дамы, рыцарского преклонения перед
женственностью. Конечно, всего этого можно и не уви-
деть в «Раймонде» (как это делают многие и как это сде-
лала Л. Кунакова на спектакле 7 декабря 1983 года). Но
тогда стоит ли выходить на сцену и трудиться три акта.
Колпакова великолепно справилась с труднейшим
хореографическим текстом «Раймонды», еще раз под-
твердив свою репутацию точной классической танцов-
щицы. Но «Раймонда» обнаружила и границы дарования
балерины. Если мир детских сказочно-прозрачных эмо-
ций Авроры ей оказался близким и органично нашел свое
выражение в совершенной форме танца, то смутные, чув-
ственные томления расцветающей женственности оста-
лись чужды ей и на премьере и позднее, когда, казалось,
личный жизненный опыт, познанное счастье материнства,
могли бы преломиться в художественной сфере. Раймон-
да у Колпаковой навсегда осталась филигранно отделан-
ной, мастерски станцованной партией, но она лишена ду-
шевного тепла, подлинного чувства, а поэтому для меня
скучна и неинтересна. Не помню ни одного спектакля
«Раймонды» Колпаковой, чем-либо взволновавшего или
затронувшего меня.
Любопытно, что, говоря о «Раймонде» Колпаковой,
критики сравнивают ее танец с солирующим инструмен-
том оркестра, отмечают инструментальность ее дарова-
ния, распространяя это понятие не только на исполнение
данной партии, но и на весь склад ее артистической ин-
дивидуальности.
Но что такое инструментализм?
Когда великие итальянцы-композиторы Беллини, До-
ницетти, Россини давали возможность продемонстри-
ровать феноменальную технику не менее великим италь-
янским певицам, они заставляли их соревноваться с
флейтой и восхищенные слушатели внимали колорату-
рам, почти не отличимым в своем холодном блеске от пас-
сажей инструмента. Когда мы хотим подчеркнуть дос-
тоинства скрипача или виолончелиста, то говорим, что
звук его инструмента подобен человеческому голосу.
Когда Римский-Корсаков создавал таинственный, ска-
759
зочный, лишенный человеческого тепла образ Шемахан-
ской царицы, то своей цели он добился, насытив ее пар-
тию фиоритурами и трактуя голос в инструментальном
плане. Тот же прием использован в партии Царевны-Ле-
бедь, где в первой половине, до превращения птицы в че-
ловека, широко используются инструментальные приемы.
Вот и получается, что инструментализм — это великолеп-
ное, изощренное техническое мастерство, превосходящее
обычные возможности, но мастерство, лишенное тепла и
глубокого, взволнованного человеческого чувства. Что ж,
не так уж не правы оказались критики!
Не верно только, что «в русле инструментальности ле-
жала трактовка» партии Раймонды у Дудинской (М. Иль-
ичева) . При всем виртуозном мастерстве танец ее не был
холоден, правда, он воспевал не утро, а роскошный пол-
день женственности и властно требовал восхищения и
преклонения перед ней. Спектакли «Раймонды» с ее учас-
тием были праздничны и грандиозны. На моей памяти она
была лучшей Раймондой.
Три года—1957-й, 1959-й и 1961-й — в творческой
жизни Колпаковой надо признать особенно значитель-
ными. Это были годы выпуска премьер «Каменного цвет-
ка», «Берега надежды» и «Легенды о любви», годы интен-
сивных творческих поисков, расширения художествен-
ных горизонтов. Встреча с Юрием Григоровичем в работе
над «Каменным цветком» для Колпаковой оказалась тем
выигрышным лотерейным билетом, которого многие
тщетно ждут всю жизнь. Прекрасная классическая тан-
цовщица, исполняющая партии лирических героинь во
многих^Драмбалетах и не умеющая наполнить их скудный
хореографический материал теплом и трепетом подлин-
ной жизни, она, •возможно, так и осталась бы приятной,
но не очень интересной исполнительницей подобных пар-
тий. Возможно, и в классическом репертуаре ее исполне-
ние не пошло бы дальше добросовестной и педантичной
отделки каждого движения.
Если бы не эта встреча...
Полемизируя с эстетикой хореодрамы, опираясь на
симфонизм балетов Петипа, Григорович вновь сделал та-
нец главным, основным выразительным средством балет-
ного спектакля. Его хореография, оттолкнувшаяся от ху-
дожественного опыта Ф. Лопухова, К. Голейзовского и
современного западного хореографического языка, ока-
залась тем идеальным материалом, на почве которого
160
смогли проявиться лучшие качества Колпаковой. Дей-
ствительно, хореография Григоровича в «Каменном цвет-
ке» столь выразительна, так пластически чутко откли-
кается на изменения психологического состояния персо-
нажей, что уже одно ее точное воспроизведение создает
наглядную картину жизни духа героев балета. А Колпако-
ва прекрасно чувствует форму, ценит ее выразитель-
ность, умеет и любит добиваться ее идеального вопло-
щения. С другой стороны, симфонизм мышления Григо-
ровича, мера обобщенности его хореографического языка
не требуют от исполнителя подробной передачи всех еже-
секундно меняющихся нюансов переживаний персонажа,
в чем как раз Колпакова не сильна. Немаловажным об-
стоятельством оказалось и то, что впервые балерина ста-
ла участницей премьеры, где роль была задумана «на нее»
и создавалась при ее непосредственном участии, с уче-
том ее данных и возможностей.
Все это предопределило значительный успех Колпако-
вой в партии Катерины, успех, который был всеми заме-
чен и оценен. Именно в «Каменном цветке» Колпакова
впервые сумела соединить безупречность формы с образ-
ностью и содержательностью танца. (Партия Авроры в
ее исполнении обрела завершенность только после опыта
работы над Катериной и Ширин.) Правда, в образной
системе спектакля ее Катерина по своей значительности,
впечатляющему воздействию заметно уступала велико-
лепному Северьяну Анатолия Гридина и ошеломляющей
Хозяйке Медной горы Аллы Осипенко. И, если я позже
видел других исполнительниц партии Катерины, которые
не уступали Колпаковой, то лучшего Северьяна, чем
А. Гридин, а тем более лучшей Хозяйки, чем А. Осипенко,
мне увидеть на ленинградской, да и на московской сцене
не привелось.
Тем не менее Колпакова умно и искренне несла свою
тему в спектакле. Ее ясный, чистый облик, неизменно
правильная форма танца на этот раз не казались холод-
ными. Они теперь воспринимались как девичья застен-
чивость, скромность, внутреннее достоинство, не поз-
воляющее выплескивать сокровенное. Благородство фор-
мы, органично присущее классике, иконописный наклон
головы, положение прямых кистей рук говорили о благо-
родстве и цельности характера. Достоинство и цель-
ность, а не героизм и сила сопротивления помогали Кате-
рине — Колпаковой защитить себя от притязаний Се-
26/
верьяна. Ее статичная поза с серпом в руках запомнилась
именно благодаря этим краскам.
Возможно, если бы спектакль рассказывал о судьбе
реальной крестьянской девушки, то матовых, пастельных
красок, которыми пользовалась балерина, опять не хвати-
ло бы для лепки полнокровного образа. Но Григоровича
интересовал философско-поэтический аспект сказа, и это
предопределило «очищенность» образов от бытовых под-
робностей. Поэтому и образ, созданный Колпаковой,
оказался здесь так уместен — легкие, нежные краски
подчеркивали его духовность, светлую красоту, поэти-
ческую обобщенность.
В 1959 году состоялась премьера «Берега надежды».
Талантливый и откровенно полемичный спектакль произ-
вел сильное впечатление. Игорь Бельский и Юрий Сло-
нимский предложили неожиданное и чрезвычайно сме-
лое по тем временам решение современной темы — ро-
мантическую поэму, где реальность и поэтический вымы-
сел тесно переплетены, где силой своего чувства герои
преодолевают препятствия и расстояния. После унылого
правдоподобия некоторых драмбалетов, доходящего
иногда до анекдота (как это было в «Родных полях»), та-
кое решение давало простор танцу — образному, поэтич-
ному. Хореограф черпал материал для него из бытовых
движений, труда, спорта. Образ реющих над просторами
моря чаек метафорически сопоставлялся с свободными,
сильными и цельными в проявлении своих чувств людьми.
Воплощение обобщенных образов-символов этого спек-
такля требовало особой поэтики танца, особого стиля
исполнения. Надо сказать, что, несмотря на высокий про-
фессионализм — а героев танцевали А. Грибов и И. Кол-
пакова или А. Макаров и А. Осипенко,— никому из ис-
полнителей не удалось создать завершенный образ, ока-
заться на уровне замысла. Ближе всего к его постижению
оказался, пожалуй, А. Грибов. Запомнилась же, скорее,
в спектакле Г. Комлева — Потерявшая любимого, точно
почувствовавшая стиль хореографии и наполнившая ее
подлинным драматизмом. Правда, и задача ее была более
привычна и локальна.
Не буду останавливаться на том, почему не до конца
удался исполнителям центральный образ Рыбака, но что
касается партии Его любимой, то назначение на нее двух
столь различных индивидуальностей, какими являются
Осипенко и Колпакова, а затем постановочная работа с
162
ними заведомо обрекали Бельского на непреодолимые
трудности, так как согласовать возможности балерин
при создании партии вряд ли было возможно. И дейст-
вительно, в сценах первого акта («Здравствуй, родной
берег», «Песня дружбы», «Рыбак и Его любимая», «Про-
щание») Колпакова казалась слишком юной, почти де-
вочкой. Ей не хватало масштаба, размаха, а когда дело
доходило до сцены бури и исполнения вариации «На-
дежда», то и темперамента, драматизма. Казалось, что ее
героиня просто еще не доросла до способности испыты-
вать чувства, соответствующие фабуле спектакля. В этих
сценах убедительней была Осипенко. Но когда героиня
превращалась в чайку, то легкий, высокий, приобретаю-
щий стремительность прыжок Колпаковой делал свое де-
ло и танец наполнялся образным смыслом.
Если «Каменный цветок» обогатил эмоциональную
палитру Колпаковой и, казалось, раздвинул ее актерские
возможности, то «Берег надежды» напомнил снова, что
они имеют определенные пределы, которые переступать
балерине не следует.
«Берег надежды» не долго удерживался в репертуа-
ре, и, несмотря на возобновление в 1970 году, шел мало.
Теперь он уже стал забываться, но его находки нет-нет да
и мелькают в других спектаклях. Жаль, что театр не за-
хотел сохранить этот балет — серьезную, принципиаль-
ную свою удачу на пути освоения современной темы.
Но вот Ю. Григорович начал ставить «Легенду о люб-
ви», спектакль, в котором Колпаковой суждено было соз-
дать свою вершинную, лучшую партию — царевну Ши-
рин. Появление «Легенды о любви» вызвало бурю. Пра-
воверные балетоманы шипели: это не танцы, а гимнасти-
ка. Н. Дудинская заявила, что если бы ее даже умоляли
станцевать подобный ужас, она все равно бы отказалась.
В руководстве возникла серьезная дискуссия о нравст-
венности и допустимости на академической сцене испол-
нения шпагата балериной, которую держат вниз головой.
Сергеев давил — Григорович сопротивлялся. На несколь-
ких спектаклях дуэт Мехменэ Бану и Ферхада шел все-
таки в откорректированном виде. Словом, страсти кипели.
Я же принял этот спектакль сразу восторженно и безо-
говорочно и до сих пор считаю, что «Легенда о любви» —
это вершина хореографического (именно хореографи-
ческого) творчества Григоровича. Позднее он поставил
еще блистательного «Спартака» и много других прекрас-
163
ных балетов (увы, уже на московской сцене!). Но при
всей стройности их замысла, при всем мастерстве поста-
новщика, при всех ярчайших актерских удачах, они не
смогли сравниться выразительностью и эмоциональ-
ностью хореографии с «Легендой о любви». Григорович
создал изумительный, глубокий и неоднозначный спек-
такль, полный волнующих открытий и находок, и среди
исполнителей, блистательно воплотивших его замысел,
Колпакова по праву занимает одно из центральных мест.
Хотя Ширин с первых же минут спектакля находится
на сцене — сначала неподвижная на смертном ложе, а за-
тем движущаяся почти автоматически, повинуясь воле
Незнакомца,— роль ее, по существу, начинается после
окончания сцены колдовства. Глухо и тревожно звучит
оркестр, замирает мерное, неотвратимое в своей моно-
тонности его движение, сгущается мрак, лежит повер-
женная Мехменэ Бану, в таинственной глубине сцены ис-
чезает обессиленный, распластывающийся по земле
серый человек. Неподвижная, скрытая волнами покрыва-
ла, стоит Ширин. На мгновение все замирает, а затем,
стоя на пальцах, мягким округлым движением Ширин от-
водит вверх покрывало, подымая лицо навстречу розово-
му лучу. Это одно из ярких мгновений спектакля. Колпа-
кова проводит его мастерски; тонкая, тянущаяся к солнцу
фигурка, спокойное, гармоничное движение рук, по-
дымающих покрывало, светлая улыбка, широко открытые
глаза — все наполнено спокойствием и безмятежностью
счастливой, цветущей юности, не ведающей горя и утрат.
И в следующее мгновение удар: в смятении отпрянула
Ширин от страшного, незнакомого лица сестры и засты-
ла, пораженная ужасом случившегося. Это всего мгнове-
ние, но за это мгновение пластика Колпаковой успевает
измениться — гармония ломается и рассыпается. Так в
считанные секунды сценического времени дается экспо-
зиция образа. Может показаться, что для подобной экс-
позиции достаточно соответствующих внешних данных.
Это не так. Второй исполнительницей партии Ширин в
премьерных спектаклях была Э. Минчонок. Ее данные
еще более соответствовали задуманному хореографом
образу, и на первых спектаклях ее исполнение было, по-
жалуй, предпочтительнее. Но со временем положение из-
менилось: Минчонок осталась на уровне премьерных
спектаклей, а Колпакова на каждом последующем делала,
может быть, и небольшой, но шаг вперед.
164
Следующий раз Ширин появляется на гребне кульми-
нации балетного действия — Мехменэ Бану вместе с
сестрой, сопровождаемые огромной свитой, пришли ос-
мотреть новый дворец для Ширин. Гремит музыка шест-
вия, вся сцена заполняется воинами и придворными,
вдоль рампы с разных сторон, защищаемые от палящего
солнца зонтами, шествуют Мехменэ Бану и Ширин. В
центре неожиданно появляется Ферхад. В этот момент
Григорович впервые использует прием, теперь ставший
привычным, а тогда, в 1961 году, производивший потря-
сающее впечатление. Герои встретились. Сцена погру-
жается в темноту. Звучит далекая музыка, идущая не из
оркестра, а из глубины закулисного пространства. Вре-
мя останавливается, и в лучах прожекторов движутся,
отгороженные от всего мира, три одинокие фигуры. Каж-
дый погружен в мир своих чувств. Вот потянулись к Фер-
хаду руки Мехменэ Бану, затрепетали в смятении кисти
Ширин... Но миг кончается. Визирь отталкивает попав-
шегося на пути юношу, и шествие продолжается.
Надо сказать, что это трио (как и два других в сле-
дующих актах), являющееся блистательной находкой
Григоровича, вскоре после премьеры утратило ансамбле-
вость исполнения, и, хотя Колпакова всегда танцевала
его безукоризненно, это не спасало положения. Трудный
счет, звучание музыки за сценой, индивидуализация хо-
реографического текста каждого персонажа сделали свое
дело, а для сохранения ансамбля, очевидно, не хватало
репетиционного времени, а может быть, и понимания
его необходимости.
Но наконец наступает знакомство Ферхада и Ширин.
Приложив палец к губам, застыла на ступенях дворца
стройная, точеная фигурка Ширин. Хореография шуточ-
ного танца вырастает у Григоровича из известной восточ-
ной метафоры девушка — газель. Два перышка в голов-
ном уборе — рожки, остро втыкающиеся в пол пуанты —
копытца, резко согнутые в локтях руки с затейливо сгруп-
пированными пальцами, направленными на Ферхада,—
задорные наскоки расшалившегося зверька, прыжок с
сильно согнутыми ногами — скок козочки. Чеканность
формы, легкость и полетность, какая-то особая звон-
кость движений — все это создает капризный и очаро-
вательный образ юной принцессы-газели. Но у Колпако-
вой в танце присутствует второй, не менее важный план:
хрустальная чистота линий и звонкость рисунка исполне-
165
ны трепета и изумления души, охваченной внезапным, с
такой силой нахлынувшим чувством. Поэтому так логич-
но, естественно игра переходит в лирическое высказы-
вание — первое адажио Ферхада и Ширин. Встретившись
глазами, застыв в изумлении друг перед другом, с паль-
цем, прижатым к губам, они не в силах больше таить ох-
ватившее их волнение. Но целомудрие помыслов,
тревожная настороженность не дают им приблизиться,
коснуться хоть на мгновение друг друга. Так и идет это
огромное адажио без единой поддержки, без единого ка-
сания партнера. С удивительной чуткостью передает Кол-
пакова душевное состояние своей героини. Распрямляют-
ся грациозно сгруппированные пальцы, мелко дрожат
кисти рук, защищающие глаза от ослепительного лика
возлюбленного, мерцание дрожащих жемчужинок костю-
ма, кажется, вторит им. Когда же огромность чувства де-
лается непосильной, танец на мгновение прерывается и
влюбленные в изнеможении распластываются на земле, а
затем, вновь обретя силы, возносят к небу сложенные как
чаша руки, бережно и самозабвенно, как будто чаша на-
полнена до краев их чувством, ни одной капли которого
они не хотят расплескать, как будто в руках трепещут их
обнаженные, любящие сердца. Это момент признания,
клятвы...
Как часто я потом видел в этом адажио исполнитель-
ниц, которые использовали мгновения неподвижности
для передышки и приведения в порядок дыхания, как
часто затем они бездумно и формально складывали руки
чашей и поднимали их вверх. У Колпаковой это была
кульминация дуэта, момент наивысшей выразительности.
А затем наступает прощание. Отдаляясь от возлюб-
ленного, Ширин несколько раз делает арабеск на plie и в
этот момент руки плавным движением разводятся от гру-
ди в стороны; они как бы ласкают Ферхада, прощаются с
ним, заклинают. Лицо Колпаковой при этом строго и да-
же чуть печально — ее Ширин потрясена величием и бес-
предельностью открывшегося ей чувства.
Второй акт. Он включает в себя два центральных
фрагмента партии Ширин — ночную встречу с Ферхадом
и погоню. Сцена в покоях Ширин построена на контрасте
с предыдущей. Царицу Мехменэ Бану окружают горбатые
шуты, чувственные придворные танцовщицы, все погру-
жено в черные и багряно-горячечные тона. У Ширин все
по-другому. Перламутровым блеском отливают белые с
166
черными горошинами костюмы подруг Ширин (в театре
их, не без озорства, называют «ширинками»). Танец их
чист и целомудрен: наклоны головы, изысканная позиров-
ка рук и вторящий Ширин рисунок пальцев придают ему
гармонию и покой. Сама Ширин Колпаковой излучает
ровный свет глубокого счастья. Она ждет Ферхада, но в
ее ожидании нет нетерпения, беспокойства, тревоги. Са-
мо ожидание любимого — счастье. Вариация Ширин
полна этим счастливым покоем. В ней есть все — и де-
вичья грация, и изысканность восточного рисунка, и свет-
лая, трепетная радость. Формы танца Колпаковой от-
точены и прозрачны, все тщательно отделано, но движе-
ния свободны и вместе с тем мудро экономны. Ничего
лишнего, случайного. Гармония движения рождает ощу-
щение гармонии чувств. Но вот кончилась вариация, и
легким наклоном головы Ширин прощается и отпускает
подруг.
Настала ночь, появляется Ферхад. Неудержимо тя-
нутся руки влюбленных, и наконец впервые они касаются
друг друга. Начинается дуэт. Быть может, за всю свою
более чем тридцатилетнюю деятельность Колпакова не
создала ничего лучшего, чем это адажио. Нет, конечно, и
во многих других балетах она танцевала прекрасно, но
нигде, ни разу ее танец не был так вдохновенен, так эмо-
ционален, не был исполнен таким глубоким и сильным
чувством. Соединившись, Ферхад и Ширин уже больше
ни на мгновение не расходятся, и все адажио представля-
ет собой цепь сложных, изумительных по красоте и выра-
зительности поддержек, в которых Ширин приникает к
Ферхаду, обвивается вокруг него, послушно повинуется
его рукам. Дуэт повествует о самых прекрасных и интим-
ных мгновениях любовного единения. Но в исполнении
Колпаковой звучание адажио отнюдь не однозначно, оно
наполнено сложной, противоречивой гаммой чувств. Ее
чувственность не экстатична, напротив, сдержанна и
стыдлива, она вся во власти Ферхада и несколько отстра-
нена от него, она переживает минуты наивысшего
счастья, но на этих мгновениях лежит тень тревоги. Кол-
пакова буквальной всех исполнителей претворила в
жизнь требование Григоровича не прибегать к мимике,
ничего не играть, а целиком довериться выразительности
пластического рисунка. Лицо ее почти неподвижно, глаза
опущены, но неподвижность этого лица вдруг заставляет
вспомнить трагическую маску. -
167
Формально, по сюжету спектакля, Ширин может не
знать о страсти к Ферхаду, охватившей ее сестру. Ее ре-
шение бежать с любимым можно объяснить их социаль-
ным неравенством, которое не позволит им соединиться.
Но весь образный строй адажио в исполнении Колпако-
вой говорит о другом: каждым прикосновением, каждой
лаской она предает сестру, которой обязана жизнью, но
противиться силе охватившего ее чувства она также не в
состоянии. Вот почему лицо ее скорбно, а в страстных
объятиях все время ощущается привкус горечи. Особен-
но явственно это чувство возникает в момент возврата к
первой теме адажио, когда вслед за музыкой начинается
повторение всего хореографического рисунка. Сама трех-
частность построения дуэта, в чистой форме (без разви-
тия) применяемая в балетной практике крайне редко,
создает здесь ощущение замкнутости, безысходности, не-
разрешимости туго завязанного узла человеческих судеб.
Этого поразительного художественного эффекта
Колпакова добивается прежде всего безукоризненностью
формы хореографического рисунка, свободой исполне-
ния трудного материала. Но, конечно, дело здесь не толь-
ко в форме. Она соединяется с глубокой продуманностью
и эмоциональностью исполнения, в котором непостижимо
уживаются распахнутость, обнаженность чувства со сдер-
жанностью, отстраненностью. Не следует забывать, что
балерина — создательница этого образа, именно в расче-
те на ее индивидуальные возможности и под их влиянием
складывался образ. Это, безусловно, определило «эмоци-
ональный тонус» партии. Нигде хореограф не потребовал
от исполнительницы всплеска открытого темперамента,
нигде в партии нет прямолинейного, бурного проявления
чувства. Именно эта мудрая сдержанность, созвучная
исполнительским качествам Колпаковой, определила ее
успех. Выразительная хореография, высочайший профес-
сионализм, благородство манеры исполнения, сдержан-
ность эмоционального высказывания, органично соче-
таясь, создали этот изумительный эффект: жаркий пла-
мень чувств, охвативших Ширин, зритель видит словно
сквозь пепел невольного ее предательства.
Казалось бы, мера эмоционального воздействия это-
го дуэта, хореография которого все время тесно сплетает
исполнителей, в большой степени зависит от партнера.
Колпакова танцевала «Легенду о любви» с А. Грибовым,
Ю. Соловьевым, Е. Щербаковым, В. Будариным (не пом-
168
ню — во всяком случае, я не видел — сводил ли ее слу-
чай с И. Уксусниковым и другими исполнителями). Все
они обладали высоким мастерством дуэтного танца, но
мера их одаренности и творческие индивидуальности
были очень различны. Тем не менее в этом адажио Колпа-
кова с любым партнером добивалась высочайшей выра-
зительности и силы воздействия. Возможно, ее сценичес-
кое самочувствие было различным, но на уровень испол-
нения это практически не влияло. Думаю, подобное гово-
рит не только о мастерстве балерины, но и свидетель-
ствует о некоторой эмоциональной разобщенности Фер-
хада и Ширин, между которыми даже в эти минуты стоит
тень Мехменэ Бану. Другое дело, что лучшим Ферха-
дом из всех исполнителей был А. Грибов, и спектакли с
его участием производили более сильное впечатление.
Кончается адажио, и Ширин, стоя в арабеске, обни-
мает Ферхада и затихает, приникая к его запрокинутой
груди. Наступает мгновение покоя. Но только мгновение,
которое сменяется вихрем погони. Несмотря на нали-
чие изобразительных моментов, Григорович ставит не
процесс погони, но воплощает чувства ее участников, соз-
давая при этом «образ» напряженной, стремительной по-
гони. Мчатся в разные стороны всадники, яростно нап-
равляет их только что жестоко отвергнутый Визирь, обе-
зумевшая от ревности царица, собрав всю волю, возглав-
ляет преследование. В потоке движения пронзительной
нотой звучат высокие, рвущиеся вдаль, стремительные
прыжки Колпаковой, которыми она пересекает вместе
с Ферхадом пространство сцены. Это последний порыв к
счастью, к свободе, потому что следующая цепь прыжков
по кругу в своей замкнутости уже несет печать отчаяния и
неизбежного пленения. И вдруг стремительный бег пре-
рывается, все застывает. Время останавливается, снова
возникает выхваченный из мрака треугольник, по главе
которого на этот раз Мехменэ Бану.
Вариация, дуэт с Ферхадом и погоня — лучшие стра-
ницы роли Ширин в исполнении Колпаковой. По силе
выразительности, эмоциональной насыщенности они,
пожалуй, самое сильное, что ей вообще удалось создать
на сцене.
В последнем акте Ширин возникает в видениях Фер-
хада, для которого память о ней, ее образ уже сливается с
мечтой о воле. В этом дуэте танец Колпаковой красив,
строг и холодноват, чего, собственно, и требует сценичес-
169
кая ситуация. Последний же раз Ширин появляется в фи-
нальной картине, где она навсегда прощается с Ферхадом.
Казалось бы, здесь должен быть трагический взлет роли,
на котором мог бы оборваться спектакль. Но этого не
происходит. Замысел Григоровича иной — живые люди,
их страсти, любовь, горе, муки отдаляются от нас. Всту-
пает в права философский эпос. Поэтому последняя сце-
на у Колпаковой проникнута сознанием неизбежности
разлуки. Она молит, зовет Ферхада с собой, но внутренне
уже смирилась, ее порыв теперь лишен активности, во-
ли, убедительной силы чувств. Смирилась и опустошен-
ная терзаниями, уставшая страдать Мехменэ Бану. Ни та,
ни другая ничего больше не могут сделать, ни на что не
смеют надеяться... Поникшие, в зыбком pas de bourree ис-
чезают обе сестры за страницами древней книги. Их по-
глощают время, мгла, теряется нить человеческой судь-
бы, остается легенда.
Созданная в 1961 году, на десятом году творческой
деятельности, партия Ширин стала вершиной исполни-
тельского искусства Колпаковой. Как и Осипенко, Ва-
сильеву, Лиепе, Гридину Григорович подарил Колпаковой
ее лучшую роль. Но и она щедро откликнулась на его дар,
оставаясь до сих пор непревзойденной Ширин этого изу-
мительного, воистину гениального спектакля.
После премьеры «Легенды о любви» прошло двадцать
два года, и трудно поверить, что за все это время признан-
ной прима-балерине театра довелось станцевать еще
только в одной заметной премьере — «Сотворение мира».
Нет, она не сидела без работы: сделала партии Джульет-
ты, Раймонды, которые остались в ее репертуаре, пробо-
вала исполнять Китри, Девицу-Красу в «Стране чудес»,
Сюимбике в «Шурале», репетировала «Лебединое озеро».
Мимолетно промелькнули на сцене театра балеты «Икар»,
«Тиль Уленшпигель», «Фея Рондских гор», в премьерах
которых была занята Колпакова. Несколько одноактных
балетов и концертных номеров, за исключением «Па-де-
катра», не задержались в ее репертуаре. Роль Натали в
«Пушкине» при всем профессионализме исполнения то-
же не сделалась событием в ее творческой биографии.
Только в 1981 году Колпакова наконец получила соответ-
ствующий ее дарованию материал — «Сильфиду». Но это
свершилось уже слишком поздно, когда, в сущности, при-
шло время подводить итоги.
Итоги же эти в сопоставлении с ослепительностью
170
официального статуса Колпаковой несколько удивляют,
побуждают задуматься, будоражат, требуют осознания и
объяснения.
Итак, на чашу весов творческих достижений Колпа-
ковой прежде всего следует положить великолепный,
ювелирно отточенный академический стиль танца, за-
служенно создавший ей славу хранительницы традиций
вагановской школы. Уже одного этого, несомненно, дос-
таточно, чтобы вписать ее имя в анналы балета. Сюда же
добавим непревзойденное исполнение партии царевны
Ширин, безупречную, выдающуюся по своему совершен-
ству интерпретацию роли принцессы Авроры, убеждаю-
щие своим мастерством и продуманностью работы в «Ка-
менном цветке», «Жизели», «Сильфиде» (о двух послед-
них скажу несколько ниже). А далее следует длинный
список партий, не поднятых вдохновением над уровнем,
хотя и высокого, умного, но все же прозаического про-
фессионализма. Объяснение этому необходимо искать не
только в особенности, но и в условиях развития дарова-
ния балерины.
Безусловно, самой выразительной краской в артисти-
ческой палитре Колпаковой был и остается классический
танец. Только в его стихии она чувствует себя легко и
привольно, только в нем может найти материал для лепки
образа. Если же решение спектакля лишает ее разверну-
тых хореографических построений, то Колпакова
оказывается бессильной. Именно этим обстоятельством
следует объяснить ее скучную корректность в ролях
балетных хореодрам («Бахчисарайский фонтан», «Тарас
Бульба», «Отелло», «Маскарад», «Красный мак»), на ис-
полнение которых у Колпаковой ушел не один год
артистической жизни. Может показаться, что признание
этого факта, по существу, является признанием отсутст-
вия у балерины артистизма, сценического темперамента.
Но это не совсем так. Перечисленные качества присутст-
вуют в даровании Колпаковой, но имеют точно очерчен-
ные границы, попытка расширить которые, как правило,
не приносила ей успеха. Более всего органичен для Кол-
паковой мир ранней юности с ее лучезарными чувствами,
с ее мечтательностью и хрустальной чистотой, незамут-
ненностью восприятия. Зрелые, глубокие женские эмо-
ции, чувственность, страстная любовь, трагическое вос-
приятие действительности в открытом его проявлении не
свойственны ее героиням. Можно утверждать, что
171
артистическому облику Колпаковой присущ своеобраз-
ный эмоциональный инфантилизм, и если образ так или
иначе вписывается в его рамки, то он начинает жить на
сцене полнокровной жизнью (но только при наличии
выразительного хореографического материала). Свиде-
тельство тому — успех балерины в «Спящей красавице»,
первых сценах «Ромео и Джульетты», которые являются
лучшими в ее исполнении, и особенно роль Евы в «Сотво-
рении мира». В этой партии наиболее заразительными,
впечатляющими оказались именно первые, «детские»
сцены в раю, полные неожиданного юмора и лукавства; но
по мере «взросления» героини сила выражения чувств
блекнет, а в сцене мировой катастрофы (дуэт под серой
пеленой) эмоциональность и вовсе исчезает, уступая
место абстрактной игре точно выверенными формами.
Легко укладывается в русло «детских» эмоций и, думаю,
этим же объясняется выразительность Колпаковой в ми-
ниатюре Л. Якобсона «Снегурочка», поставленной на
музыку двух «Мимолетностей» Прокофьева, а также
заметный ее успех в одной из последних работ — «Силь-
фиде». В этом балете инфантилизм и наивность чувств
определяют внутренний строй героини. Сейчас, глядя на
сцену, можно только догадываться, каким блестящим и
безусловным был бы успех спектакля, довелись Колпа-
ковой исполнить его в расцвете своих возможностей. Но
даже теперь, когда время внесло коррективы, ее органич-
ное, продуманное во всех мелочах и искреннее испол-
нение партии Сильфиды доставляет истинное удовольст-
вие и остается в памяти.
Менее заметна, на первый взгляд, связь с кругом «дет-
ских» чувств в роли Жизели. Мы сами не допускаем тако-
го сближения — слишком много у нас на памяти Жизе-
лей трагических, романтических, скорбных... Слишком
много мы наблюдали в этом балете отнюдь не детских
эмоций. Тем не менее Колпакова решает образ именно
так. Ее Жизель в первых сценах простодушна, естествен-
на и незамутненно гармонична. Обман для нее горе, но не
крушение; с его раскрытием мир не рушится, доставляя
тем самым нестерпимую боль. Права М. Ильичева, что
«Колпакова играет не безумие, а уход от реальности». Та-
кое решение не требует сильных, трагедийных красок. Да
Жизель Колпаковой и не переживает трагедии. Она как
бы укрывается от трагической правды в своем внутрен-
нем, бесхитростном мире. Вот почему сцена безумия Жи-
172
зели в исполнении Колпаковой всегда интересна разра-
боткой партитуры переживаний, умным, строгим и точ-
ным рисунком, но никогда глубоко не трогает, не зас-
тавляет сжаться сердце, не погружает зал в глубокую,
напряженную тишину. Когда же наступает второй акт
и послушная магической силе Мирты Жизель поднимает-
ся из могилы, в права вступает отшлифованный танец
Колпаковой, холодноватая академическая безупреч-
ность которого здесь легко ассоциируется с холодом
потустороннего мира, а легкость и прозрачность с бесте-
лесностью тени. Но и здесь в ее Жизели нет ничего
зыбкого, волшебного, гравюрно-романтического. Она
проста, естественна и просветленно спокойна.
Колпакова танцевала и танцует «Жизель» много и
охотно, балет прочно утвердился в ее репертуаре. Я видел
ее на протяжении более чем двадцати лет с различными
партнерами: С. Викуловым, В. Семеновым, Ю. Соловье-
вым, М. Барышниковым, В. Васильевым. Ее выступления
доставляли удовольствие уравновешенным, выверенным
мастерством исполнения, не требуя душевных затрат. Но
однажды на спектакле Колпаковой я испытал подлинное
потрясение. Это было давно, где-то в сезоне 1959/60 го-
да, когда ее партнером оказался Р. Нуреев. Талантли-
вость и исключительная пластическая одаренность Ну-
реева была оценена сразу, и спектакли с его участием вы-
зывали большой интерес. Партия Альберта (как и все, что
он тогда танцевал) еще далека была от совершенства и
законченности, но смелый, иногда дерзкий поиск, разру-
шающий незыблемо-каноническую трактовку К. Сергее-
ва, волновал. Альберт Нуреева был импульсивен, не-
посредственен в первом акте и трагичен во втором. Спек-
такль шел на подъеме, впечатление было сильным, но
никто не ждал, что в конце его произойдет чудо. Началась
кода. Послушный инфернальной силе Альберт — Нуреев
в заносках был стремителен, покоряюще легок. Появи-
лась Жизель — Колпакова. И вдруг в арабеске совершен-
но невесомо она полетела вдоль рампы. Впечатление бы-
ло ошеломляющее. Казалось, что Жизель все время па-
рит в воздухе, а ее мимолетные касания носком ноги по-
ла вовсе не техническая необходимость, а эфемерные
перелеты мотылька от травинки к травинке. Сзади за бе-
лым облаком длинного тюника мелькали бегущие ноги
Нуреева, который нес, почти не опуская на планшет сце-
ны, балерину. Складывалось впечатление, что Альберт бе-
173
жит, чтобы догнать ускользающую от него в быстром по-
лете Жизель. Все произошло так неожиданно, было так
прекрасно и впечатляюще, что, несмотря на мимолет-
ность, почти мгновенность происходящего, запомнилось
навсегда. Это было одно из мгновений, ради которых
стоит ходить в театр.
Только потом, вспоминая виденное, я в общих чер-
тах понял, как добился этого фантастического эффекта
Нуреев. Он все время бежал, неся партнершу вперед, и
поступательность движения создавала его бег, а не ее
толчки ногой от земли. Колпакова поэтому все время
отталкивалась от земли, уходящей из-под ее ноги назад.
Это лишало толчок определенности, материальности,
создавало иллюзию парения, полета. Мне показалось,
что, не поддерживая, а почти неся Жизель вдоль сцены,
Нуреев в момент опускания ее на пол все же расслаблял
на мгновение руки, но делал это так мягко и пластично, на
одном дыхании с музыкой, что ощущение полета не исче-
зало ни на секунду. Но разве можно требовать от меня
исчерпывающего объяснения приема, если, очевидно, са-
ма Колпакова не до конца поняла его механизм. Иначе
она обязательно повторила бы этот полет с кем-нибудь
из своих постоянных партнеров. Но больше никогда ни у
нее, ни у других исполнительниц я такого не видел.
Одиннадцатого ноября 1983 года пятидесятилетняя
балерина снова танцевала «Жизель». Проблема возраста
в балете сложна и решается по-всякому. Естественно,
что время поставило перед Колпаковой этот вопрос, и
можно восхищаться тому, с каким тактом, умом и пони-
манием своих возможностей она его решает.
Внешность Колпаковой оказалась благодарной, и
если в жизни время заострило ее черты и подчас в них
проявляется что-то жесткое, то на сцене ее лицо так же
гладко и спокойно, так же доверчиво и широко открыты
глаза, которыми ее Жизель взирает на мир, так же чист и
светел ее облик. Рисунок танца по-прежнему прозрачен и
ясен, так же легок и воздушен, но в жертву этой легкости
принесено многое — весь рисунок партии строится те-
перь на полупозах и полупрыжках, темпы сдвигаются и
меняются даже в течение одной вариации. Но все, что
задумано, выполнено легко, точно, и за весь спектакль не
допускается ни одной помарки. Подкупают мастерство,
интеллигентность и такт, с которыми Колпакова ведет
спектакль. Все естественно, непринужденно, и только
174
один раз за весь спектакль жесткая конструкция про-
думанности и тщательной проработки обнаружила себя:
зазевавшаяся Батильда опоздала обернуться и по-
смотреть на Жизель, ласкающую бархат ее платья, но
тем не менее Колпакова отпрянула от нее точно в срок,
хотя музыка здесь позволяет задержаться и сделать это
как ответную реакцию на движение Батильды. Что же,
мастерство и профессионализм меня всегда подкупали, и
по-прежнему на Жизель Колпаковой я смотрел с интере-
сом, но по-прежнему без волнения. Впрочем, это не сов-
сем точно. Самые бурные, но отнюдь не приятные эмоции
на спектакле вызывал Альберт — С. Бережной. Чем
обусловлено решение Колпаковой сделать его своим по-
стоянным партнером — для меня загадка. Рациональ-
ных доводов в пользу такого выбора я не нахожу...
Но вернемся к творческим возможностям Колпако-
вой.
Мысль об эмоциональном инфантилизме ее героинь
меркнет и вроде бы делается неубедительной при вос-
поминании о «Легенде о любви». Ведь героев этого бале-
та волнуют совсем не детские чувства. Но не будем торо-
питься. Так ли далека от этой сферы партия Ширин? Шу-
точный танец, первый дуэт и вариация второго акта це-
ликом укладываются в это русло. Видение Ширин («Во-
да») в третьем акте подчеркнуто неэмоционально: это уже
теряющее ясность воспоминание Ферхада о возлюблен-
ной. Остаются центральный дуэт второго акта, погоня и
прощание с Ферхадом. Но именно они, выводящие об-
раз в сферу трагедии, поставлены хореографом так, что
не требуют от исполнительницы прямых, открытых траги-
ческих эмоций. Теперь трудно сказать, входило ли это в
замысел изначально, либо решение было трансформиро-
вано с расчетом на возможности Колпаковой и под их
воздействием. Но независимо от этого результат оказал-
ся прекрасным.
Колпакова, пожалуй, как никто из современных ле-
нинградских балерин понимает свои возможности и не
переступает их границ. После нескольких выступлений
она отказалась от партии Китри, требующей ярких кра-
сок и темперамента. Может быть, она поторопилась, в
спектакле были удачные моменты, но Колпакова не за-
хотела мириться с полууспехом. Не пошла дальше акта
«Теней» попытка освоить «Баядерку». Нескольких репе-
тиций хватило на то, чтобы отказаться от «Лебединого
175
озера». Такое самоограничение вызывает уважение, оно
особенно выигрывает на фоне «Жизели» Н. Кургапкиной
или «Лебединого озера», «Легенды о любви» и «Камен-
ного цветка» Г. Комлевой.
Однако невольно задумываешься над тем, какой, в
сущности, узкий репертуар предоставил Кировский театр
своей прима-балерине. Мимо Колпаковой (да и не только
нее) прошел огромный пласт современного хореографи-
ческого искусства — бессюжетный балет. А ведь, воз-
можно, именно в балетах типа «Хрустального дворца»
она со своим великолепным мастерством могла наиболее
полно раскрыть сущность своего дарования. Правда, не-
многочисленные попытки в этой сфере («Блестящий
дивертисмент» Глинки в постановке Б. Эйфмана, «Дивер-
тисмент» Моцарта и «Концерт» Вивальди, поставленные
Г. Алексидзе) не стали заметными ее работами. Но не
приходится делать вывод на основании эпизодических
работ, где к тому же хореографическое прочтение му-
зыки не поднималось выше добротной профессиональ-
ности.
До обидного мало довелось Колпаковой принимать
участие в создании художественно значительных спек-
таклей. За тридцать три года работы их оказалось всего
четыре (если кроме балетов Григоровича причислить сю-
да «Берег надежды» и «Сотворение мира»). Это характер-
но для артистов ее поколения; лишь немногим, даже
очень одаренным из них, удалось вполне раскрыть свои
возможности, работая в 60—80-е годы в труппе Киров-
ского театра.
На рассматриваемую ситуацию можно, правда, при
некоторой доле недоброжелательности взглянуть и по-
другому: «прима-бадерина ассолюта» не в состоянии ох-
ватить весь репертуар, который ей предлагает театр. Дей-
ствительно, здесь есть какая-то двойственность: некото-
рое ощущение несоответствия между официальным ста-
тусом Колпаковой и ее сценической деятельностью. Но
если подумать, то универсальных балерин в истории бале-
та было вообще не так уж много, и, независимо от от-
ношения к Колпаковой, невозможно не признать, что она
крупный мастер хореографического искусства и в качест-
ве такового занимает свое, присущее только ей место в
этой истории. Она оказалась центральной фигурой ленин-
градского балета периода безвременья.
Колпакова пришла в театр в 1951 году, когда твор-
176
ческий взлет хореодрамы уже был на исходе и привле-
кательность ее идей для многих померкла. Но исполни-
тельское мастерство блистательных мастеров старшего
поколения еще было в расцвете. Их технический блеск и
отточенная опытом работы над хореодрамой выразитель-
ность, покоряющая сила индивидуальностей восхищали,
не позволяя разглядеть признаки быстро надвигающе-
гося кризиса. Но, по существу, театр уже жил старыми
запасами, возобновляя и редактируя спектакли прош-
лого. После «Золушки» (1946) за целое десятилетие до
появления первого балета Григоровича «Каменный цве-
ток» (1957) были созданы только два оставивших замет-
ный след в истории театра спектакля — «Шурале» (1950)
и «Спартак» (1956), оба связанные с именем Л. Якобсона.
Эти годы для Колпаковой были временем освоения
профессионального мастерства, работы над классичес-
ким репертуаром, и начавшийся застой никак еще не от-
разился на ее творческой судьбе. Затем наступил корот-
кий ренессанс. Под натиском новых идей, сметая окос-
теневшие каноны драмбалета, на сцену возвращается
танец в высшем своем проявлении — хореографическом
симфонизме. Колпакова — участница всех трех памят-
ных премьер. Это ее золотой век. За четыре года из добро-
совестной ученицы она превращается в зрелого мастера,
создает вершинную свою роль — Ширин. В общении с
Григоровичем и Бельским она получает творческий заряд
на долгие годы, энергии которого затем хватит на пере-
смотр партий классического репертуара.
Но Григорович и Бельский вынуждены уйти из стен
родного театра, а художественным руководителем балета
вторично, на долгие десять лет становится Сергеев. Он де-
лает все, чтобы вернуть театр к старому. Начинается пора
возобновлений, спектаклей-однодневок, пора безвре-
менья. В Большом театре Григорович ставит «Щелкунчи-
ка» (1966), Кировский театр предпочитает опус Захарова
«В порт вошла «Россия» (1964). Бельский в Малом опер-
ном театре создает озорного «Конька-Горбунка», а Ки-
ровский, «сохраняя классическое наследие», вспоминает
архаичного «Конька-Горбунка» Сен-Леона и Горского
(оба в 1963 году). В 1968 году на сцене Большого театра
появляется «Спартак» Григоровича, а в 1970 году Киров-
ский театр отдает свою сцену «Гамлету» Сергеева, в ко-
тором тот делает отчаянную, но не слишком успешную
попытку догнать время. Полоса спада затягивается, но
177
замечать этого руководство театра не желает. Гордый
своей славой прошлых лет, когда балеты, создаваемые
на его сцене, переносились затем в Большой театр и дру-
гие театры страны, Кировский глух к успехам других.
Любопытно, что только в 1978 году (уже в период руко-
водства О. Виноградова) он впервые решился на перенос
чужого спектакля: в репертуаре появляется «Собор Па-
рижской богоматери» М. Жарра и Р. Пети. Понадобилось
13 лет, чтобы убедиться в художественных достоинствах
этого балета, поставленного на сцене Парижской Оперы
в 1965 году. В свое время, в эпоху дилижансов, путь от
Парижа до Петербурга «Жизель» проделала за один год
(премьера в Париже—1841 год, в Петербурге—1842
год).
Конечно, за долгие годы творческого спада не все бы-
ло безнадежно уныло. Оживленные споры и интерес всег-
да вызывали постановки Л. Якобсона, блестящее дарова-
ние которого так и не смогло до конца проявить себя в
стенах Кировского театра. Были и другие частные удачи,
но создать спектакль, равный по своему художествен-
ному совершенству и новаторству «Ромео и Джульетте»
или «Легенде о любви», театр уже не смог. Слишком глу-
боким и длительным стал охвативший его кризис. Теперь
театр мог гордиться только исполнительским искусством.
Застой, отсутствие ясной концепции развития, зна-
чительных новых работ пагубно сказывается на состоя-
нии труппы. Она недовольна, ропщет. Колпакова сама
принимает участие в «бунте балерин». Первого апреля
1962 года в «Известиях» появляется уже упомянутая
статья «Мужество таланта», под которой в числе прочих
стоит подпись Колпаковой. Звучат горькие упреки:
«...для того чтобы .сохранить свое исключительное по-
ложение первых танцовщиков, К. Сергеев и Н. Дудинская
вольно или невольно мешали новому поколению артистов
сравняться с ними», «... не хотим превратиться в труппу
К. Сергеева и Н. Дудинской...». Балерины напоминают,
что деятельность Сергеева на посту главного балетмей-
стера в 1951 —1955 годах уже заводила театр в тупик,
а когда в 1955 году Сергеева отстранили, «театр сразу
преобразился».
Но... Сергеев остается на своем посту, а Колпакова, в
полной мере оценившая этот жизненный урок, находит
пути к «мирному сосуществованию». Она работает, пере-
сматривает свой классический репертуар. Ее мастерство
178
делается совершенным. Оно теперь очень кстати, просто
необходимо театру. Оно становится блестящим фасадом,
«визитной карточкой» Кировского театра и ленинград-
ской школы балета, все более теряющих свое исключи-
тельное положение. Устойчивость и затяжной характер
кризиса делают необходимым особо подчеркивать акаде-
мическое мастерство Колпаковой, подавать его во все
более внушительном оформлении. Что из того, что оно те-
перь лишено порывов и устремлений. Ведь порывы не-
предсказуемы и тем более неуправляемы. А устремле-
ния... они могут оказаться направленными в нежела-
тельном направлении.
Танец Колпаковой становится уравновешенным, тща-
тельно продуманным и соотнесенным во всех своих дета-
лях и компонентах, короче говоря, подлинно академи-
ческим. Это немалое достоинство. При несомненно высо-
кой технической оснащенности ее более молодых коллег
им часто не хватает именно этого качества, не хватает
стиля.
Академизм балерины, техническое совершенство ее
танца теперь охотно отмечается и признается всеми. Но
понятие это наряду с высочайшим и доведенным до вир-
туозности профессионализмом несет в себе и другой
смысл. В истории искусства оно нередко знаменует собой
закат некоего творческого этапа, исчерцание им своих
идей, своих жизненных сил. Так когда-то академическое
мастерство Энгра осветило последние дни классицизма,
уступающего бурному натиску романтиков. Под ударами
нового, реалистического искусства так же пал русский
художественный академизм, надолго переживший пору
своего расцвета. Примеры можно продолжить... Не срод-
ни ли этим явлениям академизм Колпаковой, не вен-
чает ли он собою славный, блистательный период разви-
тия ленинградского балета? Не запоздалые ли это лучи
светила, огонь которого померк в конце 50-х годов? Ведь
«Легенда о любви», появившаяся в 1961 году, была ито-
гом короткого, искусственно прерванного взлета конца
50-х.
Как бы то ни было, но свое место в истории ленинград-
ского балета Колпакова заняла не случайно, она заняла
его ценой упорного труда, высочайшей ответственности
перед искусством. Ее ум и такт удержали ее от ложных
шагов на сцене и в жизни, помогли трезво осознать свои
возможности, упорно искоренять недостатки, максималь-
179
но использовать сильные стороны своего дарования. Ум и
такт подсказали балерине черты и краски ее имиджа,
тщательно обдуманного и искусно созданного.
Судьба благосклонно отнеслась к Колпаковой. Она за-
ботливо избавила балерину от необходимости вступить в
творческое соревнование с двумя выдающимися лиричес-
кими индивидуальностями ее поколения — А. Сизовой и
Н. Макаровой. Ранняя и серьезная болезнь первой, о ко-
торой я уже упоминал, лишила ее возможности плано-
мерной работы и надежды на первенствующее положе-
ние. Что касается второй, то в 1971 году она круто изме-
нила свою судьбу, навсегда порвав с советским балетом.
Как никому из балерин ее поколения, Колпаковой
удалось реализовать свои возможности, использовать от-
пущенные ей природой ресурсы, расширить их диапазон.
Как никто из них (включая и младших ее современниц),
она умеет накапливать и беречь, умеет сохранять найден-
ное, как никто из них, умеет наметить цель и планомерно
добиваться ее достижения. Она сумела опоэтизировать
работу и труд, сумела поднять их до вершин искусства.
Она сумела многое — Герой Социалистического труда,
лауреат Государственной премии Союза ССР, народная
артистка СССР Ирина Александровна Колпакова.
1983
АЛЛА ОСИПЕНКО
Пугающая белизна листа. Сейчас на него лягут пер-
вые строки... И сразу возвращаются сомнения, которые
не оставляли меня с момента, как возникла идея этих
записок. Надо ли писать? О чем писать? О балерине? Но
Алла Евгеньевна Осипенко, Алла, не только замечатель-
ная балерина, но и человек, которого я знаю более трид-
цати лет. Из них десять лет мы виделись почти ежеднев-
но, и сложная, трудная жизнь ее самой и ее семьи
были в какой-то мере и моею жизнью. Сколько часов мы
провели вместе, о чем только не переговорили! Я, как
никто, возможно, понимаю, что ее последние сценичес-
кие создания возникли и стали продолжением и развити-
ем переживаемых ею жизненных ситуаций. Есть худож-
ники, а Осипенко принадлежит именно к их числу, у ко-
торых творчество и личная жизнь неразрывны. Поэтому,
говоря об их творениях, приходится говорить и о них
самих. Но тогда возникает новый вопрос — где предел
дозволенного? Действительно, где граница сведений, ко-
торые могут быть доверены бумаге, а следовательно,
каждому, кто прочтет эти записки? Что вправе я сказать,
о чем должен умолчать?
Есть факты, рассказываемые нами легко и просто лю-
бому знакомому; другие мы можем поведать только уз-
кому кругу друзей, рассчитывая на их понимание, дели-
катность и снисходительность; в некоторых признаемся
только в сумерках или тьме в порыве откровенности
близкому человеку; но есть вещи, в которых мы не хотим
181
признаться даже себе, которые живут в нас смутными
ощущениями, загнанными вглубь души. Дать им подня-
ться на поверхность, приобрести отчетливую форму не-
безопасно — ставшие фактом, они могут оказаться и
фактом твоей судьбы. Еще страшнее доверить их бумаге:
в этот момент они отчуждаются от тебя, становятся до-
кументом, начинают самостоятельную жизнь. Твои при-
знания сможет прочитать каждый, по ним будет сколь-
зить и благожелательный взор человека, готового понять
и оправдать, и взор скучающий и равнодушный, но хуже
всего, что их смогут прочесть злые, жестокие глаза лю-
дей, готовых в искреннем и задушевном признании уви-
деть лишь намек, который они перетолкуют, раскрасят
несуществующими подробностями и удовлетворенно пе-
рескажут с лицемерным сочувствием, в искренность ко-
торого почти уверуют сами.
Но может быть, никакой проблемы нет и я ее приду-
мал сам? Может быть, довериться внутреннему чутью,
которое само подскажет пределы допустимого. Правда,
поступая таким образом, я буду лишен возможности ска-
зать многое, что считаю существенным. С другой сторо-
ны, сама Осипенко охотно и часто рассказывает о себе
значительно больше, чем разрешил бы мой «внутренний
цензор». Я неоднократно наблюдал, как она делилась су-
губо личными переживаниями с людьми почти случайны-
ми, совсем не заслуживающими, с моей точки зрения,
доверия и откровенности.
Возможен еще один путь — рассказать все, что знаю,
все виденное. Как легко можно оправдать себя лукавой
мыслью, что, поступая так, я раскрываю внутренний мир
художника, объясняю истоки и механизм его творчества.
Такой путь мне кажется почти недопустимым. Но од-
нажды такую возможность и ее моральный аспект мы
обсудили с Аллой, и она определенно высказалась в по-
льзу подобного подхода. Правда, тема возникла отнюдь
не в связи с этими записками, а по другому поводу: мы
обсуждали фильм А. Вайды «Все на продажу», где акте-
ры играли факты своих личных биографий, сюжет филь-
ма составлял их собственные сложные отношения, а по-
зиция режиссера была откровенно, с вызовом сформули-
рована в самом названии — все в профессии художни-
ка — материал для его творчества, все, чем он живет,
принадлежит толпе, его плоть и душа — все на продажу.
Фильм на нас обоих произвел сильное впечатление.
182
Алла безоговорочно приняла идею Вайды, меня же в ней
что-то все время тревожило, заставляло чувствовать себя
неуютно. Но тогда никто из нас не подверг искренность
Вайды сомнению. Сейчас же, примеривая для себя воз-
можность подобного варианта, я начинаю сомневаться.
Может быть, этот фильм просто талантливая и потому
убедительная мистификация? Может быть, признавшись
всесветно в уже известном, Вайда этим признанием
скрыл значительно больше, укрыл от любопытных взоров
самое ранимое, сокровенное?
И последнее. Кому должны быть адресованы эти
строки? Современникам? Людям, хорошо знающим Оси-
пенко? Должна ли она сама прочитать их? Или им над-
лежит лежать в ящике секретера долгие годы и терпели-
во ждать своего часа? Не знаю. Не могу остановиться на
определенном решении, не могу ответить ни на один из
вопросов. Посмотрим, что получится...
Потому-то и вызывает безотчетную тревогу белизна
нетронутого листа, потому растерянность и неопределен-
ность испытываю я, приступая к этим страницам. Не
знаю, куда поведет меня мой рассказ.
Итак, о чем же писать?
Четырнадцатого марта 1971 года в Кировском театре
было много своей публики, знакомых, постоянных зрите-
лей. Царило оживление, но праздничного настроения не
было. Скорее, наоборот, ощущалась какая-то взвинчен-
ность и тревожная нервозность, все вздыхали и в сотый
раз, не ожидая ответа, задавали друг другу один и тот же
вопрос: «Ну зачем?». Осипенко танцевала свой послед-
ний спектакль на академической сцене. Проработав двад-
цать один сезон, находясь в прекрасной форме, балерина
уходила из прославленного театра не для того, чтобы
навсегда оставить танцы, а чтобы работать в передвиж-
ной, недавно организованной (в 1969 году) Л. Якобсо-
ном труппе «Хореографические миниатюры». Такого за
всю послевоенную историю театра еще не бывало. Это
выглядело бунтом. Это был либо шаг смелого, принципи-
ального художника, либо необдуманный, неразумный по-
ступок.
Как большинство балерин ее поколения, Осипенко
могла предъявить театру немало претензий и имела до-
статочно поводов к неудовольствию: она не танцевала
многое из того, что могла и должна была танцевать, ее
183
самолюбие не раз незаслуженно было задето, часто теку-
щий репертуар не обеспечивал ее творческих интересов,
из-за чего с желанными для себя партиями она встреча-
лась с перерывом в несколько лет. К этому перечню сама
балерина могла бы добавить еще немало.
Но театр много и дал Осипенко. В его стенах она
сформировалась в крупную творческую личность, сдела-
лась балериной, народной артисткой РСФСР, создала
свои выдающиеся партии, вместе с театром объездила
многие страны. И вот теперь она с ним порывала...
Неудовлетворенность накапливалась постепенно, но
события развернулись стремительно и неожиданно.
Все началось со сборов в очередную гастрольную по-
ездку, на этот раз в Японию. Осипенко собиралась тоже,
и планировалось, что на гастролях «Лебединое озеро»
она будет танцевать с С. Викуловым. Ее мужа Д. Мар-
ковского в поездку не брали. Джон пошел объясняться
в дирекцию, ему отказали. Тогда, без обсуждения этого
шага с Аллой, он написал заявление об уходе. В его голо-
ве уже роились грандиозные и, как показала жизнь, аб-
солютно несбыточные планы, в которых Кировскому те-
атру места не было. Зато Алле Осипенко в них неизмен-
но отводилась роль козырной карты.
Настала очередь объясняться Алле. Спору нет, для
нее, высокой, стройной, с великолепными линиями, неот-
разимой в адажио, но не слишком уверенной в быстрых
темпах, С. Викулов с его относительно небольшим ростом
был не самым выгодным партнером. Тем не менее рань-
ше (до того как Осипенко и Марковский соединили свои
судьбы и создали превосходный дуэт на сцене) они не раз
танцевали этот спектакль. В крайнем случае, если бы в
споре с дирекцией принимались во внимание только
творческие соображения, можно было бы отказаться от
поездки. Но Алла вопреки здравому смыслу поступила
так, как поступала потом еще много и много раз,— вы-
полнила желание Джона. Она тоже подала заявление об
уходе. Их не стали удерживать... И вот она танцует по-
следний спектакль — «Каменный цветок», свою лучшую
роль — Хозяйку Медной горы.
Этому спектаклю предшествовали споры, уговоры и
советы друзей. Я, сыграв роль простака, написал письмо
министру культуры РСФСР, в котором были следующие
пассажи'. «Мне трудно судить о причинах, побудив-
ших А. Е. Осипенко оставить работу в Театре
184
им. С. М. Кирова, непонятна и легкость, с которой дирек-
ция соглашается с ее решением. Думаю, что это следст-
вие взаимных обид и недоразумений нетворческого ха-
рактера... Прошу Вас вмешаться в сложившееся положе-
ние, помочь дирекции театра и А. Е. Осипенко и удер-
жать их от непродуманного шага. Надеюсь, что Ваше
вмешательство даст возможность найти разумное реше-
ние и послужит на пользу ленинградскому балету». Че-
рез некоторое время я получил ответ, так беззастенчиво
игнорирующий содержание моего письма и являющийся
образцом столь блистательного бюрократически-канце-
лярского стиля, что его стоит привести целиком.
«Министерство культуры РСФСР сообщает, что на-
родная артистка РСФСР А. Е. Осипенко освобождена от
работы в Ленинградском государственном академичес-
ком театре оперы и балета имени С. М. Кирова по ее лич-
ному заявлению. Творческая жизнь балерины не прекра-
тилась, так как она перешла на работу в ансамбль хорео-
графических миниатюр «Ленконцерта». Заместитель ми-
нистра культуры Г. Александров».
Позже, борясь с возникшими жизненными трудно-
стями и невзгодами и бессознательно защищаясь от
мысли о непоправимости совершенной ошибки, Осипен-
ко создала стройную и внешне убедительную версию
продуманности, глубокой закономерности сделанного
шага как шага, который раскрыл перед ней новые творче-
ские горизонты, дал импульс к дальнейшему движению
вперед, к постижению новых хореографических форм. Об
этом она скажет и по телевидению, и в своем интервью
газете «Смена» (4 июля 1982 года).
Уже накануне упомянутого последнего спектакля в
бесконечных спорах Алла утверждала, что если она оста-
нется в Кировском театре, то ее жизнь сведется к моно-
тонному повторению одних и тех же партий, которые год
от года она будет танцевать все хуже и хуже. Остаться
в театре, считала она,— значит обречь себя на медлен-
ное, томительное увядание. Вспоминая все теневые сто-
роны работы в театре, она убеждала себя (не без дея-
тельного участия Джона), что дальнейшее творчество
для нее возможно только вне его стен, и верила (или за-
ставляла себя верить?) тем радужным планам, которые
Марковский изобретал в изобилии. Идея художественно-
го поиска, расширения творческих горизонтов без ухода
с академической сцены в этом возбужденном состоянии
185
отвергалась горячо и решительно, как нелепая и утопиче-
ская. А между тем так поступили М. Плисецкая (работа
с Бежаром), Е. Максимова (создание телевизионных ба-
летов и участие в спектакле Н. Касаткиной и В. Василёва
«Натали»), Н. Долгушин, Н. Большакова, В. Гуляев (со-
трудничество с Л. Лебедевым и другими балетмейстера-
ми) . И это далеко не полный перечень. Наконец, так по-
ступила ранее сама Осипенко, станцевав вместе с Мар-
ковским на сцене Малого оперного театра балет «Анто-
ний и Клеопатра». Талант, помноженный на положение
балерины Кировского театра, делал ее работу в любом
коллективе, с любым балетмейстером желанной и воз-
можной. Но тогда, в марте 1971 года, любые доводы от-
вергались, во главу угла были поставлены не разум, а эмо-
ции. Осипенко была убеждена, что в этот момент ее
долг — быть рядом с Джоном. Представить себе, что ее
долг — удержать Марковского от опрометчивого, прежде
всего разбивающего вдребезги его артистическую
карьеру поступка Алла просто не могла. Представить се-
бе, что она должна быть мудрее и дальновидней его,
было выше ее сил. Она не думала, не хотела думать, что
уход из театра (в случае неосуществления планов) для
нее все же достойная, хотя и преждевременная точка,
завершающая ярко и результативно прожитую творчес-
кую жизнь, для него же, протанцевавшего на сцене Ки-
ровского театра всего шесть лет,— крушение, несостояв-
шаяся сценическая и человеческая судьба, мысль о кото-
рой будет его преследовать до конца дней...
Последний спектакль подошел к финалу. Осипенко
склонилась в глубоком поклоне, в ее глазах блестели сле-
зы, у меня в горле стоял комок. Только сейчас для меня
стала реальностью- неотвратимость случившегося. Воз-
можно, в этот момент так же остро это осознала и Алла.
Защищаясь от жестокой мысли — «Конец!» — память
уносила к началу, исполненному надежд и трепета ожи-
дания.
В 1950 году на сцене театра появилась очередная вы-
пускница А. Я. Вагановой — Алла Осипенко. О ней заго-
ворили сразу — одни восторженно, вспоминая школь-
ные и выпускные спектакли, называли ее сложившейся
балериной, другие ахали по поводу выдающихся данных,
третьи (и я в том числе), уже не раз бывшие свидетеля-
ми преждевременных и не оправдавшихся затем востор-
гов, скептически помалкивали. Но одно было несомнен-
186
но — не заметить Осипенко среди прочих танцовщиц бы-
ло нельзя. Стройная, по тем временам даже высокая,
с удлиненными пропорциями, красивыми, выразительны-
ми кистями рук, она выделялась сразу. А когда взор
останавливался на ней, то оторваться было уже труд-
но — поражали необычайная красота ног, их изысканная
лепка, протяженность, пластичность и изначальная ос-
мысленность линий. В ее танце обнаруживалось какое-то
волнующее и настораживающее несоответствие: пластич-
ность и напевность линий порой оборачивались некото-
рой аморфностью и рыхлостью, а замедленность движе-
ния — вялостью и ленивой небрежностью, но при этом
совершенно неожиданно в текучести формы проглядыва-
ла — нет, скорее, угадывалась — изысканная графич-
ность. Эта волнующая двойственность была особенно
заметна в адажио. Когда же дело доходило до мелких
движений и прыжков, становилось очевидным, что ноги
танцовщицы не обладают необходимой взрывчатой силой
и выработанностью, чтобы безупречно справляться с al-
legro. Вообще, тогда казалось, что при всей красоте фор-
мы Осипенко чуть полновата, аморфна, и что, возможно,
через год-другой эти недостатки углубятся и ей всю ар-
тистическую жизнь придется сражаться с излишним ве-
сом и страхом преодоления технических сложностей.
Как бы то ни было, но с такими данными в кордеба-
лете не засиживаются, и Осипенко одно за другим нача-
ла получать сольные места: в 1950 году она танцует в
четверке больших лебедей, затем следуют вариации в
«Тенях», Повелительница дриад, Вилиса. Репертуар и по-
ложение Осипенко растут стремительно. Уже в 1951 го-
ду, в первый сезон работы в театре, она танцует фею Си-
рени — балеринскую партию; в том же году ей поручают
Царицу бала в «Медном всаднике». По сути, весь (под-
черкиваю — весь) классический репертуар балерины
складывается в течение первых пяти лет. Если учесть,
что этот срок следует уменьшить на год-полтора, ушед-
ших на лечение серьезной травмы, на попытки, не доле-
чившись, выйти на сцену, то осознаешь, что перед нами
случай почти беспрецедентный. Кто еще из ленинград-
ских балерин начинал так? Кто в первые пять лет работы
в театре получил такой классический репертуар, а затем
за все остальное время не пополнил его ни одной ролью?
Знакомство с полным списком исполненных Осипенко
классических партий, однако, заставляет задуматься.
187
Этот список невелик — всего тринадцать названий. Че-
тыре заглавных партии: Одетта — Одиллия, Никия, Ма-
ша, Раймонда; четыре вторых балеринских партии:
фея Сирени, Гамзатти, Подруга Раймонды, Уличная тан-
цовщица и пять сольных партий: большие лебеди, вариа-
ции в «Тенях», Вилиса, Повелительница дриад, вальс
и мазурка в «Шопениане». Сольные места Осипенко пе-
рестала танцевать быстро, а партия Маши оказалась для
нее эпизодом. Поэтому приведенный список сокращается
до семи названий. Не мало ли для «выдающейся класси-
ческой балерины», как сказано об Осипенко в одном из
балетных справочников? Нет ли здесь какого-то проти-
воречия, непонятного несоответствия?
Несомненно, Осипенко — уникальная балерина. Но,
как часто случается с очень одаренными людьми, ей для
создания убедительных сценических образов вполне хва-
тало своих достоинств, что позволяло просто игнориро-
вать имеющиеся, как и у всякого, недостатки. Но, когда
масштаб ее дарования проявился со всей очевидностью,
удовлетворяться только профессиональным исполнением
стало невозможно. От Осипенко ждали большего: чтобы
оправдать эти ожидания в классическом репертуаре, тре-
бовалось мастерское, филигранное владение всем объе-
мом технических средств, к чему балерина оказалась по-
просту неготовой.
Критика уловила это несоответствие, но расценила
его по-разному. Так, Г. Добровольская, увлеченная та-
лантом Осипенко, поспешила выдать ей индульгенцию.
Она писала: «Красота ног Осипенко — в самой их форме,
которая предопределяет медлительность и широту дви-
жения. Таким ногам чужды искрометные па — заноски,
фуэте, баллонне; трудны для них и прыжки»*. Получалось
все очень просто: раз чужды и не свойственны, следова-
тельно, и стараться, и мучиться не стоит.
Серьезнее и с другой стороны подошла к этому фак-
ту В. Красовская в умном и интересном очерке, посвя-
щенном двадцатилетию творческой деятельности балери-
ны («Театр», 1975, № 12), по существу, единственной
глубокой работе об Осипенко (с грустью я обнаружил,
что персоналий Осипенко в Ленинградской театральной
библиотеке насчитывает всего двадцать одну единицу
хранения, из которых большинство составляют газетные
* Ленинградский балет сегодня, с. 113
188
вырезки, в том числе информационные заметки в 10—
12 строк). Красовская пишет: «Стихия сильфид и прин-
цесс старого балета, казалось бы, должна сулить раз-
долье для такой танцовщицы». Но далее: «В испытанных
временем вариациях, в партиях балетных «подруг» пла-
стика прекрасного тела хранила сомнамбулический по-
кой... <...> Пробуждение... свершилось в «Спящей кра-
савице», в строго академической партии феи Сирени...
<...> Да, тогда не понять было, почему вдруг в канони-
ческой партии открылась наконец для Осипенко поэзия
классического танца... Но именно в том, какой
увидела свою фею Сирени Осипенко, заключался невнят-
ный еще в ту пору ответ. <...> Ее глаза смотрели на мир
холодновато, и губы размыкались не для улыбки, а для
беззвучных вещих слов. Нимфа сиреневого куста уже
несла тему нимфы Сиринкс, которая годы спустя запела
одинокую тростниковую песню». Таким образом, призна-
вая, что во многих классических партиях балерина не
оправдала ожиданий и отмечая первый несомненный
успех, Красовская усматривает причину его в постиже-
нии образности танца. Именно в танцах феи Сирени у
Осипенко впервые отчетливо зазвучали мотивы, ставшие
затем ведущей темой ее творчества. С наблюдением кри-
тика нельзя не согласиться. Но Красовская не отметила
(или не захотела отметить — все-таки юбилейная ста-
тья), что образная суть и отчетливое звучание своей те-
мы в искусстве у Осипенко проявились только тогда, ког-
да партия оказалась филигранно станцованной. Именно
станцованной! И дело здесь не в том, что произошли ка-
чественные изменения в техническом арсенале балерины.
Просто лексика танца феи Сирени удивительно точно
и органично легла на возможности Осипенко. Она состо-
ит из больших поз (арабесков и экарте), льющихся, за-
хватывающих большое пространство взмахов ног, и са-
мое главное — темпы танца почти все время протяжен-
ны, певучи и величавы. Где еще, как не при таких
условиях мог выразительнее прозвучать танец Осипенко?
И он прозвучал. Совершенство формы привело к созда-
нию совершенного, возвышенного образа. Но, к сожале-
нию, такое счастливое совпадение происходит нечасто.
Чаще путь к совершенству требует упорного труда.
Вряд ли можно согласиться, что образ Раймонды ле-
жал вне сферы интересов и эмоциональных возможно-
стей Осипенко и она не могла постичь образную систему
189
спектакля. Тем не менее «Раймонда» не стала заметным
событием в творчестве балерины. В вариациях Раймонды
Алла нередко плела своими дивными ногами такие не-
предусмотренные Петипа «кружева» и так была занята
решением сиюминутных технических проблем, что о со-
здании законченного художественного образа не могло
быть и речи. По существу, я не видел ни одной «Раймон-
ды», благополучно исполненной ею от начала до конца.
Осипенко всегда объясняла это тем, что танцует спек-
такль редко, с большими перерывами, на нервах. Конеч-
но, это усугубляло трудности, но не трудно было и возра-
зить: потому и редко танцует, что часто танцует неу-
дачно.
Сейчас, когда Осипенко оставила сцену, можно с
огорчением констатировать, что станцевала она в класси-
ческом репертуаре далеко не все, что должна была и мог-
ла станцевать. И среди этих нестанцованных партий бо-
льше всего я сожалею об Авроре и Жизели. Какой утон-
ченно-изысканной, рафинированной и гордой принцес-
сой в пудреном парике она могла быть в первом акте
«Спящей красавицы», как совершенны могли быть позы
манящего видения в акте «дриад», как величественно
могло прозвучать заключительное па-де-де! Ну а «Жи-
зель»? Она могла быть трагичной и смятенной в первом
акте и холодно-отрешенной, завораживающей красотой
линий и невесомостью во втором... Но какой смысл га-
дать, какими могли быть эти не станцованные балериной
партии! Несомненно одно, если театр был так невнимате-
лен и расточителен по отношению к таланту Осипенко,
то она сама должна была с большей настойчивостью по-
заботиться о нем. Во всяком случае, станцевать на га-
стролях «Жизель» было вполне возможно: редакция это-
го спектакля почти везде одинакова, а предложение Оси-
пенко в любом периферийном театре было бы несомнен-
но встречено с энтузиазмом. Возможно, что поставлен-
ный перед фактом Кировский театр вынужден был бы
считаться с ним. Правда, такой план мог бы осуществить-
ся при одном непременном условии: требовалось целеуст-
ремленно заняться некоторыми разделами академичес-
кой техники. Не думаю, что физические возможности
балерины исключали серьезный прогресс в этой области.
Что бы ни говорили кругом, что бы ни утверждала сама
балерина, но остается фактом — готовясь войти в уже
идущий спектакль «Легенда о любви», в тексте которого
190
есть пресловутое фуэте, Осипенко вынуждена была осво-
ить это, как утверждали, «чуждое» ей движение. Но за-
крепить успех и перенести фуэте в «Лебединое озеро»
Алла так и не решилась. Не случайно, когда Осипенко
уже уходила из театра, ее педагог, теперь уже покой-
ная Н. Балтачеева, вздохнула: «Жаль, что ты уходишь
именно теперь, когда наконец поняла, как надо занима-
ться». К сожалению, Осипенко, обладающая в некоторых
обстоятельствах железной волей и способная совершить
почти героическое усилие, отступила в свое время перед
будничностью и тщательной систематичностью ежеднев-
ных занятий. Браться же за упомянутые партии напере-
кор театру имело смысл только в расчете на серьезный
художественный результат — ведь на его сцене уже со-
стоялись безупречные в профессиональном отношении
Аврора и Жизель И. Колпаковой.
Возможно, что в силу именно названных обстоя-
тельств классический репертуар Осипенко остался таким
узким. В этом же, возможно, одна из причин, вызвавших
разочарование, чувство неудовлетворенности у балерины
и приведших ее в итоге к разрыву с театром. Такова была
расплата за компромисс. Осипенко не захотела, не смог-
ла счет, предъявленный ее талантом, оплатить в полной
мере работой; она расплатилась своей творческой судь-
бой, а затем и жизненной.
Но как бы то ни было, среди немногочисленных клас-
сических партий Осипенко волшебным блеском сияет ее
фея Сирени и постоянно тревожит в воспоминаниях
Одетта—Одиллия.
Партию феи Сирени Осипенко, как уже говорилось,
получила, протанцевав всего один сезон. Редко бывает,
что первая балеринская партия становится в жизни акт-
рисы этапной, одним из высших ее достижений. Но в
творческой биографии Осипенко многое необычно. Тог-
да, в далеком 1951 году, входя в старый, еще нетронутый
редакцией Сергеева спектакль, Алла не знала, что с ним
будут связаны многие знаменательные и драматичные
обстоятельства ее жизни.
«Спящая красавица» в то время была самым сохра-
нившимся в репертуаре театра спектаклем эпохи Петипа.
Правда, первоначальные декорации и костюмы, выпол-
ненные группой художников (Бочаров, Иванов и дру-
гие) , не сохранились, но балет шел в оформлении К. Ко-
ровина, очень живописном и сохраняющем дух импера-
191
торского театра. Наверное, поэтому «Спящая красавица»
была выбрана для торжественного спектакля, которым
балетная общественность отметила двойной юбилей
М. Петипа. Этот теперь уже легендарный спектакль со-
стоялся 22 мая 1947 года и ознаменовал стодвадцатипя-
тилетие со дня рождения гениального балетмейстера
(Петипа родился в Марселе 11 марта 1822 года) и столе-
тие начала его служения русскому балету (приглашение в
Россию последовало 24 мая 1847 года, а дебют в Петер-
бурге состоялся 24 сентября того же года). Балетная
труппа Кировского театра, руководимая в то вре-
мя П. Гусевым, сделала все, чтобы торжественный вечер
стал событием. Блеск спектаклю придавал состав испол-
нителей. Аврору танцевали в первом акте — М. Семено-
ва, во втором — Г. Уланова, приехавшие специально для
этого из Москвы, в третьем — Н. Дудинская. Их партне-
рами были М. Габович и К. Сергеев. Четырех женихов
в первом акте изображали С. Каплан, С. Корень,
Ю. Гофман, Б. Шавров. Фею Сирени в прологе танцева-
ла А. Шелест, а затем И. Израилева (Зубковская) и
М. Померанцева. Г. Кириллова и Н. Зубковский исполня-
ли дуэт принцессы Флорины и Голубой птицы; партию
феи Бриллиантов — Н. Ястребова. Чтобы отдать дань
уважения великому балетмейстеру в маленькой роли Зо-
лушки вышла уже покинувшая сцену Е. Люком, а в ро-
лях принца Фортюнэ и Синей Бороды — балетмейсте-
ры В. Бурмейстер и Ф. Лопухов. Не остались равнодуш-
ными к празднику балета артисты драмы и оперы.
Короля во втором и третьем актах взяли на себя труд
изобразить Н. Черкасов и Ю. Юрьев, Королеву —
С. Преображенская (третий акт). В остальных актах эта
роль досталась В. Ивановой (первый акт) и Е. Бибер
(второй акт). Зал потрясла овация, когда в роли Короля
в первом акте появился Н. Солянников — участник
премьеры 1890 года. А. Орлов расстался на вечер с опе-
реттой и предстал принцем Хохликом. Все вариации тан-
цевали ведущие солистки театра. Ну а те, кому уже про-
сто не хватило даже самых маленьких ролей, вышли на
сцену в шествии гостей и персонажей сказок в последнем
акте — среди них были Н. Анисимова, Л. Тюнтина,
И. Бельский, Р. Гербек, В. Пономарев (возобновивший
«Спящую красавицу»), Н. Серебренников и многие дру-
гие.
Надо ли говорить, что спектакль взбудоражил всех
192
любителей балета. Несмотря на наряд конной милиции,
толпа, окружавшая театр, пыталась взять его двери
штурмом. Даже имея билет, пробиться через взбудора-
женную толпу было сложно. Преодолев все препятствия,
возбужденная публика долго занимала свои места в зри-
тельном зале. Спектакль начался с большим опозданием,
прерывался восторженными овациями при появлении
каждого нового исполнителя и окончился далеко за пол-
ночь. Зал был наэлектризован, на сцене царили подъем
и возбуждение, все танцевали с максимальной отдачей.
Дудинская, завершавшая спектакль и понимавшая всю
ответственность своего выхода после Семеновой и Ула-
новой, с таким блеском и напором исполнила последнее
па-де-де, что ее стремительные, чуть ли не десятерные
туры в руках у Сергеева казались нереальными, фанта-
стическими. Они довели восторг зала до апогея и сопро-
вождались оглушительным криком, почти ревом публики.
Однако художественным откровением спектакля стал
крошечный, почти мимолетный эпизод второго акта.
Уланова танцевала адажио. При повторении темы зазву-
чали виолончели и она, послушная музыке, начала скло-
няться в арабеске и откидываться назад (теперь этого
движения в дуэте нет, так как Сергеев в новой редакции
спектакля позволил себе заменить первоначальный текст
Петипа своим). И в этот момент произошло чудо: линии
склоняющегося и откидывающегося назад тела слились
с музыкой и зазвучали в унисон с мелодией. Они были
бесконечны, длились безостановочно, их движение не на-
рушалось хотя бы мгновенной остановкой. Пластика бы-
ла столь совершенной, столь захватывающе прекрасной,
красота движения столь абсолютной, что зал замер, а за-
тем всколыхнулся овацией. В эти считанные мгновения
все прикоснулись к непостижимому. Такого нельзя при-
думать ценой многодневных раздумий, нельзя добиться
многочасовой работой перед зеркалом, это дается только
природой. Вряд ли сама Уланова в полной мере осозна-
вала, что рождало, такое пластическое совершенство —
она просто делала арабески и чутко слушала Чайковско-
го...
Прошло почти сорок лет, но воспоминание об удиви-
тельном мгновении живет в памяти. Остался в памяти
и весь грандиозный спектакль, которым труппа Киров-
ского театра выразила свое преклонение перед гением
художника, который бессменно руководил петербургс-
193
ким балетом в течение сорока лет и создал для него
53 хореографических произведения. Но времена меняют-
ся, и, когда в 1972 году настало стопятидесятилетие со
дня рождения Петипа и Малый оперый театр, хотя и с
опозданием, откликнулся на него постановкой «В честь
Петипа», у Кировского хватило сил лишь на то, чтобы
отреагировать на эту дату вполне дежурным мероприя-
тием.
...И в такой, овеянный традициями и легендами, спек-
такль предстояло войти ученице, почти девочке. Память
не сохранила первого выступления Осипенко в партии
феи Сирени, которое состоялось где-то весной 1951 года,
не уверен, видел ли я его. Но зато как одно из сильней-
ших впечатлений я храню воспоминание об утренней ге-
неральной репетиции «Спящей красавицы», состоявшей-
ся за день до премьеры нового спектакля (25 марта
1952 года).
Подчеркнуто театрально, как-то яростно прозвучали
первые аккорды вступления, затем пластично, с тонкими
градациями динамических оттенков запели струнные те-
му феи Сирени — за пультом стоял Б. Хайкин, который
властно, не считаясь с протестами и жалобами балерин,
ломая традицию «удобных темпов», развертывал гранди-
озное симфоническое полотно. Раздвинулось барочное
плетение ворот, напоминающих растреллиевские ворота,
ведущие на курденер Екатерининского дворца в Царском
Селе, таинственно замерцали свечи в люстрах, и взору
предстала великолепная зала с грандиозными драпиров-
ками, блестяще созданная С. Вирсаладзе. Из-за портала
величественной арки появились зыбкие линии сиреневого
кордебалета, и на праздник начали слетаться феи. Они
действительно слетались: Вирсаладзе придумал какие-то
приспособления — шесты для полетов, но то ли запроте-
стовали инспекторы по технике безопасности, то ли по-
становочную часть одолела матушка-лень,— как бы то
ни было, вскоре после премьеры палеты были отменены.
И вот наконец из кущи сиреневого кордебалета поя-
вилась фея Сирени. Она не сделала еще ни одного дви-
жения, а зал насторожился — приковывала внимание
красота и значительность облика Осипенко. Это не была
властная, гордая красота Шелест или ослепительная и
несколько отстраненная красота Зубковской, но в див-
ных, совершенных линиях ног, стройном корпусе, посад-
ке головы, украшенной диадемой, и, наконец, в поднятых
194
над головой руках была такая гармония, соразмерность
пропорций, что не отозваться на эту благородную красо-
ту было совершенно невозможно. Когда же, повинуясь
музыке, фея Сирени начала вариацию, то движения при-
умножили очарование облика, они были исполнены по-
коя, певучести, протяжны и сдержанны. Стало очевид-
ным, что среди всех фей она самая могущественная,
добрая, мудрая. Она естественно и по праву занимала до-
минирующее положение в композиции pas de six. По
окончании общего танца феи приносят маленькой Авро-
ре дары; начинается череда вариаций. Стремясь к образ-
ности и единству всего построения, Хайкин вдруг взял
такой стремительный темп в вариации феи Виолант, по-
лучившей теперь имя феи Смелости (а в балетном про-
сторечье известной как «тыкалка»), что Г. Иванова, тан-
цевавшая эту вариацию, растерялась. Не отдавая себе
отчета в происходящем, уже не контролируя сценическо-
го рисунка, она сконцентрировала все силы и волю, что-
бы выдержать этот загоняющий темп. В глазах был
ужас. Но все обошлось благополучно — выручили высо-
кий профессионализм и крепкое, надежное владение ма-
териалом — ни смазав ни одного движения, она четко
завершила отчаянную гонку. А затем зазвучала вальсо-
образная тема вариации феи Сирени и... я не поверил
своим глазам. Мягко, с безграничной свободой, как будто
поддерживаемая звучанием торжественной мелодии
Осипенко сделала огромное developpe; нога, захватывая
безграничное пространство, описала круг и опустилась,
а затем в скользящем, истаивающем движении корпус
танцовщицы принял позу четвертого арабеска. Само по
себе движение было незаурядно, демонстрировало
огромный шаг балерины, мягкость и эластичность ног.
Но главное заключалось не в этом. Вся комбинация была
полна совершенства, ясной законченности, непрерывно-
сти движения. Прекрасные линии делали зримой пласти-
ку музыкальной фразы, материализовывали образное со-
держание музыки. Своим беспредельным developpe фея
Сирени как бы осеняла, благословляла Аврору, щедро
одаривая ее. Ошеломляющее начало несколько отодвину-
ло вторую часть вариации в тень, но ее двойные туры бы-
ли исполнены свободно, а арабески покоряли своей изы-
сканностью, утонченной красотой и размахом. Когда
Осипенко, на мгновение застыв в заключительной позе,
исчезла за кулисами, в зале вспыхнула овация. Чуткая
195
публика генеральной репетиции сразу же оценила и по-
няла мастшаб увиденного — начинающая танцовщица
делалась знаменитой. Премьера, до которой оставался
один день, должна была сделать это непреложным фак-
том.
Проснувшись на следующее утро, счастливая, полная
радостных предчувствий, ковыряя вилкой надоевшие ка-
пустные котлеты (традиционно занимавшие видное мес-
то в арсенале средств борьбы с полнотой), Алла взбунто-
валась и отправилась к Казанскому собору полакомиться
любимым и запретным мороженым. Наказание не заста-
вило себя ждать, но оно было слишком жестоким. На
обратном пути, выходя из троллейбуса, перед самым сво-
им домом Алла оступилась, в результате чего получила
сложную травму голеностопа.
Премьера прошла без нее, на этот раз она не стала
знаменитой. Ей вообще грозила потеря профессии, было
не ясно, сможет ли она вернуться на сцену. Началась
борьба с недугом, в которой Осипенко проявила редкое
самообладание и силу воли. Она вышла на сцену через
полгода, но только в 1954 году последствия травмы пере-
стали напоминать о себе.
Позже, после травмы, я множество раз видел Оси-
пенко в «Спящей красавице». Ее фея Сирени несколько
изменилась. Исчезла беспредельность ошеломляющего
developpe, но зато партия, уравновешенная во всех своих
частях, впечатляла гармонией и выверенностью исполне-
ния. Красота формы, изысканная графичность льющих-
ся, стелющихся протяженных линий и абсолютное вла-
дение материалом внесли в нее классическую ясность
и ощущение незамутненного внутреннего покоя. Но ни
на мгновение покой и ясность не вызывали чувства от-
страненности, холодности. Фея Сирени Осипенко излу-
чала теплое, ровное сияние, а ее покой рождал непоколе-
бимую уверенность в безграничной силе добра и любви,
перед которыми зло в итоге бессильно. Вот почему ее
спокойные, величественные арабески заставляли Кара-
бос отступать в бессильной ярости, вот почему Осипенко
совсем не нужно было прибегать к изображению внеш-
них примет противоборства двух фей. Совершенный та-
нец Осипенко сам воочию утверждал идею беспредель-
ной силы добра и безукоризненно воплощал этическую,
философскую идею сказки. Что из того, что в жизни зло
часто торжествует. Это в жизни. А у сказки свои законы,
196
и только в сказке живут такие прекрасные, мудрые и
пленительные существа, как фея Сирени — Алла Оси-
пенко.
Если успех Осипенко в партии феи Сирени опреде-
лился сразу, с первых же спектаклей, а дальнейшая ра-
бота над ролью быстро привела к исключительному ре-
зультату, то совсем по-иному шло освоение другого ше-
девра Чайковского — «Лебединого озера». На постиже-
ние образа Одетты — Одиллии Алла затратила почти
всю свою творческую жизнь — в выпускном спектакле
она станцевала «белый» акт, а последним ее многоакт-
ным балетом стало «Лебединое озеро» Малого театра
оперы и балета на сцене Оперной студии Консерватории.
Двадцать шесть лет пролегло между этими выступления-
ми, и все эти годы Осипенко много и регулярно исполня-
ла партию Одетты — Одиллии. Она ее танцевала в спек-
таклях Кировского театра — на родной сцене и за рубе-
жом, на заграничных гастролях Московского театра
имени Станиславского и Немировича-Данченко и Ленин-
градского Малого театра оперы и балета, на сцене Мало-
го в Ленинграде и во многих театрах Советского Союза.
В этой партии ее видели десятки, а возможно, и сотни
тысяч зрителей в разных концах света, она всегда имела
в ней успех, и тем не менее вряд ли можно утверждать,
что Осипенко в этой партии до конца реализовала свои
возможности, сумела подняться до уровня своего таланта.
Естественно, что для успеха у отзывчивого и благо-
желательного зрителя выпускного спектакля училища
Алле было вполне достаточно ее неотразимых физиче-
ских данных. Но, когда спустя некоторое время, в
1954 году, часть труппы уехала в заграничную поездку
и для оставшихся традиционно наступило раздолье и
время интенсивных вводов, выяснилось, что Осипенко
профессионально еще не готова станцевать целый спек-
такль (сказывалось и последствие недавней травмы).
Поэтому в первом своем «Лебедином озере» Кировского
театра она вышла только Одеттой. Одиллию же исполни-
ла совсем юная, окончившая училище в 1953 году, Н. Ти-
мофеева. Такое решение тогда не казалось чем-то из ря-
да вон выходящим — на памяти был еще вагановский
спектакль, где деление партии между двумя исполните-
льницами предусматривалось замыслом. Но, несомненно,
его подсказали и установившийся взгляд на Осипенко
как на лирическую танцовщицу, и отсутствие у нее уве-
197
ренной техники, необходимой для исполнения, роли
Одиллии, и сжатые сроки подготовки. Однако независи-
мо от причин, обусловивших такое распределение, спек-
такль привлек к себе всеобщее внимание. Несмотря
на отсутствие у исполнительниц опыта, случайные сры-
вы, было очевидно, что на ленинградской сцене появи-
лись две самобытные балерины. Спектакль обнадеживал,
и потому, естественно, каждая из молодых исполнитель-
ниц вскоре станцевала балет целиком. Свою настоящую
премьеру Осипенко танцевала в 1955 году. А уже летом
1956 года ее Одетту — Одиллию увидел Париж; последо-
вало восторженное признание, увенчанное присуждением
молодой исполнительнице Премии имени Анны Павло-
вой. (Правда, на парижан и Парижскую академию танца
не менее сильное впечатление произвела «Мелодия»
Глюка, где Осипенко продемонстрировала сосредоточен-
ную сдержанность и прекрасные протяженные линии.)
По возвращении в родной город Осипенко продолжа-
ла танцевать «Лебединое озеро». Парижские успехи бро-
сили волнующий отблеск на ее выступления. Но прошло
некоторое время, набрался опыт, этап становления роли
завершился, отошли в прошлое интригующие обстояте-
льства, сопутствующие многим спектаклям, и настал че-
ред более трезвых, спокойных оценок. Конечно, первое,
что поражало в Одетте — Одиллии Осипенко, была со-
вершенная красота и чистота формы. Удлиненные, изы-
сканные линии ног и рук, выразительная и сдержанная
акцентировка поз с чуть поникшими кистями, большой,
но не чрезмерный подъем, завершающий плавную канти-
лену бесконечного в своем развитии developpe,— все это
делало танец прекрасным, значтельным, убеждающим се-
рьезностью намерений. Казалось, чего еще можно же-
лать? Героиня балета представала то величественной,
гордой и замкнутой птицей, то соблазнительно-изыскан-
ной и загадочной красавицей. Но Одетте, отрешенной
своими страданиями от мира человеческих страстей, не
хватало трепетности непосредственного лирического вы-
сказывания, способности доверчиво отдаться зарождаю-
щемуся чувству, недоставало человеческого тепла. На
фоне пейзажей таинственного, лунного, осененного скло-
нившимися ветвями озера Лебедь Осипенко, слишком
графичный и ясный в своем классическом совершенстве,
казался холодноватым, лишенным романтической взвол-
нованности и мерцающей зыбкости контуров. Когда же
198
на сцену выходила Одиллия, то для создания образа обо-
льстительной красавицы недоставало бравурной и брос-
кой техники, а для таинственной, манящей незнаком-
ки — острой отточенности и рафинированности.
Складывалась мучительная и парадоксальная ситуа-
ция: в «белых» актах, для которых Осипенко, казалось,
была создана самой природой, исполнительница не могла
преодолеть внутренней преграды, найти присущую толь-
ко ей форму эмоционального высказывания, она предпо-
читала не договаривать, повествуя о внутренней жизни
персонажа, чем повторять общие места; в «черном» акте,
где актриса точно знала, что и как сказать, преградой на
пути самовыражения оказывался масштаб технической
оснащенности.
Не следует думать, что Осипенко элементарно не хва-
тало техники. Она танцевала «Лебединое озеро» свобод-
но, почти без внутреннего страха, профессионально уве-
ренно; о таком уровне исполнения многие могли только
мечтать. Но после «Каменного цветка», осознав меру
одаренности балерины, и зная, какой она может быть,
зрители, естественно, и в «Лебедином озере» вправе были
ожидать откровений. «Лебединое озеро» с Осипенко не
пропускали — слишком притягательна и самоценна бы-
ла красота ее танца — но часто после окончания спек-
такля, насладившись красотой, ее упрекали в сухости,
в недостатке техники.
Неблагодарность? Нет, закономерность! Талант судят
по законам, им самим созданным.
Сама балерина понимала двойственность ситуации.
По ее собственному признанию, она всю жизнь «сража-
лась» с «Лебединым озером». Одно время, желая усилить
контрастность и экспрессивность образа Одиллии, она
лелеяла план станцевать ее во всем черном (черной пач-
ке и черном трико). Но на сцене Кировского театра та-
кой костюм мог показаться слишком дерзким нарушени-
ем традиции, а на гастролях... на гастролях просто руки
не дошли. Так план и остался планом. А жаль. Вряд ли
Алла с ее творческой возбудимостью ограничилась бы то-
лько сменой трико, эта деталь могла потянуть за собой
смену сценического самочувствия, новые нюансы испол-
нения... Во всяком случае, внутренняя работа над обра-
зом продолжалась все время, чему свидетельством стала
его сценическая эволюция. Но эволюция эта была долгой
и не всегда отчетливо заметной.
199
Шли годы, накапливался сценический и жизненный
опыт. Алла рассталась со многими иллюзиями, много пе-
режила, передумала. Позади был уход из Кировского те-
атра, вторая серьезная травма, на борьбу с которой ушло
много физических и душевных сил. Теперь балерина тан-
цевала «Лебединое озеро» редко, главным образом в
спектаклях Малого театра оперы и балета. Это была по-
следняя классическая партия, оставшаяся в ее репертуа-
ре. Каждый спектакль давался дорогой ценой. В минуты
слабости не раз приходила мысль, что настало время
проститься и с этой партией. Но именно в спектаклях
1974—1976 годов Осипенко нашла наконец свою Одетту.
Особенно памятным стал спектакль на сцене оперной
студии Консерватории. Хотя Алла говорила, что танцует
«Лебединое озеро» в последний раз, никто этому не при-
дал значение — она была еще в хорошей форме. Но этот
вечер был прощанием с шедевром Чайковского. Балерина
танцевала спектакль сдержанно, сосредоточенно. Рису-
нок танца, безупречно выверенный, мудро экономный, не
нарушали ни частые взмахи крыльев-рук с экспрессивно
ломающими линию кистями, ни излишне высокие атти-
тюды, почти охватывающие корпус партнера. Всех этих,
иногда чисто внешних, примет роли, которыми подчас
прикрывается душевная пустота, не было. Был аскетизм
высокого искусства. Когда отзвучала каденция арфы и
началось адажио, зал погрузился в сосредоточенную, глу-
бокую тишину. Неспешно, почти бесстрастно вела свой
горестный рассказ королева лебедей; она не жаловалась,
не искала утешения и сочувствия, плавное течение моно-
лога не прерывал трепет зарождающегося чувства. Он
был почти спокоен. Но это был покой выстраданной от-
решенности, покой без надежды на будущее, на счастье,
когда великим даром судьбы становится сама возмож-
ность сказать и быть услышанной. И надо отдать дол-
жное Марковскому: он чутко вслушивался в скорбное
повествование и бережно вторил непрерывно текущей
линии этого пластического признания. Возникали пони-
мание и гармония. То, к чему Алла и Джон безуспешно
стремились в жизни, непостижимым путем рождалось на
сцене.
К счастью, этот изумительный дуэт незадолго перед
этим спектаклем был запечатлен на пленку. Режис-
сер Е. Попова и оператор Р. Черняк, создавая фильм об
Осипенко (кажется, в 1975 году), сделали одну из луч-
200
ших пленок о балете. Белое адажио «Лебединого озера»
они сняли на белом фоне, что и без того сдержанной ма-
нере танца придало какую-то удивительную аскетичес-
кую графичность, почти бестелесность и затаенность.
Л хотя пленка не смогла до конца передать эмоциональ-
ный строй исполнения, тем не менее она сохранила для
будущего красоту и одухотворенность танца балерины.
Так Осипенко все же удалось воплотить свое видение
образа Одетты, но понимание пришло слишком поздно,
в минуты расставания; на Одиллию уже не хватило ни
сил, ни времени. Что ж, пусть Осипенко не успела стан-
цевать полного идеального спектакля. Но я благодарен
ей за те изумительные мгновения, которые испытал на
многих ее спектаклях «Лебединого озера».
Мало кому из балерин (даже очень крупных) выпало
счастье создать образ, в совершенстве воплощающий ху-
дожественные устремления и поиски своего времени.
Случается это редко, так как требует счастливого совпа-
дения многих обстоятельств. Мало обладать самобыт-
ным талантом. Необходимо, чтобы расцвет этого таланта
совпал по времени с формированием и осознанием новых
художественных концепций. Необходимо, чтобы индиви-
дуальным свойствам таланта эти концепции были близ-
ки. Необходимо, чтобы родилось произведение, аккуму-
лирующее на сцене новые идеи. Необходимо, чтобы поя-
вился одаренный балетмейстер, способный создать та-
лантливый спектакль. Необходимо, чтобы этот балетмей-
стер сумел разгадать потенциальные возможности та-
ланта исполнителя и раскрыть их в своем спектакле.
Необходимо, чтобы спектакль творил коллектив едино-
мышленников и общая увлеченность работой всколыхну-
ла все душевные силы исполнителей. И наконец, необхо-
димо немного удачи, без которой самые блестящие начи-
нания подчас не воплощаются в законченную работу. Да,
слишком много требуется счастливых совпадений...
В длинной череде блестящих танцовщиц ленинградской
сцены явно удостоились улыбки Фортуны только Улано-
ва, которой она подарила встречи с Марией и Джульет-
той, и Дудинская, воплотившая в образе Лауренсии геро-
ическое устремления своей эпохи. Третьей в списке из-
бранниц этой непостоянной богини стала Алла Осипенко,
когда в 1956 году Ю. Григорович начал ставить «Камен-
ный цветок» С. Прокофьева.
201
Балет Григоровича появился в сложное для хореогра-
фического театра время. Впервые постановка «Каменно-
го цветка» была осуществлена в 1954 году в Большом
театре Л. Лавровским. Несмотря на блистательный со-
став исполнителей — Уланова, Плисецкая, Преображен-
ский и Ермолаев — спектакль оказался неудачным и бы-
стро сошел со сцены. Неудачу предопределила попытка
Лавровского решить его уже изживающими себя сред-
ствами хореодрамы, которые четырнадцать лет назад по-
зволили ему добиться триумфального успеха. Совсем
иначе подошел к произведению Прокофьева Ю. Григоро-
вич. Его «Каменный цветок» стал манифестом нового на-
правления в балетном искусстве, вернул веру в безгра-
ничные возможности танца, снова сделал его главным
выразительным средством хореографического спектакля.
Чутко вслушиваясь в музыку балета, видя в ней опору
для создания танцевально-симфонических построений,
Григорович не только обновил хореографический язык
спектакля, но сумел подняться до обобщенно-философ-
ского понимания его сюжета. «Каменный цветок» стал
событием, вошедшим в историю советского балета. Со-
бытием стало также исполнение Аллой Осипенко партии
Хозяйки Медной горы.
Даже сейчас, через двадцать семь лет после премь-
еры, я помню волшебство первого появления Хозяйки на
Змеиной горке. Это сейчас нам все привычно и понятно,
это сейчас мы знаем, что Хозяйку поддерживают партне-
ры, спрятанные за камнем, это сейчас малахитово-черное
трико, предложенное С. Вирсаладзе и ставшее на десяти-
летия почти униформой для балерин во многих спектак-
лях, знакомо нам до мельчайших подробностей. Но тог-
да, вечером 25 апреля 1957 года, все это произвело не-
изгладимое впечатление.
Если волшебство первых скользящих движений Хо-
зяйки было создано с помощью трюка, то, когда она спу-
скалась со Змеиной горки и представала перед Данилой,
начиналось подлинное чудо.
Первый дуэт Хозяйки и Данилы, несомненно, при-
надлежит не только к лучшим созданиям Григоровича,
но вообще всей советской хореографии. И если он срав-
нительно редко исполняется на концертной эстраде, то
это связано с трудностью его интерпретации. Но
для А. Грибова и А. Осипенко этих трудностей не суще-
ствовало. Они, что называется, купались в созданной для
202
них хореографии. Эта хореография не только с особой
силой выявила красоту формы балерины, но и показала
ее в новом, еще неведомом качестве. Безупречность ли-
ний, подчеркнутая острой графичностью поз, стала еще
очевидней; острая графичность, необъяснимо соединив-
шись с текучей кантиленностью движений, создала гиб-
кую и как будто пульсирующую (то скользит — то за-
мрет) пластику ящерки-змейки. Неожиданность, своеоб-
разие и яркая изобразительность танца в сочетании с со-
вершенством и красотой исполнения сами по себе про-
изводили сильное впечатление. Но еще больше поражали
глубина, неоднозначность и прихотливая изменчивость
образа. Вот, на миг замерев на плече у Данилы, Хозяйка
скользнула по его руке, а затем, обвив кольцом корпус
партнера, снова застыла в причудливой позе — можно ли
более совершенно воплотить неуловимую, гибкую ящер-
ку? Но тут же после вихря головоломных поддержек Хо-
зяйка — Осипенко замирает, вытянувшись на пальцах
и напряженно всматриваясь в лицо Данилы; взгляд пыт-
лив и требователен — достоин ли мастер познать красоту
природы? И взгляд этих неподвижных глаз, да и поза
принадлежат уже не змейке, а мудрой, знающей все на-
перед, бесстрастной Хозяйке Медной горы. Прошло
мгновение и что-то женское смягчает холод взгляда и
напряженность позы. А много позже, уже зная тщетность
обретения для себя человеческого тепла, отдав Данилу
любящей его Катерине, совершив высший суд справед-
ливости и совести, она вдруг совсем по-крестьянски, по-
бабьи обопрет голову о руку, пригорюнится, а носок ноги
в то же самое время вонзится в землю остро и властно.
Изменчивость, многомерность образа не дробила его,
а напротив, делала удивительно цельным и значитель-
ным. В каждой сцене, в любое мгновение сценического
существования Осипенко открывала все новые и новые
его грани. Подчиняясь рисунку роли, глубоко чувствуя
его выразительность, она не только была блистательной
исполнительницей замыслов Григоровича, но представа-
ла глубоким интерпретатором его хореографии. Как ди-
рижер, выявляющий музыкальную форму, она делала
зримой, осязаемой новаторскую симфоничность мышле-
ния балетмейстера, соединяя и укрепляя эпизоды роли,
создавая из них многоцветное хореографическое полот-
но.
Остановив карусель ярмарки и пьяные надрывные ме-
203
тания Северьяна, Хозяйка появляется в образе таинст-
венной женщины. Статная, похожая на Марфу-расколь-
ницу, она смотрит на Северьяна пристально, заворажива-
юще и вдруг, мазнув быстрым движением ладони перед
его лицом, застив ему белый свет, помутив разум, броса-
ется прочь. Сцену погони многие балерины танцевали
затем острее, быстрее, четче Осипенко, но никому из них
не удалось создать такого перехватывающего дыхание
ощущения растущей напряженности, неминуемости раз-
вязки, неотвратимости надвигающейся катастрофы. За-
ключительные аккорды этого грандиозного crescendo —
гибель Северьяна у подножия Змеиной горки — звуча-
ли особенно мощно, мрачно, трагично. Физически
ощущалась страшная, повелевающая сила руки Хозяйки,
вдавливающая Северьяна в землю. Он еще беспоря-
дочтно метался, рвался, но в глазах его уже бился
ужас обреченности. Надо добавить, что такого исклю-
чительно напряженного, трагического звучания эта
сцена (после ярмарки, после цыганской сюиты — двух
ярчайших эпизодов балета!) достигала тогда, когда
партнером Осипенко бывал Анатолий Гридин. Силой
своего таланта, воплотив исступленность и незатухаю-
щую, снедающую внутреннюю смятенность Северья-
на, он помогал обрести этой сцене размах и безгра-
ничность дыхания. Судорожные цепляния его рук о
край люка и неподвижная, опущенная ладонью вниз
рука Осипенко, были последними, но надолго запоми-
нающимися аккордами этой удивительной сцены.
Все, что делала Осипенко в партии Хозяйки, имело
огромную впечатляющую силу, было исполнено глубо-
кого смысла и значительности. Пожалуй, только танцуя
вариацию в сцене камней, когда Хозяйка ослепляет
Данилу несметностью сокровищ своего царства, она не
могла подняться до высочайшего уровня исполнения
всей партии. В этом эпизоде напряжение внутренней
жизни героини несколько замирало, а прыжкам бале-
рины, которых много в вариации, недоставало исклю-
чительности, властной силы, покоряющего размаха,
необходимых здесь. Может быть, отчасти поэтому, но
также и в самой постановке сцены, ощущался нёкото-
рый дивертисментный привкус, так не свойственный
вообще этому спектаклю.
Осипенко танцевала Хозяйку четырнадцать лет. Эта
партия принесла ей признание, сделалась ее высшим
204
творческим достижением и вписала ее имя в историю
советского балета. «Визитной карточкой» балерины
стала фотография в этой роли, помещаемая всюду,
вплоть до балетной энциклопедии, но, кстати, отнюдь
не самая лучшая. Хотя эта фотография запечатлела од-
ну из характерных поз Хозяйки, она, снятая в ателье,
не передает внутренней экспрессии существования ба-
лерины на сцене. Ее не следует рассматривать долго,
меркнет красота линий (особенно стопы), чего никогда
не было в действительности, ноги начинают казаться
полноватыми, что действительно одно время было, но
никогда не нарушало удивительной гармонии облика
танцовщицы.
Успех «Каменного цветка» сделал Осипенко и Гри-
горовича единомышленниками в искусстве. Она дол-
жна была создать центральный образ в следующем
балете — «Легенде о любви». Но судьба вторично
(вспомним травму накануне премьеры «Спящей краса-
вицы») вмешалась в творческую биографию балерины.
Премьера «Легенды о любви» состоялась 23 марта
1961 года, а незадолго перед этим Осипенко снова по-
лучила травму стопы. Поэтому балетмейстер завершал
постановочную работу с О. Моисеевой, она же танце-
вала премьеру. Затем последовали парижские и лон-
донские гастроли, к которым Осипенко только-только
успела оправиться, а затем 12 сентября 1962 года у нее
родился сын Ваня. Так партия Мехменэ Бану не стала
партией, созданной Осипенко. Она должна была стать
неповторимой Мехменэ Бану, но сделалась лишь од-
ной из лучших исполнительниц этой сложной партии.
Ее премьера, к которой она, в сущности, не была по-
настоящему готова, состоялась только в 1963 году.
В роли Мехменэ Бану Осипенко вышла зрелым ху-
дожником, за ее плечами было уже двенадцать сезонов
работы в театре, и, что особенно важно,— зрелым чело-
веком. Мир чувств гордой царицы не только захватил
ее, но был ей понятен и близок. Она знала, что сказать
зрителям. Замкнутая и прекрасная предстает Мехменэ
Бану в начале спектакля. Ее горе огромно, но она им не
сломлена. Выражение чувств сдержанно и благородно,
батман — вопрос, обращенный к придворным, властен и
требователен. Она верит во всемогущество своей власти
и не теряет надежды; сомнения и колебания чужды
ей. Безразлично она проплывает над мерцающим золо-
205
том, предлагая Незнакомцу несметные сокровища, бес-
страстно снимает с головы царский венец, протягивая
его как плату за жизнь сестры. Но она отпрянет от зер-
кала, сообщившего ей страшную цену жизни Ширин,—
отпрянет как любой человек, пугающийся омерзитель-
ного уродства. Впервые мы видим движение души цари-
цы в момент прощания с красотой. Нет, не красоту ей
жалко — как всполох пламени обожжет ее предчувст-
вие грядущей судьбы, безмерности страданий, но через
мгновение густая черная пелена скроет ее от взоров лю-
дей и она покорно и механически станет следовать
ритму движений Незнакомца.
Осипенко начинала спектакль сосредоточенно и не-
сколько отстраненно, но натянутая, звенящая струна
уже пульсировала в глубине ее души. Именно она, эта
струна, а не только красота линий — здесь красота Ин-
ны Зубковской, разумеется, ничем не уступала — при-
ковывала внимание к балерине. Особенно явственно она
звучала в трио — первой встрече царицы, царевны и
живописца. Но подлинный накал этого внутреннего на-
пряжения становился очевидным во втором акте. Не-
движная, залитая потоком горячего красного света, в
красном костюме, цвет которого повторят потом тан-
цовщицы кордебалета — неотступные «мысли цари-
цы»,— когда сама она, истерзанная и почти смирившая-
ся, облачится в черные одежды (какую изумительную
символику цвета создал здесь С. Вирсаладзе!), она по-
началу кажется бесстрастной. Но — и это одно из дра-
гоценных свойств дарования Осипенко — статика позы
полна такой экспрессии, что делается ясно, как неотс-
тупен и мучителен круг раздумий царицы. Она встает,
ничего не видя, бредет по залу, движения так замедлен-
ны, скованны, что, кажется, один резкий, неосторожный
жест способен разрушить с таким трудом сохраняемое
внешнее спокойствие. А вокруг нее теснятся персидские
танцовщицы и шуты. Вьются как неотвязные думы в
изысканном рисунке их руки, сладостно изгибаются
округлые бедра, топорщатся под черным одеянием ост-
рые горбы шутов: красота и уродство, красота и урод-
ство... Но наконец царица одна, больше не надо сдер-
живаться, и с первым, резко звучащим аккордом она
как подкошенная падает на землю. Эти первые позы
монолога Мехменэ Бану звучали у Осипенко как вопль,
как крик, в который выливается нестерпимая боль ду-
206
ши. Позы чеканны и совершенны, ни излишне прогну-
тый корпус на «мосте», ни более, чем надо, запрокину-
тая голова (сколько раз потом приходилось видеть эти
внешние приметы «безумной» страсти) не нарушали их
форму. Переходы одной позы в другую исполнены на-
пряжения, преодоления мучительной боли. Движения
стрельчато вытянутой ноги, вытянутой руки точно за-
вершают позу. А потом сразу контраст: нежно, как буд-
то жалуясь, Мехменэ прижимает к лицу вознесенную
вверх ногу. Руки ласково обнимают ее — так нежно и
ласково мог бы обнять царицу Ферхад. Но за опьяня-
ющие мгновения несбыточной мечты приходится жесто-
ко расплачиваться: снова крик тела, раздираемого позой
экарте с широко разметавшимися руками и пальцами.
В этом монологе; пожалуй, впервые (не только в этом
спектакле) Осипенко так открыто, «напрямую» поверя-
ла свои чувства залу. Думается из этой сцены берет на-
чало тот ручеек, который, обретая полноводье потока,
привел впоследствии к Клеопатре, «Двухголосию», На-
стасье Филипповне.
Сцена погони — один из кульминационных момен-
тов спектакля — не относится к удачам Осипенко. Бы-
стрые темпы, прыжки и, наконец, «страшное» фуэте —
все это, очевидно, выбивало из равновесия, мешало со-
средоточиться на образной стороне эпизода. В нем
нередко случались срывы, неточности; то Визирь не мог
как следует сделать «стульчик», то фуэте не выходило,
а однажды толпа придворных волокла почти по полу
гордую царицу, героически сохраняющую позу (непо-
нятно, как двое парней с помощниками не смогли под-
нять Осипенко — такую легкую, ловкую, верткую и сме-
лую в самых сложных поддержках). Требующая силь-
ной техники и напора, эта сцена производила большее
впечатление у таких балерин, как Н. Тимофеева, К. Фе-
дичева. Смело и сильно танцевала ее О. Моисеева. Но
всегда у Осипенко в этой суматохе один момент произ-
водил неизгладимое впечатление, поднимал создавае-
мый балериной образ до высот эпической трагедии.
Гордым взмахом ноги Мехменэ Бану отталкивала скло-
ненную голову Визиря, униженно молящего ее о любви.
В этом повелительном взмахе, наклоне головы, молние-
носном взгляде, негодующем жесте сжатых в кулаки
рук было столько презрения и отчаянной решимости,
что становилось очевидным: царица готова терзаться и
207
жестоко страдать, но она никогда не унизит своей стра-
сти, не изменит ей. Она унижает Визиря, мстя ему за
то, что он стал невольным свидетелем ее минутной сла-
бости. Она велика во всех своих чувствах — любви, са-
моотверженности, ненависти, страданиях и презрении —
женщина, достойная легенды.
Огромной силы воздействия на зрителей Осипенко
достигала во втором монологе и дуэте с Ферхадом. Бе-
зупречность формы и значительность поз, пространст-
венный размах танца сочетались в этой сцене с волную-
щей глубиной переживаний, многогранностью их оттен-
ков и удивительно сдержанной, почти скупой манерой
их проявления. Изнемогающая от ревности, потрясен-
ная неблагодарностью сестры, томимая желаниями,
жаждой мести, понимая жестокость и несправедливость
этих чувств, появляется Мехменэ Бану в сопровожде-
нии вереницы кордебалета. Душна и знойна летняя
ночь, пламенеют красные костюмы танцовщиц, лихора-
дочным жаром пульсирует в голове кровь. Одной рукой
Мехменэ Бану закрывает лицо, а другой обнимает свое
затянутое в черное тело — кажется, что одинокой и не-
счастной царице зябко в томящем красном мраке. Ме-
лькают воспоминания о погоне, они болезненно ранят,
заставляют невыносимо страдать, и в момент, когда ка-
жется, что эту вечную муку вынести уже невозможно,
наступает минута счастья, призрачного, иллюзорного,
но все же счастья. Момент, когда пригрезившийся ей
Ферхад снимает покрывало с Мехменэ Бану, и под его
влюбленным взглядом она тихо опускается плашмя,
вниз лицом, у Осипенко был полон такого умиротворе-
ния и беззащитности, что по спине бежали мурашки.
Конечно, все это превосходно сочинил Григорович, но
исполнение было так же блистательно. Натянутое, на-
пряженное до сих пор, очерченное точной графической
линией тело Осипенко вдруг как-то смягчалось; царица
еще стоит на коленях, а оно уже никнет, клонится к
земле и, распростертое, обмякает, застывая в мгновении
блаженного покоя, беспредельного, единственного за
весь спектакль.
Начинается дуэт. Трудно найти в идущих на нашей
сцене спектаклях адажио, где чувственная страсть
изображалась бы так открыто и покоряюще талантливо,
но не легче найти и пример сочетания темперамента и
сдержанного целомудрия, которое присутствовало в ис-
208
полнении Осипенко. Ощущение это создавалось сплавом
неподдельного темперамента балерины, ее изысканно-
прекрасных форм, глубокого понимания роли и безу-
пречного вкуса. В начале адажио Мехменэ Бану еще
прячет лицо от Ферхада, и, послушная воле балетмейсте-
ра, Осипенко отворачивает лицо, глаза ее опущены, а
линия шеи трогательна и чуть-чуть напряжена. Кажет-
ся, что, не видя Ферхада, она ловит шорох его дыхания.
А само лицо строго и все-таки скорбно. Оно остается
таким до конца этой сцены. Движения же будут все эк-
спрессивнее, позы шире, переплетения тел в поддерж-
ках теснее. Подхваченная волнами накатывающихся
секвенций, прижав руки к груди, балерина обвивает но-
гами торс Ферхада, лихорадочно, как прерывистые
вздохи, эти объятия прерывают повороты, а за мгнове-
ние до экстатической вершины этого дуэта, отойдя от
партнера, отстранившись от него, Осипенко смело и
открыто смотрела в глаза Ферхаду. Величественным,
почти ритуальным жестом она венчала его царством,
отдавая себя своему повелителю. А затем безоглядно
шла на «свечку», стремительно взлетала в его руках, а
ноги на «шпагат» раскрывались медленно, свободно и
как-то особенно «весомо».
Видение исчезает. Поверженная, раздавленная горь-
кой действительностью, снова лежит плашмя Мехменэ
Бану. Конвульсией сведено тело, не касается пола све-
денная судорогой спина, а руки взывают, напряженно
тянутся вслед исчезнувшей тени в стремлении удер-
жать... Но тщетно. И тогда тело снова сникает, и цари-
ца застывает теперь уже лицом вверх. Это опять мгно-
вение покоя. Но то был покой счастья, теперь — смерти.
Просматривая страницы, посвященные «Легенде о
любви», я обратил внимание, что заменяю прошедшее
время настоящим. Между тем Осипенко давно уже не
танцует Мехменэ Бану, да и сам балет живет какой-то
странной, спорадической жизнью на сЦене Кировского
театра: число спектаклей все уменьшается, а интервалы
между ними увеличиваются. Но, живущие в моей памя-
ти, спектакли Аллы предстают такими яркими, что ка-
жется, будто последний из них был совсем недавно.
Вспоминал я их и в 1975 году, когда читал статьи,
приуроченные к двадцатипятилетию творческой деяте-
льности балерины. Обратили на себя внимание рассуж-
дения В. Красовской: «Осипенко остерегается чувства,
209
особенно когда его надо выражать прямо и безусловно,
почти от собственного лица...». Вторит ей П. Карп:
«У Осипенко открытое чувство никогда не било через
край. Эмоциональное начало всегда проходит сквозь
призму анализа, раздвигающего возможности танца».
И снова В. Красовская: «Танцовщица (до неправдопо-
добия) бесплотная в танце», а затем впрямую о Мехме-
нэ Бану: «...очищение от темы плотской любви».
«Лебединое озеро», остальная классика, Хозяйка
Медной горы, «Экзерсис XX» — можно согласиться, но
справедливо ли это по отношению к монологам Мехме-
нэ Бану (особенно в поздних спектаклях), можно ли
безоговорочно так писать после Клеопатры, «Минотавра
и Нимфы», Красавицы в «Блудном сыне», почти на по-
роге создания балетов «Под покровом ночи», «Двухго-
лосия», Настасьи Филипповны, наконец? А ведь это на-
писали люди, знающие, любящие и тонко чувствующие
творчество Осипенко.
Каким колдовским обаянием должны были обладать
изысканные линии балерины, какой гармоничной в
своем совершенстве должна была быть форма ее танца,
какой должна была быть мера вкуса, чтобы сценические
создания Осипенко воспринимались именно так! Может
быть, я ошибаюсь, но в моем представлении весь твор-
ческий путь Осипенко, начавшийся робким и отрешен-
но-замкнутым Белым лебедем и приведший ее к взвин-
ченно-откровенной Настасье Филипповне, весь его эти-
ческий смысл заключен в познании своей человеческой
сущности и все более откровенном, почти исповедаль-
ном под конец, рассказом о ней. Вряд ли случайно, что
последним балетом, который станцевала Осипенко, был
балет о самой себе — «Траурный марш» из Восьмой
симфонии Бетховена. Принцип «все на продажу» полу-
чил логическое, зримое завершение. Такое под силу не
многим. И дело не в смелости — ее при желании не-
трудно заменить самоуверенной дерзостью — надо вла-
деть подлинными ценностями души, чтобы, отдавая их
людям, не превратить этот дар в распродажу уцененных
товаров.
На этом длинном и мучительном пути первым види-
мым шагом, по-моему, стала именно партия Мехменэ
Бану. Следующий был сделан в «Антонии и Клеопатре».
Постановка И. Чернышева «Антоний и Клеопатра»,
думается, не получила должной оценки, и ее подлинное
210
место в эволюции советского балета так и не осознано.
Как прилет одной ласточки не делает весны, так и по-
становки Ю. Григоровича и И. Бельского воспринима-
лись многими в момент их создания как выдающиеся,
но частные удачи, и только после появления на ленин-
градской сцене «Антония и Клеопатры» стало возможно
говорить о формировании направления, школы. Дейст-
вительно, Чернышев не только органично усвоил и
творчески осмыслил новые методы построения спектак-
ля, найденные Григоровичем и Бельским, но и сумел
обрести свой собственный хореографический язык. Ко-
нечно, его генетическая связь с «Легендой о любви»
прослеживалась довольно ясно, но считать его прямым
подражанием нет оснований, настолько он выразителен,
исполнен смысла, точно передает эмоциональное состо-
яние героев.
После ухода Григоровича и Бельского из Кировско-
го театра там воцарился застой. К. Сергеев с упорст-
вом, достойным лучшего применения, реанимировал хо-
реодраму. Что теперь, после Хозяйки и Мехменэ Бану,
могли дать эти спектакли Осипенко?
Естественно, она не могла пройти мимо Клеопатры,
образа трагедийного, психологически сложного. Как
рассказывает Алла, почти всю основную постановочную
работу Чернышев провел с ней. Но в Малом оперном
она была гастролершей, и поэтому, естественно, премь-
еру танцевала балерина театра — В. Муханова. Подроб-
ности первого спектакля (11 июня 1968 года) сейчас
уже ушли из памяти, они вытеснились впечатлениями
от более поздних спектаклей Мухановой. Но общее
ощущение от ее исполнения на премьере сохранилось.
Муханова танцевала Клеопатру с невероятным напором,
сильно, жестко, и эта манера придавала хореографии
какой-то спортивно-акробатический оттенок. Казалось,
что Муханова все время гонится за текстом, торопится
успеть сделать все с размахом и до конца. Эта несколь-
ко однообразная моторность, хотя и производила
впечатление, но лишала роль воздуха, пауз, мгновений
раздумья, а с ними и психологической глубины. Но
вскоре в исполнении Мухановой наметились перемены:
сохранив прежний напор и темпераментность, оно обре-
ло большую глубину и тонкость. Думаю, что на премь-
ере сказались нервное напряжение и недостаточно орга-
ничное владение стилистически сложным текстом, но
211
все же трансформация, безусловно, произошла не без
влияния Осипенко и впечатлений от ее спектаклей. Му-
ханова стала незаурядной исполнительницей партии
Клеопатры.
Получив несколько превратное представление о хо-
реографии балета, я, встретив после премьеры Аллу на
Невском, не без иронии и несколько опрометчиво поин-
тересовался, как она собирается проделать все эти трю-
ки. Она сухо ответила: «Мне интересно». Это удивило,
и только позже, после ее спектакля, я понял, что она
имела в виду. В исполнении Осипенко хореография
Чернышева прозвучала совсем по-другому. Она утрати-
ла внешний напор, моторность, но обрела широту, зна-
чительность поз, большую глубину и серьезность, раз-
нообразие оттенков. Но главное, что привнесла в спек-
такль балерина,— это томительная напряженность че-
ловеческих отношений, извечная борьба мужского и
женского начал.
Первое появление Клеопатры сразу же привлекает
внимание многозначительностью и необычностью. Мо-
нументальный и суровый, будто высеченный из камня,
стоит Антоний — Марковский, твердо попирают рас-
ставленными ногами египетскую землю римские воины,
а вокруг них скользят и приниженно-податливо склоня-
ются египтянки. Танец разворачивается не спеша, вре-
мя как будто остановилось. И вдруг, словно от дунове-
ния ветерка, над головой Антония качнулась тонкая
женская кисть, затем другая, слева в медленном вырази-
тельном a la seconde вкрадчиво поползла вверх стопа с
напряженно вытянутым носком, руки с разведенными
пальцами призывно заскользили по груди воина и, на-
конец, из-за спины-Антония появляется Клеопатра. Она
готова прильнуть к победителю, но он отстраняет ее, и
Клеопатра мгновенно застывает в канонической позе
египетской царицы. Появление Клеопатры кратко, идет
под занавес и очень неожиданно, но и в эти считанные
мгновения Осипенко успевает быстрыми штрихами по-
казать женскую слабость, хищность и опытность обо-
льстительницы и неприступную гордость великой цари-
цы. Но над всеми этими реальными чертами, мимолетно
проскальзывающими в пластике балерины, парит какая-
то дымка тайны, ожидания, неизвестности.
Позже И. Бельский (в то время главный балетмей-
стер Малого оперного) сильно сократил танцы египтя-
212
нок, чем нарушил точно продуманный расчет, и теперь
появление Клеопатры отчасти потеряло свою неожи-
данность, а с ним и остроту впечатления.
В следующей картине балета римлянин уже потерял
голову, опьяненный искусными чарами. Оргия в разгаре.
В стремительных прыжках Антоний и Клеопатра выле-
тают на сцену; она — отступая и заманивая его, он —
преследуя. Но интрига завела Клеопатру слишком дале-
ко, и жаркий порыв бросает ее на грудь Антония; она
повисает у него на шее, улыбка блуждает по лицу, а но-
ги нетерпеливо дрожат в ожидании сладостных ласк.
Страсть объединяет, но борьба продолжается. Стреми-
тельно, молниеносно, как удар бича, взлетает влекомая
властной рукой Антония нога царицы. Упруго, сопротив-
ляясь насилию, делает круг и упрямо распрямляется.
Мгновение — и открытую позу сменяет другая: Клео-
патра сжалась и почти скрылась в объятиях Антония.
Снова раскрылась и тотчас же спряталась. Наступает
минута затишья; оба стоят прямо, внешне спокойно, но
каждый взвешивает следующий ход. (Как часто эта
статическая фронтальная поза оказывалась пустой у
других исполнителей, они просто ждали вступления и
переводили дыхание.) Антоний решительно накрывает
стопу Клеопатры своей, она, мягко изогнув корпус, с
усилием освобождает ее. Какое многообразие чувств
передает в этом простом движении Осипенко! Она не
может допустить первенства Антония, она царица — по-
велевать ей. Но грубое сопротивление может обидеть
Антония, освободиться надо осторожно, нежно, а кроме
того, ее волнует тяжесть этого сильного мужского тела,
эта боль сладостна. И все это в изгибе корпуса, во взгля-
де! Но вакхический танец снова неудержимо завладева-
ет ими и завершается прыжком Клеопатры на спину Ан-
тония, глядящего ослепленными страстью глазами в зал.
Уже первые сцены спектакля показали, какого неза-
менимого партнера для «Антония и Клеопатры» обрела
Осипенко в лице Джона Марковского. Тема незамени-
мости Джона еще не раз возникнет на страницах этих
записок. Немало часов я потратил позже, разубеждая
Аллу в истинности этого тезиса. Но в «Антонии и Клео-
патре», а затем в «Минотавре» и, пожалуй, в «Двухголо-
сии» Джон был действительно незаменим. Дело не в том,
что само по себе его исполнение было сильно и артис-
тично, не в том, что в его ловких руках Алла чувствова-
213
ла себя уверенно, не в том даже, что пропорции партне-
ров воистину идеально сочетались, но присутствие Джо-
на на сцене обостряло эмоции балерины, втягивало
в драматическое противоборство, истоки которого брали
начало в их совместной, полной сложностей и противо-
речий жизни. В спектаклях классического репертуара и
многих других это не имело решающего значения и
Марковский становился просто хорошим, выгодным и
удобным партнером, но там, где так или иначе возника-
ла тема «борьбы полов», их дуэт производил огромное
впечатление накалом чувств и глубиной самовыраже-
ния. В «Антонии и Клеопатре» поначалу об этом можно
было только догадываться, но со временем это обстоя-
тельство становилось все более очевидным, наполняя
спектакль каждый раз новым звучанием. Однажды, уже
на одном из последних спектаклей, за кулисами вспых-
нула ссора. Предстояла сцена с послом. Бурей пронесся
Джон по диагонали, отволок посла, почти вышвырнул
его, а затем набросился на Клеопатру. Она, сжавшись
в комочек, взвилась ввысь в его сильных руках. Анто-
ний тряс ее так яростно, с такой безумной злобой, что
сделалось страшно. Но финал этой сценически убедите-
льной вспышки мог оказаться еще ужасней. Теряя над
собой контроль, Джон, вместо того чтобы опустить ба-
лерину, просто выпустил ее из рук, и Алла с высоты его
роста грохнулась согнутыми ногами об пол. Я сидел
слишком близко, чтобы не видеть, как исказилось гри-
масой боли лицо Осипенко, но она довела эпизод до
конца. Зал откликнулся аплодисментами, и мало кто
понял, что эта сцена ревности, сыгранная с трагедий-
ным размахом, могла стоить балерине обоих колен.
Д. Марковский, окончивший Рижское хореографиче-
ское училище (1962) и недолго работавший в местном
театре, затем совершенствовался в Ленинграде, в хо-
реографическом училище и в 1965 году был принят в
труппу Кировского театра. Джон — убедительный при-
мер нереализованных возможностей. Природа его ода-
рила высоким ростом, широким разводом плеч, узки-
ми бедрами, хорошими пропорциями и мягкой, краси-
вой моделировкой мышц — словом, всем, что принято
называть отличными сценическими данными. К этому
она добавила хорошую координацию, мягкое плие, фи-
зическую силу. Но, чтобы не казаться чрезмерно расто-
чительной, природа лишила его способности трезво оце-
214
нивать себя, окружающих, факты и складывающиеся
ситуации. Реакции Джона на все явления жизни отли-
чались неожиданностью и абсолютной непредсказуемо-
стью. Его решения часто ошеломляли, а пути их осуще-
ствления удивляли своей нереальностью, граничащей с
фантастичностью. Первые годы пребывания в Кировс-
ком театре Джон, по свидетельству Осипенко, работал
много, почти фанатично. Начал складываться реперту-
ар. Ему поручали ведущие лирические партии (Зигф-
рид, Ромео), затем последовали Спартак, Вакх. Воз-
можно, Марковский при его росте никогда не стал бы
виртуозным танцовщиком, но весь лирический и герои-
ческий репертуар в конце концов пришел бы к нему, а
вместе с ним и видное положение в театре. Но нетерпе-
ливые желания Джона опережали действительность.
Положение подающего надежды солиста Кировского
театра уже не казалось завидным. Хотелось большего.
Начались обиды, конфликты, повод для которых, как
известно, всегда найдется в жизни театра. Джон приоб-
рел репутацию смутьяна и трудного в работе человека.
Он перестал систематически работать, многое потерял
в танце, но еще долго умело эксплуатировал свои при-
родные данные. На эту эволюцию ушло не так уж мно-
го времени — всего каких-нибудь пять лет. Но в
1965 году появление в репетиционном зале рослого, эф-
фектного юноши не могло пройти незамеченным женс-
кой половиной труппы. Однажды кто-то из подружек
вызвал Аллу из раздевалки, чтобы взглянуть на «неофи-
та». Она пошла, посмотрела и рассеянно произнесла:
«Красивый мальчик. Интересно — кому достанется?».
Джон достался ей. Кто знал, к какому крутому поворо-
ту судьбы это приведет? Они стали партнерами. «Анто-
ний и Клеопатра» — их первая крупная совместная ра-
бота в новом спектакле. (Не удивительно, что отблеск
личных отношений пал на нее.) Для Джона она оказа-
лась и последней сделанной тщательно, с полной отда-
чей. Роль Антония и Минотавр — самые значительные
его создания. Что касается Осипенко, то встреча с Кле-
опатрой подвела ее к образному ряду поздних работ,
созданий последнего десятилетия.
Огромной выразительной силой, трагической глуби-
ной и тонкостью нюансировки покорял монолог Клео-
патры. Томительно тянется время во дворце — нет ве-
стей от Антония. Еще раз пробует Клеопатра свою ма-
215
гическую власть над сердцами мужчин. Проплывая ми-
мо них, не глядя, она касается рукой обнаженных тел,
и они послушно начинают трепетать от сладостного
прикосновения. Но зачем это? Теперь ей нужен только
Антоний. Нетерпеливо, требовательно она бросается к
вернувшемуся из Рима рабу и застывает в напряженной
позе, смысл которой легко угадывается в острой, гра-
фичной пластике рук: она готова выслушать весть. Но
раб отводит взгляд. Глаза Клеопатры дрогнули, расши-
рились. Она еще властно требует ответа, но уже знает
его. А затем мгновенный необузданный взрыв мститель-
ной жестокости: царица готова растерзать вестника
страшной правды. Приступ гнева так яростен, так опу-
стошителен, что силы покидают Клеопатру. Горе лома-
ет, деформирует линии, гнет к земле. Гаснут глаза, ни-
кнут кисти рук, распластанное в шпагате тело корчится
на земле. Хореография монолога — острая, терпкая —
дает возможность любой артистичной исполнительнице
передать душевное состояние Клеопатры, мгновенные
смены отчаяния и гнева. Но у Осипенко он изобиловал
такими тончайшими оттенками, такими ослепительными
вспышками темперамента, так искренно и страстно зву-
чали его пластические интонации, что зал стихал, на-
пряженно следя за каждым жестом балерины. На каж-
дом спектакле Осипенко заново жила чувствами своей
героини, наполняя их жаром своих собственных чувств,
раздумий, ассоциаций. Именно поэтому монолог Клео-
патры каждый раз проникал в душу.
Кажется, что после этого монолога трудно поднять-
ся на более высокую эмоциональную ступень. Но Оси-
пенко это удавалось. Всегда, в течение всей сценической
деятельности, в любом спектакле самым прекрасным и
вдохновенным в ее исполнении было адажио, дуэт.
Большой любовный дуэт Антония и Клеопатры (из-
за костюма телесного цвета, впервые одетого Аллой, все
для краткости называют его «голым») у Осипенко, бе-
зусловно, эмоциональная кульминация спектакля и ро-
ли. Изумительная красота линий, безупречное мастерст-
во дуэтного танца, богатство эмоциональных оттенков
делают этот дуэт в исполнении Осипенко и Марковско-
го выдающимся явлением хореографического исполни-
тельства. К счастью, он дважды зафиксирован на плен-
ке, одна из которых особенно удачно передает его кра-
соту и обаяние.
216
Дуэт начинается умиротворенно. На зыбком фоне
колышущихся струнных возникает мелодия. Зыбко пе-
реливается и дрожит задник. Все — боль, ревность, от-
чаяние, гнев Клеопатры — отступило, утихло: Антоний
вернулся, он у ее ног. А затем, уходя от этой тишины,
минуты душевного покоя и искренности, адажио ши-
рится, разливается потоком горячих, напряженных
чувств, искажаемых игрой, расчетом, противоборством,
и заканчивается безудержным экстатическим порывом.
В дуэте Клеопатра предстает нежно любящей, безза-
щитной женщиной, царицей, расчетливой соблазнитель-
ницей, пылающей вакханкой, наделенной почти сверхъ-
естественной властью над мужчинами. Этой многопла-
новости в сочетании с совершенством формы уже было
достаточно, чтобы покорить воображение. Но самой по-
разительной чертой исполнения была психологическая
неоднозначность каждого мгновения дуэта.
Вот Клеопатра делает движение, стремясь отдалить-
ся от Антония: в плавном изгибе бедер, наклоне головы,
линии шеи сквозит нежность, но и мягкая уклончи-
вость — след незабытой обиды... Напряженной, гори-
зонтальной струной, обращенная лицом вниз, она вытя-
гивается в руках склонившегося над ней партнера: про-
должая линию, тянутся руки, шея, взгляд. Но что-то
дрогнуло, сломалось внутри, обмякли руки, согнулись
колени, ушла в плечи, пленительно изогнувшись, шея.
Кажется, беззащитный ребенок пытается свернуться в
клубочек. Сладостно Клеопатре ощутить себя слабой в
этих сильных, надежных руках, забыть о бремени вла-
сти, довериться. Но одновременно в этой щемящей
своей детскостью и беззащитностью позе угадывается
упоительная истома чувственности... (Со временем у
Осипенко в этом месте дуэта что-то разладилось: «мо-
мент слома» стал более предсказуемым, утратил волну-
ющую двойственность, трогательность. Я забил тревогу.
Оправдываясь, Алла ссылалась на то, что Джон стал
как-то иначе охватывать ее корпус и мешает ей. Но на
следующих спектаклях все повторилось. Только позже
я понял, что дело не в приеме поддержки: изменилась
сама Алла — ушло чувство спокойной нежности, дове-
рия к Джону.)
Антоний на коленях у ног Клеопатры. Взяв его за
волосы, она рывком, жестко, мстительно поднимает к
себе его лицо. При профильном положении ног плечи
217
почти развернуты в фас, линия корпуса напряженно-
выгнутая, хищно-склоненная, взгляд расширенных глаз
устремлен на Антония. Царица торжествует свою побе-
ду, но она уже охвачена порывом желаний, который в
следующее мгновение швырнет ее к ногам возлюбленно-
го и заставит их обнимать. В этом самоуничижении —
пьянящая сладость. А когда в кульминации дуэта она
снова натянутой струной с плотно прижатыми к бокам
руками вознесется на вытянутых руках Антония, а за-
тем примет позу сидящей статуи, дыханием вечности
повеет от застывшего тела, только что трепетавшего в
жарких объятиях...
Заключительный дуэт балета Осипенко проводила
сдержанно, самоуглубленно. Ее Клеопатра сразу пони-
мает, что Антоний умирает, что игра проиграна, судьба
свершилась. Она еще пытается поддержать умирающе-
го, поднять его, вдохнуть в него своими прикосновения-
ми любовь и жизнь, но в ее пластике нет силы, убеж-
денности, краски приглушены, непомерная усталость
отдаляет ее от жизни. В движениях угадывается какая-
то скорбная отрешенность. Теперь, когда уже ничего
нельзя поправить, когда бесполезно лукавить, бороться,
она достойно сдержанна и спокойна. Простой и непре-
ложной становится истина: без Антония жить нельзя.
Ее уже не пугают звуки труб приближающихся римс-
ких легионеров. Она умирает без аффектации, вздрог-
нув только от физической боли. А затем наступает одно
из самых сильных мгновений спектакля. Лежат два рас-
простертых тела. Мертвая Клеопатра поднимается и
простым, усталым шагом человека, оттанцевавшего бо-
льшой спектакль, направляется к Антонию. Это уже не
персонаж балета,,но еще и не актриса, отделившая себя
от образа. Это отчуждение от образа, но и образ отчуж-
дения от жизни. Простота этого бытового шага кажу-
щаяся, он вне эмоций. Он результат полной отдачи. Та,
которая была Клеопатрой, склоняется над Антонием,
долго смотрит, что-то меняется в ее облике, то ли неж-
ность, то ли сожаление проскальзывают в наклоне голо-
вы и взгляде, а затем она мгновенно принимает послед-
нюю позу. Напрягается и каменеет тело, твердеют и за-
остряются скулы, неподвижны большие глаза, устрем-
ленные вдаль: над телом Антония застыл Сфинкс —
вечный памятник женщине и ее великой любви.
Станцевав Клеопатру, Осипенко утвердила себя как
218
большая трагическая актриса. Хозяйка, Мехменэ Бану,
Клеопатра — вряд ли кто-либо из балерин ее поколения
сделал столько для утверждения нового направления в
балетном искусстве, пришедшего на смену драмбалету.
Остается только сожалеть, что она не стала Федрой,
Электрой, Медеей. Создав целое «собрание сочинений»
Шекспира на сцене («Ромео и Джульетта», «Отелло»,
«Гамлет», «Макбет», «Любовью за любовь», «Двенадца-
тая ночь»,— наверное, я что-то еще упустил) наш балет
практически обошел античных авторов, которые дали не
один сюжет для спектаклей современных западных хо-
реографов. Возможно, это не слишком повредило совет-
скому балету, но стало невосполнимой потерей для
многих талантливых танцовщиков и балерин.
После «Антония и Клеопатры» Осипенко надолго
осталась без интересной творческой работы. В театре
уже давно не создавалось ничего значительного, а кро-
ме того, Осипенко вплотную подошла к сложному ру-
бежу — минуло пятнадцатилетие ее пребывания в теат-
ре. Эту странную магию цифр испытали на себе многие
талантливые танцовщики. Они полны творческих и фи-
зических сил, хотят работать, накопили опыт, сформи-
ровались как личности, но они уже не «молодежь», не
кажутся перспективными, и к ним теряют интерес. По-
лагают, что они уже сделали все, на что способны, и те-
перь должны спокойно доживать до пенсии. Приходит
новое поколение, совсем не обязательно более талант-
ливое, но под знаком работы с молодежью вокруг них
начинается возня; репетиторы желают создать новые
имена, честь открытия которых принадлежит только им,
главному балетмейстеру приятно иметь в труппе моло-
дых актеров, обязанных всем только ему,— на них все-
гда в трудную минуту можно опереться. Явление это
почти неизбежное, так как в основе его лежит неизбыв-
ная жажда движения вперед, стремление к новому, ко-
торым, однако, легко маскировать самые разные моти-
вы. Хорошо, если театр живет интенсивной творческой
жизнью, когда один за другим появляются новые спек-
такли. Тогда дела хватает всем и поколения работают
рука об руку. Но если в театре застой, если новых ис-
полнителей вводят в старые спектакли только ради вво-
да, без учета реальных потребностей и художественного
результата работы, то такое выдвижение молодежи при-
нимает уродливые формы, снижает уровень спектаклей.
219
Нечто подобное случилось с Осипенко. В театре дав-
но уже минуло время, когда верили в амплуа, а балери-
ны имели «свои» спектакли. Этот принцип, доведенный
диктаторскими замашками Дудинской до абсурда — мо-
нопольного владения «Жизелью»,— рухнул. Теперь
каждая мало-мальски стоящая на ногах солистка,
умеющая (или воображающая, что умеет) задумчиво
склонять голову, рвалась сразиться с немеркнущим и
многострадальным шедевром. В этой очереди Жизелей
места для Осипенко не нашлось, но зато ее увенча-
ла Н. Кургапкина.
Ну да ладно, что не станцовано, то не станцовано!
Но нелепо и грустно было наблюдать, как актрисы, не
имеющие необходимой формы, не умеющие проникнуть
в суть образа, штурмовали «Каменный цветок», а Оси-
пенко — лучшая и непревзойденная исполнительница
партии Хозяйки — подолгу ждала своей очереди на
спектакль. Трудно придумать большей нелепости и ра-
сточительности! Но так или иначе, жизнь продолжа-
лась. Осипенко танцевала свой репертуар, иногда часто,
иногда с длительными перерывами; без видимой творче-
ской логики принимала или отвергала новую партию —
в 1967 году станцевала вряд ли нужную ей Злюку в сер-
геевской «Золушке», а в 1970-м — отказалась от работы
над небезынтересной Гертрудой в «Гамлете», чем на-
долго испортила отношения с Сергеевым; участвовала в
зарубежных гастролях — то в качестве этуали, то низ-
водимая до роли страхующей; конфликтовала с руко-
водством, терпела нелепые выходки главного балетмей-
стера, который однажды на гастролях в Лондоне заста-
вил ее выйти придворной дамой в первом акте той же
«Жизели» — славы театру этим Сергеев не прибавил:
лондонские газеты ехидно отметили этот выход балери-
ны в мимансе. Время шло. Накапливалось раздражение,
терялась перспектива, сдавали нервы, охватывала уста-
лость. Конфликты Джона, его постоянное недовольство
тоже не упрощали ситуацию. Он не давал угаснуть оби-
де, рисовал радужные перспективы, настаивал...
Наступил 1971 год. Осипенко и Марковский ушли из
Кировского театра. Я уже изложил свою точку зрения
на этот шаг. Через десять лет, вместивших радость ми-
нут вдохновения, творческие взлеты, находки, но еще
больше разочарований, несбывшихся надежд и потерь,
Алла как-то сказала лаконично: «Искали объяснений, а
220
их не было — просто не хотелось повторять себя».
Пусть будет так! Но на поиски новых открытий Алла
и Джон пустились, не ведая пути, без ясного понима-
ния цели (да и цели были разные). В сущности, приход
к Л. Якобсону не был обусловлен творческими причина-
ми: надо было работать, чтобы жить.
Осипенко впервые встретилась с Якобсоном еще в
хореографическом училище, когда он поставил для нее
«Размышление» Чайковского. Затем она танцевала в его
«Триптихе Родена», «Вальсах» Равеля, Фригию в
«Спартаке», на нее был поставлен номер «Прометей и
орел», который быстро забылся, и большинство его зна-
ет по распространенной фотографии. Но нигде ее ис-
полнение не стало художественным открытием, потря-
сением, оно было высокопрофессиональным, коррект-
ным, не более. Вряд ли можно утверждать, что Оси-
пенко — балерина Якобсона. Гениальный хореограф —
а это мы, как водится, осознали после его смерти, когда
вдруг с изумлением обнаружили, сколько он успел со-
чинить и поставить за недолгие годы существования
своей труппы (1969—1975), каким неиссякаемым и
разнообразным был его хореографический дар — умел
точно угадывать актерские индивидуальности и раскры-
вать их в своих постановках. Но с Осипенко так не
произошло. То ли случай по-настоящему не представил-
ся, то ли индивидуальность была сложной и неподатли-
вой.
За два сезона работы в «Хореографических миниа-
тюрах» (1971—1973) Осипенко и Марковский сделали
не так уж много: адажио в «Экзерсисе XX», «Полет
Тальони», «Жар-птицу», «Блестящий дивертисмент» на
музыку Глинки и «Минотавра и Нимфу». Стоило ли для
этого уходить из Кировского театра? Пестрая и в до-
статочной мере случайная тематика номеров — иногда
просто малоудачных («Жар-птица», «Блестящий дивер-
тисмент»), иногда ограничивающихся демонстрацией
прекрасных форм и мастерства балерины («Экзерсис
XX» и «Полет Тальони») — никак не соприкасалась с те-
мой трудной, трагической любви, любви-креста, которая
постепенно заняла доминирующее место в творчестве
Осипенко. Смотреть эти номера было интересно (на
Осипенко всегда интересно смотреть), но сказать в них
балерине было нечего. Невесомой тенью она плыла по
воздуху в «Полете Тальони» и, казалось, это не требо-
221
вало от нее никаких усилий. Как часто потом эту иллю-
зию разрушали напряженная шея, твердеющие руки
других исполнительниц такого простого на вид номера!
Графично, с пониманием стиля танцевала она с Мар-
ковским адажио в «Экзерсисе XX», но увидеть его мож-
но было нечасто — Джон использовал любой повод,
чтобы увернуться от трудного номера. Что собой пред-
ставляет «Блестящий дивертисмент» никто (включая
самих исполнителей) толком сообразить не успел: на
премьере в концертном зале «Октябрьский» Джон, на-
ходившийся явно не в форме, в съехавшем набок пуд-
реном парике, из-под которого торчали его жесткие
черные волосы, перепутал порядок и сбил Аллу. Остав-
шаяся часть этого длинного номера была посвящена
выяснению отношений. Принцип, исповедуемый Мар-
ковским — «за такие деньги и так сойдет»,— начал да-
вать свои плоды. А вскоре на одной из репетиций меж-
ду Якобсоном и Марковским вспыхнул конфликт; хо-
реограф выгнал его из зала и отказался с ним работать.
Осипенко уговаривали остаться. Джон подал заявление
об уходе, за ним последовала Алла. Ситуация повтори-
лась.
И все же два года работы в «Хореографических ми-
ниатюрах» не прошли бесследно: Осипенко и Марковс-
кий станцевали «Минотавра и Нимфу».
Луч прожектора освещает две фигуры, застывшие в
позе скульптуры Родена. Обнаженно-розовая — и гряз-
но-пятнистая; с напряженно изогнутой линией бедра —
и с могучими, нависшими плечами; неправдоподобно
стройная, хрупкая — и громоздкая, сутулая; с откину-
той в испуге головой — и «набычившаяся»; ее руки за-
щищаются — его жадно тянутся. Застывшая пластичес-
кая антитеза — красота и уродство, слабость и сила, ду-
ховность и животная тупость. Но как бы ни восприни-
мал зритель это противопоставление, его сразу покоря-
ет безупречность пропорций исполнителей и обволаки-
вает атмосфера томительной сексуальности. Нет, волну-
ет не пленительный изгиб податливых бедер, не вид
тесно переплетенных и, по существу, обнаженных тел,
даже не сама откровенность позы, а невозможность
слияния этих противоположностей, противоестествен-
ность влечения, его болезненность. Глухой рокот музы-
ки Альбана Берга оживляет фигуры, начинается танец.
Поначалу это, скорее, цепь поз, выразительных, отто-
222
ченных и, несмотря на неподвижность, динамичных
своей острой экспрессией. Их связывают мгновенные,
почти неуловимые переходы. В них страх, насторожен-
ность и неотвратимость надвигающегося. Вот Нимфа,
поджав одну ногу и отстраняя от себя ладонями с раз-
веденными пальцами Минотавра, пытается высвободи-
ться из объятий. Безуспешно. Новая отчаянная попыт-
ка. Упираясь пятками в пол и силясь вырвать руки, она
почти складывается пополам, а Минотавр, согнувшись
дугой, удерживает ее. Напряжение растет, корпус Ни-
мфы приобретает почти горизонтальное положение. Ка-
жется, что это лук с натянутой тетивой, что еще одно
усилие — и она освободится, но мощный рывок — и
Нимфа снова в руках Минотавра, поднятая ввысь, с но-
гами, прижатыми к его груди. Снова она пытается за-
щититься руками — фигуры образуют две напряженные
дуги — его, осевшую на ноги, наклоненную вперед, с
опущенной головой и ее, откинувшуюся назад. На лице
Нимфы страдание, но и отблеск сладостного изнеможе-
ния. В этой позе они запечатлены на фотографии — од-
ной из лучших и выразительнейших фотографий Оси-
пенко и Марковского.
В вихре круговых движений Нимфа оказывается на
круто согнутой спине Минотавра. Снова вывернулась
из-за его спины. Жест руки последний раз взывает о
помощи, а затем, зажав руки между плотно сведенными
коленями и свившись в кольцо, она соскальзывает по
торсу и ногам Минотавра наземь. Безжизненный комо-
чек еще теплой плоти лежит у ног Минотавра, а он,
упоенный своей победой, топочет над ней, перекатывает
ее, потрясая воздетыми руками. В этом танце-ликова-
нии страшного чудовища внезапно проскальзывает что-
то наивное, почти детское; поистине оно не ведает что
творит, повинуясь зову природы.
, Широко расставив ноги, в опущенных руках держит
он безжизненное тело. Оно, вытянутое, застывшее,
впервые раскрытое и доступное, раскачивается у него
на руках. Как маятник, оно отсчитывает вечный бег
времени. Жизнь покинула его, шевелятся, задевая зем-
лю, только распущенные волосы, а Минотавр, склонив-
шись над ним, недоуменно взирает на погубленную и
бесполезную теперь красоту. Музыка затихает, движе-
ния истаивают, и фигуры, снова застывшие в первонача-
льной позе скульптуры, погружаются во мрак.
223
Танцевали ли Осипенко и Марковский греческий
миф с его ясным пантеистическим восприятием мира?
Конечно, нет. Якобсон, выбирая музыку Берга, уже
предопределил другое звучание номера. Но исполнители
внесли в него такую острую ноту обреченности, разлада
и, не побоимся модного слова, несовместимости, что
она сильнее, чем томительные, не находящие разреше-
ния вагнеровские гармонии смерти Изольды, окрасила
номер ощущением болезненной чувственности и трагиз-
ма. Отталкиваясь от мифа, Осипенко и Марковский по-
ведали об отношениях мужчины и женщины XX ве-
ка — сложных, драматичных и безнадежно запутанных.
Именно поэтому номер производил такое магическое
впечатление на зрителей, именно поэтому зал отзывал-
ся аплодисментами всегда после небольшой паузы.
«Минотавр и Нимфа» находил отзвук в душе каждого.
К сожалению, этот номер они танцевали сравнитель-
но недолго.
Выразительная постановка корпуса Минотавра с от-
кинутой назад сгорбленной спиной, опущенной, «бодаю-
щей» головой, так счастливо найденная балетмейстером
и ставшая одной из самых ярких красок исполнения,
оказалась для нетренированного тела Джона трудна. То
он жаловался, что болят мышцы живота, принимающие
на себя всю нагрузку в поддержках, то уверял, что ра-
стянул спину. Виноваты были все и всё — Якобсон,
придумавший неудобные позы, Алла, которая не тогда
вскочила и не за то схватилась, пол, свет. Убедить Мар-
ковского, что у танцовщика, который почти не занима-
ется, а перед выходом не разогревается, неизбежно
должны болеть мышцы, было невозможно. Он гнул
свою линию, почти всерьез цитировал: «Грим для уро-
дов, экзерсис для бездарных» — и пользовался любой
возможностью, чтобы уклониться от исполнения номе-
ра.
Любопытно, что номер «Минотавр и Нимфа» в ис-
полнении Осипенко и Марковского стал каким-то полу-
легальным. Ханжи от искусства сразу учуяли его опас-
но волнующий подтекст. В своих сольных концертах
Осипенко и Марковский танцевали его беспрепятствен-
но, но включение номера в программу столичных гаст-
ролей встретило'сопротивление, телевидение не захоте-
ло его показать, а однажды фотографию, о которой я
упомянул, сняли с рекламного стенда Ленинградского
224
театра эстрады, сочтя ее излишне откровенной. Все эти
эпизоды сами по себе достаточно нелепы, но разве они
не свидетельствуют о сомнительности тезиса критиков
об «очищении от темы плотской любви», будто бы ха-
рактерном для творчества балерины.
Уход от Якобсона из «Хореографических миниа-
тюр», опять неожиданный, непродуманный и, конечно,
никак не подготовленный, снова поставил Осипенко и
Марковского в критическое положение. Со всей остро-
той встал вопрос: что делать дальше? Надо было рабо-
тать, но работать было негде. Аллу приглашали в Ма-
лый оперный театр, но без Джона. Возможно, надо бы-
ло проявить некоторое терпение и со временем все бы
утряслось. Но Осипенко не в состоянии быть благора-
зумной. Цепью непродуманных, а главное, ничем не
спровоцированных поступков она превратила заинтере-
сованное отношение О. Виноградова (тогда главного ба-
летмейстера Малого оперного) в безразлично-вежливое.
Так, однажды, после удачного «Лебединого озера», ког-
да он зашел к ней поздравить с успехом и поговорить
о дальнейшей работе, Алла оборвала его, заявив, что ей
некогда разговаривать, так как ее фотографируют. Это
было действительно так: брат Джона делал любитель-
ские фотографии. Виноградов ушел. Разговор о второй
ленинградской сцене больше не возобновлялся. А ведь
в свое время от Виноградова исходили предложения
принять участие в постановке «Ярославны» (даже были
вывешены списки составов с фамилией Осипенко), ра-
зучить «Сильфиду»; он продолжал приглашать Осипен-
ко на «Лебединое озеро» и «Антония и Клеопатру»; ар-
тисты Малого оперного принимали участие в ее вечерах
балета. Здесь при желании можно было станцевать
«Жизель». Наконец, на сцене Малого оперного театра
было отмечено двадцатипятилетие творческой деятель-
ности балерины. Уже один перечень этих фактов свиде-
тельствует о том, что контакты с Малым оперным мог-
ли быть тесней и привести к значительным результатам.
Не осуществила их сама Осипенко. В это время она
уже слепо считала, что творчество и танцы возможны
только с Джоном. Ради него она жертвовала родными,
материальным благосостоянием, наконец, собой и своим
искусством.
Прибежищем безработных оказался «Ленконцерт».
Началась кочевая жизнь, которую никто из них не
225
представлял и не был к ней готов после многих лет работы
в театре. Не было ничего: ни репертуара, ни кос-
тюмов; раздражала организационная неурядица. Фраг-
менты балетов мало годились для клубных площадок и
сборных эстрадных программ. Снова выручала «Мело-
дия» Глюка. Спешно разучили эстрадный номер на му-
зыку Ф. Лея к «Love story». Костюмы заказывали на
свои средства. Стремясь хоть чем-то помочь, часть ко-
стюмов сшил я. Было ясно, что так долго протянуть не-
льзя, настроение поддерживала только перспектива бо-
льшой гастрольной поездки в Юго-Восточную Азию и
Сингапур, которую организовывал А. Макаров.
И тут Осипенко постигло несчастье. На просмотре
антрепренером гастрольной программы, происходившем
в Кировском театре в мае 1973 года, заканчивая по-
следние такты «Вальпургиевой ночи», Алла получила
травму. Ее на руках унесли со сцены. Это была катаст-
рофа. Разрыв ахилла левой ноги в сорок три года озна-
чал конец карьеры, а возможно, и хромоту до конца
дней. Операцию делали в клинике Военно-медицинской
академии, там же, где более двадцати лет назад спасали
правую ногу молодой танцовщицы. Натруженная, разо-
рванная связка была в таком состоянии, что часть ее
пришлось заменить капроновой вставкой. До поездки
оставалось неполных шесть месяцев. Осипенко сказала,
что на гастроли она поедет.
Началась борьба.с недугом, борьба за право снова
выйти на сцену. Стояла летняя солнечная погода, я от-
дыхал в санатории рядом с дачей Аллы. Мы виделись
каждый день. Когда почти через месяц сняли гипс, то
ноги, по существу, не было — трудно назвать ногой две
кости, обтянутые покрасневшей кожей. Вдобавок атро-
фированная нога не разгибалась и была короче здоро-
вой. Алла могла передвигаться только на костылях. Че-
рез два-три дня, подвязав под больную ногу деревяшку
и так сравняв ее длину со здоровой, мы отправились в
санаторий на физиотерапию. Гулко хлопала по асфаль-
ту деревяшка, стучал костыль. На дорогу в пятнадцать
минут ушел час. Мы смеялись и шутили, но каждый ду-
мал совсем о другом.
Шло время. Алла боролась самоотверженно, стиснув
зубы, превозмогая боль, опережая и нарушая предписа-
ния врачей. Первая победа была отпразднована шумно —
на большом костре сожгли уже ненужные костыли. Ал-
226
ла могла ходить, но до танцев было еще далеко. Трав-
мированная связка не позволяла сделать плие; каждая
попытка вызывала боль, казалось, что еще немного —
и связка снова лопнет. Превозмогая страх, со слезами
на глазах Осипенко настойчиво разрабатывала ногу.
Девятнадцатого ноября 1973 года Осипенко снова
вышла на сцену: в Оперной студии Консерватории шел
открытый прогон гастрольной программы. Для первого
выхода, учитывая возможности недолеченной ноги, бы-
ли выбраны уже не раз послужившая «Мелодия» и
«Минотавр и Нимфа». Но судьбе было угодно драмати-
зировать и этот выход.
Когда Алла и Джон появились на сцене и она мед-
ленно поплыла в воздухе, грустная мелодия флейты
вдруг оборвалась — что-то случилось с проводкой, ди-
намики замолчали. Алла и Джон продолжали танцевать
в гробовой тишине. Динамики молчали. Лицо Осипенко,
строгое, сосредоточенное, покрылось красными пятнами.
Динамики по-прежнему молчали. А когда напряженная
тишина стала невыносимой, где-то в середине номера,
музыка снова зазвучала, точно совпав с движениями
танцующих. Позже Алла рассказывала, что в момент
исчезновения звука она шепнула партнеру: «Танцуем!
Если я сейчас уйду со сцены, то уже больше никогда на
нее не выйду». Надо ли говорить, каким добавочным
грузом легла эта поломка на нервы, и без того предель-
но натянутые. По окончании номера зал дружно при-
ветствовал балерину, а она незаметно приноравливалась
и меняла ногу, чтобы склониться в традиционном глу-
боком реверансе — нога мешала сделать привычное, но
в волнениях первого выхода не опробованное за кулиса-
ми движение.
Осипенко сделала почти невозможное. Она победила
болезнь, поехала в поездку и вернулась из нее, восста-
новив почти прежнюю форму.
Но снова наступили будни. Снова неотступно пре-
следовал вопрос: «Что делать?».
Время самостоятельной работы в «Ленконцерте» бы-
ло, пожалуй, одним из самых трудных периодов в жиз-
ни Осипенко. Внешне все выглядело чрезвычайно импо-
зантно. Огромная квартира, обставленная антикварной
мебелью, портреты императоров и картины в золоченых
рамах, машина, цвет которой часто менялся, дача, весь
город оклеен афишами, на которых крупным шрифтом
227
с красной строки напечатаны фамилии Осипенко и
Марковского. Эффектные выходы на прогулку с двумя
борзыми довершали панораму процветания и благопо-
лучия.
Действительность была совсем другой. Работа не
приносила удовлетворения. Выступления на клубных
сценах утомляли и задевали самолюбие. Сольные кон-
церты собирали настоящую публику, но они были не
так уж часты и эксплуатировали старый репертуар и
популярность. Пожалуй, только монтаж «Антония и
Клеопатры», сделанный летом 1976 года, был каким-то
движением вперед. Составленный из сольных отрывков
и дуэтов одноименного балета, он прозвучал особенно
насыщенно, эмоционально и драматично. Исполнять его
было нелегко — почти сорок пять минут непрерывного
танца.
Каждая попытка что-либо сделать требовала огром-
ных усилий, возникавшие проекты большей частью не
получали воплощения. Марковский попытался ставить
сам. Для своего балетмейстерского дебюта он остано-
вился на неиспользованной в академической редакции
музыке «Жизели». Номер назывался «Романтическим
па-де-де», был сделан грамотно, со вкусом, производил
приятное впечатление мягкостью и лиризмом исполне-
ния. Алла танцевала в белом тюнике с голубым корса-
жем — костюме Жизели. Впервые он был исполнен в
феврале 1976 года. Затем в духе неоклассики было сде-
лано адажио из симфонии Бизе — тоже довольно удач-
но. Но здесь Осипенко допустила ошибку. Всегда гото-
вая уступить Джону, часто вопреки логике и смыслу, на
этот раз, она, вместо того чтобы поддержать его и по-
мочь, яростно спорила и сопротивлялась. Почти все ре-
петиции заканчивались ссорами. Адажио станцевали
всего один раз на концерте в Оперной студии Консерва-
тории, и, вместо того чтобы доработать, забросили. Все
остальные балетмейстерские проекты Марковского по-
сле этого не продвинулись дальше разговоров.
Не повезло Джону и на административном поприще,
требующем умения контактировать с людьми. Заглохла
возникшая было идея создания небольшого балетного
коллектива во главе с Осипенко и Марковским, испор-
тились только что налаженные отношения с руководст-
вом «Ленконцерта». Одна неудача следовала за другой.
Что-то не получалось по вине других, что-то упускали
228
сами. Усталость, разочарование делали свое дело.
Жизнь давала много поводов для конфликтов. Сложны-
ми, напряженными и запутанными стали личные отно-
шения. По огромной квартире бродили хмурые, раздра-
женные люди, вспыхивали ссоры, скандалы... Мучило
хроническое безденежье. Нет, Алла и Джон зарабаты-
вали не так уж мало. Но нерегулярность заработка, аб-
солютное неумение распределить деньги, неспособность
даже точно сосчитать число станцованных концертов и
заработанную сумму делали свое дело. Годами тяну-
лось — и так как будто не закончилось — оформление
добавки к концертной ставке, на которую Осипенко, как
народная артистка РСФСР, автоматически имела право
вне всякого сомнения. Иногда спустя несколько дней
никто толком не мог сказать, куда девались недавно по-
лученные восемьсот — тысяча рублей. Проверить и
осознать расчеты бухгалтерии тоже никто не пытался.
Достойным удивления был факт, что Алла получала бо-
льше, и домашний бюджет становился менее напря-
женным, когда она не работала, а находилась на боль-
ничном листе. Существенную брешь финансовому бла-
гополучию наносили также внезапные и далеко не
всегда разумные антикварные приобретения Джона.
Нина Александровна — мать Аллы — не успевала но-
сить, перезакладывать и выкупать вещи из ломбарда.
Череду однообразных, утомительных будней иногда
оживляли приятные моменты — гастрольные поездки в
Москву, премьера одноактного варианта «Антония и
Клеопатры», удачный сольный концерт. Радость достав-
ляли и такие экстраординарные события, как участие в
юбилейном концерте, посвященном восьмидесятипяти-
летию Ф. Лопухова. Этот концерт состоялся еще в са-
мом начале кочевой жизни Осипенко и Марковского,
20 декабря 1971 года, на сцене переполненного концер-
тного зала «Октябрьский» с участием солистов Киров-
ского театра и громких имен балетного мира Москвы,
Киева, Казани, Душанбе, Еревана. «Хореографические
миниатюры» представляли Осипенко и Марковский.
Они танцевали «Минотавра и Нимфу» и дуэт из «Ледя-
ной девы».
О последнем, пожалуй, следует сказать особо. Изъя-
тый из контекста теперь уже всеми забытого балета
Лопухова, он во многом потерял свой внутренний
смысл, логику взаимоотношения и превратился в эф-
229
фектный концертный номер. Но совершенное мастерст-
во дуэта Осипенко и Марковского, изысканная красота
линий балерины, почти неправдоподобная легкость ис-
полнения сложнейших поддержек, отрешенная замкну-
тость и безупречный в своем совершенстве графический
абрис поз делали этот дуэт шедевром исполнительства,
придавали ему какую-то внутреннюю значительность и
сказочную, таинственную недоговоренность. В этом мо-
жет убедиться каждый — пленка сохранила неповтори-
мый дуэт.
Ярким событием этого печального времени стало
также участие Осипенко в творческом вечере Михаила
Барышникова. Как не зарекалась Алла, что ее нога бо-
льше не ступит на сцену Кировского театра, но вечером
21 февраля 1974 года она вышла на нее Красавицей в
одноактном балете С. Прокофьева «Блудный сын».
Свой вечер Барышников задумал и осуществил с
размахом. Для него эстонским балетмейстером Май
Мурдмаа были перенесены в Кировский театр два одно-
актных балета «Дафнис и Хлоя» М. Равеля и «Блудный
сын» С. Прокофьева, а Георгий Алексидзе поставил
«Балетный дивертисмент» на музыку Моцарта к панто-
миме «Безделушки».
Появление Осипенко на сцене родного театра было
встречено овацией. Она танцевала дерзко, с напором,
соблазнительно. На лице блуждала торжествующая,
дразнящая улыбка. Тонкие руки и стройные ноги, затя-
нутые в фиолетово-вишневое трико, хищно обвивали
юношу, расчетливо распаляли, презрительно отталкива-
ли. Весь танец дышал какой-то мстительной радостью.
Конечно, Осипенко была несколько велика ростом для
Барышникова, превосходила его и экспрессией выраже-
ния чувств. Но именно в этом балете подобное соотно-
шение шло на пользу общему впечатлению. Успех был
заслуженным и полным, но и носил несколько демонст-
ративный характер — зрители выражали свое сочувст-
вие балерине, которую, как они полагали, вынудили
уйти из театра. Во время репетиций «Блудного сына»
дирекция театра предложила Осипенко вернуться. Во-
прос о Марковском оставался открытым. Алла сначала
выразила согласие, даже, кажется, написала заявление,
но времени для окончательного разговора с директо-
ром М. Крастиным у нее так и не нашлось: все время
мешали «неотложные» дела. На самом деле знакомая
230
ситуация повторилась в третий раз, да и шаг в прошлое
было сделать уже нелегко.
Станцевав еще раз на творческом вечере Барышни-
кова, Осипенко рассталась с Кировским театром. Опять
наступили будни, материальные затруднения, ссоры,
стрессы. Становилось очевидным, что самостоятельная
деятельность в «Ленконцерте» не для Осипенко и Мар-
ковского. Положение казалось безвыходным. Как часто
бывает, помог случай.
В «Ленконцерте» уже некоторое время существовал
ансамбль «Рок-балет» — коллектив броский, бойкий и
скандальный, что в конечном итоге привело в 1977 году
к его реорганизации. Художественным руководителем
ансамбля, который стал именоваться «Новый балет»,
стал Борис Эйфман. Началось становление нового кол-
лектива, поиски своего лица. Совместная работа устраи-
вала обе стороны. Осипенко и Марковского она избав-
ляла от бесконечных организационных неурядиц, дава-
ла ощущение крыши над головой, иллюзию работы
в театре. Эйфману импонировало сотрудничество с
крупной балериной, имя которой украсит афишу, при-
влечет внимание к молодому ансамблю. Строились и не-
которые творческие планы, но вряд ли кто-либо предпо-
лагал, к каким значительным результатам приведет это
сотрудничество. Приглашение последовало быстро и по-
сле некоторых колебаний столь же быстро было приня-
то. Но по экономическим соображениям (как потом
стало ясно — ошибочным) и желая сохранить свободу
действий, Осипенко и Марковский не стали членами
коллектива, а работали в нем как гастролеры, на кон-
цертных ставках.
«Новому балету» срочно необходим был репертуар и
Эйфман, не слишком задумываясь над его стилистиче-
ским единством, создавал его как мог: ставил сам, пере-
носил свои старые постановки, приглашал других хо-
реографов. В большинстве балетов использовались со-
временная эстрадная музыка, современные ритмы, со-
временная пластика. В сущности, все это было мало
знакомо Осипенко. Но и заинтересовывало своей новиз-
ной.
Первой работой в спектаклях ансамбля стала «Прер-
ванная песня» И. Калныньша. Этот одноактный балет
Эйфман поставил сначала для хореографического учи-
лища, а затем перенес в «Новый балет». «Прерванная
231
песня» — безусловно одна из удач балетмейстера. Креп-
кая, продуманная форма, чему способствовала музыка
Калныньша, использующая принцип «Болеро» Равеля,
выразительная, почти эстрадно-броская хореография
кордебалета, с выдумкой сочиненный дуэт солистов.
К тому же балет счастливо сочетал черты политическо-
го плаката с серьезным художественным решением те-
мы. Но в силу плакатности (здесь это слово отнюдь не
носит негативного оттенка) для исполнения партии ге-
роини не требовался талант Осипенко, ее умение пере-
дать оттенки человеческих чувств. Скорее, Марковский
с его монументальностью и броской фактурой, помога-
ющими создать героический образ, получил в «Прерван-
ной песне» благодатный для себя материал. В этой пар-
тии он хорошо, как теперь говорят, смотрелся, неплохо
танцевал и был самым значительным из всех исполни-
телей. Но все-таки ему не хватало внутреннего напора,
острого ритмического нерва, чтобы повести за собой
массу, захватить и «завести» зал. Только это в данном
спектакле могло сделать исполнение выдающимся. Что
касается Осипенко, то ее исполнение было корректным,
профессиональным, но и только; другие танцовщицы,
например В. Гальдикас, производили в этой партии не
меньшее впечатление. Пожалуй, эта работа — проход-
ная в биографии — имела для Осипенко чисто техноло-
гический интерес. Ей, ученице Вагановой, прославлен-
ной балерине, не без труда давалась непривычная пла-
стика, специфика приемов исполнения движений, кото-
рыми не задумываясь пользовались кордебалетные тан-
цовщицы, прошедшие школу «Рок-балета».
Но появление Осипенко в «Прерванной песне» име-
ло и другое, более важное значение. Своим выходом на
сцену вместе с молодыми артистами, она, впитавшая ве-
ковые традиции исполнительской культуры ленинградс-
кой школы, помогла сформировать критерии творчества,
направила Б. Эйфмана на поиски тем более значитель-
ных, глубоких, и таким образом, возможно Неосознан-
но, во многом предопределила характер развития ново-
го хореографического коллектива. Именно в силу этих
обстоятельств в репертуаре ансамбля появились «Под
покровом ночи» и «Жар птица» — первые соприкосно-
вения «Нового балета» с серьезной классической музы-
кой.
«Под покровом ночи» («Чудесный мандарин»)
232
Б. Бартока был поставлен М. Мурдмаа специально для
Осипенко и Марковского. «Жар-птицу» И. Стравинско-
го Эйфман поставил в 1975 году для творческого вече-
ра Г. Комлевой. Теперь с некоторыми переделками он
перенес ее в свой ансамбль.
Первым же номером, который Эйфман поставил
специально для Осипенко и Марковского, был небо-
льшой, минут на двадцать, балет «Двухголосие» на
сборную музыку из репертуара ансамбля «Пинк
Флойд». Вот что можно узнать о нем из аннотации про-
граммки: «Это наиболее обобщенный из всех балетов
программы. За несколько минут сценического времени
перед нами проходит сложная гамма взаимоотношений
мужчины и женщины. Ее любовь придает мужчине но-
вые силы. Энергичный и самоуверенный, оставляет он
ее, кажется, далеко позади, но никакие жизненные ис-
пытания невозможно преодолеть без ее животворной
поддержки». Так было написано. На сцене же оказа-
лось все по-другому.
Темнота. Вибрирующий тембр электронного инстру-
мента, исполняющего протяжную мелодию. Сноп света,
падающий сверху, высвечивает одинокую женскую фи-
гуру, стоящую в центре сцены на коленях. Тело затяну-
то в эластик. Костюма как такового нет — перед нами
человек во всей своей неприкрытости,, незащищенности.
Медленно тянется к небу рука. Движение неопределен-
но и бессильно. Это мольба, но мольба без надежды,
мольба, которую никто не услышит. Одиночество невы-
носимо, оно гнетет, давит. Страшны муки одинокой
плоти, неразделенной жажды любви, которые сводят те-
ло конвульсиями, распластывают его по земле. А когда
острая боль на минуту покидает истерзанное тело, жен-
щина затихает, лежит на спине и лишь ноги, поднятые
вверх, мерно колышутся над ней: стопой ноги она неж-
но, любовно оглаживает голень другой, а затем ноги ме-
няются. Движение прекрасных ног красиво, гармонично
и чувственно.
Но вот прозвучала тревожная попевка, и в слабом
блике в глубине сцены мелькнул силуэт мужчины. Жен-
щина насторожилась... Показалось! Но попевка повто-
рилась, и мужская фигура стала отчетливей. Он высок,
плечист, грудь его полуобнажена, ноги затянуты в буро-
красное трико. Женщина вскакивает, ее тело напрягает-
ся, тянутся руки, и, как бабочка, летящая на огонь, не
233
задумываясь, не рассуждая, в неодолимом порыве она
бросается к мужчине. Мгновение — и она взлетает в его
сильных руках. Поддержки, разделяемые почти неуло-
вимыми паузами, следуют одна за другой... Мужчина
настойчив, дерзок, даже груб. Все теснее сплетаются
тела, все ближе они приникают друг к другу. Пронзите-
льно, почти экстатически звучит на фоне ударных и ро-
яля человеческий голос. Он кричит, стонет... А эти двое
уже на земле. Мужчина безволен, устал, обмяк. Насту-
пил час торжества женщины — она безраздельно владе-
ет им, берет в ладони его голову, прижимает к своей
груди, нежно, осторожно, как ребенка. Это счастье, но
счастье недолгое, окрашенное болью и тревогой, сча-
стье, которое может рассыпаться, как карточный домик.
Силы возвращаются к мужчине, он снова на ногах.
У него широкая грудь, стальные мышцы, крепко сто-
ящие на земле ноги. Он уверен, что вырвет у жизни
свой кусок. Женщина больше не занимает его, ни люб-
ви, ни благодарности к ней он не испытывает. Освобож-
даясь от нее, он делает шаг, второй, а она, так и не
поднявшись с земли, униженно извивается между его
ногами, хватает их в попытке удержать, остановить.
Равнодушно переступив через нее, он устремляется впе-
ред, она же теряется в темноте.
Легко и свободно движется мужчина. В ловкости и
силе ему не отказать, только его движения чем-то напо-
минают могучего орангутанга, в глазах его ни на мгно-
вение не мелькнет человеческое чувство. Но вот он по-
лучил первый удар. Мужчина огрызнулся, насторожил-
ся, отбился. Вдруг удар с другой стороны, на который
он мгновенно ответил таким же. А потом один за дру-
гим удары сыплются со всех сторон, сильные, вызываю-
щие острую боль, загоняющие в угол. Мужчина отчаян-
но защищается, мечется, силы оставляют его. Загнан-
ный, он злобно озирается, пытается вырваться, но,
получив последний удар, воет как зверь и, скорчившись,
опускается на землю. Он побежден, раздавлен, выбит из
игры, выброшен этим страшным, жестоким миром.
И тогда в другом углу сцены в луче прожектора сно-
ва возникает женщина. Она лежит, опустошенная его
предательством, безмерно страдающая и жалкая. Два
несчастных человеческих существа тянутся друг к дру-
гу. Они ползут, как искалеченные дождевые черви, каж-
дое движение дается огромным напряжением воли.
234
И все-таки у женщины хватает сил дотянуться до муж-
чины и встать на колени возле его головы. Перекатыва-
ясь через него, она становится на ноги и тянет за собой
мужчину, всеми силами души, всем весом своего хруп-
кого тела пытается заставить его подняться, встать на
ноги. Мгновение кажется, что это удается. Но обесси-
ленный мужчина тяжким грузом наваливается на ее
спину, а его руки, свесившись через ее плечи, беспо-
мощно поникают. Женщина, раскинув тонкие руки, де-
лает шаг вперед и, волочась за ней, это движение без-
вольно повторяет мужчина. Еще шаг, еще... Ноша
слишком тяжела, непосильна. Продвижение вперед сто-
ит невероятных мук, это несение креста... Но страдаль-
ческое лицо женщины не искажено ужасом, наоборот,
на нем какой-то отблеск просветления. В своем извеч-
ном стремлении к любви она готова на все — унижение,
боль, лишь бы не быть одной, чувствовать рядом тепло
человеческого тела, биение другого сердца. Это чувство
возвышенно, свято.
Вдруг ноги женщины отрываются от земли, она па-
рит в воздухе, и каждый новый шаг — шаг вверх, в не-
бо. Может быть, это святая уносит грешника, искупив-
шего свой грех, к горним вершинам? Но нет, лицо жен-
щины по-прежнему скорбно, и лишь, слабый луч на-
дежды освещает его, делая светлым и одухотворенным.
А ноги в этих воздушных шагах мерно колышутся, и
движение их красиво, гармонично и чувственно.
«Двухголосие» создавалось в трудное для Осипенко
время. Непрочность ее жизненного и творческого союза
с Марковским делалась все очевиднее. Мучительно,
трудно и оскорбительно рушились супружеские отноше-
ния, обрывались человеческие связи, жестокая и, по су-
ществу, бессмысленная из-за своей нереальности аль-
тернатива, выдвинутая Джоном,— они (мать и сын)
или я — обострила до крайности отношения в семье и
сделала жизнь почти адом. Все это происходило на гла-
зах у Эйфмана и не было для него секретом. Создавая
балет, он отчасти черпал его эмоциональные коллизии
из реальной жизни. Алла понимала это и с какой-то го-
рькой радостью шла навстречу, смело перенося личные
переживания в сферу искусства. Она сделала этот но-
мер автобиографическим; строй чувств, система отноше-
ний с партнером говорили о ее желании сохранить лю-
бой, пусть самой безумной ценой любовь, близость, ру-
235
шащийся союз. Но понимание где-то в глубине души
несбыточности этих надежд делало номер глубоко тра-
гичным.
Необходимость работать все время вместе усугубля-
ла ситуацию, делала ее еще мучительней. Как два ка-
торжника, скованные цепью, они не могли ни минуты
остаться наедине, отдохнуть друг от друга и в бесконеч-
ном противоборстве терзали себя и часто болезненно
ранили другого. Но все же это была работа, где вместе
с репетитором (М. Шамшевой) они искали и находили
убедительные художественные и технологические реше-
ния. Работа сопровождалась ссорами, слезами, размолв-
ками и, хотя Марковский уже зачастую просто отказы-
вался репетировать, она все же была доведена до конца.
Жизненные ситуации, обстановка, в которой скла-
дывался этот номер, наложили на него неизгладимый
отпечаток и, когда сценический дуэт Осипенко и Мар-
ковского окончательно распался, танцевать «Двухголо-
сие» с другим партнером балерина оказалась не в со-
стоянии. Все ее существо противилось этому: пережить
и перечувствовать эмоции «Двухголосия» с кем-то дру-
гим казалось кощунством, изменой своей человеческой
сущности. Рассуждения о несовместимости пропорций
исполнителей, о разнице возраста, о неумелости пред-
полагаемых партнеров были призваны лишь для того,
чтобы скрыть от других, а возможно, и от себя, правду.
Несколько случайных, вызванных театральными обстоя-
тельствами исполнений «Двухголосия» с другими парт-
нерами в какой-то мере доказали правоту балерины.
Номер производил впечатление совершенством форм,
зрелым мастерством, но глубины, остроты переживаний
не было — человек все же оказался сильней актрисы.
Когда же «Двухголосие» танцевали Осипенко и Мар-
ковский, этот номер своей исповедальной откровенно-
стью, огромной эмоциональной напряженностью и кра-
сотой формы даже на самого неискушенного зрителя
производил сильное впечатление. Он одно из неизглади-
мых моих впечатлений и стоит в ряду лучших сцениче-
ских созданий, какие мне довелось увидеть.
Работа в «Ленинградском ансамбле балета», как ско-
ро стали именовать «Новый балет», неожиданно усмот-
рев в первоначальном названии какой-то вызывающий,
крамольный оттенок, приносила не только творческие
плоды. Начались гастрольные поездки, они длились ме-
236
сяц, полтора, несли с собой утомление и усталость по-
чти ежедневных выступлений, бытовые неудобства, сум-
бур кочевой жизни. Правда, они давали большие зара-
ботки, но в перерывы между ними, когда шел репетици-
онный период, Алла и Джон, не являясь штатными
работниками коллектива, ничего не получали. Эффект
больших денег оказался призрачным. Однако самым
тревожным оказалось другое. Алла и Джон сделались
участниками вечерних застолий, не задумываясь, что
если кордебалетный мальчик с красными от бессонной
ночи глазами мог на другой день натянуть костюм и
проделать несколько несложных движений, то танце-
вать главные партии было неизмеримо труднее. Не вы-
держивали нервы, терялась форма...
Такая жизнь не могла пройти даром. С горечью Ал-
ла обнаружила, что сузился круг знакомств, дом пере-
стали посещать содержательные и интересные люди,
она стала меньше читать, перестала бывать в театрах,
интересоваться выставками. Умная, умеющая увидеть
себя со стороны (редкое качество вообще и так нужное
актрисе), она понимала, что начался процесс трансфор-
мации личности, но сделать с собой ничего не могла.
И конечно, все усугубляла привязанность к Джону, все
время культивируемая, принимавшая болезненно-исте-
рическую окраску, поддерживаемая вопреки фактам,
здравому смыслу.
Творческий срыв не заставил себя ждать. Эйфман
поставил на музыку Д. Маклафлина «Бумеранг» по
«Трехгрошовой опере» Брехта. Балетная версия оказа-
лась менее убедительна, чем первоисточник, не хватало
четкости замысла, ясности выражения мысли, не всегда
была интересна хореография. Правда, в спектакле име-
лись и достоинства. Осипенко и Марковский готовили
партии Полли и Мекки. На просмотр, состоявшийся в
Малом оперном театре (как всегда, плохо подготовлен-
ный — не помню у Эйфмана ни одного гладко прошед-
шего просмотра: то не готовы костюмы, то не поставлен
свет, то нет части декораций, то еще что-нибудь), они
оба пришли в удручающей форме. Джон, по существу,
ничего не мог сделать. Малоинтересной была и Алла.
Исполнение оказалось бесцветным, лишенным мысли.
Это был провал. Оказалось, что и сам спектакль требу-
ет доработки. Вместо того чтобы взять себя в руки, мо-
билизоваться, сделать необходимые выводы, Осипенко
237
и Марковский уклонились от дальнейшей работы. Спек-
такль так и не вошел в их репертуар. Неосуществлен-
ным остался и проект совместного выступления Оси-
пенко с Н. Долгушиным. Алла слышать не желала о
другом партнере. «Джон, только Джон»,— на все лады
твердила она. Со стороны это казалось каким-то наваж-
дением. А того уже мало что интересовало. «Чем мень-
ше работы, тем лучше»,— рассуждал он. Выходя на
сцену, Марковский старался отделаться минимумом —
рисунок партий упрощался, часто от поставленной хо-
реографии не оставалось почти ничего. Выручали толь-
ко фактура, мастерство поддержки, ловкость и легкость
Аллы.
Но, несмотря ни на что, в Осипенко жила жажда
творчества, внутренняя потребность выразить себя. Она
искала созвучную тему. Возник и вскоре отпал проект
балета об Эдит Пиаф. Все чаще и чаще стали являться
мысли о Настасье Филипповне.
Балет «Идиот» — безусловно пока самое значитель-
ное создание Эйфмана. Он знаменует наступление твор-
ческой зрелости балетмейстера, новую ступень в его
эволюции. Он подвел итог исканиям прошлых лет, во-
брал в себя их опыт, стал отправной точкой для даль-
нейшей работы. Это спектакль талантливый, цельный,
смелый по замыслу. Больше всего в нем покоряет безу-
пречная музыкальность, та смелость и убедительность,
с которой Эйфман соединил Достоевского с Шестой
симфонией Чайковского. Построение спектакля как ве-
реницы воспоминаний, мелькающих в меркнущем со-
знании Мышкина, позволило почти совершенно избег-
нуть насилия над музыкой, которое всегда неизбежно
при постановке снэжетного балета на непредназначен-
ное для него симфоническое произведение. Но этого
мало. Эмоциональная взвинченность воспоминаний-ви-
дений князя удивительно точно совпала с щемящей бо-
лью, обостренной эмоциональностью музыки Чайковс-
кого. Спектакль, как и симфония, льется безостановоч-
ным потоком к трагическому концу.
Я хорошо помню, как однажды в лесу на прогулке
Эйфман рассказывал мне почти готовый замысел спек-
такля. Многое казалось нелогичным, далеко не безу-
словным, настораживало желание всю четвертую часть
симфонии посвятить танцам «теней». Но я так же хоро-
шо помню, какое впечатление произвели первые про-
238
смотры в репетиционном зале, когда все заняло свое
место, стало убедительным, безусловным. Как же бес-
сильны слова в балете, если сам хореограф, уже чувст-
вующий и видящий свое детище, не может передать это
видение другому человеку! Но прозорливо уловив связь
между духовным миром героев романа и музыкой сим-
фонии, вдохновенно и умело режиссерски выстроив
спектакль, Эйфман, к сожалению, не смог подняться до
им же заданного уровня как хореограф. Это совсем не
означает, что в «Идиоте» слабая хореография. Она вы-
разительна, осмысленна, эмоциональна, в конце концов
именно с ней спектакль производит сильное впечатле-
ние, но ей не хватает той неповторимости, запоминае-
мости рисунка, когда кажется, что другого решения
быть уже не может. Это прежде всего относится к пар-
тиям солистов. Наиболее же яркие хореографические
моменты, острые характерные движения, интересные
построения связаны с кордебалетом.
Эта черта спектакля, как мы увидим, во многом пре-
допределила художественную значимость образа Наста-
сьи Филипповны, созданного Осипенко. Первое появле-
ние Настасьи Филипповны совпадает с началом побоч-
ной партии первой части симфонии. Уже прошли на
главную тему сцена Мышкина с юродивым, который на-
брасывает на шею князя крест — символ его мучениче-
ской судьбы (точная по мысли и впечатляющая наход-
ка Эйфмана), выход кордебалета — светской черни и
прихлебателей Рогожина, появление Аглаи и, наконец,
Рогожина в красно-бурой, цвета запекшейся крови, ру-
бахе. Настает очередь Настасьи Филипповны. Высоко
поднятая, в синем с серебром костюме (цвет был най-
ден не сразу, черный костюм первых спектаклей делал
фигуру балерины трудно различимой) с шарфом на
шее, который тянется за ней длинным траурным шлей-
фом, она проплывает в воздухе как прекрасное, зага-
дочное в своей отрешенности видение и в медленно ра-
скрывающихся, скользящих шпагатах спускается вниз
на землю. Движения Осипенко были собранны, сдер-
жанны. Кажется, что именно в этот момент должны
звучать слова Мышкина: «Это гордое лицо, ужасно гор-
дое, а вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все
было бы спасено!».
Весь средний эпизод побочной партии посвящен
Мышкину и Аглае. Когда в конце его они стоят на ко-
239
ленях, соединив руки, сзади, разделяя их и разбрасывая
в стороны, снова появляется Настасья Филипповна. На-
певно и умиротворяюще звучит у струнных побочная
тема, мягким и широким a la seconde откликается им
пластика балерины. Нежность и покой в ее движениях.
Спадает напряжение. Положив голову на колени Мыш-
кину, Настасья Филипповна затихает, а затем, успоко-
енная, благостная и немного грустная, она стоит за его
спиной и ее плавно колышущаяся рука навевает покой,
тишину, счастье. Вот она — чистая любовь, другая
жизнь, миг блаженства, и, благодарная за него, Наста-
сья Филипповна медленно осеняет себя крестным зна-
мением.
Вдруг все рушится. С первым аккордом разработки
врывается Рогожин, исступленно колотя себя в грудь.
Вихрь музыки подхватывает Настасью Филипповну, от-
рывает от Мышкина, швыряет в жадно тянущиеся муж-
ские руки, влечет к разгулу, лихорадочному веселью.
Стоя в арабеске, окруженная толпой поклонников, как
в скользящих санках, проносится она по сцене. На лице
улыбка вакханки — дерзкая, обольстительная и чуть
мстительная. Но вскоре властность и победная обо-
льстительность уступают место истеричности, надрыву.
Настасья Филипповна уже не повелевает, она мечется
в тесном кольце мужчин и, поднятая над ними, низвер-
гается то в одну, то в другую сторону, терзаемая ими,
доступная и беззащитная. Звучит «Со святыми упокой»,
обессиленная, она оказывается на руках Мышкина.
К ее ногам кидается Рогожин. Взвинченность эмоций,
разорванная пластика движений, мгновенная, истериче-
ская смена настроений, удивительно созвучные музыке
разработки и начала репризы наконец подводят к куль-
минации — Рогожин дает пощечину Мышкину. Рассеи-
вается горячечный угар, приходит минута отрезвления.
Отчаянно кляня себя, заламывает за спину руки Наста-
сья Филипповна. Исступленно, причиняя себе боль, ко-
лотит кулаками о землю, а затем затихает и снова осе-
няет себя крестом — она совершила святотатство, оби-
дела святого. Эти мгновения у Осипенко были наполне-
ны такой жгучей болью, такой тоской, такой искренно-
стью и неподдельностью переживаний, что невольно
наводили на мысль о глубоко личном характере пере-
живаний балерины. Колотя кулаками о землю, она словно
кляла свою несложившуюся женскую судьбу.
240
Повторное проведение побочной партии сводит На-
стасью Филипповну с Аглаей. Их дуэт, переходящий за-
тем в трио с Мышкиным, представляется мне одним из
примеров «необязательной» хореографии в балете и не
производит сильного впечатления. Лишь конец доста-
точно выразителен — Настасья Филипповна, опусто-
шенная и потухшая, отдает Мышкина Аглае, безвольно
повисая у них на руках, а затем долго стоит, разведя
в стороны слабые, бессильные руки — как могильный
крест своего несбывшегося счастья.
Начинается вторая часть симфонии — Вальс. Все
его неуловимо-зыбкое начало отдано Мышкину и Аглае,
сценам в Павловске, средняя часть — Настасье Филип-
повне и Рогожину. Их дуэт построен на бесконечной
цепи низких поддержек, переходящих одна в другую.
Многократно повторяемые ниспадающие секвенции,
слабые, мгновенно изживающие себя, лишенные силы
порывы вверх, длительное отсутствие нижней тоники, к
которой все время стремится мелодия, придают этой
сцене томительность и безнадежность. Нет любви, нет
радости, лишь изнуряющая страсть связала этих людей,
сил противиться ей тоже нет. А когда Настасья Филип-
повна пытается уйти, нет,— уползти, как больная соба-
ка, удар кулака Рогожина останавливает ее и снова воз-
вращает хозяину. И безвольно отдавшись его власти,
она еще раз ощутит силу и гибельность этих объятий.
Снова возвращается тема вальса. Опять появляются
Аглая и князь, но нет теперь согласия между ними.
В ужасе мечется Мышкин, одолеваемый болезненными
видениями. Он рвется к Настасье Филипповне, берет ее
на руки. Нежный, прощающий и полный уважения по-
целуй руки заключает вторую часть симфонии.
Скерцо симфонии — пожалуй, самое удивительное,
но и самое счастливое прозрение Эйфмана. В концерт-
ном исполнении эта часть симфонии звучит как всплеск
воли, как ослепительный луч солнца, прорвавшийся
сквозь свинцовую мглу облаков, как вопреки всему тор-
жество жизни над смертью. Так его обычно трактует и
музыковедческая литература. Но Эйфман неожиданно
услышал в нем, а затем воплотил в пластический образ
калейдоскоп событий, бредовую неустойчивость смены
чувств героев балета, жестокость пошлого любопытства
и расхожей нравственности, словом, фантасмагорию
темных и страшных сил. Он создал в этой части стре-
241
мительный разворот событий, нашел выразительные ми-
зансцены, сочинил запоминающиеся хореографические
детали. В этом бесконечном потоке движения глаз
успевает заметить, а ум оценить маленькие прыжки
кордебалета с сомкнутыми ногами и кусакмце-щиплю-
щими руками, его маршевые проходы, извивающуюся в
разные стороны вереницу упоенно судачащих сплетни-
ков, их диагональ, пытающуюся оторвать Мышкина от
Настасьи Филипповны. В памяти остаются две эти фи-
гуры, стоящие спина к спине и кольцом рук защищаю-
щие себя от злобной толпы, угрожающая, неумолимая
поступь Аглаи, переплетение тел, создающих пандус, по
которому скатывается безжизненное тело Мышкина.
Менее интересны в хореографическом отношении, но
все равно производят впечатление в общем стремитель-
ном потоке метания Рогожина, то готового убить Мыш-
кина, то исступленно обнимающего его. Кульминацион-
ным моментом всей картины, напряжение которой к
финалу делается почти непосильным, и которая завер-
шается смертельным ударом Рогожина, для меня всегда
была истерическая вспышка Настасьи Филипповны, ко-
торая, стоя на коленях, падая и поднимаясь, бьет Рого-
жина. Осипенко в эти удары вкладывала всю силу свое-
го отчаяния, но почти всегда они были окрашены и
эмоциями, которые рождали ее сегодняшние, сиюми-
нутные отношения с Джоном. Иногда этими ударами
она взывала к нему, распаляла его, иногда, бессильно
размахивая руками, винила себя, а то и безжалостно
избивала Рогожина — Марковского, стремясь причи-
нить ему боль. Даже когда с Марковским все было кон-
чено и ее партнером в спектакле стал Марис Лиепа,
взмахи ее рук, конвульсии мечущегося корпуса словно
продолжали вести старый спор, а в мстительных движе-
ниях звучал отчаянный крик: «Не он, не он!». Неосоз-
нанно подчиняясь «навороту» эмоций, Осипенко сти-
хийно раскрывалась до конца, без утайки. Такую само-
отдачу в балете видеть еще не приходилось.
Как бы то ни было, но взвинченная экспрессивность
скерцо захватывала, и даже теперь, когда Настасью
Филипповну танцуют другие исполнительницы, эта сце-
на всегда вызывает в зале всплеск аплодисментов.
Финал симфонии почти целиком отдан Мышкину.
Только в его начале память князя сохраняет отзвуки
событий — она воскрешает встречу Мышкина с Рого-
242
жиным после убийства Настасьи Филипповны. Этот
мужской дуэт с поддержками (редкий случай в балет-
ной практике), интересно решенный Эйфманом, остав-
ляет сумрачное, гнетущее впечатление. Далее наступает
мрак. В меркнущем сознании князя мелькают белые те-
ни. Люди? Души?.. Аглая... Настасья Филипповна... Ро-
гожин... Еще раз всплывает видение последнего мига
жизни Настасьи Филипповны (Осипенко, в неслышном
беге стремительно пересекая по диагонали сцену, вне-
запно останавливалась перед Рогожиным, и напряжен-
ная, полетная ее фигура надламывалась и слегка оседа-
ла). Переплетаются в каком-то издерганном хороводе
четыре фигуры (возникают реминисценции из «Франче-
ски и Паоло» и «Па де катра» Якобсона — но здесь
это так уместно и выразительно, что не хочется упре-
кать постановщика). И наконец, в вертикальных сто-
лпах света застывают три белые фигуры с распростер-
тыми руками — три креста, три человеческие души,
прошедшие свой крестный путь, три кровоточащие за-
рубки на памяти Мышкина. Он бросается к одной —
свет меркнет, к другой — то же самое, наконец, гаснет
последний луч, луч последней надежды. Три человечес-
кие тени с раскинутыми руками, медленно отступая, те-
ряются во мгле. Обреченно, безжизненно звучат послед-
ние аккорды симфонии. Темнота окутывает сцену.
Мышкин один. Меркнет сознание. Наступает небытие
беспамятства.
«Идиот» создавался трудно и долго. Нелегко нахо-
дились нужные решения, изматывала берущая за душу
музыка Чайковского. В репетиционном зале, на сцене
Осипенко постигала Достоевского — дома в это время
царила достоевщина. Четырнадцатилетний союз Аллы и
Джона исчерпал себя. Для Аллы дни сливались в серую
пелену без времени, без чувств, без мысли. Рушился
очаг, надламывалось здоровье, нередко срывались репе-
тиции...
Естественно, личная драма, переживаемая Осипенко
в период создания партии Настасьи Филипповны, от-
сутствие систематической репетиционной работы сказа-
лись на результате. Из трех центральных партий —
Мышкин, Рогожин, Настасья Филипповна — по-настоя-
щему роль оказалась сделанной только у Валерия Ми-
хайловского. Талантливый танцовщик ее глубоко про-
чувствовал, продумал, отрепетировал и поныне, когда
243
число представлений перевалило уже далеко за сотню,
танцует ее все так же выразительно, с покоряющей са-
моотдачей и экспрессией. Что касается Марковского, то
его Рогожин впечатлял клокотавшей в нем бешеной
злобой. Играла роль, конечно, и фактура. Положение
Осипенко было сложнее. Ведь от нее многого ждали.
Конечно, она привнесла в образ Настасьи Филипповны
значительность и масштаб подлинного таланта, надели-
ла ее своими прекрасными формами, увлекла стихийно-
стью и накалом страстей. Но в ее сценическом создании
не хватало тонкости нюансировки, разнообразия и мно-
гозначительности деталей, продуманной градации оттен-
ков — словом, всего того, чем отличаются ее лучшие
работы. Однако наиболее важной причиной, помешав-
шей Осипенко полностью раскрыться в этой так много
значившей для нее роли, стал характер самой хореогра-
фии, недостаточно изобретательной и индивидуализиро-
ванной. Эйфман, по-видимому, больше рассчитывал на
экспрессивность и возбудимость балерины, забывая о ее
пластических выразительных возможностях. Именно
эта особенность материала в сочетании с изматываю-
щей трагедийностью музыки (недаром Алла в одном
интервью призналась, что она плохой слушатель — му-
зыка не для ее нервов) и личными обстоятельствами
придали исполнению импульсивность, стихийность, но
лишили его совершенства, законченности. Так Настасья
Филипповна, встречу с которой долго ждала Осипенко,
роль, которой она отдала все силы души, оказалась зна-
чительным, но все же не лучшим созданием балерины.
, Шли репетиции, спектакли, но продолжалась и
жизнь. Наконец Джон порвал последнюю, самую креп-
кую нить: он отказался танцевать с Осипенко. Некото-
рое время он еще исполнял партии своего репертуара
с другими партнершами. Однажды вышел в концерте с
Ганибаловой, разучив «Адажио» Альбинони. Но скоро
ему все надоело, и он вообще перестал появляться на
сцене, считая оставшиеся до пенсии дни и дотягивая их
на бесконечных больничных листах.
Перед выбором была поставлена и Алла: надо было
либо оставлять сцену, либо танцевать с другими партне-
рами. Скрепя сердце Осипенко выбрала последнее. Ее
партнерами стали М. Лиепа и В. Мухамедов. Тот и дру-
гой, несмотря на огромную дистанцию, разделяющую
их в официальной иерархии, были достойными партне-
244
рами. Но Алла с упорством, заслуживающим лучшего
применения, внутренне сопротивлялась новым творчес-
ким контактам. В Рогожине — Лиепе она видела отсут-
ствие стихийности и некоторую ограниченность испол-
нения новой для него пластики, забывая, что это во
многом перекрывалось своеобразием актерской индиви-
дуальности и тщательной, умелой проработкой партии.
В. Мухамедов, обладающий хорошей сценической внеш-
ностью и завидным профессиональным мастерством,
вдруг представлялся ей опасно молодым партнером и не
достаточно глубоко чувствующим, хотя на самом деле
в Восьмой симфонии Бетховена их дуэт производил са-
мое выгодное впечатление. Но голос разума был бесси-
лен, Алла так видела сердцем, и это целиком определя-
ло ее сценическое самочувствие. Возможно, время при-
несло бы перемены, но Осипенко каждодневно, как
заклинанием, гипнотизировала себя мыслью об исклю-
чительности Марковского, не давая угаснуть этому бо-
лезненному и гипертрофированному чувству.
Естественно, нормально работать и жить так было
нельзя. Танцы, сцена — все, чему Алла преданно слу-
жила тридцать лет,— теряли свой смысл. Пусто стало
в жизни, пусто делалось и на сцене. Стрессы, срывы,
причиной которых раньше считался. Джон, а теперь ста-
ло его отсутствие, продолжались, неумолимо разрушая
форму, подтачивая здоровье. Осипенко еще что-то ино-
гда пыталась делать. Ненужным было ее случайное еди-
ничное появление Кабанихой в бесцветном одноактном
балете «Гроза» в «Хореографических миниатюрах», не
доведенной до конца осталась попытка сделать спек-
такль «Стюардесса» в театре «Эксперимент».
Последней достойной работой Осипенко стал «Тра-
урный марш» из Восьмой симфонии Бетховена — скор-
бное прощание актрисы с любовью, со сценой. Этот но-
мер Эйфман посвятил балерине. В окружении кордеба-
лета — черных вилис — она снова танцевала свои про-
славленные партии, переживала любовь, упорным экзер-
сисом одолевала боль и горечь утрат и, наконец, стоя
на коленях, целовала доски сцены, на которой прошла
ее жизнь. Затем черные вилисы окружали ее и неумо-
лимо увлекали вглубь, во мрак, в забвение.
Борису Эйфману на этот раз не трудно было сыг-
рать роль пророка. Силы покидали Аллу, усталость,
опустошение победили. Протанцевав тридцать один год,
245
не сделав заключительного творческого вечера, даже не
зная, какое выступление станет ее последним спектак-
лем, она незаметно и тихо ушла...
Балерина Алла Осипенко закончила свой творческий
путь.
Что дальше? Что поставить в конце предыдущей
фразы — точку? Многоточие? Трудно сказать...
Талант загадочен и капризен. Иногда он тихо и пре-
данно служит своему обладателю всю жизнь, иногда
властно диктует ему условия, иногда становится непо-
сильной ношей, тяжким бременем, которое невозможно
сбросить, а иногда своевольно покидает изменившего
ему человека.
Алла — талантливый человек. Она пытается снима-
ться в кино. Говорят, удачно. Ее как будто начала инте-
ресовать педагогика. Подумывает о драматической сце-
не. Она еще следит за своей профессиональной фор-
мой...
Так что же будет? Сможет ли Осипенко прожить
вторую жизнь в искусстве? Окажется ли она достойной
своего таланта или, увлекаемая обломками крушения,
медленно погрузится в бездонный омут? Не знаю...
На такие вопросы отвечает только жизнь...
1984
ПОСЛЕСЛОВИЕ СЫНА
На поминках отца все за стол не поместились, пришлось
ставить два, и как-то само собой получилось, что за одним сиде-
ли балетные, а за другим — военные. И говорили об отце по
очереди — балерины и офицеры. И вдруг заспорили: чей он?
где ярче проявлялся? куда более вкладывал душу?
Ведь офицеры военного училища, где полковник Черкасский
почти двадцать лет заведовал кафедрой электротехники, и не
подозревали, каким уважением пользовался он среди профес-
сионалов балета, не подозревали о существовании его рукопи-
сей, которые уже тогда ходили по рукам... А актеры были не
менее поражены, увидев вынесенные мною по настоянию папи-
ных коллег и учеников более десятка его учебников по электро-
технике, автоматике, телемеханике...
А я сидел и думал, что если бы здесь были реставраторы
Эрмитажа, искусствоведы, консерваторские соученики папы,—
спор стал бы еще яростнее и парадоксальнее...
«Начальнику управления кадров Северо-Балтийского флота.
Дирекция Ленинградской ордена Ленина гос. консерватории
просит Вашего содействия в назначении лейтенанта Черкас-
ского Д. А. на работу в гор. Ленинграде для того, чтобы пре-
доставить ему возможность продолжать занятия на компози-
торском факультете консерватории... Директор ЛОЛГК профес-
сор П. Серебряков». Это я разбираю бумаги на той книжной
полке, которую раньше назвали бы личным архивом. Читаю и
вспоминаю рассказы папы о том, как ходатайство это было
поддержано личными хлопотами Д. Д. Шостаковича — без
них вряд ли бы молодой лейтенант, выпускник военно-морского
247
училища 1947 года смог бы продолжить учебу в консерватории.
С этого времени и начинается многослойность папиной
жизни: днем — военная служба, вечером — консерватория,
музыка, театр.
Хотя, если быть точным, началось все раньше. Достаю
с заветной полки маленькие записные книжечки. «Театраль-
ные впечатления 1944 г. (вторая половина, после возвраще-
ния училища из эвакуации)», «Театральные впечатления
1945 года», «Спектакли и концерты. 1946 г.». Списки увиденных
спектаклей составлены с привычной аккуратностью, их коли-
чество одинаково — около пятидесяти ежегодно. Нетрудно до-
гадаться: каждое воскресное увольнение курсант Черкасский
проводит в театре. И надо ли говорить, что большая часть
этих записей относится к балетам Кировского театра.
Первое знакомство с ним состоялось еще до войны. Семья
жила тогда в Иваново, куда направили на работу моего деда,
врача А. М. Черкасского. Но бабушка моя, Т. А. Козловская,
жила до революции около Исаакия, училась в гимназии на
Гороховой и часто ездила к гимназическим подругам в Ле-
нинград. Именно тогда Дима Черкасский впервые попадает в
Кировский театр. Театральные впечатления подкрепляются
спектаклями драматической труппы в Иваново,— судя по
рассказам, в тридцатые годы там был весьма сильный актер-
ский состав. И еще в школе отец начинает сочинять музыку.
Я легко могу представить атмосферу любви к искусству,
театру, музыке, существовавшую в доме папиного детства. Ведь
когда я вспоминаю бабушку, то чаще всего вижу уютный ди-
ван, на котором я, семилетний, примостился подле нее, а она,
водрузив на нос с горбинкой очки, читает «Медного всадника».
Уютно, свет от бра, бабушка, Пушкин — это осталось одним
из моих ярчайших детских впечатлений. Наверное, немало
таких впечатлений было и в папином детстве. Так или иначе,
к старшим классам школы его мысли о музыке становятся все
серьезнее.
Но заканчивает школу отец уже в эвакуации, в 1942-м.
Получает направление в военное училище, еще будучи курсан-
том принимает участие в военных действиях на Северном
флоте на миноносце «Гремящий». Потом училище возвращает-
ся в Ленинград, учеба продолжается. И вместе с тем — музы-
кальное училище имени Римского-Корсакова, поступление в
консерваторию, в класс профессора В. В. Щербачева, возвра-
щение к театрам, концертам, творчеству.
Однако профессиональным композитором отец не стал.
Постановление «Об опере В. Мурадели «Великая дружба» и
248
сборник «Совещание деятелей советской музыки в
ЦК ВКП (б)» с поучениями А. А. Жданова о том, как писать
музыку, тоже лежат на «архивной» полке. Увы, и эти документы
имеют отношение к судьбе Д. Черкасского. Тяжелая атмосфера
кампании проработок понятна сейчас и тем, кто не пережил
сам обвинительные собрания и покаянные речи. В такой обста-
новке веселый и острый студенческий капустник, о котором и
тридцать лет спустя отец рассказывал взахлеб, вызывает раз-
громную статью «В Консерватории опошляют русскую музы-
ку». (Действительно, какой ужас: ария Годунова «Достиг я
высшей власти...», повинуясь логике капустника, продолжалась
так: «...шестой уж год я зав. учебной части»!). Одной из мише-
ней для проработок становится В. В. Щербачев. Крупнейшего
педагога, известного композитора увольняют из консерватории,
«уходят» из правления Ленинградского отделения Союза
композиторов (книга о нем появилась после этого лишь в
1985 году, в ней, кстати, есть фотография — идет урок, отец за
фортепьяно рядом со Щербачевым). Однако студенты не бро-
сают своего педагога, ездят заниматься к нему домой. А потому
стрелы летят не только в профессора, но и в учеников...
Д. Черкасский заканчивает консерваторию лишь в 1953 году.
Пишет балет по заказу Большого театра по роману Тургенева
«Накануне». Партия Елены предназначалась Улановой. Папа
рассказывал, как играл ей музыку балета в четыре руки с
Г. Рождественским. Но планы постановки балет*а расстраивают-
ся, обещания нарушаются, причем не без вероломства. Это был
сильный удар. После него, насколько я понимаю, прекращаются
попытки отца расстаться с военной службой. Он преподает
в Пушкинском военном училище, с 1962 года становится на-
чальником кафедры электротехники; последнее музыкальное
сочинение, найденное мною, датировано 1960 годом. Когда я
учился в школе, папа еще много играл на рояле. Потом перестал.
Наверное, было больно. Инструмент — прекрасный «Бех-
штейн», служивший ему долгие годы,— он продал году в
82-м... И сел за рукопись этой книги — не мог существовать
без творчества, сочинительства.
Все, за что он ни брался, возбуждало его творческую
фантазию. Если он готовил лекционную аудиторию на своей
кафедре, так обязательно с хитрой электроникой, которая
могла за пять минут проверить знания курсантов и выставить
им оценки прямо на огромном табло. (И это тогда, когда о
компьютерах и речи не было.) Если хотел поддержать идею
нового концертного номера, то брал в руки ножницы — в
костюмах, сделанных папиными руками, танцевали Осипенко,
249
Лиепа, Марковский. А его учебник по электрическим машинам
и трансформаторам... По нему приходилось прыгать с 26-й
страницы на 3-ю, а с 34-й на 51-ю. Дело в том, что в конце
каждой страницы читателя, как витязя на распутье, подстерегал
вопрос с тремя вариантами ответа. В зависимости от выбора
ответа студента отправляли на разные страницы: правильно
ответил — изложение материала продолжалось, ошибся —
изволь заново читать непонятое тобой место, а потом вновь
оказывайся на распутье перед проверочным вопросом. Вошед-
ший в азарт такой скачки, студент незаметно усваивал
сложнейшую информацию.
Меня всегда поражало, как папины знания были подкрепле-
ны конкретным умением. Он не просто знал и любил прикладное
искусство XVIII—XIX веков, но мог отреставрировать ампир-
ный шкаф или столик наборного дерева (учился этому у
Эрмитажных реставраторов). Он собрал превосходную библио-
теку русских мемуаров периода от Екатерины II до Александ-
ра I — и попутно научился переплетать старинные книги в
кожаные переплеты с тиснением. А в какой-то момент органи-
зовал самодеятельный театр и поставил там два или три
спектакля.
Иногда мне казалось, что он живет в двух веках — веке
нынешнем и веке минувшем, когда русское любительское
творчество вносило свой вклад в культурную жизнь наравне
с творчеством профессиональным. И папин дар эмоционального
и интеллектуального коллекционирования впечатлений — это
тоже из того, ушедшего времени, от эпистолярной и мемуар-
ной культурной традиции. Он глубоко и подробно знал исто-
рию нашего города, замечательно водил экскурсии по лениград-
ским дворцам и музеям. И мог уже в зрелом возрасте вдруг
по-ученически засесть за составление таблицы или картотеки
художников, чтобы лучше разобраться в периодизации и
школах Треченто и Кватроченто в итальянском искусстве.
Но лучше всего отец рассказывал про балет. Среди всех
его увлечений он стоял на особом месте. Друзья Д. Черкасского
знали, что их ждет, когда он предлагал «показать балет». Он
любил водить людей в театр. Часто выводил на балет курсантов
своего училища. При этом так умел подготовить к спектаклю,
так умел передать словами специфику балетного языка, что
восприятие становилось ярче, насыщеннее, балетнее. Читать
программки, пытающиеся перевести язык балета на язык лите-
ратурного сюжета после его рассказов становилось как-то
неловко.
Надо ли говорить, что любовь отца к искусству, к балету
250
отразилась и на моей судьбе. Первым театральным потрясением
был «Щелкунчик». В пять лет, расставив гильзы и пританцовы-
вая, я играл в армию мышей и армию Щелкунчика, а ходить по
коридору в темноте стал бояться — высокая дверь причуд-
ливо ассоциировалась с силуэтом Мышиного царя. Конечно же,
я еще не все воспринимал в театре, и в «Докторе Айболите»
на сцене МАЛЕГОТа меня больше всего волновало, как на
сцене оказалась Фонтанка? Мы жили тогда на Фонтанке у
цирка, и всякая вода, в том числе и море в финале спектакля,
для меня была связана с Фонтанкой. Но папа постепенно и по-
следовательно вводил меня в театральный мир. И вот я уже по-
чти не спал ночь, чтобы утром рассказать одноклассникам о вче-
рашнем потрясении — «Чио-Чио-сан». Папа удивительном умел
создавать атмосферу ожидания театрального праздника, зара-
нее готовил к спектаклю, рассказывал. Может быть, поэтому
одним из самых памятных подарков были билеты на премьеру
«Генриха IV» в БДТ, к моему четырнадцатилетию.
И наверное, не стоит удивляться, что, учась в университете,
я работал в мимансе Кировского театра, а закончив физи-
ческий факультет, поступил в театральный на режиссуру.
Папа очень расстроился — отказ от благополучного будущего
выпускника университета, работающего в академическом инсти-
туте, не вызывал у него энтузиазма. «Ну куда тебя понесло?»—
удивлялся он моему неблагоразумному зигзагу (я поступал
почти тайком от него). И тогда вместо ответа я доставал кипы
театральных программок, подписанных сперва его рукой: «На
этом спектакле мы были с Сережкой», а потом моей: «На этом
спектакле мы были с папой».
Может показаться, что я рассказываю сейчас о себе. Нет,
я говорю о том, как отец умел формировать любовь к тому,
что бесконечно любил сам. В одной из своих статей он пишет об
искусстве воспринимать искусство. Как важно учить людей
этому искусству! И как это искусство редко сейчас!
И последнее. Жизнь папиной книги началась давно. Она
ходила по рукам, отдельные ее главы, статьи становились
подспорьем в репетиционном процессе; порой возвращали
рукопись уже не те, кто брал ее первоначально. Папу часто
звали на репетиции — артисты самых разных поколений тяну-
лись к нему, хотя он никогда не был инициатором знакомств
с народными-разнародными. Просто ходил в Кировский театр
почти на каждый балетный спектакль в течение 50 лет (даже
вечером накануне смерти в августе 1989 года он был на балете),
его суждения были интересны и доказательны, и творческие
люди стремились к нему. А количество статей увеличивалось,
251
каждый летний отпуск в Друскининкае добавлял несколько
десятков страниц, и все чаще раздавались голоса о необходи-
мости издания этой книги. Папа не успел этим заняться.
Редакция приняла рукопись через три месяца после его
смерти, отобрав наиболее законченные, цельные статьи. За
пределами этой книги остались обзоры отдельных сезонов,
портреты балерин — О. Ченчиковой, Л. Кунаковой, статьи о
балетах О. Виноградова в Кировском театре, о «Макбете»
Н. Боярчикова, о гастролях М. Бежара, рецензии на рядовые
спектакли. Я готовил папины тексты к печати, перебирал фото-
графии, и мне казалось, что я опять беседую с ним — он любил
подолгу и подробно обсуждать увиденное, а потому многие
эпизоды этих «Записок» оттачивались в устных рассказах,
слушателем которых я не раз становился; казалось, что я
вновь слышу его интонации, такие особенные, когда он вспоми-
нал минуты счастья, прожитые в зрительном зале. И мне еще
больше хотелось, чтобы все новые и новые любители балета
услышали его голос.
Сергей Черкасский
СОДЕРЖАНИЕ
В. Красовская. Об авторе этой книги
3
Почему я начал писать
11
СПЕКТАКЛИ
«Бахчисарайский фонтан»
20
«Лауренсии»
49
«Ромео и Джульетта»
75
СУДЬБЫ
Наталия Дудинская и Константин Сергеев
100
Ирина Колпакова
148
Алла Осипенко
181
С. Черкасский. Послесловие сына
247
Черкасский Д. А.
Ч 48 Записки балетомана: Пятьдесят лет в партере Ки-
ровского театра (Предисл. В. М. Красовской).— Изд-во
«АРТ» («Артист. Режиссер. Театр») СТД РФ, 1994.—
254 с., 16 л. ил.
ISBN 5—87334—001—3
Эта книга написана страстным любителем балета, не пропускавшим почти
ни одного балетного спектакля с середины 40-х годов Человек разносторонних
интересов, автор многих учебников по техническим дисциплинам, он не только
любил балет, но и профессионально разбирался в нем — помогало консерватор-
ское образование
Интонация книги совершенно необычна глубокий анализ спектаклей
сменяется зарисовками закулисной жизни, рассказ о событиях, ставших ле-
гендой, перемежается анекдотами бывалого театрала «Записки балетомана» —
нечто новое в литературе о балете
Ч ,4907000000—1— &3 обьявл ББК 85.335.42
174(03)—94
Черкасский Дмитрий Абрамович
ЗАПИСКИ БАЛЕТОМАНА
Редактор С. К. Никулин
Технический редактор Т. Б. Любина
Корректор О. Г. Завьялова
Лицензия № 030064 от 25.07.91.
Сдано в набор 15.06.93. Подписано в печать 14.01.94. Формат издания
84 X 108’/за- Бумага офсетная. Гарнитура тайме. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 15,13. Изд. № 1. Тираж 5000. Заказ 1167.
Издательство «Артист. Режиссер. Театр» Союза театральных деятелей
РФ. 103031, Москва, Страстной бульвар, 10. Книжная фабрика № 1
Комитета РФ по печати. 144003, г. Электросталь Московской обл.,
ул. Тевосяна, 25.