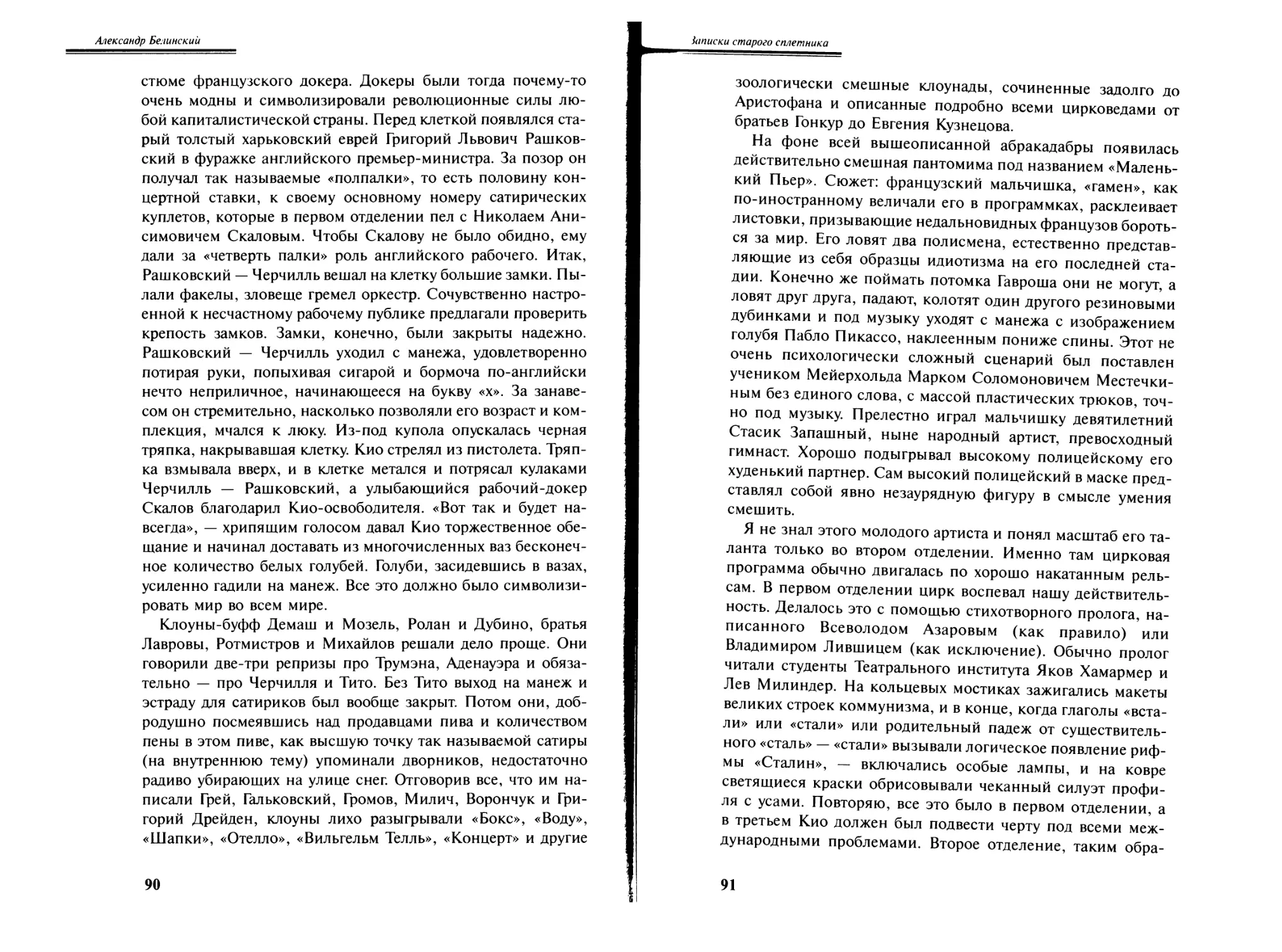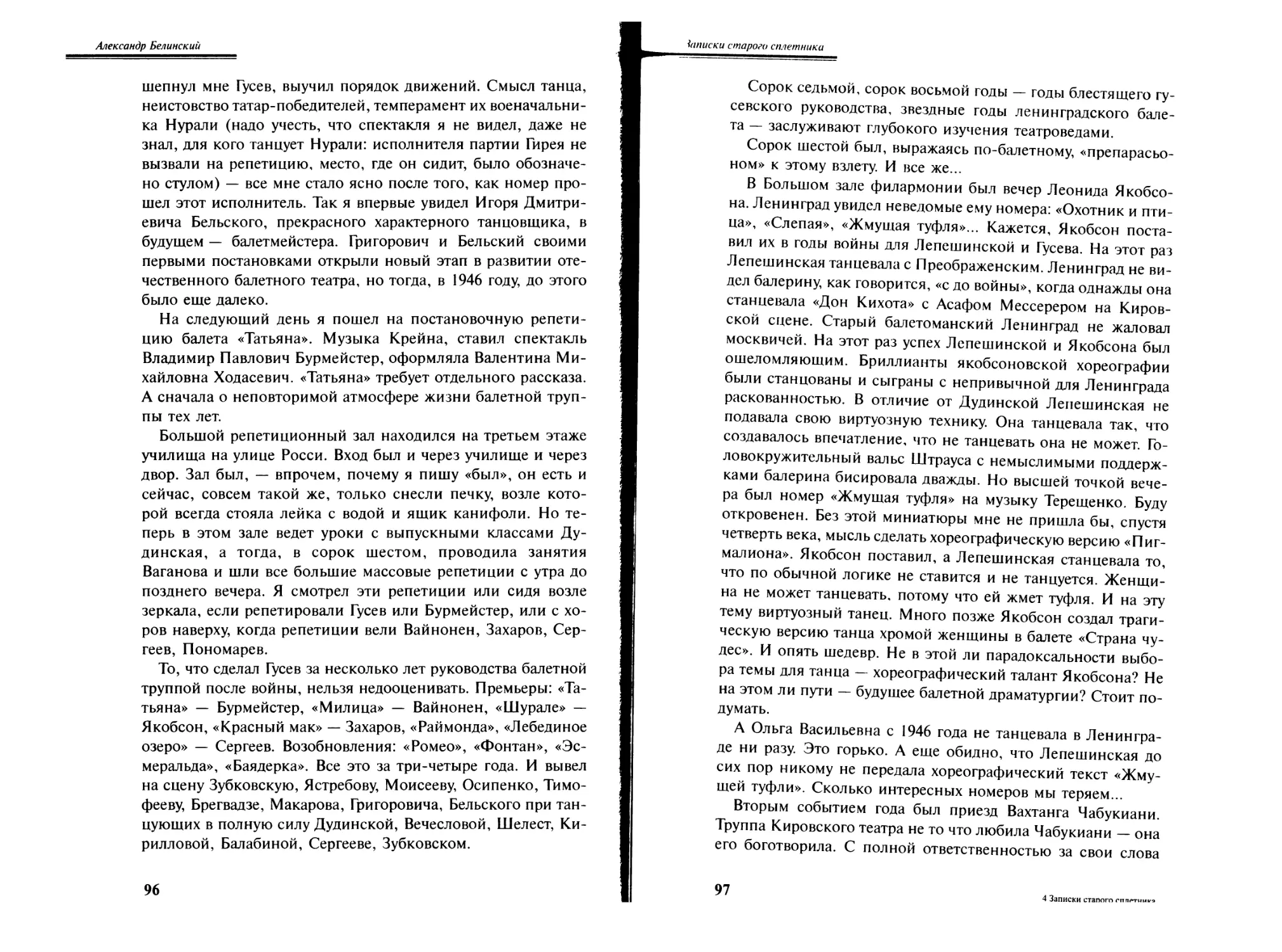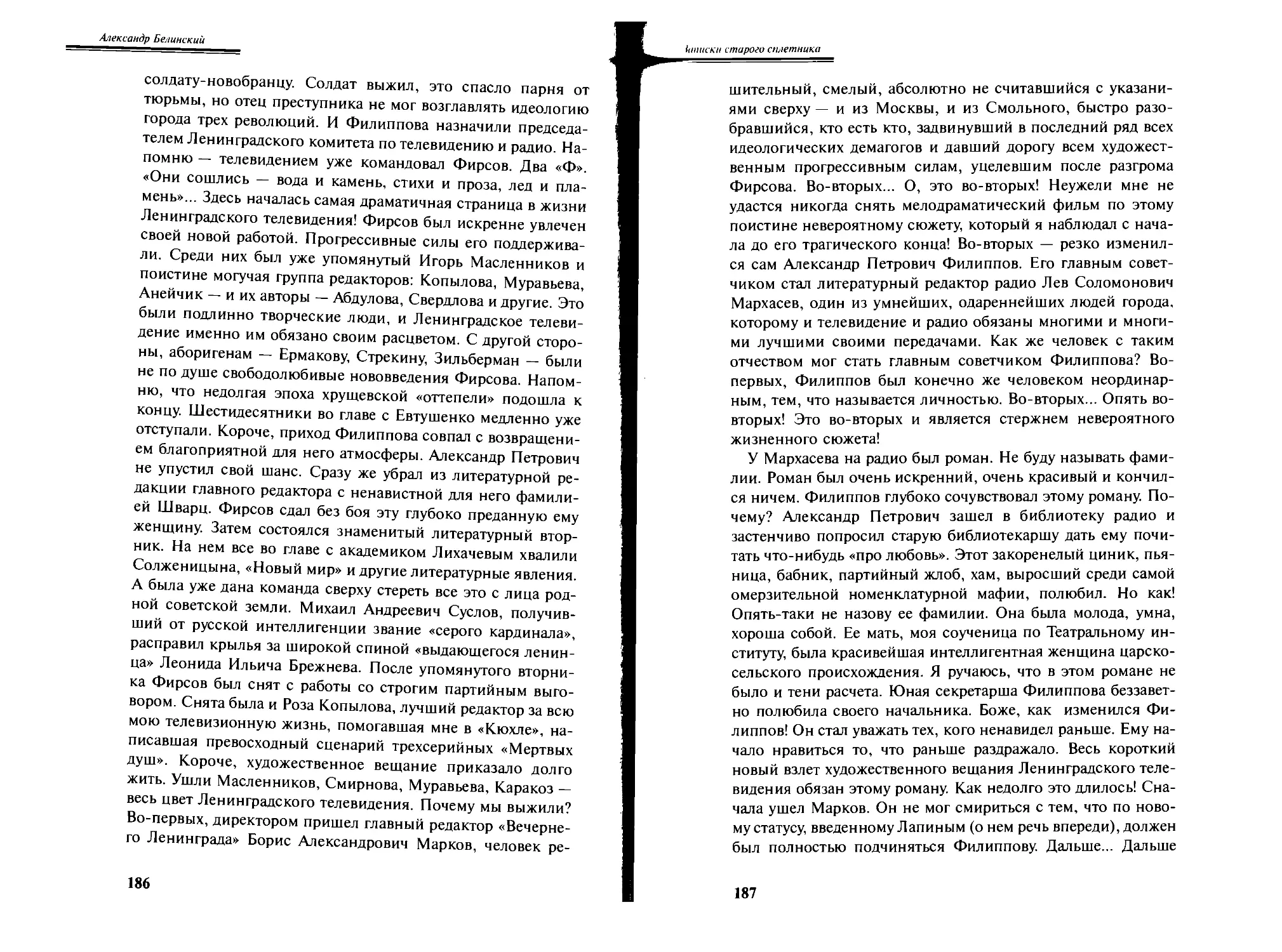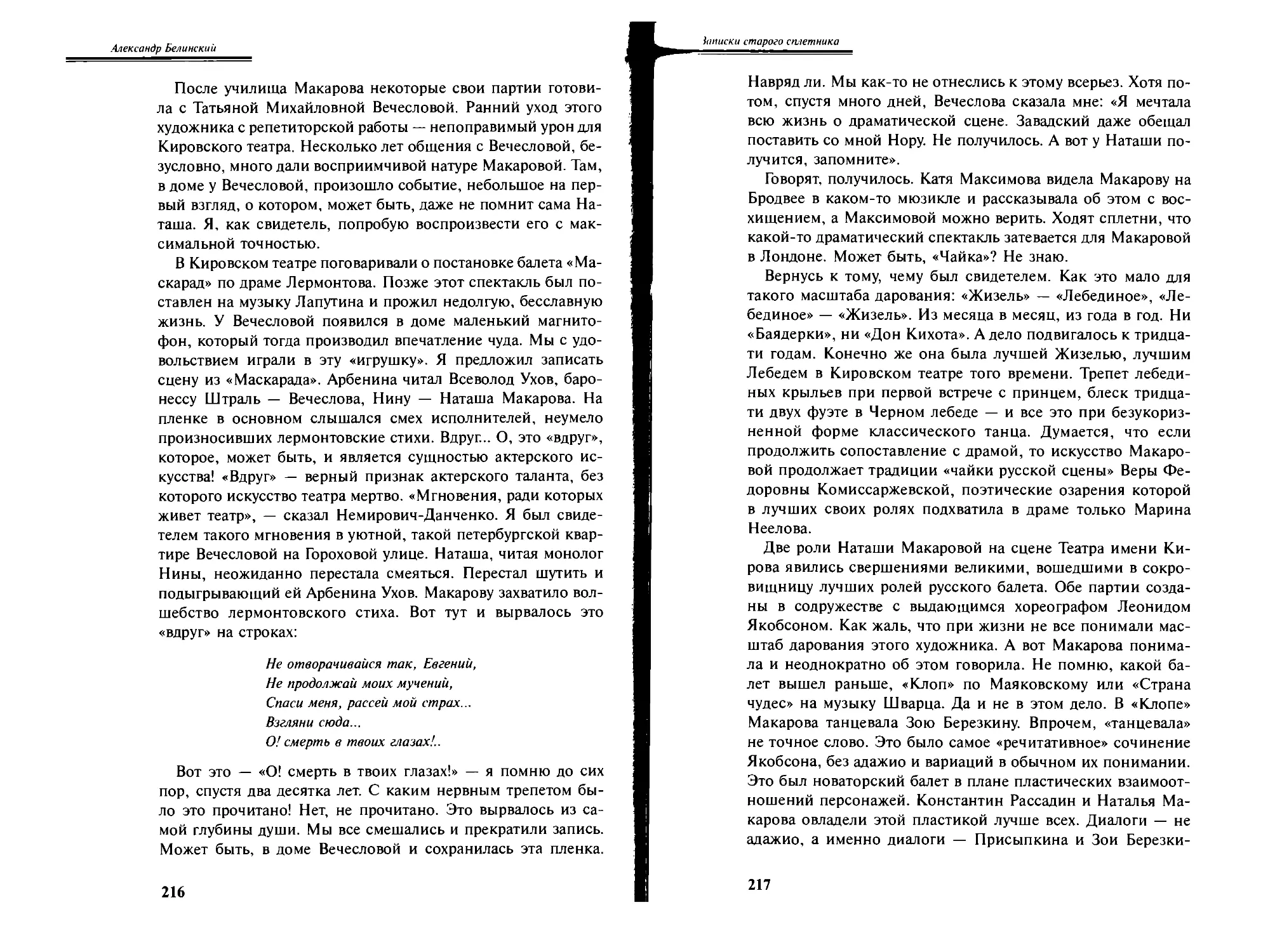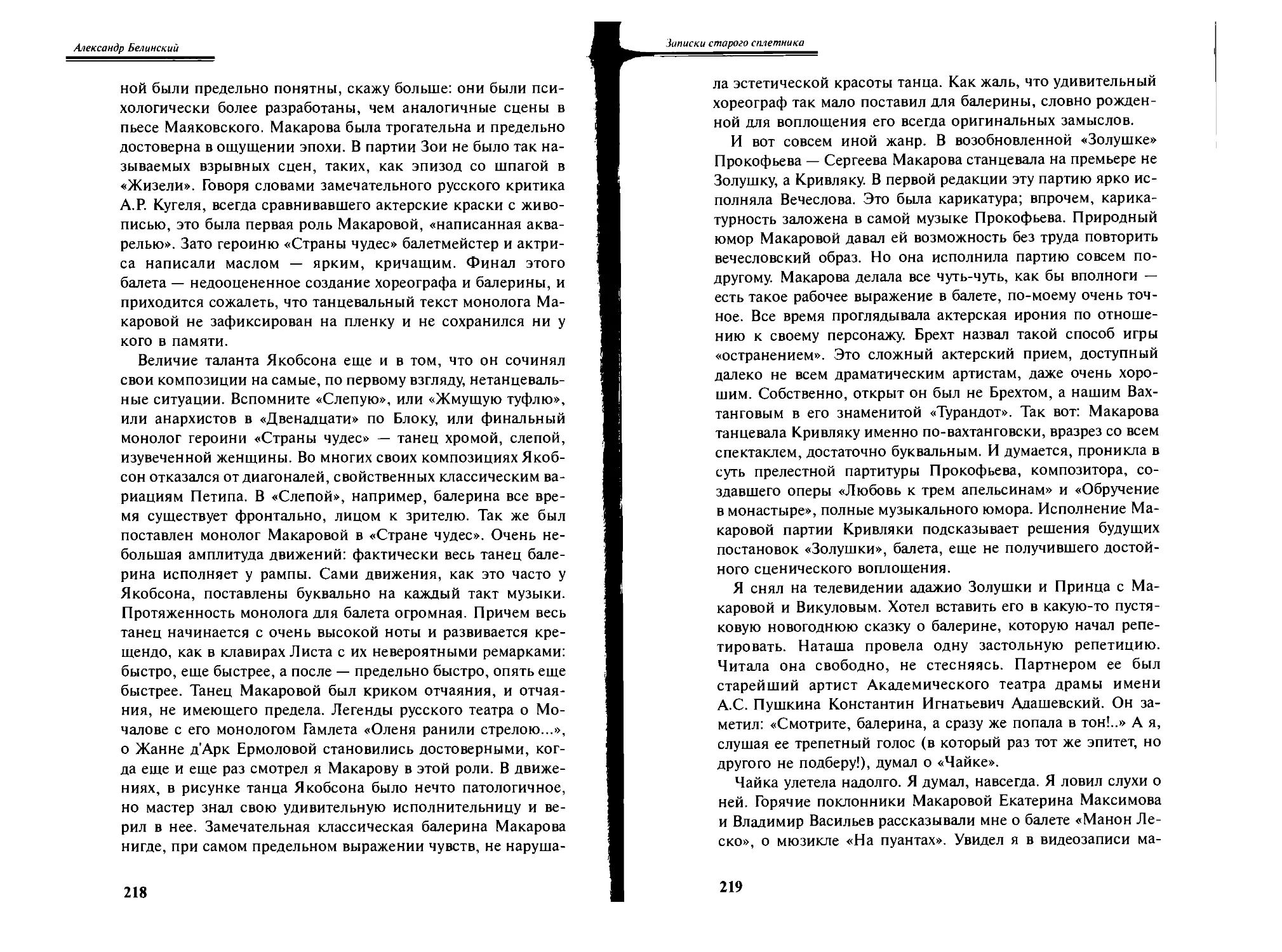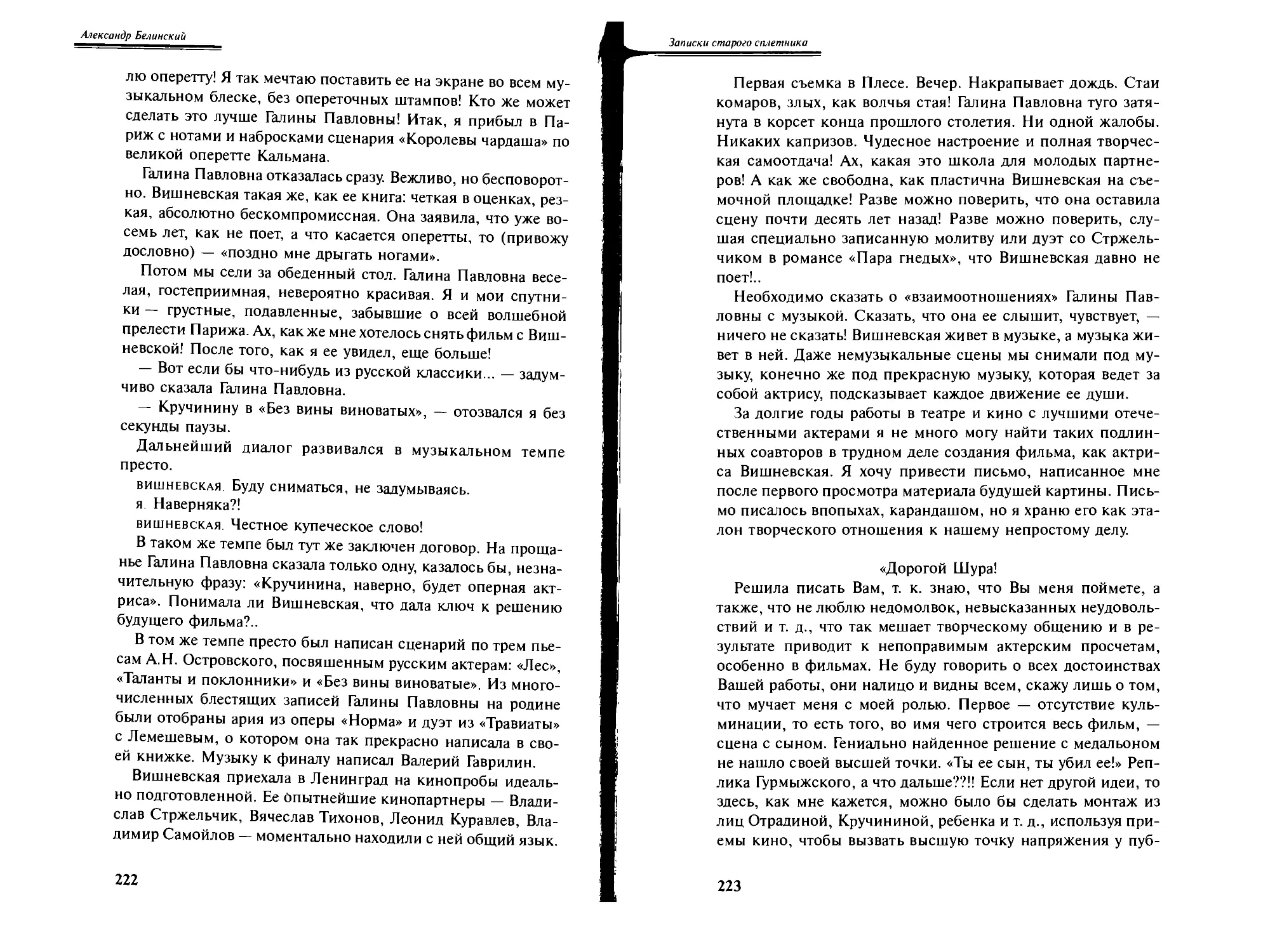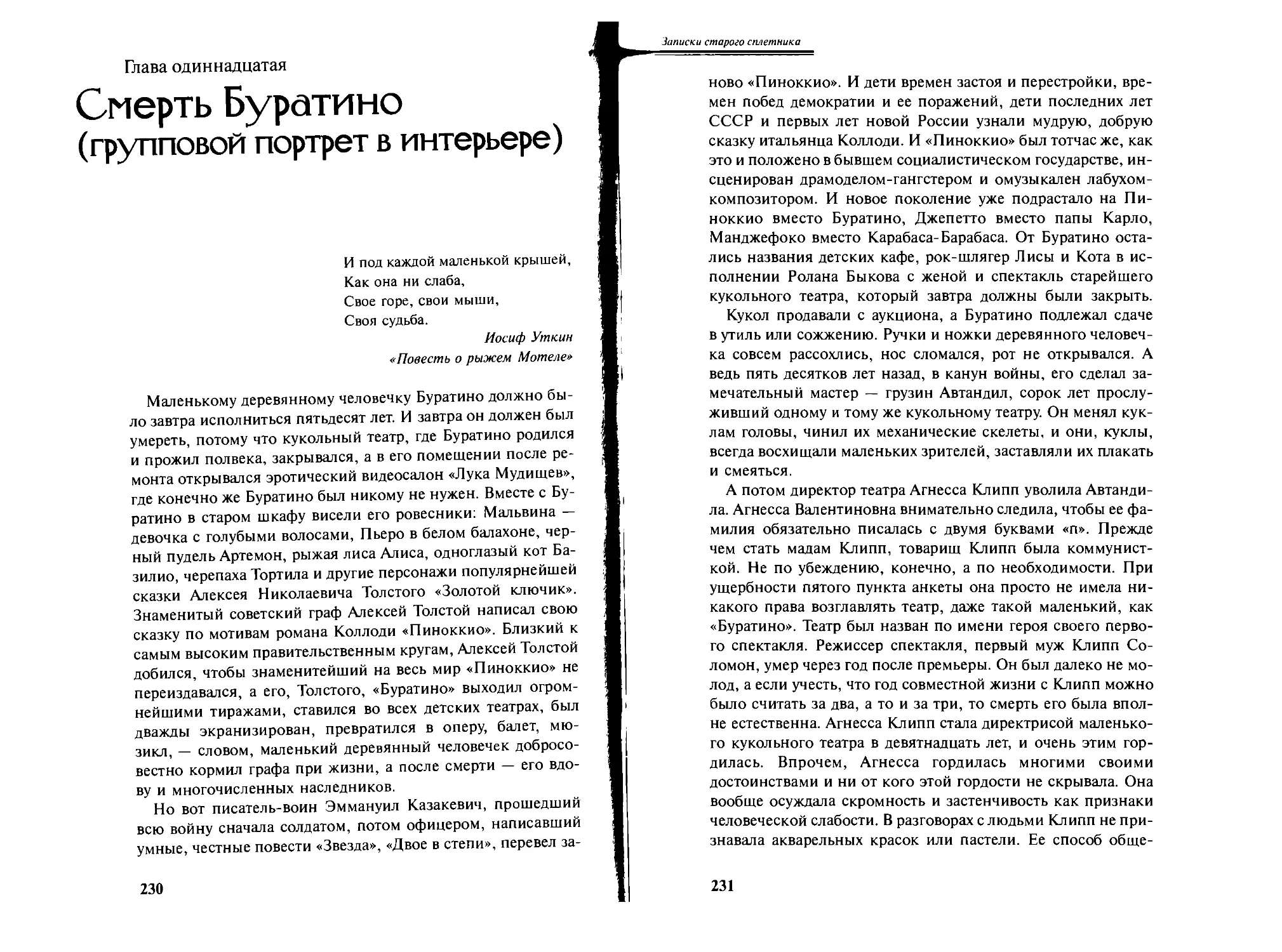Автор: Поюровского Б.М.
Теги: театр сценическое искусство драматические представления искусство мемуары серия выдающееся мастера издательство аст пресс
ISBN: 5-7805-0953-0
Год: 2002
Текст
•» у ►
Александр
Белинский
СЕРИЯ
ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА
ЗАПИСКИ
СТАРОГО
СПЛЕТНИКА
МЕМУАРЫ
Москва, «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2002
Ан
V*
ПРЕСС
УДК 792
ББК 85.334.3(2)6
Б 43
Под редакцией
Б.М. Поюровского
В книге
использованы
фотографии
из личного
архива автора
Изд. 3-е,
дополненное
и исправленное
ISBN 5-7805-0953-0
© ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2002
Сыну моему Павлу Белинскому
Сплетни характеризуют героев
так же, как нотариально заверенные
документы.
Сергей Довлатов
От издателя
«Записки старого сплетника» — мемуары известного теа-
трального деятеля, режиссера театра, кино и телевидения,
народного артиста России, академика, лауреата многих пре-
мий Александра Белинского. Автор пишет о людях, многие
из которых еще при жизни стали легендой. Г. Уланова,
А. Райкин, Г. Товстоногов, М. Зощенко, А. Ахматова, Л. Уте-
сов, А. Фрейндлих, Н. Черкасов, Т Вечеслова, Е. Максимо-
ва, В. Васильев, Д. Володин, М. Миронова и А. Менакер —
таков далеко не полный список героев книги, которую вы дер-
жите в руках. Первое ее издание разошлось немедленно, но
жизнь продолжается, и вместе с ней дописываются мемуары,
в которых появляются новые интересные страницы.
Разумеется, любые мемуары — произведение субъективное,
«Записки старого сплетника» не составляют исключения из
общего правила. Но, с другой стороны, разве мемуары могут
быть объективными? В них всегда проявляется пристрастный
взгляд автора к событиям, которые, кажется, произошли
только вчера или даже сегодня. Но именно этим они и цен-
ны. Сопоставляя разные точки зрения на одни и те же собы-
тия, будущий историк сможет самостоятельно составить до-
статочно объективное представление, ибо история — это уже
наука, а вовсе не мемуары. Но где бы она — наука — добы-
вала свой мед для будущих поколений?
Впрочем, читайте и судите сами!..
Вступление
Здравствуй, чистый белый лист бумаги! Как я по тебе со-
скучился! Как давно не ложились на тебя строки, написан-
ные моим корявым почерком, где так трудно отличить букву
П от М или М от К. Но теперь все будет проще. Приобрете-
на портативная пишущая машинка, и чистый белый лист бу-
маги принимает на себя первые аккуратные буквы, слова,
строки. И еще, и еще... И не успокоюсь я, пока не испишу
тебя до конца, чистый белый лист бумаги. И вот ты уже не
чистый. Буквы соединились в слова, а слова, соединившись
между собой, образовали фразы. Если слова соединились хо-
рошо, то это хорошая фраза. А несколько фраз могут выра-
зить мысль, если есть мысль, а если мысли нет, то зачем со-
единять буквы в слова, а слова в предложения.
Снаряды ложатся все ближе и ближе. Ушли родители, учи-
теля, уходят товарищи и сослуживцы. Уходят лучшие. Одни
оставили после себя кинопленки и воспоминания в офици-
альных мемуарах, другие — далеко не самые худшие — не
оставили ничего или совсем мало. Надо торопиться! Расска-
зать то, что видел, вспомнить лучших и далеко не лучших,
портивших жизнь лучшим и самым лучшим. Но это уже сплет-
ни. Что ж, я согласен и называю свои мемуары «ЗАПИСКИ
СТАРОГО СПЛЕТНИКА».
Начинать надо с самого начала, а начало было в то самое
время, которое теперь называется до войны. Итак...
Глава первая
Ао войны
Я родился в Ленинграде (нынешнем Петербурге) 5 апреля
1928 года, на следующий день после смерти в Москве вели-
кой русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой. Уже в
шесть лет, когда я стал мечтать о театре и узнал об этом зна-
менательном совпадении, у меня хватило чувства юмора не
придать ему значения.
У меня было доброе, славное детство. Отдельная квартира
в Ковенском переулке. Прочитав повесть Чехова «Дуэль», я
был горд, что герой повести Лаевский жил в Ковенском пе-
реулке. А еще я горжусь и сегодня, что мой родной Ковен-
ский переулок, один из немногих в городе, ни разу не был
переименован советской властью. У меня было две бабушки.
Одна, самая любимая, жила в Виленском переулке, переиме-
нованном в улицу Красной Связи. По бессмысленности пе-
реименования — это конечно же эталон пошлости. Другая ба-
бушка жила на Ямской улице, переименованной в улицу
Достоевского, хотя Федор Михайлович там никогда не жил.
В Виленском переулке в одном доме с бабушкой жил с ро-
дителями — тетей Нютой и дядей Сеней — мой двоюродный
дядя Александр Семенович Менакер. Будущий известный
эстрадный актер до рождения своих сыновей, Кирилла и зна-
менитого Андрея Миронова, очень любил меня и первым
показал театральное закулисье. Других театральных корней у
меня нет.
У бабушки Фани в Виленском была большая роскошная
квартира. Бабушка Берта ютилась в двух комнатах огромной
коммуналки. А ведь до переворота, называемого многие го-
ды Октябрьской революцией, папа с двумя братьями, сест-
рой, мамой — этой самой бабушкой Бертой — и покойным
дедушкой Сашей, который умер перед самым моим рождени-
ем и чье имя я унаследовал, жили в Царском Селе. У дедуш-
7
Александр Белинский
ки была небольшая лесопильная фабрика, бабушка каждый
год ездила во Францию, а папа, его братья и сестра, мои дя-
дья и тетка, закончили Царскосельское реальное училище, где
учились великие князья.
Еще из рассказов отца и бабушки я знал, что у них гостил
Георгий Валентинович Плеханов. Вдова Плеханова Розалия
Марковна ежегодно приезжала из Парижа и дарила мне то
пальтишко, то костюмчик. Равнодушие к носильным вещам
я сохранил до старости.
До начала войны я бывал в Царском Селе с бабушкой Бер-
той каждые зимние каникулы. Мы жили у ее дореволюцион-
ной приятельницы, рядом с вокзалом. Каждый день гуляли в
парках и навещали могилу дедушки на Казанском кладбище,
где теперь лежат рядом мои отец и мать и где буду... но пока
не надо об этом!
Со второй бабушкой связано первое потрясение в моей
жизни. Я, как и‘положено было в интеллигентных семьях то-
го времени, посещал немецкую группу. Меня водила в эту
группу нянька Уршуля, ревностная католичка. Рядом с моим
домом в Ковенском был костел, он, к счастью, сохранился,
и Уршуля водила меня на службу, так что в годы воинствую-
щего атеизма, не имея никакого вероисповедания, я все же
прикоснулся ко всей красоте религии. Так вот, эта самая Ур-
шуля вела меня домой вечером из группы. Было это 2 дека-
бря 1934 года. Мы шли от угла Греческого проспекта и ули-
цы Бассейной, той самой, где «жил человек рассеянный»,
согласно знаменитому детскому стихотворению. Позже Бас-
сейная была переименована в улицу Некрасова. Чтобы по-
пасть домой, мы должны были перейти Знаменскую улицу,
ставшую через несколько дней улицей Восстания. Перейти
мы не могли в течение часа. Громадная толпа двигалась по
улице за гробом. Гроб с телом убитого накануне Сергея Ми-
роновича Кирова везли к Московскому вокзалу.
Что началось потом, описано во многих романах и хрони-
ках полвека спустя. А тогда ни о чем не говорили. Ни у ме-
ня в доме, ни в домах моих товарищей. Но вот в январе трид-
цать пятого года я проснулся глубокой ночью. Кто-то плакал.
Бабушка Фаня сидела на кровати моей матери и что-то ей
шептала. Я узнал, что арестовали дедушку Михаила и дядю
Сеню, отца Александра Менакера. Потом они получили так
8
Записки старого сплетника
называемые «минус двадцать пять», то есть запрещение про-
живать в двадцати пяти городах страны. Вот так. Мне было
шесть лет. Мне никто ничего не объяснил. В школе, куда я
поступил два года спустя, во Дворце пионеров, где я участво-
вал в литературных олимпиадах, в прекрасном фильме Фри-
дриха Эрмлера «Великий гражданин» меня учили вере в Ста-
лина и ненависти к врагам народа. Но никогда, никогда, ни
в одном из своих сценических или экранных сочинений, а их
около полутораста, я не прославил ни Ленина, ни Сталина,
ни ВКП(б), ни КПСС. Я не хвастаюсь этим, ни в коем слу-
чае. У меня не было никакого политического провидения, да
и откуда ему взяться в шесть лет от роду, но январь 1935 го-
да и арест дедушки, дяди Сени и таких кумиров детства, как
художник-карикатурист Бронислав Малаховский (дядя Сла-
ва) или инженер Константин Маньковский (дядя Котя), на-
всегда лишили меня веры в «правое» дело коммунистическо-
го будущего. Впрочем, я ни о чем таком не думал, потому что
с 4 января 1935 года (о, как запомнил я это число!) я уже ни
о чем не думал, кроме театра. К слову сказать, и шесть деся-
тилетий спустя я больше всего думал о нем же.
Что же произошло в этот знаменательный вечер? Моя тет-
ка по линии матери дружила с некой Евгенией Исааковной
Шамкович, работавшей в старом ТЮЗе на Моховой, в зда-
нии бывшего Тенишевского училища, так известного нам те-
перь по роману Набокова, в качестве педагога. И вот она в
нарушение очень строгого тогда возрастного ценза посеще-
ния того или иного спектакля устроила меня посмотреть «Зе-
леную птичку» Карло Гоцци. До этого я часто бывал в цирке
с бабушкой и в кукольном театре с отцом. Нравилось, но не
больше. А вот «Зеленая птичка»!.. Клянусь, я не заглядываю
ни в один справочник, ни в одну книгу при написании этих
мемуаров. Я пишу только то, что запечатлелось в моей, пока
еще довольно крепкой, памяти. Программку «Зеленой птич-
ки» я читал и перечитывал каждый вечер и знаю ее, как сле-
довало бы знать «Отче наш». Я помню, что Ренцо играла Та-
тьяна Волкова, Барбарину — Ваккерова, Зеленую птичку —
Емельянов, Чиголетти, его друга, — Лев Колесов, Труффаль-
дино — Шифман, Смеральдину — Иртлач, Тарталью — Гер-
ман, Тартальону — Уварова, Бригеллу — Любашевский. Это-
то я все помню, а вот сюжет пьесы вспоминаю очень
9
Александр Белинский
приблизительно. Когда уже после войны я прочел эту плени-
тельную фьябу Карло Гоцци, я не нашел в ней ничего похо-
жего. Потом узнал от Зона, постановщика спектакля, что но-
вую, глубоко революционную по содержанию редакцию
«Зеленой птички» сделали для спектакля ТЮЗа Гернет и Ус-
пенский.
Здесь начинается мистика. Всеволод Васильевич Успенский
стал моим любимым профессором в Театральном институте.
Он превосходно читал курс русской литературы. Более того,
я поступил в режиссерский класс Бориса Вольфовича Зона,
постановщика «Зеленой птички». Более того, художник спек-
такля Михаил Александрович Григорьев оформлял один из
моих первых спектаклей в Театре имени В.Ф. Комиссаржев-
ской. Более того — и Колесов, и Уварова, и Иртлач не раз
снимались у меня на телевидении. Наконец, Татьяна Серге-
евна Волкова и Леонид Соломонович Любашевский — участ-
ники первой моей самостоятельной театральной постановки
«Студент третьего курса» Давидсона и Борозиной в Театре
имени В.Ф. Комиссаржевской, тогда просто Ленинградском
драматическом театре на улице Ракова, ныне Итальянской
улице. Премьера эта состоялась 29 июня 1950 года, то есть
спустя пятнадцать лет после посещения «Зеленой птички» в
старом ТЮЗе на Моховой улице.
Может возникнуть вопрос, почему я называю ТЮЗ на Мо-
ховой старым. Дело в том, что то ли в тридцать шестом, то ли
в тридцать седьмом, не знаю точно (дал себе слово не загля-
дывать ни в один справочник), ТЮЗ разделился на новый и
старый. Это интереснейшее событие в театральной жизни го-
рода до сих пор не нашло отражения в отечественном теат-
роведении. Расскажу об этом, как знаю. Борис Вольфович
Зон, потрясенный театральными открытиями Станиславско-
го (он достаточно красочно описал свои встречи с Констан-
тином Сергеевичем), решил отделиться от брянцевского
ТЮЗа. Сделано это было, судя по рассказу Александра Алек-
сандровича Брянцева — святого старика, достаточно некра-
сиво. Сплетни ходили разные. Не берусь их пересказывать, к
тому же Зон все-таки мой первый учитель. Итак, Зон с груп-
пой своих учеников, ведь педагог он был выдающийся, со-
здал Новый ТЮЗ, получив помещение бывшего ресторана
«Медведь» на улице Желябова. Вместе с Зоном покинули
10
Записки старого сплетника
брянцевский ТЮЗ Борис Блинов, Борис Чирков, Елизавета
Уварова, Ольга Беюл, Леонид Любашевский, Лев Колесов, Та-
тьяна Волкова. ТЮЗ на Моховой был обескровлен. Из веду-
щих актеров Брянцеву остались верны Леонид Федорович
Макарьев, Чагин, Шифман, Казаринова и кто-то еще. А к Зо-
ну пришли из кино Пославский и Федор Никитин, то есть
образовалась первоклассная труппа, да еще с художником
Михаилом Григорьевым, композитором Митиным, писателя-
ми Евгением Шварцем и Александрой Бруштейн. Еще раз об
уроках судьбы. Знаменитый Новый ТЮЗ был закрыт сразу
после войны, а благороднейшие люди — Брянцев и Макарь-
ев — помогли Зону. Брянцев в тяжелейшие годы дал ему по-
становку в ТЮЗе на Моховой, а Леонид Федорович Макарь-
ев помог вернуться к преподаванию в Театральном институте.
Вот что такое подлинные русские интеллигенты!
Школьники города разделились на два лагеря — старых и
новых тюзян. Я стал безоговорочным поклонником Нового
ТЮЗа. Как я понимаю уже сейчас, он, что называется, «крыл»
старым репертуаром. Еще бы! Дэль — артист театра Люба-
шевский — написал для театра «Третью версту», «У Лукомо-
рья», «Большевик» — пьесу о Якове Свердлове, как мы не-
давно выяснили, палаче царской семьи Романовых.
Александра Бруштейн дала Новому ТЮЗу прелестную исто-
рию «Голубое и розовое», а Евгений Шварц подарил чудес-
ную театральную сказку «Снежная королева». Сколько раз я
все это смотрел! «Бориса Годунова» с блестяще поставленной
сценой польского бала, «Двадцать лет спустя» Михаила Свет-
лова. Спектакль этот стал самым сильным после «Зеленой
птички» театральным впечатлением. Это воспоминание за-
ставило меня в 1955 году поставить «Двадцать лет спустя» в
Театре имени Ленинского комсомола. Подобного провала я
не имел больше, слава Богу, ни разу в жизни. Короче, Новый
ТЮЗ наряду с акимовским Театром комедии был главной те-
атральной достопримечательностью Ленинграда. Премьер
театра Павел Кадочников вырос в любимца молодежи еще до
начала своей блистательной кинокарьеры. Никто, никто не
мог предполагать быстрой смерти этого прекрасного театра.
Моим ближайшим другом был ныне физик-академик Вик-
тор Евгеньевич Голант, тогда просто мой одноклассник Витя.
Жили мы рядом: я — в доме 9 по Ковенскому, он — на углу
11
Ковенского и Радищева. Сделав уроки (он — тщательно, я —
кое-как), мы ходили гулять. Маршрутов у нас было два: один —
прямоугольник — по Знаменской (Восстания) до Невского, по
Невскому до Надеждинской (Маяковского), по Надеждинской
до Ковенского. Второй маршрут длиннее, фактически квадрат:
Знаменская, Невский, Литейный, Бассейная, опять Знамен-
ская, Ковенский. На Невском остановка возле кинотеатра «Ко-
лизей», где пили воду с вкусными сиропами. Главный интерес
прогулок составляли афиши. Мы изучали их чрезвычайно вни-
мательно. Афиши до войны печатали с перечислением всех дей-
ствующих лиц и исполнителей. Я мог безошибочно сказать,
когда идет балет «Ромео и Джульетта» с Улановой и Сергеевым,
а когда с Чикваидзе и Капланом. Я знал, что если «Свадьба
Кречинского» идет вечером, то играет Кречинского — Юрьев,
а Расплюева — Горин-Горяйнов, а утром соответственно
Малютин и Воронов. Я до сих пор могу безошибочно назвать
составы спектаклей довоенных ленинградских театров, хотя по
пальцам могу перечислить все, что видел. В Александринке —
«Ревизора», «Горе от ума», «Доходное место», «Свои люди —
сочтемся»; в Комедии — «Двенадцатую ночь», в театре Радло-
ва — «Гамлета» и «Слугу двух господ», в Большом драматиче-
ском — «Стакан воды». На гастролях московского Малого
театра я видел «Горе от ума» и «На всякого мудреца довольно
простоты»; на гастролях МХАТа — «Синюю птицу», «Царя Фе-
дора» с Хмелевым и... «Дни Турбиных». Я выделил последнее
название потому, что из всех виденных спектаклей ЕДИНСТ-
ВЕННОЕ эмоциональное впечатление оставил этот. Почему?
Видимо, на утренниках играли не первые составы, да и игра-
ли, наверно, спустя рукава. Во всяком случае, отец, а ходил я
только с ним, объяснял мне, насколько же лучше играли в клас-
сике те же роли Давыдов, Далматов, Стрельская и обожаемый
им Варламов. Так что если меня и волновало что-то, то после
его красочных рассказов перестало волновать. «Дни Турбиных»
играли Хмелев, Добронравов, Яншин, и это произвело боль-
шое впечатление, чуть-чуть подпорченное отцом, объяснив-
шим, насколько Тарасова (я видел ее в роли Елены Тальберг)
хуже игравшей Соколовой, виденной им в 1928 году, то есть в
год моего рождения. Вообще до войны какое бы то ни было
художественное влияние на меня имел только мой отец Арка-
дий Александрович.
12
О довоенном театральном Ленинграде помню только, что
крупнейшими событиями считались «Опасный поворот» и
«Тень» у Акимова и «Дворянское гнездо» в Александринке.
Во всяком случае, других разговоров у родителей и их знако-
мых я не припоминаю. Еще помню шок и разговоры всей ин-
теллигенции об аресте неведомого мне Мейерхольда.
Для меня же вторым театральным событием после «Зеле-
ной птички» было знакомство с книгой «Моя жизнь в искус-
стве» Константина Сергеевича Станиславского.
Отец купил мне ее ко дню моего десятилетия, то есть 5 ап-
реля 1938 года, за четыре месяца до смерти автора. И сейчас,
спустя полвека, прочитав все, что можно, из мемуарной ли-
тературы о русском театре, я утверждаю, что ничего лучшего
не написано. Сплетни... Говорят, что книга написана Любо-
вью Гуревич, официальным редактором «Моей жизни в ис-
кусстве». Не верю! Конечно, все последующие сочинения
Константина Сергеевича в литературном отношении уступа-
ют его первой книге, но они же писались о «методе», а «Моя
жизнь в искусстве» — свободное, глубоко личностное произ-
ведение, без всякой попытки поучать. Как прекрасна непо-
казная скромность автора, его чудесный юмор и великая, под-
линно беззаветная преданность искусству театра. Короче,
Станиславский стал моим кумиром на всю жизнь, и ни реа-
билитация Мейерхольда, ни чудесный двухтомник писем Не-
мировича-Данченко и его же уникальная постановка «Трех
сестер» (спектакля, поставленного Станиславским и Немиро-
вичем-Данченко в 1901 году, я не видел), ни трагически пре-
красная фигура Евгения Вахтангова, ни могучее дарование
Дикого — а его я видел и даже беседовал с ним — не засло-
нили прекрасной легенды по имени Станиславский.
И второй кумир моей жизни возник тоже до войны, в дет-
стве. Кинематограф еще не стал звуковым. Мама показала
мне мультипликации Уолта Диснея «Пингвины» и «Три по-
росенка», а отец сводил на «Огни большого города». Утверж-
даю и сейчас — это пирамида Хеопса всей истории мирово-
го кино, и нет в XX веке художника, равного Чарлзу Спенсеру
Чаплину. Я еще не раз вернусь к его великому имени, а сей-
час скажу только, что и Станиславский, его дела и книги, и
Чаплин с его творениями навсегда вошли в мою жизнь. И ко-
нечно же Александр Сергеевич! Отец никогда не говорил
13
Александр Белинский
«Пушкин», а только с каким-то придыханием «Александр
Сергеевич». Младший брат моего отца, горячо мной люби-
мый дядя Женя, знал наизусть «Евгения Онегина». Всего! Отец
же, обожавший свою маленькую родину — Царское Село, —
каждый вечер читал мне «19 октября» и наизусть «Медного
всадника». Что же касается сказок, то я их видел на сцене во
всех видах. Три сказки в Новом ТЮЗе. Помню Попа — Чир-
кова, Балду — Блинова, Старого беса — Колесова, Бесенка —
Уварову. Опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»
показалась мне невероятно скучной и — о, как это стыдно! —
на всю жизнь отвратила от оперной музыки. Вот как сильны
детские впечатления! Балет же Михаила Чулаки «Балда» в Ма-
лом оперном театре (сейчас это почему-то Театр имени Му-
соргского, но — даст Бог — скоро опять станет Михайлов-
ским) в постановке Варковицкого, наоборот, навеки
пристрастил меня к балету. Не верь после этого в судьбу!..
Прошло несколько лет, и кино стало звуковым. Я видел все,
что положено: «Чапаева», «Веселых ребят», «Мы из Крон-
штадта», «Волгу-Волгу», «Великого гражданина» — все это
пристрастило меня к актерскому кинематографу. В первый год
войны это пристрастие усилилось благодаря «Мечте» Михаи-
ла Ромма с Астанговым, Пляттом и поистине гениальной Фа-
иной Раневской в главной роли.
И все-таки не помню до сего дня кинематографического
события, равного выходу на экраны страны американского
музыкального фильма «Большой вальс». Не буду рассказывать
об очередях в кассы кинотеатров, о разговорах о тамошней
«красивой жизни», о сплетнях, что фильм понравился САМО-
МУ ХОЗЯИНУ, что вот «нам бы так». Это был какой-то не-
виданный всплеск зрительского счастья. Я недавно, спустя
больше чем полвека, посмотрел «Большой вальс». Это хоро-
шая картина. Высокопрофессиональная музыкальная драма-
тургия Темкина (русского эмигранта). По-настоящему талант-
ливо сделанная режиссером Дювивье сцена сочинения вальса
«Сказки Венского леса». Очень красивая актриса Милица Ко-
рьюс в роли певицы Карлы Доннер. Говорили — уроженка
Одессы. Красота ее до сих пор фигурирует в актерских разго-
ворах. Но все же «Большой вальс» — не «Огни большого го-
рода». Почему же такой ни с чем не сравнимый общий вос-
торг? Это был последний крик радости перед наступившим
14
Записки старого сплетника
горем. Это было, может быть, предчувствие наступающих
четырех страшных лет невиданной человеческой трагедии.
А трагедия шла. О ней знали немногие, да и догадывались
далеко не все. Блистательные марши Дунаевского заглушали
стоны пытаемых и выстрелы, косившие лучших представите-
лей русской интеллигенции. Мы пели: «Эх, хорошо в стране
Советской жить», и «В своих дерзаниях всегда мы правы», и
«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит че-
ловек».
Я-то, в общем, действительно «дышал вольно». Вышел
впервые на самодеятельную школьную сцену. Под руковод-
ством Ильи Еремеевича Каплана сыграл Первого плута в ин-
сценировке «Нового платья короля» по Андерсену. С грехом
пополам перешел в шестой класс. Там по программе прохо-
дили «Ревизора», и я надеялся сыграть в кружке Хлестако-
ва. В самодеятельности родильного дома Снегирева, где слу-
жила моя мать, я репетировал Сказочника в «Снежной
королеве», честно имитируя Павла Кадочникова, и стара-
тельно картавил: «Снипп, снапп, снурре, пурре, базелюрре».
До сих пор помню наизусть этот длиннейший монолог.
Упражняясь с этим текстом, я пытался избавиться от врож-
денной картавости. У меня были хорошие друзья, замеча-
тельные книги, любящие меня родители, обильная вкусная
еда. На последнем вопросе необходимо задержаться перед
предстоящими голодными страницами. В нашей семье лю-
били и умели хорошо поесть. Отец был гурманом, я — об-
жорой. Отец любил рассказывать об обедах в Царском Се-
ле, где меньше двадцати человек за стол не садилось; о
тарелках клубники со сметаной, о рябчиках, жареные туш-
ки которых стояли зимой в погребах в деревянных кадуш-
ках, залитых доверху топленым маслом. Я зримо вижу, как
повариха Даша, которую я застал в живых все в том же Цар-
ском Селе, спускается зимой в погреб и большим ножом вы-
резает из замерзшего масла тушку рябчика или куропатки.
Отец любил мне читать гастрономические страницы пира
Ивана Грозного из «Князя Серебряного» Алексея Констан-
тиновича Толстого или монологи помещика-обжоры Петра
Петровича Петуха из «Мертвых душ».
Возникает вопрос: почему я так часто и много пишу об от-
це и так мало о матери. Вопрос этот сложный, деликатный,
15
Александр Белинский
но обойти его в книге с названием «Записки старого сплет-
ника» я не вправе. Попытаюсь, хотя не знаю — не нарушу ли
спорной для меня заповеди «о мертвых либо хорошо, либо
ничего».
Конечно же в детстве я любил свою мать, несмотря на ее
неуравновешенность, истеричность, эгоизм, а главное — лю-
бовь ставить человека в неловкое положение, даже собст-
венного единственного сына. Она была бесхозяйственная
транжира. Отец зарабатывал вполне прилично, и она, в осо-
бенности после войны, на абортах (она была гинекологом),
получала хорошие деньги. Несмотря на это, мы вечно жили
в долгах. «Виноват» был, конечно, отец и — ох, как неслад-
ко ему жилось! Но после войны ее характер стал совсем не-
выносимым, на грани садизма. Она создала страшную жизнь
моей бабушке — своей матери — и стала виновницей ее
преждевременной смерти. А как последние годы мучила она
отца! Женщина она была незаурядная. Во время войны со-
вершила подвиг, спасая отца. У нее была масса друзей. Она
была красива, стройна, обаятельна, но... Я не смог ей про-
стить смерть бабушки. Главные мои недостатки — торопли-
вость, спонтанность, неуравновешенность — это ее гены.
Мой добрый, мягкий, безвольный, скромный, неудачливый
отец был подлинным интеллигентом. Он был высокообразо-
ванным человеком с прекрасным вкусом, редким педагогиче-
ским талантом, он бесплатно вытягивал по математике сыно-
вей всех наших друзей, не говоря уже обо мне. Но самое
главное — он был несостоявшимся поэтом. Да, да! Подлин-
ным поэтом. До войны он писал стихи для вечеринок, юби-
леев, детских праздников. Переписывался в стихах с сослу-
живцами. Конечно же писал стихи на мои дни рождения. В
последний праздник перед войной он положил на тарелку,
когда гости собрались на мое тринадцатилетие, следующие
строки:
Театрал вы завзятый,
В вас фантазии бездна,
Поболтать вы любитель,
Часто мелете вздор.
Александр Аркадьевич,
Будьте любезны,
Сядьте за этот прибор!
16
Записки старого сплетника
Нет, не понимал тринадцатилетний Александр Аркадьевич,
что за человек его отец Аркадий Александрович!..
Кроме Пушкина, он читал мне свои любимые первую гла-
ву «Облака в штанах» и пролог к блоковскому «Возмездию».
Я, конечно, ничего не понимал. Но через пару десятилетий
эти стихи стали и моими любимыми.
Поэтические шутки привели к созданию поэмы «Три ре-
цепта». Это зарифмованная инструкция по изготовлению
глинтвейна и крюшона. Отец был большой спец по этой ча-
сти. В безукоризненных ямбах были подлинные поэтические
удачи. Я бы отметил две характерные особенности его дово-
енных стихов. Во-первых, тонкий, изящный юмор. В жизни
он был не особенно остроумным человеком, за столом ост-
рил не очень удачно. Но в стихах! Во-вторых, в каждом из его
стихотворений есть литературные цитаты из Блока, Маяков-
ского и больше всего — из Пушкина. В-третьих, задолго до
нынешнего безудержного мата в прозе и стихах отец «насы-
щал» свои стихотворные опусы нецензурными выражениями,
но как деликатно он это делал и опять-таки с каким юмо-
ром!.. Для характеристики приведу несколько цитат из «Трех
рецептов». Поэма написана в тридцать третьем году и посвя-
щена некой Зине Лившиц, героине курортного романа:
Итак, я дам вам три рецепта,
Чтобы могли вы накачать
Кокотку с Невского проспекта
Иль просто лиговскую...
Или о готовом глинтвейне:
...Готово. Нежен, словно пена,
Свиреп, как английский бульдог,
Глинтвейн теперь — ноктюрн Шопена,
Да и Шопен пред ним щенок.
Рубин, когда на свет глядите,
А запах — как духи Коти.
«Руси веселие есть пиши»,
Так пейте ж, мать вашу!..
Во втором рецепте прелестно:
Коль ягод нет, тогда послушай,
Компот рекомендую я,
17
Александр Белинский
Но только персики и груши,
Запомни — больше них...
Это писал окончивший лесной факультет Технологическо-
го института главный инженер горячо любимой им катушеч-
ной фабрики:
...Предупреждаю, я не Пушкин,
Не Блок, не Тютчев и не Фет.
Я просто инженер с «Катушки»,
А значит, вовсе не поэт...
Тему довоенных стихов моего отца я закончу упоминани-
ем, что «Три рецепта» знал наизусть мой друг актер Николай
Боярский. Он и его жена, волшебная актриса Александрин-
ки Лида Штыкан, в 50-х годах часто навещали отца, и он «ба-
ловал» их чтением своих стихов. Да по сути это и было толь-
ко поэтическое баловство.
Но вот наступила война, и главным героем четырех тетра-
дей стихов моего отца стал мастер из Кламси, персонаж по-
вести Ромена Роллана «Жив курилка»...
Глава вторая
Кола Брюньон
Прошло три месяца блокады,
Суров и мрачен Ленинград.
Днем от обстрелов нет пощады,
А ночью «юнкерсы» бомбят.
Уж люди пухнут с голодухи
И мрут в нетопленых домах.
В хвостах у лавок даже слухи
Нам не внушают больше страх.
Но я в жестокий зимний холод,
Когда, казалось, нет уж сил,
Когда рукой костлявой голод
За горло город мой схватил,
Под свист снарядов монотонный
И под разбитых стекол звон
Я вспомнил вас, неугомонный
Столяр-мудрец Кола Брюньон.
Вы много в жизни пережили:
И гибель всех своих трудов,
И смерть людей, кого любили,
И торжество своих врагов.
Но одиноким и бездомным
Сумели вы не унывать
И оптимистом неуемным
Писали толстую тетрадь.
И мною начата тетрадка,
И, оптимист, подобно вам,
В дни жизни трудной и несладкой,
Я говорю своим друзьям:
Впадать в отчаяние глупо,
Настанет день — пройдет беда,
Не доживу, так стану трупом,
19
Александр Белинский
Но пессимистом никогда!
Хоть мне невесело, поверьте,
Сидеть, от холода дрожа,
Но все же жизнь сильнее смерти
И песня лучше скулежа!
И в дни, когда я голодаю
И вижу смерть со всех сторон,
Друзьям стихи я посвящаю
И вам, мудрец Кола Брюньон!
Три тетради стихов, исписанных бисерным красивым по-
черком умирающего человека, — это стихотворная летопись
блокадного города и эвакуации.
Увы! Четвертая тетрадь, самая сильная поэтически, была
написана на папиросной бумаге в общей камере Бутырской
тюрьмы в компании воров и убийц, утеряна, а наизусть я ни
одного стиха не запомнил. Вместо Кола Брюньона героем их
стал некий Васек, но это все случилось позднее, а пока вер-
нусь к блокаде.
Поразительное явление!
Стихи моего отца мужали и становились тем лучше, чем ху-
же становилось их автору.
Предисловие ко второй тетради:
Полгода тянется блокада,
Прошло немало трудных дней,
И страшен облик Ленинграда
От разрушений и смертей.
А смерть царит, как в диких сказках,
Не видно похоронных дрог,
И мертвых тащат на салазках
С простой веревкой поперек.
Враг сжал нам горло без пардона,
Не разорвать кольца, хоть брось,
И оптимизм Кола Брюньона
Сменяет русское «авось».
А я валяюсь в дистрофии,
Бывало часто — чуть дышу,
Но даже в дни совсем глухие
Я все ж стихи свои пишу.
20
Записки старого сплетника
Предвижу естественный вопрос: почему после войны мой
отец не пытался издать свои блокадные стихи? Вместо отве-
та, приведу две строфы из его, на мой взгляд, лучшего сти-
хотворения «Всем соблокадникам»:
...Враг нас окружил, неумолим и грозен,
А у нас прорваться не хватает сил,
Долго ждать, пока исправит Хозин,
Что здесь Ворошилов натворил!
Генерал Хозин был назначен вместо снятого Сталиным
легендарного маршала Клима Ворошилова, но спас город
только гений Георгия Жукова.
И дальше:
...И, дрожа от затаенной злобы,
До поры по щелям притаясь,
Часа ожидают юдофобы,
Злая черносотенная мразь!..
Стихи моего отца тянули на 58-ю статью. А сейчас, когда
автора тридцать лет уже нет на свете, они годятся только для
моих воспоминаний.
Юмора он не терял ни на секунду. В самые страшные дни
написал сонет «Любовнице в дни блокады». Вот пара ци-
тат:
Прости, прелестное созданье,
Что я нарушил твой покой,
Что после жаркого свиданья
Расстались мы тогда с тобой.
Но ты должна понять, друг милый, —
Хоть страстью прежней я томим,
Но нет физической уж силы
Мне быть любовником твоим!..
Это написано 22 ноября 1941 года, в дни отчаяния, дни,
когда:
Враг чертит и днем и ночью небо,
Нормы выдач срезали опять,
Двести пятьдесят дают рабочим хлеба,
Служащим всего сто двадцать пять...
21
Александр Белинский
Отец категорически не хотел покидать город и не покинул
бы его, если бы в самые страшные дни блокады, когда в город
не могла пролететь даже птица, за ним не явилась моя мать.
Жизнь моей матери в годы войны осталась для меня нераз-
гаданным детективом. Как врач, она была мобилизована и от-
правлена на Волховский фронт. В декабре она демобилизова-
лась. Как? Каким образом? В декабре сорок первого?! Не
знаю. Никогда не спрашивал. Да и вряд ли получил бы ответ.
В 1943 году в Кирове, где мы жили в эвакуации, она занялась
перевозкой рюкзаков со спичками из Вятки в Свердловск.
Сейчас это вполне узаконенный бизнес, тогда же подобное
считалось чистой спекуляцией. Мать арестовали. Ей грозило
Бог знает что. Она быстро до суда мобилизовалась и отпра-
вилась на фронт, где снова через месяц демобилизовалась и
оказалась в Москве в Институте имени Склифосовского вра-
чом-гинекологом.
Загадка ее мобилизаций и демобилизаций умерла вместе с
нею. Знал ли отец все хитросплетения ее поступков? Мне он
об этом не говорил, хотя был откровенен в куда более щепе-
тильных вопросах.
Но конечно же самой невероятной авантюрой моей мате-
ри был ее полет в блокадный город по подложным докумен-
там ради спасения умирающего отца. Перед самым отлетом
прошел слух, слава Богу ложный, о смерти моего отца от го-
лода. Вот как описал отец сказочное появление моей матери
в осажденном Ленинграде:
Прощайте, друзья, прощай, Ленинград,
Меняется облик моей тетради,
Не знаю сам, я рад иль не рад,
Но я не жилец уже в Ленинграде.
Энергию жен попробуй измерь,
Откуда взялася такая сила!
В блокаду ворвалась, как на море смерч,
Меня песчинкой вмиг закружила!
«Русских женщин» Некрасов писал,
На тысячу верст лишь транспорт конский,
Садись в возок, и кончен бал,
Катись к мужьям, Трубецкая с Волконской!
С княгиней отца секретарь в крестах,
22
Записки старого сплетника
В покойном возке не сон, а нирвана.
Жена пробиралась сюда во вшах,
В вагоны впиралась, грозя наганом.
Где блатом, где хлебом, где просто так,
Пять раз сменила в пути теплушку,
Что «Русские женщины» ? Просто пустяк,
Их героизм, в общем, игрушка!..
И еще один отрывок:
...Круг пути страшнее, чем у Данте.
Начинаю в честь моей жены
Песнь о ленинградском эмигранте,
Уезжающем к востоку в глубь страны.
Много взять вещей — приводит к катастрофе,
Не снести жене, носильщиков ведь нет!
Надо же понять — не помощь муж-дистрофик,
А громоздкий дополнительный пакет!
Из коптилочных буржуечных закутков,
Как навозный медленный поток,
Эшелон расстроенных желудков
Двигался на северо-восток.
Человечьих чувств ведь у голодных мало,
За кусок жратвы все разнесут до щеп,
Как на падаль хищные шакалы,
Ленинградцы бросились на хлеб.
Может, дальше жить я буду складно,
Но всю жизнь, услышав стук колес,
Буду вспоминать я к хлебу эту жадность,
Голод, грязь и массовый понос!..
Сильно написано! Я, не боясь сыновней необъективности,
уверен в истинной поэзии этих строф. В эвакуации в Киро-
ве, ныне опять Вятке, отец написал еще одну тетрадь стихов,
но она не идет ни в какое сравнение с его блокадными стро-
ками. Затем появились прекрасные утерянные стихи Бутыр-
ской тюрьмы, а потом он не писал больше ничего, совсем ни-
чего, только юбилейные поздравления.
В тюрьме он сидел сравнительно недолго. Подошла амни-
стия 1945 года. Я носил передачи. Два раза был на свидани-
ях. Он интересовался только моими делами: я поступал в это
23
Александр Белинский
время в ГИТИС. Был спокоен и весел. Тюрьму вспоминал ча-
сто и всегда весело. До конца жизни.
Интереснейший эпизод! В 1956 году, в год рождения моего
сына, отец в Юсуповском саду услышал тихий голос: «Ста-
рый генерал!» (Это была тюремная кличка отца.) Рядом с ним
стоял Васек, пахан камеры, приговоренный к расстрелу. Он
сунул в руки отца дорогие золотые часы и быстро исчез. Все!
Отец очень обиделся на мать, которая тут же эти часы про-
дала, чтобы отдать очередные долги.
За что сидел мой отец, неизвестно ни мне, ни, по-моему,
ему самому. До конца дней он вспоминал тюрьму с юмором,
а блокаду вспоминать не любил. Осталось до конца дней ка-
кое-то тревожное отношение к хлебу и особенно к горячей
картошке и потребность еще и еще раз перечитывать «Кола
Брюньона».
В повести Ромена Роллана у столяра, мастера из Кламси,
была Ласочка, женщина, которую он любил всю жизнь и ко-
торая любила его, но ничего не получилось. Отец часто гово-
рил мне, что у него есть своя Ласочка, часто ездил к ней в
Царское Село. Я познакомился с ней уже на могиле отца в
Царском Селе на Казанском кладбище, когда ставил памят-
ник. Мать моя еще была жива, но, по-моему, о существова-
нии Ласочки даже не подозревала. Ласочкой оказалась Ан-
тонина Федоровна Глазунова, родная сестра закадычного
друга отца Сергея Глазунова. Его сын — известный ныне ху-
дожник. Я познакомился с Ильей Сергеевичем в самолете, по
дороге в Париж, и мы долго говорили об Антонине Федоров-
не. Он тоже не знал об этом длительном и красивом романе
своей тети Тоси.
И еще одна «сплетня». Я хочу в своих записках подтвер-
дить или опровергнуть все сплетни о моей жизни. Вот прав-
дивая история о происхождении моей фамилии. Настоящая
фамилия великого русского критика была Былинский, Вис-
сарион Григорьевич Былинский. Почему и зачем он стал Бе-
линским, я не знаю, а рыться в справочниках не хочу. Я не
большой поклонник Виссариона Григорьевича за его письмо
к моему кумиру Гоголю по поводу прекрасных «Выбранных
мест из переписки с друзьями». Моя же настоящая фамилия
БЕЛИНКИЙ, нет, не БЕЛЕНЬКИЙ, а именно БЕЛИНКИЙ.
Вот блокадное стихотворение отца по этому поводу:
24
Записки старого сплетника
Аркадий Белинкий без мягкого знака,
После «л» — «и», после «н» — «к»,
Выполз из своего квартирного мрака
И пошел по улице, пошатываясь слегка.
От дистрофии он стал злым и капризным,
От каждого шага впадает в транс,
Но все же не расстался со своим оптимизмом
И верит в единственный слабый шанс.
Но если дело не кончится гладко,
Аркадий Белинкий (после «л» — «и» )
Тоне оставит эту тетрадку,
Пусть сохранятся у нее стихи.
Потому что в дыму ленинградских пожарищ,
В холод, голод, без дров и воды
Она последний друг и товарищ
В дни моей дистрофийной беды.
Если же все хорошо обернется
И шанс единственный верх возьмет,
Тетрадка к Белинкому вновь вернется
И он с волненьем ее перечтет.
Тетрадь завещав, устав как собака,
Снова в коптилочный мрак залез
Аркадий Белинкий без мягкого знака,
Почти как Белинский, только без «с».
Всем нам надоело объяснять всю нелепость орфографии
фамилии: не Беленький, не Белинский, а именно БЕЛИН-
КИЙ. По выходе из Бутырок папа получил паспорт с фами-
лией Белинский. Я тотчас же последовал его примеру.
Параллельно с кошмарами блокады отца шла моя эвакуа-
ционная жизнь. Ее география: Ленинград — Гаврилов Ям
(Ярославской области) — Куйбышев (ныне опять Самара) —
Свердловск (ныне опять Екатеринбург) — Киров (ныне сно-
ва Вятка) — Москва (никогда не переименовывалась!). Гав-
рилов Ям — месячный эпизод в лагере Литфонда. Самара —
два ничем не примечательных месяца. Но... В Самару при-
ехал агитпароход «Пропагандист», и я впервые встретился с
профессиональной актрисой, да еще и превосходной. Это бы-
ла новая жена моего дяди Александра Менакера...
25
Александр Белинский
Мария Владимировна Миронова
Перед первым портретом я должен сделать оговорку. Пор-
третов в моих записках будет много. Они будут возникать по
ходу рассказа, но стройность повествования, естественно, бу-
дет нарушаться. Ведь со многими «портретами» я прожил ря-
дом десятилетия, и, для того чтобы портрет был полным, при-
дется «скакать» по времени, по месяцам, годам, десятилетиям,
чтобы потом снова, не теряя нить, вернуться к хронологиче-
скому изложению событий. Будем считать мои портреты чем-
то похожими на лирические отступления Николая Василье-
вича Гоголя, этого сверхъестественного писателя, подражание
которому столь же соблазнительно, сколь и бесполезно. Богу
русской словесности можно только поклоняться. Даже учить-
ся у него нельзя. Бессмысленно учиться гениальности.
Мои портреты будут весьма эскизны. Подробность их бу-
дет зависеть от продолжительности совместной работы, от
близости общения.
С Марией Владимировной Мироновой я общался непре-
рывно больше чем полвека.
Какой непоправимый урон советской эстраде нанесли буль-
дозеры! Да, да, те самые бульдозеры, что снесли до основа-
ния деревянные летние театры в Саду Баумана в Москве, в
Саду отдыха в Ленинграде и конечно же в Саду «Эрмитаж» в
столице. Там сейчас лужайка, поросшая чахлой травой. А на
этом месте каждое лето было три, а то и четыре премьеры. И
какие! Аркадий Райкин со своим неповторимым театром.
Каждый год новый спектакль с новым текстом, новой музы-
кой, новым оформлением лучших режиссеров, художников,
композиторов страны. И премьера всегда в Саду «Эрмитаж».
И там же каждое лето премьера новой программы джаза (тог-
да он застенчиво назывался эстрадным оркестром) Леонида
Утесова — с десятью — пятнадцатью новыми песнями. И тре-
тья программа, сборная, с участием Смирнова-Сокольского,
Ильи Набатова, Мирова и Новицкого, Мироновой и Мена-
кера. Попробуйте сегодня составить эстрадную программу, ес-
ли это только не правительственный концерт, где одновре-
менно выступают Петросян, Шифрин, Толкунова, Кобзон да
и сам Хазанов. И чтобы шла такая программа каждый день в
течение месяца. Это исключено. А ведь те артисты были не
хуже. Заявляю ответственно. Работал и с теми и с другими.
26
Записки старого сплетника
Так вот ТЕ собирались, репетировали и месяц подряд делали
аншлаги в Летнем театре Сада «Эрмитаж», потом месяц в ле-
нинградском Саду отдыха. Один из этих эстрадных спектак-
лей в постановке Александра Конникова назывался «Вот идет
пароход». В этом эстрадном спектакле Мария Владимировна
Миронова задала Александру Семеновичу Менакеру сакра-
ментальный вопрос: «Зачем ты привел меня на этот пароход?»
Я начал рассказ об актрисе с этого вопроса вот почему: об-
раз вздорной жены, созданный Мироновой во многих эстрад-
ных интермедиях, был очень популярен, стал нарицательным,
многие наиболее удачные выражения повторялись в народе,
и (вечная история!) актерский образ стал совпадать у зрите-
ля с образом персонажа. От Мироновой ждали именно этого
образа, этих выражений, таких узнаваемых, таких типичных.
Между тем интермедии со вздорной женой строились по раз
навсегда установленной классической форме диалогов клоун-
ских антре Белого и Рыжего в цирке. Шутки-репризы не свя-
заны между собой сюжетом, это цепь коротких диалогов, каж-
дый из которых заканчивается ударной точкой, вызывающей
смех. Роль Белого, то есть Новицкого, Нечаева, Менакера —
весьма неблагодарная. Пожалуй, только в 80-х годах Алек-
сандр Ширвиндт в своем дуэте с Михаилом Державиным су-
мел уйти от стереотипа резонерского эстрадно-циркового
амплуа. Мария Владимировна Миронова с ее чувством юмо-
ра и хорошим вкусом всегда находила новые краски в похо-
жих друг на друга интермедиях, но конечно же это сузило
амплитуду ее актерского дарования.
Как хорошо я помню первое впечатление от Мироновой!
Сорок первый год. Война. На агитпароходе «Пропагандист»
в Куйбышев прибывает труппа Московского театра миниа-
тюр. Поет Наталия Ушакова, у рояля Игорь Аптекарев. Ми-
ниатюры играют Юрьев, Менакер, Данильский, Бельский,
Рина Зеленая, Мария Миронова. Миронова, в длинном сере-
бристом платье, читает свою знаменитую Капу, ту самую идо-
лопоклонницу, которая съела след от ноги Козловского, —
монолог, написанный самой актрисой с зощенковским блес-
ком, не боюсь преувеличения, потому что слышал оценку от
самого Михаила Михайловича Зощенко, искреннего друга
Мироновой и Менакера, написавшего для них ряд миниатюр.
Итак, монолог Капы, за который Миронова стала лауреатом
27
Александр Белинский
первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады, теперь уже
смело можно сказать — не первого, а единственного, потому
что какой же еще конкурс подарил зрителю одновременно
Райкина, Шульженко, Миронову, Редель и Хрусталева?.. Но
перестанем отвлекаться и вернемся к тому первому впечатле-
нию зрителя.
Наряду с монологом Капы и какой-то смешной миниатю-
рой Мария Владимировна играла маленькую мелодраму под
названием «Рукою женщины». Партнером ее был коршевский
актер Борис Бельский. В это время он исполнял обязаннос-
ти главного режиссера театра. Содержание мелодрамы край-
не примитивно. Оккупированное фашистами местечко во
Франции. Офицер оккупантов пристает к француженке. Та
убивает его. Вот все, что припоминается по линии содержа-
ния. А вот как Миронова танцевала с офицером танго, как с
отвращением уклонялась от его поцелуев, помнится спустя
полвека, а главное — идеально слышится проникновенная ин-
тонация актрисы в последней фразе пьесы после выстрела:
«...И Господь поразил его рукою женщины!» Я вспомнил эту
роль молодой Мироновой, когда спустя сорок лет неоднократ-
но видел ее в маленькой пьесе Нила Саймона «Глоток шам-
панского» в постановке Бориса Львова-Анохина. Одноактная
пьеса эта о немолодой американской паре (мужа играл
А.С. Менакер), в которой жена умнее, тоньше, деликатнее су-
пруга, много лет изменяющего ей со своей секретаршей. Де-
ло конечно же не в сюжете, а в том, как написана пьеса, а
написана она и переведена Натальей Ильиной превосходно!
Скупость, с которой играла эту роль Миронова, почти аске-
тическая. Во время огромного по протяженности монолога,
где женщина рассказывает мужу, что она давно все знает, все
понимает, актриса стоит не двигаясь, скрывая всю глубину
своих переживаний за полуулыбкой и нарочито веселым то-
ном рассказа. А публика, пришедшая на «свою» смешащую
Миронову, замирала и разражалась аплодисментами, более до-
рогими для артистки, чем смех на репризы, произносить ко-
торые Мария Владимировна была такая мастерица.
В антракте, сыграв «Рукою женщины», Мария Владимиров-
на кормила за кулисами трехмесячный пищащий комочек, ко-
торому предстояло стать сверкающим актерским талантом —
Андреем Мироновым, чья жизнь так трагически рано оборва-
28
Записки старого сплетника
лась. Я видел с тех пор Миронову во всех ее программах, во
всех ролях. Видел я во всех без исключения ролях и Андрея
и не переставал удивляться сходству природы дарования ма-
тери и сына. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду. И Ми-
ронова и Андрей знали цену сценического слова. В одном из
своих последних писем Москвину, посылая ему распределе-
ние ролей в «Лесе» Островского, Немирович-Данченко сето-
вал на утерю традиционного для русского актерства «умения
подавать смешные словечки». Вот этим-то и владел Андрей
Миронов, унаследовав это от матери, потому что научить это-
му нельзя. Мария Владимировна чувствовала слово на сцене,
что называется, «от Бога». Она не заменяла союз «и» на «да»,
если это шло в ущерб общему звучанию фразы. Я уж не го-
ворю о дикции и голосе, которыми она владела в совершен-
стве. Миронова не «красила» слова, а доносила их смысл, ни-
где его не теряя. Напомню, что классику Миронова (увы!)
почти не играла, зато и Борис Ласкин, и Владимир Поляков,
и Леонид Зорин, и Александр Володин, и Григорий Горин
обязаны Марии Владимировне самым бережным отношени-
ем к стилю, к жанру их драматургии, и скрупулезному соблю-
дению словосочетаний. Мало кто из артистов эстрады, в том
числе и великий Райкин, могут этим похвастаться.
Сказать, что Миронова пластична, — ничего не сказать.
Достаточно вспомнить спектакль «Кляксы», где с Афанасием
Беловым и Менакером Мария Владимировна исполняла це-
лую хореографическую сюиту, начисто перетанцовывая сво-
их неплохо двигающихся партнеров. Так же танцевален был
и Андрей, не имевший, в отличие от матери, специального
хореографического образования. Но конечно же не в этом, во
всяком случае не только в этом, сходство актерской природы
матери и сына. Главное — великая любовь, страсть к лице-
действу, жажда играть. Когда я спрашивал Миронову, кто луч-
ший из виденных ею актеров (а сколько она их видела!), ак-
триса не задумываясь отвечала: Степан Кузнецов. Я как-то
передал этот ответ мудрейшему Павлу Александровичу Мар-
кову. Он, подумав, сказал: «Может быть, Михаил Чехов и был
талантливее, но он мог делать что-то еще и не играть, а Куз-
нецов не мог». Не гарантирую точность слов, давно это бы-
ло, но за смысл ручаюсь. Андрей Миронов не мог не играть
на сцене, НЕ МОГЛА и Мария Владимировна. И мать и сын
29
Александр Белинский
невозможны вне театральной профессии. И еще об одном ка-
честве обоих: полное отсутствие какого бы то ни было актер-
ства в жизни. Редкое качество в нашем искривлявшемся теа-
тральном мире! Они вели себя по-разному: Андрей открыто,
весело, Мария Владимировна в жизни мрачновато-скептич-
на. Но каким же юмором согрето было поведение и матери и
сына на репетициях и в часы досуга.
Самую радостную Миронову я видел на репетициях и съем-
ках. В телестудии у операторов светились лица, когда она по-
являлась на съемочной площадке. Партнеры подтягивались,
и даже мрачнейшая Екатерина Максимова, чудесная наша ба-
лерина, радостно улыбалась. А ведь я снимал Марию Влади-
мировну после того, как она потеряла своего мужа, друга,
партнера, единственного худрука и завлита — Александра Се-
меновича Менакера!
История отечественного театра знает примеры рыцарского
отношения режиссера к актрисе — своей жене. Александр Та-
иров и Алиса Коонен. Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх.
Я, конечно, не сравниваю Менакера по масштабу с ними, но
могу смело сопоставить его с великими русскими режиссера-
ми по умению трогательно заботиться о творчестве своего дру-
га, жены, актрисы. Он придумывал роли для Марии Влади-
мировны, разрабатывал их с авторами, следил за тем, чтобы
она не повторялась, вникал во все мелочи, вплоть до покроя
платья и цвета парика. Менакер брал на себя все, предостав-
ляя Мироновой только репетировать и играть. И как же она
играла!.. Как разнообразно, изящно, смешно! Последнее сло-
во я хотел бы подчеркнуть особо. Нет Раневской, Андровской,
Бирман... Ах, как оскудела наша сцена на мастеров комедии,
а ведь Виссарион Белинский справедливо утверждал, что ис-
кусство смешного — высшее из искусств. Как смешно игра-
ла Мария Владимировна «Святую правду» Леонида Ленча! Она
надевала толщинку на то самое место, на котором сидела ее
героиня — замдиректора какого-то ателье (не ручаюсь за точ-
ность должности), и играла... то самое место, на которое на-
девалась толщинка. Другое название для ее героини, право,
трудно подобрать! А весь калейдоскоп женщин в спектакле по
пьесе Леонида Зорина «Мужчина и женщины»! Какое разно-
образие речевых характеристик, пластических находок, точ-
ного отбора деталей грима и костюма. По мастерству мгно-
30
iaписки старого сплетника
венного перевоплощения я не встречал равных Мироновой,
разумеется за исключением Аркадия Райкина.
Я очень любил ее трогательные роли. «Сыночек» Зискин-
да, где она играла обиженную сыном мать. О последней по
времени роли в пьесе Нила Саймона я уже упомянул. Имен-
но после этой роли я уговорил Марию Владимировну снять-
ся в телефильме по рассказу Сомерсета Моэма «Жиголо и
Жиголетта». Покаюсь. Сначала я пригласил Марию Иванов-
ну Бабанову. Не получилось. Подозреваю, что к счастью для
меня и для фильма. Большой по протяженности монолог ста-
рой цирковой актрисы, которой «выстреливали из пушки»,
Миронова, несмотря на съемки короткими планами, сыгра-
ла на одном дыхании, глубоко, тонко, с полным ощущением
стиля блестящего английского новеллиста. Ее неопытные дра-
матические партнеры — великие наши балетные артисты
Максимова и Васильев — говорили, что съемки и озвучива-
ние с Мироновой явились для них настоящей школой драма-
тического мастерства.
А потом уже специально для Марии Владимировны я по-
ставил на телевидении сатирическую комедию Катаева «По-
недельник — день тяжелый», и как же Валентин Петрович
Катаев смеялся на просмотре своей пьесы, которую считал
старомодной и которая прозвучала в чем-то современной
только благодаря чувству СОВРЕМЕННОСТИ актрисы Ми-
роновой. А тогда, в сорок первом, мог ли я себе представить,
что буду с Мироновой репетировать, снимать ее! Мария Вла-
димировна терпела мое детское любопытство и рассказывала
мне о тех, о ком тогда не писали: о Михаиле Чехове, о Мей-
ерхольде, о МХАТе Втором, где служила... Как хорошо гово-
рили артисты того поколения: «служил, служила»! Право же,
это красивее, чем: «Гамлет у него хорошая работа» или того
лучше — «Сегодня вечером я работаю Чацкого»! Все-таки ар-
тист играет, репетирует и служит. Служит в театре, служит ис-
кусству, служит Аполлону или Мельпомене. Так «служила»
Мария Владимировна Миронова. Так, простите за нескром-
ность, всю жизнь прослужил я.
Вернемся в Самару. Собственно, к чему возвращаться? Раз-
ве только к тому, что в Куйбышеве (Самаре) ждали в эвакуа-
цию Сталина. Опасались, что мой дедушка и дядя Сеня ор-
ганизуют на него покушение, поэтому их в двадцать четыре
31
Александр Белинскии
часа выслали. Менакеров на Алтай, дедушку в деревню Куро-
патовку. Я отправился с ним и бабушкой. Большой театр ждал
в Куйбышеве своего постоянного зрителя, то бишь Сталина.
Но Жуков отстоял Москву, и Большой театр вернулся развле-
кать Сталина в столицу. Я же голодал, сначала в деревне Ку-
ропатовке, потом в Красноярске, пока демобилизованная ма-
ма не забрала меня в Свердловск, где жила вторая
эвакуированная бабушка, неподалеку от дома, в котором рас-
стреляли последнего русского царя Николая Романова.
И опять же нечего рассказывать о той военной зиме. В шко-
ле я не прижился, товарищами не обзавелся. Но вот мама при-
везла отца, вернее, то, что от него осталось после дистрофии
третьей степени, и я возвращаюсь к названию главы «Кола
Брюньон».
Город Киров, бывший Вятка,
Утопает весь в грязи,
В речке Вятка есть стерлядка,
Окунь, щука и язи.
С рыбой жить мы здесь могли бы
И о мясе не скучать,
К сожаленью, этой рыбы
Нипочем здесь не достать.
Мясо редко тащим в хату,
От цены бросает в дрожь,
В общем, с рынком на зарплату
Ни за что не проживешь.
Но хватает нам калорий,
О еде мы не грустим,
Может стать, что даже вскоре
Мы и пузо отрастим.
В стены нам не дует ветер,
Дров вовеки не спалим,
Двадцать два квадратных метра
Дали только нам троим...
Так начал свою третью тетрадь мой отец. В прозе лучше мне
не сказать!
Я прожил в городе Вятке почти год. Вернее, не в самом го-
роде, а возле него — в рабочем поселке лесопильного завода,
где отец работал (вот тут уместнее говорить «работал», а не
32
Записки старого сплетника
«служил») главным инженером. Ненадолго и я до начала учеб-
ного года вошел в состав рабочего класса, класса-гегемона,
утвердившего диктатуру пролетариата. Сделано это было, ес-
тественно, ради получения рабочей карточки. Завод делал во-
локуши. Так назывались подобия лодок, которые призваны
были перевозить по снегу пулеметы и, видимо, раненых. Я
был поставлен на вторую стадию сборки этих бессмысленных
агрегатов. Ни одна из собранных мною волокуш до фронта
не добралась. Если даже мою работу принимал ОТК, то га-
рантирую полный развал собранной мною продукции при по-
грузке в товарные вагоны. Боже, как же я был абсолютно без-
дарен в завинчивании шурупов и забивании гвоздей... Как не
умел я пилить, строгать, колоть! Это неумение я честно про-
нес через всю свою дальнейшую жизнь. Посмеивались надо
мной в цеху негромко, все-таки я был сыном главного инже-
нера, но это было еще обиднее.
В школу я пошел во вторую смену. Ходить было далеко, че-
рез мост на реке, а весной, в месяцы разлива Вятки, прихо-
дилось перебираться на лодке. В школе неожиданно сложи-
лось все очень складно. Появились друзья из местных и
эвакуированных. Театральные впечатления были незначи-
тельными, хотя играл эвакуированный ленинградский Боль-
шой драматический театр с Сафроновым, Казико, Полицей-
мако, Самойловым. Играли все, что было положено: «Фронт»,
«Русские люди», «Давным-давно» — спектакль, поставленный
чудесным режиссером Павлом Карловичем Вейсбремом. На-
ибольшим успехом пользовалась комедия Л.А. Малюгина
«Дорога в Нью-Йорк», сделанная по американскому сцена-
рию Роберта Рискина. Театр раньше всех вернулся в Ленин-
град. Из спектаклей Вятского театра я запомнил только «Хищ-
ницу» Бальзака с крепкими провинциальными артистами
Судьбининым и Шерстневской.
Больше же у меня не театральных, а литературных воспо-
минаний. Перед началом занятий второй смены я шел в го-
род в Библиотеку имени Герцена, где, быстро сделав уроки,
читал. Мне было четырнадцать. И я прочел впервые «Брать-
ев Карамазовых», «Идиота», «Преступление и наказание», от-
лично все запомнив и не полюбив их гениального автора.
Отец был в восторге от этого. Он тоже не любил Достоевско-
го. Через сорок лет я выяснил, что Иван Алексеевич Бунин,
33 2 Записки старого сплетника
I
Александр Белинский
обожаемый мною последний (по словам Твардовского) рус-
ский классик, Достоевского просто ненавидел. Естественно,
это никак не отразилось на мировой славе Федора Михайло-
вича. О вкусах не спорят — этого мудрейшего правила я при-
держивался всю жизнь.
В той же Библиотеке имени Герцена я прочел роман Шолом-
Алейхема «Блуждающие звезды», потеснивший царивших в
моем сердце «Овода», «Последнего из могикан» и даже «Трех
мушкетеров». Я сразу же принялся инсценировать роман, не
догадываясь, что то же самое уже делает Добрушин по заказу
Михоэлса для Еврейского театра. Свою инсценировку я на-
шел, да, да, нашел в архиве отца сорок лет спустя, но... поезд
уже ушел. Снят плохой фильм, хотя я бы с удовольствием за-
нялся этим дивным сочинением о еврейских актерах.
Вот что еще написал о Вятке мой отец в своих «колабрю-
ньоновских» тетрадях:
Блокадный ленинградский ужас,
И полный вилами эшелон,
И голод, темнота и стужа
Мне вспоминаются как сон.
Да, отдал Ленинграду дань я,
И, вспомнив жизнь в нем невзначай,
Я говорю не «до свиданья»,
А только прочное «прощай»!
Все утряслося понемножку,
Теперь я в Кирове живу,
Пью молоко и ем картошку
Уж не во сне, а наяву.
Но все ж и здесь не рай небесный,
Житье и тут не идеал,
Порой желаешь, скажем честно,
И эту жизнь чтоб черт побрал.
Как часто мучают отеки,
И не проходит слабость ног,
И тьма с расходами мороки,
Ведь ложь, что «бедность не порок»!
Что день, то новые напасти,
Мечусь, судьбу свою кляня,
В Москве директор — рвут на части
34
ia писк и старого сплетника
Все исключительно меня.
То вдруг станок из строя вышел,
То в общежитии мороз,
То протекает в цехе крыша,
То вдруг у лошади понос.
А дома тоже все ругают,
Что плох обед, сыры дрова,
О Ленинграде сын мечтает,
Жена твердит: «Москва, Москва...»
Как видите, даже Кола Брюньон сдал свои жизнерадост-
ные позиции.
А потом последовала авантюра матери со спичками и наш
так и не выясненный переезд в Москву.
Так почему же я вспоминаю Вятку с нежностью? Почему
навсегда полюбил русскую провинцию средней полосы? По-
чему до сих пор люблю булыжные мостовые, деревянные по-
косившиеся дома, узкие кривые улочки, необлицованные на-
бережные широких русских рек? Почему так люблю
усадебную русскую литературу от Чехова и Бунина до Паус-
товского и Каверина? Любовь эту я пронес через всю жизнь,
и каждое посещение Костромы или Саратова, Кинешмы или
Плеса радовало меня бесконечно, а вот Вятку я больше не
видел. Никогда... Никогда...
Итак, должен был начаться новый виток моей жизни под
названием «Москва». Однако до начала учебного года я был
отправлен в Свердловск. Я добрался туда один, сам не помню
как. Отец уехал в Москву, мать демобилизовалась. В Сверд-
ловске я устроился на работу в комбинат зеленого хозяйства,
все для той же рабочей карточки. Кроме нее и мизерной зар-
платы я приносил домой какие-то колобашки, которые моя
старая бабушка, до октября семнадцатого года читавшая
французские романы и ездившая в Париж, колола для бур-
жуйки, чтобы сварить похлебку из костей, приносимых тет-
кой с завода «Красный треугольник», где она работала биб-
лиотекарем. Работал я на этом комбинате довольно сносно,
а вечерами всеми правдами и неправдами ходил в Свердлов-
ский театр музкомедии. Там я «познакомился» с человеком,
вошедшим в мою творческую жизнь. Я конечно же никогда
его не видел, но влияние на меня он оказал огромное. Зна-
35
Александр Белинский
чение его личности для меня я осознал совсем недавно. Имя
этого человека: ЭММЕРИХ КАЛЬМАН.
Никто тогда не знал, что через три года после «историчес-
кого» постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой Кальмана
почти перестанут исполнять, а после его победного возвра-
щения на сцены советских опереточных театров он превра-
тится из австрийского еврея Эммериха в мадьяра Имре Каль-
мана. Не в этом дело. Музыка — мелодичная, пьянящая,
веселая и грустная — осталась та же. «Навсегда, на года, на
века», как пела в одной из своих песен Клавдия Шульженко.
Как я с этой музыкой познакомился?
Первым спектаклем в Свердловской музкомедии, на кото-
рый меня с культпоходом «Красного треугольника» привела
тетка, была оперетта Крауса под названием «Талисман». Де-
вичья фамилия этой оперетты «Подвязка Борджиа», но неис-
требимая любовь советской власти все переименовывать кос-
нулась и венской оперетты. «Талисман» играла в тот вечер
вторая шеренга свердловской труппы: Коринтели, Иванова,
Муромцева, Биндер (отличный артист!). Из первачей был
только комик Степан Афанасьевич Дыбчо. Он же и поставил
этот не произведший на меня никакого впечатления спек-
такль.
Следующее посещение — оперетта Старокадомского «Три
встречи». По шквалу аплодисментов, встречающих героя, ге-
роиню, простака, субретку, комика, ясно, что участвуют лю-
бимцы публики. Сюжет чудовищен по бессмыслице. Первый
акт — до войны. В доме отдыха два летчика (герой и простак)
знакомятся со своими любимыми (героиня и субретка). Вой-
на прерывает их лирический и каскадный дуэты. Впрочем, ка-
скадный дуэт (Полина Емельянова и Анатолий Маренич) би-
сируется, хотя враг у ворот. Второй акт — война. Плохие
героические песни и мужественный оптимизм простака и суб-
ретки. Злодей — шпион и предатель. Третий акт — партиза-
ны в лесу. Во главе партизан бывший председатель колхоза,
уморительный старик, развлекающий публику наспех приспо-
собленными шутками из «Гейши» и «Орфея в аду». Его ко-
нечно же играет Дыбчо. Финальный героический квартет: ге-
роиня — Викс, герой — Высоцкий, субретка — Емельянова,
простак — Маренич. В сопровождении хора они извещают о
грядущей победе. Не уверен в точности изложения этого, про-
36
Списки старого сплетника
стите за выражение, сюжета, но он близок к действительно-
сти. А уж музыка!.. Словом, ничто не предвещало того, что
произошло через несколько дней, — я смотрел и слушал «Ма-
рину», сидя в последнем ряду балкона.
За свою достаточно долгую жизнь театрального зрителя я
видел много хороших, отличных, выдающихся театральных
спектаклей. Поворотными были три, как я сейчас понимаю,
далеко не самые лучшие. О «Зеленой птичке» я уже расска-
зывал. Постановщик сказки Карло Гоцци Зон считал ее сво-
им проходным спектаклем. «Марицу» Маренич, с которым я
позже познакомился, относил к самым слабым из классиче-
ских спектаклей Свердловской музкомедии. О третьем, дей-
ствительно выдающемся спектакле, речь пойдет в следующей
главе, а сейчас вернусь к «Марице». Позже я смотрел эту опе-
ретту в Москве, Ленинграде (в двух вариантах), Одессе, Бу-
дапеште, Вене. Я сам снял фильм «Марица» в 1983 году на
«Ленфильме» и потерпел сокрушительный провал. Так что же
потрясло меня тогда в спектакле свердловчан?
Сначала во-вторых: Высоцкий, Викс, Емельянова, Дыбчо
были блистательными мастерами жанра, а Маренич — про-
стаком, до сих пор не превзойденным. Они великолепно пе-
ли, танцевали, прекрасно умели находить крупицы смешно-
го в плохих либретто и безобразных текстах диалогов.
В-третьих, роскошные по тому времени декорации и кос-
тюмы на фоне нищеты и грязи жизни доставляли радость,
вселяли веру в будущее, такое же, как в оперетте, веселой и
блестящей.
Вот теперь — во-первых. Во-первых, это музыка Кальма-
на. Я люблю все его гениальные оперетты: «Сильву», «Баяде-
ру», «Принцессу цирка», «Марицу». Прекрасна и «Фиалка
Монмартра», но это, как говорится, немножко другая исто-
рия.
«Марицу» я услышал первой, а, как известно, первую лю-
бовь не забывают. Музыка ее не просто хороша, она опьяня-
ет. Да еще чардаш Тасилло поет Высоцкий в тесситуре бари-
тона (героические партии Кальмана всегда имеют транспорт
для тенора или баритона) — в сером костюме, охотничьих са-
погах, — с его умением танцевать, как ни один опереточный
герой. Героев до Высоцкого я не видел, но после него — ви-
дел всех.
37
Александр Белинский
А выход Марицы — Викс в черной амазонке! Она, как и
Высоцкий, бисировала, а бывало, и трисировала свои номе-
ра. То же было с дуэтами Емельяновой и Маренича. В жизни
они были любящей семейной парой. По сыгранности, стан-
цованности я подобного в оперетте не встречал, да и в бале-
те. Разве только Екатерина Максимова и Владимир Василь-
ев. И Галина Вишневская с Мстиславом Ростроповичем в
камерных концертах. Это все семейные пары. Разобраться в
творчестве этих пар надлежало бы Зигмунду Фрейду, мои же
рассуждения на эту тему будут похожи на сплетню, — впро-
чем, я и пишу «Записки старого сплетника».
В Свердловске был культ Театра музыкальной комедии. В
драме были хорошие артисты: Аман-Дальская, Малиновская,
Максимов, отличный артист Борис Федорович Ильин. И в
опере пели Глазунова, Сердобов, Вутирас, Даутов. Но никто
не мог соперничать в популярности с «великой кальманов-
ской пятеркой», так окрестил я навсегда Викс, Высоцкого,
Емельянову, Маренича и Дыбчо. В очередях спорили и об-
суждали отношения супружеских пар: Викс и Коринтели,
Емельянова и Маренич. Обсуждали и осуждали жену Высоц-
кого Быховскую, не принятую в Музкомедию из-за интриг
Викс. Спорили о преимуществах Маренича перед Биндером.
Поклонники и поклонницы знали все. Неточно, но все. О,
эти околотеатральные сплетни! Вредные и невинные, злоб-
ные и веселые! Сколько я им отдал времени и энергии в даль-
нейшем! Как сам страдал из-за них и, кто знает, теперь уже
пора покаяться, заставлял переживать других. Впрочем, мо-
жет быть, я и наговариваю на себя? Выясним позднее. Пока
же признаем, что первое «околотеатральное» воспитание я
получил возле свердловской оперетты.
Вернусь к «Марице». Сейчас, спустя столько лет, поставив
много опереточных фильмов, я могу, пожалуй, объяснить, по-
чему свердловчане «угадали» Кальмана. Удивляюсь, как до
этого не додумались театроведы, которым это вроде положе-
но по чину. Оперетты Кальмана (еще раз оговариваюсь, кро-
ме «Фиалки Монмартра») — комедии МАСОК. Да, да. Они
сродни персонажам комедии дель арте, сказок Карло Гоцци.
Герой, героиня, простак, субретка, комик, злодей — это те же
Бригелла, Тарталья, Панталоне, Труффальдино, Смеральдина.
Они так же определенны, так же наивны, так же локальны по
38
ia писк и старого сплетника
краскам. Бессмысленно находить разницу, скажем, между Бо-
ни из «Сильвы» и Наполеоном Сен-Клошем из «Баядеры».
Марица и Теодора Вердье из «Принцессы цирка» отличают-
ся друг от друга только мелодиями и фабульными ситуация-
ми. Ситуации эти, как правило, несерьезны, мелодраматизм
их абсолютно условен, мотивировки крайне неубедительны.
Не знаю, понимали ли это свердловчане или играли по наи-
тию, но играли они увлеченно, с долей иронии, относясь к
прозе как к необходимой передышке между двумя пленитель-
ными мелодиями. Главное это номер. Превосходно спетый,
блестяще станцованный. Не знаю, уходил ли кто-нибудь из
моей любимой пятерки без биса. Я, во всяком случае, не ви-
дел. Также не видел, чтобы кто-нибудь из них не был встре-
чен овацией при первом выходе.
Буду категоричен. Бисы, овации, беспрерывное ощущение
праздника — этого требует сама природа кальмановских опе-
ретт. А как же финалы? — спросят меня педантичные музы-
канты. Знаменитые кальмановские финалы первого и особен-
но второго акта? Ведь финал первого акта «Сильвы» просто
гениален! Гениален, подтверждаю я. Но вы хотите меня убе-
дить, что я буду искренне переживать за Сильву Вареску и
Эдвина Валлерсхейма? Или мучиться по поводу того, что Ма-
рица приревновала Тасилло кЛизе, оказавшейся его сестрой?
Ведь с первым звуком кальмановской увертюры (еще и еще
раз повторяю, кроме «Фиалки Монмартра») мы знаем, что все
кончится благополучно. Я не раз слышал от отца о его лю-
бимом спектакле «Принцесса Турандот» в постановке Евге-
ния Вахтангова. Ничего об этом еще не читал. Думали ли о
вахтанговском спектакле Эраст Антонович Высоцкий или
Степан Афанасьевич Дыбчо — постановщики виденных мною
кальмановских оперетт? Вряд ли. Они знали, что выходят на
сцену нести людям радость, веселить их, смешить, доставлять
наслаждение своим пением, танцами, шутками. Благородней-
шая задача! Ах, как надолго откажется от нее театр моего мно-
гострадального отечества! Как надолго и как скоро после не-
забываемой премьеры свердловской «Марицы».
Не помню точно, читал я об этом или слышал от кого-то
из опереточных аборигенов: когда Кальман показывал свои
оперетты дирекции театра «Ан дер Вин», то, сыграв финал
второго акта в совершенно мокрой от пота рубашке, он вста-
39
Александр Белинский
вал со стула и, накинув пиджак, произносил осипшим от пе-
ния голосом: «Дан комт дер дритте акт» («Дальше будет тре-
тий акт»). Это значило, что в третьем акте не будет ни одной
новой мелодии. Может быть, гений оперетты предвидел, что
мировой театр скоро перейдет на спектакли с одним антрак-
том? Во всяком случае, часто его совершенная музыкальная
драматургия в третьем акте не нуждалась.
В Свердловске я впервые услышал не только Кальмана, но
и «Периколу» Оффенбаха (ее я поставил четыре десятилетия
спустя, и тоже неудачно). И «Корневильские колокола» План-
кетта играли свердловчане. Наверно, хорошо. Плохо Викс и
особенно Высоцкий играть не умели. Я на всю жизнь «забо-
лел» Кальманом. И любая собственная постановка его опе-
ретт в театре или на телевидении, независимо от степени уда-
чи или провала, являлась для меня праздником.
К сожалению, кальмановские оперетты в качестве приме-
ра оказались роковыми для наших композиторов — Стрель-
никова, Блантера, Дунаевского. Маски героя, героини, про-
стака, злодея, субретки, комика в колхозной, заводской
жизни, а тем более в буднях погранзаставы или военного ко-
рабля!.. Получалось что-то среднее между пародией и пошло-
стью. Недаром в одном из первых моих капустников пели на
мотив знаменитой кальмановской «Карамболины»:
Пусть оперетта
Всегда предметом
Для всех капустников была,
Но в оперетте
Уж три столетья
Всегда идут по-прежнему дела.
Карамболину, Карамболетту
Всегда легко критиковать,
Но мы с Яроном и мы с Янетом,
На все чихая, будем петь и танцевать!
Ярон был знаменитым московским комиком, Янет — ле-
нинградским.
«Зеленая птичка» Гоцци, «Марица» Кальмана. Интервал —
восемь лет. Третий этапный спектакль вошел в мою зритель-
скую театральную жизнь через полтора года. Но это было уже
в Москве.
Глава третья
В Москве
Я прожил в Москве два года. Закончил среднюю школу и
поступил в Государственный институт театрального искусст-
ва. В ГИТИСе проучился один год. Два года в Москве — это
переход из отрочества в юность. Два года в Москве — это
начало всех радостей и горестей в искусстве. Два года в Моск-
ве — это привязанности на всю жизнь и начало формирова-
ния того, что называется мировоззрением. Наконец, два
года в Москве — это окончание великой войны и начало
страшного мира. Что он будет таким страшным, никто еще
не понимал. Если сейчас, на закате, меня спросят, а был ли
я когда-нибудь абсолютно счастлив, я отвечу не задумываясь:
два года в Москве.
Первый год я учился в девятом классе. Школа моя нахо-
дилась в Дегтярном переулке возле площади Маяковского,
сразу за гостиницей «Минск», которой в те годы еще не бы-
ло. Здание этой самой школы сохранилось и стоит до сих пор
неоштукатуренным, как и тогда, в зиму 1943-го. Жили мы,
как и в Кирове, на заводе, где работал отец, — родители, ба-
бушка и я: одна комната и закуток.
Я учился в невероятно населенном классе. Ребята были
приличные. С Володей Родионовым я сдружился. У него
были театральные связи в Большом и Камерном театрах. До-
ставал контрамарки и водил меня. С театральными билетами
было очень трудно. Рядом в 175-й женской школе учились
дочки Сталина и Молотова. Мыс ними встречались на тан-
цах. Я освоил первые простые па вальса, танго, фокстрота и
непонятного модного танца «Молдаванеску». Как я учился?
Да никак. Кого это интересовало? Кого интересовало что-ли-
бо, кроме приближения Победы? В ней уже никто не сомне-
вался. Идолопоклонство гению Сталина достигло апогея. Не
было ни анекдотов, ни каких бы то ни было политических
41
Ачександр Белинским
сплетен. Впрочем, меня разок вызвали с урока в библиотеку.
Маленького этого человека я даже помню как звали — Анд-
рей Константинович. Я подписал бумагу о неразглашении го-
сударственной тайны, но стукачом не стал. Нет, это не был
акт гражданского мужества. Видимо, Андрею Константино-
вичу я не приглянулся, и от меня отстали. Со школой все мы
мечтали распроститься как можно скорее. За месяц и Родио-
нов, и я, и многие другие сдали экстерном за десятый класс.
Как я сдал точные науки? Кажется, дал взятку учителю мате-
матики, одолжив деньги у Марии Владимировны Мироновой.
Отец уже был в Бутырской тюрьме. Вот, пожалуй, и все о по-
лучении мною среднего образования. Главное же, конечно,
было первое соприкосновение с московскими театрами. Оно
было более чем странным и походило на разоблачение легенд.
Попробую сейчас в этом разобраться.
Родители в ожидании моего приезда разжились билетами
во МХАТ. За соответствующую мзду меня пускал на галерку
старый мхатовский капельдинер по фамилии Зайцев. Пер-
вым спектаклем были булгаковские «Последние дни» — толь-
ко что выпущенная премьера. Это было очень красиво, очень
длинно и очень, очень скучно. А ведь я впервые видел То-
поркова, Ершова, Станицына и других. Какое-то впечатле-
ние оставил Тарханов. Во всяком случае, его я помню. Сле-
дующий спектакль — «Воскресенье». На сцене великая живая
легенда русского театра — Качалов. Красиво читает. В руках
карандаш. Это меня почему-то заинтересовало. Через много
десятилетий смог оценить это блестящее приспособление Не-
мировича-Данченко. Но почему так скучно вокруг? Почему
так нелепо импозантен Нехлюдов — Ершов, так не волнует
Катюша Маслова? Ведь я уже воспитан, что это лучшая роль
Еланской. Дальше — хуже. «Дядюшкин сон». В роли князя
сам Хмелев. И я! Я, пятнадцатилетний шкет, вижу, как он
уныло мастерит, ловко, изобретательно, но я ухожу! После
первого акта, под сочувственным взглядом капельдинера Зай-
цева. И последняя катастрофа — «Женитьба Фигаро», «ше-
девр» моего бога, Константина Сергеевича Станиславского.
Ни одной улыбки в зрительном зале. Чудовищно наигрыва-
ющий Фигаро — Прудкин. Увы, пожилая Сюзанна — Анд-
ровская. Красивейшие декорации и костюмы Головина ожи-
вают, когда на сцене появляется Фаншетта — Бендина. Забегу
42
Jan иски старого сплетника
немного вперед. Все, что здесь написано, я нагло выложил
на вступительном коллоквиуме в ГИТИСе, куда поступал на
театроведческий факультет. Ругать артистов МХАТа! Народ-
ных, распронародных! Это слушали, и кто! Мокульский, Ал-
перс, Игнатов, Дживелегов и сам столп МХАТа Павел Алек-
сандрович Марков. Лет через десять он рассказал, что
именно за это отсутствие «хрестоматийного догматизма», а
проще говоря, за мальчишескую наглость он меня и принял
в ГИТИС, несмотря на мои шестнадцать лет. Но до этого бы-
ло еще далеко. Сейчас я, пожалуй, могу объяснить, в чем
причина провала великого театра в глазах заочно влюблен-
ного в него провинциала. Это все были очень, очень старые
спектакли, игравшиеся на абсолютно холостом ходу богаты-
ми, знаменитыми артистами. Ведь только что в дни моего
приезда в Москву умер Немирович-Данченко. Умер и МХАТ,
как и предвидел его мудрейший руководитель. Но этого ни-
кто не признавал, не признает и сейчас, полвека спустя. Но
я застал еще всплески старого МХАТа. Лебединую песню Не-
мировича «Три сестры» я видел в первом составе. Незабыва-
емы Соленый — Ливанов, Ольга — Еланская, Кулигин — Ор-
лов. А также Хмелев. Каюсь! Я видел много ролей этого
артиста, и ни разу он меня не потрясал. Давайте считать, что
дело во мне. А может быть... Ах, какая опасная вещь теат-
ральные легенды! Полная «реабилитация» актеров МХАТа на-
ступила, когда я увидел Пиквика — Грибкова, Марго (в «Глу-
бокой разведке» Крона) в исполнении Веры Николаевны
Поповой и в первую очередь Добронравова — Лопахина, ца-
ря Федора, а спустя два года — «Дядю Ваню». Добронравов
так и остался среди любимейших моих актеров. Потом я ра-
зобрался почему. Еще в тот первый год в Москве я посмот-
рел «Сирано» с Рубеном Симоновым и «Марицу» в оперет-
те. Премьеру играли Володин, Качалов, Регина Лазарева,
Аникеев, Ярон. Он же ставил спектакль. Ну разве шло это в
какое бы то ни было сравнение с моими любимыми сверд-
ловчанами! А ведь Марицу пела знаменитая польская опере-
точная звезда Стефания Петрова.
Главным же образом в мой последний школьный год я чи-
тал, читал и читал! Я знал, что поступать буду на театровед-
ческий факультет. Логопед, боровшийся достаточно безус-
пешно с моей картавостью, не обещал быстрых результатов,
43
Александр Белинский
так что об актерстве не могло быть и речи, а для режиссер-
ского я был молод (шестнадцать!), и у меня не приняли до-
кументы. Я читал всего Шекспира, всего Ибсена, всего Шил-
лера, читал все учебники по истории зарубежного театра и
театра отечественного, читал на всю оставшуюся жизнь. На-
верно, безумное желание поступить во что бы то ни стало при-
вело к невероятному обострению моей и без того неплохой
памяти. Ни в ГИТИСе, ни позже, в Ленинградском театраль-
ном институте, я не ходил ни на одну лекцию по истории те-
атра. При этом не имел ничего, кроме пятерок, и лучше всех
выступал на семинарах. Я запомнил все тогда, когда поступал
в ГИТИС. Конкурс был большой. Поступали и поступили бу-
дущие столпы отечественного театроведения, нынешние его
заслуженные корифеи — доктора наук Инна Соловьева и Ле-
на Полякова, многолетний ректор Грузинского театрального
института Этери Гугушвили, популярнейший киносценарист
Анатолий Гребнев, исследователь мультипликации Сергей
Асенин и... зловещий многолетний руководитель Централь-
ного телевидения Стелла Жданова. Вот какой мощи был наш
первый курс, возглавляемый незабвенным Павлом Алексан-
дровичем Марковым!
Я написал рецензию на «Отелло» у Завадского, где проти-
вопоставил отличное исполнение Яго Борисом Олениным
среднему Отелло — знаменитому Мордвинову. Это сработало
на меня. Я хорошо сдал литературу, благо мне попался билет
про «Мертвые души» Гоголя. Уж тут-то я был, что называет-
ся, дома! Не верь после этого в приметы! Вся моя жизнь в ис-
кусстве прошла под знаменем этой сверхъестественной по-
эмы. Потом я провалился по истории у профессора
Дзюбинского. Тройку он мне поставил только под влиянием
своей дочери Ольги. Она была студенткой третьего курса и
покровительствовала мне. Мы остались друзьями навсегда.
Все решал коллоквиум. Я знал действительно все, а если не
знал, то тут же придумывал, как Хлестаков в знаменитой сце-
не вранья. Это вызвало восторг у людей с чувством юмора,
вроде Стефана Стефановича Мокульского и Алексея Карпо-
вича Дживелегова, и категорическое неприятие у Бориса Вла-
димировича Алперса и — особенно — у знаменитого испани-
ста Сергея Сергеевича Игнатова. Марков был нейтрален, хотя
улыбался моему «разгрому» МХАТа. Хотя Мокульский и был
44
Записки старого сплетника
ректором института, победили бы мои оппоненты, уж боль-
но они были категоричны, да и Дзюбинский подлил масла в
огонь, сообщив, как я невежествен в области истории, — не
знал, что немецкая река Шпрее была на самом деле русской
Спреей, тогда все было исконно русским, разве только Мис-
сисипи не являлась притоком Волги. Короче, меня не при-
няли бы, если бы... «Если бы» — знаменитое открытие
Станиславского! Если бы во время моего ответа на коллок-
виуме в аудиторию не зашел бы случайно тогдашний худрук
ГИТИСа Михаил Михайлович Тарханов со своим закадыч-
ным другом Соломоном Михайловичем Михоэлсом. Оба
только что опохмелились. Это я узнал много позже, но толь-
ко этому я обязан своим поступлением в ГИТИС. Мимохо-
дом брошенная фраза двумя великими артистами, видимо
комплиментарная, решила мою судьбу — и конечно же ак-
тивность Мокульского! Михоэлса я видел в двух его знаме-
нитых ролях — Лире и Тевье-молочнике. Каюсь! Вениамин
Зускин в «Колдунье», «Фрейлехсе» и особенно в «Блуждаю-
щих звездах» произвел на меня большее впечатление. Тарха-
нова я видел в роли Фирса и в уже упомянутых «Последних
днях», «Горячем сердце» (это чудо!) и на сцене ГИТИСа. Он
вышел из зала прямо на сцену, позвал своего сына Ваню (ны-
не профессора Ивана Тарханова), сел на стол, долженствую-
щий изображать бочку, застегнул на верхнюю пуговицу пид-
жака нижнюю петлю, придав себе этим нелепо-мешковатый
вид, и без единой перемены мизансцены сыграл двадцатими-
нутную сцену пьяного повара из горьковских «В людях». Это
было первое чудо перевоплощения, с которым я столкнулся.
Итак, начался мой сказочный год на театроведческом фа-
культете ГИТИСа.
Кто нас учил! Мокульский читал введение в театроведение,
изобретенный им интереснейший курс. Головня — античную
литературу. Дживелегов — античный и средневековый театр.
Шамбинаго (ему было восемьдесят лет) — русский фольклор.
Локс и Поль — западную литературу. Тарабукин — изобрази-
тельное искусство. Это все корифеи, читавшие лекции без
конспектов, увлекательно, блестяще, глубоко. Да что о них
рассказывать. Есть их книги, учебники. Я перечитываю их до
сих пор. Но на одном из своих гитисовских педагогов я счи-
таю необходимым остановиться более подробно.
45
Александр Белинский
Павел Александрович Марков
Тогда еще не было его четырехтомника, единственного в
мире полного собрания сочинений театроведа. Не было его
чудесных записок завлита «Правда театра» — о Художествен-
ном театре. Не было и сплетен о том, что он принадлежит к
той же плеяде, что и Петр Ильич Чайковский, и Оскар Уайльд.
Намного позже я услыхал о его трагическом романе с собст-
венным шофером. Тогда мы знали слова Немировича-Данчен-
ко, который на вопрос о должности Маркова в Художествен-
ном театре (кажется, спросил ни более ни менее как сам
Сталин) ответил: «Марков — это Марков». ГИТИС в том со-
рок четвертом году был далеко не самой главной его работой.
Он оставался завлитом МХАТа, оставался до смерти Хмелева
и прихода к власти Кедрова. Он был и редактором мхатовско-
го ежегодника, и членом всех многочисленных худ- и редсо-
ветов Министерства культуры, но главным занятием было ру-
ководство Музыкальным театром. Тогда состоялось
объединение двух коллективов, и в Театр Немировича-Дан-
ченко влилась труппа Музыкальной студии Станиславского.
Я видел оперные спектакли этого театра. И опереточные то-
же. Они не нравились мне ни тогда, ни после. Театр опере-
точных масок Свердловской музкомедии не так-то легко бы-
ло изгнать из моего сердца. Ах, как тосклива была легендарная
«Дочь мадам Анго» с Кемарской, Голембой, Тимченко! Как
нестерпима революционная «версия» «Периколы»! Марков не
спорил с нашим мнением, только смеялся своим лающим сме-
хом, так гениально подмеченным Михаилом Булгаковым в его
чудесном «Театральном романе». Марков не позволял плохо
говорить только о своей любимой «Травиате». Оперу эту по-
ставил Немирович, Марков был ассистентом и возобновил
спектакль в память о своем учителе. Весь наш курс пришел
на премьеру возобновления. Действие происходило на услов-
ной площадке. Неподвижный, как в греческой трагедии, хор.
Новый хороший стихотворный текст, кажется Веры Инбер.
Почему же так скучно? Впрочем, до приезда «Эвримен-опе-
ры» из Америки с гершвиновской «Порги и Бесс» мне всегда
было скучно на оперных спектаклях. Перед самым постанов-
лением ЦК о репертуаре драматических театров (чудовищным
постановлением!) Марков поставил «Сказки Гофмана» Оф-
фенбаха. Я уже был в Ленинграде и не видел этого спектак-
46
Записки старого сплетника
ля, который Павел Александрович вспоминал с особенной
нежностью. В его режиссуре я видел «Проданную колыбель-
ную» Халдора Лакснесса в Малом театре, когда была в славе
(так недолго!) Ольга Хорькова и играл свою последнюю роль
в театре Евгений Матвеев. И, вернувшись по окончании ке-
дровского царствования во МХАТ, Марков поставил с Лива-
новым «Братьев Карамазовых» и с Орловым «Золотую каре-
ту» своего любимого писателя Леонова. Конечно же он был
не режиссер. Кем он был? Театроведом? Безусловно. Доста-
точно прочесть его умнейшие книги с непредвзятыми точ-
нейшими определениями того или иного театрального явле-
ния, объективными оценками театров, режиссеров, актеров.
В них не было восторженных или уничтожающих эпитетов,
но было признание всех явлений театра от Мейерхольда до
Таирова, от Грановского до Комиссаржевской, неназойливая
привязанность к своему любимому МХАТу, к Хмелеву и Ка-
чалову, Добронравову и Леонидову, Тарасовой и Соколовой,
утверждение гения Михаила Чехова и умное преклонение пе-
ред вечным искусством Станиславского и Немировича. Но
конечно же личность Павла Александровича не укладывает-
ся в прокрустово ложе театроведческой профессии, если ус-
ловиться, что такая профессия вообще существует. Василий
Григорьевич Сахновский на всех дискуссиях это категориче-
ски отрицал, будучи сам блестящим театроведом. «Марков —
это Марков». Немирович прав. Он был Человеком театра с
большой буквы. Его признавали все: и критики, и многочис-
ленные ученики, и (о, как это редко!) актеры всех поколений,
которых он хвалил или бранил, о которых писал или не упо-
минал вообще, все — от Качалова до Олега Ефремова, от
Книппер-Чеховой до Юлии Борисовой.
Я учился у него только год, а встречаться с ним не пре-
кращал до конца его жизни. Приезжал на похороны. Пер-
вые годы после переезда в Ленинград я ужасно тосковал по
Москве. Ездил на премьеры, беря деньги в долг и, наверно,
не всегда отдавал. Принимал меня Марков в своей малень-
кой квартирке в Хомутовском тупике, в деревянном доме.
Хозяйничала сестра Маркова Мария Александровна. Подоб-
ные отношения брата и сестры я встретил еще раз в семье
Товстоногова. Как Нателла относилась к своему брату Геор-
гию Александровичу, так же любила Мария Александровна
47
Александр Белинский
Маркова своего «Павлика». У нее был муж, Темерин, быв-
ший мейерхольдовский актер, Баян в «Клопе» Маяковско-
го, но в доме все было подчинено интересам Павла Алек-
сандровича. Кормили очень вкусно. Поили!.. Водку
подавали, как у Пульхерии Ивановны, героини гоголевских
«Старосветских помещиков», настоянной и на лимонных ко-
рочках, и на калгане, и на «огороде» (укроп, чеснок, что-то
еще). Пил Марков ежедневно, ел мало, спал еще меньше.
Откуда такое здоровье в теле маленького и очень худого че-
ловека! И каждый вечер в театр. Каждый! Сорок лет подряд!
Он смотрел все. По нескольку раз. Не мог не смотреть вво-
ды новых актеров. Они звонили, умоляли прийти посмот-
реть, сделать замечания. Он смотрел. Говорил. Сухо, кон-
кретно. Не обижался никто никогда.
Достопримечательностью дома был пес-дворняга, большой
и невероятно злой. Когда приходили гости, его запирала Ма-
рия Александровна. Однажды не заперла, и пес до крови уку-
сил Михоэлса. Отчаянию Марковых не было предела. «Ну, это
же элементарно! — спокойно острил Михоэлс. — Русский по-
мещик Марков затравил борзыми мерзкого жида Михоэлса!»
Как переживал развернувшуюся оголтелую антисемитскую
кампанию Павел Александрович! Ведь страдали его талантли-
вые коллеги: Гурвич, Юзовский, Бояджиев. Марков не напи-
сал и не подписал ни одной подлости. Так же, как Шостако-
вич, Акимов, Дикий, Рубен Симонов, Завадский — все люди,
с гордостью носящие звание подлинно русских интеллиген-
тов. Еще немного на эту, глубоко несимпатичную мне тему.
Марков рассказывал, как великий русский актер Москвин,
будучи какое-то время директором МХАТа, собрал всю труп-
пу по случаю антисемитской выходки одного известного ар-
тиста. «На колени!» — кричал первый исполнитель роли ца-
ря Федора. Притихшая труппа замерла, как перед сыном
Ивана Грозного. Так же, уже на моих глазах, поступил в сво-
ем театре Сергей Владимирович Образцов.
Последней любимой актрисой Маркова была Лариса Ма-
леванная. Загадка! Он был в восторге от нее в спектакле «С
любимыми не расставайтесь» и, что особенно странно, от Ар-
кадиной в «Чайке» Опоркова. Товстоногов, глубоко чтивший
Маркова, пригласил Малеванную в БДТ по его настоянию.
Маркова раздражала во мне любовь к сравнению актеров.
48
Записки старого сплетника
«Это не спорт», — говорил он, когда я сравнивал Хмелева и
Добронравова в «Царе Федоре», естественно в пользу послед-
него. Вообще ко мне, как к своему студенту, Павел Алексан-
дрович относился очень сдержанно. Еще бы! Ведь рядом пи-
сали Инна Соловьева и Ян Березницкий. По-настоящему он
заинтересовался мною в 1951 году, когда увидел первый ка-
пустник. С тех пор не пропускал ни одного, а на следующий
день за обедом с обильной выпивкой очень интересно все раз-
бирал. На этих обедах, как правило, бывали Леонид Осипо-
вич Утесов и директор Центрального Дома актера Александр
Моисеевич Эскин, — замечательная личность. В присутствии
Маркова помалкивал даже Утесов, хотя всегда любил первен-
ствовать за столом, да и всюду.
После Маркова самое большое влияние на меня оказал мой
лучший друг Ян Березницкий. Где-то он сейчас? Затерялся в
мутных волнах эмиграции? Не знаю. Он не попрощался, что
более чем странно. Березницкий был старше меня всего на
четыре года. Но напомню, что мне было только шестнадцать.
А ему двадцать, и он прошел войну. Этот возрастной интер-
вал был тогда очень значительным. Он больше читал, боль-
ше знал, к тому же он был москвич и театрал. Его рассказы
о театральной довоенной Москве были такими увлекательны-
ми! Больше всего Ян любил Бабанову и вахтанговцев. Баба-
нову я не видел. «Сирано», «Олеко Дундич» — спектакли, за
которые лидер вахтанговцев Рубен Симонов получил тогда
Сталинскую премию как актер, мне понравились, но не боль-
ше. Вообще, в том предпобедном году московские театры,
вернувшись из эвакуации, негласно соревновались между со-
бой. До сих пор помню четверостишие в центральной «Прав-
де» о «Сирано де Бержераке» у вахтанговцев и в Театре име-
ни Ленинского комсомола с Берсеневым в заглавной роли:
История классической дуэли,
Которую на этот раз имели
Два Сирано, из коих, как-никак,
Был каждый Сирано де Бержерак.
Эту эпиграмму написал Ян Березницкий. Как она попала
в «Правду», не помню. Сирота, сын репрессированных, Ян
жил у тетки в деревянном домике возле площади Маяковско-
го. Наш маршрут из ГИТИСа шел от Собиновского переул-
49
Александр Белинский
ка, мимо Никитских Ворот по Малой Бронной, мимо Еврей-
ского театра, потом обязательно по переулку Садовских, где
тогда играли вахтанговцы. Мы расставались на площади Ма-
яковского. Я шел в метро, он — домой. Назавтра прогулки
повторялись. Лекции в ГИТИСе были вечерними — не хва-
тало помещений. Сейчас, говорят, их не хватает еще больше,
а количество студентов неуклонно растет. Зачем?!
Ян рассказывал мне, по моей просьбе, часто одно и то же.
Никого ни до, ни после я так не любил слушать. Он был пре-
дельно искренен, очень эмоционален, глубоко интеллигентен
и умен. Он конечно же был самым талантливым человеком
на нашем не обиженном Богом курсе, и судьба его сложилась
не так, как он заслуживал. Он очень любил «Дон Кихота» —
и роман Сервантеса, и довоенный спектакль Вахтанговского
театра по булгаковской пьесе, и своего обожаемого артиста
Рубена Симонова в главной роли. Что он ненавидел, так это
советскую власть. Он был первый, кто научил меня этой не-
нависти. Это в то время, когда сажали без всякого разбора,
не меньше, чем в знаменитом тридцать седьмом. У меня по-
садили отца, как я уже рассказывал, и слова Яна Березниц-
кого попадали на благодатную почву.
Мы были молодыми, голодными, но по-своему счастливы-
ми. Хорошо помню одну ночь. На нашем курсе училась кра-
савица Марфа Пешкова — внучка Алексея Максимовича
Горького, в то время и на протяжении еще многих лет при-
числяемого к лику святых. Она пригласила нас с Яном и Ми-
шей Дотлибовым, будущим музыкальным режиссером, гото-
виться к экзамену по истории изобразительных искусств.
Ночью в особняке основоположника социалистического ре-
ализма нам подавали чай, сдобные булочки и яйца всмятку.
Но больше всего нас потрясло, что яйца лежали в красивом
мешке со специальными ячейками, чтобы сохранить тепло.
Много позже, посещая фешенебельные приемы в Каннах и
Монте-Карло, я ни разу не испытывал такого потрясения от
хитроумности человеческой цивилизации.
Наутро мы пошли сдавать изо. Ян и Миша получили пя-
терки, я — тройку. Забегая вперед, скажу, что никогда боль-
ше по этому предмету я и не получал. Всю жизнь был более
чем равнодушен ко всем музеям до посещения в Париже Са-
да Родена. Марфа, естественно, получила пятерку еще до вхо-
50
ia писк и старого сплетника
да в аудиторию. Потом она вышла замуж за Серго Берия, сы-
на сказочного негодяя. Ах, как рассчиталась с ней судьба за
счастливую юность!..
Так вот, тогда, когда мы наутро вышли из особняка буду-
щей невестки Берия, Ян Березницкий вдруг сказал: «А ведь
Горького-то убили». Миша Дотлибов от испуга тут же ныр-
нул в метро «Арбатская». Я заинтересовался этой невероят-
ной гипотезой, но не поверил. Каким же мудрым был
двадцатилетний Ян Березницкий!..
Естественно, мы постоянно ходили в театры, благо студен-
тов ГИТИСа пускали бесплатно. За всю последующую жизнь
я не видел столько, сколько за тот незабываемый сезон сорок
четвертого — сорок пятого года. Что мы смотрели, дай Бог па-
мяти! В Малом театре «Ивана Грозного» Алексея Толстого,
«Сотворение мира» Погодина и «Двенадцатую ночь» с Маль-
волио — Ильинским и молодой тамбовской актрисой Татья-
ной Битрих — Виолой. По приказу директора Малого театра
она взяла псевдоним Еремеева, а по веленью Всевышнего ста-
ла на всю жизнь верной женой и другом Игоря Ильинского.
Мы видели в Театре имени Ленинского комсомола премьеры
«Семья Ферелли теряет свой покой» с Серафимой Бирман и
«Месяц в деревне» с Софьей Гиацинтовой. «Лисички» Лилли-
ан Хелман в Театре Революции, он не стал еще имени Маяков-
ского, но Охлопков уже возглавил театр. И «Чайку», и «Без ви-
ны виноватые» с Алисой Коонен в Камерном театре. Почему я
так не люблю и эту актрису, и этот театр, я понял много позд-
нее. И «Факир на час» в Театре сатиры с Хенкиным, и там же
«Чужой ребенок» с Полем. В одном и том же спектакле эти ко-
рифеи смешного, непримиримые враги, тогда не играли. Ли-
дером в Москве, до головокружительного подъема ермоловцев
в 1946 году, был конечно же Завадский, и мы многократно
смотрели и «Отелло», и «Трактирщицу» с Марецкой и Морд-
виновым, и «Забавный случай» Гольдони с Борисом Олени-
ным, и действительно превосходный спектакль «Нашествие»
Леонова с Пыжовой, Герагой, Розен-Саниным и особенно Ва-
силием Васильевичем Ваниным в роли Фаюнина, Михаилом
Федоровичем Астанговым в роли Федора Таланова, ставшим
моим любимейшим актером.
А сколько еще было рядовых спектаклей — не премьер!
Стоит ли их описывать? Нет, конечно. Я же пишу не театро-
51
Александр Белинскии
ведческое исследование, а «Записки старого сплетника». Глав-
ной сплетней того периода было присвоение Завадским ре-
жиссерской работы Пыжовой над «Нашествием» в связи с
ожиданием Сталинской премии. Что-то достоверное в этом
было. Мы еще не раз столкнемся с подобными сплетнями на
этих страницах. Увы, это было не только знамение времени,
это была вреднейшая традиция отечественной режиссуры,
идущая от основателей МХАТа. Настаиваю на этом! Помню,
что Пыжова ушла от Завадского, а затем ушел и Астангов.
Именно от него я и услышал эту некрасивую историю.
Для семинаров Маркова я написал две курсовые работы.
Как я понимаю сейчас, это было на уровне школьных сочи-
нений. Вообще все, даже Березницкий, писали средне и под-
вергались вежливым разгромам нашего мудрого учителя.
Выделялась только Инна Безилевская (ныне — Соловьева).
Да и сейчас, спустя полвека, она пишет, по-моему, лучше всех
театроведов. Соперничать с нею может только Наталья Кры-
мова, ученица Маркова следующего призыва. Важно не как
мы писали, а о чем. Буквально все писали о премьере «Чай-
ки» Завадского. Вернее, не о премьере, а о генеральных, а их
было шесть, причем открытых, с публикой. Я был на четырех
из шести. Сплетни об этом незаурядном спектакле передава-
лись шепотом. Играли: Астангов — Треплева, Марецкая —
Машу, Абдулов — Сорина, Плятт — Дорна, Ванин — Медве-
денко, Герата — Шамраева. Не упомянул Названова — Три-
горина и Оганезову — Аркадину. Они по ходу репетиций во-
шли вместо отказавшегося Мордвинова и ушедшей Пыжовой.
Но главная трагедия этого прекрасного спектакля произошла
позднее.
Отвлекусь. «Чайка» была и осталась моей любимейшей пье-
сой. Я ставил ее на телевидении. Пленка сохранилась, но не
в этом дело. Я видел на сцене «чаек» больше, чем воробьев в
весенних садах и скверах. Были хорошие исполнения. И Ла-
врова, и Вертинская в мхатовских спектаклях, и Валя Пивто-
радни на украинском выпуске ГИТИСа. Ия Саввина у меня
играла тоже неплохо. Но Нину Заречную нельзя, наверное,
играть неплохо и даже хорошо. Ее надо играть прекрасно, как
Гамлета и Отелло, Хлестакова и Чацкого. Так, видимо, игра-
ла Вера Федоровна Комиссаржевская в 1896 году в первом
(провальном) спектакле в Александринке. Так сыграла ее
52
Записки старого сплетника
шесть раз (всего шесть!) в спектакле Завадского Валентина
Караваева.
Караваеву знали по кино. Перед войной она снялась в глав-
ной роли в фильме «Машенька» Юлия Райзмана по сцена-
рию Евгения Габриловича. Фильм был прелестный, а уж Ка-
раваева! Во время войны пошли слухи, что на съемках фильма
«Партизаны в степях Украины» Караваева попала в автоката-
строфу. Видимо, это все же правда, потому что на шее у ак-
трисы виден большой шрам, да и в кино она больше не сни-
малась после огромного успеха «Машеньки». И вот
генеральные «Чайки». И сегодня, спустя полвека, я вижу ее,
ласкающую дверь, за которой находится Тригорин. Я слышу
ее скорбный крик: «Он здесь!» После этого крика Треплев —
Астангов не мог не покончить с жизнью. И как же он это де-
лал! Уходя из комнаты, что-то забывал. Затем возвращался и
закрывал чернильницу. Выстрел был не нужен. Та же мизан-
сцена, когда Астангов играл с другой актрисой, не произво-
дила такого впечатления. Может быть, потому и ушел Астан-
гов из Театра имени Моссовета? Не знаю. На мой вопрос
много лет спустя он ничего не ответил, а вот почему не играла
Караваева премьеру, — рассказал. Ей запретили. Запретили
дирекции театра выпускать ее на сцену. Караваева вышла за-
муж за английского летчика. Это было недопустимо. Актри-
са уехала в Лондон. Почему она вернулась три года спустя?
Почему ей разрешили играть только в Вышнем Волочке? Она
сыграла там «Бесприданницу». Я видел. У нее, как рассказы-
вает Треплев о Заречной, остался только «больной натянутый
нерв». Потом Караваева вернулась в Москву. Что-то играла в
Театре киноактера, много озвучивала. Снялась у Эраста Гари-
на в «Обыкновенном чуде». Но разве это была та самая не-
повторимая Чайка! Сплетни ходили разные. Не буду их пере-
сказывать. Легенда об актрисе всегда должна быть
прекрасной!
Второй моей курсовой работой был спектакль, которым
Охлопков дебютировал в Театре Революции, — «Сыновья трех
рек» — драма в стихах Виктора Гусева. Три реки — Волга, Се-
на и Эльба. В белых балахонах появлялись они в центре по-
лусферы, сооруженной на планшете сцены Вадимом Рынди-
ным и долженствующей обозначать ту часть земного шара,
где находилась Европа, где воевали сыновья трех рек. Когда
53
Александр Белинский
Евгений Самойлов, естественно, русский, сын Волги, бежал
из немецкого плена, он полз по просцениуму, а круг с полу-
глобусом вертелся в обратном направлении. Когда Клавдия
Пугачева получала награбленное от своего мужа-немца, сына
Эльбы, — его играл Вечеслов, она собирала чернобурки по
всему свету, то есть опять катаясь по вертящемуся глобусу. Вот
такими метафорами, довольно нехитрыми, был наполнен этот
спектакль. Но, напомню, это был первый увиденный мною
спектакль, поставленный условно, со сценическими метафо-
рами, поставленный конечно же мастерски, да и играли в нем,
кроме уже упомянутых звезд, Штраух, Глизер и... наконец-то
я увидел воочию Марию Ивановну Бабанову. Она играла дочь
Сены, парижанку. Восхитительно пела какую-то шансонетку.
Она была уже немолода для тех ролей, которые вернула себе
после войны: Джульетты, Тани, Дианы в «Собаке на сене».
Джульетту я видел однажды. Было как-то неловко. Вообще
этому образу удалось войти в мою жизнь спустя несколько
лет, и он навсегда связался для меня с гением Улановой. «Со-
бака на сене» тоже оставила меня равнодушным. «Таню» я
смотрел многократно. Помню каждую мизансцену, множест-
во чудных, тонких находок, ведь ставил-то спектакль Лоба-
нов, песенку с протяжным «а», эта гласная буква была какой-
то особенной у Бабановой, но, короче, зачем писать об
артистке, о которой написано так много, тем более что через
много-много лет у меня была с ней интереснейшая встреча.
Нет, не имею я права писать о Бабановой. Мой долг запечат-
леть актрису — прямую наследницу Бабановой. О ней не на-
писано ничего, совсем ничего. Как коротка была ее слава! Она
не смогла, как и Бабанова, найти возрастного перехода, эту
вечно неразрешимую проблему для русских актрис. Но в тот
знаменательный для меня сезон 1944/45 года она произвела в
Москве фурор. Потом у нее было много удач, две Сталинские
премии, но лучшая роль была сыграна тогда, за три месяца
до Великой Победы. Эта была главная роль в блистательном
спектакле вахтанговцев...
Мадемуазель Нитуш
Я видел эту оперетту в Свердловске. Играли Емельянова и
Маренич. Очень это было неинтересно. И я не пошел на про-
54
ianucKU старого сплетника
смотр в переулке Садовских, где в ожидании завершения ре-
монта собственного помещения, разрушенного войной, юти-
лись вахтанговцы. Рассказ Яна Березницкого, вернее, его ти-
хие восторженные стоны заставили меня забыть про лекции
и бежать на следующий просмотр. Генеральных с публикой
тогда было много. Смотрел кто-то из начальства, потом еще
кто-то смотрел, возрастала значимость каждой последующей
инстанции, пока кто-то наконец не брал ответственность на
себя и не разрешал играть официальную премьеру. Так вот,
«Мадемуазель Нитуш» в Театре имени Евг. Вахтангова и бы-
ла тем третьим, после «Зеленой птички» в ТЮЗе и «Мари-
цы» в Свердловской музкомедии, спектаклем, который
определил всю мою последующую «жизнь в искусстве», да
простит мне покойный Константин Сергеевич этот высоко-
парный плагиат. С тех пор я полюбил яркое театральное зре-
лище, тонкую театральную иронию. Прошу не путать с
«остранением» театра Брехта, глубоко несимпатичного мне
драматурга. Я любил и люблю высокую поэзию театра боль-
ше, чем буквальность кино. Чаплин не в счет. Да и, по-мо-
ему, это тоже театр, только на экране. И еще я на всю жизнь
полюбил Театр имени Евг. Вахтангова, театр «Фронта» и
«Дундича», театр «Дам и гусаров» и «Без вины виноватых»,
театр Рубена Симонова, Михаила Астангова, Михаила Улья-
нова, Юрия Яковлева и любимейших моих актрис Галины
Пашковой и Юлии Борисовой.
«Мадемуазель Нитуш» я видел девятнадцать раз! Ни разу
сидя. Я стоял у стены в маленьком зале ТЮЗа в переулке Са-
довских. Приходил заранее, чтобы занять место поближе к
стене. Меня пускали и по студенческому билету ГИТИСа, и
просто так. Меня нельзя было не пустить. За мной всегда
стоял Ян Березницкий. Он был выше ростом, поэтому все-
гда стоял сзади. Выстаивал три акта, несмотря на простре-
ленную на войне ногу. Если я смотрел «Нитуш» девятнадцать
раз, то он раз двадцать девять, а потом еще год выходил в
массовке, поступив в Щукинское училище на следующий год.
Меня туда не приняли, хотя я тоже пытался и ради этого на-
всегда избавился от картавости. Даже трагический провал при
поступлении в «Щукинку» не помешал моей беззаветной
любви к вахтанговцам. Театр вскоре стал плохим, а несколь-
ко лет был и совсем плохим. Но я продолжал его любить, а
55
Александр Белинский
поставив на его сцене в 1985 году «Стакан воды» Скриба с
изумительной королевой Анной в исполнении Юлии Бори-
совой, полюбил этот театр еще сильнее. Но все началось с
«Нитуш».
Может быть, я что-то преувеличиваю? Нет, нет и нет! Я ви-
дел потом много «турандотовских» спектаклей и саму возоб-
новленную «Турандот». Там только Юрий Яковлев — Панта-
лоне приближался к легенде о первом издании великого
режиссерского сочинения Евгения Вахтангова. О гоцциев-
ский театр! Почему я так люблю твою непреходящую пре-
лесть? Почему я всегда на стороне Карло Гоцци в его споре с
Карло Гольдони о сущности театра? Маски комедии дель ар-
те, маски оперетт Кальмана, маска Чарли Чаплина, маски мо-
его великого учителя Аркадия Райкина, маски моих капуст-
ников — вот моя непреходящая театральная страсть!
«Нитуш» вышла перед самой Победой. На спектакле «Ни-
туш» я услышал о взятии Берлина. На спектакле «Нитуш» я
был 9 мая, когда действие прервалось и Осенев, игравший
Флоридора, вынес на сцену радиоприемник, поведавший всем
зрителям об окончании великой войны.
Владимира Ивановича Осенева я увидел впервые в «Сира-
но». Потом не раз смотрел этот спектакль. Мансурова — Рок-
сана мне совсем не нравилась. И позже не любил я ее ни в
Беатриче, ни в Филумене Мартурано. Пресным был и Раг-
но — Державин, и де Гиш — Шихматов. Конечно же хорошо
играл Симонов. Наверно, даже очень хорошо. Теперь, пови-
дав стольких Сирано (Берсенева, Астангова, Любимова, Ша-
курова и других), я понимаю, что Рубен Симонов был все-та-
ки лучше. Он чудесно читал стихи, великолепно двигался, но
не волновал так, как в «Дундиче». И конечно же в Доменико
Сориано в спектакле «Филумена Мартурано». Наверно, дело
было в общем холоде охлопковской постановки, но тогда я в
этом совсем не разбирался.
А вот кто мне запомнился рядом с Симоновым, так это
поэт Линьер, тот самый, защищая которого Сирано совер-
шил свой подвиг у Нельской башни. Поэт Линьер появлял-
ся только в первом акте. У него были длинные волосы и нос,
такой же большой, как у Сирано, только свой собственный,
без гуммоза, принадлежащий исполнителю Владимиру Осе-
неву. Поэт Линьер был все время мертвецки пьян и напевал:
56
Записки старого сплетника
...Я напишу на это, на это, на это
Веселых два куплета...
Если стихи и мелодия помнятся спустя полвека, значит, ар-
тист играл эпизодическую роль ярко и выразительно.
И в «Дундиче» я помню Осенева, и во «Фронте». Эпизо-
ды небольшие, а помню. Репертуар театра был в последний
год войны невероятно беден. Кроме «Фронта», «Дундича» и
«Сирано», шли еще «Слуга двух господ» и «Свадебное путе-
шествие» Дыховичного и Слободского. Стало быть, Осенев
играл каждый день. А тут еще возобновили довоенную «Со-
ломенную шляпку», где артист выступил уже в главной ро-
ли Фадинара. Менялись Элизы — Целиковская, Пашкова,
еще кто-то, а Фадинар оставался один со своим трогатель-
ным носом Буратино и душой поэта, того самого поэта Ли-
ньера из «Сирано», только не гуляки-пьяницы, а нежно
влюбленного, воспринимающего потерю шляпки, съеденной
лошадью, чуть ли не как трагедию.. Наверно, так и надо иг-
рать водевиль.
А потом последовал триумф в «Мадемуазель Нитуш». Оча-
рование этого спектакля было в его поэзии — поэзии, про-
рывавшейся через все опереточные благоглупости, через буф-
фонаду Горюнова и гротеск Понсовой и Плотникова.
Поэтическое начало было конечно же в режиссуре, декора-
циях Акимова и в лицедействе Пашковой и Осенева. Поэзия
сникала, когда Денизу играла Целиковская, и совсем исче-
зала, когда заболевшего Осенева в роли Флоридора заменял
несколько раз такой превосходный артист, как Сергей Лукь-
янов.
Осенев играл человека, влюбленного в искусство не мень-
ше, чем его ученица Дениза. Я помню рассуждения непосред-
ственных зрителей (в те годы были еще такие!), что Дениза
должна выйти замуж не за красавца офицера виконта Шамп-
лятро, как и положено в классической оперетте, а за Фло-
ридора — Осенева. Как и в «Соломенной шляпке», он был
серьезен. Он серьезно пел «Красотки кабаре» Кальмана и на
замечание Денизы, что «это еще не написано», уверенно от-
вечал: «Это будет написано! Настоящий гений должен смот-
реть вперед!» После этой фразы, всегда сопровождавшейся
аплодисментами, шел блистательно поставленный танец фи-
57
Александр Белинский
нала первого акта на музыку из «Марицы». Изящную хорео-
графию Румнева Осенев исполнял лучше всех потому, что изя-
щество было главной чертой его актерского дарования. Он
был вахтанговцем до мозга костей, примером сути вахтангов-
ского учения о красоте, праздничности, радости лицедейства,
так трагически утерянного и самими вахтанговцами, да и всем
нашим отечественным театром.
В жизни я познакомился с Владимиром Ивановичем во
время знаменательного события — впрочем, никто не знал,
что оно знаменательное. Я оказался его соседом на показе
самостоятельных работ в Щукинском училище. Показывал-
ся второй курс, и шел этот экзамен в физкультурном зале
здания на Собачьей площадке. Дело было зимой сорок чет-
вертого года. Оказавшись соседом Осенева, я больше смот-
рел на него, чем на экзаменующихся, да и экзамен шел ни
шатко ни валко. Вдруг!.. О, это вдруг, благодаря которому
вечно живо искусство театра! Краснощекая, с мелкими куд-
ряшками девушка в длинной белой ночной рубашке начала
рассказывать матери, что Трубецкой — серый, а Пьер Безу-
хов синий, синий франкмасон, и все зрители вдруг воочию
увидели Наташу Ростову, ту самую, что написал Толстой. А
когда отрывок кончился, Осенев повернулся ко мне, незна-
комому юнцу, и, как соучастнику великого таинства, произ-
нес восторженное: «А?!»
Наташу Ростову в студенческом отрывке волшебно сыгра-
ла студентка Борисова, будущая Юлия Константиновна Бо-
рисова — многолетняя некоронованная королева театральной
Москвы.
Вот эти восторженные восклицания я не раз потом слышал
от Владимира Ивановича Осенева. Я не встречал другого ар-
тиста, до такой степени умеющего радоваться успеху товари-
щей по профессии.
Наше настоящее знакомство состоялось лет через десять, а
то и пятнадцать.
Встретились мы в Рузе, в Доме отдыха Всероссийского те-
атрального общества, которое еще и не предполагало стать
Союзом театральных деятелей. В то лето отдыхало много зна-
менитых деятелей театра. Раневская, Сурен Кочарян и боль-
шая когорта вахтанговцев с Михаилом Федоровичем Астан-
говым во главе. И еще Шлезингер с женой, Этуш без жены и
58
Записки старого сплетника
Владимир Иванович Осенев с Галиной Львовной Коновало-
вой, своей супругой, возглавлявшей это светское общество.
Красивая, веселая, общительная женщина, она была призва-
на что-то возглавлять. На пляже, если можно назвать пляжем
маленькую лужайку возле узкой речки, я исполнил Галине
Львовне наизусть все номера из «Нитуш», и с этого момента
началась моя нежная дружба с вахтанговцами, продолжающа-
яся по сей день.
И все-таки самым вахтанговским из всех вахтанговцев, ко-
торых я знал и знаю, был Осенев. Попытаюсь объяснить, в
чем тут дело. Для меня этическое понятие вахтанговского уче-
ния заключается прежде всего в рыцарском отношении к сво-
ему ордену, то есть к своему театру. Ни в одном другом теат-
ре, хорошо в нем или плохо живется, нет такого патриотизма.
Обратите внимание, как редко уходят вахтанговцы из своей
альма-матер, даже в самые кризисные периоды жизни кол-
лектива. Ни Борисова, за которой так охотился МХАТ, ни
Яковлев, ни Ульянов даже помыслить об этом не могут. На-
верно, дело в том, что путь из Училища имени Щукина в те-
атр органичен, и подавляющее большинство актеров, если не
вся труппа, выпускники училища при театре.
Владимир Иванович Осенев любил свой театр беззаветно.
Он, по-моему, вообще был максималистом в чувствах — и к
жене, и к дочери, и к внучке, и... к театру. Старомодное и в
какой-то степени затертое слово — РЫЦАРЬ, но другого не
подберу. Он конечно же был рыцарем (не последним ли?!) те-
атра имени основателя этого прекрасного ордена — Евгения
Багратионовича Вахтангова. Осенев играл как премьеру каж-
дый рядовой спектакль. Он шел на репетицию как на празд-
ник. Радость театра была его личной радостью, беда театра —
его бедой. Выступление на любом собрании, а их в театре бы-
ло куда больше, чем премьер, стоило здоровья, потому что он
по-рыцарски защищал интересы ТЕАТРА, а не свои актер-
ские интересы. Это качество редчайшее, сейчас почти не
встречающееся!
Я приехал на премьеру спектакля «Дамы и гусары» и заме-
тил, как трогательно из-за боковой занавески следит он за
моими реакциями. Я не очень-то смешлив, хотя Яковлев был
прелестен в центральной роли, да и сам Владимир Иванович
понравился мне чрезвычайно, в особенности в сцене, где
59
Александр Белинский
вдруг, «изнемогая» от любви, неожиданно начинал петь ро-
манс и торжественно удалялся со сцены под гром аплодис-
ментов.
А на следующий вечер уже из-за занавески в Доме актера
я наблюдал, как он, конечно же с Галиной Львовной, смот-
рит мой капустник. Какой же это был не посредственный,
благожелательный зритель! Как не хватает театру в годы разъ-
едающего цинизма и всеобщей актерской недоброжелатель-
ности, если не сказать больше, рыцарей печального образа,
которыми всегда жило и живет искусство. И когда в редкие
минуты оптимизма я думаю о «праведниках», способных воз-
родить прекрасное искусство театра, передо мной встает свет-
лый образ вахтанговца Владимира Ивановича Осенева...
Во втором акте спектакля «Нитуш» была сцена видений Де-
низы де Флавиньи. На сцене к ней подбегали Фигаро, мадам
Сан-Жен, Адриенна Лекуврер, Труффальдино, Панталоне и
персонажи голливудских фильмов, популярных в те годы. В
то время впервые заговорили о Николае Гриценко, ставшем
через несколько лет премьером театра, а спустя год — круп-
нейшим артистом отечественного кино. Но не о нем пойдет
речь. Дублировал Гриценко в американском капустнике Вла-
димир Георгиевич Шлезингер. Как и Осенев, это был подлин-
ный вахтанговский рыцарь. В жизни мне не довелось встре-
тить человека такого тонкого, изящного юмора, такого
безукоризненного вкуса во всем, что касается смешного. Ка-
кую грациозную актерскую миниатюру создал он в спектак-
ле «Дамы и гусары»! Как ставил он водевили в Щукинском
училище, где был заведующим кафедрой актерского мастер-
ства! Я ставил с ним вместе капустники на празднествах в Ще-
лыкове и всегда восхищался очарованием его прелестного та-
ланта. Вот уж был вахтанговец до мозга костей! И как же мало
он сделал! Как мало получил от него театр, которому он был
так предан!
Но пора перейти к еще более серьезной творческой «ошиб-
ке» (будем называть это так) Театра имени Евг. Вахтангова.
На премьере Денизу де Флавиньи — мадемуазель Нитуш —
играла ВЕЛИКАЯ артистка Театра имени Евг. Вахтангова Га-
лина Алексеевна Пашкова. Я настаиваю на прилагательном
«великая», как всегда буду употреблять его в разговоре и о
Юлии Борисовой.
60
ianucKU старого сплетника
Я всего однажды видел «Нитуш» с Целиковской. Не ходил
больше смотреть, да и все тут. Не мог. Целиковская наверня-
ка хорошо пела и танцевала. Владимир Иванович Осенев го-
ворил именно так, а ему нельзя не верить. Популярность Це-
ликовской в годы «Нитуш» была невероятной! Ведь за ее
плечами уже были кинокомедии «Антон Иванович сердится»,
«Воздушный извозчик», «Сердца четырех». Пашкова ничего
этого не имела. Только «Частную жизнь Петра Виноградова»,
где снялась с Борисом Ливановым. Но ведь великая Бабано-
ва тоже почти не снималась в кино, и Юлия Борисова... Не
надо путать театральную судьбу с кинематографической, хо-
тя «важнейшим из искусств является кино», как утверждал
вождь мирового пролетариата. Но он ведь во многом был не
прав, как недавно выяснилось. В Пашковой была ПОЭЗИЯ
театра. Когда она в пустейшей оперетке, которой является
«Нитуш» в своем литературном первоисточнике, появлялась
на сцене театра и трепетно произносила:
Ты спишь, Дениза, грезишь ты,
Цветистым кружевом видений
К тебе летят из темноты
Театра радостные тени.
Так вот он, вот тот чудный мир,
Где все подвластно лишь поэтам,
Тот мир, где Виллиам Шекспир
Создал «Ромео и Джульетту»! —
у зрителей замирало сердце, а восторженные юнцы вроде ме-
ня — плакали.
Трепет... какое чудесное слово! У Пашковой в оперетке был
подлинный трепет, тот самый, который является редким ка-
чеством русских актрис от Комиссаржевской до Борисовой,
Ольги Яковлевой, Марины Нееловой. Но у Пашковой и Бо-
рисовой в их лучших комедийных ролях этот трепет соеди-
нялся с определенной долей иронии. Не это ли есть принад-
лежность вахтанговской школы? Во всяком случае, так я ее
понимаю. Пропорции же того и другого качества зависят от
степени таланта. Галина Алексеевна Пашкова и в «Нитуш»,
и в пошленькой комедии Корнейчука «Приезжайте в Звон-
ковое», и в «Первых радостях» и «Необыкновенном лете» Фе-
дина, и в китайской «Седой девушке» соблюдала эту пропор-
61
Александр Белинский
цию с бабановской точностью, и это создавало подлинное
произведение сценического искусства. Да и весь спектакль
«Нитуш» был идеально гармоничным вахтанговским произ-
ведением. Таким же стал полвека спустя спектакль Петра Фо-
менко «Без вины виноватые» с Юлией Борисовой, Юрием
Яковлевым, Людмилой Максаковой, Юрием Волынцевым и
другими вахтанговцами. Но вот Галина Пашкова сыграла в
постановке Захавы «Чайка», в постановке Рапопорта «Ромео
и Джульетта». Провалы того и другого спектакля. В XX веке,
веке режиссуры, нельзя было замечательно играть в плохом
спектакле. Это было началом заката замечательной актрисы.
Она еще хорошо сыграет Полю Вихрову в «Русском лесе» Ле-
онова, Лизу Протасову в «Детях солнца». Но разве это мож-
но сравнить с Нитуш или Асей Большаковой в чудесной пье-
се Александра Гладкова «Жестокий романс», поставленной
Борисом Бабочкиным — легендарным Чапаевым русского ки-
но. Пьесу эту переименовали перед премьерой в «Новогод-
нюю ночь», потом Гладкова обвинили в плагиате, потом сня-
ли спектакль, потом арестовали автора. Это отличная пьеса.
Утверждаю это. Она звучит и сегодня. Как хороша была в ней
Галина Пашкова! Как пела «Позарастали стежки-дорожки»!
Последний раз я слышал ее пение в Ленинградском Доме ак-
тера. Это был поистине драматический вечер для нас обоих.
Галина Пашкова выступила с композицией по своему люби-
мому Бертольту Брехту. Она попросила меня сделать вступи-
тельное слово. Я долго рассказывал полупустому залу о ле-
генде Галины Пашковой. Потом вышла она. Светловолосая,
в брючном костюме. Изящная, трепетная. Но что же она иг-
рала, что пела? Нельзя было понять ни сюжета, ни смысла.
Впрочем, в одной песенке, нежной и трогательной, с запо-
минающейся мелодией «Сарабанья, Джони, сарабанья», я
услышал снова Галю Пашкову, великую мадемуазель Нитуш.
Я заплакал. Я уже был в том возрасте, когда плачут от уми-
ления. Это хороший возраст! Вечером она позвонила мне и
испуганно спросила: «Саша, в чем дело? Во мне или в пуб-
лике?» — «В Брехте!» — уверенно заявил я. Она не повери-
ла. Она считает, что она брехтовская актриса. Я считаю, что
вахтанговская, а это совсем не одно и то же. Рубен Симонов
никогда бы не стал ставить Брехта, а Щукин — его играть. А
может быть, стоит попробовать вернуть на сцену Галину Паш-
62
Записки старого сплетника
кову? Ведь у всех на памяти чудесное возвращение Анатолия
Петровича Кторова на сцену — в «Милом лжеце», в кино —
в роли старого князя Болконского. Любую ошибку стоит ис-
править, как доказывает история нашего многострадального
государства. Пытаемся же мы возродиться после многих де-
сятков беспросветных лет, а ведь актерское бездействие Паш-
ковой длилось значительно меньше.
Сколько же зрительского счастья дали мне вахтанговцы!
Сколько радости в застолье, в совместной работе! А как же
неповторимо красивы вахтанговские женщины! Когда все в
той же «Нитуш» выходили на сцену воспитанницы пансиона
«Небесные ласточки» в исполнении студиек Щукинского учи-
лища Борисовой, Парфаньяк, Архиповой, Измайловой, я,
возможно, кого-то забыл, мужчины в зрительном зале пере-
ставали дышать.
Здесь, наверно, самое время рассказать еще об одной при-
чине моего двухлетнего московского счастья. Вообще-то я по-
пытаюсь как можно меньше касаться этой деликатнейшей те-
мы. Мне глубоко претит то, что делают с ней на страницах
книг, в том числе и мемуаров, как показывают на сцене и на
экране. Но из песни слов не выкинешь.
До сих пор, спустя полвека, я испытываю волнение, когда
по Большой Грузинской улице дохожу до 1-го Тишинского
переулка. Деревянного домика уже нет, а значит, нет и под-
вала, где со своим отцом, артистом каверинского театра, и
матерью, бывшей артисткой театра Камерного, жила Таня
Бартенева, первая моя такая красивая любовь. И эти два сча-
стливейших года в Москве прошли под знаком одной пош-
ловатой песенки. Наверно, кроме меня и Тани, ее никто не
помнит. Ведь неизвестны ни автор музыки, ни стихов. Вот эта
песня:
Жизнь моя полным-полна скитаний,
Переездов и переживаний,
Многое ушло, многое прошло,
Затянуло, заросло,
Ну, словом...
Помню городок провинциальный,
Тихий, захолустный и печальный,
Церковь и базар,
Городской бульвар,
63
Александр Белинский
Там среди мелькнувших пар я вижу...
Чей-то знакомый родной силуэт,
Синий берет, синий жакет,
Темная блузка и девичий стан,
Мой мимолетный роман!
Таня, Татьяна, Танюша моя!
Помнишь ли знойное лето
Это,
Разве мы можем с тобой забыть
Все, что пришлось пережить!
С этой песней, сокрушительно провалившись при попыт-
ке поступить в Щукинское училище (мне не дали дочитать ни
финального монолога Фигаро, ни «Старого фрака» Беранже —
здорово выбрал репертуар!), я, оставив отца в Бутырке и мать,
ждущую амнистию, отбыл в Питер спасать квартиру в Ковен-
ском переулке, вернее, то, что от нее осталось!
Глава четвертая
1946 год и последующие
Профессор, снимите очки-велосипед,
Я сам расскажу о времени и о себе.
Я ассенизатор и водовоз,
Революцией мобилизованный и призванный...
Это Маяковский — «Во весь голос», вступление в ненапи-
санную поэму Я — не ассенизатор и не водовоз. Я не моби-
лизован революцией и не призван ею. В этом мое преимуще-
ство перед Маяковским. И не найдется «профессор», который
снимет очки-велосипед и захочет обо мне послушать. А вот
о времени я рассказать обязан. Тем более, что могу расска-
зать о нем правду. Ту правду, о которой Маяковский не знал,
а когда узнал, ушел из жизни, как честнейший поэт. В этом
я уверен. Я очень люблю Маяковского.
Пять лет моей учебы в Ленинградском театральном инсти-
туте пришлись на пятилетку, может быть, самую трагическую
для искусства моего Отечества. 1946 год — «исторические»
постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репер-
туаре драматических театров», а потом о музыке, наконец,
борьба с «безродными космополитами», «ленинградское де-
ло» и «дело врачей». Вряд ли мировая история знала годы по-
добного мракобесия. Все эти годы я был теснейшим образом
связан с театром, с эстрадой, с балетом. О, как я все это по-
мню! А пишу я только то, что помню очень хорошо.
Начать надо, по-видимому, с краткого изложения событий
моей студенческой жизни. Меня приняли на первый курс ре-
жиссерского факультета в мастерскую Бориса Вольфовича Зо-
на. Он был хорошим педагогом на первых двух курсах, осо-
бенно на первом. Он отлично научил нас основам системы
Станиславского, правде актерского сценического существо-
вания. На всю жизнь приучил к театральной правде. Это не
65
3 Записки старого сплетника
Александр Белинский
так мало. У нас были прекрасные педагоги по всем движен-
ческим дисциплинам. Танец вели Х.Х. Кристерсон и З.В. Ста-
сова, движение и фехтование — И.Э. Кох, ритмику Н.В. Ро-
манова, непосредственная ученица самого Жака Далькроза. Я
уже упомянул, как честно (о, как это было трудно в те годы!)
читал нам русскую литературу Всеволод Васильевич Успен-
ский. И как антитеза — курс истории музыки Л.А. Энтелиса,
приветствовавшего много лекций подряд подлейшее поста-
новление об опере Мурадели «Великая дружба», кричавшего
Прокофьеву на обсуждении его новой оперы: «Вы же труп,
Сергей Сергеевич! Живой труп!» Он поливал грязью Три-
надцатую симфонию Шостаковича, а через год стал ее апо-
логетом. Я помню его выступление на митинге по поводу со-
гласия Сталина баллотироваться в Верховный Совет по
Сталинскому избирательному округу. «Я недоволен советской
медициной! — орал Энтелис на митинге. — Почему она не
может сделать так, чтобы мы могли отдать сто жизней за Ста-
лина, а он жил вечно!» И этот самый Леонид Арнольдович
Энтелис вылетел из института, как ракета из шахты, в пер-
вые же дни борьбы с космополитизмом. Вернувшись, он
остался таким же правоверным коммунистом, активным бор-
цом с любыми прогрессивными проявлениями. Как же мно-
го было подобных в эту трагическую пятилетку!
Что еще помнится из жизни на Моховой? Друзья, подруги.
Те, кто остался и позже, появятся на этих страницах. Осталь-
ные... «Иных уж нет, а те далече!» С 1946 года мы начали учить-
ся сами. Кто как мог. В театре, на эстраде, в цирке, в само-
деятельности. Вот тут-то мы, кто как мог, окунулись в жизнь.
Начать надо конечно же с главного, вечного, прекрасного, то-
го, что называется
Театр
Боже мой, что же тогда играли! Что хвалили! Что прославля-
ли! Отечественную драматургию я бы разделил на два мутных
потока. Поток прославления и поток разоблачения. Прослав-
ляли: подвиг народа, ведомого Сталиным, в годы Великой
Отечественной, подвиг сегодняшних тружеников, спешно
строящих коммунистическое общество, наконец, подвиг на-
ших славных предков, среди которых первое место занял лю-
66
iaписки старого сплетника
бимый герой Иосифа Виссарионовича царь Иван Васильевич,
вошедший в историю под именем Ивана Грозного. Поток ра-
зоблачений, естественно, касался западных стран во главе с за-
гнивающим империализмом Соединенных Штатов Америки.
В первом русле потока главенствовала истерическая пьеса
в стихах Маргариты Алигер «Сказка о правде» — о подвиге
(сейчас он под сомнением некоторых историков) Зои Космо-
демьянской и бесчисленные инсценировки фадеевской «Мо-
лодой гвардии». И эту историю сейчас пересматривают. Упор-
но ходят сплетни в народе, что Олег Кошевой преспокойно
живет в Америке. Я не очень-то в это верю, но «Молодая гвар-
дия» не переиздается.
Современных тружеников прославил Анатолий Суров в
пьесах «Зеленая улица», «Далеко от Сталинграда», «Рассвет
над Москвой». Каждая из этих пьес и поставленные по ним
спектакли были удостоены Сталинских премий.
Ивана Грозного возвеличил в стихах Владимир Соловьев.
Стихи были рифмованными и, в отличие от белых стихов Алек-
сея Константиновича Толстого в его превосходной трагедии
«Смерть Иоанна Грозного», — очень плохими. Да и как можно
сравнивать эти две пьесы! А ведь сравнивали в критических ста-
тьях, упрекая Толстого в искажении истории, отдавая дань ис-
торической правде насквозь фальшивой пьесы Соловьева.
Америку разоблачали чемпионы литературного холуйства!
Аркадий Первенцев в «Младшем партнере», Николай Вирта
в «Заговоре обреченных» и вполне приличные писатели: Бо-
рис Лавренев («Голос Америки»), Николай Погодин («Мис-
сурийский вальс»). Все рекорды сборов побила пьеса Кон-
стантина Симонова «Русский вопрос». Ее одновременно
выпустили три театра в Ленинграде и восемь (!!!) театров
Москвы. О периферии уже не говорю. Не было ни одного те-
атра без «Русского вопроса». И не только потому, что так бы-
ло приказано. В пьесе были эффектные роли. Константин Си-
монов был умелым драматургом, да и вообще эта литературная
фигура далеко не однозначна.
Ах, как хорошо я помню эти страшные годы! Как помню
содержание, если позволительно называть содержанием текст
этих немыслимых пьес! Почему же на них ходили? Как ска-
зали бы сейчас — «не было альтернативы», а всепоглощающая
любовь к театру нашего народа была, к счастью, неизлечима.
67
Александр Белинский
Были ли в это время хорошие спектакли? Утверждаю — бы-
ли. Кто из мастеров режиссуры смог достойно выйти из, ка-
залось бы, безвыходного положения? Из мастеров старшего
поколения в первую очередь Андрей Михайлович Лобанов, из
молодых — преданный ученик Лобанова Георгий Александ-
рович Товстоногов.
Уже став профессионалом, я понял, как это им удавалось.
Они продирались сквозь театральную неправду к правде жиз-
ни. Как мучительно искали они и за счет своего удивитель-
ного таланта находили точнейшие детали быта в безнадежно
фальшивой ситуации пьесы. Никто, конечно, не попытается
перечесть «Далеко от Сталинграда» Сурова (спектакль Лоба-
нова в Театре имени Ермоловой) или «Где-то в Сибири»
Ирошниковой и «Шелковое сюзане» Каххара (спектакли То-
встоногова в Ленинградском театре имени Ленинского ком-
сомола). А ведь это были отличные спектакли. Сюжеты пьес
запомнить было нельзя, а вот правдивые находки в человече-
ском поведении, характеры людей, юмор в их взаимоотноше-
ниях помнятся и сегодня. Борис Равенских сделал «Свадьбу
с приданым» Дьяконова знаменитым спектаклем Театра сати-
ры за счет песен Мокроусова и Будашкина, танцев Галины
Шаховской. Равенских был мастером создания синтетическо-
го зрелища, не припомню равного ему по умению включать
музыку в ткань драматического действия. Но Равенских сам
остроумно назвал комедию Дьяконова «мычанием коровы».
Лобанов же и Товстоногов заставляли себя верить в жизнен-
ную первооснову пьесы и мучительно пробивались к ней че-
рез дебри литературной фальши.
Охлопков шел третьим путем. Использовав весь богатей-
ший арсенал мейерхольдовских сценических приемов (Всево-
лод Эмильевич тоже любил «спасать» плохие пьесы), он стро-
ил метафорические зрелища, где вращение сценического
круга, виртуозная игра светом на колыхающихся красных зна-
менах заслоняли всю убогость смысла происходящего.
Встречались ли просветы в этом грязном драматургическом
потоке? «Старые друзья» Леонида Малюгина... Больше ниче-
го не припомню до появления пьес Виктора Розова, но это
уже после пятьдесят третьего года.
А как же спасовали перед позорной драматургией мастера
нашей режиссуры! Даже Алексей Попов и сам (!) Алексей Ди-
68
{аписки старого сплетника
кий скучно и невыразительно ставили — один «Сталинград-
цев» Чепурина и «Незабываемый 1919-й» Вс. Вишневского,
другой — «Московский характер» Софронова и «Калиновую
рощу» Корнейчука. Все вышеперечисленные спектакли бы-
ли удостоены Сталинских премий. Необходимо добавить, что
из классики ставить можно было только Островского выбо-
рочно и Горького — всего. «Нытик» Чехов был под вопро-
сом, чересчур «аллюзионный» Гоголь с его «Ревизором» под-
вергался сценической стерилизации, а о Шекспире с его
«рефлексирующим» Гамлетом (цитата из постановления о ки-
нокартине «Большая жизнь») вообще не стоило и мечтать.
При этом сочетание пьес в репертуаре должно было быть че-
тыре или пять советских к — максимум — одной классиче-
ской. Вот так. Кто же спас отечественный театр от уготован-
ной ему смерти? Отвечаю ответственно — актеры. Еще не
наступило время безраздельной власти режиссерского теат-
ра, а русский театр обладал блестящей когортой могучих ак-
терских дарований.
Бабанова возобновила свою прекрасную «Таню». Я уже го-
ворил об Астангове и Ванине в «Нашествии». Во всеоружии
своего мастерства встретили они мутный поток послевоенной
драматургии. Правда, так называемые отрицательные роли да-
вали большую возможность для проявления настоящего ли-
цедейства. И вот Ванин был виртуозен в «Московском харак-
тере» Анатолия Софронова, а Астангов — в роли американца
Мак-Хилла в «Заговоре обреченных» Николая Вирты. И Гар-
ри Смита в знаменитом «Русском вопросе» обаятельно игра-
ли Ростислав Плятт в Москве и Бруно Фрейндлих в Ленин-
граде, а его жену Джесси — Валентина Серова и Елена Юнгер.
Николай Черкасов (напомню, сплетни утверждали, что он
был любимым артистом Сталина) играл в это время только
великих людей: Ивана Грозного, Жолио-Кюри и Владимира
Маяковского. В этих произведениях сделать что-либо было
не под силу даже актеру такого масштаба, но, как только в
пьесе Александра Довженко появилась крупица правды
(«Жизнь в цвету»), талант Черкасова развернулся в полном
блеске в роли Мичурина. Он вместе с Толубеевым, игравшим
слугу Терентия, создали прекрасный актерский дуэт, трагико-
мический, с переходами к тончайшей возрастной характер-
ности. А Скоробогатов в пьесе на моднейшую демагогичес-
69
Александр Белинский
кую тему «борьбы за мир» трагически сыграл Нильса Бора.
Как переживал Астангов, когда запретили съемки фильма, где
он играл ту же роль! Но разве можно было понять, что раз-
решают и что и почему запрещают!.. Артисты, мастера стар-
шего поколения, силой своего таланта закрывали «амбразу-
ры» драматургической бессмыслицы. И новое поколение
русских актеров не отставало от своих учителей. С каким оба-
янием, озорством, юмором разыгрывали пошлую чепуху в ко-
медийной дилогии Софронова о стряпухе Юлия Борисова, Ла-
риса Пашкова, Николай Гриценко, Михаил Ульянов, Юрий
Яковлев, совсем молодая Людмила Максакова и совсем не-
молодой Николай Плотников — три поколения моих люби-
мых вахтанговцев. Короче, русский театр спасли актеры, а это
было тем более трудно, что, кроме идеологической инквизи-
ции, шла чудовищная по своей бессмыслице и демагогии дис-
куссия о так называемом последнем открытии Станиславско-
го — «методе физических действий».
Три великих открытия ознаменовали последние годы прав-
ления Иосифа Виссарионовича Сталина: ветвистая пшеница,
искусственный белок и метод физических действий. Ветвистую
пшеницу вывел Трофим Денисович Лысенко. Засадив в тюрь-
му всех генетиков и получив бесчисленное количество Сталин-
ских премий, он снял с грядки удачно выросший колос и обес-
смертил себя в веках. Парой колосьев такой пшеницы можно
было накормить целую деревню, пухнущую с голоду, как мы
позже узнали из повестей Владимира Тендрякова, Бориса Мо-
жаева, Федора Абрамова. Ветвистая пшеница обещала деревне
жизнь, показанную в кинокартине «Кубанские казаки».
Искусственный белок вывела Ольга Лепешинская — тезка
прославленной балерины. Искусственный белок гарантировал
планирование в таком анархическом, не поддающемся про-
паганде процессе, как деторождение. Здесь уже получили Ста-
линскую премию, кроме Лепешинской, еще и два литератур-
ных гангстера — братья Тур, написавшие без арестованного
Шейнина пьесу «Третья молодость» об этом историческом
эксперименте и самой экспериментаторше.
Михаил Николаевич Кедров назвал метод физических дей-
ствий открытием Станиславского. Так было спокойно и бе-
зопасно. Покойный Константин Сергеевич был официально
причислен к лику святых, а Кедров объявлен его официаль-
70
fan иски старого сплетника
ним преемником. Иная методика режиссуры, чем та, кото-
рая процветала в погибающем МХАТе, объявлялась полити-
ческой диверсией. Слова — «интонация», «жест», а тем более
«эмоция», «чувство» — все это было крамолой. Все это долж-
но было рождаться (или не рождаться) в результате верно най-
денного действия, выраженного глаголом. В театральных
учебных заведениях мучительно, как насекомых в голове, ис-
кали глаголы, а потом, пробалтывая авторский текст («Не ин-
тонируйте! Не красьте слов!»), уныло воплощали эти глаголы
в аморфном шатании по сцене («Никаких мизансцен! Не за-
ботьтесь о выразительности!»). Так ветвистая пшеница долж-
на была решить проблему питания страны, искусственный бе-
лок — проблему роста народонаселения, а метод физических
действий — вывести все это народонаселение на сценические
подмостки, ибо актером мог стать всякий, познавший метод.
Слово «талант» окончательно вышло из моды.
Михаил Николаевич Кедров приезжал к нам в Дом актера
и вел семинары. Мы встречали его, как в тундре встречают
шамана. Голова его тряслась, как бы говоря — «нет, нет, нет,
не верю, не верю». Букву «р» он говорил как «рл»: «Я говор-
лю. Я в этом уверлен» и т. п. Как учебная работа была выбра-
на популярная трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта». Об-
щее внимание было сконцентрировано на знаменитой сцене
на балконе. Был задан каверзный вопрос: «Почему именно на
балконе?» Ответ — «так сказано в ремарке» — оказался неубе-
дительным. Внимательное изучение архитектуры Вероны до-
казало возможность делать сцену все-таки на балконе. После
того как удалось выяснить количество балясин на балюстра-
де балкона, возник главный вопрос: чего хочет Ромео от Джу-
льетты и, в свою очередь, — чего хочет Джульетта от Ромео.
Конечно, никому не мог прийти в голову примитивный ответ,
что желание у них обоюдное и очень похожее на желание обе-
их половин человечества в подобных, часто возникающих си-
туациях. Вопрос был поставлен еще глубже. В чем природа
конфликта Ромео и Джульетты в данной сцене. Каждая сце-
на должна быть построена по верно найденному конфликту.
Полгода ежемесячных поездок Кедрова в Ленинград
(оплата люкса в «Астории», плюс суточные, плюс мягкая
«Стрела» туда и обратно, плюс гонорар) дали возможность
выяснить, что конфликт Ромео и Джульетты в том, кто из них
71
Александр Белинский
любит больше. «Убеждайте ее, что ваша любовь сильнее, а вы
не соглашайтесь. Нет, мол, вы любите больше». Потрясенные
этим открытием, мы старались изо всех сил.
Меня укроет ночь своим плащом.
Но коль не любишь — пусть меня увидят, —
орал Ромео маловразумительные стихи перевода Т.Л. Щепки-
ной-Куперник. Пастернак, естественно, был тогда еще не упо-
минаем, чтобы через десять лет стать уже неупоминаемым.
О, не клянись луной непостоянной,
Луной, свой вид меняющей так часто,
Чтоб и твоя любовь не изменилась, —
плакала обиженная Джульетта. Полгода мы занимались этим
колдовством. На словах Джульетты:
Не стану вспоминать, чтоб ты остался,
Лишь буду помнить, как с тобой мне сладко было, —
скандал между любовниками из Вероны достиг апогея. Джу-
льетта была окончательно оскорблена тем, что Ромео не при-
знавал ее любовь как более великую. Неизвестно, чем бы кон-
чилась знаменитая сцена в постановке нашего семинара, но
в это время на гастроли приехал МХАТ. Мы увидели «Зеле-
ную улицу» Сурова, «Залп Авроры» Большинцова, Чиауре-
ли — «вершины достижений» метода, и семинар по его изу-
чению прекратил свое существование.
Первый театр, в который я вошел со служебного входа, был
абсолютно незаинтересован в методе физических действий.
Терминов системы там вообще не употребляли, а Константина
Сергеевича упоминали только в связи с его провалом на этой
сцене на единственной гастроли в роли Фамусова. Понятно,
что речь идет об Александрийском театре, то бишь Театре дра-
мы имени Пушкина. Я пришел туда на практику к режиссеру
Владимиру Платоновичу Кожичу, ставившему к очередному
«летию» пьесу Николая Вирты «Заговор обреченных».
Гений был тогда, да и сейчас, в Александринке только один,
утверждаю это, Великий, бессмертный гений Карло Росси, со-
здавший несравненный архитектурный ансамбль, неповтори-
мый по красоте театр. Ни оперный театр в Одессе, ни милан-
ский «Ла Скала», ни Большой в Москве, ни «Гранд Опера» в
72
Записки старого сплетника
Париже не затмили для меня красоты интерьера Александ-
ринки. О фасаде я уже не говорю.
Правил театром в то время Леонид Сергеевич Вивьен. Пра-
вил он тридцать лет. «Как Сталин», — говаривал старейший
александринец Константин Игнатьевич Адашевский. Он, по-
жалуй, был единственным актером во всей труппе, не любив-
шим Вивьена. Основу этой богатой по дарованиям труппы
составляли ученики Вивьена по Театральному институту: Си-
монов, Черкасов, Толубеев, Меркурьев, Екатерининский. Я
назвал лучших. И были еще сослуживцы Вивьена по старой
Александринке. На «ты» к нему обращались только Рашев-
ская и Малютин.
Опять считаю необходимым разоблачить легенды. Вивьен
был средним режиссером. Это еще мягко сказано. И артист
он был умелый, не больше. Во всяком случае, я его застал
именно таким. По свидетельству моего горячо любимого стар-
шего друга Константина Игнатьевича Адашевского, а верю
ему, как никому другому, замечательно играл Вивьен только
Эугена Несчастного в одноименной пьесе Толлера. Сила Ле-
онида Сергеевича была в том, что он знал свои слабые сто-
роны. Это был не просто умный, это был мудрейший чело-
век. Он и Николай Павлович Акимов были могучей
интеллектуальной силой театрального Петербурга. Именно
Петербурга, хотя тогда это был Ленинград, но Вивьен и Аки-
мов были последними могиканами именно петербургской ин-
теллигенции. Великолепный дипломат, тонкий театральный
стратег, Вивьен провел александринский корабль, искусно ла-
вируя между внутритеатральными рифами и внешними поли-
тическими течениями. При этом он остался абсолютно поря-
дочным человеком. Он сразу же пригласил в Александринку
Мейерхольда после закрытия в Москве театра его имени. А
было это куда опаснее, чем аналогичный поступок Стани-
славского. Ведь Вивьен не имел политической индульгенции,
выданной Сталиным Константину Сергеевичу. Вивьен при-
гласил Кожича и не мешал ему работать, зная, что этот ре-
жиссер сильнее и имеет абсолютный авторитет в труппе. На-
конец, Вивьен первым поддержал молодого Товстоногова,
встреченного в театральном Ленинграде далеко не доброже-
лательно. Я говорю со слов самого Георгия Александровича.
Вивьен был ЕДИНСТВЕННЫМ приемлемым руководителем
73
Александр Белинский
для императорского театра, которым по существу своему все-
гда оставалась Александринка, и смерть Леонида Сергеевича
поставила точку в жизни этого своеобразного организма. В
этом своеобразии под руководством все того же Адашевско-
го я разобрался довольно быстро. В «Заговоре обреченных»,
кроме Черкасова и Меркурьева, были заняты все подлинные
и неподлинные звезды Ленинградского театра драмы имени
А.С. Пушкина: Симонов, Скоробогатов, Толубеев, Малютин,
Фрейндлих, Жуковский, Рашевская, Медведева, Лебзак. В ма-
леньких эпизодах: Екатерининский, Чекаевский, Вальяно.
Кто смел отказаться, когда пьеса ставилась к «летию» то ли
Ленина, то ли созданной им советской власти. Другое дело,
что после премьеры все они смылись со своих ролей, увидев,
что не получат никаких дивидендов. Все Сталинские премии
расхватали москвичи. Первым смылся Борис Елисеевич Жу-
ковский, затем Скоробогатов, Симонов, Толубеев, Малютин,
и только Наталия Сергеевна Рашевская всю недолгую жизнь
спектакля играла до конца. От роли пламенной коммунистки
Ганны Лихты отказываться было нельзя, да еще имея дочь в
Париже. Ох, как была напугана на всю жизнь эта умнейшая,
красивая, милая женщина, тонкий режиссер, поставившая и
до Товстоногова, и при нем ряд хороших спектаклей в Боль-
шом драматическом театре!
Как я уже сказал, александрийцы никогда не говорили о
МХАТе. Они любили вспоминать своих стариков. Из недав-
но ушедших — Корчагину-Александровскую и Горина-Горя-
йнова и без всякого пиетета — Мичурину-Самойлову и Юрь-
ева. Абсолютным культом было имя Владимира Николаевича
Давыдова. Из актрис чаще других вспоминали Ведринскую и
Рощину-Инсарову. Целыми днями в нижнем актерском фойе,
под портретами Стрельской и Варламова, Каратыгина и Дал-
матова старые александрийцы стучали в домино. Это была ка-
кая-то неизлечимая эпидемия. Карякина, по-моему, играла
даже по окончании спектакля, то есть ночью. Теперь стены
большого фойе увешаны портретами моих дорогих доминош-
ников, и новое поколение давно не стучит костяшками. Не-
когда! Да и домино куда-то давно пропало.
Но кроме домино старые александринцы еще играли и ре-
петировали. Всегда с полной отдачей, никогда не опаздывая
к началу, выучивая текст дома, работая над ролью, не наде-
74
iaписки старого сплетника
ясь на режиссерскую дрессировку, благодарные за любой со-
вет, за любую подсказку. Если же не соглашались с предло-
жениями, то следовало категорическое заявление: «Этого не
будет». Это говорилось любому режиссеру, даже Кожичу.
Впрочем, последний добивался своего все равно, не мытьем,
так катаньем.
Я помню все имена действующих лиц «Заговора обречен-
ных», родившихся в затуманенном алкоголем мозгу Николая
Вирты. Жуковский играл Гуго Вастиса, Симонов ~ Макса
Венту, Медведева — Христину Падеру, Толубеев — Косту Вар-
ру, Скоробогатов — Иокима Пино. Это были предполагаемые
представители различных партий то ли Югославии, то ли Бол-
гарии. Американский империализм был представлен Мак-
Хиллом — Ефимом Альтусом и журналисткой Кирой Рей-
чел — Ольгой Лебзак. Каким образом, даже учитывая мою
неплохую память, я запомнил весь этот бред? Дело в том, что
на данной ассистентской практике я прошел подлинный ре-
жиссерский университет под руководством Владимира Пла-
тоновича Кожича. Как же он меня учил? Вечерами он вызы-
вал второго режиссера Антонина Николаевича Даусона и меня
и фантазировал — не по поводу сюжета фальшивой пьесы
Вирты, а по поводу людей, ее населяющих. Именно людей, а
не персонажей пьесы. Потом он рассказывал каждому из ар-
тистов все о его роли, зная даже жесты и походку. Также рас-
сказывал он о Треплеве в «Чайке», о Глуховцеве в «Днях на-
шей жизни» и о многих других ролях в пьесах, о которых
мечтал и не успел поставить. Эту манеру работать я больше
ни у кого не встречал. В ней конечно же есть ущерб. Кожич
вгонял артистов в прокрустово ложе своего замысла, но под-
линные артисты это любили, применяя советы Кожича к сво-
ей индивидуальности, благо эта индивидуальность была. Это
были конечно же чудесные актеры, но ни одного из них не
посмею я назвать великим. Даже незабвенного Николая Кон-
стантиновича Симонова с его грандиозным Петром Первым
в кино. Дарование Симонова принято называть шаляпин-
ским. Но не было в нем умения точно выстроить роль, не бы-
ло четкого рисунка и чуда перевоплощения, как в творениях
Федора Ивановича. У Симонова был спичечный темперамент,
моментальная возбудимость, иногда не по существу. Говоря
профессиональным языком, у него был «ненаправленный
75
Александр Белинский
темперамент», в отличие, скажем, от Добронравова и Павла
Луспекаева. Но были у него мгновения подлинного чуда, ра-
ди этих мгновений, собственно, и существует театр. Уже ра-
ботая на телевидении, я поставил с Симоновым в главной ро-
ли пьесу Веры Федоровны Пановой «В старой Москве».
Помню, мы готовились к съемкам последней картины спек-
такля. Старый промышленник Хлебников приходит в «Яр»,
где поют цыгане. Хлебникова играл Симонов. И мы выбира-
ли песню. Сергей Александрович Сорокин, знаток цыганско-
го фольклора, играл на гитаре (и как играл!) все новые и но-
вые песни. Симонов отклеил бороду и в растрепанном седом
парике, положив голову на руки, слушал. «Посмотри, на ко-
го похож Симонов!» — шепнул мне Сорокин. Он был удиви-
тельно похож на Бетховена.
Из записок Орленева я знал, что существует пьеса австрий-
ца Жижмора о Бетховене. Михаил Федорович Астангов играл
в молодости роль Бетховена в Одессе. Он предупредил меня,
что пьеса плохая, но главная роль эффектная. Я нашел эту
пьесу. Она была ужасна. Инсценированные анекдоты из жиз-
ни великого композитора. Но Симонов загорелся, а обо мне
уж что говорить. Кое-как я сократил пьесу. Довольно беспо-
мощно вставил письма Бетховена. Распределили роли. Нача-
ли репетировать. Начальство отдало читать пьесу музыкове-
дам. Музыковеды возмутились. Начальство приостановило
репетиции. Говорю совершенно искренне: и начальство и му-
зыковеды были правы, пьеса была невыносима. И Симонов,
и актеры, и я понимали это. Тем более нам дали возможность
заказать новую пьесу о Бетховене. Теперь есть пьеса, но нет
Николая Константиновича Симонова. Он репетировал Бетхо-
вена три раза. Одну репетицию я помню как проявление тех
симоновских мгновений.
Прочитав в очередной раз сцену и в очередной раз придя в
отчаяние, мы начали рассказывать друг другу, кто что помнит
из жизни Бетховена. Я вспомнил рассказ кинорежиссера Фри-
дриха Марковича Эрмлера, мечтавшего снять фильм «Бетхо-
вен». Гениальный композитор, совершенно глухой, дирижи-
рует своей Девятой симфонией. Оркестр играет черт знает что.
Музыканты и публика смеются над Бетховеном, а он один
слышит ту гениальную музыку, которую сочинил. Сейчас мно-
гие актеры обожают режиссировать. Особенно любят они
76
iaписки старого сплетника
предлагать решения чисто технических задач. Каждый из при-
сутствующих на репетиции начал фантазировать, как долж-
ны идти параллельно две пленки: одна -- на крупном плане
Бетховена, другая — на общем плане оркестра. Симонов мол-
чал. Потом покраснел и тихо сказал: «Я попробую это сыг-
рать». К счастью, в репетиционном зале был магнитофон. Бы-
ла и запись Девятой симфонии Бетховена в исполнении
Ленинградского симфонического оркестра под управлением
Александра Гаука. Зазвучала музыка. Симонов, едва отрывая
руку от стола, начал отмахивать такт. Его прекрасное лицо
менялось на глазах. На музыкальном форте он побледнел, из
глаз хлынули слезы. Это длилось несколько минут, минут по-
трясения, свидетелями которого оказались только три акте-
ра, звукорежиссер и я.
Симонов не сыграл Отелло. А хотел и мог. С его порази-
тельной нравственной чистотой! Не сыграл и короля Лира, и
Коррадо в «Семье преступника» Джакометти. Я упоминаю ро-
ли, о которых мы много говорили. Буду жесток. Не было в
театре роли, равной его великому кинотворению — Петру
Первому. А как же скромен был Николай Константинович!
Не встретил я больше в актерской среде такого отсутствия
тщеславия. Он не ходил ни на одно собрание, ни на одно со-
вещание, не занимал ни одной общественной должности. Ви-
новат! Одну должность он занимал постоянно. Он был пред-
седателем кассы взаимопомощи и вечным ее должником. В
отличие от своих намного менее даровитых коллег Симонов
не умел зарабатывать, предпочитал писать маслом свои изу-
мительные полотна, в лучших из которых приближался, не
боюсь преувеличения, к своему кумиру Врубелю. А какой же
это был рассказчик, какой собеседник!
Александринцы научили меня великому искусству русско-
го актерского застолья. Конечно же они пили. Все. Много.
Но никогда не было безобразий. На спектаклях или репети-
циях бывали инциденты только с одним из них, но это была
болезнь, от которой страдал сам этот прекрасный человек. А
как же прекрасны были александринцы в застолье!
Оговорюсь. Актерских застолий я не люблю. Поминки от-
личаются от дней рождений или банкетов по поводу пре-
мьер только содержанием тостов, да еще на поминках мень-
ше чокаются. Впрочем, через пятнадцать минут актеры
77
Александр Белинским
забывают, но какому поводу они собрались, и начинается
острая борьба, кто будет вести стол, держать нить рвущихся
разговоров о внутритеатральной жизни. Все проблемы со
снятием и назначением директоров и худруков решаются в
застолье. Последующее собрание является уже результатом
застольных решений. А хозяйка? Она сокрушается, что ма-
ло еды, хотя стол ломится от яств и гости стонут по поводу
какого-то особенно вкусного блюда. Потом в телефонных
разговорах они будут говорить, как все было невкусно. На-
питься — вот сверхзадача (термин непьющего Константина
Сергеевича) современных актерских застолий.
Старые александрийцы приучили меня к выпивке, которой
я, к счастью, никогда не злоупотреблял. Слишком уж я люб-
лю то, что сопровождает выпивку, а именно закуску. И все
старые александрийцы, кроме Симонова, тоже любили и уме-
ли закусить. Но больше всего они любили вспоминать. Нет,
не о себе, они никогда не хвастались, и как это было прекрас-
но! Один только раз Константин Васильевич Скоробогатов,
вспоминая любимую роль, сказал: «Обо мне говорили: идите
смотреть в «Отелло» — Яго». Юрьев играл Отелло и оба они —
Скоробогатов и особенно Симонов — не любили Юрия Ми-
хайловича. У Симонова были на то основания: Юрьев ото-
брал у него в Новосибирске роль Отелло, предназначавшую-
ся Козинцевым ему.
Александрийцы любили вспоминать о старых актерах, сво-
их любимцах и учителях. Скоробогатов о Павле Самойлове,
Толубеев о Певцове, Жуковский о Давыдове. Симонов же
больше рассказывал о художниках — Петрове-Водкине — и
бесконечно — о творчестве Врубеля. Конечно же Врубель ока-
зал на Николая Константиновича решающее влияние. Мер-
курьев и Толубеев очень любили вспоминать Самару, где не-
сколько лет работали в руководимом Симоновым театре. За
рюмкой всегда упоминались пельмени, которые несравненно
готовила после самарских вечерних спектаклей мать Симоно-
ва. Что же касается Черкасова и Малютина, то любые воспо-
минания они сворачивали на Шаляпина. В концертах Черка-
сов и Малютин много лет подряд играли сцену из «Лгуна»
Гольдони. Она имела успех в любой аудитории. После кон-
церта часто ездили к Малютину на Петроградскую, там вкус-
но кормили. И начиналось... Федор Иванович (никогда — Фе-
78
la писки старого сплетника
дя) сказал... Федор Иванович сделал... Застолье заканчива-
лось всегда тем, что Малютин садился за рояль и по заказу
Черкасова исполнял любой романс, любую арию Шаляпина.
Из литературы хорошо известно, что Шаляпин обожал ими-
тацию Малютина и часто в подпитии вызывал его к себе. Ес-
тественно, молодой тогда Малютин мчался в любой час дня
и ночи. И вот теперь эти очаровательные имитации, именно
имитации, а не пародии, слышал я!
Еще александрийцы любили за столом проигрывать от-
рывки из своих ролей. Меркурьев — Мотылькова из «Сла-
вы», Адашевский — дьяка из чеховской «Дуэли», Черкасов
пластически изображал тетку Чарлея, а Честноков — он ни-
когда не пил — как правило, читал (и как!) «Желание сла-
вы» Пушкина. Впрочем, чаепития в доме Честнокова — это
отдельная глава. Это начало моей профессиональной рабо-
ты, это хрущевская «оттепель», а до нее еще было больше
пяти лет.
Но больше всего александрийцы тосковали о несыгранном.
О, как они тосковали! Как мечтал Толубеев о Тевье-молочни-
ке! Рашевская о «Месяце в деревне», Лебзак об Оль-Оль в
«Днях нашей жизни»!.. А какие красивые мечты были у Ско-
робогатова, Меркурьева, Жуковского! Я уже не говорю о Вла-
димире Платоновиче Кожиче. Он умер с готовым планом по-
становок не менее десяти пьес. Рассказывал он об этих
замыслах на посиделках у художника Босулаева, куда меня и
Юрия Свиридова всегда приглашали после удачной охоты Бо-
сулаева на глухаря или тетерку. Там мне выпало счастье слу-
шать воспоминания босулаевских режиссеров, приезжающих
к нему из Москвы смотреть очередной макет. Это были Бо-
рис Андреевич Бабочкин и великий Алексей Денисович Ди-
кий. Но их рассказов не надо пересказывать. Они, слава Бо-
гу, записали их сами.
И что же вынуждены были играть эти титаны в эту Богом
проклятую пятилетку! Толубеев варил сталь в каком-то бре-
де — названия не помню. Симонов лишался партбилета (ка-
кая трагедия!) в «Персональном деле» Штейна, впрочем, это
было, кажется, уже в годы «оттепели», но пьеса была все то-
го же уровня. Меркурьев побивал все рекорды пошлости в
пьесе Сергея Михалкова «Илья Головин», изображая компо-
зитора, имелся в виду Арам Хачатурян, только после поста-
79
Александр Белинский
новления ЦК осознавший всю глубину своих композиторских
ошибок. Трагедия!
Трагикомедия происходила и в таком, казалось бы, безо-
бидном искусстве, как цирк, куда я попал все в том же неза-
бываемом сорок шестом. Мой учитель Зон ставил, вернее,
проваливал в Александринке новую версию «Горя от ума». Он
попросил меня и Оскара Ремеза, моего сокурсника и будуще-
го многолетнего соавтора и друга, написать ни более ни ме-
нее как стихи для грибоедовской комедии. Как известно, «Го-
ре от ума» написано в стихах, и, прямо скажем, неплохих. Так
вот, Зон захотел, чтобы гости на балу тоже говорили стихами,
все одновременно, устраивая некий рифмованный гул. И вот
мы с Ремезом написали четыреста (!) строф грибоедовским
размером. Так началась моя литературная деятельность! Там
были такие «перлы»:
Ну, наконец-то, месье Кок!
Вам выговор за опозданье! —
Да задержало заседанье,
Мы все в посольстве сбились с ног!
Дошло чуть дело не до драки,
Был мнений яростный обмен,
Представьте только, нынче фраки
В Париже носят до колен!
Или выход княжон:
Вы ль это, Оля, мон ами?
Княжна Пашет! Княжна Алина!
Княжна Зизи! Княжна Полина!
Здоровы ль вы, княжна Мими ?
Благодарю Создателя, что этого никто не слышал; правда,
Скоробогатов, игравший Фамусова, издеваясь над Зоном, пе-
рекрывал своим мощным голосом всю массовку:
Должны поставить магарыч,
Мой дорогой Фома Фомич!
Так вот, наш второй педагог Владислав Станиславович Ан-
друшкевич был приглашен в цирк ставить елку, и после «бле-
стящего дебюта» на императорской сцене нам с Ремезом за-
казали сценарий. Благодаря этому я задержался в цирке на
целых шесть лет.
80
Записки старого сплетника
Георгий Семенович Венецианов — многолетний художест-
венный руководитель Ленинградского цирка — в юности был
гардемарином его величества Военно-морского флота. Закон-
чив какие-то курсы в Александрийском театре у Романа Бо-
рисовича Аполлонского, он играл героев в провинции, стал
заведующим литературной частью Ленинградского мюзик-
холла, где работал с Ильфом, Петровым, Катаевым, Маяков-
ским, режиссерами Гутманом, Феоной, Кавериным, актера-
ми Утесовым, Королькевичем, Рикоми, Копелянской,
балетмейстером Касьяном Голейзовским и иностранными
цирковыми номерами. Он любил этот период своей жизни,
много о нем рассказывал. Во время войны он преподавал во-
енные дисциплины в Морской академии, в 1944 году возгла-
вил Театр эстрады, а в 1946-м стал художественным руково-
дителем Ленинградского цирка, где работал до последнего дня
своей жизни.
Георгий Семенович носил специально сшитые длинные
сюртуки. Они очень шли к его высокой, стройной, несмотря
на возраст, фигуре. По национальности он был наполовину
немец, и это отражалось на его характере — педантичном, ак-
куратном до противности. В его кармане была толстая запис-
ная книжка, исписанная мельчайшим почерком. Напротив
номера телефона стояла фамилия, имя, отчество его владель-
ца, а также имена и отчества жены, тещи и детей. С ними он
обязательно здоровался, если не сам хозяин брал трубку. Ког-
да книжка была исписана до конца, он три-четыре вечера не
являлся в цирк, переписывая телефоны в новую, вычеркивая
ненужные. Другая книжка, написанная еще более мелко, бы-
ла для распорядка дня. Распорядок никогда не выполнялся.
На пятиминутное дело он тратил час, один визит налезал на
другой, в кабинете оказывалось до десяти человек, а Георгий
Семенович с волевым голосом не принимал ни одного реше-
ния. В цирк он являлся часам к двенадцати дня. В четыре-
пять уезжал домой. Обедал, спал. После сна он выпивал
огромную чашку чая с конфетами-леденцами и возвращался
в цирк в половине девятого, чтобы пробыть до половины пер-
вого — часа.
Программы при руководстве цирком Венециановым всегда
состояли из трех отделений и заканчивались не ранее две-
надцати — половины первого ночи. Георгий Семенович на-
81
Александр Белинский
зывал всех, в том числе и меня, семнадцатилетнего юнца, по
имени-отчеству и на «вы». Только Арнольд, режиссер Мос-
ковского цирка, в прошлом первый на русской эстраде ис-
полнитель танго, виртуозный бильярдист, блестящий предста-
витель театральной богемы, называл Венецианова на «ты» —
«Зора» (испорченное Жора). Арнольд из тридцати двух букв
русского алфавита не произносил тридцати четырех и изощ-
рялся в невероятной матерной ругани, дразня ею пуритански
настроенного Георгия Семеновича.
Венецианов, будучи человеком малоодаренным, беззаветно
любил искусство, и цирк в частности. Он мало что умел, но
делал все. Написав когда-то сценарий кинофильма «Четвер-
тый перископ» и пару пьес из военно-морского быта, он все-
рьез считал себя непризнанным драматургом. В понятиях дра-
матургии он застыл где-то на рубеже Первой мировой войны,
причем не заметив Чехова. Он знал сюжеты всех французских
скетчей и развлекательных пьес от Виктора Крылова до Па-
ньоля и Нивуа. Глубоко убежденный, что ничего лучшего вы-
думать нельзя, он всю жизнь переписывал эти сюжеты, при-
спосабливая к современной действительности, и приходил в
отчаяние, не находя сбыта. До конца дней наиболее совре-
менными артистами он считал старых провинциальных тра-
гиков Роберта и Рафаила Адельгеймов, в труппе которых иг-
рал в мелодраме «Казнь» Григория Ге.
В цирке он больше всего любил лошадей. Он организовал
конную студию, выпустившую группу жокеев Соболевских,
возродил прекрасные жанры конных па-де-де, па-де-труа, па-
де-катр. По его инициативе пошла по конвейеру высшая шко-
ла верховой езды. Организовался прекрасный конный аттрак-
цион Котовой и Ермолаева, кабриолет Рогальских, все новые
и новые комбинации свободной дрессуры выпускал Борис
Манжелли. Венецианов воспитал музыкальных эксцентриков
Тряпицына и Орлова, Амвросиеву и Смирнова, сделал из Вят-
кина и Бермана популярных коверных клоунов, вернул на ма-
неж водную пантомиму, создал медвежий цирк Валентина Фи-
латова. Масштаб проделанной им работы стал наиболее
ясен — увы! — так бывает всегда, особенно в России, — по-
сле его смерти. Ленинградский цирк стал показывать две про-
граммы в год, не выпустил в течение десяти лет ни одного но-
мера — короче, превратился в периферийную площадку в
82
Записки старого сплетника
хорошем помещении, выстроенном Чинизелли. Из венециа-
новских традиций уцелела только одна зимняя елка. На этом
поистине невероятном жанре, по сравнению с которым аб-
сурдный театр Ионеско и Беккета — бытовая история, — сто-
ит задержаться особо.
Елка — прекрасный праздник Рождества. Его отмечают
почти во всех странах Северного полушария. Аромат его пе-
редан в бесчисленных образцах русской литературы от «Дет-
ства, отрочества, юности» графа Льва Николаевича Толстого
до «Детства Никиты» графа Толстого Алексея Николаевича.
Революция ликвидировала елку, как праздник, несовмести-
мый с диктатурой пролетариата. В 1935 году нарком Посты-
шев вернул детям елку. Отлично помню, хотя мне было все-
го семь лет, огромную елку на площади Урицкого, ныне опять
Дворцовой площади. Рядом с елкой был огромный киоск в
виде головы брата Черномора из «Руслана и Людмилы», в нем
продавались елочные игрушки. Итак, в 1935-м Постышев раз-
решил елку, а в 1937-м он был расстрелян. Но елка осталась.
После окончания войны елка из праздника превратилась в
мероприятие, носящее официальное название «елочная кам-
пания». Зимние школьные каникулы до развития телевиде-
ния были единственным приличным источником дохода ак-
теров Москвы и Ленинграда. Деды Морозы и Снегурочки,
Бабы Яги и лисички-сестрички, плохие школьники Степки-
растрепки уже с октября месяца осаждали эстраду в поисках
елочного ангажемента. На пляжах Крыма и Кавказа еще в
июне и августе литературные разбойники заготовляли рифмы
для снежных монологов Деда Мороза и убойные репризы для
Серого Волка и Хромого Зайчика. С 1945-го по 1953 год я
имел честь принимать участие как автор во всех елках Ленин-
града, а с 1953-го по 1963 год ставил елочные представления
в различных домах культуры.
Елка для Венецианова была его «Гамлетом», его «Чайкой».
Действие, как правило, разворачивалось попеременно то на
манеже, то на сценической площадке под оркестровой рако-
виной. На Кировском заводе был изготовлен барабан диаме-
тром пять метров, в котором кольцами была уложена искус-
ственная елка двенадцатиметровой высоты. В этом хитром
изобретении лежало бесценное зерно разнообразных драма-
тургических конфликтов. Посреди манежа стоит круглый
83
Александр Белинский
предмет. Белый клоун убеждал недоверчивых ребят, что это
сугроб. Что в нем спрятано? Об этом, естественно, знает толь-
ко Дед Мороз. Но его нет. Где он? Собачка или медвежонок,
подманиваемые сырыми котлетами по двадцать пять копеек
штука на старые деньги, выносят на манеж письмо. Выясня-
ется, что в «сугробе» находится нечто, представляющее для
ребят несомненный интерес, но — увы! Ключи от сугроба по-
хищены. Кем?
...Имя нашего врага
Баба старая Яга...
Эта сакраментальная рифма десятилетия звучала на ленин-
градском манеже. Бабу Ягу, как правило, играл коверный кло-
ун. Но не одна древнерусская старуха представляла силы зла.
Лет семь-восемь верным помощником в ее кознях был некий
дядя Сэм — яркий представитель американского капитала. Он
ходил в цилиндре и в оклеенном долларовыми знаками смо-
кинге. Не говоря ни слова по-русски, он отлично понимал
Бабу Ягу, знание английского у которой было тоже весьма
спорным. Когда страна начала активно строить гидростанции,
затопляя деревни и создавая искусственные моря, Баба Яга и
дядя Сэм взяли себе в сотрудники злого Суховея. Мне до сих
пор неясно, почему этот зловещий символический житель
Средней Азии был так необходим в сценариях зимних елоч-
ных представлений в Ленинграде. Но он был много лет, и это
факт, а факты — упрямая вещь. (Кстати, эту знаменитую в те
годы фразу Сталина цитирует Воланд в «Мастере и Маргари-
те». Литературная загадка, над которой стоит задуматься.)
Но вернемся к сюжету елки. Суховей и дядя Сэм под ру-
ководством Бабы Яги прятали ключ от сугроба. Дядя Сэм с
помощью долларов пытался привлечь на свою сторону Петю
Кляксина, он же Ваня Неряшкин, он же Коля Двойкин, он
же Степа Растрепкин. Перемена имени и фамилии из года в
год не меняла основных черт характера этого второгодника из
четвертого «А» класса. Десять лет подряд этого обаятельного
кретина играл рыжий клоун Мозель. В дни последнего пред-
ставления ему было семьдесят два года. Славные пионеры, ро-
ли которых в разные годы исполнялись актерами Рэмом Ле-
бедевым, Адрианом Филипповым, Исааком Лурье,
режиссером Ефимом Падве, в белых рубашках (к концу «елоч-
84
Ian иск и старого сплетника
ной кампании» они основательно серели) и красных галсту-
ках в течение полутора часов боролись с Суховеем, Бабой
Ягой и дядей Сэмом за возвращение Деда Мороза и освобож-
дение Снегурочки (ее, как правило, превращали злые духи в
какого-нибудь зверя: зайца, собаку, енота или пони, в зави-
симости от номера дрессуры, участвующего в программе); пи-
онерам в их справедливой борьбе помогали акробаты, воль-
тижеры, канатоходцы, жокеи, занятые в представлении.
Мотивировки их появления по ходу сюжета были поистине
шекспировские.
Как известно, английский драматург был чрезвычайно «ще-
петилен» по части мотивировок. Это особенно заметно в его
известной трагедии «Макбет». Воины армии Макдуфа привя-
зывают к шлемам зеленые ветки, и Макбет убежден, что Бир-
намский лес двинулся на Дунсинан. Но великому Шекспиру
необходима еще более веская мотивировка гибели бессмерт-
ного Макбета. Ведь его не может победить тот, «кто женщиной
рожден». Выясняется, что матери Макдуфа делали кесарево
сечение и сам Макдуф был вытащен из чрева до срока, что и
дает ему полную возможность отсечь голову тирану Макбету.
Вот такой же убедительности были мотивировки в елках
Венецианова. Ключ от сугроба на Северном полюсе и полу-
голые всадники солнечной Туркмении несутся вокруг мане-
жа с дикими криками, якобы направляясь за Полярный круг.
Суховей забрасывает ключ под купол, и зять Брежнева — Ев-
гений Милаев — ставит на лоб огромный перш, по которому
лезут наверх его партнеры. Баба Яга уносит ключ за кольце-
вой мостик, и канатоходцы труппы Цовкра с балансом в ру-
ках ходят по канату взад и вперед. При этом было знамени-
тое двустишие, которое повторялось много раз и настойчиво
возвращало рассеянного детского зрителя к железному стерж-
ню сюжета:
В празднике не будет толка,
Если не зажжем мы елку...
Пионеры ловили Бабу Ягу:
Я целый час был Бабою Ягой,
Все от меня бежали без оглядки,
Теперь я снова стал самим собой —
Ваш старый друг, коверный клоун Вяткин.
85
Александр Белинский
С дядей Сэмом поступали хуже. Его «превращали» в кры-
су. Что же касается Суховея, то он улетал, оставляя неза-
конченной свою фабульную линию и делая заявку на елоч-
ное представление следующего года. Но вот гремели
фанфары, заколдованная Снегурочка сбрасывала медвежью
шкуру, становясь пожилой балериной в белой пачке, и по-
являлся Дед Мороз. Задача, стоявшая перед ним, была труд-
новыполнимой. В тридцати двух, максимум сорока восьми
строчках он должен был: а) вкратце обрисовать междуна-
родное положение; б) подвести итоги выполнения старого
года и заверить в приумножении успехов в году будущем; в)
отметить невероятные достижения великих строек комму-
низма, задержавшись подробнее на гидроэлектростанциях
страны; г) категорически отмести клеветнические утвержде-
ния о плохой успеваемости советских школьников; д) наме-
тить аспекты развития сельского хозяйства будущего года,
отведя особое место орошению засушливых районов стра-
ны, и, наконец, е) зажечь «елку», без которой, как утверж-
дали полтора часа подряд, «в празднике не будет толку...».
И все это, повторяю, надо было уложить в тридцать две —
сорок восемь строк, потому что утомленная детвора уже за-
нимала очередь в туалеты.
Надо отдать справедливость Деду Морозу — он справлялся
с этой труднейшей задачей всегда блестяще. Фамилия канц-
лера Федеративной Республики Германии Аденауэр имела же-
лезную рифму с фамилией Эйзенхауэр — президента Соеди-
ненных Штатов Америки. Две строчки — и с международным
положением все ясно. Рифмованный переход к внутренним
делам был прост и чист, как слеза ребенка:
Там, в Нью-Йорке, ералаш,
А мы строим Тах-я-Таш.
Среднеазиатский канал Тах-я-Таш после происков Суховея
особенно волновал Деда Мороза. Затем следовал небольшой
репризно-стихотворный сброс:
В Кара-Кумах без воды
Ни туды и ни сюды,
и дальше все текло как по маслу, «двойка» рифмовалась с
«тройкой», «верны» со «страны» (родительный падеж от сло-
86
Записки старого сплетника
ва «страна»), а три рифмы «народ», «вперед» и «Новый год»
давали завершающий эмоциональный аккорд. После этого
бразды правления на манеже снова брал на себя белый кло-
ун. Он провозглашал:
У нас устремляется ввысь
Времени быстрый полет,
Славой в веках отзовись,
Пятидесятый год!
Естественно, пятидесятый заменялся пятьдесят первым,
пятьдесят третьим, а если номер года не влезал в размер, то
говорилось:
Славой в веках отзовись
Новый победный год!
Год действительно был новым, а в его победности никто
не смел сомневаться. Новый год в костюме русского витя-
зя, крепко зажав лонжу в зубах, поднимался под купол, по
канату за ним влезала Снегурочка, и они вертелись в воз-
душном номере сколько положено, после чего белый клоун
орал снизу:
Шагай, не ведая невзгод,
За мир, за труд, за дружбу ратуй,
Наш молодой, наш славный год,
Наш Новый год — пятидесятый.
Эта прекрасная строфа имела один существенный изъян.
Она шла только четыре раза. «Ратуй» рифмовалось с «пяти-
десятый», «шестидесятый», «пятьдесят пятый» и «шестьдесят
пятый». В семидесятых Венецианова уже не было в живых, а
я не писал елок.
В чем заключалась так называемая режиссура Георгия Се-
меновича? Он распределял порядок мест действия на манеже
и сцене, учитывая возможности установки за это время цир-
ковой аппаратуры. Он учил текст с клоунами, которые, как
правило, были полуграмотны. Он долго и бессмысленно си-
дел с художниками и машинистами. Это было его любимое
занятие. Он, наконец, ставил свет. Все зрелища, поставлен-
ные им, были, как правило, громоздки, дорогостоящи и не-
вероятно затянуты. Но они были! По их следам другие дела-
87
Александр Белинский
ли новые аттракционы и номера, делали лучше, профессио-
нальнее, талантливее, но на основах, появившихся благодаря
титанической энергии Венецианова. Напомню еще раз: при
Венецианове появился «Медвежий цирк» Филатова, цирк на
льду Николаевых, конные пантомимы Манжелли, наконец,
новый аттракцион Кио. На последней фамилии необходимо
остановиться особо.
Советский зритель знал все! Он знал, как расщепить атом,
где находятся сверхсекретные локаторные установки, что со-
общит вечером радиостанция «Свободная Европа» и кто ста-
нет очередным мужем известной киноактрисы.
Но одного советский зритель разгадать не смог — как про-
исходят поразительные чудеса в иллюзионном аттракционе
Эмиля Теодоровича Кио. Куда деваются люди из больших и
маленьких ящиков, стоящих посреди манежа? Как оттуда по-
являются вереницы злых лилипутов обоего пола? (Лилипуты
всегда злые. Они злы на то, что они лилипуты.)
Ошибка советского зрителя весьма наивна. Он, советский
зритель, думал, что под опилками манежа находится сразу же
земная кора, затем жидкая раскаленная плазма и непосредст-
венно за ней земное ядро. Это не совсем так. Под опилками
манежа, между фановыми и водопроводными коммуникаци-
ями, идет горизонтальный люк, по которому, слегка согнув-
шись, может пройти человек и выйти за кулисами у форган-
га. Что касается злых лилипутов, то они проходят, естественно,
даже не пригибаясь, но требуя тем не менее денег за вред-
ность работы. В полу в центре манежа есть вынимающаяся
половица. Вот и вся загадка Кио. Других загадок до 1956 го-
да у Кио не было.
Кио начинал с четырьмя ящиками иллюзионной аппарату-
ры и великолепным знанием рекламного дела. В 1940 году в
Ленинграде появились афишные ленты: «Скоро Кио!» Еще
через неделю: «Едет Кио!» На третью неделю: «Кио на гори-
зонте!» И в конце месяца, в восточном халате и чалме, с се-
мьюдесятью пятью ассистентами (об этом тоже сообщалось в
афишах), под музыку персидского марша, выходил на манеж
сам маг и волшебник.
В 1947 году Кио скинул восточный халат, надел черный
фрак и включился в беспощадную борьбу, которую вел совет-
ский цирк с международным империализмом.
88
Записки старого сплетника
Цирк боролся с империализмом открыто, без каких бы то
ни было там подтекстов, не прибегая к акварели или пасте-
ли, действуя «весомо, грубо, зримо». Вещи назывались сво-
ими именами. Если, например, хотели разоблачить лакей-
скую сущность председателя Коммунистической партии
Югославии Иосипа Броз Тито, то клоун Борис Вяткин на-
клеивал на подметки сапог куски чайной колбасы, надевал
на голову цилиндр, а дворняжка Манюня с югославской ка-
скеткой на мордочке эту колбасу слизывала. «Вот так лакей
Тито лижет пятки Уолл-стриту», — комментировал эту изящ-
ную репризу шпрехшталмейстер Роберт Михайлович. Автор,
Яков Грей, получив шестьсот рублей старыми деньгами, про-
пивал их в ресторане «Восточный», а публика, испуганно по-
глядывая друг на друга, вежливо аплодировала. Надо отдать
должное публике — аплодисменты эти никогда не перехо-
дили в овацию. С героем французского Сопротивления ге-
нералом Шарлем де Голлем обходились еще проще. Влади-
мир Григорьевич Дуров выводил на манеж верблюда в шляпе
и, когда под щелканье шамбарьера верблюд шел по кругу,
звонким голосом, поставленным еще в студии Мейерхольда
(где он был подающим надежды актером Володей Шевчен-
ко, но, как говорят, по личному распоряжению Сталина пре-
вратился в дрессировщика Владимира Дурова), восклицал:
Вы посмотрите только, сколь
надут и важен мсье де Голль!
Это «очаровательное» двустишие принадлежит Владимиру
Полякову — ветерану отечественной сатиры.
Но был политический деятель, с которым советский цирк
имел, по-видимому, особые личные счеты. Не было пред-
ставления, клоунады, программы коверного, стихотворного
пролога, где бы он не упоминался. Его изображали все буль-
доги и боксеры города, хозяйки которых на гонорары за вы-
ступления своих собак шили котиковые манто. Этим поли-
тическим деятелем был премьер-министр Англии Уинстон
Черчилль.
Именно за смелое и высокохудожественное изображение
Черчилля Кио получил звание заслуженного артиста. Фокус
строился следующим образом: под рев оркестра вывозили
большую клетку, в нее запихивали английского рабочего в ко-
89
Александр Белинский
стюме французского докера. Докеры были тогда почему-то
очень модны и символизировали революционные силы лю-
бой капиталистической страны. Перед клеткой появлялся ста-
рый толстый харьковский еврей Григорий Львович Рашков-
ский в фуражке английского премьер-министра. За позор он
получал так называемые «полпалки», то есть половину кон-
цертной ставки, к своему основному номеру сатирических
куплетов, которые в первом отделении пел с Николаем Ани-
симовичем Скаловым. Чтобы Скалову не было обидно, ему
дали за «четверть палки» роль английского рабочего. Итак,
Рашковский — Черчилль вешал на клетку большие замки. Пы-
лали факелы, зловеще гремел оркестр. Сочувственно настро-
енной к несчастному рабочему публике предлагали проверить
крепость замков. Замки, конечно, были закрыты надежно.
Рашковский — Черчилль уходил с манежа, удовлетворенно
потирая руки, попыхивая сигарой и бормоча по-английски
нечто неприличное, начинающееся на букву «х». За занаве-
сом он стремительно, насколько позволяли его возраст и ком-
плекция, мчался к люку. Из-под купола опускалась черная
тряпка, накрывавшая клетку. Кио стрелял из пистолета. Тряп-
ка взмывала вверх, и в клетке метался и потрясал кулаками
Черчилль — Рашковский, а улыбающийся рабочий-докер
Скалов благодарил Кио-освободителя. «Вот так и будет на-
всегда», — хрипящим голосом давал Кио торжественное обе-
щание и начинал доставать из многочисленных ваз бесконеч-
ное количество белых голубей. Голуби, засидевшись в вазах,
усиленно гадили на манеж. Все это должно было символизи-
ровать мир во всем мире.
Клоуны-буфф Демаш и Мозель, Ролан и Дубино, братья
Лавровы, Ротмистров и Михайлов решали дело проще. Они
говорили две-три репризы про Трумэна, Аденауэра и обяза-
тельно — про Черчилля и Тито. Без Тито выход на манеж и
эстраду для сатириков был вообще закрыт. Потом они, доб-
родушно посмеявшись над продавцами пива и количеством
пены в этом пиве, как высшую точку так называемой сатиры
(на внутреннюю тему) упоминали дворников, недостаточно
радиво убирающих на улице снег. Отговорив все, что им на-
писали Грей, Гальковский, Громов, Милич, Ворончук и Гри-
горий Дрейден, клоуны лихо разыгрывали «Бокс», «Воду»,
«Шапки», «Отелло», «Вильгельм Телль», «Концерт» и другие
90
Записки старого сплетника
зоологически смешные клоунады, сочиненные задолго до
Аристофана и описанные подробно всеми цирковедами от
братьев Гонкур до Евгения Кузнецова.
На фоне всей вышеописанной абракадабры появилась
действительно смешная пантомима под названием «Малень-
кий Пьер». Сюжет: французский мальчишка, «гамен», как
по-иностранному величали его в программках, расклеивает
листовки, призывающие недальновидных французов бороть-
ся за мир. Его ловят два полисмена, естественно представ-
ляющие из себя образцы идиотизма на его последней ста-
дии. Конечно же поймать потомка Гавроша они не могут, а
ловят друг друга, падают, колотят один другого резиновыми
дубинками и под музыку уходят с манежа с изображением
голубя Пабло Пикассо, наклеенным пониже спины. Этот не
очень психологически сложный сценарий был поставлен
учеником Мейерхольда Марком Соломоновичем Местечки-
ным без единого слова, с массой пластических трюков, точ-
но под музыку. Прелестно играл мальчишку девятилетний
Стасик Запашный, ныне народный артист, превосходный
гимнаст. Хорошо подыгрывал высокому полицейскому его
худенький партнер. Сам высокий полицейский в маске пред-
ставлял собой явно незаурядную фигуру в смысле умения
смешить.
Я не знал этого молодого артиста и понял масштаб его та-
ланта только во втором отделении. Именно там цирковая
программа обычно двигалась по хорошо накатанным рель-
сам. В первом отделении цирк воспевал нашу действитель-
ность. Делалось это с помощью стихотворного пролога, на-
писанного Всеволодом Азаровым (как правило) или
Владимиром Лившицем (как исключение). Обычно пролог
читали студенты Театрального института Яков Хамармер и
Лев Милиндер. На кольцевых мостиках зажигались макеты
великих строек коммунизма, и в конце, когда глаголы «вста-
ли» или «стали» или родительный падеж от существитель-
ного «сталь» — «стали» вызывали логическое появление риф-
мы «Сталин», — включались особые лампы, и на ковре
светящиеся краски обрисовывали чеканный силуэт профи-
ля с усами. Повторяю, все это было в первом отделении, а
в третьем Кио должен был подвести черту под всеми меж-
дународными проблемами. Второе отделение, таким обра-
91
Александр Белинский
зом, было вроде идеологического антракта. И вот тут, после
конного номера группы Соболевских с участием поразитель-
ных жокеев Тамары Рокотовой и Глеба Лапиадо, на манеж
выходил зритель в кепке. Я ручаюсь, что ни один человек не
мог предположить, что это подсадка. Коричневое зимнее
пальто, длинный шарф, валенки. Улыбочка на лице свиде-
тельствовала, что в голове гражданина среди незначительно-
го количества серого вещества затерялась одна маленькая
худосочная извилина. Он хотел покататься на лошадке. Он
садился на нее задом наперед. У него сваливались валенки.
Он волочился за лошадью по манежу, держа ее за хвост. И в
довершение всего, когда изнемогавший от смеха зрительный
зал начинал плакать и бессильно стонать, он летел над ло-
шадью, повиснув на лонже, все с той же улыбкой полного
идиотизма, которой могли бы позавидовать и Иосиф Швейк,
и его создатель Ярослав Гашек. Ни до, ни после, ни в цир-
ке, ни в кино, ни в театре, ни на эстраде я не видел ничего
более смешного. Клоуном этим был Юрий Никулин, чело-
век, чье имя ныне не нуждается в расшифровке.
Пожалуй, рядом, именно рядом, не больше, находилась еще
клоунада узбекского комика Акрама Юсупова, который шлял-
ся на четырехметровой высоте по туго натянутому канату взад
и вперед, получая десятки подписей на бюллетень. Позже я
узнал имя автора канатной клоунады. Ее придумал большой
поклонник Юсупова Леонид Осипович Утесов. Вот, пожалуй,
и все завоевания цирка в области смеха до 1956 года.
Но вернемся к Кио. Советский зритель, получивший в
свое распоряжение телевидение, осознав, что кибернетика
не является буржуазной лженаукой, освоив космос и гото-
вясь связаться с иноземными цивилизациями, разгадал тай-
ну циркового трюка. У Кио упали сборы. Но блистательный
иллюзионист не сдался. Он поставил перед советскими зри-
телями новую загадку. Так и не разгаданную публикой до
смерти Кио.
Кио пригласил двойняшек. Две пары девушек и одна па-
ра мальчиков. Одни исчезали в люке, другие тут же возни-
кали под куполом. Одни улетали под купол, другие момен-
тально вылезали из ящиков. Советский зритель растерялся.
Никакой люк не мог обеспечить такой быстроты исчезнове-
ния и появления. Причем комбинации, как всегда у Кио, бы-
92
Записки старого сплетника
ли ошеломляюще разнообразны. Потрясенный советский
зритель опять повалил в цирк. У зрителя не возникало ни-
каких ассоциаций. Он забывал о двойниках братьях Васю-
тинских, которых видел накануне на эстраде, о кинокарти-
не «Железная маска», где у Людовика Четырнадцатого были
такие неприятности из-за сходства с братом Филиппом; на-
конец, об одной из самых бессовестных пьес Шекспира «Ко-
медия ошибок», где как две капли воды друг на друга похо-
жи два господина Антифола и оба их слуги Дромио. Всего
этого, повторяю, зритель не помнил и клюнул на фокус Кио.
А Эмиль Теодорович потерял бдительность. Он снял с рабо-
ты родного брата, инженера, который за 1200 рублей в ме-
сяц старыми деньгами строил подводные лодки, дал ему став-
ку 2000 рублей и заставил сидеть в номере, нигде не
появляясь, чтобы не обнаружили сходства с ним, с Кио. Ве-
чером брат проваливался в люк, а Кио тут же торжественно
появлялся в оркестровой раковине. Но знаменитый иллюзи-
онист просчитался. Брат был недостаточно похож. Они все-
таки не были близнецами, как Менехмы в популярной ко-
медии Плавта. Советский зритель, готовившийся к первому
полету на Луну, разобрался, в чем дело. Кио умер. Да, да —
умер физически. Брат его снова строит подводные лодки, а
сыновья — Эмиль и особенно Игорь — блестяще продолжа-
ют дело своего знаменитого отца.
В конце этого антилирического отступления нельзя также
обойти вниманием общий финал борьбы цирка с междуна-
родным империализмом. Произошло это событие следующим
образом. Уже упомянутые Рашковский и Скалов получили
новые антиимпериалистические куплеты от молодого стихо-
творца Марка Гуревича, который под псевдонимом Яковлев
нанес удар по Соединенным Штатам Америки куплетами, где
заканчивал перечисление американских деятелей следующим
лихим четверостишием (привожу дословно):
Все, кому нужна война,
Знают эти имена:
Дьюи — имя, Трумэн — имя,
Ну и Херст, конечно, с ними.
Джон Херст в то время был крупнейшим магнатом амери-
канской печати. Строка «Ну и Херст, конечно, с ними» — вы-
93
Александр Белинский
зывала в зрительном зале мгновенное оцепенение, а затем раз-
ражалась буря. Услышав родное сочетание букв, да еще в по-
литических куплетах, публика плакала от восторга. Люди хри-
стосовались, обнимали друг друга, как в Вербное воскресенье.
Рашковский и Скалов, скромно потупившись, принимали по-
здравления. Стихотворец Марк Яковлев был завален заказа-
ми. Как триумфаторы, старые куплетисты выехали покорять
Московский цирк. На премьере там присутствовала первый
секретарь Московского обкома Екатерина Алексеевна Фурце-
ва. Знаменитая строфа произвела на нее другое впечатление.
На следующий же день Рашковский и Скалов выехали в Харь-
ковский цирк петь «Дивлюсь я на небо тай думку гадаю», а
советский цирк дал мировому империализму временную пе-
редышку.
Советский балет тоже боролся за мир всеми доступными,
вернее, недоступными ему средствами. «В порт вошла «Рос-
сия» — так назывался балет замечательного нашего песенника
Соловьева-Седого. Я не берусь пересказать сюжет этого чудо-
вищного произведения. А еще были «Родные поля» (музыка
Червинского) в постановке Андреева. Действие происходило в
колхозе. Помню только, что Дудинская широкими жете по кру-
гу гасила пожар на пшеничном поле. Даже тогда, несмотря на
«значительность» темы, балет ругали, хотя на сцене танцевали
(вернее, изображали танец) «советские люди».
И все-таки балет, как никакой другой вид сценического ис-
кусства, с наименьшими потерями вышел из этих страшных
лет идеологического мракобесия. Уж очень у него был боль-
шой запас сил. Уж очень велик был творческий потенциал ма-
стеров русской хореографии.
Я не могу сказать определенно, почему так заинтересовал
меня в 1946 году классический балет. Кое-что я видел и рань-
ше. Будучи театралом в детстве, читая афиши, покупая про-
граммки, я, конечно, знал имена Улановой, Дудинской,
Вечесловой, Иордан, Сергеева, Чабукиани и других, состав-
ляющих славу довоенного ленинградского театра. Более
того, я их видел на сцене. Во время войны в Свердловске —
Балабину и Зубковского в «Дон Кихоте». Видел я и «Спя-
щую красавицу», и «Щелкунчика», и «Сказку о попе и ра-
ботнике его Балде» в Малом оперном театре. Видел, но ко-
го и как видел — вспомнил позднее. Отчетливо, но позднее.
94
Записки старого сплетника
Почему я, будучи студентом второго курса режиссерского
факультета, попросился на практику в балет Кировского те-
атра? Не знаю. Наверное, на репетициях драматического те-
атра мне становилось скучно. Хотелось это сразу сделать са-
мому. Да и потом, мне никогда не нравилось смотреть чужие
репетиции или киносъемки. Балетный же урок или процесс
сочинения танца балетмейстером и усвоение его артистом
являются прекрасным, ни с чем не сравнимым зрелищем. В
1946 году первые репетиции в Большом зале хореографиче-
ского училища меня просто потрясли.
Балет Кировского театра репетировал тогда на улице Рос-
си. В театре еще не был встроен пятиэтажный флигель вдоль
Крюкова канала, где сейчас находятся Малая сцена и пять ре-
петиционных залов. Балетная репертуарная контора помеща-
лась тоже на улице Росси, вход со двора, на втором этаже. А
рядом с ней была квартира, где жил балетмейстер Федор Ва-
сильевич Лопухов.
На лестнице меня впервые увидел только что назначенный
худруком балета Кировского театра Петр Андреевич Гусев. На-
значен он был именно вместо Лопухова, выпустившего пер-
вую послевоенную премьеру — «Весенняя сказка» на музыку
Чайковского.
Петр Андреевич Гусев, посмотрев бумажку из института,
которой я запасся, разрешил мне «созерцательную практи-
ку». Итак, с восемнадцати до двадцати двух лет я не пропу-
стил ни одного дня, подчеркиваю, ни одного, чтобы не по-
бывать на репетиции или уроке балетной труппы Кировского
театра.
Первую вечернюю репетицию (я пошел на нее тут же) вел
Гусев. Сначала репетировался татарский танец из возобнов-
ляемого «Бахчисарайского фонтана». Было три исполнителя
роли Нурали. Они прыгали по диагонали, а присевший на
пол кордебалет стучал кнутами. Сначала прыгал Фидлер. Он
прыгал высоко, зависал в воздухе. Ясно было, что премьеру
будет танцевать он. Партия станцована еще до войны. Пры-
жок — его главный козырь. Он это знал. Потом танец про-
ходил Гербек. Очень могучий, очень тяжелый. Он станцевал
Нурали один-два раза и отошел от партии. Третьим прыгал
молодой парень в невероятно рваных старых шароварах. И
прыжок не очень большой, и лицо некрасивое. Он только что,
95
Александр Белинский
шепнул мне Гусев, выучил порядок движений. Смысл танца,
неистовство татар-победителей, темперамент их военачальни-
ка Нурали (надо учесть, что спектакля я не видел, даже не
знал, для кого танцует Нурали: исполнителя партии Гирея не
вызвали на репетицию, место, где он сидит, было обозначе-
но стулом) — все мне стало ясно после того, как номер про-
шел этот исполнитель. Так я впервые увидел Игоря Дмитри-
евича Бельского, прекрасного характерного танцовщика, в
будущем — балетмейстера. Григорович и Бельский своими
первыми постановками открыли новый этап в развитии оте-
чественного балетного театра, но тогда, в 1946 году, до этого
было еще далеко.
На следующий день я пошел на постановочную репети-
цию балета «Татьяна». Музыка Крейна, ставил спектакль
Владимир Павлович Бурмейстер, оформляла Валентина Ми-
хайловна Ходасевич. «Татьяна» требует отдельного рассказа.
А сначала о неповторимой атмосфере жизни балетной труп-
пы тех лет.
Большой репетиционный зал находился на третьем этаже
училища на улице Росси. Вход был и через училище и через
двор. Зал был, — впрочем, почему я пишу «был», он есть и
сейчас, совсем такой же, только снесли печку, возле кото-
рой всегда стояла лейка с водой и ящик канифоли. Но те-
перь в этом зале ведет уроки с выпускными классами Ду-
динская, а тогда, в сорок шестом, проводила занятия
Ваганова и шли все большие массовые репетиции с утра до
позднего вечера. Я смотрел эти репетиции или сидя возле
зеркала, если репетировали Гусев или Бурмейстер, или с хо-
ров наверху, когда репетиции вели Вайнонен, Захаров, Сер-
геев, Пономарев.
То, что сделал Гусев за несколько лет руководства балетной
труппой после войны, нельзя недооценивать. Премьеры: «Та-
тьяна» — Бурмейстер, «Милица» — Вайнонен, «Шурале» —
Якобсон, «Красный мак» — Захаров, «Раймонда», «Лебединое
озеро» — Сергеев. Возобновления: «Ромео», «Фонтан», «Эс-
меральда», «Баядерка». Все это за три-четыре года. И вывел
на сцену Зубковскую, Ястребову, Моисееву, Осипенко, Тимо-
фееву, Брегвадзе, Макарова, Григоровича, Бельского при тан-
цующих в полную силу Дудинской, Вечесловой, Шелест, Ки-
рилловой, Балабиной, Сергееве, Зубковском.
96
Записки старого сплетника
Сорок седьмой, сорок восьмой годы — годы блестящего гу-
севского руководства, звездные годы ленинградского бале-
та — заслуживают глубокого изучения театроведами.
Сорок шестой был, выражаясь по-балетному, «препарасьо-
ном» к этому взлегу. И все же...
В Большом зале филармонии был вечер Леонида Якобсо-
на. Ленинград увидел неведомые ему номера: «Охотник и пти-
ца», «Слепая», «Жмущая туфля»... Кажется, Якобсон поста-
вил их в годы войны для Лепешинской и Гусева. На этот раз
Лепешинская танцевала с Преображенским. Ленинград не ви-
дел балерину, как говорится, «с до войны», когда однажды она
станцевала «Дон Кихота» с Асафом Мессерером на Киров-
ской сцене. Старый балетоманский Ленинград не жаловал
москвичей. На этот раз успех Лепешинской и Якобсона был
ошеломляющим. Бриллианты якобсоновской хореографии
были станцованы и сыграны с непривычной для Ленинграда
раскованностью. В отличие от Дудинской Лепешинская не
подавала свою виртуозную технику. Она танцевала так, что
создавалось впечатление, что не танцевать она не может. Го-
ловокружительный вальс Штрауса с немыслимыми поддерж-
ками балерина бисировала дважды. Но высшей точкой вече-
ра был номер «Жмущая туфля» на музыку Терещенко. Буду
откровенен. Без этой миниатюры мне не пришла бы, спустя
четверть века, мысль сделать хореографическую версию «Пиг-
малиона». Якобсон поставил, а Лепешинская станцевала то,
что по обычной логике не ставится и не танцуется. Женщи-
на не может танцевать, потому что ей жмет туфля. И на эту
тему виртуозный танец. Много позже Якобсон создал траги-
ческую версию танца хромой женщины в балете «Страна чу-
дес». И опять шедевр. Не в этой ли парадоксальности выбо-
ра темы для танца — хореографический талант Якобсона? Не
на этом ли пути — будущее балетной драматургии? Стоит по-
думать.
А Ольга Васильевна с 1946 года не танцевала в Ленингра-
де ни разу. Это горько. А еще обидно, что Лепешинская до
сих пор никому не передала хореографический текст «Жму-
щей туфли». Сколько интересных номеров мы теряем...
Вторым событием года был приезд Вахтанга Чабукиани.
Труппа Кировского театра не то что любила Чабукиани — она
его боготворила. С полной ответственностью за свои слова
97
4 Записки стапого сппртиы
Александр Белинский
утверждаю, что ни один балетный артист не пользовался та-
ким обожанием своих ревнивых коллег, как Вахтанг Чабуки-
ани в Ленинграде. Его любили и Каплан и Зубковский, его
ревновали друг к другу Дудинская, Вечеслова и Иордан, им
восхищалась Уланова, его обожали Ваганова, Пономарев, Ло-
пухов. После войны он возобновил «Лауренсию», но сам не
танцевал, болела нога. Потом он снялся в отрывках в «Пла-
мени Парижа», переставив все опорные движения на здоро-
вую ногу. Фильм вышел скверным. А тогда он приехал ста-
вить танцы в «Кармен» и должен был станцевать «Жизель» с
Улановой и «Дон Кихота» с Лепешинской. Обе не приехали,
и Чабукиани выписал из Тбилиси Веру Цинадзе. А в ожида-
нии ее приезда выступил в «Баядерке» с Дудинской. Вечера-
ми в шестом, самом маленьком репетиционном зале Аскольд
Макаров, только что дебютировавший в партии Солора, по-
казывал Чабукиани «порядок» балетных движений (какое хо-
рошее название хореографического языка — «порядок»! От-
куда оно? Кто придумал?).
И вот Гусев назначил сводную репетицию всего спектакля
«Баядерка» в Большом репетиционном зале. Вся не занятая в
прогоне труппа сидела на полу, возле стен, под балетными
палками. Хоры были заполнены учениками хореографическо-
го училища, как лоза гроздьями созревшего винограда. Гусев
никого не выгонял. Прекрасная традиция! Сколько она пода-
рила незабываемых минут зрителям, будущим профессиона-
лам! Только Уланова, когда приезжала, никого не допускала
на свои репетиции.
Итак, начался прогон «Баядерки». Мы втроем — Брегвад-
зе, Григорович и я — заняли лучшие места на хорах, над зер-
калом. Чабукиани волновался неистово. Все это видели. А
он пытался обмануть всех и себя в первую очередь. Дудин-
ская — полная хозяйка репетиционного зала, последняя рус-
ская прима-балерина — трепетала перед своим бывшим
партнером. Как всегда, она проходила все в полную силу, а
когда дело доходило до верхних поддержек, робко спраши-
вала Чабукиани: «Будем делать?» — а тот не отвечал и ниче-
го не делал. Он изображал, что не помнит порядок, ирони-
чески посмеивался над старомодной пантомимой, над
Михайловым, рвавшим страсть в клочья, изображая неуто-
мимые страдания Великого Брамина. Начался прогон вто-
98
Записки старого сплетника
рого акта с классическим па, поставленным перед войной
самим Чабукиани, причем поставленным превосходно, с
тончайшим ощущением стиля великого Петипа. Зубковский
по примеру Чабукиани обозначил вариацию Золотого бож-
ка взмахами рук, молодая Ястребова, которой труппа инте-
ресовалась на этой репетиции так же мало, как Дудинской,
старалась изо всех сил. А Чабукиани вдруг, сам того не за-
метив, сделал изумительное шене с фантастической по кра-
соте и четкости остановкой. Все затаили дыхание. Ястребо-
ва станцевала вариацию. Гусев поставил ей новую, очень
сложную редакцию, и Нонна исполнила вариацию превос-
ходно. И труппа зааплодировала, как бы подначивая Чабу-
киани. Тот взял в руки лук и замер сам, как натянутая тети-
ва. Прыжок!.. Чабукиани отшвырнул лук и закричал: «Это
не тот лук, совсем не тот!.. Простите!.. — извинился он пе-
ред артистом, которому лук ушиб ногу. — Еще раз!» Он обо-
значил первую часть руками и крикнул Павлу Эмильевичу
Фельдту, чудесному дирижеру, сидевшему возле рояля: «Что,
и оркестр будет так играть? Мне приходится ждать! Со вто-
рой части!..» Он замер у зеркала перед носом Гусева. И тут
кто-то прокартавил у меня над ухом: «Юра, Боря (Григоро-
вичу и Брегвадзе), смотрите! Что сейчас будет!» За нашей
спиной стояла Ваганова. И Вахтанг увидел ее. Два балансе
с руками, распахнутыми, как крылья. Перекидное. Пируэт.
Нога застывает в арабеске и, не касаясь ею пола, он опять
делает пируэт. Потом пробежка перед третьей частью, никто
не умел так превращать пробежки между частями в класси-
ческих вариациях в танец, как это делал Чабукиани. И же-
те, жете по кругу, двойной сотбаск с подогнутыми обеими
ногами, по-восточному прижатыми к плечам руками, и еще
и еще раз по кругу в бешеном темпе, а потом шене в дру-
гую сторону, двойной тур в воздухе и эффектнейшее паде-
ние на одно колено с последним аккордом музыки.
Боже, какая овация! Как орала труппа, влюбленная в сво-
его вернувшегося кумира. «Браво!» — картаво резюмировала
Ваганова. Когда она спустилась в зал, Чабукиани поцеловал
ей руку, он целовал руку только Вагановой. Она чмокнула его
в мокрый затылок. Чабукиани репетировал в берете и снимал
его по окончании вариации. Молодой Григорович на следу-
ющий день купил берет и всю свою недолгую актерскую жизнь
99
Александр Белинский
репетировал в берете, якобы придерживающем его красиво
рассыпающуюся шевелюру.
Как покоряюща была разноцветность балетных репетиций!
До первой зарубежной поездки и появления черной унифор-
мы русские балерины репетировали в хитонах. Причем у каж-
дой балерины был свой цвет. У Дудинской — желтый, у Ше-
лест — голубой, у Вечесловой — темно-красный; Уланова тоже,
помню, репетировала в желтом, но оттенок цвета был иной,
чем у Дудинской. На прогоне возобновляемой «Баядерки» Ве-
чеслова — Гамзатти знаменитую пантомимную сцену двух со-
перниц репетировала в длинном черном хитоне до пят, а Ду-
динская — почему-то в синем. Короче, каждая балетная
репетиция в Большом репетиционном зале на улице Росси бы-
ла спектаклем, и каким! А балетмейстеры в пижамах! Бурмей-
стер в полосатой, Фенстер в одноцветной, Якобсон в белой,
всегда грязной, и Вайнонен в футболке и шароварах. А как
неожиданно заполнялись хоры перед репетицией какой-то
виртуозной вариации или нового адажио, причем непонятно,
как и откуда узнавали ученики хореографического училища о
времени и месте проведения интересующей их репетиции...
Ведь расписание висело с другой стороны зала, вход со дво-
ра, куда ученики не допускались. Но они все знали, все смо-
трели и, может быть, благодаря этому становились артистами.
С одиннадцати до двенадцати в Большом репетиционном
зале давала свои уроки Агриппина Яковлевна Ваганова. Ког-
да она входила в зал, все уже стояли у палки, и только Ду-
динская опаздывала минимум на пять минут. Я сам видел, как
в семьдесят лет раздраженная кем-то Ваганова сделала чисто
два тура в четвертую, и весь класс аплодировал. Авторитет ее
был непререкаем, дисциплина в классе строжайшая. Я нигде
не видел такого проявления человеческого характера, как на
уроке Агриппины Яковлевны.
Батман-тандю
Наталья Михайловна Дудинская делает батман-тандю чет-
ко, строго, в полную силу. Внутренняя задача: разогреть мыш-
цы, сделать все безукоризненно для предстоящей репетиции,
для будущего спектакля, где надо иметь грандиозный, имен-
но грандиозный успех.
100
Записки старого сплетника
Алла Яковлевна Шелест делает батман-тандю очень краси-
во. Сама себя контролирует, вкладывая в каждое движение
некое содержание, глубокое, понятное только ей. Она ни на
секунду не позволяет себе забыть, что она большой, глубокий
художник.
Татьяна Михайловна Вечеслова делает батман-тандю не-
брежно, грязно, но зато сколько мимики, сколько игры! Вот
батман-тандю Эсмеральды, вот Заремы, вот Паскуалы. Все
окружающие должны видеть и восхищаться ею прежде всего
как актрисой. Изумительной актрисой!
Ольга Генриховна Иордан делает батман-тандю совсем пло-
хо! Ей давно нельзя выходить на сцену и стоять у палки. И
при этом она все время ворчит: «В классе Вагановой никто
не умеет делать батман-тандю».
Уроки и репетиции в балетном зале на улице Росси пода-
рили мне незабываемые часы приобщения к великому искус-
ству хореографии. Петр Андреевич Гусев, Юлий Осипович
Слонимский, Владимир Павлович Бурмейстер, Василий Ива-
нович Вайнонен, Константин Михайлович Сергеев, Наталья
Михайловна Дудинская — все они не только отвечали на мои
бесчисленные вопросы, но показывали (и как показывали!)
движения, комбинации, фрагменты танцев из балетов, кото-
рых я не видел.
А вечера в квартире на Бородинской улице у несравнен-
ной Татьяны Михайловны Вечесловой, актрисы, поэта, в до-
ме которой я видел Ахматову, Раневскую, Ходасевич, Анд-
ровскую!..
Общение с Татьяной Михайловной Вечесловой дало мне
в первую очередь приобщение на всю жизнь к искусству
Терпсихоры. Я нарочито выразился так высокопарно, чтобы
подчеркнуть всю будничность, весь пот в буквальном и пе-
реносном смысле слова, все ни с чем не сравнимые физиче-
ские и нравственные муки творчества сочинителей и испол-
нителей больших и маленьких балетов, хореографических
миниатюр и концертных номеров. Первая же постановочная
репетиция, на которой я присутствовал, ошеломила меня
прежде всего именно затратой физических сил. Мне показа-
лось, что занятые в репетиции артисты должны немедленно
уйти в месячный (минимум!) отпуск, а балетмейстер перед
сочинением следующего фрагмента — на неделю уехать за
101
Александр Белинский
город. Но вот кончилась трехчасовая дневная репетиция, и
через два с половиной часа началась следующая — с теми же
исполнителями. Вот уже сорок с лишним лет я посещаю ба-
летные репетиции, но по-прежнему не перестаю удивляться
выносливости, неутомимости балетных артистов! А мои свер-
стники — балетные репетиторы!.. А педагоги хореографии
старше меня на десять, пятнадцать лет, по полсуток не вы-
ходящие из репетиционных залов! Подвижники! Другого сло-
ва не подобрать.
Но вернусь к тем первым репетициям. Ставился балет «Та-
тьяна». В главной роли — Вечеслова. Ее имя Татьяна и ста-
ло названием балета. Композитор Крейн — автор знамени-
той «Лауренсии» — написал музыку «Дочери народа» (так
назывался балет в московской редакции), достаточно иллю-
стративную, но примитивно-мелодичную, а главное — дан-
сантную, по уверенным рецептам Минкуса и Пуни. До сих
пор, смотря и слушая «Баядерку» или «Дон Кихота», я не уве-
рен, что это плохо. Либретто «Татьяны» сочинил Месхетели,
в то время работник Комитета по делам искусств (как стран-
но звучит это сегодня — «дела искусств»). Потом Месхетели
был несколько печальных для МХАТа лет его директором,
потом вернулся в родной Комитет, ставший к тому времени
Министерством культуры. Либретто «Татьяны», насколько я
знаю, его единственное литературное произведение. Либрет-
то примитивное, с неубедительными мотивировками, мело-
драматическое. Персонажи выстроены по законам моей лю-
бимой венской оперетты. Герой — героиня, Татьяна — Игорь,
а рядом каскадная пара: Наташа — Николай. Мнимая гибель
героя, страдания героини, «воскрешение» героя, хеппи-энд
и танцевальный дивертисмент в финале на фоне панорамы
восстанавливаемого Петергофа, двигающейся на барабане,
как в «Спящей красавице». Все весьма стереотипно, а по
сегодняшним меркам — даже смешно, но... Вот этому-то «но»
и была посвящена первая постановочная репетиция Бурмей-
стера.
В либретто значилось: «допрос Татьяны». Мотив, навеян-
ный историей Зои Космодемьянской — прототипа героини
балета. Допрос — явно нетанцевальное действие, но именно
здесь родилось прекрасное образное хореографическое реше-
ние. При этом я и присутствовал. Бурмейстер приходил на
102
Записки старого сплетника
репетицию абсолютно подготовленным. Тщательность под-
готовки объяснялась конечно же еще и тем, что это был де-
бют балетмейстера в прославленной труппе, отнюдь не все-
гда радушно встречавшей иногородних, в особенности
москвичей. У Владимира Павловича был разработан весь по-
рядок движений. Он почти ничего не менял во время репе-
тиций, почти не позволял себе импровизировать. Так же ра-
ботают Сергеев, Касаткина, Брянцев, Виноградов, и прямо
противоположно — Григорович, Васильев, особенно Якоб-
сон, решая все на репетиции в совместных поисках с акте-
рами. Пластическое решение допроса было таким: Татьяна
стоит в центре. Руки по швам, кулаки сжаты. Лицом к де-
вушке — четыре рослых фашиста с заложенными за спину
руками. Мизансцена — квадрат. В центре — «допрашивае-
мая». Одновременный синхронный удар ногой, фляк, еще и
еще «удары» четырех фашистов, стоящих на расстоянии от
жертвы палачей. И ответное движение Татьяны: подъем на
пальцы, хлещущий переворот на одной ноге с запрокинутой
назад другой, и она снова упрямо застывает на месте, руки
по швам, кулаки сжаты. Позже я узнал, что движение это
называется ранверсе, что это самое классическое из класси-
ческих движений. Пытки, их все возрастающая жестокость,
воплощались цепью акробатических поддержек четырех рос-
лых фашистов с тонкой девушкой в красном хитоне (репе-
тиционная форма Вечесловой). Все движения, как я убедил-
ся в дальнейшем, были достаточно стереотипны, но они
выражали смысл происходящего. Движение героини — ран-
версе, оканчивающееся непоколебимой позой со сжатыми у
бедер кулаками, — стало пластическим лейтмотивом сцены.
Бурмейстер был учеником Немировича-Данченко и не ста-
вил ни одной танцевальной комбинации, не объяснив пред-
варительно артистам ее содержания. Допрос был лучшей сце-
ной балета «Татьяна». Хореографическое решение этого
эпизода потом удачно процитировал Игорь Бельский в сво-
ем балете «Берег надежды». Вторую удачу «Татьяны» — бой
гранатометчиков — Бурмейстер развил в спектакле на музы-
ку Спадавеккиа «Берег счастья» в Театре имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко. Я же, завороженный зрели-
щем первой постановочной репетиции, не пропустил уже ни
одной, вплоть до премьеры «Татьяны». Здесь дебютировали
103
Александр Белинский
Борис Брегвадзе, Инна Зубковская, Нонна Ястребова — мои
сверстники, новое поколение ленинградского балета. Весь
их — такой недолгий! — балетный век прошел на моих гла-
зах. Они участники якобсоновских премьер — «Шурале»,
«Спартак», «Клоп». А потом пришли Колпакова, Грибов, Гри-
дин... Они уже участники премьер Григоровича и Бельского.
Вслед за репетициями Бурмейстера, где мне удалось просле-
дить сочинение балета от начала до конца, я фрагментарно
наблюдал сочинительскую работу и Чабукиани, и Якобсона,
поэтому представляю себе все разнообразие процесса сочи-
нения танца.
Наконец, в балете я встретил человека, которого могу пер-
вым на страницах моей книги назвать гением. Да, бесспор-
ным гением, светлым гением моей юности, всего моего по-
коления. Ее имя
Галина Сергеевна Уланова
Мария Федоровна Романова была высока ростом и широ-
коплеча. Как-то не представлялось, что она была классичес-
кой танцовщицей, да еще танцевала с мужем, Сергеем Нико-
лаевичем Улановым. Сергей Николаевич был ниже Марии
Федоровны, к тому же горбился, а Мария Федоровна держа-
лась прямо. Галина Сергеевна похожа на отца, но от матери
унаследовала широкие плечи, которые сделала достоинством
своей волшебной пластики. Она поднимала эти широкие пле-
чи, опускала их или сжимала, как бы стараясь стать меньше,
и это было удивительно трогательно. На ее фотографиях в
«Жизели» в сцене со шпагой, в Марии с лютней, в Белом ле-
беде с простертыми вперед руками особенно хорошо видны
эти выразительные плечи.
Фотографию в Белом лебеде Мария Федоровна особенно
любила и носила всегда на груди ее цветное изображение на
эмали в виде большой броши. Из всех качеств своей беско-
нечно любимой единственной дочери Марию Федоровну
меньше всего интересовала ее гениальность. Она беспокои-
лась, счастлива ли Галя, здорова ли, переживала, когда ее кто-
нибудь обижал, но я никогда не видел в ней гордости за дочь
и значительности «матери самой Улановой». Она была скром-
ная труженица, хлопотливая и гостеприимная хозяйка, жен-
104
Записки старого сплетника
щина глубоко религиозная. Мария Федоровна всегда крести-
ла Уланову на вокзале, провожая ее. Стесняясь, незаметно,
но обязательно крестила. Говорят, Мария Федоровна была за-
мечательным педагогом, только слишком добрым. Я ни у ко-
го не встречал такой абсолютной непосредственности, отсут-
ствия позы, наивности.
Осень сорок седьмого или сорок восьмого года, не помню
точно. Был назначен торжественный спектакль, посвящен-
ный юбилею Петипа. В первом акте Аврору танцевала Мари-
на Семенова, в третьем — Дудинская, во втором, в сне, — Га-
лина Сергеевна. Королей соответственно изображали
Солянников, Юрьев, Черкасов. Николай Константинович
был лучше всех. Но это между прочим.
Накануне утром я встретил Марию Федоровну на улице
Росси. Она, даже не ответив на мое приветствие, сразу же за-
говорила: «Ты понимаешь, Галя выучила в Москве вариацию,
а сегодня Костя (имелся в виду Сергеев) сказал, что это не
Петипа поставил, а Лопухов. Что же, Гале учить новую вари-
ацию?» Вряд ли я мог дать ответ на этот вопрос. Тем более,
что меня совершенно не интересовало, какую вариацию Ула-
нова будет танцевать. Мне важен был факт, что будет Улано-
ва, что Уланова будет танцевать. «Там в последней части на-
до идти вперед, вынимая на алезгон то правую, то левую
ногу», — продолжала жаловаться Мария Федоровна. Увидев,
что слово «алезгон» произвело на меня впечатление японской
вокабулы, она махнула рукой и побежала, бормоча на ходу:
«Я опаздываю на урок, а ты все равно ничего не понимаешь».
На следующий день был спектакль. Уланова много лет не
танцевала «Спящую красавицу». Она появилась из люка —
так появлялась Аврора в видениях принца, — и это было пре-
красно. Она станцевала вариацию Петипа, она станцевала на
бис вариацию Лопухова, под сверкающую музыку Чайковско-
го в третьей части вариации она шла вперед, вынимая пооче-
редно ноги на алезгон, а зрительный зал ревел, заглушая ор-
кестр. Ни Дудинская, ни Марина Семенова, которую я видел
впервые, не воспринимались вообще. Уланова существовала
в других измерениях. Привыкшие к ее элегическим партиям
тех лет, придумавшие нелепую формулировку, что она преж-
де всего актриса, вдруг увидели неповторимую и, добавлю, до
сих пор не превзойденную танцующую Спящую красавицу в
105
Александр Белинский
ослепительном блеске лучшего хореографического творения
Петипа.
В бушующем зале не аплодировал только один человек. Ма-
рия Федоровна никогда не хлопала на спектаклях Улановой.
Она сидела в первом ряду в центре, рядом с ней застенчиво
аплодировал Сергей Николаевич и молитвенно вытягивал
вперед руки Юрий Александрович Завадский. Мария Федо-
ровна быстро кивала головой. Мол, слава Богу, все в поряд-
ке, все хорошо. Конечно же Галина Сергеевна не видела со
сцены ни самой Марии Федоровны, ни тем более ее знаков.
Мария Федоровна успокаивала саму себя. Мне кажется, что
каждый спектакль дочери, на котором она присутствовала,
стоил ей не меньших нервных затрат, чем самой Улановой.
Окончательно я понял это, когда увидел урок Марии Фе-
доровны с Улановой. Это было на даче в Комарове. В саду
была сделана палка. «Дядя Сережа» — двоюродный брат Ма-
рии Федоровны, питавший ко мне симпатию, нашел подхо-
дящую позицию за кустами. Ни у Марии Федоровны, ни тем
более у Улановой я не рискнул просить разрешения присут-
ствовать на их занятии. В исполнении любой комбинации,
задаваемой матерью, у Галины Сергеевны было то, что отли-
чало — и до сего дня отличает — ее танец от всех балерин:
любое движение у Улановой не имеет начала, не имеет кон-
ца, последующие движения возникают как естественное про-
должение предыдущих, и другого продолжения нет и не мо-
жет быть. Мария Федоровна что-то показывала руками,
что-то говорила, я не слышал, что именно. Уланова делала
комбинацию без музыки, а я слышал эту музыку, возникаю-
щую из ее движений. Мария Федоровна что-то изображала,
что-то поправляла, вытирала махровым полотенцем свою
удивительную ученицу. Это потрясающее зрелище длилось
минут пятнадцать — двадцать, я запомнил его как один из
лучших спектаклей Улановой.
Понимала ли Мария Федоровна, что за явление ее дочь?
Не знаю.
В Москве была премьера «Красного мака». Марии Федо-
ровны не было на спектакле. Кажется, болел Сергей Никола-
евич, и она не могла поехать. Я был на премьере с Елизаве-
той Ивановной Тиме и Николаем Николаевичем Качаловым.
Елизавета Ивановна считала, что Тао Хоа — одно из высших,
106
Записки старого сплетника
недооцененных созданий Улановой. Я думаю, что она была
права. Незначительность спектакля и его недолгая жизнь сни-
зили значение улановского шедевра. Вальс-бостон в первом
акте, который Уланова танцевала с прекрасным характерным
танцовщиком С.Г. Корнеем, незабываем. Я показывал его Ма-
рии Федоровне на веранде в Комарове, когда приехал из
Москвы. Она очень смеялась моему показу. Потом почему-то
начала мне подробно рассказывать о том, как Спесивцева тан-
цевала Жизель. Рассказывала она с таким восторгом, что я
обиделся за Галину Сергеевну. «Что же, — перебил я рассказ
Марии Федоровны, — Спесивцева танцевала лучше Улано-
вой?» Мария Федоровна помолчала, а потом грустно ответи-
ла: «Не знаю». Еще помолчала и добавила: «Я ведь не знаю,
как танцует Уланова».
Удивительный ответ! Трудно поверить, но она действитель-
но не знала. Она профессиональным глазом видела, как Галя
выполняет то или иное движение, что получается лучше, что
хуже, огорчалась, волновалась, переживала, радовалась, но
увидеть гениальное искусство дочери со стороны, глазами
зрителя, не могла.
На похоронах Марии Федоровны Галина Сергеевна не слу-
шала речей. Она одиноко ходила где-то в глубине кладбища.
Потом, когда все ушли, Вечеслова подвела ее к могиле. В этом
вся Уланова — с ее нелюбовью к актерству, с абсолютной ис-
кренностью в жизни и на сцене.
Можно ли объяснить чудо Улановой? Нет, конечно. Нель-
зя описать явление природы или запах цветка. Был такой
критик Голубов, написавший первую книжку об Улановой.
Он трагически погиб в сорок восьмом под Минском, когда
ехал в одной машине с Михоэлсом, как член какой-то лау-
реатской комиссии. Убили, конечно, Михоэлса, но зачем бы-
ло оставлять в живых свидетеля? НКВД уничтожил и балет-
ного критика. Так вот, Голубов говорил, я это слышал сам:
«Трудное положение у этой балерины, — он назвал одну из-
вестнейшую фамилию. — Ей надо среди десятка некрасивых
поз выбрать наименее некрасивую. Но ведь Улановой еще
трудней. Каждая поза у нее прекрасна. Попробуй выбрать са-
мую прекрасную!»
Даже когда ей было уже за восемьдесят, любое движение
Галины Сергеевны за столом, когда она что-нибудь показы-
107
Александр Белинский
вала, — по-прежнему искусство. Катя Максимова рассказы-
вала, что когда впервые готовила с Улановой партию Жизе-
ли, то позвала на репетицию Васильева, чтобы узнать его мне-
ние. Но Володе пришлось извиниться перед своей женой: он
сказал, что видел только показывающую Уланову.
Я ничего не буду говорить об Улановой как актрисе, все
уже сказано. Но не могу не вспомнить, как хохотала на сце-
не Джульетта, глядя на танец Меркуцио в маске. Не могу не
вспомнить, как выныривал Черный лебедь из-под плаща Рот-
барта в старой ленинградской редакции «Лебединого озера».
Не могу не вспомнить адажио в «Спящей» в акте нереид. Все
то, о чем я говорю, делают все, но никто не делает так, как
делала Уланова. Сколько же не сделала Уланова!!! Чабукиани,
не любивший делать комплименты, рассказывал, как они ре-
петировали первый акт «Дон Кихота». По его мнению, ее уча-
стие в постановке было бы явлением в балетной жизни. Ула-
нова не станцевала Эсмеральду, считая эту роль прерогативой
Вечесловой. Уверен, что Уланова была бы несравненной ге-
роиней Гюго. Она рано прекратила танцевать «Лебединое»,
неудовлетворенная тем, как сделала фуэте в одном из спек-
таклей. Алла Яковлевна Шелест утверждала, что ни у кого
никогда не было такой красоты фуэте, как у Улановой. Как
хорошо я помню прогулку с Галиной Сергеевной в Михай-
ловском саду в сорок восьмом году! Она, такая молчаливая,
на этот раз много говорила. О чем? О непреходящей преле-
сти танца. О танце, не связанном с литературным содержа-
нием. «Танцуешь себе, как птица поет!» — сказала Уланова.
«Надо при этом родиться певчей птицей», — подумал я тог-
да. А на следующий день я не слышал, а видел, как поет пти-
ца. Уланова танцевала в филармонии свой вечер с Преобра-
женским. Седьмой вальс Шопена, вальс Липлинга,
«Умирающий лебедь» Сен-Санса, «Элегия» Рахманинова в
постановке Касьяна Голейзовского. Нет, я не склонен пре-
увеличивать, но это было самое большое потрясение от со-
прикосновения с искусством в те достопамятные пять лет.
29 июня 1950 года, выпустив в Ленинградском драматичес-
ком театре, ныне Театре имени В.Ф. Комиссаржевской, спек-
такль по пьесе А. Бороздиной и А. Давидсона «Студент треть-
его курса» с Владимиром Ивановичем Честноковым в главной
роли, я получил диплом режиссера драматических театров.
108
Записки старого сплетника
Более полусотни спектаклей поставил я в театрах. Это ко-
нечно же несравненно меньше, чем то, что я сделал на те-
левидении. Я по-настоящему более всего на свете люблю ра-
боту в театре. Но любовь эта без взаимности. Надо смотреть
правде в глаза. У меня не было театральных спектаклей та-
кого масштаба, как у моих сверстников Анатолия Эфроса,
Петра Фоменко, Марка Захарова. Не было и равных пред-
ставителям следующего поколения — Додина, Спивака, Же-
новача. Какую-то известность мне принесли телевизионные
сочинения, создание жанра телебалета и работа на эстраде.
Время, а оно главный герой моих записок, лучше всего вы-
разить удавалось в жанре, который принес мне наибольшую
славу. О нем будет подробный рассказ в главе, которая на-
зывается...
Глава пятая
Капустники
Юрию Аптекману
Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно,
И, как нам и ни грустно,
Играем капустник.
Это вступительная песенка к капустнику 1952 года. Напи-
сана она в соавторстве с тем, кому посвящена эта глава. С
ним написаны все песни, с ним поставлены все без исключе-
ния капустники. А когда мы начинали, в 1950 году, Юрий Ге-
оргиевич Аптекман был на каком-то заводе инженером, вер-
нувшимся с войны с многочисленными ранами и таким же
количеством орденов. Он был отмечен Богом, и Бог же был
к нему глубоко несправедлив. Не зная нот, он играл на роя-
ле по слуху так, как никто не играет. Не зная правил гармо-
нии, он сочинял мелодии, которые могли бы стать в первую
шеренгу массовых песен. Не имея литературного образова-
ния, он со своей женой Машей, по профессии врачом-эндо-
кринологом, сочиняли стихи с безукоризненными рифмами
и четким размером. У обоих было абсолютное чувство юмо-
ра, абсолютное чувство ритма и абсолютный слух.
Познакомил нас Яков Рохлин, еще один человек с траги-
ческой судьбой. Он ушел на фронт добровольцем в первые
дни войны и вернулся с незаживающими ранами. К ним при-
бавились раны душевные. Он закончил Театральный инсти-
тут в годы борьбы с космополитизмом. Руководителем дип-
лома у Рохлина был Владимир Давидович Днепров, теперь
хорошо известный по многочисленным философским трудам.
Днепров был арестован в те годы (не в первый раз) за троц-
кизм. Не уверен, что он был даже знаком с Львом Давидови-
чем Троцким. В те «славные» годы Рохлин возглавлял партий-
ную организацию Театрального института. И он не предал
ПО
Записки старого сплетника
своего учителя. Акт подлинного гражданского мужества! Бо-
лее того, когда в Театральный институт был назначен новый
заведующий кафедрой марксизма, сразу же ставший «едино-
гласно избранным» секретарем партийной организации, не-
кто Иванов Павел Львович, Рохлин вступил с ним в откры-
тую схватку Яша доказал, что Иванов незаконно получил
подъемные в двух местах, а также часто разоблачал его, Ива-
нова, полное невежество в области марксистской философии,
в которую Рохлин (о, эти наши отечественные парадоксы!)
свято верил. Конечно же Иванов стер Яшу, что называется, с
лица земли. Он не только выгнал его из института, добился
исключения из партии, но и препятствовал какому бы то ни
было трудоустройству в Ленинграде.
Ленинградским отделением ВТО — Всероссийского теат-
рального общества — руководил тогда Николай Константи-
нович Черкасов. Об этом добрейшем человеке и отличном ак-
тере ходило много сплетен. Пока упомянем, что он был
любимцем Сталина. Поэтому, когда Черкасов разрешил взять
Рохлина каким-то референтом ВТО, Иванов побоялся связы-
ваться. Представляю, как это его бесило. Это был злобный,
мстительный человек. Чуть позже и мне пришлось с этим
столкнуться.
Неукротимый Яков Рохлин сразу же решил ознаменовать
свое вступление на должность в ВТО постановкой городско-
го капустника. Премьера должна была состояться 31 декабря
1950 года, а состоялась 13 января. Заболел Николай Трофи-
мов, блестящий русский комик, премьер моих первых капу-
стников.
Итак, в ночь с 13-го на 14-е на сцену маленького Дома ак-
тера (угол Невского и Садовой) вышла действительно перво-
классная труппа ленинградских артистов. Если перечислять
их как сборную по футболу, то состав «клубов» был такой: Ли-
дия Штыкан (Александринка), Николай Трофимов (Театр ко-
медии), братья Боярские (Театр имени Комиссаржевской, тог-
да просто Драматический театр на улице Ракова, ныне
Итальянской улице), Инна Слободская и Владимир Татосов
(Театр имени Ленинского комсомола), Вера Сонина (ТЮЗ),
Владимир Дорошев и Илья Самойлов (Театр эстрады). За
роялем сидел Юрий Аптекман. Сразу же скажу, что все
тридцать лет он бессменно сидел за роялем, лет через двад-
Ш
Александр Бел и нс кии
цать за вторым роялем оказался его сын, талантливейший пи-
анист Михаил Аптекман. Но, пожалуй, важнее, кто был этой
ночью в зрительном зале. Акимов и Товстоногов, Рашевская
и Вивьен, Козинцев и Натан Альтман, и еще, и еще... Все две-
сти пятьдесят мест маленького уютного зала Кукольного теа-
тра Евгения Деммени были заняты людьми, фамилии кото-
рых не нуждаются в комментариях «старого сплетника». Я еще
был совсем молодым — двадцать два года, — но как сплетник
имел уже некоторое имя в театральном Ленинграде. После
премьеры этого первого капустника я получил и другую по-
пулярность, но чин веселого сплетника сохранил надолго, ес-
ли не на всю жизнь, чем и заслужил право назвать эту книгу
так, как она называется.
Итак, первый яд славы я вкусил в ночь с 13-го на 14 янва-
ря 1951 года. Что мы играли? Ничего особенного. Капустник
был довольно стереотипный. Действие происходило в 2001 го-
ду. Ребенку рассказывали, что такое капустник. Шли номера.
Пародийные. Конечно же пародировали венскую оперетту.
Была симпатичная находка: в Театр музкомедии худруком на-
значали укротительницу львов Бугримову, и опереточные ар-
тисты ее съедали. Кроме этой милой метафоры, никаких осо-
бенных достижений первого капустника я не припомню.
Недаром ни один номер мы позже не повторяли. Почему же
такой, поистине невероятный успех? Первоклассное актер-
ское исполнение — это во-вторых. Чудесные мелодии Юрия
Аптекмана — это в-третьих. Но ВО-ПЕРВЫХ — время. Вре-
мя полного уничтожения всего смешного. Нельзя было сме-
яться ни над чем, а тем более ни над кем. Блестяще сыгран-
ная Трофимовым пародия на Игоря Горбачева в роли
Хлестакова. В университетской самодеятельности Горбачев
играл Хлестакова действительно очень хорошо, но шума во-
круг этого было многовато. Так вот, даже эта пародия вызы-
вала неудовольствие отдела искусств то ли горкома, то ли об-
кома партии. Хорошо, что только неудовольствие, не больше.
А уже совсем неодобрительно отнеслись к тому, что капуст-
ник игрался не один раз, как положено, а то ли пять, то ли
шесть раз. Так часто театральной интеллигенции было сме-
яться не положено, поэтому автора капустника, то бишь ме-
ня, предпочли не оставлять в городе трех революций, несмо-
тря на заявки Большого драматического театра и Театра имени
112
Записки старого сплетника
Комиссаржевской, а отправить в Театр Северного флота в
Мурманск.
Двухлетний антракт в моей «капустной» деятельности
ознаменовался постановками в Театре Северного флота, теа-
трах Вильнюса и Клайпеды. Следует отметить попытку еще
раз сразиться с американским империализмом в спектакле
«Миссурийский вальс» по позорной пьесе Николая Погоди-
на. Впрочем, моя режиссура была еще позорнее. Затем после-
довала постановка двух-трех средних спектаклей, а завершил-
ся двухлетний вояж хорошим спектаклем «Раки» — комедией
Сергея Михалкова. Сразу же после премьеры я узнал о смер-
ти Сталина.
Сообщение об этом дошло до меня в лучших капустниче-
ских традициях. Жил я в Клайпеде (ранее немецкий город
Мемель) в гостинице «Паюрис». Дежурная по этажу была
старая немка, гордившаяся своим знакомством в прошлом с
самим доктором Геббельсом. Я, чтобы доставить ей удоволь-
ствие, говорил с ней только по-немецки. Фрау Грета, так ее
звали, разбудила меня ночью громким стуком и, задыхаясь
от восторга, сообщила: «Камерад Белинский! Хабен зи гехё-
рен? Унзер либер фатер ист гешторбен!!!» Что означает: «То-
варищ Белинский! Вы слышали? Наш любимый отец умер!»
Так кончилась для меня ЭРА. Через несколько дней прези-
дент Соединенных Штатов Америки Дуайт Эйзенхауэр на-
звал ЭРОЙ смерть Сталина. Он ошибся. До конца эры боль-
шевиков было еще очень далеко, но, как справедливо
заметила поэт Ольга Берггольц, «стена была сломана». Во
всяком случае, я смог вернуться в Ленинград, о чем даже не
смел мечтать.
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез», благодаря
рекомендации чудесного человека и художника Семена Со-
ломоновича Манделя и смелости выдающегося режиссера и
художественного руководителя Георгия Александровича То-
встоногова. Именно смелости, потому что работники отде-
лов искусств и обкома и горкома партии (о, как много их
было!) активно возражали против моего зачисления на ра-
боту в Театр имени Ленинского комсомола. Товстоногов тог-
да руководил именно этим театром. Итак, я навсегда вернул-
ся в Ленинград и дожил в нем до того, что он снова стал
Петербургом.
ИЗ
Александр Белинский
Я в этом городе прижился
И, как ни звали паровозы,
Не оторвался, не решился,
Когда решился — было поздно.
Эта печальная строфа принадлежит перу Александра Во-
лодина. Она полностью относится ко мне. В театре при То-
встоногове я поставил два чрезвычайно удачных спектакля:
«Кто смеется последним» Кондрата Крапивы и «В добрый
час!» Виктора Розова. Впрочем, «поставил» — громко сказа-
но. Оба спектакля выпускал мастер, но фамилии своей не
ставил, а я... я учился у Товстоногова. Вот уж у кого было че-
му поучиться!
Ставил же я капустники, которые Товстоногов смотрел по
многу раз и очень высоко их ценил, что было и остается для
меня высшей мерой похвалы.
Новый капустник назывался «В 12 часов по ночам». Это
нейтральное название придумал все тот же Яша Рохлин. Иг-
рали мы только ночью, когда работники руководящих орга-
нов спят и капустники вместе с театральной интеллигенцией
смотрят только стукачи, а они ведь все-таки люди, и для сво-
их жен и любовниц, а также работников торговли, этих яро-
стных любителей политической «клубнички», сохраняли наш
капустник.
Мы уже пошли дальше. Мы пародировали не людей, а жа-
нры. «В 12 часов по ночам» было названием ночного варье-
те, где пародировались куплеты. Номер «Ну как у вас дела на-
счет картошки» потом был украден у нас всеми
периферийными эстрадными артистами, а лучшим номером
программы стала пародия на политический фельетон. Мы
впервые прикоснулись к тому, что позже получило название
театра абсурда. Блистательная комедийная артистка Вален-
тина Ковель, навсегда ставшая примадонной нашего капуст-
ного театра, с невероятным пафосом говорила, что не для сти-
ляги «прозвучал исторический залп «Авроры». Одно это
сочетание слов сулило серьезные неприятности, и они нача-
лись для меня, но несколько позже. Текст этого номера я от-
лично помню, но записывать его бессмысленно. Дело в ин-
тонации, жесте и конечно же в блистательной музыкальной
мозаике Юрия Аптекмана. С этого номера, по словам Товсто-
114
Записки старого сплетника
ногова, мы перешли границу от простого развлекательного
капустника к жанру подлинного театра миниатюр. Но самим
нам как авторам держать планку так же высоко было уже не
под силу, и следующий капустник «13-й стул Остапа Бенде-
ра» начинался с такой песенки:
Не будем мы бряцать на лирах,
Чтоб не сломать чужую вещь,
О муза пламенной сатиры,
Вручи нам свой разящий меч!
Хотя мы не набили руку
И не всегда стреляем в цель,
Но все же глупость, пошлость, скуку
Вызываем на дуэль!
И вот, отнюдь не без опаски
Помог нам Ильф, помог Петров,
Помог Борис Савельич Ласкин
И сам Владимир Поляков.
Сатира — ветреная штука,
Ведь можно с ходу сесть на мель,
Но все же глупость, пошлость, скуку
Вызываем на дуэль!
Эта вступительная песня к капустнику 1954 года оказалась
формулировкой программы нового театра, ибо, конечно, с
этого дня мы стали незарегистрированным, негосударствен-
ным театром. Это не мои слова. Их сказал со сцены все тот
же незабвенный Георгий Александрович Товстоногов в день
нашего десятилетнего юбилея в 1961 году.
Капустник 1954 года получил название в честь выхода из
печати после десятилетий запрета, после защиты диссертации
каким-то проходимцем под названием «Порочные романы
Ильфа и Петрова» бессмертных «Двенадцати стульев». Под-
черкну, что о переиздании «Золотого теленка» вопрос еще не
стоял.
Маленькое сообщение. Недавно наш петербургский писа-
тель Даниил Гранин рассказал мне, что Александр Фадеев —
незадолго до своего трагического самоубийства — во время
очередного запоя сказал Гранину: «От нашей литературы это-
го времени НАВСЕГДА останутся только романы Ильфа и
115
Александр Белинский
Петрова». Рано судить окончательно, но, похоже, Фадеев был
прав.
Еще не предвидя этого, мы вывели на сцену Остапа Бен-
дера в исполнении студента третьего курса Театрального ин-
ститута Сергея Юрского. Спустя пять лет он сыграл его в ки-
но в картине Михаила Швейцера «Золотой теленок». А у нас
он выходил с песенкой и большим монологом, написанным
Кимом Рыжовым, мной и Аптекманом. Авторами песенок бы-
ли супруги Аптекманы и я. Бендер встречался с персонажа-
ми, долго считавшимися не существующими в нашей светлой
действительности: проститутками, «чиновниками-высотника-
ми» и дураком. Последний, в изящном исполнении Николая
Боярского, пел:
Я дурак обыкновенный,
Просто я большой дурак,
Я встречаюсь непременно
Тут и там, и так и сяк.
Ио вчера прочел в газете:
Нынче нету дураков,
Что же делать мне, ответьте,
Если я как раз таков?
Я дурак обыкновенный,
Просто я большой дурак...
Это он повторял до бесконечности, заглушаемый громом
аплодисментов. Дальше шла поистине классическая миниа-
тюра Ласкина и Полякова «Лагерный сбор драматургов», где
была показана военная дисциплина наших писателей, рас-
ставленных партией по соответствующему ранжиру.
Как это могло быть разрешено? Ведь время «оттепели» еще
не наступило. Но, во-первых, Сталин все-таки умер. Во-вто-
рых, первые признаки короткой «оттепели» уже наблюдались.
А в-третьих, Михаил Сергеевич Янковский, директор Дома
актера, сам только что выпущенный из лагеря, умело назна-
чал капустники в те дни, вернее, ночи, когда не ожидалось
нашествия горкомовско-обкомовских чинуш. И наконец, бы-
ли два секретаря — один обкома (Лавриков), другой горкома
(Заварухин), которые любили смешное, и наш капустник в
частности. Ах, как же быстро их выставили из партийных ор-
ганов по окончании «оттепели»!.. Но это уже другая сплетня.
116
Записки старого сплетника
Сокращение количества остроумных людей в наше время
имеет глубокую, я бы сказал, неизлечимую причину. В чем
она? Утверждаю, что люди стали меньше ходить друг к другу
в гости, а если ходят, то не так, как раньше. Так же как теле-
фон почти начисто зачеркнул великую русскую эпистоляр-
ную литературу, телевидение медленно, но верно уничтожает
такие понятия, как посиделки, беседа, вечеринка, застолье.
Да, да, застолье! Разве это застолье, когда шесть — восемь че-
ловек, садясь за стол, боятся оказаться спиной к телевизору,
чтобы — не дай Бог! — не пропустить забитую шайбу. Какая
острота может родиться, если гости и сам хозяин молчат,
уставившись на экран в тайной надежде услышать что-нибудь
смешное в передаче «Кабачок «13 стульев»? А между тем в ис-
торию юмора вошел целый ряд людей, от французского аб-
бата Скаррона до петербургского юриста Карабчевского, тем
как они острили в беседах без последующей записи. Люди
высокого остроумия, люди моментальной импровизации
должны заноситься в Красную книгу, как вымирающие зве-
ри. Дома актеров, писателей, ученых, архитекторов должны
стать заповедниками для таких людей, со специальными (да!
да!) денежными кормушками в трудные времена.
Первым среди последних могикан импровизированных
острот я бы назвал бессменного конферансье нашего капуст-
ника Владимира Борисовича Дорошева. Профессиональная
его судьба — артиста эстрады — сложилась не так, как сле-
довало бы. Причины: юмор Дорошева, как всякий импрови-
зированный юмор, — хрупок. Он зависит целиком от так на-
зываемых обратных связей, — так по-научному называется
реакция зрительного зала. Если первая и вторая импровизи-
рованная острота Дорошева, что называется, не проходят, тре-
тья и четвертая уже просто не рождаются. Недостаток ли это?
Ни в коем случае. Это свойство дарования, диктующего со-
здание определенных условий для своего максимального вы-
явления. Какие условия? Определенная, более подготовлен-
ная аудитория, то есть избранные площадки. И в этом нет
ничего предосудительного. Как любой вид искусства, юмор
не всеяден. Почему никто не додумается сочетать фортепь-
янную сонату Бетховена в исполнении Евгения Кисина с тан-
цем полуголых герлс? Наверно, хорошо и то и другое, но по-
своему. И только конферансье должен работать везде,
117
Александр Белинский
соединяя несоединимые номера, подчас с несоединимым зри-
тельным залом.
Импровизационное дарование Дорошева имеет еще одну
редкую особенность. Он по-разному острит от себя и в обра-
зе. Стоит ему загримироваться и попасть в зерно характера —
а он, безусловно, способный характерный актер, — как ост-
роты становятся другими по лексике, по стилю, по содержа-
нию. Какой бы можно было сделать своеобразный, ни на ко-
го не похожий конферанс, если бы в Ленконцерте, бывшем
отделении ВГКО, бывшей Ленгосэстраде, этим бы кто-нибудь
заинтересовался! Где там! Четверть века Владимир Борисович
посвятил неравной борьбе с Чан Кайши, разоблачая гоминь-
дановского генерала с помощью моментального рисунка —
шаржа и меняющегося согласно обстоятельствам четверости-
шия. Чан Кайши уцелел и дожил на Формозе свой долгий век,
а Владимир Борисович, которому вдвое меньше, не смог сде-
лать всего, на что был способен.
Для решения задачи, как рассмешить зрителя, у Дорошева
было одно редчайшее качество. Я говорю о чувстве стиля. В
проблеме смешного стилистика играет особую роль. Юмор
требует безукоризненной точности. Знаменитая математиче-
ская формула «от перестановки мест слагаемых сумма не ме-
няется» никакого отношения к искусству смешного не имеет.
Если бы в литературных и искусствоведческих институтах в
преподавании стилистики в раздел юмора ввели такое упраж-
нение: на одну и ту же тему сочините рассказ, не пародию, а
именно рассказ в стиле, допустим, Диккенса, Бабеля, Марка
Твена или Жванецкого, — я уверен, Дорошев делал бы это
лучше всех. Как мастер шаржа, Дорошев точен во всем: ри-
сует ли он, делает коллаж, пишет рассказ или выступает на
эстраде. Он интуитивно одинаково чувствует в смешном зна-
чение штриха в рисунке, слова в рассказе, интонации и жес-
та в актерском исполнении.
Чтобы достойно закончить рассказ о нашем бессменном
конферансье, я должен вспомнить одну правдивую историю
из летописи русского конферанса. Никита Федорович Вали-
ев, художественный руководитель знаменитой «Летучей
мыши», театра миниатюр, кстати, по инициативе Станислав-
ского родившегося еще до революции из капустников Худо-
жественного театра (капустник тогда еще не был ругатель-
118
Записки старого сплетника
ным словом), любил на своих спектаклях «подсадку». Вали-
ев — абсолютный творческий предок Дорошева — ловил не-
ожиданную, подчеркиваю, неожиданную реплику из зритель-
ного зала, желательно полемического характера. Кстати, и
Алексеев, и Менделевич, и Гущинский, и Гаркави, и Доро-
шев любили то же самое. Это, вероятно, один из признаков
импровизационного дарования, необходимого подлинному
конферансье. В качестве подсадки в «Летучей мыши» дебю-
тировал молодой Виктор Ардов, в будущем автор бессмерт-
ного скетча «Укушенный». Ардов дебютировал в день первой
гастроли в «Летучей мыши» петроградской женщины-конфе-
рансье Марадудиной. Выходной монолог Марадудина начи-
нала приблизительно так: «Я единственная женщина-конфе-
рансье. Свои шутки я адресую и мужчинам и женщинам. Од-
ни — мужчинам, другие — женщинам. Чтобы не перепутать
адреса, я буду говорить в начале шутки: это для А/, это для
Ж. Вы запомнили, конечно, что такое М и что такое Ж!» —
«Запомнили! — закричал из зрительного зала Виктор Ар-
дов. — М — Марадудина, а Ж...» — и он назвал слово, риф-
мующееся со словом Европа. Зал грохнул. Марадудина уеха-
ла в Петроград вечерней «Красной стрелой», а Ардов
продолжал свою лихую деятельность, по стилю весьма напо-
минавшую его знаменитый дебют. Владимир Борисович До-
рошев, как истый петербуржец, не забыл обиды, нанесенной
Марадудиной, и спустя тридцать лет блистательно отомстил
за свою бедную коллегу. На одной из последних гастролей
капустника в Москве — а, к слову сказать, театральная Моск-
ва обожала Дорошева, — в своем смешном выходе, когда Ле-
мешев и Козловский в первом ряду стукнулись лбами от хо-
хота, Дорошев увидел Ардова. Автор «Укушенного», стуча
палкой и тряся тогда еще черной бородой, шел по проходу.
С годами Ардов не приобрел застенчивости. «Подожди ост-
рить, — крикнул Ардов Дорошеву, — дай я найду свое мес-
то». — «Писатель Ардов не может найти себе места — это са-
краментально», — отпарировал Дорошев. «Говори, говори, —
не утихал Ардов, — говори, что я тебе написал». — «Вы по-
нимаете, что все, что с бородой, нас интересовать не может».
Дорошев пытался не выходить из рамок свойственной ему
изящной вежливости, но, когда после очередной интермедии
зал заревел от восторга, он скромно улыбнулся и бросил ми-
119
Александр Белинскии
моходом: «Вы догадались, что то, что я сейчас сказал, напи-
сал не Ардов». После этого Ардов, кроме мемуаров, не напи-
сал действительно ничего, а с окончанием капустных выступ-
лений Владимир Дорошев потерял прекрасную площадку для
своего редкого юмора.
Во все времена люди, пытавшиеся смешить, подвергались
в лучшем случае критическим нападкам, в худшем — гонени-
ям как уголовные и — того хуже — политические преступни-
ки. Об этом достаточно подробно написал в своем знамени-
том лирическом отступлении о писательском труде
Н.В. Гоголь в «Мертвых душах». Лучше не скажешь, да и не
стоит пробовать. Но один малоизвестный пример активной
борьбы со смешным из прошлого столетия имеет смысл при-
вести как случай, чрезвычайно типичный для нашего «воз-
любленного отечества».
Молодой, даже очень молодой поэт издал в 1820 году в Пе-
тербурге поэму Она была сказочной по сюжету и романтич-
ной по форме. На беду свою, поэт, как показало все его даль-
нейшее творчество, был одарен абсолютным чувством юмора.
Поэтому рядом со «сладкозвучными» былинными строфами
соседствовали, как бы мы сказали сегодня, изящные реприз-
ные сбросы. Например:
...Высокий мостик над потоком
Пред ней висит на двух скалах;
В унынье тяжком и глубоком
Она подходит — ив слезах
На воды шумные взглянула,
Ударила, рыдая, в грудь,
В волнах решилась утонуть —
Однако в воды не прыгнула
И дале продолжала путь.
Или трагический монолог, который автор (так пишет кри-
тика) «прерывает с вольным цинизмом»:
...Вдали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле?
О ты, чья гибельная страсть
Меня терзает и лелеет,
Мне не страшна злодея власть:
Людмила умереть умеет!
120
Записки старого сплетника
Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров —
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!
(Подумала и стала кушать.)
Боже, что испытал молодой поэт из-за этих «реприз»!.. «Ве-
стник Европы» № 11 за 1820 год: «Не знаю, что будет содер-
жать целая поэма, но образчик хоть кого выведет из терпе-
ния. Чего доброго ждать от повторения более жалких, нежели
смешных лепетаний?» В той же рецензии как пример пошло-
сти, как образчик дурного вкуса, как жалкие и неуместные
потуги на юмор приведено двустишие:
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду — не спущу.
Резюме рецензии (дословно): «Мать дочери велит на эту
сказку плюнуть».
Рецензия же в «Сыне Отечества» за этот же год вся состав-
лена из вопросов. Вот некоторые из них: «Зачем Руслан при-
свистывает, отправляясь в путь? Показывает ли это огорчен-
ного человека? Зачем маленький Карло с большой бородой
(что, между прочим, совсем не забавно) приходил к Людми-
ле? Как Людмиле пришла в голову странная мысль схватить
с колдуна шапку (впрочем, в испуге чего не наделаешь?) и
как колдун позволил ей это сделать?» Заметьте, что весь па-
фос критики обрушивается прежде всего на юмор гениально-
го поэта. Надеюсь, что эпитет «гениальный» не покажется
преувеличением по отношению к Александру Сергеевичу
Пушкину.
Не ставя себе задачи сравнивать кого-либо на земле со
сверхъестественным дарованием Пушкина, в том числе и в
области смешного, невольно вспоминаешь критику этого
смешного по отношению к современным труженикам на не-
благодарной ниве сатиры и юмора.
Как по-разному и как замечательно смешили нас прекрас-
ные писатели 20-х и 30-х годов! Пряный, сконцентрирован-
ный юмор Бабеля, ювелирно отделанные репризы Эрдмана,
фельетонная сатира Ильфа и Петрова, фельетонная всегда,
даже в знаменитых романах об Остапе Бендере, лирическая
121
Александр Белинский
ирония Валентина Катаева и всегда немного грустный, наро-
чито грубый по языку комизм Зощенко. Наконец мы узнали,
что в 30-х годах был написан великий роман со страницами
юмора поистине гоголевского масштаба. Речь идет о «Масте-
ре и Маргарите». Булгаков, как и его величайший предшест-
венник Николай Васильевич Гоголь, угадал юмор будущего.
Не случайно ни «Растратчики» Катаева, ни «Двенадцать сту-
льев» и «Золотой теленок», ни один рассказ Зощенко и даже
Бабеля по чувству смешного не может сравниться с некото-
рыми главами булгаковского романа. И дело здесь не в том,
что он был позже опубликован и сохраняет новизну воспри-
ятия. Вопрос намного сложнее. Попробуем разобраться, в чем
тут дело. Упомянем о крайней субъективности точки зрения,
в особенности в разговоре о смешном.
Ничто так не стареет, как юмор. Смешное вчера не смеш-
но сегодня. Говорят, Макс Линдер, перестав быть смешным,
покончил с собой. Видимо, это все-таки было ошибкой. Се-
годня картина «В компании Макса Линдера» вызывает в зри-
тельном зале значительно больше смеха, чем «Свинарка и па-
стух», я не говорю уже о «Кубанских казаках».
Бывают еще большие неожиданности. Смешное позавчера
становится несмешным вчера и вновь смешным сегодня. Мо-
жет быть, не стоит пытаться теоретически обосновать эти
странные закономерности, но практикам смешного стоит над
этим задуматься. Надо признаться и отдать себе отчет в том,
что комедия положений с ее путаницами умерла, и гальвани-
зировать на сцене водевили с переодеваниями и пьесы пла-
ща и шпаги вряд ли имеет смысл. А ведь еще в 1951 году «Хи-
троумная влюбленная» Лопе де Веги и «С любовью не шутят»
Кальдерона были самыми репертуарными пьесами. Наверно,
с этими комедиями происходит нечто подобное многим ста-
рым песням. Мелодия жива, а требуется новая гармония, но-
вая оркестровка. Примером может служить успех на Бродвее
кальмановской «Сильвы» с новой, по слухам феноменальной,
оркестровкой. Наверно, имело смысл прислушаться в свое
время к мудрым высказываниям Николая Павловича Акимо-
ва, мечтавшего о новом «Гамлете», написанном, скажем, Ма-
яковским, или о сюжетах вроде Лабиша с современным тек-
стом Николая Эрдмана. Естественно, кроме брани, эти мысли
Акимова ничего не вызывали.
122
Записки старого сплетника
Что же, на наш, вероятно, еще раз подчеркнем, весьма субъ-
ективный взгляд, смешно сегодня? Почему иные имена так
быстро отошли в тень, а на поверхности появились новые?
Ведь некоторые популярные недавно авторы пишут так же,
как они и писали. Плохо ли, хорошо ли — второй вопрос, но
так же. А никто не смеется. И не только Райкин, но даже эс-
традные речевики Могилева и Комсомольска-на-Амуре не
пользуются их услугами. Вернемся к тому с чего мы начали,
и сравним авторов «Двенадцати стульев» с автором «Мастера
и Маргариты». Причем заранее оговорим свое беспредельное
уважение к создателям образа великого комбинатора. Итак,
возьмем тему «плохая литература» и сравним, как она вопло-
щена, с одной стороны, Ильфом и Петровым, с другой — Бул-
гаковым.
Ильф и Петров пишут о фельетонисте Авессаломе Изну-
ренкове: «Об Авессаломе Владимировиче Изнуренкове мож-
но было сказать, что другого такого человека не было во всей
республике... И за всем тем он оставался неизвестным, хотя
в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин —
в пении, Горький — в литературе, Капабланка — в шахматах,
Мельников — в беге на коньках...
...Шаляпин — пел. Горький писал большой роман. Ка-
пабланка готовился к матчу с Алехиным... Авессалом Изну-
ренков — острил. Он никогда не острил бесцельно, ради
красного словца. Он делал это по заданиям редакций юмо-
ристических журналов...
Если остротой Изнуренкова подписывался рисунок, то сла-
ва доставалась художнику...
Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, каза-
лось, уже ничего смешного нельзя было сказать... Гейне опу-
стил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь
смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу не-
правильной тарификации грузов малой скорости; Марк Твен
убежал бы от такой темы. Но Изнуренков оставался на сво-
ем посту».
Остроумно? Да, бесспорно. Но, во-первых, длинно, а во-
вторых... Еще раз прошу прощения у памяти прекрасных пи-
сателей-фельетонистов, — немного нарочито репризно.
Михаил Афанасьевич Булгаков обрисовывает всю литера-
турную шатию Москвы тех же лет с помощью нескольких
123
Александр Белинский
фраз, даже не фраз, а буквально гоголевским подбором фа-
милий. Вот они: «Беллетрист Бескудников — тихий, прилич-
но одетый человек с внимательными и в то же время неуло-
вимыми глазами...» или «Настасья Лукинишна Непременова,
московская купеческая сирота, ставшая писательницей и со-
чиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом
«Штурман Жорж»... Или просто калейдоскоп фамилий: «...За-
плясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал
Квант, заплясал Жукопов-романист... писатель Иоганн из
Кронштадта, какой-то Витя Куфтик... из Ростова, плясали
виднейшие представители поэтического подраздела Массоли-
та, то есть Павианов, Богохульский... Шпичкин и Адельфина
Буздяк...»
Вот так! — и вам ясна вся картина окололитературной
Москвы. «Да, но это же списано с губернского бала из «Мерт-
вых душ»!» — слышу я голоса некоторых немногочисленных
критиков, прочитавших «Мертвые души» в школе. Влияние
Гоголя на автора «Мастера и Маргариты» бесспорно, и в этом
сила, а не слабость булгаковского смеха. Сегодня, настаиваю
на этом, опять-таки сугубо личном утверждении, смех Гоголя
современнее смеха Антона Павловича Чехова. Почему Юр-
ский перестал читать на эстраде Чехова? Почему Дмитрий Жу-
равлев в последние годы читал на литературных вечерах Ба-
беля, а не Чехова, которого он, кстати, читал лучше? Где
бесчисленные исполнения инсценированных рассказов Чехо-
ва в эстрадных концертах? Умаляет ли это великое искусство
Чехова? Ни в коем случае. Но смех сегодня другой. Зритель,
слушатель, читатель хочет фантастических гипербол, неверо-
ятных обобщений, крайних до абсурда ситуаций. Кстати, весь
театр абсурда Ионеско и Беккета, все абсурдистское направ-
ление юмора в литературе Запада имеет одного отца. Им яв-
ляется помещик Ноздрев, созданный гениальным гоголев-
ским пером. Если бы критики или литературоведы вместо
того, чтобы выяснять дату встречи на Тверском бульваре Кап-
ниста и Сумарокова (если такая встреча была) или всю слож-
ность взаимоотношений между Кукольником и Шаховским
(впрочем, как будто этих взаимоотношений не существова-
ло), занялись бы исследованием абсурдного юмора, это было
бы очень полезно. Впрочем, правильно ли название — юмор
абсурда? Нет. Фантастическое невероятное — отнюдь не аб-
124
Записки старого сплетника
сурд. Это интуитивно понял ряд писателей-юмористов, имен-
но писателей, а не авторов, и в первую очередь — Григорий
Горин. Юмор Горина конкретнее, понятнее, точнее и, глав-
ное, смешнее юмора многих. Юмор не может быть юмором,
если он непонятен. Смешное не обязательно общедоступно,
но перестает быть смешным, если нуждается в дополнитель-
ной расшифровке. Блестящие рассказы Горина — «Останови-
те Потапова», «Чем открывается пиво», рассказ о человеке,
который умер, потому что не умел материться. Они глубоко
социальны, невероятны по ситуации, хотя предельно узнава-
емы и именно поэтому очень смешны. Вот почему Горин —
а не Поляков, Ласкин, Ардов, Ленч — юмористический пи-
сатель сегодняшнего дня. Его играют, читают, экранизируют,
ставят. Но для того чтобы подчеркнуть, что смешит читателя
сегодня, имеет смысл подробнее остановиться на писателе
(еще раз подчеркиваем гордое слово «писатель», а не «автор»
или, еще того хуже, — «текстовик», как значится в одном из
подразделений отдела по охране авторских прав), чувствую-
щем, что смешно сегодня, и очень точно выражающем вре-
мя. Итак, речь идет о писателе, принадлежность которого к
своей писательской организации до сих пор оспаривают друг
у друга три города-героя: Москва, Ленинград и Одесса. Зовут
его Михаил Жванецкий.
Встреча инженера Жванецкого с артистом Аркадием Рай-
киным была предопределена временем. Райкин чувствовал
необходимость свежей манеры написания текстов монологов,
нового драматургического построения миниатюр, которые
могли помочь рождению новых образов, новых красок его
огромной, но отнюдь не неиссякаемой актерской фантазии.
Монологи и миниатюры Жванецкого были той литературой,
которая дала толчок дальнейшему развитию огромного рай-
кинского таланта. Прежде всего необходимо отбросить одно
нелепейшее утверждение по поводу литературы Жванецкого:
эту литературу можно, мол, только слушать, а не читать гла-
зами. Неверно по существу. Более того. В исполнении, за
большим количеством актерских приспособлений даже вели-
кого Райкина, пропадают порой тончайшие писательские на-
ходки Жванецкого. В чем особенности его письма? Жванец-
кий берет только парадоксальные ситуации. Если собрание,
то на ликероводочном заводе со всеми вытекающими отсю-
125
Александр Белинский
да последствиями. Если пьяница рассказывает, где он провел
выходной день, то ни в коем случае не в кабаке или вытрез-
вителе, а в Эрмитаже, в греческом зале. Если люди морочат
друг другу голову, то не с помощью веселого розыгрыша, а те-
леграммами государственного значения с ласковым названи-
ем «Дурочка». Какая-то одна черта сатирических героев Жва-
нецкого всегда гиперболизирована. Если уж человек лишен
чувства юмора, то начисто, безнадежно, навсегда, насовсем,
как герой истерически смешной интермедии «Аваз». О поезд-
ке в Париж рассказывает тупица, невежда, кретин, которому
этот самый Париж противопоказан со дня рождения. Если
выведен плохой школьник, то это не просто плохой ученик,
а десятилетний циник, вымогающий три рубля под предло-
гом смерти любимой учительницы. Никогда Жванецкий не
смешит бытовыми репризами, игрой слов, легким, остроум-
ным диалогом. Характеры у него крайней заостренности, си-
туации найдены с точным чувством времени, и, самое глав-
ное, он не боится преувеличения, крайней нелепости, то есть
того, смеем утверждать, без чего не может сегодня смеяться
читатель, слушатель, зритель.
И еще. Кто-то убедил Жванецкого, и он, к сожалению, в
это поверил, что ему надо писать только монологи, иначе го-
воря, рассказы от первого лица. Попытаемся доказать, что это
не так, разобрав великолепную одноактную пьесу, именно
пьесу, настаиваем на этом определении, под названием «Ду-
рочка». В пьесе четыре действующих лица, причем ни одно-
го идиота. Жванецкий интуитивно понимает, что смешно се-
годня может быть лишь в том случае, когда в глупое
положение попадает умный человек. Глупый человек не мо-
жет попасть в глупое положение, ибо он в нем находится всю
жизнь по велению Бога, если Он существует, или генетики. У
Жванецкого в «Дурочке» невероятный темперамент в диало-
ге. Подчеркиваем — в диалоге, а не в актерском исполнении.
Удивительное качество! Жванецкий пишет так, что его нель-
зя играть или читать медленно. Ритм и темп сегодняшней жиз-
ни содержится у него в каждом абзаце, в построении каждой
фразы. Причем темперамент героев, как правило, находится
на высшей точке. Жалуется ли пьяница на жену, испортив-
шую ему выходной, или на уборщицу, не позволившую раз-
давить пол-литра в египетской гробнице, запудривают ли моз-
126
Записки старого сплетника
ги два жулика командированному, прибывшему разобраться
в «дурочке», балдеет ли рассказчик анекдота об Авазе от пол-
ной непробиваемости своего собеседника, — все они у авто-
ра действуют неистово, доходя до огромного накала.
Когда зрительный зал хохочет, не смеется, не улыбается, а
колышется, как на ветру, от неистового хохота, тогда автор —
снайпер, попавший в десятку. Вот пример из миниатюры Жва-
нецкого.
Миниатюра «Школа» придумана не им, придумана средни-
ми авторами, фамилии которых поэтому не стоит упоминать.
Но вот пример типичного диалога Жванецкого. Действуют:
директор школы — начетчик и демагог, положительная и, ви-
димо, поэтому неважно написанная учительница математи-
ки, школьник — хулиган и мерзавец — и его старший брат,
интересующийся успеваемостью младшего. Итак, диалог:
директор (обращаясь к старшему брату). Не надо на него
кричать. Он мальчик способный. Вот и Зоя Петровна го-
ворит.
старший брат (потрясен). Это Зоя Петровна?!
директор. Нуда, Зоя Петровна — учительница по матема-
тике.
Все. Смешной удар подготовлен. Жванецкий делает, гово-
ря ремесленным языком, «поворот», достойный гоголевско-
го Ноздрева.
старший брат (младшему). А ну, отдай три рубля, которые
брал на венок.
И второй удар — смешнее первого.
директор. Он взял три рубля на венок?
старший брат. Два раза брал, гад. Один раз для Зои Петров-
ны, второй раз... (Смотрит на директора.)
Просто. Лаконично. Точно. Страшновато и очень, очень
смешно. Все эти определения можно, не смущаясь, адресо-
вать всем лучшим вещам Михаила Жванецкого.
И последнее, может быть, самое главное. Жванецкий сме-
шит зрителя сюжетами, характерами, ситуациями, как прави-
ло, глубоко драматичными по своему существу. Такой цинизм
у школьника — не бытовой анекдот, «дурочки» — это соци-
альное зло. Пьяница в монологе «Музей», невежда в «Пари-
же», жулик в «Дефиците» — явления страшноватые, но —
увы! — не всегда уголовно наказуемые.
127
Александр Белинский
Искусство смешить только тогда становится высоким ис-
кусством, когда «сквозь видимый миру смех просвечивают не-
зримые миру слезы». У Жванецкого есть редкий по драматиз-
му рассказ-монолог «Отец». Это произведение большой
глубины, которое, если оно будет, наконец, напечатано, ста-
нет в один ряд с лучшими образцами отечественной новеллы.
И вообще, надо больше печатать Жванецкого. Его искусство
смешить давно перешагнуло через эстрадный просцениум. Он
не автор-малоформист, а писатель. Может быть, не меньше-
го масштаба, чем Сергей Довлатов и даже Михаил Зощенко.
Это затянувшееся лирическое отступление понадобилось,
чтобы подчеркнуть: наш капустный театр был конечно же точ-
но привязан к своему времени. И мне, и Юрию Аптекману, и
всем артистам, может быть за исключением Юрского, был до-
ступен юмор Ильфа и Петрова, а не Булгакова, сатира Вла-
димира Полякова, а не Сергея Довлатова. И конечно же мы
играли авторов, числящихся в отделе охраны авторских прав
под омерзительным названием «текстовики». Василий Галь-
ковский, Григорий Дрейден, три дамы — Ворончук, Немчи-
кова, Орлеанская... «Иных уж нет, а те далече». Это о них мы
пели в капустнике «По ту сторону рампы»:
Мы те, кто не любит серьезные темы,
Мы те, кто не пишет стихи и поэмы,
Не пишет статей и эссе.
Мы бьем, извините, без всяких подтекстов
По нашему зрителю шлягерным текстом
И шутками конферансье.
Эту песню написали для нас на зажигательную мелодию
Дунаевского Владимир Константинов и Борис Рацер, став-
шие с 1956 года основными авторами наших капустников.
Мы пишем, как негров линчуют в Небраске,
Мы пишем к концертам торжественным сказки,
Наш творческий метод таков:
Мы свяжем жонглера с кремлевским курсантом,
Атлантова свяжем с разгромом Антанты,
А дальше пойдет Рудаков.
Атлантов был первым тенором страны, Рудаков — люби-
мым сатириком Хрущева, Антанта поддерживала Белую гвар-
128
Записки старого сплетника
дию из-за рубежа. Предполагал ли я, что доживу до времени,
когда все это придется объяснять!..
Вы нас не найдете на книжном прилавке,
Пускай мы не Бровки и даже не Кафки,
Пускай нас зовут ширпотреб.
Не создали мы «Броненосец «Потемкин»,
Наверно, про нас позабудут потомки,
Но детям оставим на хлеб!
Здесь нуждается в пояснении только Бровка — белорусский
писатель, лауреат — и «Броненосец «Потемкин» — сомнитель-
ный уже сегодня шедевр революционного кинематографа.
Более подробно хочу я прокомментировать сплетни об ав-
торах нашего капустника. Право же, легенды о них заслужи-
вают лучшей участи. В Книге рекордов Гиннесса по количе-
ству написанных комедий они держат второе после Лопе де
Веги место. По количеству же представлений Константинов
и Рацер далеко превзошли великого испанца. И театров их
ставило больше, и играли чаще. Что же касается доходов, то
думаю, что у мадридского идальго было все же получше. Це-
на средневекового песо была, безусловно, много выше совре-
менного российского рубля.
На спектаклях по пьесам Владимира Константинова и Бо-
риса Рацера зрители смеются много, более того, смеются
громко и, самое главное, смеются дружно. Так ли это плохо?
Конечно нет. Трудно ли заставить зрителя смеяться много,
громко и дружно? Очень, очень трудно. Это большая, изну-
рительная работа. Сочинить репризу в две строки намного
сложнее, чем написать разгромную рецензию на эту репри-
зу в две страницы. Намного сложнее заняться внимательным
исследованием, что же есть хорошего у авторов, и умелым
разбором подсобить (помочь — очень скомпрометированный
глагол) в их дальнейшей упорной и невероятно нервной ра-
боте.
Итак, что же есть хорошего и, уверен, очень хорошего в
умении Константинова и Рацера смешить зрителя?
Во-первых, сам факт того, что зритель смеется. Факт не-
маловажный, настаиваем на этом.
Во-вторых. Все пьесы соавторов построены безукоризнен-
но. Да, да, они никогда не бывают аморфны, в них нельзя пе-
129
Александр Белинский
реставить картины местами, они, как правило, имеют быст-
рую, что очень важно, завязку, четкую кульминацию, не при-
тянутую за уши развязку.
У Константинова и Рацера видны «швы». Да, мягко говоря,
не глубоко написаны характеры. Встречаются повторяющие-
ся репризы. Но репризы-то хорошие и очень смешные. Каж-
дого писателя надо судить по его собственным законам. Не
надо разбирать комедии Константинова и Рацера в сравни-
тельном анализе с пьесами Володина и Вампилова, как пьесы
Крылова и Потапенко — с пьесами Островского и Чехова.
Но Константинов и Рацер достойны высокого уважения не
только за свой огромный труд и творческую дисциплину. В
отличие от критиков и редакторов, скажем, телевидения, они
трудятся ежедневно, без двух выходных и четырехчасового
болтания в коридорах, не считая бесчисленных заседаний и
совещаний, на которые можно не ходить. Они достойны ува-
жения, и не только за то, что умеют заставить зрителя хохо-
тать. Есть область смешного, где дарования Константинова
и Рацера незаурядны, и подобных им на беспредельных про-
сторах отечественного юмора найдется немного. Речь идет о
куплетах, стихотворных шутках, эпиграммах, пародийных пе-
сенках, поздравительных каламбурах и других видах рифмо-
ванного юмора.
Безукоризненность формы, тщательность отделки в каждой
строфе, разнообразие размеров, четкость стиля и, что особен-
но важно, хороший вкус — вот что характеризует стихотвор-
ное творчество Константинова и Рацера и что осталось вне
поля внимания нашей объективной и высококвалифициро-
ванной критики.
По заказу Театра имени Ленсовета они написали песенки
к спектаклю по пьесе Володина «Дульсинея Тобосская». Бо-
же, что тут началось! «Как, Володина соединять с Констан-
тиновым и Рацером! Это нонсенс!» Кстати, знают ли эти кри-
тики точный перевод слова «нонсенс»? Но интересно, что
стихи устроили не только постановщика Владимирова, ком-
позитора Гладкова, но и самого Володина, писателя далеко не
сговорчивого и абсолютно бескомпромиссного.
Вслушайтесь:
Что любви настоящей на свете ценнее ?
И хоть рыцари нынче в Тобосо не те,
130
Записки старого сплетника
Каждой женщине хочется быть Дульсинеей,
Хоть на миг, хоть на час, хоть во сне,
хоть в мечте!
В одном четверостишии сформулирована — и как четко! —
вся идея володинской притчи. А в строке «И хоть рыцари
нынче в Тобосо не те!» тонкий юмор с переброской в нынеш-
ний (сегодняшний) день в точно найденном словечке «не те».
И таких примеров множество. В моем телефильме «Лев Гу-
рыч Синичкин» куплеты Рацера и Константинова вызывают
справедливое восхищение. К примеру, две первые строки кня-
зя Ветринского:
От Тамбова и до Вены,
От Бордо до Костромы...
Сочетание Тамбова с Веной, а тем более Бордо с Костро-
мой определяют иронический стиль всего дальнейшего. А как
безукоризненна игра слов в строфе:
Лишь пройдусь в мазурке с нею,
Лишь прижму к груди своей,
Сразу бросится на шею,
Бросив мужа и детей!
Потрудитесь вчитаться. В стихах Константинова и Рацера
вы найдете много оригинального, неожиданного, свежего.
Начиная с 1956 года мы непременно играли их номера в каж-
дом капустнике.
Дебютировал у нас и ныне знаменитый Семен Альтов. Он
работал ночным сторожем во Дворце искусств на Невском,
86, в бывшем особняке князя Юсупова. Маленький уютный
Дом актера остался в полном владении марионеток. К слову
сказать, и наша капустная фантазия поблекла в этом слиш-
ком роскошном особняке. Сеня Альтов кое-что пописывал.
Я предложил ему сделать номер для Валентины Ковель, ко-
торый вынашивал много лет, — «Три весны». Три эпохи в жиз-
ни одной актрисы с веселым началом и очень грустным кон-
цом. Ни у кого это не получалось. Семен написал, что
называется, с первой же попытки. Наше трио — Аптекманы
и я — сочинили песенки. Ковель сыграла, но как! Это была
наша первая удача в области «нового» юмора, природу кото-
131
Александр Белинский
рого я попытался объяснить. Со Жванецким у меня не полу-
чилось.
И все-таки причина смерти нашего капустного театра, про-
существовавшего четверть века (а это очень, очень много),
значительно серьезнее. До сих пор я не знаю, что значит сло-
во «композент». Так почему-то мы называли нетеатральную
публику, стремящуюся попасть на капустники. Мы играли их
уже по двадцать, тридцать раз, причем на огромных сценах,
вроде Дворца культуры имени Кирова на Васильевском ост-
рове. Кто же нас смотрел?
Мы портнихи, продавщицы
И завмагов целый взвод,
Все ответственные лица,
Понимающий народ
В искусстве.
В путь, в путь, в путь!
Всегда приходим дружно,
Нам пропусков не нужно,
Желает вас смотреть
Торговая сеть!
Вторая половина зрительского «композента» пела такую
песню:
Пришел к нам в цех распространитель,
Билеты он распространял,
А я до зрелищев любитель —
В театр два билета взял.
Мы проведем культурно вечер,
Известно где, известно как.
С тобою, милка, обеспечим
Театру этому аншлаг.
Мы смеялись со сцены над нашим зрителем, но сами стре-
мились ему угождать. Почему? Потому что за каждое пред-
ставление мы начали получать деньги. Этого требовали обре-
мененные семьями и почетными званиями артисты.
Бескорыстными до конца остались только мы с Аптекмана-
ми да еще милая, до конца своих дней наивная Вера Сони-
на, так трогательно много лет подряд выходившая на просце-
ниум с мешком картошки, изображая учительницу русского
132
Записки старого сплетника
языка 4-го «Г» класса. Остальные... Нет, я никого не осуж-
даю. Это было веление времени, которое так точно, по мере
сил, мы отражали в наших капустниках. Лучше всего это бы-
ло сделано в номере «Ресторан».
Этот номер весь от начала до конца в один присест сочи-
нили на Моховой в двух комнатах большой коммунальной
квартиры чета Аптекманов и я. Позже Яша Рохлин отредак-
тировал стихи. Попробую пересказать содержание.
Висит объявление: «Ресторан «Вест». 193... год. Три музы-
канта во фраках поют на мотив старого танго «Журавли»:
Заходите в нам в «Вест»
После вашей премьеры.
Предлагаем меню, принимаем заказ,
На различные вкусы, любые манеры,
Ведь недаром наш «Вест» — ресторан первый класс.
Здесь найдете вы все,
Что хотите на свете,
Вам по вкусу предложат и перец, и соль,
Можно так, как во МХАТе,
И так, как в ГОСЕТЕ,
Можно так, как Таиров и как Мейерхольд.
ГОСЕТ — это Государственный Еврейский театр. Осталь-
ное как будто не требует комментариев.
Песню прерывала Ковель, появляющаяся в моем пиджаке.
Я снимал его за кулисами и надевал на нее. Это была наша
лирическая традиция. За Ковель шел человек в пиджаке с под-
нятым воротом. Владимир Татосов играл его настолько точ-
но, что не было сомнений в его принадлежности к «славным»
органам госбезопасности.
— Что вы играете? — грозно спрашивала Ковель.
Музыканты испуганно прятались за рояль.
— Как одеты? — следовал второй вопрос.
Музыканты снимали фраки.
— Какая сейчас эпоха? — третий вопрос.
Сотрудник в штатском снимал надпись «Вест». 193... год»
и вешал другую: «Столовая № 536. 194... год».
Музыканты в русских косоворотках пели песню на музыку
Мокроусова.
133
Александр Белинский
Вы после спектакля
Зайдете, не так ли,
В родную столовку пятьсот тридцать шесть.
У нас вы как дома,
И от реперткома
На нашу еду разрешение есть.
Здесь полные чаши
Софроновской каши
И космополитов одних только нет.
Вирта под селедку,
И Суров под водку,
Налево за дверью у нас туалет.
Софронов, Суров, Вирта — это все бездарные драматур-
гические гангстеры, заполнившие в те годы отечественную
сцену.
И опять выходила Ковель и задавала те же каверзные во-
просы. И грозно приказывала:
— Работайте!
Музыканты выходили уже в цветных пиджаках под вывес-
кой «Ресторан «Се си бон». 195... год».
Это был год начала гастролей зарубежных артистов.
Музыканты пели:
Вы к нам придете в ресторан,
Жерар Филип и Ив Монтан,
У нас другой репертуар,
Налево тот же кулуар...
А также:
Эй, мамбо консоме Кармен Марено,
Эй, мамбо де воляй Жан Габена,
Мы поем вот уже вторую смену:
«Самая нелепая ошибка, Мишка,
То, что ты уходишь от меня...»
Далее следовала немая сцена, как в бессмертном «Ревизо-
ре». Никто не выходил, но перепуганные музыканты, глядя в
кулисы, испуганно снимали пиджаки. Медленно закрывался
занавес под всегдашний гром аплодисментов, потому что в
номере в образной форме была дана главная примета време-
ни: вечный всепоглощающий ужас творцов перед начальст-
134
Записки старого сплетника
вом. Наверно, все же надо сделать сноску, что полька Кармен
Марено и француз Ив Монтан были первыми эстрадными га-
стролерами из-за границы, а «Мишка» — пошлая песенка в
исполнении любимцев Хрущева Рудакова и Нечаева.
Мы много и очень успешно гастролировали в Москве в ста-
ром чудесном Центральном Доме актера на Тверской, на пя-
том этаже, у милейшего, неповторимого Александра Моисе-
евича Эскина.
О том, что мы сыграли с блеском,
В Москве услышал некто Эскин,
И сразу, не щадя затрат,
Шлет телеграмму в Ленинград...
Эта строфа принадлежит все тому же Юре Аптекману. По-
сле этих телеграмм мы играли в переполненном зале, где за
места спорили Топорков и Кедров, Рубен Симонов и Завад-
ский, Лемешев и Козловский, — короче, как сказал перед на-
чалом наших первых гастролей Леонид Утесов: «Если б в этот
зал упала бомба, с отечественным искусством было бы надол-
го покончено». Но я, кажется, начинаю хвастаться, а это сов-
сем ни к чему.
В апреле 1993 года на сцене ленинградского Дома актера
я навсегда простился с капустником. Мне исполнилось
шестьдесят пять. Иное время, иные песни. Теперь капустни-
ки играют все. Нет, это не капустники! Соревнование, кто
больше обхамит правительство или кто скажет большую ска-
брезность. Причем все это сделано не творчески. В этом нет
тени блестящего актерского мастерства, филигранной отдел-
ки номеров. А ведь именно в этом была сила Ковель и Шар-
ко, Юрского и Татосова, других наших корифеев. Может
быть, я ворчу? Может быть, это старческая зависть? Честное
слово, нет. На моем юбилее мы сыграли четыре наших луч-
ших классических номера, два из которых я так подробно
описал, и молодежь, только слыхавшая легенду о наших ка-
пустниках, поняла, в чем был их художественный смысл. Ну
конечно же в номере «Ресторан» была новая последняя пес-
ня. Эпоха была обозначена надписью «Ресторан «Спонсор».
1993 год». Пели:
У нас в ресторане знакомые лица,
И тот, кто здесь не был,
135
Александр Белинский
И тот, кто здесь был.
Пришел на холяву поручик Голицын,
Приехал на шару отец Гавриил...
Такова была теперь «се ля ви». Кстати, так назывался один
из наших лучших капустников 1962 года.
А теперь... Уцелевшие ветераны во главе с Ковель и мои
ученики третьего курса Театрального института пели вместе
щемящий вальс Юрия Аптекмана:
Годы летят, как минуты,
Всех мы смешили давно,
Только теперь почему-то
Это совсем не смешно.
Может быть, вспомнить для дела,
Песня такая была:
Если бы юность умела,
Если бы старость могла...
X мы с моим другом и соавтором, тем, кому посвящена эта
глава, спели наш старый и конечно же лучший марш:
Мы грубых выражений не допустим,
Но ты нас, зритель, все-таки прости,
Ведь в принципе всегда играть капустник —
Как против ветра делать пур ле пти.
Но есть предлог
Без лишних склок
Сыграть еще одну программу.
Не дай-mo Бог,
Чтоб кто-то смог
Испортить нам кардиограмму.
Играть готовы до утра
Мы в этом доме, в этом зале,
Чтоб вы кричали нам «Ура!»
И в воздух чепчики бросали!
Увы, нет предлога опять выходить на сцену. Нет и не будет.
Надо все делать вовремя, не теряя чувства собственного до-
стоинства.
136
Записки старого сплетника
Так чем же были по жанру наши так называемые капуст-
ники? Вечера миниатюр? Пародии? Эстрадные обозрения?
Нет, нет и нет! Только недавно я нашел им название.
Умер за рубежом удивительный русский писатель Сергей
Довлатов. Я знал его со дня рождения, и был он для меня
просто Сережей. Ах, с каким удовольствием я бы поставил
или снял все, что он написал. Именно у него я прочитал афо-
ризм, почти гениальный: «СПЛЕТНИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ
ГЕРОЕВ ТАКЖЕ, КАК НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ».
Вот чем были наши светлой памяти капустники — инсце-
нированными сплетнями. Поэтому-то я и назвал свою книж-
ку «Записки старого сплетника».
Все эти годы — до 1961-го, когда начался новый виток
моей творческой жизни, я, конечно, ставил не только капу-
стники. За свою небольшую зарплату в Театре имени Ленин-
ского комсомола я поставил десяток спектаклей. Несколько
средних, несколько плохих и даже очень плохих. На сторо-
не я поставил приличные спектакли в Театре имени Комис-
саржевской и Музкомедии и два очень хороших в Большом
театре кукол; двадцать лет спустя эти два спектакля для
взрослых на три года сделали меня худруком кукольного те-
атра. Но это отдельная и достаточно оригинальная история.
Годы с 1953-го по 1961-й считаю годами капустников и эс-
трады и конечно же встреч с интереснейшими людьми. Я
называю их...
Глава шестая
Души моей царицы»
Я всегда влюблялся в актрис. Только в актрис. Как прави-
ло, я не встречался с ними на репетициях и у меня не быва-
ло с ними романа. Нет, конечно, случались исключения, но
в основном я с ними дружил. Да, да, просто дружил. Некото-
рые из них были не очень хорошими актрисами, но обаятель-
ными, красивыми, интересными женщинами, имевшими по-
стоянный успех у второй половины человечества и отнюдь
этим успехом не пренебрегавшими. Большинство из них бес-
корыстно, а некоторые... но не будем об этом.
На сцене великого творения Карло Росси до войны первой
актрисой была Наталья Сергеевна Рашевская. Я уже писал об
этой умнейшей женщине. Она была серьезной актрисой, уме-
лой мастерицей, но не более того. Работала в драматических
театрах города и как режиссер до и после войны. Она при-
надлежала к актерской элите Ленинграда, но не была власти-
тельницей дум, как и Тиме, и Парамонова, и Карякина. Две
знаменитые старухи, первая заслуженно — Корчагина-Алек-
сандровская, вторая, по-моему, преувеличенно — Мичурина-
Самойлова, оставались угасающими звездами Александрий-
ской сцены. Никто из женщин-актрис не мог сравниться по
популярности с Черкасовым, Симоновым, Скоробогатовым,
не говоря уже о Юрьеве — первом Арбенине русской сцены.
Короче, равных Савиной и Комиссаржевской не было. Рощи-
на-Инсарова, о которой восторженно вспоминали Мейер-
хольд и Юрьев, первой эмигрировала. Ведринская, ее нежно
вспоминали Горин-Горяйнов и Адашевский, звучала недолго.
Александринский театр вернулся из эвакуации в Новоси-
бирск с двумя героинями: Ольгой Лебзак и Тамарой Алеши-
ной. Через несколько лет к ним присоединилась по оконча-
нии института Лидия Штыкан. Об этих-то трех «души моей
царицах» и пойдет речь.
138
Записки старого сплетника
Начну с Ольги Яковлевны Лебзак. Как сказал один из трех
мушкетеров Атос — граф де ла Фер — о своей трагической
любви — Анне де Бейль, страшной, заклейменной палачом
Миледи, — она была не просто хороша собой, она «опьяня-
ла». У Ольги Лебзак был чудесный, с пленительной трещин-
кой голос, прелестная улыбка и свободная пластика. В жиз-
ни она, как и Алешина и Штыкан, почти не пользовалась
косметикой. Туалеты? Да их и не было. Одно серое пальтиш-
ко на все времена года и два платка. Один белый, пушистый,
другой черный, кружевной. Ольга Яковлевна была абсолют-
но нищей. Определялось это не только скудостью зарплаты,
беспутным мужем-пропойцей Кириллом Булатовым, небла-
годарными и недолговечными любовниками, абсолютной
бесшабашностью и... пристрастием к вечной национальной
беде русского актерства. На углу Садовой и Невского был по-
гребок «Советское шампанское». Вокруг — три драматичес-
ких театра: Александринка, Комедия, имени Комиссаржев-
ской. Я писал куплеты:
Конец спектаклей уже повсюду,
Готовь вино скорей, неси посуду.
Мы заработаем сегодня ей же ей,
Так становись встречать актеров у дверей.
Придут Черкасов и Адашевский,
Скоробогатов и Чекаевский.
Налейте водку просто так
Для Ольги Якольны Лебзак.
Она не обиделась. Немножко огорчилась. Знала, как без-
заветно я в нее влюблен. Мне было восемнадцать лет, ей —
тридцать четыре. Вот так. Через год Лебзак вышла замуж за
моего старшего друга Константина Игнатьевича Адашев-
ского. Он был старше ее тоже ровно на шестнадцать лет.
Настолько же, насколько она старше меня. Они жили друж-
но. Болезнь русского актерства унесла ее из жизни раньше
Адашевского. Она играла Софью в «Горе от ума», Полину
в «Мачехе», Дездемону, Негину, Виолу в «Двенадцатой но-
чи». Все заурядно хорошо. Не более. Имела большой обще-
ственный (так это тогда называлось) успех в спектакле
«Высокая волна», инсценировке фальшивого романа Нико-
лаевой.
139
Александр Белинский
И было у нее свершение. Подлинное открытие. Маша в «Жи-
вом трупе». Протасова играл Симонов. Ставил спектакль Ко-
жин, влюбленный в Ольгу Яковлевну В спектакле была жизнь
прекрасных, глубоко русских надломленных людей, какими бы-
ли сами Кожин, Симонов и Ольга Лебзак. Они все были люди
высокой театральной нравственности. Лишенные зависти, ин-
триганства. Всего того, что Станиславский называл каботинст-
вом. Наверно, поэтому им удалось так глубоко проникнуть в
мир Толстого. Кожин мечтал поставить для Лебзак «Чайку» и
«Дни нашей жизни». Уверен, что Оль-Оль в этой чудесной пье-
се Леонида Андреева могла бы стать событием, но время Анд-
реева, Достоевского и многих других еще не пришло. Кожин
не дожил даже до политической оттепели, а без него Лебзак ни-
чего не могла, хотя сыграла Комиссара в «Оптимистической
трагедии» в постановке Товстоногова и очень хорошо в дуэте с
Игорем Горбачевым «Второе дыхание» Крона. Это по-прежне-
му было достойное исполнение многолетней премьерши Теат-
ра драмы имени А.С. Пушкина. Лебзак не признавала никого
в режиссуре, кроме Кожича. Вивьен, Дмоховский, Музиль.
«Скучно!» — говорила она. Это было ее любимое слово.
Наша последняя встреча состоялась незадолго до ее кончи-
ны. Мы не виделись несколько лет. «В свете» Ольга Яковлев-
на уже не появлялась. На все театральные мероприятия, до
которых прежде они были большими охотниками, Адашев-
ский теперь ходил один. И вдруг она мне позвонила. Ей бы-
ло за шестьдесят, мне шел пятый десяток, и я активно ставил
телевизионные спектакли, многие с участием Адашевского.
Очень мы дружили. И вот я приехал к Лебзак. Она была трез-
ва, умна и очень хороша собой. Гордилась внуком Никитой.
Она попросила поставить для нее пьесу Юрия Нагибина «За-
ступница» о бабушке Лермонтова. Я немедленно дал согла-
сие, не читая. Когда прочел, подтвердил свое решение ста-
вить на сцене Театра драмы имени А.С. Пушкина. Тогдашний
руководитель Игорь Горбачев не возражал. Он никогда ни на
что не возражал и никогда ничего не делал ни для одного ар-
тиста. А время... «Время это самое явление упрямое», как по-
ется в одной старой песне. Оль-Оль не стало. Я всегда назы-
вал ее именем героини пьесы Андреева — Оль-Оль. Они были
так похожи своей добротой, беззащитностью, нежностью, гру-
стной судьбой.
140
{(тиски старого сплетника
С Лебзак и Алешиной я познакомился одновременно на
прогонах «Горя от ума» в 1946 году. Спектакль ставил в Алек-
сандринке (Академический театр драмы имени А.С. Пушки-
на) мой учитель Б.В. Зон, лишившийся собственного теат-
ра — знаменитого до войны Нового ТЮЗа. Оль-Оль играла
Софью, Тамара (она стала для меня Тамарой с первой мину-
ты знакомства) — Лизу. Играла традиционно и очень весело.
Правда, муж Алешиной Толубеев был очень недоволен и Та-
марой и спектаклем. Он был прав. «Я кокетничаю с вашим
мастером», — представилась мне Алешина. Я рассказал, что
до войны видел ее дебют в роли Софьи. «Как вы были кра-
сивы!» — вырвалось у меня. «И сейчас буду не хуже. Отойду
от Андрюши», — парировала она. «Горе от ума» была ее пер-
вая премьера после рождения сына — Андрея Толубеева. С
этого момента на всем протяжении нашей более чем полуве-
ковой дружбы мы на «вы» друг к другу не обращались. Уди-
вительная это была дружба. Мы не виделись годами. Потом
я звонил и звал ее в балет. Она никогда не отказывалась. У
нас возникла традиция посещать вместе гастроли Вахтанга
Чабукиани. Еще мы ходили в Музкомедию. Оба любили опе-
ретту. Она очень радовалась моему назначению в оперетту.
Это произошло, когда мне стало шестьдесят шесть лет, а ей...
Ни одного моего спектакля в Музкомедии она посмотреть не
сумела, хотя очень и очень хотела.
Наши свидания начинались всегда на кухне ее небольшой
квартирки на проспекте Майорова. Я всегда просил ее толь-
ко варить картошку и не покупать ничего, кроме селедки.
Водку я приносил сам. Пили мы всегда немного. Она расска-
зывала мне о своих романах, всегда с большим уважением к
их очередному герою. Как правило, это были достойные лю-
ди старше ее. У Тамары был редчайший талант, именно та-
лант — дружить со своими коллегами-актрисами. С Еленой
Михайловной Медведевой, Еленой Петровной Карякиной.
Обе были старше Тамары, а из артисток нового поколения
любили только ее. Да и Рашевская доброжелательно переда-
ла ей свою любимую Лизу Калитину из «Дворянского гнез-
да». Я, естественно, смотрел все ее премьеры. Во время рабо-
ты в театре Бориса Михайловича Дмоховского, обожавшего
Алешину, она играла в каждом его спектакле. Обидно, что
спектакли эти были малоудачными. Безусловно, свою лучшую
141
Александр Белинский
роль Тамара сыграла в «Профессии миссис Уоррен» Бернар-
да Шоу в постановке Вивьена и блестящем оформлении Аки-
мова. Как же одел Николай Павлович эту редкую русскую кра-
савицу! Как превратил ее в чопорную англичанку Виви
Уоррен, нисколько не умалив красоту и обаяние женщины.
Акимов и Вивьен знали толк в женской привлекательности.
Будучи человеком достаточно замкнутым, не любя шумные
компании и общественные сборища, Алешина была женщи-
ной веселой, умеющей радоваться жизни, при том что она не
очень баловала ее радостями.
Вершиной нашей дружбы стали репетиции «Обломова» на
телевидении. Это была вторая встреча. В первой я поставил
для нее старомодную комедию Арбузова «Шестеро любимых».
Тамара была всегда абсолютно свободна перед камерой. Сни-
малась она до безобразия мало. Это при ее национальной кра-
соте, распевной русской речи, способности выдержать круп-
ный план любой длины. Все это продемонстрировано в роли
вдовы Пшеницыной, героини Гончарова, с ее глубокой и
скромной любовью к барину Илье Ильичу, так точно сыгран-
ному Олегом Басилашвили.
Я мечтал о пьесе «На бойком месте». Ах, как бы Тамара сыг-
рала Евгению. «О да!» — воскликнул худрук Горбачев. Этим де-
ло и кончилось. Не гарантирую, что он перечел пьесу, если да-
же читал ее вообще. Вместо этого я снял на телевидении «Не
было ни гроша, да вдруг алтын». Она хорошо сыграла Анну Ти-
хоновну. Много лет в поездках Алешина играла «Шутников»
Островского с партнером Михаилом Екатерининским. Ставил
спектакль многолетний завтруппой театра Пионтковский, всю
жизнь влюбленный в Тамару, как и режиссер Даусон. Но ни
они, ни Дмоховский, ни даже учитель ее Вивьен не понимали,
что Алешина прежде всего обязана играть Островского. Сыгра-
ла она только Парашу в «Горячем сердце», а должна была бы и
Варвару в «Грозе», и Полиньку в «Доходном месте», и во всех
купеческих пьесах русского Шекспира.
За Тамару все доиграл и доигрывает Андрей Толубеев, Ан-
дрюша, ее обожаемый сын — артист. С выходом Андрея на
сцену Алешина совершенно перестала интересоваться своей
актерской судьбой. Да, собственно, актерские судьбы в Алек-
сандринке в это время вообще перестали существовать. Театр
превратился в передовой комбинат по выпуску конъюнктур-
142
1аписки старого сплетника
ных советских премьер. Тяжело переживая судьбу единствен-
ного театра своей жизни, Алешина интересовалась теперь
только товстоноговским БДТ, где так удачно играл Андрюша.
Она отчаянно волновалась перед его премьерами. Я аккурат-
но звонил по телефону. На первые спектакли я никогда не
хожу. Ответы были лаконичные: «Мне не было стыдно». Она
оставалась такой же, эта скромнейшая актриса и красавица
женщина. Только однажды после премьеры «Театра Нерона и
Сенеки» Э. Радзинского, где Андрюша сыграл римского им-
ператора, роль, сразу выдвинувшую его в первую шеренгу пи-
терских актеров, Тамара сама позвонила мне и коротко ска-
зала: «Мне очень понравилось». Следующий ее звонок был
печальным: Андрей в очередной раз женился. Делал он это
не раз и не два. После этого брака Тамара сказала мне: «Я по-
теряла друга» — и повесила трубку. Я сразу же поехал к ней.
Но и при встрече она была немногословной, только очень,
очень печальной. Впрочем, брак был недолгим, но прежней
веселой Тамары я уже не видел. Она болела. Подолгу лежала
в больницах. После смерти моей жены Лиды приехала ко мне
сама. На свое восьмидесятилетие не пустила поздравить. «Я
хочу остаться в твоей памяти красивейшей русской женщи-
ной. Так ты меня всегда называл». Это было последнее, что
я от нее слышал. Впрочем, совсем недавно прочел в журна-
ле несколько ее писем к сыну. Она писала Андрею о прочи-
танной книге записок французского художника Курбе. Ни-
когда не мог себе представить, что она читала нечто подобное.
Самая скромная из всех знакомых «души моей цариц». Са-
мая незлобивая, независтливая. Кого же она все-таки не лю-
била? Помню, Лидию Петровну Штыкан. Нет, не завидова-
ла, понимая масштаб дарования. Не любила как женщина.
Штыкан была перед ней не виновата. Отобрала роли как ак-
триса, поднимаясь от роли к роли как по ступенькам к самой
вершине — не славы, славы у нее никогда не было, да она и
мало ею интересовалась, — к вершине актерского искусства.
Не только в своем поколении, а во многих поколениях
актрис Александрийского театра и всего театрального Ленин-
града Лидия Петровна Штыкан была по таланту первой сре-
ди первых. По эмоциональному впечатлению, а я впечатли-
тельный зритель, только Юлия Борисова и Марина Неелова
могут стоять рядом. О Фаине Раневской я не упоминаю. О
143
Александр Белинский
неи никто никогда и не спорил. Как о Чарли Чаплине и са-
мом Господе Боге. Лидия Штыкан была... Но попробую обо
всем по порядку.
1945 год. Я студент первого курса режиссерского факультета.
Ходят легенды о втором и четвертом курсе актеров, который
ведет ректор, тогда он назывался директором института, —
Николай Евгеньевич Серебряков. На четвертом блестяще
играет сумасшедшую барыню в «1розе» и мадам Фике в «На-
следниках Рабурдена» Золя Валентина Ковель. Это — будущая
примадонна моих капустников и эстрадных миниатюр, веду-
щая актриса сначала Александринки, потом БДТ.
В институте училась формально. Уже была актрисой БДТ.
Тогдашнего унылого театра, возглавляемого Рудником. Лев
Сергеевич Рудник. О нем говорили: Рудник в театре, Лев —
в постели. Его любовницами были все красавицы города и да-
же приехавшая на день в Ленинград легенда австрийского ки-
но («Петер», «Маленькая мама», «Катерина»), героиня дово-
енных фильмов, Чаплин в юбке — Франческа Гааль. Лида
Штыкан стала блокадной жертвой Рудника. Дебютировала
она в БДТ в роли Абигайль в «Стакане воды». Партнером в
роли Мешема был Владислав Стржельчик. Они затмили сво-
ей молодостью, внешней привлекательностью, врожденным
юмором исполнителей главных ролей: королеву Анну — Оль-
гу Казико, герцогиню Мальборо — Анну Никритину, викон-
та Ьолингброка — Александра Жукова. Я был на этой премье-
ре и, получив свой первый в жизни гонорар за елку в цирке,
на оставшуюся после покупки серого двубортного костюма
сумму плюс стипендию повел Лиду в ресторан «Кавказ-
ский» — подвальчик возле Казанского собора. С этих пор все
свои деньги до старости я оставлял в трех ресторанах: «Кав-
казский», «Восточный» (возле «Европейской») и «Садко» в са-
мой «Европейской». Все «души моей царицы» обожали рес-
тораны, кроме Тамары Алешиной, никогда в них не ходившей.
Я же до сих пор признаю начало встреч только за хорошо на-
крытым столом, будучи и гурманом и обжорой одновремен-
но. Лида Штыкан была безразлична к закуске, зато... но тог-
да до трагедии было еще далеко.
В институте у Серебрякова она сыграла две роли. В «Ост-
рове мира» Евгения Петрова впервые на пуританской совет-
ской сцене появилась в шортах. Одновременно шок и восторг
144
Александр Белинский
Мать — Софья Михайловна Лурье
Отец — Аркадий Александрович
Белинский
Александр Белинский —
студент
Жена Лидия Ивановна
и сын Павел
Саша Белинским — школьник
Джульетта — Г. Уланова
Альберт — К. Сергеев, Жизель — Г. Уланова
Дениза — Г. Пашкова
«Нитуш»
На репетиции «Капустника»
с К). Аптекманом
После «Капустника» с Л. Утесовым: А. Белинский,
С. Юрский, И. Лурье, Ю. Аптекман, В. Дорошев
Катя — А. Фрейндлих
«Раскрытое окно»
«Капустник»:
С. Юрский и В. Сонина
1оклоны после «Капустника»:
О. Аптекман, Л. Жвания, С. Юрский,
L. Белинский, В. Никитенко
Г. Товстоногов
Анна — И. Кондратьева, Черкун — П. Луспекаев
«Варвары»
Черкун — П. Луспекаев, Редозубов — В. Полицеймако,
Катя — 3. Шарко
«Варвары»
Мольер — С. Юрский
«Мольер»
Фарятьев — С. Юрский
«Фантазии Фарятьева»
А. Райкин
60-летие А. Райкина:
А. Райкин, Н. Товстоногова-Лебедева, А. Белинский
Поклоны после премьеры спектакля
«Цезарь и Клеопатра»
в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской
Юбилей А. Белинского:
Е. Максимова, А. Белинский, А. Собчак
От автора — Л. Дьячков
т/с «Мертвые души»
Синичкин — Н. Трофимов, Лиза — Г. Федотова
т/ф «Лев Гурыч Синичкин»
Звезда мюзик-холла — Е Максимова
т/ф «Чаплиниана»
На съемках т/ф «Женитьба Бальзаминова»
Сваха — Т. Квасова, Миша — Б. Синкин,
с собакой в руках — режиссер А. Белинский
Шмага —J1. Куравлев,
Несчастливцев — В. Стржельчик
к/ф «Провинциальный бенефис»
мм
Иигаев — В. Кузнецов, Шмага — Л. Куравлев,
Купчик — С. Власов, Миловзоров — В. Смирнитский,
Коринкина — С. Немоляева, Великатов — В. Тихонов
</ф «Провинциальный бенефис»
Незнамов — А. Лазарев-мл., Шмага — Л. Куравлев
к/ф «Провинциальный бенефис»
к/ф «Провинциальный бенефис»
Муров — В. Самойлов, Кручинина — Г. Вишневская
к/ф «Провинциальный бенефис»
Александр Белинский
ia ниски c inapt'го сплетника
всего института, и заседание парткома во главе с бдительной
Евгенией Константиновной Лепковской, в прошлом попу-
лярной куртизанкой бряицевского ТЮЗа.
Замечательно сыграла Штыкан эпизодическую роль Анто-
нины в горьковском «Егоре Булычове» с Пантелеймоном
Крымовым — Егором. Артист редчайшего таланта, он сразу
был приглашен во все театры города. Играл и в БДТ, и в Алек-
сандринке, и в театрах имени Комиссаржевской и Ленсовета
и отовсюду увольнялся после или накануне премьеры по од-
ной и той же причине. По этой же причине безвременно уш-
ла из жизни прекрасная Лида Штыкан.
Она была актриса от Бога. Сильный голос с редким богат-
ством интонаций. Лицо с огромными синими глазами и ми-
микой, выражающей тончайшие движения души. Безукориз-
ненный по вкусу юмор. Огромное женское обаяние с тем, что
называется сексапилом, без которого невозможно актерское
творчество. При этом способность к внутреннему перевопло-
щению, к острой характерности. К ее недостаткам надо от-
нести плохой музыкальный слух и отсутствие настоящей тан-
цевальности. Опереточной актрисой она не могла бы быть.
Да и не надо.
Сначала в Александринке, куда Штыкан пригласил прозор-
ливец Вивьен, она сыграла вводы: Элизу в «Пигмалионе» —
неудачно, хотя ее роль, и Луизу Миллер в «Коварстве и люб-
ви» — прекрасно. А ведь Лида не любила лирических голу-
бых ролей. И вдруг такая трогательная чистота на фоне лож-
ной декламации александринских монстров: Крюгера,
Дубенского, Андриевского, Воронова, Парамоновой. Лучшие
артисты того времени Симонов и Скоробогатов, Толубеев и
Меркурьев, Черкасов и Екатерининскии в таких спектаклях
не играли.
Потом начались ее творения. Люся Ведерникова в «Годах
странствии» Арбузова. Она была великой мастерицей инто-
наций. Само это слово было крамолой в годы демагогии по
поводу метода физических действий. А Штыкан говорила:
«Ай-ай-ай!» Именно «Ай-ай-ай», а не «Аияяи», узнав об из-
мене Шурки Ведерникова (одна из лучших ролей Игоря Гор-
бачева), и весь зрительный зал плакал и повторял эту инто-
нацию. И передавалась она из уст в уста, становясь
театрапьнои легендой.
145
8 Записки старого сплетника
Александр Белинский
То же случилось с блестящим грассированием в роли Бланш
в «Игроке» Достоевского. Не припомню другой такой изящ-
ной речевой характерности в изображении иностранки.
По комедийному мастерству Лида была прямой наследни-
цей Савиной и Грановской. По лирическому нерву — Веры
Федоровны Комиссаржевской. Я это понял, когда снимал с
ней фильм «Девочки» по пьесе Пановой. Вера Федоровна го-
ворила, что Штыкан сыграла намного глубже, чем она напи-
сала.
И как чувствовала Лида фразу, какие комедийные краски
находила в конферансе и миниатюрах популярных капустни-
ков. Почему же не стала она знаменитой актрисой? Почему
не смогла сравниться по популярности с Алисой Фрейндлих
или Натальей Гундаревой, будучи не менее талантлива, чем
вышеназванные?
Во-первых, полное отсутствие какого бы то ни было актер-
ского тщеславия. Кроме Эмилии Поповой, я ни у кого подоб-
ного не встречал. Это хорошо. Но неумение работать над ро-
лью. Слишком легко ей все давалось и быстро надоедало.
Подобной «болезнью» страдал, кстати, и Горбачев, но отсутст-
вием тщеславия он не отличался. А Лида без тени сожаления
отдала блестяще сыгранную ею роль Оливии в «Двенадцатой
ночи» в театре Алле Ларионовой в кино. Та прославилась, а те-
атральный шедевр Штыкан мало кто помнит.
В Лиду Штыкан влюблялись все мужчины. Ее единствен-
ный муж, чудесный артист Николай Боярский, ревновал бе-
зумно. Во второй половине жизни роли переменились. Колю
любили женщины, а Лида не без оснований с ума сходила от
ревности. Но оба они обожали свою красавицу дочь, умницу
Катю, и среди актерских семей эта была не самая плохая.
Ничто не предвещало катастрофы. Но вот на ночные репе-
тиции капустников Лида стала приходить нетрезвой. Я немед-
ленно выгнал ее. По сей день не могу себе этого простить.
Дальше хуже. Коля снимался во всех моих спектаклях. Лиду
никто никуда не приглашал. Повторялась история Лебзак —
Адашевского. Тяжело заболел Коля. Лишился голоса. В спек-
таклях Горбачева Штыкан играла позорные роли, стала крив-
ляться, потеряла изящество.
Погибла она в Перми на гастролях, погибла, как персонаж
Достоевского. Она была актрисой, которая могла играть Шек-
146
hinucKu старого сплетника
спира и Мольера, Скриба и Лабиша. Алексей Арбузов и Лео-
нид Зорин считали ее лучшей исполнительницей своих пьес.
Сыграла она до обидного мало. Роли последних лет ее жизни
были только «осколками вдребезги разбитого времени».
Еще об одной несложившейся актерской судьбе. Нину Ни-
колаевну Архипову я впервые увидел в 1944 году. Это был эк-
замен последнего курса Щукинского училища. Играла она от-
рывок из малоизвестного романа Лескова «Обойденные». Не
могу понять, почему этот чудесный роман предан забвению,
почему не переиздается даже в полных собраниях сочинений
писателя. Так вот две сестры, младшая Дора — Дарья, стар-
шая Анна. Между ними герой — Долинский. Банальная фа-
була, по которой Лесков расшивает волшебные узоры своего
повествования. А диалоги? На уровне пьес Чехова. Нина Ар-
хипова со своим сокурсником Георгием Жарковским, буду-
щим многолетним директором Театра имени К.С. Станислав-
ского, играла сцену объяснения в любви Доры и Долинского.
Это было редчайшее сочетание юмора и лиризма — торжест-
во школы Вахтангова, как я ее понимаю. Через два дня я смо-
трел Нину Николаевну (она была для меня еще Николаев-
ной) в дипломном спектакле по сказке Карло Гоцци. Опять
лучше всех! А уж тут играли такие ее сокурсники, как Этуш
и Шлезингер, будущие звезды Вахтанговского театра. Нако-
нец, премьера «Проклятого кафе» Шкваркина на сцене теат-
ра, ютившегося тогда в переулке Садовских, помещение ны-
нешнего ТЮЗа. Играют Горюнов, Кольцов, молодой
Гриценко, красавица Галина Сергеева. Ставит Андрей Тутыш-
кин. Выпускает сам Рубен Симонов. Запоминается только де-
вочка в сереньком платьице. Ни одной мизансцены. Симо-
нов усадил ее у русской печки, все, что осталось от дома во
временно оккупированном (так называлось это в сводках) ма-
леньком городке, и, не делая ни одного замечания, выслушал
ее монолог, написанный Шкваркиным. На генеральной репе-
тиции автор, Рубен Симонов, весь зрительный зал плакали.
Я рыдал. Еще и потому, что уезжал в Ленинград, не приня-
тый в Училище при Театре имени Евг. Вахтангова, в отчая-
нии, что не увижу на сцене этого театра Нину Архипову. Так
и случилось.
Я знал, что она сыграла и «Жестокий романс» Гладкова,
и саму мадемуазель Нитуш, дублируя Галину Пашкову.
147
Александр Белинскии
Узнал, что она оставила своего первого мужа, композитора
Голубенцева, и вышла замуж за писателя Бориса Горбатова,
родила двойню — Лену и Мишу — и покинула театр Вах-
тангова после съемок в дурной картине Барнета «Щедрое
лето» (фильмов хороших в эти годы не было), поступила в
Театр сатиры. Потом... Тут я позволю себе лирическое от-
ступление.
Отбросив ложную скромность, берусь утверждать, что не-
дурно знаю историю театра. В моем воображении возникают
образы великих артисток прошлого, и я понимаю, что любил
бы Дузе, а не Сару Бернар, Рашель, а не Режан, а среди сво-
их соотечественниц предпочел бы всем, в том числе и Ермо-
ловой и Савиной — Веру Федоровну Комиссаржевскую.
Треплев, герой чеховской «Чайки», назван от слова «тре-
пет», а не «Трепло» — учил меня мечтавший о постановке
«Чайки» Владимир Платонович Кожич. «Она всегда трепета-
ла, — восторженно вспоминал Комиссаржевскую Леонид Уте-
сов, — и в драме, и в комедии». Трепетными продолжатель-
ницами традиций Веры Федоровны на моем веку были Мария
Бабанова и Галина Пашкова, Ирина Гошева и Эмилия Попо-
ва. По рассказам — Рощина-Инсарова, Алиса Фрейндлих,
Светлана Немоляева, Наталья Гундарева — савинская тради-
ция, Алла Тарасова и Татьяна Доронина — ермоловская. Все
это достаточно условно, но пусть умелые театроведы опро-
вергнут мои рассуждения, я не возражаю.
«Души моей царицы» — прежде всего трепетные актрисы,
оставляющие, цитирую все того же Александра Сергеевича,
не «ума холодных наблюдений», а «сердца горестных замет».
Мое сердце всегда начинало трепетать при одном появлении
на сцене Улановой. Трепетало от песенки арбузовской Тани —
Бабановой, от Лидии Штыкан в «Годах странствий», Эмилии
Поповой в «Детях солнца», всех ролей Галины Пашковой. Ни-
на Архипова в период актерской юности заставляла плакать
радостными слезами из-за горестей ее героинь, радостными —
из-за соприкосновения с подлинным трепетом актерской
жизни на сцене.
Но вот она стала актрисой Театра сатиры. Получила все
причитающиеся ей по праву звания. Прожила чудесную се-
мейную жизнь с влюбленным мужем, ведущим артистом теа-
тра Георгием Менглетом. Я работал с ним на телевидении. Мы
148
iauucKu старого сплетника
подружились. С Ниной я и сейчас дружу. Но только однаж-
ды в детской сказке «Волшебные кольца Альманзора» я ис-
пытал зрительский трепет, равный ролям юной Архиповой.
Нет, Театр сатиры — не ее театр. Думаю, что в Театре имени
Евг. Вахтангова не было бы знаменитых провалов «Ромео и
Джульетты» и «Чайки», если бы не ушла Архипова, а Нина
сыграла по праву принадлежавшие ей роли.
Впрочем, ни Юлия Борисова, ни Марина Неелова тоже не
сыграли Нину Заречную и Джульетту. Обе они, слава Богу,
имеют заслуженную ими творческую счастливую судьбу. Я
люблю их обеих. Они для меня обе «комиссаржевки». Обе
могли сыграть любую роль Веры Федоровны. Что между ни-
ми общего и что отличает их от всех «души моей цариц», о
которых я написал? Первое и самое главное — подвижниче-
ское служение сцене. Для них театр не просто профессия, не
просто искусство. Для них — это религия. И для глубоко ве-
рующей Юлии, и для Марины, отношения которой с церко-
вью мне неизвестны. Юлия замечательно играла Вальку-де-
шевку в «Иркутской истории». Марина могла бы сыграть не
хуже. Неелова удивительно играет Елизавету в трагедии Шил-
лера «Мария Стюарт». Борисова должна была бы играть Ма-
рию. Из ролей Комиссаржевской Марина должна была бы иг-
рать Лизу в «Детях солнца», Рози в «Бое бабочек», «Дикарку»
Островского. Юлия — «Бесприданницу», «Дачников», «Трак-
тирщицу». Обе — «Сестру Беатрису» и конечно же «Чайку».
И обе могут сыграть документальную пьесу о Комиссаржев-
ской, «чайке» русской сцены», с великими письмами Веры
Федоровны, стихами Блока, воспоминаниями Ходотова. Бо-
рисова показала, как это делается, в роли Лики Мизиновой,
а Неелова — снявшись в «Графе Нулине». Даже недостатки у
двух моих кумиров общие. Обе не поют, как это принято в
сегодняшних мюзиклах. Танцевальные их возможности мне
неведомы. Все это роднит их с Лидией Штыкан, только судь-
ба, слава Богу, другая.
В жизни я мало знаю обеих. Судьба дала мне радость по-
ставить в театре «Стакан воды» с Борисовой — королевой Ан-
ной. Счастливейшие репетиционные дни. Продолжения не
последовало. Неелова категорически отказывается от всех мо-
их предложений. Наверно, она права. Я для нее глубоко ста-
ромоден.
149
Александр Белинский
Обе «души моей царицы» по-прежнему доставляют мне не-
сравненную радость театрального зрителя. Одна — играя Кил-
лера, другая — «Без вины виноватые» Островского. «Несрав-
ненную» — потому что равных на сцене я пока не вижу. Я
сам, как педагог Театрального института, выпустил на сцену
Елену Сафонову, Татьяну Кузнецову, Евгению Игумнову. Гор-
жусь ими. Радуюсь как зритель вахтанговке Нонне Гришаевой
и Елене Яковлевой из «Современника». Но назвать их име-
нем светлой строки Пушкина — «Души моей царицы» — по-
ка не могу. Надеюсь, что пока...
Но есть человек, которого я смело могу причислить к чис-
лу тех, о ком рассказал. Нет, она не актриса, впрочем... Дик-
тор? Ни в коем случае. Журналист? Она не написала ни од-
ного слова. Я точно определяю, кто она. Собеседница. Раньше
она беседовала с голубого экрана каждый день и не имела рав-
ных на моей памяти. У нее есть все, что необходимо актри-
се. Обаяние, темперамент, голос, дикция, выразительное ли-
цо, чудесная, открытая улыбка. Я говорю о Светлане
Иннокентьевне Сорокиной.
Телефонные разговоры остановили, боюсь навеки, разви-
тие великой русской эпистолярной литературы. Телевизор рез-
ко сократил число книголюбов в самой читающей стране ми-
ра. Даже двадцатипятитомный Джеймс Хейли Чейз,
продающийся на книжных столах во всех переулках всех го-
родов нашего отечества, не может состязаться с многосерий-
ными детективами, идущими одновременно по всем каналам
телевидения.
И еще одна беда. Тихая беседа, умная, значительная, с не-
большим количеством собеседников, без возлияний, была за-
мечательной принадлежностью русского общества. В этих бе-
седах рождались новые идеи, возникали импульсы для
творческих свершений. Вряд ли что-нибудь подобное может
произойти на многолюдных тусовках, с бокалом в правой ру-
ке и бутербродом в левой, когда говорят все одновременно и
никто никого не слушает. Вряд ли это может произойти и в до-
машнем застолье, когда надо одновременно слушать собесед-
ника, смотреть по телевизору хоккейный матч и ни в коем слу-
чае не упустить ни одной информации в программе «Вести».
Я лично смотрел и слушал программу «Вести» в полном
одиночестве каждый день в восемь часов вечера, с удовольст-
150
latmcKu старого сплетника
вием встречаясь с моей самой любимой собеседницей Свет-
ланой Сорокиной.
Сегодня собеседник на голубом экране, безусловно, фигу-
ра номер один. Сорок три года работал я на телевидении.
Снял десятки телефильмов, поставил больше ста телеспектак-
лей и несчетное количество художественных и документаль-
ных передач. Я знаю «изнутри» все сложности общения с мно-
гомиллионной (миллионной!) телеаудиторией.
Аркадий Исаакович Райкин учил меня: артист на сцене и
на просцениуме — разные профессии. На сцене я существую
в предлагаемых обстоятельствах пьесы, на просцениуме я еще
обращаюсь непосредственно к зрителю, я — его собеседник.
Таким, по рассказам, замечательным собеседником был За-
кушняк, а из тех, кого я видел, — Яхонтов, Хенкин и конеч-
но же мой великий учитель Аркадий Райкин.
Голубой экран телевидения создал новый вид собеседова-
ния с невидимым зрителем. Я сам уже многие годы занима-
юсь этим важнейшим видом телеискусства. Здесь тоже были
и есть мастера, начиная с Алексея Яковлевича Каплера, Ни-
колая Дроздова, собеседников «политических» — Киселева,
Парфенова и многих других.
Моей любимой собеседницей была и остается Светлана
Иннокентьевна Сорокина. Я помню ее первое появление на
экране в ленинградском «Телекурьере». Помню работу в «600
секундах». Передача еще не была заполитизирована, и кри-
минальная информация, отлично подаваемая Александром
Невзоровым, у Сорокиной получалась с легким юмором,
смягчающим порой невыносимо драматические факты.
Этот юмор, точнее, ирония, стали отличительным качест-
вом ее манеры ведения программы «Вести». Встреча на теле-
экране с умной, интеллигентной собеседницей. Она не заис-
кивает, не старается понравиться. Но не это главное. Все
время ощущается личное отношение Сорокиной к информа-
ции, ею сообщаемой. Одним из лучших выпусков «Вестей»
было сообщение о результатах выборов в Государственную ду-
му. Подтекст каждой реплики Светланы Сорокиной был так
выразителен. В нем звучала подлинная гражданская боль за
происшедшее. Причем ни одной реплики впрямую, ни одной
осуждающей фразы. Все в интонации. Эта передача, как и во-
обще лучшие передачи Сорокиной, является тем, что назы-
151
Александр Белинский
вается подлинным искусством телеобщения. Формулировка
принадлежит покойному Владимиру Саппаку, автору лучшей
книжки о телевидении.
Светлана Сорокина тщательно отбирала последнюю фразу
в своем выпуске «Вестей». Фраза эта всегда была хорошо по-
строена литературно и отлично произнесена. Ложка дегтя в
бочку меда. Иногда Светлана Иннокентьевна острила не сов-
сем удачно. Все остальное безукоризненно: дикция, мимика,
манеры. Бывали неточности в одежде и прическе, но очень
редко.
Светлана Сорокина уроженка города Пушкина, бывшего
Царского Села. Она училась в школе, где помещалось цар-
скосельское реальное училище, которое посещали молодые
великие князья Романовы. Светлана росла в парках, где гуля-
ли лицеисты, цвет русской интеллигенции, соученики вели-
чайшего из великих поэтов. Может быть, я что-то преувели-
чиваю, но мне кажется, именно это сформировало такой
интеллигентный, привлекательный облик ведущей програм-
мы «Вести» и сделало ее столь любимой российскими теле-
зрителями.
Но вот Сорокина перешла на НТВ и стала вести програм-
му «Герой дня». Я не сразу привык к этой ее новой роли, да
и сама она, мне кажется, привыкала довольно долго, превра-
тившись из «анфасной» актрисы в актрису, которую снимают
больше в профиль, реже — в труакар. Она оставалась такой
же обаятельной, умной женщиной, прекрасно владевшей сло-
вом, с редким чувством такта, свободной, раскованной им-
провизацией в порой сложнейшей ситуации. И по-прежнему
я ощущал ее второй план, ее отношение к собеседнику и за-
нимаемой им позиции. То же происходит и в программе «Глас
народа». Но я ловлю себя на том, что жду кадров, когда она
снова обратится прямо в телекамеру, то есть побеседует непо-
средственно со мной, как она и делает это сейчас в своих се-
рьезных документальных фильмах.
Глава седьмая
Комики XX века
...Нет, засмеяться настоящим смехом
может только одна глубоко добрая душа.
Н.В. Гоголь. «Театральный разъезд
после представления новой комедии»
У Островского есть пьеса «Комик XVI столетия». Коме-
дия, прямо скажем, не из лучших, а вот название превос-
ходное.
Я купил недавно у букиниста старую книжку издания
1916 года. Автор — петербургский журналист Эдуард Старк,
печатавшийся под псевдонимом Зигфрид. Книга называется
«Царь русского смеха». Посвящена книга великому артис-
ту — Константину Александровичу Варламову. Дело не в том,
что это отличное театроведческое сочинение. Дело не в том,
что Варламов был любимейшим актером моего отца, и я с
раннего детства слышал о нем рассказы. Дело, наконец, не
в том, что полвека моей работы в театре было отдано имен-
но комедии. Мысли этой книжки показались мне настолько
актуальными, что я немедленно взялся за перо, вернее, сел
за пишущую машинку, чтобы высказать соображения по
крайне волнующей меня проблеме смеха на отечественной
сцене и экране.
Начну с длинной цитаты из упомянутой книги:
«...Комики перевелись, потому что природа стала бесплод-
на. Она не хочет рожать более ничего значительного. Меж-
ду тем комический талант должен быть весь от природы. Он
должен быть в натуре у человека. А то, что мы стали прини-
мать за комический талант, не более чем подделка.
...Смех вообще тускнеет год от года, особенно в нашей
стране, и наступит такое время, когда он вовсе исчезнет из
человечества, потому что смех неразлучен с непосредствен-
153
Александр Белинский
ностью и детской ясностью, а откуда же ему взяться, когда
даже наши дети так рано оканчивают свое детство...
...Исчезает смех из природы, следовательно, исчезает и из
искусства, из всех его ветвей, а если смех и появляется где,
то непременно в смешении то с желчью, то со слезами, то со
злостью, в чистом же своем виде смех уже нигде не встреча-
ется. Покидает смех и театр, где все позиции заняты нудны-
ми, тягучими, плаксивыми пьесами и где здоровый смех не
звучит больше».
Рассуждения эти в старой книге, повторяю, поразили ме-
ня своей актуальностью сегодня.
Начну с фольклора, с анекдотов, которые так точно выра-
жают настроения сегодняшней жизни. Кто сейчас главный
герой анекдотов? Так называемый «новый русский». Ну раз-
ве может он выдержать сравнение по уровню смешного с ге-
роями прошлых лет: Штирлицем и Мюллером или, того луч-
ше, — Василием Ивановичем Чапаевым и Леонидом Ильичем
Брежневым? Вы заметили, что анекдоты стали длиннее, а зна-
чит, и менее смешными. Я даже берусь объяснить почему.
Газеты печатают анекдоты. Юрий Никулин издал много-
томное их собрание. Наконец, анекдоты беспрерывно рас-
сказывают с голубого экрана, и, как известно, телевидение
стало единственным, не сравнимым ни с чем, рекордсменом
информации. И вот сидели за столом действительно остро-
умнейшие люди: писатель Григорий Горин, артист Юрий Ни-
кулин и несколько менее остроумных, но популярных акт-
рис и рассказывали прямо в камеру анекдот, по окончании
которого дается на подзвучке громкий хохот. О, эта пресло-
вутая подзвучка! Ее задача спровоцировать смех, указать те-
лезрителю, где надо смеяться. Но получается наоборот. Теле-
зритель лишается непосредственного восприятия, а
исполнитель — важнейшего для актера чувства общения со
зрителем. Мастер смешного Аркадий Райкин требовал от ки-
норежиссеров на съемках своих номеров непременное при-
сутствие публики. Просматривая сейчас старые пленки Рай-
кина, я убеждаюсь, как он был прав. Насколько же лучше
смотрится номер, зафиксированный прямо из зрительного
зала, чем тот же номер, снятый технически лучше в услови-
ях студии, где у артиста партнером является только киноап-
парат.
154
IdnucKW старого сплетника
Старые мхатовцы — Москвин и Качалов, выступая до вой-
ны по радио, как говорится сейчас, в «живом» эфире, ведь
записи еще не было, просили приглашать в студию зрителя,
то есть слушателя, требуя живого объекта общения, а не мерт-
вый микрофон.
Еще одна цитата из той же книги о Варламове: «...А уж за-
говорил... все — дай и то мало! Это было точно колдовство
какое. Любое слово возьмите, самое простое слово, в кото-
ром ничего особенного нет, любой актер произнесет, и мы
ничего не почувствуем. Но то же самое слово излетит, быва-
ло, из уст Варламова, и... не узнать знакомого сочетания букв,
в каждый слог, да что слог!., во всякую букву проникло что-
то особенное, освещающее, придающее своеобразную окра-
ску и тотчас вызывающее перед мысленным взором зрителя
целую картину».
Переходя к теме умения смешить на сцене словом, стоит
вспомнить одно из последних писем театрального мудреца
Немировича-Данченко, где он мотивировал назначение
Прудкина на роль Аркашки в «Лесе» Островского «умением
артиста подавать смешные словечки». Это совсем не то же
самое, что подача эстрадным актером репризы. Речь на сце-
не от себя и от образа — явления разного порядка.
«Шептальный» реализм, возникший из вульгарно понято-
го метода физических действий Станиславского, принес
большой урон искусству театральной комедии. Стоит заду-
маться, почему в знаменитой постановке М.Н. Кедрова
«Плодов просвещения» во МХАТе лучше всех играли быв-
шие коршевцы Топорков и Петкер, знавшие цену «смешным
словечкам» и умевшие их подавать, не нарушая логической
линии сценической жизни своего персонажа, т. е. не по за-
конам эстрады. Сейчас таких артистов я могу перечислить
по пальцам и боюсь, что хватит одной руки. С печалью на-
поминаю, что недавно русский театр потерял двух ЕВГЕНИ-
ЕВ — Леонова и Евстигнеева, первоклассных комедийных
артистов, хотя отнюдь не СЛОВО было у них оружием смеш-
ного, недаром ни тот, ни другой не любили концертных вы-
ступлений.
Сергей Юрский. Пушкинский «Граф Нулин» и «Нехоро-
шая квартира» Булгакова — его концертные шедевры. Но как
ни странно, этот подлинно комедийный артист ни у Товсто-
155
Александр Белинский
ногова (кроме Осипа в «Ревизоре», сыгранного блестяще), ни
в Москве не выступил ни в одной комедийной роли. Если
меня спросят, кого я считаю сегодня первым мастером коме-
дии, я, не задумываясь, назову Леонида Сергеевича Броне-
вого.
Его невероятный серьез в самых эксцентрических ситуа-
циях заставляет вспомнить королей кинокомедии Бестора
Китона, Макса Линдера и... даже страшно сказать, самого
Чаплина. Из отечественных артистов Броневой ближе всего
к незабвенному Игорю Владимировичу Ильинскому. Но...
Осмелюсь предположить, что Броневой точнее сыграл бы и
Городничего и Фамусова, роли, не ставшие удачей Ильин-
ского. Недавно я видел в «Ленкоме» у Захарова спектакль
«Королевские игры». Спектакль шумный, динамичный, с
острой пластикой, характерной для режиссуры Марка Заха-
рова. И на фоне этого — полный сценический покой персо-
нажа Броневого. Суетливые комики не в природе русского
театра. Смею уверить, что популярнейший Луи де Фюнес не
мог бы играть ни Расплюева, ни Аркашку. Броневой мог бы
играть и того и другого. Жаль, что бедное наше кино не пре-
доставило ему роли, равной знаменитому Мюллеру в «Сем-
надцати мгновениях весны». Достаточно, впрочем, посмот-
реть Броневого в «Покровских воротах» Михаила Козакова
и особенно — в «Мюнхгаузене» Горина — Захарова, чтобы
понять, что это выдающийся актер. И все-таки Броневой
прежде всего театральный актер, владеющий великим ору-
жием артиста — ИНТОНАЦИЕЙ. Наш чудесный режиссер
Петр Фоменко сказал мне, что понял недавно, цитирую точ-
но: «Выразительным средством режиссера являются в рав-
ной степени мизансцена и интонация». Последние работы
мастера по Островскому и Пушкину показали, как он этим
владеет! Марк Захаров нашел Броневому тон роли генерала
Крутицкого. Напомню, что первое десятилетие великого Ху-
дожественного театра Станиславский и Немирович искали с
артистами «тон» роли. И Фоменко и Захаров, не декларируя
этого, не знаю — сознательно или бессознательно — блестя-
ще их находят. Вспомним Юрия Яковлева — Дудукина в «Без
вины виноватых» и уже упомянутую роль Броневого в «Му-
дреце». Какие интонационные краски в сцене, где отставной
генерал цитирует стихи из старых трагедий! И как это прав-
156
hunu-ки старого сплетника
доподобно и потому смешно. А одно слово «педераст» в «Ко-
ролевских играх». Здесь, кажется, не только гласные, а даже
согласные буквы полны иронической интонации. Еще одно
важное положение. Станиславский обожал играть глупых
людей. Крутицкого, мольеровского Аргана, кавалера ди Рип-
пофратта и самого Фамусова, по свидетельству критики,
Константин Сергеевич не наделял большим интеллектом.
Когда-то (о, как хорошо я это помню!) советская цензура не
разрешала умному герою (а советский человек обязан был
быть очень умным!) попадать в глупое положение. Алексей
Денисович Дикий, пробуясь в киноверсии «Ревизора», дока-
зывал, что Городничий — умнейший человек, и только тог-
да его роковая ошибка с Хлестаковым-ревизором будет по-
настоящему смешной. В данном случае речь идет о комедии
характеров. А как быть с когда-то очень популярными ко-
медиями положений — с их путаницами, бесконечными кви
про кво? Со сцены исчезли комедии плаща и шпаги. Не ста-
вятся нигде, кроме театральных школ, русские водевили.
Приговор «не смешно» обжалованию не подлежит. Так ли
это? Вроде бы бессмертие «Собаки на сене», с одной сторо-
ны (имеется в виду телеверсия с Тереховой в главной роли),
с другой — «Лев Гурыч Синичкин» в постановке Акимова (с
Борисом Тениным) опровергали этот приговор. То же каса-
ется комедии масок. Гениальный эксперимент Вахтангова с
«Турандот» имел блестящее повторение с «Королем-оленем»,
недооцененным спектаклем театра Образцова. Театр масок —
не только комедия дель арте. Оперетты Кальмана и Легара с
масками героя, героини, простака, субретки, комика и зло-
дея вытеснили с нашей сцены классическую французскую
оперетту, литературная основа которой была всегда выше.
Более того, оперетты Дунаевского, Стрельникова и Милю-
тина повторяли нехитрую схему кальмановских сценариев.
Зритель любит театр масок. «Кабачок «13 стульев» до сих пор
остается непревзойденной развлекательной передачей. Я
лично убеждал покойного талантливейшего комедиографа
Леонида Гайдая не бросать так точно найденные киномаски
артистам Никулину, Вицину и Моргунову. И что же? Кино-
комедии с их участием живы, в отличие от очередных вер-
сий «Двенадцати стульев» и «Ревизора». И наконец... страш-
но сказать... Величайший из великих комиков всех времен и
157
Александр Белинский
народов, отбросив тросточку и котелок (напомню: в «Дикта-
торе» они еще были), потерял многое, во всяком случае в ис-
кусстве комедии. Бессмертны «Цирк», «Новые времена»,
«Огни большого города», все короткометражки, и заурядны-
ми кажутся и «Огни рампы», и «Король в Нью-Йорке», не
говоря уже о «Графине из Гонконга».
Давно-давно, автор был еще жив, мне довелось поставить
«Заседание о смехе» — миниатюру замечательного нашего
писателя Николая Робертовича Эрдмана. Финалом этой
юморески был вывод председателя собрания (его прекрасно
играл Сергей Юрский): «Смеяться дозволено только над та-
тарским игом, над крепостным правом и над Господом на-
шим, многострадальным Иисусом Христом». Так вот, после
премьеры в Москве Николай Робертович вместе с Юрием Пе-
тровичем Любимовым беседовали с нами за кулисами. «Над
чем, над чем смеяться?» — жаловался Любимов. «Когда раз-
решат смеяться надо всем, люди уже не будут смеяться», —
заметил Эрдман.
Пророческая фраза! Сейчас пытаются смеяться надо все-
ми и надо всем. Достаточно посмотреть передачу НТВ «Кук-
лы». Достаточно послушать знаменитого автора-сатирика За-
дорнова. Сатириков вообще стало много. Есть хорошие,
плохих больше. Но ведь лучший из них, Михаил Жванецкий,
способен не только высмеивать. Он еще умел и умеет просто
смешить. Смешить по-доброму, наивно и глупо. Да, да, глу-
по! По-хорошему глупо, как это делали Антоша Чехонте и
Джером Джером, Макс Линдер и Игорь Ильинский, урожен-
цы Лондона тезки Чарлзы Диккенс и Чаплин. А какой же чу-
десный, простой, тонкий юмор был у безвременно ушедше-
го писателя Сергея Довлатова!
Вот о каком смехе тоскует зритель. О чудесных грузинских
короткометражных комедиях. Об устных рассказах Ираклия
Андроникова. О лучших выпусках «Кабачка «13 стульев».
Ведь все это было. Но... «Это было недавно, это было дав-
но!» — поется в песне Баснера и Матусовского. Об этом сме-
хе напомнила мне старая книжка о Варламове.
Ах, как же хочу я в наше горестное время от души посме-
яться, сидя в зрительном зале театра или кино, над страни-
цами новой веселой книжки, у голубого экрана! Как мечтаю
увидеть в настоящей жизнерадостной комедии, не сатире, не
158
kinucKu старого сплетника
чернухе, смешных артистов Табакова и Трофимова, Чурико-
ву и Тенякову, Юрия Яковлева и Виктора Павлова. И пусть
не «мастерят» они, а отдадутся всей прелести импровизации
сценического лицедейства. Они ведь это умеют. А как бы бы-
ло хорошо, чтобы Эльдар Рязанов вернулся к очарователь-
ной наивности своих первых кинокомедий и появился бы
новый Леонид Гайдай... А талантливейший Михаил Жванец-
кий отдохнул бы от разоблачений и написал нечто такое
же истерически смешное, как бессмертный «Аваз». И кто-то
повторил чудесную клоунаду Юрия Никулина на лошади,
когда зрители в цирке изнемогали, именно изнемогали от
хохота.
Кончился XX век, конечно же самый трагический век в
истории человечества. Но ведь в самой трагической стране
умели смеяться, как нигде! Ведь на пороге века еще стоял
Чехов и были Булгаков, Зощенко, а совсем недавно умер
Довлатов. Ведь в страшном двадцать втором году создал Вах-
тангов свою «Турандот». А позже Дикий — «Блоху», Лоба-
нов — «Бешеные деньги», Эфрос — «Женитьбу». Непревзой-
денный Аркадий Райкин — тоже достояние XX века.
Так почему же надо стараться ставить «Ревизора» и «Горя-
чее сердце» обязательно несмешно? Почему нет новых теат-
ров миниатюр? Почему теряет свое обаяние Геннадий Хаза-
нов? Сколько же этих «почему», и не ответить на них
стереотипной фразой «нет денег». Не в деньгах дело, а в бо-
лезни великой нации, питающейся духовно нищей, пошлой
рекламой радио и телевидения и злобной чернухой литера-
туры, театра и кино.
XIX век оставил нам сверхъестественного писателя, не
имеющего равных в создании «смеха сквозь невидимые ми-
ру слезы». Но смеха! Смеха в первую очередь!
«Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех,
который порождается временной раздражительностью, желч-
ным, болезненным расположением характера... но тот смех,
который весь излетает из самой светлой природы человека,
излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бью-
щий родник его... Кто льет часто душевные, глубокие слезы,
тот, кажется, более всех смеется на свете!..» Н.В. Гоголь. «Те-
атральный разъезд после представления новой комедии».
Глава восьмая
Великие мира сего
Начать надо, наверно, с тех, кто «великие» в кавычках. Но
именно они решали судьбы подлинно великих, калечили эти
судьбы, а иногда (редко, конечно) эти судьбы создавали. Как
утверждают сплетни, Сталин кроме Черкасова любил еще пе-
вицу Давыдову, балерину Ольгу Лепешинскую, режиссера
Михаила Чиаурели. Будем справедливы. Все они были людь-
ми талантливыми и получили не больше, чем заслужили. Ве-
ликих же художников, уничтоженных Иосифом Виссарионо-
вичем, начиная с Бабеля и Пильняка, Мейерхольда и Леся
Курбаса, Мандельштама и Марины Цветаевой, перечислять
не нужно. Я дожил до того времени, когда восстановлены их
имена, а людей, увы, не воскресишь.
Никита Сергеевич Хрущев запятнал себя скандалами с Бо-
рисом Пастернаком и Эрнстом Неизвестным. В любимцах у
него ходили Рудаков и Нечаев — ленинградские куплетисты,
потеснившие на эстраде самого Аркадия Райкина.
Деятельность в искусстве Леонида Ильича Брежнева озна-
меновалась восстановлением в творческих правах Райкина.
Он был с Райкиным на фронте, и этого оказалось достаточ-
но, чтобы действительно великий артист получил и народно-
го СССР, и Ленинскую премию, и Героя Социалистического
Труда, и квартиру в Москве, что было ему значительно важ-
нее, ибо вожди Ленинградского обкома ненавидели Райкина
и передавали эстафету ненависти своему преемнику как глав-
ный партийный завет.
Сколько же я пережил этих «великих» мира сего, хозяев
моего трагического прекрасного города!
Киров был убит. Угаров расстрелян. Жданов — сдох. Ска-
зать про него «умер своей смертью» было бы слишком
нежно. Впрочем, своей ли смертью умер этот злобный алко-
голик — палач Зощенко и Ахматовой, Прокофьева и Шоста-
160
кишски старого сплетника
ковича?.. Ходят сплетни, что и его... Впрочем, сплетни ка-
кие-то неконкретные.
А вот блокадных первых секретарей Попкова и Кузнецова
расстреляли вполне конкретно без суда и следствия, соору-
див так называемое «ленинградское дело», поломавшее судь-
бы многих людей.
А дальше шли Андрианов, Козлов, Спиридонов, Игнатов,
Толстиков, Романов. Последним был Гидаспов. Химик по
специальности, он, после крушения партийной диктатуры,
вернулся к работе по своей профессии и, по слухам, стал
миллионером.
С тремя из этих хозяев города я встречался. Каждая из
встреч была весьма и весьма любопытной.
Фрол Романович Козлов был высок ростом и парикмахер-
ски красив. По слухам, парикмахер ежедневно завивал его
густую шевелюру. В 1957 году, имея уже некоторое имя на эс-
траде, я был неожиданно приглашен на постановку прави-
тельственного концерта в Театре имени Кирова в честь со-
рокалетия советской власти. Номера были, естественно,
предварительно согласованы. Программа невероятна по сво-
ей нелепости, а главное — громоздкости. Два огромных хо-
ра: старые большевики и юные пионеры. Акт из балета
«Юность», картина из спектакля о Маяковском с Черкасо-
вым в главной роли. И конечно же какая-то сцена с живым
Лениным. И несчастные чтецы, которые должны были за-
глушать матерщину рабочих во время перестановок декора-
ций чтением «Песни о Буревестнике» или «Стихов о совет-
ском паспорте». Около тысячи участников и несколько сотен
сотрудников в штатском, призванных охранять драгоценные
жизни партийных боссов.
Я организовал концерт достаточно толково. Во всяком слу-
чае, секретарь обкома по пропаганде Алексей Иванович По-
пов остался доволен генеральной репетицией и даже обещал
помочь с квартирой — мы с женой и годовалым сыном жи-
ли в огромной коммуналке на Садовой. Через час после ге-
неральной раздался телефонный звонок из Управления куль-
туры с требованием включить в концерт испанский танец из
балета «Лебединое озеро». Что? Почему? Зачем? Вся гранди-
озная машинерия концерта выверена по секундам. И все это
ломать, причем без репетиций. Я с разрешения Нины Пав-
161
Александр Белинский
ловны Самойловой (была такая инспектор по культуре в
Управлении, лет семидесяти пяти, племянница знаменитой
актрисы Мичуриной-Самойловой) позвонил в обком Попо-
ву. Он не рассердился, но сказал, что бессилен помочь, при-
каз идет с самого верха, но... он попробует мне устроить сви-
дание с САМИМ. И устроил. Меня на машине отправили в
Смольный. Это было мое первое посещение Штаба револю-
ции. Дорогой я сообразил, что «творческой» необходимостью
включения испанского танца была кинопопулярность харак-
терной танцовщицы Кировского театра Ольги Заботкиной,
очень красивой женщины. Сообразить-то я сообразил, но пе-
ред Козловым прикинулся непонимающим истинной причи-
ны включения номера в программу и наивно излагал неве-
роятную трудность этого. Фрол Романович Козлов
прикидываться не стал. Он выслушал меня не перебивая, за-
тем встал, как Ленин на броневике (я так и не понял, зачем
он простер вперед правую руку, — вероятно, указал мне на
дверь), и хозяин города произнес только одну фразу. «Това-
рищ Белинский! Партия хочет Ольгу Заботкину!»
Испанский танец шел во втором отделении. Заботкина
вскоре получила звание. Я — ордер на квартиру, но значи-
тельно позднее.
Встреча с Василием Сергеевичем Толстиковым тоже про-
изошла при постановке правительственного концерта. Он
был посвящен какому-то «летию» со дня рождения Ленина.
К этому важнейшему событию подлинно великий хореограф
Леонид Якобсон поставил балетную миниатюру «Прометей».
Прометея танцевал Макаров, с обнаженным торсом, Орла —
Алла Осипенко, в белом трико. При сдаче концерта номер
приняли, но... перед концертом Аскольд Макаров намазал те-
ло морилкой. На генеральной он этого не делал. После пер-
вой же поддержки на белом трико Осипенко выступило тем-
но-красное пятно, причем на самом неподходящем месте. В
зале захохотали. Трагический миф о прикованном Прометее
получил совсем другую окраску в буквальном и переносном
смысле слова.
В антракте Толстиков вызвал меня в ложу. Дословный ди-
алог:
— Кто позволил Макарову испачкать Осипенко?!
— Видите ли...
162
Записки старого сплетника
— Вижу, и все видели. Это вам не капустники. Идите!
Сколько же я слышал и слышу до сего дня фраз: «Это вам
не капустники!» Наверно, и на траурной панихиде кто-ни-
будь скажет моему бренному телу: «Это тебе не капустник!»
С третьим, самым долголетним, самым мрачным из хозя-
ев города я не встречался, но оказался невольным виновни-
ком неприятностей многих и многих людей.
Уже в годы работы на телевидении я поставил югослав-
ский водевиль «Ограбление в полночь». Его лихо разыграли
Басилашливи, Стржельчик, Тенякова и... Сенчина — эстрад-
ная певица с чистым голоском и очень хорошенькая. Воде-
виль этот повторялся небывало часто. Прошел слух, что те-
леспектакль идет по заказу самого Григория Васильевича
Романова. Директор Большого драматического театра спро-
сил у меня, так ли это. Я, не задумываясь, брякнул: «Навер-
но, Романову нравится Сенчина». Так рождается сплетня. Ве-
чером в какой-то компании директор сообщил всем
присутствующим, что Сенчина — любовница Романова. На-
утро он был снят с работы. Вот с какой четкостью работали
стукачи. Пострадало еще несколько человек. Когда слух до-
шел до Людмилы Сенчиной, она только вздохнула: «Ах, ес-
ли бы это было так!» Ей нужны были квартира и звание.
О «светлой» деятельности Романова достаточно красноре-
чиво рассказал в своей повести «Дорогой Роман Васильевич»
писатель Даниил Гранин.
Вот о писателях, с которыми я имел честь быть хорошо
знакомым, я и хочу рассказать в этой главе. Время решит,
были ли они «великими мира сего», но то, что книги их
остались, уже говорит о многом. Значит, они писали правду,
а правда, как известно, бывает только одна.
Нет, никогда не переиздадут ни Всеволода Кочетова, ни
Аркадия Первенцева, ни Бабаевского, ни Софронова, но ведь
они, шутка сказать, имели прижизненные полные собрания
сочинений, в отличие, скажем, от Достоевского и Бунина.
И Александр Трифонович Твардовский, автор «Теркина» и
«Дома у дороги», и Вера Федоровна Панова, автор «Спутни-
ков», оставили литературные памятники о войне. Разного
масштаба, но вечные. Я не собираюсь здесь говорить об их
книгах, все уже сказано. Мои короткие встречи с ними — до-
бавочные штрихи к портретам этих честнейших людей.
163
Александр Белинский
К Твардовскому я пришел, прочитав его блестящую статью
о Бунине. Пришел после того, как снял на пленку три рас-
сказа Бунина: «Темные аллеи», «В Париже» и «Мадрид». На-
значена была сдача начальству в Останкине, и я рассчитывал
на защиту. Неожиданно он согласился, предварительно при-
гласив в буфет на пятом этаже ВТО. Старый незабываемый
Дом актера находился неподалеку от старой незабвенной ре-
дакции «Нового мира». Я выпил предложенную рюмку вод-
ки, запив ее томатным соком. Твардовский значительно боль-
ше, ничем не запивая. Приехали в Останкино.
Председателем Комитета по телевидению и радиовещанию
был тогда Николай Николаевич Месяцев. Пока он не выска-
зывал своего мнения, все молчали. Его же явно не устраива-
ло присутствие Твардовского. Посмотрели. Помолчали. На-
конец, Месяцев вымолвил: «Вот во втором рассказе (рассказ
«Мадрид») у вас Фрейндлих говорит герою вначале...» Али-
са Фрейндлих играла юную проститутку, и я понял, откуда
ветер дует. «Она говорит, — бодро отрапортовал я, — что в
номера «Мадрида» ее шулер водил, еврей, но ужасно доб-
рый». — «Зачем эта фраза? — поморщился Месяцев. Возник-
шую паузу прервал зычным голосом Твардовский: «А что вас
смущает, товарищ Месяцев, что он еврей или что еврей ужас-
но добрый?»
На этом обсуждение и закончилось. По Центральному те-
левидению спектакль показан не был. «Мадрид» я выпустил
на телеэкран через двадцать лет на каком-то вечере
Фрейндлих.
На обратном пути Твардовский молчал. Я рассказал ему,
что прочел в самиздате «Раковый корпус» Солженицына и
что больше всего мне понравились сцены в шашлычной и в
зоопарке. «Смотрите-ка! Разбираетесь!» — сказал он мне с
недоумением. Какая же это была для меня похвала! И потом
совершенно неожиданно: «Почаще читайте «Капитанскую
дочку». Рассказы Бунина в моей постановке ему явно не по-
нравились.
Много лет спустя после смерти Александра Трифоновича
мы с Владимиром Васильевым сделали телебалет «Дом у до-
роги» на восхитительную музыку Валерия Гаврилина. В пе-
риод работы я часто встречался с Олей Твардовской, теат-
ральной художницей, лицом чрезвычайно похожей на отца.
164
Записки старого сплетника
В 1992 году я получил от нее письмо, которым очень гор-
жусь.
У нас не бывает полумер. Свергая с пьедестала ложных ку-
миров, мы частенько скидываем и подлинник. Возводя но-
вых, в свое время невинно пострадавших, ставим памятни-
ки и далеко не самым лучшим. Если бесспорно поэтическое
величие Цветаевой и Ахматовой, то уже качество стихов Зи-
наиды Гиппиус у меня под большим вопросом.
Поэма «Хорошо!» Владимира Маяковского отнюдь не за-
черкивает гениальности «Про это» и «Облака в штанах». У
Александра Трифоновича Твардовского нет ни одной лживой
строчки. Его деятельность на посту главного редактора «Но-
вого мира» — гражданский подвиг. И «Дом у дороги», и «По
праву памяти», и «За далью — даль», не говоря уже о «Тер-
кине», дают ему право на звание великого русского поэта.
Все это я сказал в радиоинтервью, когда Твардовского пере-
стали издавать и редко упоминали. Во всяком случае, имена
Фофанова, Надсона, Кузмина звучали намного чаще. Благо-
дарственное письмо за мое интервью я получил только от
Ольги Твардовской. А ведь сколько есть писателей, обязан-
ных Александру Трифоновичу своей судьбой.
Нечто похожее произошло с Верой Федоровной Пановой.
Знакомство наше состоялось в 1946 году. На втором курсе ре-
жиссерского факультета нам было дано задание поставить от-
рывок из современной, конечно же советской, прозы. Я хо-
тел найти что-нибудь пооригинальней. Тогда гремела повесть
молодой писательницы Веры Пановой «Спутники». Отец
прочел во время войны ее же рассказ «Семья Пирожковых».
Опубликован он был в журнале «Прикамье». В ленинград-
ских библиотеках я его не нашел и решил обратиться к са-
мой писательнице. Жила Вера Федоровна в ужасающей ком-
мунальной квартире в Заячьем переулке. Была очень
худенькой, с волосами, окрашенными в ярко-рыжий цвет.
Эту странную привычку красить волосы в такой вызываю-
щий цвет она пронесла через всю жизнь, будучи во всем
остальном чрезвычайно скромной и незаметной. В квартире
этой в Заячьем переулке была масса детей — дети самой пи-
сательницы и дети ее мужа, Давида Яковлевича Дара. Дар
был маленький уродливый еврей, писавший короткие мно-
гозначительные сказки для взрослых. Позже они были изда-
165
Александр Белинский
ны. Литературные достоинства этих сказок весьма спорные,
но Вера Федоровна гордилась ими больше, чем собственны-
ми повестями. О Даре ходила в городе такая стихотворная
сплетня:
Хорошо быть Даром,
Получая даром
Каждый год по новой
Повести Пановой.
Позже Дар со всеми своими детьми уехал в ФРГ, бросил
Веру Федоровну. От дочери Пановой Наташи я узнал, что сде-
лано это было некрасиво и сильно сократило жизнь Веры Фе-
доровны.
Тогда же в Заячьем переулке я получил «Семью Пирожко-
вых» и поставил в институте из нее отрывок.
Спустя десять лет я опять явился к Вере Федоровне. Она
жила в большой квартире в доме на Марсовом поле. На этом
доме висит теперь мемориальная доска. Она неузнаваемо из-
менилась. Стала толстой, вальяжной, но с теми же рыжими
волосами. Я явился за пьесой «В старой Москве». Прочитал
где-то, что перед самой войной пьеса получила первый приз
на Всесоюзном конкурсе драматургии. Пьеса была подража-
нием горьковским «Мещанам». Я поставил ее в Театре име-
ни Ленинского комсомола без особого успеха. На банкете,
данном Верой Федоровной в гостинице «Европейская», она
ничего не говорила о спектакле, а все время поднимала тос-
ты за мою жену и только что родившегося сына Павлика. О
том, до какой степени ей не понравился спектакль, я узнал
из ее просьбы к директору театра, некоему Геннадию Малы-
шеву, чтобы пьесу «Проводы белых ночей» ставил кто угод-
но, только не я.
Но отношения наши оставались хорошими. Я любил слу-
шать ее рассказы о писательском мастерстве. Тогда, в пять-
десят шестом, Панова была потрясена повестью Хемингуэя
«Старик и море». «Никто, никто, — говорила она мне, — не
может так написать разговор двух рук. Это чудо, которому и
завидовать нельзя».
Вера Федоровна была родом из Ростова, и я спросил ее
мнение о расхожей тогда сплетне об истинном авторстве «Ти-
хого Дона». Ответила Панова сразу, не задумываясь: «Смерть
166
Записки старого сплетника
Аксиньи и возвращение Григория Мелехова мог написать
только огромный талант. Никто из нас так не может. Весь
роман — дикая тоска по старому казачьему укладу. Очень все
неровно написано. А вот «Поднятая целина» — подлость.
Лживая гадость. Я жила в то время в Ростовской области. О
коллективизации надо написать Библию. Я вот написала од-
ну пьеску — «Илья Косогор». Прочтите. Ничего не получи-
лось, но я ее люблю. С Шолоховым я незнакома и не жаж-
ду. А сплетня — она всегда сплетня. Дыма-то без огня не
бывает».
Вот и все. Потом на телевидении я поставил две ее пье-
сы: «Девочки» и вторично «В старой Москве» с Николаем
Симоновым в главной роли. Она была довольна спектак-
лями, особенно первым. В это время Панову ставили актив-
но. «Проводы белых ночей» в Москве и Ленинграде, «Ме-
телицу» и «Сколько лет, сколько зим» в Большом драмати-
ческом. Какую-то пьесу об алкоголике в Театре имени
Комиссаржевской. Конечно же ее драматургия не была на
уровне прозы. В кино ей повезло куда больше. Фильмы
«Вступление» (экранизация рассказов «Валя» и «Володя») и
«Високосный год» (экранизация романа «Времена года»),
конечно же превосходные «Сережа» (фильм Данелия и Та-
ланкина) и четырехсерийная телевизионная лента «На всю
оставшуюся жизнь» Петра Фоменко по повести «Спутни-
ки», прекрасной повести этой честной, доброй русской пи-
сательницы.
Примерно в это же время началась моя не прекращающа-
яся и по сей день дружба с лучшим, настаиваю на этом
определении, драматургом нашего времени — Александром
Володиным. Лучшим после Чехова. У композитора Георгия
Свиридова есть одно определение произведений искусства:
«Это останется». Мудрый комплимент. Пьесы Володина
«Пять вечеров», «В гостях и дома», «Назначение», «Старшая
сестра» — останутся. По ним будут изучать время 50-х и
60-х годов, по ним, а не по рабочим хроникам Николая По-
година. Есть еще, конечно, драматургия Арбузова и Розова,
но первая, кроме «Тани», чуть-чуть вне времени, а пьесы Ро-
зова, наоборот, чересчур злободневны. Вряд ли их будут во-
зобновлять. Володин вечен, как Чехов. Не боюсь этой парал-
лели. И Найденов, и даже Леонид Андреев не могут
167
Александр Белинский
сравниться с Володиным в психологической глубине, в прон-
зительном лиризме, в редчайшем мастерстве диалога.
Саша Володин сирота. Его с младшим братом мачеха вы-
гнала на улицу. Младший брат погиб. Саша прошел всю вой-
ну рядовым. Женился. Закончил Институт кинематографии.
Старший сын его, выдающийся математик, уехал в Америку.
Володин ездил к сыну и внуку, но долго жить там не мог. Его
идеал — простые русские женщины. Он в присутствии сво-
ей жены признался мне: «Никто не понимает, что характеров
в моих пьесах нет. Я пишу себя и ту бабу, которую люблю».
Ах, как же красиво умел любить этот не очень красивый че-
ловек! И как женщины любили этого не очень красивого че-
ловека! И как он верен, нежен, ненавязчив был в дружбе!
Наша дружба имела общие корни: во-первых, ненависть к
суете общественной жизни, к большим сборищам, получив-
шим в последние годы наименование «тусовки». Мы люби-
ли одних и тех же актрис и актеров: Нину Дорошину, Алису
Фрейндлих, покойного Евстигнеева и конечно же Олега Еф-
ремова. Нашим общим другом был Яша Рохлин, о котором
я рассказывал в главе о капустниках. Мы оба обожали тихие
сплетни, вдвоем, за рюмкой водки. Прежде чем рассказать
что-нибудь интересное, Володин долго предупреждал меня о
конфиденциальности информации. Я давал слово и никогда
его не держал, потому что через день узнавал, что информа-
ция общеизвестна.
Саша Володин невероятно деликатен. Даже чересчур. Он
хвалил спектакли авторам, режиссерам, актерам, хотя они не
нравились ему, и даже очень. Меня он просил никому об этом
не рассказывать. Вот тут я честно выполнял его просьбу.
Но при постановке кинофильмов или спектаклей по соб-
ственным сценариям и пьесам он становился совсем другим.
Он беспощаден, груб, придирчив — прежде всего к самому
себе. Прислушивался к любому замечанию режиссера или ак-
тера по поводу той или иной реплики. Нет, не переписать —
ни в коем случае, а выкинуть. Сокращать собственные про-
изведения — его любимое занятие. Надо внимательнейшим
образом было следить, чтобы он с водой не выплеснул ре-
бенка.
Я долго мечтал поставить «Дон Кихота» с Олегом Ефремо-
вым в главной роли и уговаривал Володина сделать инсце-
168
Записки старого сплетника
нировку. Вместо этого он написал пьесу-притчу «Дульсинея
Тобосская». Я прочел ее сразу. Потрясенный, ночью прочи-
тал пьесу вслух Алисе Фрейндлих и Игорю Владимирову. Они
начали репетировать на следующий же день.
Пьеса предназначалась «Современнику». Евстигнеев дол-
жен был играть Санчо Пансу, Ефремов — двойника Дон Ки-
хота — дона Луиса, Нина Дорошина — Дульсинею. Но Еф-
ремов в этот момент ушел во МХАТ, где поставил средний
спектакль, правда, сам играл дона Луиса превосходно.
У Владимирова спектакль с Фрейндлих, Михаилом Бояр-
ским и Анатолием Равиковичем был лучше. Лучше, чем
фильм с Гундаревой и Плотниковым. И все же эта истинно
великая пьеса Александра Володина ждет новых и новых ре-
шений.
Саша увлекся жанром притчи. Одна за другой последова-
ли «Петруччо», «Мать Иисуса», «Выхухоль», «Ящерица» и
блистательные «Две стрелы». Этот сценарий мечтал поста-
вить сам Михаил Ромм, но умер, распределив роли между
всеми русскими кинозвездами. Володин получил письмо с
распределением уже после смерти мудрого Михаила Ильича
(через два дня).
Володин не хотел больше писать пьес из современной жиз-
ни. Врать он не умел, а бороться устал. На экраны выходи-
ли фильмы по его сценариям. И какие! «Звонят, откройте
дверь!», «Фокусник», «Осенний марафон».
Мне удалось «соблазнить» Володина еще дважды. Я меч-
тал иметь пьесу о библиотекарше. Он честно выполнил за-
каз, сочинил миниатюру «Идеалистка». Я поставил эту пле-
нительную вещь дважды: на эстраде — с Зинаидой Шарко и
Сергеем Юрским — и на телевидении — снял короткомет-
ражку с Алисой Фрейндлих и Никитой Михалковым. В это
же время Володин сочинил большой рассказ под названием
«Поэзия и проза». При его придирчивом участии я поставил
телефильм «Графоман» с Олегом Ефремовым в главной ро-
ли. А вот следующий мой план пока не осуществился, да и
вряд ли осуществится. Я мечтал о «Кармен» по новелле Ме-
риме, антиоперной, антибалетной Кармен, маленькой, не-
красивой и неотразимой женщине. Об Испании не Веласке-
са и Головина, а Франсиско Гойи. Я мечтал сделать фильм
или спектакль — все равно — для замечательной актрисы Ма-
169
Александр Белинский
рины Нееловой. Володин попробовал написать — не полу-
чилось.
Саша резко постарел. Слишком много на него навалилось.
Его полюбила артистка Лена Логинова. Он занимался с нею.
Ставил свои миниатюры. После «Идеалистки» он написал их
много: «Все наши комплексы», «Офелия», «Перегородка» и
другие. С Логиновой Володин занимался не только репети-
циями. Родился сын Алеша. Лена Логинова скоропостижно
скончалась в метро. Потом умерла и бабушка — ее мать. Во-
лодину пришлось взять воспитание сына на себя. Он привел
его в дом, к своей жене, достаточно пережившей, и к ее се-
стре — старой деве. (Позже Алешу забрал к себе в Америку
старший сын А. Володина, тот, который великий математик.
Там у них все сложилось хорошо.)
Ах, какая же нелегкая была жизнь у этого тонкого, неж-
ного писателя! Я не боюсь преувеличений. По умению рас-
крыть женскую душу Володин пишет на уровне Чехова и
Мопассана.
В последнее время он ничего не писал ни для театра, ни
для кино. Немножко стихов. Оригинальных, искренних,
пронзительных. И еще писал прозу — «Записки нетрезвого
человека». Каждое утро, выпив немножко водки с раствори-
мым кофе, создавая иллюзию кофейного ликера, к которому
пристрастился в Америке, писал, что пишется. Потом вече-
ром, трезвый, правил написанное, оставляя недописанные
слова, пропущенные буквы. Кое-что уже напечатано. Это не-
виданная русская проза! Она не похожа ни на книги Юрия
Олеши «Ни дня без строчки», ни на последние повести Ва-
лентина Катаева, ни на «Исповедь» Льва Толстого. Это под-
линное открытие великого писателя.
У нас есть дурной обычай официально присваивать эпите-
ты «великий», «выдающийся» только умершим, когда им это
вроде и ни к чему. А ведь Товстоногов был и при жизни ве-
ликим режиссером, Райкин — великим актером, Володин —
великим писателем. И как же не любили всех их «великие
мира сего», как почитали великими только себя... А кто их
сейчас помнит? Только те, кому они изувечили жизнь. Что
тут скажешь? Русь!.. Больше ничего.
С трепетом я приступаю к рассказам о двух великих, ко-
торые сыграли решающую роль в моей жизни.
170
Списки старого сплетника
Если бы не Георгий Александрович Товстоногов, я бы ни-
когда не вернулся в Ленинград, ныне, слава Богу, опять Пе-
тербург.
О Товстоногове написано много при его жизни. И то, что
написано, и что написал он сам даже в малой степени не от-
ражает масштаба его творческой личности. Подчеркиваю —
творческой, ибо вне творчества он и не существовал.
Георгий Александрович, приехав в Ленинград после Тби-
лиси и недолгой работы в Москве, не вошел в театральную
жизнь города, а ворвался. А ведь в городе работала неплохая
режиссерская команда. В Александринке — К.ожич, пользу-
ющийся абсолютным авторитетом среди тамошних актерских
аборигенов. В Театре имени Ленсовета, после своего изгна-
ния из Театра комедии (одна из постыднейших акций Геор-
гия Маленкова), начал свою недолгую, но очень успешную
деятельность Николай Павлович Акимов. Скажу больше. По-
сле своего возвращения в Театр комедии Акимов не сделал
таких нашумевших спектаклей, как «Тени» Салтыкова-Щед-
рина и «Дело» Сухово-Кобылина в Театре имени Ленсовета.
Рядом с ним и параллельно в ТЮЗе работал Павел Карло-
вич Вейсбрем. Этот незаслуженно забытый мастер ставил
сказки так, как их никто не ставит. Его сказочные спектак-
ли были веселыми и грустными, всегда трогательно поэтич-
ными. В Театре имени Комиссаржевской работал неудачник
Евгений Густавович Гаккель. Это редкий пример неудачни-
ка. Его заставляли ставить современные пьесы о производ-
стве и разоблачать американский империализм. Он не умел
ни того, ни другого. Как гневалось на него начальство! Ког-
да же ему удавалось поставить пьесу Чехова «Три сестры» или
инсценировку «Тристана и Изольды» Александры Бруштейн,
он создавал спектакли, как бы написанные тонкой акваре-
лью, причем даже с очень слабыми исполнителями.
Как это ни покажется странным, театральный Ленинград
сразу же признал лидерство молодого Товстоногова. Тон за-
дали Григорий Михайлович Козинцев и дуайен театральной
режиссуры Леонид Сергеевич Вивьен. «Пантофельная поч-
та» — называл театральные слухи худрук цирка Венецианов.
«Пантофель» по-немецки «туфли». Зрители следами своих
туфель разносят слухи о виденном спектакле. В пустой зал
Ленинградского театра имени Ленинского комсомола после
171
Александр Белинский
первого же спектакля Товстоногова по плохой пьесе Ирош-
никовой «Где-то в Сибири» повалил народ. То же произош-
ло спустя несколько лет в Большом драматическом театре по-
сле первой же его премьеры «Шестой этаж» Жерри.
Бывает абсолютный слух, абсолютное чувство ритма. У То-
встоногова было абсолютное чувство театра. Я видел спек-
такли его предшественников. И Попова, и Охлопкова, и За-
вадского, и Лобанова. Ни у кого из них не возникало такой
абсолютной гармонии между сценой и зрителем, как в спек-
таклях Георгия Александровича. Достигал он этого железной,
всесокрушающей логикой построения сценического дейст-
вия. Он брал пьесу, равную по бездарности выбросам выхлоп-
ной трубы, и строил спектакль, ломая, перекраивая текст, ме-
няя ситуацию, сочиняя новый сюжет с одной-единственной
целью — добиться правды жизни. И добивался в таком ли-
тературном бреде, как «Студенты» Владимира Лифшица, или
словесном поносе «Шелкового сюзане» Абдуллы Каххара. Бо-
юсь, не последним ли великим худруком русского театра был
Товстоногов. Тридцать лет — только Немирович-Данченко
превосходит его по сроку — держал он высоко планку луч-
шего в стране, думаю, что и в Европе, Ленинградского Боль-
шого драматического театра, БДТ, сейчас, слава Богу, имени
Товстоногова.
Труппа лучших времен БДТ. Полицеймако, Лебедев, Смок-
туновский, Луспекаев, Юрский, Стржельчик, Копелян, До-
ронина, Шарко, Попова. Нет, не уверяйте меня, что труппа
МХАТа с Хмелевым, Добронравовым, Тарасовой и другими
была лучше. Я видел и тех и других. Авторитет Георгия Алек-
сандровича в этой могучей труппе был равен авторитету Ста-
ниславского во МХАТе. И как великие мхатовские старики в
годы расцвета, он не занимался шаманством, а работал. Еже-
дневно, ежечасно. Он приезжал в театр каждый вечер после
утомительнейшей утренней репетиции. Он считал это необ-
ходимым, и хотя не смотрел спектакль, но все знали, что он
в театре, и играли по-другому, то есть так, как следовало.
Я не буду здесь описывать репетиций и спектаклей масте-
ра, его творческий метод. Это сделано, хотя и недостаточно,
и я сам принял в этом посильное участие. А вот о неповто-
римых его человеческих качествах хотел бы кое-что расска-
зать.
172
Ьтнски старого сплетника
Товстоногов отличался абсолютной искренностью и непо-
средственностью. Как он слушал анекдоты и как смеялся,
особенно когда рассказывал сам. А как он шел по пустой сце-
не, сняв головной убор, нет, не для показухи, а потому что
не мог иначе. Замечательный рассказ Олега Басилашвили.
Репетировались «Три сестры». Басилашвили пришел на пус-
тую сцену задолго до начала репетиции и увидел за роялем
одинокую фигуру в пальто с поднятым воротником. Товсто-
ногов сочинял марш, финальный марш для ухода полка.
Страшно волнуясь, он сыграл его Басилашвили, первый ре-
жиссер страны волновался, как школьник!
Я работал с ним в Театре имени Ленинского комсомола
всего два года. Взял он меня вопреки категорическим возра-
жениям обкома и Управления культуры. Можно ли это за-
быть! Он был и добр и жесток, но жесток только во имя те-
атра. Умел восхищаться чужими спектаклями. Пожалуй, ни
у кого из своих знаменитых коллег-режиссеров я подобного
не встречал. Георгий Александрович был подозрителен, мни-
телен, вспыльчив и очень отходчив. Увлекался женщинами.
Один раз на моей памяти — до чрезвычайности. Но по-на-
стоящему глубоко любил только свою младшую сестру На-
теллу, умнейшую женщину, глубоко преданную брату.
В последний год жизни Товстоногова я встречался с ним
особенно часто. Он был уникально интересным собеседни-
ком, то есть одинаково увлеченно умел и рассказывать и слу-
шать. Я умолял его начать фиксировать свои воспоминания,
предлагал даже расшифровывать надиктованный на магни-
тофон текст. Он обещал, но не успел. Каждую минуту до по-
следнего дыхания он отдавал театру. И умер в машине по до-
роге из театра.
Гениальный артист Аркадий Райкин тоже служил своему
театру до последнего вздоха.
Человек он был очень и очень непростой. Моя жена Ли-
дия Ивановна не могла простить Райкину, как в 1956 году он
неохотно вывел меня на поклоны после триумфальной пре-
мьеры спектакля «Белые ночи». Я был постановщиком. Но
думаю, что Райкин был прав. Все его спектакли, кто бы ни
значился режиссером на афише — Зускин или Кожич, Ту-
тышкин или Акимов, — ставил конечно же он сам. Ставил
и переставлял. Сколько бы ни шел спектакль — триста или
173
Александр Белинский
четыреста раз, — он беспрерывно менял порядок номеров,
отнимал роли у партнеров, имевших успех, снимал и заме-
нял старые миниатюры новыми. Равнодушный ко всем ра-
достям жизни, кроме женщин, которых любил постоянно и
отнюдь не платонически, он всего себя отдал созданному им
самим театрально-эстрадному жанру. Он конечно же был ге-
ниальным лицедеем, знающим и умеющим все, что только
можно, в своей профессии, как Товстоногов знал и умел все
в области театральной режиссуры.
Есть артисты-рекордсмены, сыгравшие за свою творчес-
кую жизнь несколько сотен ролей. Большей частью это лю-
ди, десятки лет проработавшие в провинции: там выпускают
много премьер и в довольно сжатые сроки. Столичные арти-
сты, включая работу в кино и на телевидении, играют мак-
симум три-четыре роли в год.
Аркадий Исаакович Райкин сыграл за полвека своей рабо-
ты в театре несколько тысяч ролей. Я думаю, если бы в ис-
кусстве существовали рекорды, как в спорте, Райкин был бы
бесспорным чемпионом мира. К счастью, таких рекордов нет.
К счастью — для искусства.
Руководимый Райкиным Ленинградский театр миниатюр
первые двадцать лет выпускал каждый год по премьере. По-
том премьеры выходили раз в два года, а в последнее вре-
мя — еще реже. В этих премьерах Райкин и сыграл свои не-
сколько тысяч ролей.
Монологи Аркадия Райкина имели протяженность от пя-
ти до пятнадцати минут сценической жизни. Текст их на бу-
маге очень далек от гоголевского совершенства. Утверждаю
с полной ответственностью за свои слова, что в том, что бы-
ло написано на бумаге, и в том, что Райкин произносил на
сцене на десятом, двенадцатом спектакле, очень мало обще-
го. Однако фразы, написанные порой не самыми талантли-
выми авторами, после исполнения Райкиным входили в по-
вседневную жизнь, как афоризмы из «Ревизора» и «Мертвых
душ», а персонажи, созданные талантом артиста, вошли в на-
шу жизнь как нарицательные, как Чичиков или Ноздрев. Не
случайно в разговоре об искусстве Райкина все время при-
ходят на память гоголевские произведения, гоголевские ге-
рои. Образность райкинского творчества — гоголевская об-
разность, актерские средства выразительности по природе
174
Записки старого сплетника
своей похожи на литературную выразительность гоголевско-
го гения, его метафоричность, его гиперболу, его печальный,
пронзительный лиризм.
Критерий «смешно или не смешно» никогда не являлся
для Райкина основным. С годами (я работал с Аркадием Иса-
аковичем начиная с 1949 года) эта так называемая проблема
смешного волновала его все меньше и меньше. Причем чув-
ство юмора не покидало его никогда. Смешное у Райкина
рождалось интуитивно, но вот желание рассмешить, ради ко-
торого очень многие артисты идут на любые вкусовые ком-
промиссы, не существовало у Райкина никогда — ни созна-
тельно, ни бессознательно. Сочетание сознательного и
бессознательного в его актерской работе было очень своеоб-
разным.
Восемьдесят процентов репетиционного времени, а может
быть, и больше, Райкин тратил на работу с авторами. Конеч-
но, какие-то актерские заготовки делались и во время этой
работы. Бесконечное количество раз менялась та или иная
миниатюра, тот или иной монолог. Райкин этюдно проигры-
вал перед авторами различные варианты. Делал он это все-
гда эскизно, намеком. Райкин чрезвычайно осторожно отно-
сился к процессу рождения образа, никогда не торопился,
утверждая, что «растение вырастет само и тащить его из зем-
ли руками — нельзя».
Никогда на моей памяти работа над текстом до репетиций
не получала окончательного завершения. Более того, текст у
Райкина менялся от репетиции к репетиции: на десятом
спектакле вы слышали вариант, сильно отличающийся от
премьерного, а на сотом спектакле — значительно откоррек-
тированный по сравнению с десятым. Исключением явля-
лись, пожалуй, миниатюры Зощенко, в которых артист ме-
нял текст очень незначительно. И притом, как это ни
парадоксально, Райкин относился к авторскому тексту очень
бережно. Он никогда не трогал хорошо построенную фразу,
всегда исполнительски подчеркивал удачный литературный
оборот.
Райкин умел передать особенности литературного стиля
Владимира Полякова или Михаила Жванецкого, то есть тех
авторов, у которых этот стиль был. При работе над текстом
он всегда, сознательно и подсознательно, помнил, что на со-
175
Александр Белинский
здание образа, пересказ событий он имеет пять — десять ми-
нут и не может доиграть, как это делает артист драматичес-
кого театра, во втором акте то, что недоиграл в первом. По-
этому процесс работы Райкина над текстом с авторами и без
них — это последовательная кристаллизация словесного ма-
териала, создание текстового «экстракта».
И еще. Речевой характеристике персонажа Райкин прида-
вал первостепенное значение. Герой его монолога не похож
на героя миниатюры, которую он играл со своими партне-
рами, а также на бесчисленных персонажей прошлых спек-
таклей; об этой непохожести артист думал непрерывно, от-
сюда, мучительные порой, поиски речевой неповторимости
образа.
Огромная наблюдательность Райкина в жизни делала его
фантазию поистине неисчерпаемой. Напечатанный на ма-
шинке листочек монолога после репетиции был обычно ис-
черкан и исписан Райкиным так, что на следующей репети-
ции он сам с трудом разбирал написанное. Перепечатывался
на машинке новый вариант, но через репетицию он опять
весь исчеркан и исписан. И так десятки раз... Параллельно
текст выучивался. Райкин учил текст быстро и не на репети-
циях. Он в одиночестве работал в кабинете — много, долго,
всегда.
Но вот на одной из репетиций Райкин медленно вставал
со стула и шел на сценическую площадку. И происходило чу-
до, которое встречается так редко и является, как правило,
первым признаком большого актерского таланта. Только ког-
да в монологе или миниатюре все было выверено, построе-
но с железной логикой, тогда начиналось чудо райкинских
репетиционных импровизаций. Его актерский аппарат мо-
ментально отзывался на малейшую подсказку со стороны ре-
жиссера или новую реплику партнера. И рождались неожи-
данные интонации, жесты, часто парадоксальные, но всегда
попадающие в самую суть поставленной задачи.
Я не могу забыть одну репетицию в 1949 году, в номере на
двенадцатом этаже гостиницы «Москва». Репетицию вел Вла-
димир Платонович Кожич. Я был ассистентом. Райкин иг-
рал маленькую пантомиму: как человек идет с чемоданом пят-
надцать километров. Легкий вначале чемодан с каждым
километром, естественно, кажется все тяжелее. Райкин хо-
176
lanucKu старого сплетника
дил вдоль воображаемой рампы взад и вперед. Кожин толь-
ко тихонько подсказывал, сколько километров тот прошел.
И на каждый подсказ Райкин менял положение чемодана (че-
модан, конечно, тоже был воображаемый). Он нес его на пле-
че, на спине, на голове, двумя руками... Ему жали туфли...
Он снимал их... Шел босиком... Это был этюд, в котором не
было оговорено, что он должен делать с чемоданом. Все рож-
далось здесь, на месте, сегодня, сейчас. Между подсказом ре-
жиссера и актерским исполнением не было пауз. Таким и во-
шел этот этюд в спектакль «Любовь и коварство».
Пантомиму «Умелец» К. Рыжова, где мастер-халтурщик
приходит ремонтировать телевизор, Райкин готовил с авто-
ром около двух месяцев, потом сделал эту виртуозную рабо-
ту с воображаемыми предметами за одну репетицию в доме
отдыха в Зеленогорске, а потом еще две недели работал с ра-
диотехником, озвучивавшим различными шумами эту пан-
томиму. Я не случайно упомянул дом отдыха. Райкин репе-
тировал и во время спектакля, поэтому каждый его рядовой
спектакль — премьера.
Я до сих пор не могу ответить на вопрос, было ли бы так
значительно искусство Райкина, если бы оно не создавалось
в непрерывной изнуряющей борьбе с цензурой, с инстанци-
ями, разрешающими и запрещающими, с «великими мира
сего»? Скажем, работал бы Аркадий Исаакович в атмосфере
нынешней вседозволенности? Пожалуй, он бы все-таки по-
терялся. Просто развлекать ему было бы неинтересно. Ко-
нечно, он мог бы блистательно сыграть в театре и Хлестако-
ва, и доктора Штокмана, и Тевье-молочника. Но это было
под силу и кому-то еще. А то, что делал Райкин в своем те-
атре, мог делать только он и только в свое время. И всена-
родная любовь могла быть именно в ТО время. И зоологи-
ческая ненависть «великих мира сего»...
Великие мира сего в кавычках! Сколько же зла вы сдела-
ли истинно великим!
Твардовский был истинно великим русским поэтом. Не по-
следним ли? Редактируемый им «Новый мир» дал России Со-
лженицына, Тендрякова, Троепольского, дал «Люди, годы,
жизнь» Ильи Эренбурга и еще и еще... Короче, дал все луч-
шее в отечественной словесности 50 — 60-х годов. И кто под-
вергался такой организованной травле, как Твардовский? И
177
9 Записки старого сплетника
Александр Белинский
не только как редактор. Как поэт! «Дом у дороги», «Теркин
на том свете»... А «По праву памяти», может быть самая вы-
дающаяся его поэма, вышла из печати уже после смерти ав-
тора. Если бы не бессмертный «Василий Теркин», заслужив-
ший высокую оценку даже такого жесточайшего критика, как
Иван Александрович Бунин, если бы, повторяю, не эта по-
разительная по простоте, ясности, пушкинской прозрачнос-
ти стиха глубоко национальная патриотическая поэма, Алек-
сандр Трифонович Твардовский был бы смят паровым катком
коммунистической идеологии. А ведь он сам был коммуни-
стом. Причем искренне верил. Во что?! Такое бывает только
у нас в России...
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Вера Федоровна Панова коммунистом не была. Она была
честной, хорошей писательницей. Книги ее подлинная бел-
летристика, в хорошем смысле слова конечно. В чем-то ее
литературная судьба схожа с судьбой Твардовского. У того
«Теркин», у нее — «Спутники» были идеологической индуль-
генцией на определенное время. Но потом!.. «Кружилиха»,
«Времена года», «Сентиментальный роман». Разгромный ха-
рактер критики становился сильнее с каждым новым произ-
ведением. «Два гусара» — критик Александр Дымшиц и так
называемый писатель Всеволод Кочетов — подвизались на
роли пановских палачей. Особенно усердствовал Кочетов, по-
казав ее в мерзком виде в одном из своих самых бездарных
романов. И Вера Федоровна дрогнула. Она написала «Ясный
берег». Получила Государственную премию. До конца своих
дней, слышал от нее лично, стыдилась этого опуса. Не вклю-
чила его в полное собрание сочинений. Написала потом «Ва-
лю», «Володю», «Сережу». Чудесная проза. Но ее ведь могло
быть и больше, она могла бы быть и лучше.
Как Кочетов ненавидел Панову, так — только еще силь-
нее — ненавидел Александра Володина «драматург» Анато-
лий Владимирович Софронов. Уже первая пьеса Володина
«Фабричная девчонка» подверглась сокрушительной крити-
ке Софронова в «Литературной газете». С каким трудом вы-
178
Записки старого сплетника
ходили на сцену «Назначение», а на экран — «Похождения
зубного врача». Капитуляция Александра Володина оказалась
трагедией для русского театра. Да, да, трагедией. Драматург,
уловивший, как никто другой, современную интонацию, до
сих пор не превзойденный мастер диалога, создатель тончай-
ших по психологичности характеров, перестал, причем окон-
чательно, писать пьесы на современные темы. Он устал. Да,
да, просто устал от бессмысленной борьбы. Он-то ушел в дру-
гие жанры, а с чем остался русский театр? С ремесленными
драматургическими поделками или непроходимой чернухой
авторов, считающих себя учениками и ученицами Володина,
но не обладающих его поэтическим даром, его мужествен-
ным оптимизмом. Эпиграфом ко всем пьесам Володина я бы
поставил его же собственную строку: «Стыдно быть несчаст-
ливым».
А уж Товстоногов? Казалось бы, баловень судьбы, полу-
чивший все звания, все награды. Но я-то помню, как стра-
дал этот глубоко ранимый человек. Я-то помню, как его вы-
звал хозяин города 1959 года, уже упомянутый Фрол Козлов,
и, похлопывая по коленке, важно сказал: «Если возьмешь
Большой драматический театр, я тебя первым дирижером
сделаю». Дирижером! Я-то помню, как, получив первую Ста-
линскую премию, Товстоногов, все еще живя в общежитии
Театра имени Ленинского комсомола с двумя маленькими
сыновьями и сестрой, мечтал как о недостижимом о покуп-
ке холодильника, из которого будет вынимать по утрам (до-
словно цитирую!) «сливочное масло со слезой». У Козлова
холодильник, вероятно, уже был.
А травля, начатая критиком-опричником Юрием Зубко-
вым, блистательного «Горя от ума» за эпиграф из Пушкина —
«Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом».
Этот «возмутительный» поступок Товстоногова вызвал гнев
самого хозяина страны Хрущева. А потом снятие Толстико-
вым при «поддержке» рабочих Кировского завода «Римской
комедии» Леонида Зорина, по признанию самого Товстоно-
гова, редко любившего собственные творения, одного из луч-
ших спектаклей. Последний же петербургский царек Григо-
рий Романов ненавидел Георгия Александровича открыто и
за «Три мешка сорной пшеницы», и за «Холстомера», спек-
такл, покоривший мир. После своего отъезда из города Ро-
179
Александр Белинский
манов жаловался, что не успел выгнать из Ленинграда писа-
теля Гранина, академика Лихачева и режиссера Товстоного-
ва. Да, многого не успели завершить «великие мира сего» с
подлинно великими.
Но все же «успехи» Романова были значительны. Город вы-
нужден был покинуть Сергей Юрский, не говоря уже об уче-
ных, инженерах, врачах. Аркадия же Райкина, повторяю,
спасло только фронтовое знакомство с Брежневым. С худож-
никами помельче расправлялись «опричники». К их жертвам
с гордостью отношу и себя, но вплотную я столкнулся с этим,
когда в 1961 году впервые появился на голубом экране.
Глава девятая
голубом экране
Я не имел никакого представления о телевидении, когда в
1961 году получил приглашение на постановку. Пригласил ме-
ня редактор музыкального вещания Ленинградского телеви-
дения Игорь Федорович Масленников, ныне народный ар-
тист России, кинорежиссер, поставивший телевизионный
сериал о Шерлоке Холмсе. Я работал тогда в Театре имени
Ленинского комсомола и не помышлял ни о чем другом. У
нас дома был маленький телевизор, но мы его почти не смо-
трели. В театральной среде, правда, уже поговаривали о по-
становках И.Ф. Ермакова «Белые ночи» по Достоевскому и
особенно об «Очарованном страннике» по Лескову с Н.К. Си-
моновым в главной роли.
Я был приглашен на постановку эстрадного спектакля по
миниатюрам Ежи Потемковского «Штучный товар». Это был
крепкий телевизионный сценарий. Масленников параллель-
но с редакторской работой оформлял спектакли как худож-
ник. Делал он это лаконично и, как я сейчас понимаю, очень
телевизионно. Я пригласил артистов, с которыми до этого
много работал в театре и на эстраде. В моей первой телеви-
зионной передаче были заняты Николай Трофимов, Николай
Боярский, Павел Панков, Владимир Усков, Зинаида Шарко,
Лидия Штыкан. Возглавляли эту прекрасную труппу старей-
ший ленинградский артист Константин Адашевский и моло-
дая Алиса Фрейндлих. Мне повезло с операторами и звуко-
режиссерами. Я влюбился в телевидение сразу и навсегда
связал с ним свою судьбу. Режиссеры тогда делали все, и я,
наряду с постановкой эстрадных телепрограмм и оперетт, ста-
вил передачи «Голубого огонька», транслировал спектакли и
концерты, организовывал общественно-политические про-
граммы и монтировал в передвижных телевизионных станци-
ях хоккейные и футбольные матчи. Передачи шли тогда «вжи-
181
Александр Белинский
вую» по единственной всесоюзной программе. Через несколь-
ко лет режиссерская специализация на телевидении стала бо-
лее четкой, и в 1963 году в литературно-драматической редак-
ции, которую возглавил все тот же И.Ф. Масленников, я
поставил телеспектакль «Кюхля», который считаю началом
своей телевизионной режиссерской биографии и второй по-
сле капустников подлинной творческой удачей.
Телевизор «явился весомо, грубо, зримо» в нашу жизнь и
занял в ней место, которое еще недостаточно оценено соци-
ологами, психологами, педагогами, а тем более литературове-
дами и искусствоведами. Но, как говаривал Иосиф Виссари-
онович Сталин, «факты — упрямая вещь, с фактами
приходится считаться», и факт огромного воспитательного,
эстетического, идейно-художественного, социального, психо-
логического и всякого другого значения телевидения в жиз-
ни современного общества непреложен.
Еще предстоит выяснить все «за» и «против» в отношении
различных телевизионных программ для тех или иных слоев
населения, но в одном я уверен: что «за» во всех случаях бу-
дет все-таки больше, чем «против».
Искусство ли телевидение? Праздный вопрос. О кино уже
давно не спорят, но и Мельпомена и Талия с трудом согласи-
лись потесниться ради одиннадцатой музы — телевидения.
Вот уже три десятка лет верой и правдой служа этой один-
надцатой музе, я убедился, что телевидение — искусство,
причем искусство с огромными, еще далеко не оцененными
возможностями. За эти годы техника телевизионного веща-
ния прошла огромный путь. Каждое техническое нововведе-
ние открывало, открывает и будет открывать перед людьми
пишущими, ставящими и исполняющими телевизионные
передачи — драматургами, режиссерами, художниками, опе-
раторами — новые возможности.
Эти новые возможности возникают с невероятной быстро-
той и осваиваются в такой спешке, что творческое качество
страдает. Стремление применить новую технику так велико,
что мы порой не успеваем осмыслить, нужно ли эту технику
применять в данном конкретном случае.
Не считая рядовых передач, я снял на телевидении более
сотни оригинальных спектаклей (чужих спектаклей я не сни-
мал ни разу), десяток телефильмов и, наконец, написал книж-
182
(описки старого сплетника
ку «Старое танго», где зафиксировал все свои мысли о теле-
визионном искусстве.
Телевидение подарило мне радость встреч с десятками вы-
дающихся актеров, композиторов и писателей. Пытаясь не те-
рять «сквозного действия», диктуемого названием этой кни-
ги и эпиграфом к ней, я хочу рассказать о наиболее
значительных встречах на голубом экране. Кстати, название
«голубой» придумал отнюдь не я. Название спорное, вызыва-
ющее странные ассоциации, но прочно вошедшее в обиход,
и я не вправе с этим спорить.
Итак, никаких теоретических рассуждений! Только любо-
пытные факты, которые мы решили именовать «сплетнями».
В продолжение предыдущей главы начну с великих мира
сего в кавычках, от которых по-прежнему зависит судьба ху-
дожников всегда и всюду, и нет конца этой глубоко нацио-
нальной традиции!..
За четверть века моей службы на Ленинградском телевиде-
нии сменилось много руководителей. Ни с кем из них у ме-
ня, в общем, не было ни одного серьезного конфликта. В чем
тут дело? Я работал только на художественном вещании, за-
нимался классикой и передачами развлекательного характе-
ра, снимал лучших актеров — словом, не доставлял началь-
ству особых хлопот. Начальство в меру мешало мне, в меру
помогало. Поэтому я не сохранил ни к кому из них злых
чувств, а кое-кому кое в чем даже благодарен. Каждый же из
моих телевизионных начальников был определенным типом,
характеризующим время, каждый был не однозначен, а по-
скольку телевидение за эти годы становилось ведущей силой
в общественной жизни страны, то описание руководителей
средств массовой информации представляет определенный
интерес.
На работу меня взял Петр Иванович Рачинский. Благода-
ря ему, и только ему, телевидение получило дом на улице Ча-
пыгина, где и пребывает до сих пор. Он довел тяжеленную
стройку до конца и покинул маленький особнячок на улице
Павлова с пятидесятиметровой комнатой, с двумя телевизи-
онными камерами. Конечно же Рачинский набрал новый
штат режиссеров и редакторов вместо еще довоенных мас-
тодонтов. Именно они, эти режиссеры и редакторы, стали
авторами звездных часов Ленинградского телевидения, ког-
183
Александр Белинский
да телезрители всей страны ждали художественных передач
именно из Ленинграда. Программа-то была тогда, в 60-х го-
дах, только одна на весь «Союз нерушимый республик сво-
бодных». Петр Иванович конечно же согласовывал каждый
свой не только шаг, но даже вздох с обкомом и горкомом
партии. Да и как могло быть иначе? Ведь Рачинского толь-
ко что восстановили в партии, из которой он был исключен
за «ленинградское дело». Он работал в Музее обороны. По-
том в Театре комедии после изгнания Акимова. Там он в оче-
редной раз женился, он делал это довольно часто, и был бро-
шен женой сразу же после освобождения от должности. Жена
конечно же была актрисой. После Театра комедии он возгла-
вил эстраду. Лучшего руководителя я на этом тяжелом по-
прище легкого жанра не встречал. Из эстрады Рачинского
бросили на телевидение, то есть повысили. Потом еще вы-
ше! Петр Иванович возглавил академические оперу и балет
со всеми зарубежными поездками. Это уже было ему явно не
по плечу. Но Рачинский распределял роли, делал замечания
дирижерам по темпам и балетмейстерам по последователь-
ности классических па. И появились любимые певицы и ба-
лерины. И пошли сплетни. И Наталья Макарова осталась в
Лондоне. И Рачинский был снят. Ах, какая же типичнейшая
история! Он все-таки был сильным работником. И после оче-
редного нокаута опять встал. И открыл в городе отличный
Дом журналистов. Мы, сплетники и сплетницы, называли
его за глаза «дядя Петя». Рачинского больше любили, чем не
любили.
Следующим капитаном телевизионного корабля стал Борис
Максимович Фирсов, личность поразительная. До сих пор не
пойму его подлинную сущность.
Фирсов мой ровесник. Он кончил ЛЭТИ — Ленинградский
электротехнический институт. Во времена его руководства
комсомольской организацией института была создана знаме-
нитая эстрадная программа «Весна в ЛЭТИ», давшая городу
эстрадных авторов — Гиндина, Рыжова, Рябкина, композито-
ра Колкера, режиссера Бирмана. Фирсов создал первый са-
модеятельный мюзик-холл с дирижером Бадхеном во главе.
Потом Борис Максимович пошел вверх по комсомольской, а
дальше и по партийной лестнице. Здесь впервые его путь пе-
ресекся с Александром Петровичем Филипповым, тогдашним
184
lanucKU старого сплетника
секретарем обкома по пропаганде. Дальнейший мой рассказ
мог бы послужить сценарием для занимательнейшего много-
серийного фильма. Не скрою, что я попытаюсь его сделать,
естественно заменив имена. Пока же излагаю факты без при-
крас.
Биография Бориса Фирсова проста. Он потомственный пе-
тербургский интеллигент. Почему он не стал инженером?
Судьба. Да, его всегда тянуло к гуманитариям. Но стоило ли
приходить к ним через партию? По-моему, все-таки нет.
Биография Александра Петровича Филиппова невероятно
запутана. На правой руке у него не было двух пальцев. На
войне он не был. Сплетня ходила такая: комсомолец Шурка
Филиппов положил руку под телегу, чтобы не попасть на
фронт. Короче, на фронте он не был. Не будем строить дога-
док о причинах. Комсомольский вожак кончает партшколу в
Москве. Рассказывал мне лично, что встречался на Тверском
бульваре с пьяным Твардовским. Другими воспоминаниями
не делился. Защитил кандидатскую диссертацию. Тема — кол-
хозы Псковской области в годы войны. Какая важнейшая те-
ма! Дальше — быстрая комсомольская карьера. Причем всю-
ду руководит идеологией! При культурном уровне ниже
выпускника церковно-приходской школы! Партийная карье-
ра еще интереснее. Высшая ее точка — секретарь обкома по
пропаганде.
В это время он встречается с Фирсовым. Конечно же ин-
теллигент в очках Борис Максимович, приятель всей литера-
турно-театральной элиты Ленинграда, вызывал у косноязыч-
ного пьяницы Филиппова зоологическую ненависть. Он
бросил Фирсова на телевидение — самое взрывоопасное ме-
сто в социалистическом обществе.
Фирсов начал на телевидении великолепно. Инициативно,
радостно, энергично. Но!.. Борис Максимович мог попросить
почитать самиздатовского Солженицына и тут же, искренне
в это веря, утверждать, что наша система выборов самая спра-
ведливая и демократичная. Непостижимо! Я много сделал при
фирсовском правлении. Массу эстрадных программ с лучши-
ми актерами города, а главное — поставил уже упомянутого
«Кюхлю», решившего всю мою судьбу.
В это время город потрясло событие чрезвычайное. Сын
Александра Петровича Филиппова разбил бутылкой голову
185
Александр Белинский
солдату-новобранцу. Солдат выжил, это спасло парня от
тюрьмы, но отец преступника не мог возглавлять идеологию
города трех революций. И Филиппова назначили председа-
телем Ленинградского комитета по телевидению и радио. На-
помню — телевидением уже командовал Фирсов. Два «Ф».
«Они сошлись — вода и камень, стихи и проза, лед и пла-
мень»... Здесь началась самая драматичная страница в жизни
Ленинградского телевидения! Фирсов был искренне увлечен
своей новой работой. Прогрессивные силы его поддержива-
ли. Среди них был уже упомянутый Игорь Масленников и
поистине могучая группа редакторов: Копылова, Муравьева,
Анейчик — и их авторы — Абдулова, Свердлова и другие. Это
были подлинно творческие люди, и Ленинградское телеви-
дение именно им обязано своим расцветом. С другой сторо-
ны, аборигенам — Ермакову, Стрекину, Зильберман — были
не по душе свободолюбивые нововведения Фирсова. Напом-
ню, что недолгая эпоха хрущевской «оттепели» подошла к
концу. Шестидесятники во главе с Евтушенко медленно уже
отступали. Короче, приход Филиппова совпал с возвращени-
ем благоприятной для него атмосферы. Александр Петрович
не упустил свой шанс. Сразу же убрал из литературной ре-
дакции главного редактора с ненавистной для него фамили-
ей Шварц. Фирсов сдал без боя эту глубоко преданную ему
женщину. Затем состоялся знаменитый литературный втор-
ник. На нем все во главе с академиком Лихачевым хвалили
Солженицына, «Новый мир» и другие литературные явления.
А была уже дана команда сверху стереть все это с лица род-
ной советской земли. Михаил Андреевич Суслов, получив-
ший от русской интеллигенции звание «серого кардинала»,
расправил крылья за широкой спиной «выдающегося ленин-
ца» Леонида Ильича Брежнева. После упомянутого вторни-
ка Фирсов был снят с работы со строгим партийным выго-
вором. Снята была и Роза Копылова, лучший редактор за всю
мою телевизионную жизнь, помогавшая мне в «Кюхле», на-
писавшая превосходный сценарий трехсерийных «Мертвых
душ». Короче, художественное вещание приказало долго
жить. Ушли Масленников, Смирнова, Муравьева, Каракоз —
весь цвет Ленинградского телевидения. Почему мы выжили?
Во-первых, директором пришел главный редактор «Вечерне-
го Ленинграда» Борис Александрович Марков, человек ре-
186
laimcKit старого сплетника
шительный, смелый, абсолютно не считавшийся с указани-
ями сверху — и из Москвы, и из Смольного, быстро разо-
бравшийся, кто есть кто, задвинувший в последний ряд всех
идеологических демагогов и давший дорогу всем художест-
венным прогрессивным силам, уцелевшим после разгрома
Фирсова. Во-вторых... О, это во-вторых! Неужели мне не
удастся никогда снять мелодраматический фильм по этому
поистине невероятному сюжету, который я наблюдал с нача-
ла до его трагического конца! Во-вторых — резко изменил-
ся сам Александр Петрович Филиппов. Его главным совет-
чиком стал литературный редактор радио Лев Соломонович
Мархасев, один из умнейших, одареннейших людей города,
которому и телевидение и радио обязаны многими и многи-
ми лучшими своими передачами. Как же человек с таким
отчеством мог стать главным советчиком Филиппова? Во-
первых, Филиппов был конечно же человеком неординар-
ным, тем, что называется личностью. Во-вторых... Опять во-
вторых! Это во-вторых и является стержнем невероятного
жизненного сюжета!
У Мархасева на радио был роман. Не буду называть фами-
лии. Роман был очень искренний, очень красивый и кончил-
ся ничем. Филиппов глубоко сочувствовал этому роману. По-
чему? Александр Петрович зашел в библиотеку радио и
застенчиво попросил старую библиотекаршу дать ему почи-
тать что-нибудь «про любовь». Этот закоренелый циник, пья-
ница, бабник, партийный жлоб, хам, выросший среди самой
омерзительной номенклатурной мафии, полюбил. Но как!
Опять-таки не назову ее фамилии. Она была молода, умна,
хороша собой. Ее мать, моя соученица по Театральному ин-
ституту, была красивейшая интеллигентная женщина царско-
сельского происхождения. Я ручаюсь, что в этом романе не
было и тени расчета. Юная секретарша Филиппова беззавет-
но полюбила своего начальника. Боже, как изменился Фи-
липпов! Он стал уважать тех, кого ненавидел раньше. Ему на-
чало нравиться то, что раньше раздражало. Весь короткий
новый взлет художественного вещания Ленинградского теле-
видения обязан этому роману. Как недолго это длилось! Сна-
чала ушел Марков. Он не мог смириться с тем, что по ново-
му статусу, введенному Лапиным (о нем речь впереди), должен
был полностью подчиняться Филиппову. Дальше... Дальше
187
Александр Белинский
жена Филиппова поехала в аэропорт встречать своего мужа,
возвращающегося из отпуска, и увидела его у трапа самолета
с юной секретаршей. Ночью она отравилась. Филиппова сня-
ли наутро. Он поехал в Москву просить назначения в другой
город, надеясь уехать туда с молодой женой. Лапин его не при-
нял. Секретарша не стала его женой. Он получил назначение
в журнал «Колхозник», видимо, вспомнили тему его канди-
датской диссертации. Журнал помещался в одной комнате,
где стояли табуретки вместо стульев. И последний удар! Алек-
сандр Петрович впервые в жизни не получил пригласитель-
ного билета на трибуны Дворцовой площади в день «всена-
родного праздника Великого Октября». Я видел его последний
раз именно после этого «удара судьбы». Ночью он покончил
с собой, не оставив никакой записки.
Все эти поистине невероятные события происходили,
повторяю, в годы высшего художественного взлета Ленин-
градского телевидения и лично моей радостной творческой
работы.
Итак, при Фирсове я поставил «Кюхлю», замечательный ро-
ман Тынянова. Наверно, необходимо заметить, что игрался
тогда спектакль, как это теперь называется, «в живом эфире»,
другого просто не было, с восьми (!) трактовых репетиций.
Спасибо Фирсову, спектакль был снят с экрана кинескопа. Его
можно посмотреть и сейчас, спустя тридцать лет. Главную роль
блистательно сыграл Сергей Юрский, абсолютный властитель
дум Ленинграда и Москвы того времени.
Юрский был королем импровизации — легкой, изящной,
по-хорошему глупой и веселой. Я пригласил его в капустник,
когда он был еще студентом третьего курса Театрального ин-
ститута. Мне нужен был исполнитель роли Остапа Бендера в
номере о «великом комбинаторе». До этого я Юрского на сце-
не не видел, но слышал сдержанно хорошие отзывы.
— У тебя есть что-нибудь капустное? — спросил я тоном
опытного мастера.
По правую и левую руку от меня сидели актрисы Ковель и
Шарко. Любое появление нового лица в капустнике, незави-
симо от пола, они считали недопустимым.
— У меня есть фокус, — сказал Юрский. Он взял в кулак
трехрублевку, напрягся и «перевел» денежную купюру в дру-
гой кулак через все тело. Тем же способом «вернул» деньги
188
кшиска старого сплетника
назад. Потом торжественно разжал кулак и показал трехруб-
левку.
Шарко сдержанно улыбнулась. Ковель расхохоталась. Во-
прос о новом капустном артисте был решен.
Я написал глупые антиимпериалистические стихи к фоку-
сам, придуманным Юрским. На создание номера ушло пол-
часа. Потом он показал нам, как ходит кукла на ширме. Я до-
стал два рыжих парика и придумал драматургию. Номер
«Кукла» был сделан за час. Для следующего капустника, не-
смотря на мой протест (было четыре часа ночи, и я очень
устал), Юрский придумал и поставил за десять минут номер
«Прыгуны с подкидными досками».
Я увидел его в театре впервые в спектакле «В поисках ра-
дости». Смотрел спектакль ревнивыми глазами, так как сам
поставил эту пьесу в Театре имени Ленинского комсомола. На
сцене среди правдоподобных, симпатичных героев пьесы Ро-
зова, рядом с мудрой и трогательной матерью в исполнении
Ольги Казико, около хорошего крестьянского паренька в бе-
лом пейзанском парике, изображенного Кириллом Лавровым,
метался Пушкин первых лет Лицея. Сергей Юрский проры-
вался через бытовую, хорошую пьесу Розова в другие театраль-
ные жанры. Мальчик, которого он играл (его звали Олег), был
самый талантливый, самый ранимый, самый странный и, глав-
ное, — живущий в градусе другого времени, беспрерывно на-
ходящийся в творческом подъеме, в том самом, в каком жил
сам исполнитель. Так же радостно танцевал Юрский какого-
то кретина в спектакле «Сеньор Марио пишет комедию», так
же читал стихи трепетного Чацкого, так же шалил, изображая
Короля в «Обыкновенном чуде» Шварца, — может быть, един-
ственный актер, сумевший попасть в стиль загадочных и не-
повторимых шварцевских сказок. Сергей Юрский играл радо-
стно и увлеченно. А потом... потом он стал работать. Работать
хорошо, даже прекрасно, но... работать.
Сейчас в театре все работают. Не репетируют, не играют, а
работают. Попробуйте сказать: «Хлестаков была прекрасная
работа Михаила Чехова» или «Дама с камелиями» — серьез-
ная работа Мейерхольда». Не звучит. В театральных легендах
говорят: «Как он играл эту роль!», «Как был поставлен этот
спектакль!», «Вы помните его интонацию в «Крови, Яго, кро-
ви!»? «А лицо Мити Карамазова, когда он увидел Грушень-
189
Александр Белинский
ку?» А теперь: «Он хорошо работает в этом спектакле», «Ах,
как он точно работает», «Хорошая работа, серьезная работа»,
«интересное решение», «любопытно сделано» и так далее и
тому подобное. И действительно — работают. Мастерит один,
с точностью синхрофазотрона повторяет найденное когда-то
эмоциональная актриса, лениво смешит комик, «плетет кру-
жева» мастерица. И это актеры первой шеренги русского те-
атра. Чего же требовать от остальных?
О том же Юрском. У меня был в одном из капустников лю-
бимый номер. Пародия на фильмы о великих людях. «Кур-
ский соловей» — о жизни Алябьева. Алябьева играл Юрский.
Через каждый эпизод он встречался с великими людьми раз-
ных эпох: Пушкиным и Кутузовым, Емельяном Пугачевым и
Степаном Халтуриным. На каждую встречу он выскакивал из
кулис, останавливался и начинал идти с другой ноги. Это бы-
ло глупо и смешно. Мне это очень нравилось, и я как-то ска-
зал об этом Юрскому: «Как великолепно это у тебя роди-
лось!» — «Это не родилось, — обиделся Юрский. — Я это
придумал». Неправда! Придумать это нельзя. Это может толь-
ко импровизационно родиться. Сергей Юрский стал бороть-
ся с работой подсознания, что явилось причиной ряда неудач
этого талантливейшего художника.
Весь первый период моей телевизионной деятельности
можно, следуя терминологии из науки палеонтологии, назвать
«ЮРСКИМ ПЕРИОДОМ».
С Юрским в главных ролях я поставил «Бешеные деньги»
Островского, «Дон Кихот ведет бой» Коростылева, прелест-
ную комедию Шкваркина «Принц Наполеон», миниатюры
Виктора Ардова, два выпуска «Голубого огонька», «Госпожу
министершу» Нушича, спектакль о Комиссаржевской «Чайка
русской сцены», наконец, мой любимейший парадокс Бер-
нарда Шоу «Смуглая леди сонетов». В этом спектакле коро-
леву Елизавету изумительно сыграла Эмилия Попова, а Смуг-
лую леди — Наталья Тенякова. После премьеры я был
свидетелем на ее свадьбе с Юрским. Этим творческим дости-
жением я горжусь до сих пор.
Если Фирсову я обязан «Кюхлей» и всем «юрским перио-
дом», то Маркову я навеки благодарен за возможность надол-
го встретиться с писателем, которому я по окончании очеред-
ной работы письменно объяснился в любви.
190
Списки старого сплетника
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ГОГОЛЮ
Глубокоуважаемый и бесконечно любимый
Николай Васильевич!
Я сознательно не написал на конверте обратного адреса и
свою фамилию. Я испугался, что Вы порвете письмо, не про-
читав: моя фамилия Белинский. Но я не тот Белинский, ко-
торый доставил Вам много неприятных минут своим крити-
ческим письмом о «Выбранных местах из переписки с
друзьями». Я не потомок Белинского, не родственник и да-
же не совсем однофамилец.
Я пишу Вам это влюбленное письмо в Киеве, в гостинице
«Славутич», на берегу реки, о которой с раннего детства знал,
что «чуден Днепр при тихой погоде»... За окном летняя ночь,
о которой я, тоже с детства, выучил: «Как упоительно пре-
красны летние ночи в Малороссии»... Только что увидел я не-
что, что потрясло меня и заставило сесть за это письмо... Но
все по порядку.
Встав на заре, я спустился в буфет. Следует заметить, что,
как и описанный Вами в «Мертвых душах» господин средней
руки, я обладаю отменным аппетитом. По подсчету Андрея
Белого, в ваших сочинениях даны восемьдесят шесть кули-
нарных рецептов. Я не отведал на этот раз ни «поросенка с
хреном», ни «раскаленной ухи с молоками и налимьим пле-
сом, которая ворчит между зубами». Ограничившись никог-
да не упомянутыми Вами сосисками в целлофане, я покинул
гостиницу и пошел по улице направо, к памятнику, недавно
поставленному Вам, великий Николай Васильевич. Постара-
юсь по мере сил описать это произведение скульптуры — ис-
кусства, столь Вами любимого.
На Вас, Николай Васильевич, крылатка, до чрезвычайнос-
ти похожая на бурку покойного Василия Ивановича Чапаева.
Бантик, напоминающий кис-кис эстрадного артиста Нико-
лая Рыкунина. Взгляд на челе памятника как у форварда ки-
евского «Динамо» Олега Блохина, только что забившего гол
в ворота московского «Спартака». Нет, это не Остап Вишня.
На цоколе надпись: «Николай Васильевич Гоголь».
Я перешел Днепр по невероятно длинному мосту. Он дли-
нен, этот мост, как восхитительно длинны фразы в Ваших со-
чинениях, гениальный Николай Васильевич. Ведь у Вас одна
фраза порой занимает целую страницу, а то и больше. На сле-
191
Александр Белинский
дующей странице, когда ты ожидаешь точку, ты вдруг наты-
каешься на запятую, потом двоеточие, точку с запятой, тире
и придаточное предложение, которое с помощью деепричаст-
ного оборота рождает еще одно предложение, и еще, и еще
одно, и невероятные эпитеты, немыслимые по разнообразию,
и вот, наконец, долгожданная точка, после которой перево-
дишь дыхание и перевертываешь страницу, нет, не вперед, а
назад, потому что необходимо перечесть эту сверхъестествен-
ную фразу.
Но вот я на другом берегу Днепра. Я нахожусь в том месте
Киева, о котором Маяковский написал одно из своих лучших
четверостиший:
...А теперь встают с Подола дымы,
Киевская грудь гудит, кострами грета.
Не святой уже, другой, земной Владимир
Крестит нас железом и огнем декретов.
Я иду по Андреевскому спуску и начинаю волноваться. Ме-
ня ждет встреча особая, необыкновенная, связанная с Вами
через целый век времени. По скользкому диабазу вниз, вниз...
Вот он, желтый особняк с белыми колоннами, куда прибе-
жал раненый Николка Турбин, КРУГЛАЯ НИША. В ней пре-
красный бюст Вашего самого достойного, самого подлинно-
го, самого талантливого ученика. Он (мы наконец-то это
узнали!) «озирал всю громадно несущуюся жизнь, озирал ее
сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему сле-
зы». Булгаков смотрит через Днепр на Вас, как будто хочет
крикнуть: «Учитель мой, укрой меня своей чугунной шине-
лью!»
Нет, я не поставил «Мастера и Маргариту» Булгакова, ро-
ман гоголевской силы. И уже не поставлю. А лучшую коме-
дию всех времен и народов, гоголевского «Ревизора»? Тоже
вряд ли. Но спасибо Ленинградскому телевидению марков-
ских времен! Я поставил (плохо!) «Ночь перед Рождеством» и
«Нос». Прилично — «Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем», запечатлев прекрас-
ные актерские творения Меркурьева и Толубеева. Я дебюти-
ровал в кино «Записками сумасшедшего» и был удостоен сво-
ей первой международной премии — «Золотой нимфы» — за
192
lanucKu старого сплетника
режиссуру на телефестивале в Монте-Карло. Наконец, я снял
в трех сериях величайшую поэму в прозе «Мертвые души»,
где благодаря великому актеру мне удалось кое-где приот-
крыть загадку гоголевского юмора.
«Полубог» — рассказ Куприна. Когда я перечитываю его,
то думаю о Павле Луспекаеве.
Он позвонил мне в два часа ночи. Это было обычное вре-
мя его звонков в те незабываемые полгода, когда мы репети-
ровали и снимали «Мертвые души». Ночами с помощью вер-
ного друга, жены Инны Кирилловой, он учил текст. Если
что-нибудь было неясно или, наоборот, рождалось какое-ни-
будь новое приспособление, он звонил не стесняясь, хотя по
существу был, как это ни кажется странным, человеком за-
стенчивым и легкоранимым.
На этот раз он не говорил в трубку, а орал:
— Объясни мне такую фразу у Гоголя — Ноздрев обраща-
ется к зятю Мижуеву по поводу Чичикова и говорит: «Ну, что
он мне или я ему? Он приехал Бог знает откуда, я тоже здесь
живу». Объясни, почему он так странно говорит: «Он при-
ехал Бог знает откуда», и после этого — «я тоже здесь живу»,
не «а я здесь живу», что было бы по логике, а я «тоже здесь
живу».
Я не смог ответить.
— А я знаю! — закричал довольный Луспекаев. — Ноздрев
никогда не ждет ответа собеседника. Он слышит его, хотя
партнер ничего не говорит. «Он приехал Бог знает откуда» —
и слышит ответ Чичикова: «Нет, я из этих мест». — «Я тоже
здесь живу», — радуется Ноздрев. Но Чичиков ничего не го-
ворит, просто Ноздреву так хочется услышать. Поэтому Го-
голь и написал Ноздреву такие длинные монологи. В них все
время есть воображаемые реплики Чичикова и Мижуева. Здо-
рово, да? Завтра я тебе покажу! — И, не попрощавшись, по-
весил трубку.
Назавтра он показал — и как!.. Юрий Владимирович Толу-
беев, не пропускавший ни одной репетиции Луспекаева (я по
его просьбе специально назначал сцены Собакевича и Нозд-
рева в один день) всхлипывал от восторга.
Через два дня мы сняли сцену всю целиком с двумя дуб-
лями. Самым трудным оказалось выбрать дубль: оба были луч-
шими.
193
Александр Белинский
А начинал он работу над Ноздревым тяжело. Он боялся
сравнений с Ливановым. Боялся обилия текстов. Больше все-
го боялся сложности гоголевской лексики.
Я уговаривал его:
— Пойми, Ноздрева надо играть трогательно. Он считает
себя самым порядочным человеком и всегда бывает потрясен
человеческой подлостью. Вот в чем юмор.
— Приведи мне пример, — попросил Луспекаев.
— Ну вот, когда Чичиков отказался играть в шашки, Ноз-
древ говорит: «Значит, ты не будешь играть со мной в шаш-
ки? Так ты подлец!» Он потрясен непорядочностью Чичико-
ва. Он забыл, что сам только что снял чужие шашки с доски,
что они лежат у него в кармане...
— Погоди! — загорелся Луспекаев. — Я скажу эту фразу так:
«Значит, ты не будешь играть со мной в шашки! — Глаза его
наполнились слезами. — Так ты подлец!» — И он заплакал.
С этого момента мы начали репетировать. Работали долго,
наслаждались этой работой.
Как-то месяца через два после премьеры он позвонил мне.
Конечно же ночью.
— Слушай, я тут прочел пьесу Ионеско. Говорят: театр аб-
сурда, театр абсурда!.. А ведь вся-то пьеса не стоит одного мо-
нолога нашего Ноздрева.
Он так и сказал: «нашего Ноздрева».
Нас подружил Николай Васильевич Гоголь. Первая встреча
произошла на репетициях телеспектакля «Нос». Спектакль не
получился, но Луспекаев!.. Он играл квартального. Когда он
приносил Ковалеву нос, разворачивал тряпочку и рассказывал
о бедственном положении своей семьи, о том, что с ними жи-
вет «теща, то есть мать моей жены», о «мальчике, который по-
дает большие надежды», и тому подобное, то весь громадный
гоголевский монолог был железно подчинен одной сквозной
задаче — выпросить у Ковалева деньги. Какие бы интонаци-
онные или пластические находки ни рождались у Луспекаева
на каждой репетиции, при каждом дубле, они всегда были под-
чинены этой задаче. Он не импровизировал вообще или по по-
воду, он умел направить свою фантазию, свой громадный ко-
медийный талант в нужное для автора русло.
Вторая встреча опять-таки на гоголевском материале. В те-
леспектакле «Ночь перед Рождеством» Луспекаев играл веч-
194
hniwcKu старого сплетника
но пьяного Кума, того самого, который вместе с Чубом об-
наружил пропажу месяца на небе. От пьянства Кум был аб-
солютно беспомощен. Широко открытые глаза выражали пол-
ное отсутствие какой бы то ни было мысли. Луспекаев говорил
на чистом украинском языке высоким тенором, почти фаль-
цетом.
Третьей совместной работой был Ноздрев.
У Павла Луспекаева было абсолютное чувство юмора, как
бывает абсолютный музыкальный слух. Сила его темперамен-
та (речь идет в данном случае о темпераменте комедийном)
была такова, что гоголевская гипербола в обрисовке характе-
ра, одержимость каждого гоголевского персонажа выглядели
на экране глубоко органичными. Органичной в устах Луспе-
каева становилась каждая, даже самая сложная по лексике го-
голевская фраза. К сожалению, он не сыграл городничего,
Кочкарева, Яичницу. Не сыграл Скалозуба в «Горе от ума»,
Мамаева в «На всякого мудреца...» — роли, которые репети-
ровал в Большом драматическом, и, говорят, блистательно.
Не сыграл он кавалера ди Риппафратта в гольдониевской
«Трактирщице», шекспировских Фальстафа, Бенедикта, Пет-
руччо... Да мало ли есть комедийных ролей, для которых был
рожден Павел Луспекаев!
Каждый очень остроумный человек смеется редко. Луспе-
каев любил и умел слушать смешные рассказы. Он раздра-
жался, когда кто-нибудь не к месту перебивал рассказчика
или смеялся невпопад. Он только улыбался, и это было выс-
шей наградой рассказчику. Сам он не рассказывал, а играл.
Играл каждый рассказ, изображая каждого персонажа. У не-
го был богатейший словарный запас, речь яркая, образная, с
неожиданными сравнениями.
Мы репетировали и сняли на пленку большой монолог из
пушкинского «Бориса Годунова». Луспекаев говорил: «Зна-
ешь, когда у меня болит нога, я не могу найти себе места. Вот
так и Борис бродит по дворцу, не знает, куда деваться от это-
го кошмара, где «мальчики кровавые в глазах».
Мы решили, что каждую ночь Годунов тайно ставит свеч-
ку в память об убиенном им царевиче.
Луспекаев молился, стоя на коленях. Он жаловался Богу на
то, что народ обвиняет его, Годунова, в пожаре, отравлении
сестры-царицы, в других бедах, и вдруг прерывал смиренную
195
Александр Белинский
молитву гневным криком: «Все я!» — потом снова брал себя
в руки и тихо молился.
Луспекаев говорил, что ему мешает железная форма пуш-
кинского стиха, а читал стихи превосходно.
Болезнь актера прервала работу над «Борисом Годуновым».
Поправившись, Луспекаев посмотрел свою кинопробу. Она
ему не понравилась. Он был невероятно требователен к себе.
«Это я играл прилично», — вот высшая для него оценка соб-
ственной деятельности. Он отказался играть Годунова. Меч-
тал об Отелло. Товстоногов хотел поставить с ним шекспи-
ровскую трагедию.
Один из его ночных звонков:
— Ты знаешь, как я буду душить Дездемону? Я задушу ее в
поцелуе. Главное в характере Отелло — нежность.
Он не успел сыграть Отелло. Не успел сняться и в трехсе-
рийном «Емельяне Пугачеве» по роману Шишкова, который
мы с ним задумали. У меня на память о любимом актере ос-
тался трехтомник романа «Емельян Пугачев» с его черниль-
ными пометками.
Каждая творческая индивидуальность неповторима. Каж-
дого большого артиста можно назвать последним из моги-
кан, потом придут пусть не менее значительные, но другие.
Одно из высоких призваний телеэкрана — запечатлевать ак-
терские свершения и создавать новые, достойные их редких
талантов.
И телевидение 60—70-х делало это, особенно Ленинград-
ское телевидение. В три часа дня, после окончания театраль-
ных репетиций, перед семью студиями телецентра на улице
Чапыгина выстраивался весь театральный Ленинград. Две
премьеры в неделю! Больше, чем в знаменитом московском
театре Корша до революции! Островский, Чехов, Горький,
Шекспир, Ибсен... Не говоря уже обо всем лучшем, что бы-
ло тогда в прозе. И сколько же актерских свершений! Да и
в Москве у старшего поколения телережиссуры: Турбина, Рез-
никова, Ниренбурга. Юрий Кольцов — Циолковский, Борис
Бабочкин в «Скучной истории» Чехова, Борис Тенин — Ме-
грэ, Елена Митрофановна Шатрова и Николай Александро-
вич Анненков в «Фиалке» Валентина Катаева! Список этот
далеко не полон. Телеспектакли тех лет, иногда плохо снятые
с экрана кинескопа, но тщательно отрепетированные, имев-
196
ianucKu старого сплетника
шие, как в театре, прогон в репетиционном зале, — замеча-
тельный памятник русского актерского творчества, и я сча-
стлив, что участвовал в этом беспрерывном театральном пра-
зднике на голубом экране.
С момента назначения в 1970 году Сергея Георгиевича Ла-
пина председателем Государственного комитета Совета Ми-
нистров СССР по телевидению и радиовещанию началась но-
вая эра. Лапин, безусловно, самая своеобразная фигура из
«великих мира сего», которую я встретил на своем больше чем
четвертьвековом телевизионном пути. Лапин был апологетом
Брежнева. Ходили сплетни, думаю не без оснований, что каж-
дый выходной он играл в брежневском обществе в преферанс.
Он был высокообразованным человеком, по-своему интелли-
гентным, если можно назвать интеллигентом такого мрако-
беса и лютого антисемита. Да и антисемитизм его, абсолют-
но открытый, имел большое количество исключений. Он с
удовольствием получал письма от Анатолия Эфроса, удовле-
творяя художественные заявки этого замечательного режис-
сера, столько сделавшего на голубом экране. Лучшим другом
Лапина был мхатовский режиссер Иосиф Моисеевич Раев-
ский. Лапин прославлял экс-чемпиона мира по шахматам
Михаила Моисеевича Ботвинника.
Новый начальник на первом же собрании продеклариро-
вал свою программу. Вместо оригинальных телеспектаклей
приказано было фиксировать на кинопленку спектакли теа-
тральные. В лидерах оказались московский Малый театр, Вах-
танговский, театр Завадского, любимейшего режиссера Лапи-
на, и конечно же МХАТ. Боже мой, на что же была истрачена
драгоценная кинопленка! На плохие и очень плохие спектак-
ли со старыми, дисквалифицировавшимися актерами. А ведь
Лапин был высокообразованным человеком. Русскую поэзию,
например, он знал превосходно. Был отличным оратором, че-
ловеком обязательным, требовательным к себе и другим. Но
он был воспитан сталинским аппаратом, службу в котором
прошел от самой маленькой должности до почти самой вы-
сокой. Он остался поклонником «того» МХАТа, не понимая,
что МХАТ уже совсем не «тот». Мое личное знакомство с Сер-
геем Георгиевичем произошло благодаря, быть может, самой
популярной передаче в истории отечественного телевиде-
ния — «Кабачку «13 стульев».
197
Александр Белинский
Уже забыто, кто придумал эту знаменитую передачу. Я по-
мню. Фамилия «изобретателя» Михаил Гутгарц. Этот веселый
телевизионный режиссер умер рано с псевдонимом Григорь-
ев. Таково было неумолимое требование Лапина. Долгие го-
ды «Кабачок» вели редактор Корешков и режиссер Зелинский,
а отдельные выпуски готовили разные режиссеры, начиная с
Марка Захарова и кончая автором этих строк.
В чем был прелестный идиотизм этой столь популярной
передачи? Маски. Да, да, те самые маски, которым я объяс-
няюсь в любви в течение всей книги. Маски носили поль-
ские имена. Пан Зюзя, пан Вотруба, пани Моника. Маски
имели и профессии: пан Профессор, пан Директор, пан
Спортсмен. Характеры их были локальны, то есть имели
одну определенную неизменную характеристику, созданную
самими исполнителями, главным образом артистами Мос-
ковского театра сатиры. Все они были в меру обаятельны
и абсолютно глупы. Они неизменно являлись в «Кабачок»,
декорация была постоянная, и играли миниатюры, как пра-
вило, короткие, не связанные одна с другой, а потом, откры-
вая рот под западные фонограммы знаменитых эстрадных
звезд от Фрэнка Синатры до Мирей Матье, исполняли с под-
танцовками их песенки.
В каждой из передач отсутствовала какая бы то ни было ло-
гика. В ней муза была не просто глуповатой, а на грани кре-
тинизма. Но играли-то хорошие комедийные актеры: Аросе-
ва, Мишулин, Высоковский, Волынцев. Пели и танцевали
очаровательные Селезнева, Шарыкина, Лепко. И вначале бы-
ли хорошо сделанные польскими эстрадными авторами Грод-
зенской, Потемковским и другими миниатюры. А главное —
это была ЕДИНСТВЕННАЯ бездумная, безыдейная телепе-
редача.
Как же ненавидел эту передачу Сергей Георгиевич Лапин!
Но... В-третьих, вымирали улицы, когда шла передача «Ка-
бачка». Во-вторых, «Кабачок» вызывал снисходительную
улыбку генералов и министров. И наконец, во-первых, «Ка-
бачок «13 стульев» был любимейшей телепередачей Леонида
Ильича Брежнева. Юмор «Кабачка» соответствовал уровню
юмора выдающегося ленинца, а интеллектуальный уровень
равнялся уровню его интеллекта. Лапин взял участников «Ка-
бачка» под свое высокое покровительство, и как же они этим
198
himtcKu старого сплетника
воспользовались! Популярность предоставляла им возмож-
ность давать бесчисленные концерты. Все артисты приобре-
ли машины. В выходные дни машины артистов Театра сати-
ры на недозволенных скоростях курсировали по всему
Подмосковью. Какой бы милиционер посмел задержать пана
Вотрубу, не говоря уже о пани Монике!.. Закончив концерт в
Можайске, пан Зюзя с пани Катариной мчались в Звениго-
род, а им на смену в Можайск прибывал пан Спортсмен с па-
ном Задунайским. Я прошу прошения, если путаюсь в поль-
ских именах. Появилась видеозапись, и актеры «Кабачка»
обнаглели окончательно. Можно было не учить текст. Сни-
мать миниатюру пофразно. Можно было не попадать в фо-
нограмму, становясь к аппарату спиной, а улыбаться в каме-
ру только на проигрышах. Выпуски «Кабачка» стали
настолько слабыми, что даже такой благодарный, неискушен-
ный зритель, как Генеральный секретарь Коммунистической
партии Советского Союза, это заметил и пригласил Лапина
к себе «на ковер». Это знаменитое выражение «на ковер» вхо-
дило в моду. Лапин встревожился. Но кроме репрессий он
должен был что-то делать. И вот тут наш последний писа-
тель-классик Валентин Петрович Катаев, пользовавшийся у
Лапина безграничным уважением, посоветовал пригласить
меня. Я был вызван в Москву, как Иосиф Прекрасный в Вет-
хом Завете, призванный разгадать сны фараона. И я не по-
срамил своего великого библейского предка. Как и Иосиф, я
был отлично подготовлен. В загашнике была пара прекрас-
ных миниатюр моего друга писателя Владимира Полякова.
Заменить имена Ивана на Зюзю, а Марусю на Стефусю бы-
ло делом техники. Я жестоко заставил артистов Театра сати-
ры во главе с подругой моей юности Ольгой Аросевой вы-
учить текст. А уж миниатюры я был обучен ставить самим
королем жанра Аркадием Райкиным. Короче, успех очеред-
ного выпуска «Кабачка «13 стульев» был бесспорен. Потом я
поставил еще три-четыре передачи, уже послабее. Благодар-
ность Лапина была безгранична. Несмотря на ненависть к те-
леспектаклям, он дал мне поставить на Центральном телеви-
дении подряд несколько пьес, о которых я мечтал всю жизнь:
«Трактирщицу» Гольдони с выпускницей Щукинского учили-
ща Натальей Гундаревой, «Как важно быть серьезным» Уайль-
да с Сухаревской, Кайдановским, молодой Евгенией Симо-
199
Александр Белинский
новой, «Цезаря и Клеопатру» Шоу со Смоктуновским, «Аль-
манах эстрады и юмора» с Кторовым, Петкером, Мироновым,
Ширвиндтом. Наконец, Лапин стал приглашать меня в Моск-
ву по субботам для лирических разговоров о поэзии. Короче,
при всей бесспорной жестокости, косности и политической
реакционности Лапина я многим обязан именно ему. К тому
же не будем забывать, что именно при Лапине осваивалась в
бешеном темпе новая телевизионная техника. Появившаяся
в 1968 году первая национальная информационная програм-
ма «Время» при Лапине стала фактически официальным
глашатаем политики ЦК КПСС. Наконец, начался на теле-
видении расцвет, по безапелляционному утверждению Улья-
нова-Ленина, «важнейшего для нас искусства», а именно...
КИНО.
Глава десятая
Кино
Уничтожив жанр телевизионного спектакля, Лапин дал до-
рогу телевизионному кино, и этого забывать не следует. Ведь
лучший до сих пор сериал «Семнадцать мгновений весны» по-
явился при Лапине. При нем вышли превосходные телефиль-
мы Марка Захарова, Анатолия Эфроса, Эльдара Рязанова. По-
сле Лапина я что-то ничего серьезного на голубом экране не
припомню, не говоря уже о нынешнем потоке порнографии
и бессмыслице западных бесконечных боевиков.
Мои взаимоотношения с кино сложились, мягко говоря,
сложно. Я не люблю кинопроизводство. Не люблю процесс
съемок и особенно озвучивания. У меня не хватает терпения
для длинного процесса создания кино — или телефильма, что
в принципе одно и то же, и теоретические рассуждения
об особой специфике фильма телевизионного считаю чистой
демагогией. И все-таки я недурно поставил музыкальные кар-
тины: «Лев Гурыч Синичкин», «Продавец птиц», «Карамбо-
лина-Карамболетта», потом поставил «Марицу» и «Перико-
лу» — очень, очень плохо.
О фильмах-балетах речь пойдет особо. Здесь я встретился
с изумительным композитором Валерием Гаврилиным и ве-
ликой балериной Екатериной Максимовой, что само по се-
бе — важнейшие события в моей творческой жизни.
Что же касается просто фильмов — «Старые друзья» по Ма-
люгину, «Незнакомка» по Блоку, «Идеалистка» по Володину
и, наконец, единственный большой кинофильм «Провинци-
альный бенефис», — то они интересны прежде всего по встре-
чам с людьми, да и что может быть в жизни вообще интерес-
нее! Собственно, все мои «Записки старого сплетника» — это
рассказы о людях, с которыми свела меня судьба, вернее, ра-
бота, а поскольку я всю жизнь только работал, то и встреч
этих было много, очень, очень много.
201
Александр Белинский
Я начну с первого маленького фильма-концерта «Юморес-
ки» по рассказам Валентина Катаева. Здесь состоялась моя
встреча с Валентином Петровичем. Я любил этого писателя,
люблю и сейчас. Люблю его сюжетные романы «Белеет парус
одинокий» и, особенно, «Хуторок в степи». Мой сын назван
Павликом потому, что, когда он, находясь в чреве матери, пер-
вый раз стукнул в ее живот, мы с женой читали именно «Ху-
торок», где так обаятельно написан маленький Павлик. «Раз-
новременно», как говорит неподражаемая Раневская в
миниатюре «Драма» по Чехову, я поставил на эстраде пьесу
Катаева «Дорога цветов», его же сказку «Жемчужина», фель-
етон «Дневник горького пьяницы», а на телевидении — «До-
мик», который и до сих пор считаю лучшей комедией времен
победившего социализма. По отрывку из «Дороги цветов», на-
званному мною «Шубка», фельетону раннего Катаева и его
сказке я и снял фильм-концерт «Юморески». К искусству ки-
но это не имеет никакого отношения, как, собственно, и все
мои фильмы. Это зафиксированные на пленку театральные и
эстрадные сочинения. Приметы того, что называется кино,
есть, пожалуй, только в «Незнакомке» по Блоку. Но не будем
теоретизировать и отвлекаться от темы «Записок».
Дошел слух, что Катаеву «Юморески» понравились, и я ре-
шил предстать пред очи последнего живого русского класси-
ка. Так называл его Твардовский, не любя Катаева как чело-
века.
Катаев жил безвыездно в Переделкине. Он был очень стар.
Эстер Давидовна, жена писателя, несмотря на возраст, была
удивительно хороша собой. О ней ходило невероятное коли-
чество сплетен, которые я не вправе повторять. Катаев в это
время был гоним с двух сторон. Он издал повесть «Вертер уже
написан». Это повесть о чекистах в Одессе, где все они как
один мерзавцы и все как один евреи. Интеллигенция объяви-
ла Катаева антисемитом. Шеф КГБ Андропов, ставший хозя-
ином страны, запретил отдельное издание повести и изъял из
библиотек очередной тираж злополучного «Нового мира». Это
Катаев-то антисемит! С горячо любимой женой Эстер Дави-
довной, с дочерью Женей — супругой Арона Вергилиса, ев-
рейского поэта, редактора журнала «Ди юдише хеймланд». На-
конец, сам Валентин Петрович, несмотря на абсолютно
русское происхождение, говорил с еврейским акцентом, то
202
lumtcKu старого сплетника
есть одесским, что, в сущности, одно и то же. Катаев был дру-
гом Ильи Ильфа, Исаака Бабеля, Эдуарда Багрицкого, Иоси-
фа Уткина. Катаев объяснял мне: «Почему я должен писать
неправду? У каждого одесского чекиста в кабинете висел пор-
трет Троцкого. Девяносто процентов ЧК были евреи, но мои
лучшие друзья во главе с Эдиком Багрицким тоже евреи!» Вот
из-за лучших друзей на Катаева напала другая группа крити-
ков, и в первую очередь Наталья Крымова. Валентин Петро-
вич выпустил книгу под названием «Алмазный мой венец». Я
очень люблю эту документальную повесть. В ней под вымы-
шленными именами действуют Есенин, Булгаков, Ильф, Оле-
ша и другие катаевские современники. Валентин Петрович
пишет о них с юмором, с нежностью, но кое-где достаточно
зло. Главное же он пишет о них как о равных. Это почему-то
всех возмутило. Вот что говорил мне Катаев: «Из тех, кого я
знал, могу с преклонением писать только о Бунине, моем учи-
теле. Да, Миша Булгаков хороший писатель. Но почему я не
могу сказать, что он провинциален? Или что Есенин плохо
воспитан? Да, я больше всех люблю Юру Олешу. Мы все счи-
тали его самым талантливым. Я был со всеми ними на «ты»,
и моя единственная вина, что я дожил до глубокой старости,
а они нет. Все остальные обвинения я отвергаю». Вообще же
Валентин Петрович очень спокойно реагировал на все напад-
ки. На мой вопрос, почему он отказался от сюжетной прозы,
он ответил сразу же: «Сюжет — я сам. Другого сюжета сего-
дня нет и не нужно. Нет, я не «мовист» (от французского «мо-
ва» — слово), я просто хорошо знаю свой язык и умею им
пользоваться».
Катаев с женой приехали в Ленинград на мою премьеру
«Домика» в Театре комедии. Он очень смеялся. Дал банкет
актерам. На следующий день повел нас с женой в «Европей-
скую» на обед. Он был большим гурманом. Здесь последова-
ли рассказы о Сталине, Станиславском и презираемом Ката-
евым Немировиче-Данченко. Отвлекусь. Все крупные
художники, с которыми меня свела жизнь, обязательно кого-
нибудь не любили из равновеликих. Александр Трифонович
Твардовский считал Есенина «средним поэтом»! Он даже на-
писал об этом и опубликовал свою точку зрения. Михаил Ми-
хайлович Зощенко молчал при упоминании романов Ильфа
и Петрова. Да и Катаев не любил эту тему. Ведь «Двенадцать
203
Александр Белинский
стульев» придумал он. Только изобретение Ильфом образа ве-
ликого комбинатора Остапа Бендера заставило Валентина Пе-
тровича отказаться от соавторства — он получил от Ильфа и
Петрова посвящение и золотой портсигар. В глубине души
Катаев считал своих «Растратчиков» ничуть не хуже знамени-
тых романов. Рассказчик Валентин Петрович был слабее, чем
писатель, как, впрочем, и Зощенко. О моих постановках, а я
поставил еще его комедию «Понедельник», говорил нелице-
приятно, конкретно, без всяких экивоков. А вот когда я дал
ему рукопись нескольких глав из этой книги, удивился и ска-
зал, что пишу я (дословно) «толковее, чем ставлю». Теперь,
на финишной прямой того, что называется «жизнь», я тоже
так думаю.
Если «Юморески» подарили мне знакомство с Катаевым,
то «Идеалистка», кроме автора Володина, о котором я уже
рассказал, была первой встречей с Никитой Михалковым и,
не последней ли? — с Алисой Фрейндлих. В своем интервью,
опубликованном в «Литературной газете», Алексей Николае-
вич Арбузов на вопрос — с кем бы он хотел побеседовать, от-
ветил: с Алисой Фрейндлих. «Она обаятельная женщина, —
сказал драматург. — Умна, прекрасная актриса». Фрейндлих
сразу же позвонила Арбузову. Увы! Это было его последнее
интервью...
Впервые я увидел Алису Фрейндлих в дипломном спектак-
ле Ленинградского театрального института. Она училась у мо-
его же профессора Б. В. Зона, учителя Павла Кадочникова,
Николая Трофимова, Эмилии Поповой, Зинаиды Шарко, На-
тальи Теняковой. Потом зоновские выпуски назывались име-
нами «премьеров» или «премьерш» курса. «Кадочниковский»
курс, «трофимовский», «теняковский». Был и «фрейндлихов-
ский» выпуск, хотя Алиса не была премьершей курса. В «Его-
ре Булычове» играла эпизод — старуху Зобунову; в спектак-
ле «Мораль пани Дульской» тоже отнюдь не главную роль.
Хеся, так, кажется, звали веселую, озорную, может быть, да-
же чересчур озорную, дочку пани Дульской. Она была очаро-
вательна в своем озорстве, в особенности когда танцевала та-
нец с эффектным названием «кек-уок» под аккомпанемент на
рояле своей младшей сестры Мели. Алиса сразу поражала
врожденной профессиональностью, тем особым чувством
профессии, которое, наверно, и называется талантом. В чем
204
IiihuCku старого сплетника
это выражается? В абсолютной внутренней свободе на сцене,
в способности к мгновенной импровизации при четком внеш-
нем рисунке. Но, может быть, самым главным в даровании
юной Фрейндлих была радость сценического существования,
радость, мгновенно заражающая зрительный зал.
Я впервые встретился с Алисой в работе при постановке
пьесы «Раскрытое окно» Эмиля Брагинского, одного из уча-
стников будущего знаменитого драматургического «тандема»
Брагинский — Рязанов. Героиню пьесы звали Катей. Катя эта
училась в десятом классе и мечтала стать актрисой. Это да-
вало возможность разнообразного показа синтетических спо-
собностей исполнительницы. Фрейндлих по ходу действия
читала монолог Нины Заречной из чеховской «Чайки», пела
романс, танцевала опереточный танец из «Голландочки»
Кальмана.
В это время в Театре имени Комиссаржевской, где рабо-
тала Фрейндлих, шли «Дети солнца» Горького, шла «Пятая
колонна» Хемингуэя. Алиса конечно же мечтала о Лизе в пье-
се Горького и о марокканке Аните. Но их играла замечатель-
ная актриса Эмилия Попова. Сейчас Фрейндлих говорит, что
«тогда правильно не получила эти роли, в особенности Ли-
зу, что могла бы на них надорваться». Это признание актри-
сы, эпиграфом к творчеству которой можно смело поставить
пушкинские слова: «Служенье муз не терпит суеты».
Да, она никогда не соглашается на съемки в самой соблаз-
нительной кинокартине, если репетирует в театре значитель-
ную роль. Фрейндлих никогда не жертвует для съемок лет-
ним отпуском, считая его необходимым для предстоящего
театрального сезона. Все подчинено служению театру. Всегда,
везде, во всем.
Фрейндлих не выносит суеты в работе. Она делает свои ро-
ли со скрупулезной точностью. Она не терпит небрежности
ни в чем, ни в мизансцене, ни в покрое платья, ни в рекви-
зите. Она любит делать роль медленно, не пропуская ни од-
ного звенышка, с чрезвычайной тщательностью в отборе вы-
разительных средств. Она ненавидит предпремьерную
суматоху, боясь растерять в ней найденное, и любит большое
количество прогонов перед первой встречей с публикой, чтоб
окончательно ощутить всю роль в целом.
В Театре имени Комиссаржевской Фрейндлих сыграла две
205
Александр Белинскии
роли, говоря старым актерским языком, из амплуа травести.
Сначала беспризорника в пьесе Микитенко «Светите, звез-
ды!», потом Гогу в «Человеке с портфелем». И обе не то что
неудачно, а как-то невыразительно. Теперь понимаю, что в
этом была своя закономерность. Алиса на сцене всегда была
женщиной. Мальчишек она играла, как всегда играют маль-
чишек в ТЮЗе, — чуть лучше, чуть хуже. Потом сама же
Фрейндлих показала, как это надо делать по-настоящему, в
роли Малыша из сказки Линдгрен о Карлсоне, который жи-
вет на крыше. Роль эта была сыграна уже в Театре имени Лен-
совета, где актриса работала много лет под руководством Иго-
ря Петровича Владимирова.
Значение работы с этим режиссером на творческом пути
актрисы было решающим. Он возродил для Алисы арбузов-
скую «Таню», поставил «Варшавскую мелодию» Зорина,
«Дульсинею Тобосскую» Володина, дал в брехтовской «Трех-
грошовой опере» не Полли Пичем или Люси, роли, как бы
написанные для Фрейндлих, а старуху Селию, опустившуюся
наркоманку. Режиссер провел актрису через трагическую Джу-
льетту Шекспира и фарсово-комедийную Катарину в «Укро-
щении строптивой». В спектакле «Люди и страсти» Владими-
ров соединил шиллеровскую Елизавету, Марию-Антуанетгу
Фейхтвангера, Уриеля Акосту Гуцкова, обрамив все это зон-
тами на тексты Гейне и Гете, создав для актрисы спектакль-
концерт, дающий возможность показа ее широкого по диапа-
зону дарования. Наконец, в «Преступлении и наказании»
Фрейндлих сыграла свою лучшую трагическую роль. Нет, не
Соню Мармеладову, а Катерину Ивановну. Вот пример режис-
серской прозорливости!..
Я не верю в то, что нужно четко формулировать тему актер-
ского творчества, и все-таки на основании многих лет творчес-
кого общения с Алисой Фрейндлих попытаюсь это сделать.
Говоря упрощенно — это тема Золушки. Мужество Золуш-
ки, поэзия Золушки и, наконец, превращение кухонной за-
марашки в сказочную принцессу. Повторяю, ассоциация, ко-
нечно, упрощенная, но точная.
Фрейндлих много и хорошо поет в спектаклях. Когда ее
принимали в Театральный институт, педагоги, без вступитель-
ных экзаменов, рекомендовали ее в консерваторию. Она вы-
брала драму. Все четыре года обучения у Фрейндлих был за-
206
iatiucKU старого сплетника
мечательный педагог по вокалу — Зоя Лодий. На совести Али-
сы, что она во многом растеряла певческие данные, отпущен-
ные ей природой, но музыкальность, к счастью, осталась. Де-
ло не только в абсолютном слухе и чувстве ритма, а в умении
понять и выразить самую сущность музыки. Я бы сказал боль-
ше. Алиса Фрейндлих умеет на основе иногда весьма небога-
того музыкального материала создать образ, насыщенный
большим содержанием. Как она это делает? Певческая попу-
лярность актрисы началась с исполнения песенки на музыку
Модеста Табачникова в комедии Ласкина «Время любить».
Нарочито наивный текст:
Что-то очень непонятное
Носится в эфире,
Что-то очень непонятное
Происходит в мире.
То ли дождик, то ли снег,
То ли будет, то ли нет,
Но это так интересно...
«Это так интересно» — запел сразу весь Ленинград. Дело
не в песне. С этой же музыкой пьеса «Время любить» шла во
всех городах Союза, а пели ее только в Ленинграде. Дело в
том, что Маше (так звали персонаж Фрейндлих) все было по-
настоящему интересно, и ее задушевные нотки выражали этот
интерес к песне.
«Задушевные нотки» — выражение Утесова. В «домикро-
фонном» пении они играли особую роль. У драматических ар-
тистов в первую очередь. По рассказам — у Комиссаржев-
ской. По личным воспоминаниям — у Бабановой, у Галины
Пашковой, у бесподобной Фаины Георгиевны Раневской. Бы-
ли они (как жаль, что они «БЫЛИ»!) у Алисы Фрейндлих.
Как пела она дуэт в довольно-таки примитивном спектакле
«Женский монастырь» по пьесе-обозрению Дыховичного и
Слободского в Театре имени Ленсовета! Она проговаривала
куплет, нарочито обгоняя и отставая от мелодии, но всегда
точно сходясь с ней в конце музыкальной фразы, и только на
припеве пела в полный голос в хорошем эстрадном ключе:
...Вас хочу будить утром,
Снова видеть вас в полдень,
С вами проводить вечер...
207
Александр Белинский
Теперь сугубо личные воспоминания...
Четыре десятка лет тому назад я ставил «Раскрытое окно»
для Алисы Фрейндлих. Четверть века назад снял с ней рас-
сказ Бунина «Мадрид». За эту роль она удостоилась устной
похвалы такого человека, как Александр Трифонович Твар-
довский. Двадцать лет назад я написал для Фрейндлих коме-
дию «Пятый десяток». Наконец, снял на телевидении «Идеа-
листку» Володина с Алисой и Никитой Михалковым. Еще был
концертный номер из оперетты «Нитуш» и эпизод — «Людо-
едка» Эллочка в телеспектакле «Двенадцать стульев».
Говоря о Зоне, Владимирове, Товстоногове, Рязанове — ре-
жиссерах, сыгравших в разной степени существенную роль в
ее творчестве, я до сих пор не назвал одного имени. Этот че-
ловек ни разу не ставил спектаклей с Алисой и до сих пор
не играл с ней вместе (что очень жаль!) ни в одном спектак-
ле, ни в одном фильме. Речь идет о народном артисте Бру-
но Артуровиче Фрейндлихе — отце актрисы. О первом и луч-
шем в стране Гарри Смите в симоновском «Русском вопросе».
О Гамлете, Хлестакове в послевоенном Академическом теа-
тре драмы имени А.С. Пушкина. О Тургеневе в «Элегии», о
Дексе в «Незабываемом девятнадцатом», о Тартарене из Та-
раскона из трилогии Доде и об удивительнейшем Остапе Бен-
дере в невышедшем спектакле Театра эстрады «Двенадцать
стульев».
Мне удалось в жизни один (всего один!) раз репетировать
с отцом и дочерью сцену встречи Цезаря и Клеопатры из пер-
вого акта пьесы Бернарда Шоу. Как жаль, что не удалось осу-
ществить этой постановки! Тогда б все увидели, как похожи
творческие индивидуальности дочери и отца по изяществу, по
тонкости юмора, по филигранности мастерства.
Почему я пишу именно о Фрейндлих? Мы друзья. Старые
друзья. Я принципиально не снимаю близких друзей. Боюсь
их потерять. Актеры не прощают неудач, виновником (все-
гда) оказывается режиссер. Алиса — исключение. Она никог-
да никого не обвиняет, кроме самой себя.
Впрочем, совместных неудач что-то не припомню. Ах,
скольким же актерам я не могу простить предательства! А
сколько не могут простить меня!..
Нет более жестокого искусства, чем кино. Я не буду рас-
сказывать об Олеге Ефремове, о Никите Михалкове, о Мар-
208
hi писки старого сплетника
гарите Тереховой, об Олеге Табакове, обо всех, с кем свела
меня киносудьба. Кино — искусство кратковременных
встреч. И команды у меня постоянной не было. Из картины
в картину менялись директора, вторые режиссеры, звукоре-
жиссеры, художники. Оператора я, наконец, нашел. С ним
я снял шесть картин подряд и, если доведется снимать еще,
буду работать с ним. Это Эдуард Александрович Розовский
— мастер классического толка, без омерзительных для меня
изобразительных выкрутасов. Оператор-реалист, хотя такого
термина вроде и не существует. Розовский снял такие отлич-
ные художественные ленты, как «Белое солнце пустыни»,
«Друзья и годы», «Человек-амфибия», «Старые стены» и еще
много картин — больше любого оператора «Ленфильма». Он
любит снимать, не может не снимать. Я снимать не люблю
и могу не снимать. На этих противоположностях мы и по-
дружились. С операторами, в отличие от актеров, дружить
можно и нужно.
Кроме высочайшего профессионализма и маниакальной
любви к своей профессии у Розовского есть еще одно боль-
шое творческое достижение. Он изобретатель особого языка,
которым пользуется только он, а понимают его только при-
выкшие ко всему осветители. Если нужно прибавить света,
Розовский кричит: «Марс громче!» Если силу света надо
уменьшить, оператор командует: «Задави правый фонарь!»
Моя любимая команда Розовского — приказ пиротехнику:
«Щепотку дыма!» Это значит, что надо пустить чуть-чуть ды-
ма на съемочную площадку, а для меня — что глубоко нена-
вистный процесс съемки наконец-то вступает в свою завер-
шающую фазу.
А потом начинается мучительное ожидание известия, что
негатив в порядке, потом известия о браке позитива (не
дай Бог!), пересъемка, потом увлекательный процесс мон-
тажа и... самое ненавистное — озвучивание. Эта ненависть
и привела меня к идее съемок немых фильмов, фильмов-
балетов.
Повторяю еще и еще раз: не я являюсь первооткрывателем
жанра, как об этом пишут. Им был непревзойденный гений
Чарлз Спенсер Чаплин. У меня же соединились две любви: к
Чаплину и классическому балету. И еще влюбленность в свет-
лый талант Екатерины Максимовой.
209
10 Записки старого сплетника
Александр Белинский
Почему зародилась мысль о балете на сюжет «Пигмалио-
на»? Три причины. Вторая — абсолютная хореографичность
сюжета, третья — музыка Лоу к «Май фер леди». А первая...
Кроме абсолютного, редчайшего совпадения внешности,
внутренней сущности, актерского юмора, безграничного лу-
кавого обаяния, особой женской прелести балерины, прису-
щей Элизе Дулитл, была еще одна закономерность в появ-
лении именно этого замысла. Очень хотелось, чтобы
лучезарное дарование актрисы развернулось в жизнерадост-
ном, веселом, милом произведении. Конечно же такие за-
бавные мотивы, как восстание римских гладиаторов, добро-
душные проделки Ивана Грозного с собственной женой или,
наконец, перекрытие Ангары, тесно связанное с гибелью
любимого и одновременно рождением от него двойни, не
располагали к созданию легких, искрометных балетов. Что
же касается «Коппелии», «Тщетной предосторожности»,
«Мирандолины», то героическая эпоха развернутого строи-
тельства коммунизма, естественно, не давала возможности
возобновления этих произведений на сцене первого театра
страны. Вот почему, вернее, вопреки чему появился телеви-
зионный фильм-балет «Галатея».
Следующий вопрос. Почему фильм-балет не снимался в
Москве, где все лучше, начиная от климата и кончая качест-
вом кинопленки, и где балерина имела роскошную квартиру,
когда-то принадлежавшую маршалу Говорову? Точного отве-
та на этот вопрос не существует. Есть только догадки. Мы
же придерживаемся фактов, которые, как сказал Иосиф Ста-
лин, — «упрямая вещь».
Съемки происходили в невероятно тяжелых условиях. Но-
чью, потому что Ленинградское телевидение не имеет кино-
павильона. В нищете, потому что «Галатея» была запущена в
производство не как художественный фильм, а почему-то как
концертная программа. Костюмы шились из материалов,
купленных самой балериной в странах умирающего капита-
лизма. Вся бижутерия многих поколений семьи Шпет (пред-
ков Максимовой) была мобилизована на украшение очаро-
вательной Элизы Дулитл. Все запасы канифоли балетных
театров города втирались в пол студии, на котором без кани-
фоли могли свободно скользить на коньках Роднина и Зай-
цев. Кордебалет студии Ленинградской консерватории в ко-
210
Записки старого сплетника
личестве шестнадцати человек, не принятых ни в один ба-
летный театр страны, день и ночь репетировал сложнейшую
хореографию Дмитрия Брянцева. Кинокамера «Дружба № 1»
была тщательно подготовлена механиками. Этот древнейший
аппарат, видевший перед своим объективом Мозжухина и Ве-
ру Холодную, упорно не сдавался в металлолом, так как за-
мены ему не предвиделось. Его предстояло зарядить цветной
пленкой: не английской фирмы «Кодак» и не немецкой «Ор-
во», а производства Казанского химического комбината име-
ни Ленина.
Клиническая смерть Сергея Бондарчука, узнавшего, что все
Бородинское сражение, снятое для «Войны и мира», оказа-
лось в пленочном браке, объяснялась именно работой Казан-
ского химического комбината.
Я не могу объяснить, почему в данном случае пленка оказа-
лась приличной. Наверно, по причине соблюдения всех кине-
матографических традиций, идущих еще от братьев Люмьер,
изобретателей кино. После первого дубля была разбита о каме-
ру тарелка, и не какая-нибудь, а от павловского сервиза. После
второго — откупорены две бутылки шампанского. Я ни разу не
мылся между съемками и получением материала, то есть в те-
чение восьми — десяти дней. Правда, я постригся перед по-
лучением материала объекта «Чаепитие». В этот вечер и при-
шел брак, стоивший мне нескольких лет жизни.
Съемки протекали радостно, со всепоглощающей любовью
каждого работника и всей группы к исполнительнице цент-
ральной роли. Впрочем, картина сама дает ответы на все
вопросы. А я ограничусь беглыми зарисовками некоторых
примечательных моментов в виде документально зафиксиро-
ванных диалогов.
Диалог первый
Марис Лиепа (исполнитель роли Хиггинса)
Хороший рост. Латышский акцент, немного подчеркнутый
специально. Звонок по телефону:
— Сашенька, это Марис. Когда Катя должна быть на пло-
щадке?
— В пять часов.
— В половине пятого я сяду гримироваться.
211
Александр Белинский
Приезжает он в половине шестого. До шести заваривает чай
в гримуборной, приговаривая: «Я уже готов». В семь часов он
входит в студию:
— Почему же мы не снимаем?
— Мы вас ждем, Марис Эдуардович.
— Я давно готов. Голубую нитку, пожалуйста. Олечка, будь-
те добры, подойдите с зеркалом. Почему мы не снимаем?
— Ждем вас.
— Я давно готов. Серую нитку, пожалуйста. Вы же видите
цвета моих костюмов. У вас должны быть все нитки таких
цветов. Олечка, прошу вас, замажьте мне прыщи на шее. Я
давно не любил. И все-таки, почему мы не снимаем?
— Вас ждем.
— Не вы ждете, а я жду. Черную нитку, пожалуйста. Нет,
туфли я зашиваю сам. Это мой инструмент. Паганини сам на-
страивал свою скрипку. Правда, в данном случае я только фон
Екатерины Максимовой. Зеленую нитку, пожалуйста. Я еще
раз спрашиваю: почему мы не снимаем? Где фотограф? Без
фотографа я не начну съемку. Это надо все фиксировать для
истории. Ножницы, пожалуйста. Завтра я улетаю в Монго-
лию. Может быть, мы все-таки начнем съемку или Екатери-
на Максимова, как всегда, не готова?
— Я давно здесь.
— Тогда почему мы не начинаем съемку?
Диалог второй
ДМИТРИЙ БРЯНЦЕВ
Очень одарен. Молод. Могуч и неутомим. Невероятно здо-
ров и не понимает, как кто-то может уставать или плохо се-
бя чувствовать. Упрям. Великолепно слышит музыку. После
каждого дубля: «Это не песня, но ведь у нас нет пленки».
Пленки действительно нет.
Исполнительница центральной роли глубоко убеждена в
собственной профессиональной непригодности. Если дубль
получается, она считает это чистой случайностью и убеждает
всех, что хотя это и плохо, но лучше у нее не бывает. Если же
что-то не выходит, то она в полном восторге говорит, что она
предупреждала, что не надо было с ней связываться. Лицезре-
ние самой себя на экране доставляет ей почти физическое му-
212
Записки старого сплетника
чение. Высший комплимент: «Это первый случай, когда я кое-
где не вызываю чувство отвращения».
Во время двух конфликтов с хореографом.
балетмейстер (мне). Попросите, пожалуйста, балерину
встать чуть-чуть левее.
балерина (мне). Пусть он крикнет: «И... раз».
я (после дубля балетмейстеру). Ну как?
балетмейстер. Не знаю. Это хореография Екатерины Мак-
симовой.
я (балерине). Начнем.
балерина. Я эту косую из «Жизели» снимать не буду. Он это
сделал нарочно.
я (балетмейстеру). Ну как?
балетмейстер (глаза полны слез). Вам не кажется, что испол-
нительница центральной партии должна быть несколько
радостнее?
я. Но вы же сами ее довели!
балетмейстер Я ее довел?! Знаете, Александр Аркадьевич...
(Выбегает из студии.)
я (дрожащим голосом). Катюша, ты на меня за что-то сер-
дишься?
балерина На вас? А при чем тут вы?
Я действительно ни при чем.
Диалог третий
ТОМБЕ
Я вышел на съемки неплохо подготовленным хореографи-
чески. Я вырос на улановских арабесках и атитюдах. Я знал,
что такое ранверсе и амбуате. Я свободно отличал батман-
тандю от танлие и не путал ан дедан с ан деором и еффасе с
круазе. Трагедия моя заключалась в том, что я не знал и не
знаю сегодня, что такое томбе. Все знали, а я не знал люби-
мое словечко балетмейстера и балерины.
балерина. Я не могу успеть сделать томбе, я должна успеть
стать на пальцы.
звукооператор. Александр Аркадьевич, фонограмму давать с
Катиного томбе?
оператор Я беру ноги с томбе, отъезжаю на общий и сно-
ва наезжаю. На крупный, когда Катя приходит на томбе.
213
Александр Белинский
гример. Катюша, я загримирую вас на крупный после томбе.
Томбе, томбе, томбе!..
Ночью мне приснилось томбе. Могучее, чернобородое, не-
понятного пола, оно двигалось на меня на невыворотных но-
гах, плотоядно щелкая зубами. Меня разбудил телефонный
звонок. Неповторимо нежный голос: «Сашенька, когда я
должна быть одета?» — «В три часа, Катюша, не позже». —
«Я буду готова ровно в три».
Я засыпаю успокоенный. Я знаю, что не раньше пяти под
десятками взглядов восторженных поклонниц Екатерина
Сергеевна Максимова, которую ни один человек — от дирек-
тора группы до уборщицы — не называет по имени-отчест-
ву, а просто Катя, Катюша, Катенька, появится на съемоч-
ной площадке.
С Максимовой я снял пять фильмов-балетов: «Галатея»,
«Старое танго», «Анюта», «Чаплиниана», «Жиголо и Жиголет-
та». Последний был уже не фильм-балет, а попытка создания
синтетического зрелища. Я мечтал идти дальше по тому же
пути и в кино и в театре. Не получилось ни то, ни другое. А
вот фильмов-балетов я снял еще семь, но без Максимовой.
Признаемся сразу, они не получили того признания, хотя «Же-
нитьба Бальзаминова», к примеру, была сделана не хуже. В
чем дело? В абсолютной уникальности максимовского талан-
та как киноактрисы. Что это такое? Полная раскрепощенность
перед кинокамерой и чувство меры. Меры выявления своих
эмоций. Отличное от сцены. Научить этому нельзя. Это от
Бога.
И Максимова и Фрейндлих похожи. Скрупулезностью в ра-
боте, требовательностью к себе и другим, подлинной, непо-
казной скромностью и... пессимизмом в жизни, плохим ха-
рактером в работе. Простим им это за абсолютную
человеческую порядочность и бескорыстную преданность ис-
кусству.
Не довелось мне в кино встретиться с горячо любимыми
актрисами Инной Чуриковой и Мариной Нееловой. Но об од-
ной, увы, несостоявшейся встрече я не перестаю грустить по
сей день. Впрочем, еще может быть... Но начнем сначала.
Я уже писал, что чеховская «Чайка» — любимейшая моя
пьеса. Не одно поколение режиссеров всего мира пыталось
понять загадку этой великой, таинственной драмы, назван-
214
Записки старого сплетника
ной Чеховым почему-то комедией. Я сам ставил «Чайку» с
прекрасными артистами: Толубеевым, Честноковым, Ургант,
Усковым, Озеровым, Медведевым. Заречную играла Ия Сав-
вина. Я видел бесчисленное количество «чаек», среди кото-
рых лучшей, безусловно, была Валентина Караваева. Нако-
нец, я не разделяю мнения большинства, не принимающего
балет «Чайка» Щедрина — Плисецкой. В этом спектакле
Большого театра есть истинно чеховские мгновения. Но вот
уже много лет, когда я снова и снова мысленно возвращаюсь
к этому вечному произведению чеховского гения, когда я
представляю себе мятущуюся тоненькую фигуру прелестной
девушки, а потом трагическую личность актрисы Нины За-
речной, передо мной возникает образ балерины Натальи Ро-
мановны, для меня просто Наташи Макаровой.
Ах, как давно это началось! Мы стояли в одной ложе бе-
нуара на спектакле «Жизель», который танцевала Уланова.
Было тесно, как всегда на таких редких гастролях Улановой
в ее родном Ленинграде. Макарова была ученицей предвыпу-
скного класса, может быть, выпускного, боюсь ошибиться. О
ней уже ходили слухи. Во всяком случае, никто не сомневал-
ся, что она будет в Кировском театре. Когда началась сцена
со шпагой, один из улановских шедевров (и будущий шедевр
самой Макаровой), Наташа вся затрепетала, слезы хлынули у
нее из глаз, и дальше... я смотрел не на сцену, а на плачущую
ученицу хореографического училища.
Затрепетала... Я не случайно употребил этот глагол, говоря
о Макаровой. Мой учитель, замечательный режиссер Влади-
мир Платонович Кожич, последние годы жизни мечтавший
о «Чайке», говорил мне: «Вслушайтесь в звучание чеховских
имен. За-реч-ная! Какая поэзия! Треплев. Это же не от слова
«трепло», а от слова «трепет». Они трепещут, герои Чехова».
Танец Макаровой всегда вызывал трепет в зрительном за-
ле. Трепетным был ее танец, и героини балетов в ее испол-
нении проживали сценическую жизнь, полную душевного
трепета. Та же сцена со шпагой в «Жизели». У Галины Ула-
новой крестьянская девушка, принимавшая шпагу за змею,
оставалась наивной крестьянкой, сходящей с ума. Жизель Ма-
каровой превращалась в этот момент в шекспировскую Офе-
лию. Кстати говоря, как бы могла Макарова станцевать и сы-
грать эту роль! Но вернусь к «Чайке».
215
.Александр Белинский
После училища Макарова некоторые свои партии готови-
ла с Татьяной Михайловной Вечесловой. Ранний уход этого
художника с репетиторской работы — непоправимый урон для
Кировского театра. Несколько лет общения с Вечесловой, бе-
зусловно, много дали восприимчивой натуре Макаровой. Там,
в доме у Вечесловой, произошло событие, небольшое на пер-
вый взгляд, о котором, может быть, даже не помнит сама На-
таша. Я, как свидетель, попробую воспроизвести его с мак-
симальной точностью.
В Кировском театре поговаривали о постановке балета «Ма-
скарад» по драме Лермонтова. Позже этот спектакль был по-
ставлен на музыку Лапутина и прожил недолгую, бесславную
жизнь. У Вечесловой появился в доме маленький магнито-
фон, который тогда производил впечатление чуда. Мы с удо-
вольствием играли в эту «игрушку». Я предложил записать
сцену из «Маскарада». Арбенина читал Всеволод Ухов, баро-
нессу Штраль — Вечеслова, Нину — Наташа Макарова. На
пленке в основном слышался смех исполнителей, неумело
произносивших лермонтовские стихи. Вдруг... О, это «вдруг»,
которое, может быть, и является сущностью актерского ис-
кусства! «Вдруг» — верный признак актерского таланта, без
которого искусство театра мертво. «Мгновения, ради которых
живет театр», — сказал Немирович-Данченко. Я был свиде-
телем такого мгновения в уютной, такой петербургской квар-
тире Вечесловой на Гороховой улице. Наташа, читая монолог
Нины, неожиданно перестала смеяться. Перестал шутить и
подыгрывающий ей Арбенина Ухов. Макарову захватило вол-
шебство лермонтовского стиха. Вот тут и вырвалось это
«вдруг» на строках:
Не отворачивайся так, Евгений,
Не продолжай моих мучений,
Спаси меня, рассей мой страх...
Взгляни сюда...
О! смерть в твоих глазах!..
Вот это — «О! смерть в твоих глазах!» — я помню до сих
пор, спустя два десятка лет. С каким нервным трепетом бы-
ло это прочитано! Нет, не прочитано. Это вырвалось из са-
мой глубины души. Мы все смешались и прекратили запись.
Может быть, в доме Вечесловой и сохранилась эта пленка.
216
Записки старого сплетника
Навряд ли. Мы как-то не отнеслись к этому всерьез. Хотя по-
том, спустя много дней, Вечеслова сказала мне: «Я мечтала
всю жизнь о драматической сцене. Завадский даже обещал
поставить со мной Нору. Не получилось. А вот у Наташи по-
лучится, запомните».
Говорят, получилось. Катя Максимова видела Макарову на
Бродвее в каком-то мюзикле и рассказывала об этом с вос-
хищением, а Максимовой можно верить. Ходят сплетни, что
какой-то драматический спектакль затевается для Макаровой
в Лондоне. Может быть, «Чайка»? Не знаю.
Вернусь к тому, чему был свидетелем. Как это мало для
такого масштаба дарования: «Жизель» — «Лебединое», «Ле-
бединое» — «Жизель». Из месяца в месяц, из года в год. Ни
«Баядерки», ни «Дон Кихота». А дело подвигалось к тридца-
ти годам. Конечно же она была лучшей Жизелью, лучшим
Лебедем в Кировском театре того времени. Трепет лебеди-
ных крыльев при первой встрече с принцем, блеск тридца-
ти двух фуэте в Черном лебеде — и все это при безукориз-
ненной форме классического танца. Думается, что если
продолжить сопоставление с драмой, то искусство Макаро-
вой продолжает традиции «чайки русской сцены» Веры Фе-
доровны Комиссаржевской, поэтические озарения которой
в лучших своих ролях подхватила в драме только Марина
Неелова.
Две роли Наташи Макаровой на сцене Театра имени Ки-
рова явились свершениями великими, вошедшими в сокро-
вищницу лучших ролей русского балета. Обе партии созда-
ны в содружестве с выдающимся хореографом Леонидом
Якобсоном. Как жаль, что при жизни не все понимали мас-
штаб дарования этого художника. А вот Макарова понима-
ла и неоднократно об этом говорила. Не помню, какой ба-
лет вышел раньше, «Клоп» по Маяковскому или «Страна
чудес» на музыку Шварца. Да и не в этом дело. В «Клопе»
Макарова танцевала Зою Березкину. Впрочем, «танцевала»
не точное слово. Это было самое «речитативное» сочинение
Якобсона, без адажио и вариаций в обычном их понимании.
Это был новаторский балет в плане пластических взаимоот-
ношений персонажей. Константин Рассадин и Наталья Ма-
карова овладели этой пластикой лучше всех. Диалоги — не
адажио, а именно диалоги — Присыпкина и Зои Березки-
217
Александр Белинский
ной были предельно понятны, скажу больше: они были пси-
хологически более разработаны, чем аналогичные сцены в
пьесе Маяковского. Макарова была трогательна и предельно
достоверна в ощущении эпохи. В партии Зои не было так на-
зываемых взрывных сцен, таких, как эпизод со шпагой в
«Жизели». Говоря словами замечательного русского критика
А.Р. Кугеля, всегда сравнивавшего актерские краски с живо-
писью, это была первая роль Макаровой, «написанная аква-
релью». Зато героиню «Страны чудес» балетмейстер и актри-
са написали маслом — ярким, кричащим. Финал этого
балета — недооцененное создание хореографа и балерины, и
приходится сожалеть, что танцевальный текст монолога Ма-
каровой не зафиксирован на пленку и не сохранился ни у
кого в памяти.
Величие таланта Якобсона еще и в том, что он сочинял
свои композиции на самые, по первому взгляду, нетанцеваль-
ные ситуации. Вспомните «Слепую», или «Жмущую туфлю»,
или анархистов в «Двенадцати» по Блоку, или финальный
монолог героини «Страны чудес» — танец хромой, слепой,
изувеченной женщины. Во многих своих композициях Якоб-
сон отказался от диагоналей, свойственных классическим ва-
риациям Петипа. В «Слепой», например, балерина все вре-
мя существует фронтально, лицом к зрителю. Так же был
поставлен монолог Макаровой в «Стране чудес». Очень не-
большая амплитуда движений: фактически весь танец бале-
рина исполняет у рампы. Сами движения, как это часто у
Якобсона, поставлены буквально на каждый такт музыки.
Протяженность монолога для балета огромная. Причем весь
танец начинается с очень высокой ноты и развивается кре-
щендо, как в клавирах Листа с их невероятными ремарками:
быстро, еще быстрее, а после — предельно быстро, опять еще
быстрее. Танец Макаровой был криком отчаяния, и отчая-
ния, не имеющего предела. Легенды русского театра о Мо-
чалове с его монологом Гамлета «Оленя ранили стрелою...»,
о Жанне д'Арк Ермоловой становились достоверными, ког-
да еще и еще раз смотрел я Макарову в этой роли. В движе-
ниях, в рисунке танца Якобсона было нечто патологичное,
но мастер знал свою удивительную исполнительницу и ве-
рил в нее. Замечательная классическая балерина Макарова
нигде, при самом предельном выражении чувств, не наруша-
218
Записки старого сплетника
ла эстетической красоты танца. Как жаль, что удивительный
хореограф так мало поставил для балерины, словно рожден-
ной для воплощения его всегда оригинальных замыслов.
И вот совсем иной жанр. В возобновленной «Золушке»
Прокофьева — Сергеева Макарова станцевала на премьере не
Золушку, а Кривляку. В первой редакции эту партию ярко ис-
полняла Вечеслова. Это была карикатура; впрочем, карика-
турность заложена в самой музыке Прокофьева. Природный
юмор Макаровой давал ей возможность без труда повторить
вечесловский образ. Но она исполнила партию совсем по-
другому. Макарова делала все чуть-чуть, как бы вполноги —
есть такое рабочее выражение в балете, по-моему очень точ-
ное. Все время проглядывала актерская ирония по отноше-
нию к своему персонажу. Брехт назвал такой способ игры
«остранением». Это сложный актерский прием, доступный
далеко не всем драматическим артистам, даже очень хоро-
шим. Собственно, открыт он был не Брехтом, а нашим Вах-
танговым в его знаменитой «Турандот». Так вот: Макарова
танцевала Кривляку именно по-вахтанговски, вразрез со всем
спектаклем, достаточно буквальным. И думается, проникла в
суть прелестной партитуры Прокофьева, композитора, со-
здавшего оперы «Любовь к трем апельсинам» и «Обручение
в монастыре», полные музыкального юмора. Исполнение Ма-
каровой партии Кривляки подсказывает решения будущих
постановок «Золушки», балета, еще не получившего достой-
ного сценического воплощения.
Я снял на телевидении адажио Золушки и Принца с Ма-
каровой и Викуловым. Хотел вставить его в какую-то пустя-
ковую новогоднюю сказку о балерине, которую начал репе-
тировать. Наташа провела одну застольную репетицию.
Читала она свободно, не стесняясь. Партнером ее был
старейший артист Академического театра драмы имени
А.С. Пушкина Константин Игнатьевич Адашевский. Он за-
метил: «Смотрите, балерина, а сразу же попала в тон!..» А я,
слушая ее трепетный голос (в который раз тот же эпитет, но
другого не подберу!), думал о «Чайке».
Чайка улетела надолго. Я думал, навсегда. Я ловил слухи о
ней. Горячие поклонники Макаровой Екатерина Максимова
и Владимир Васильев рассказывали мне о балете «Манон Ле-
ско», о мюзикле «На пуантах». Увидел я в видеозаписи ма-
219
Александр Белинский
зурки Шопена, чудесно станцованные Макаровой с Михаи-
лом Барышниковым.
И вот спустя восемнадцать лет увидел Наталью Романовну
Макарову на родной сцене в самой национальной роли рус-
ского репертуара. Она танцевала два адажио пушкинской Та-
тьяны с Онегиным. «Татьяна — русская душою»... Не будем
бояться цитат, ставших банальными. Слишком уж они точно
выражают существо. Да, это был «душой исполненный полет»
в самом высоком понятии слова. Макарова могла бы с гор-
достью повторить вслед за героиней чеховской «Чайки»: «Те-
перь я актриса!» А я, глядя на ее стройную девичью фигурку,
слушая нервные ноты ее чудесного по тембру голоса, когда
она говорила на просцениуме свою прочувствованную речь,
думал... Может быть, произойдет чудо, когда великая балери-
на станет большой драматической актрисой, может быть, —
еще не поздно, нет? — выступит в бессмертной роли чехов-
ской Чайки...
Моя же встреча с Макаровой не состоялась. Зато первую,
и наверняка последнюю, кинокартину, именно кино- и не те-
ле-, я снял с другой русской актрисой, лишенной родины, как
и Наташа Макарова.
Я видел ее дважды в Большом театре на премьерах «Игро-
ка» Прокофьева и «Укрощения строптивой» Шебалина. Она
играла лучше всех. Намного лучше.
После своего изгнания Галина Павловна Вишневская вер-
нулась сначала на родину как автор книги «Галина». Вернее,
книга появилась на прилавках книжных магазинов еще до воз-
вращения артистке звания гражданина Советского Союза, ли-
шена которого она была столько лет! Книга Вишневской сра-
зу же стала бестселлером, как задолго до этого стала
бестселлером буквально во всем цивилизованном мире. По
общественному резонансу я могу сравнить «Галину» разве что
с первым опубликованием гениального романа Булгакова
«Мастер и Маргарита».
Книга Галины Павловны Вишневской уникальна по глуби-
не охвата темы, по простоте и ясности изложения, по обще-
ственному темпераменту и пронзительному лиризму. Военное
детство, вхождение в профессию артистки и певицы, жизнь
«придворного» советского театра, каким был Большой театр
СССР, наконец, последние годы невиданной травли, привед-
220
Записки старого сплетника
и
шие к трагическому отъезду и Вишневскую и Ростропови-
ча, — все это не имеет аналогии в отечественной мемуарной
литературе. Да и не назвал бы я «Галину» мемуарами. Слиш-
ком спокойное, слишком официальное название для этого
подлинного крика души!
Какое великолепное сочетание: почти сатирическое изоб-
ражение сильных мира сего, начиная с министра культуры,
членов Политбюро и их «опричников», с одной стороны, и с
другой — лирических портретов дирижера Мелик-Пашаева,
режиссера Покровского, композитора Шостаковича и мужа
актрисы, прошедшего с ней весь трагический путь изгнания,
великого музыканта Мстислава Ростроповича. Возьму на се-
бя смелость сказать, что среди бесчисленных книг о Шоста-
ковиче нигде его образ не написан так точно и ярко, как в
книге Вишневской. Книга «Галина» написана отличным язы-
ком, без тени модной сейчас претенциозности, поэтому чи-
тается легко, несмотря на всю значительность содержания.
Могу свидетельствовать о поистине всенародном успехе кни-
ги, потому что видел, как в маленьком русском городке Плес
на Волге, где мы снимали кинофильм «Провинциальный бе-
нефис», все слои населения — от преподавателей техникума
и священнослужителей до рыбаков на причалах и санитарок
местной больницы — подходили к Галине Павловне, а она
ведь не популярная киноактриса, и просили автограф на кни-
ге «Галина». Для меня осталось загадкой, где они ее брали и
как платили, ведь книга стоит дорого!
Моим первым желанием после прочтения книги было во
что бы то ни стало снять фильм с участием Вишневской. Тем
более, что актерское исполнение Вишневской оперных пар-
тий внушало уверенность, что и на киноэкране она может
быть такой же органичной, как на сцене. Правда, оперной.
Ведь петь — это совсем не то же самое, что говорить. В ки-
нофильме «Катерина Измайлова» актриса поет, только поет.
Три обстоятельства повлияли на мой первый кинопроект.
Во-первых, я уже сказал, что видел Вишневскую на премье-
ре оперы Шебалина «Укрощение строптивой». В этом мало-
удачном спектакле прекрасна была только Вишневская. Ка-
кой комедийный темперамент! Какая пластика! Какой
чудесный юмор! Во-вторых, из книги «Галина» я узнал об опе-
реточном прошлом Галины Павловны. А в-третьих, я так люб-
221
Александр Белинский
лю оперетту! Я так мечтаю поставить ее на экране во всем му-
зыкальном блеске, без опереточных штампов! Кто же может
сделать это лучше Галины Павловны! Итак, я прибыл в Па-
риж с нотами и набросками сценария «Королевы чардаша» по
великой оперетте Кальмана.
Галина Павловна отказалась сразу. Вежливо, но бесповорот-
но. Вишневская такая же, как ее книга: четкая в оценках, рез-
кая, абсолютно бескомпромиссная. Она заявила, что уже во-
семь лет, как не поет, а что касается оперетты, то (привожу
дословно) — «поздно мне дрыгать ногами».
Потом мы сели за обеденный стол. Галина Павловна весе-
лая, гостеприимная, невероятно красивая. Я и мои спутни-
ки — грустные, подавленные, забывшие о всей волшебной
прелести Парижа. Ах, как же мне хотелось снять фильм с Виш-
невской! После того, как я ее увидел, еще больше!
— Вот если бы что-нибудь из русской классики... — задум-
чиво сказала Галина Павловна.
— Кручинину в «Без вины виноватых», — отозвался я без
секунды паузы.
Дальнейший диалог развивался в музыкальном темпе
престо.
вишневская. Буду сниматься, не задумываясь.
я Наверняка?!
вишневская. Честное купеческое слово!
В таком же темпе был тут же заключен договор. На проща-
нье Галина Павловна сказала только одну, казалось бы, незна-
чительную фразу. «Кручинина, наверно, будет оперная акт-
риса». Понимала ли Вишневская, что дала ключ к решению
будущего фильма?..
В том же темпе престо был написан сценарий по трем пье-
сам А.Н. Островского, посвяшенным русским актерам: «Лес»,
«Таланты и поклонники» и «Без вины виноватые». Из много-
численных блестящих записей Галины Павловны на родине
были отобраны ария из оперы «Норма» и дуэт из «Травиаты»
с Лемешевым, о котором она так прекрасно написала в сво-
ей книжке. Музыку к финалу написал Валерий Гаврилин.
Вишневская приехала в Ленинград на кинопробы идеаль-
но подготовленной. Ее опытнейшие кинопартнеры — Влади-
слав Стржельчик, Вячеслав Тихонов, Леонид Куравлев, Вла-
димир Самойлов — моментально находили с ней общий язык.
222
Записки старого сплетника
Первая съемка в Плесе. Вечер. Накрапывает дождь. Стаи
комаров, злых, как волчья стая! Галина Павловна туго затя-
нута в корсет конца прошлого столетия. Ни одной жалобы.
Никаких капризов. Чудесное настроение и полная творчес-
кая самоотдача! Ах, какая это школа для молодых партне-
ров! А как же свободна, как пластична Вишневская на съе-
мочной площадке! Разве можно поверить, что она оставила
сцену почти десять лет назад! Разве можно поверить, слу-
шая специально записанную молитву или дуэт со Стржель-
чиком в романсе «Пара гнедых», что Вишневская давно не
поет!..
Необходимо сказать о «взаимоотношениях» Галины Пав-
ловны с музыкой. Сказать, что она ее слышит, чувствует, —
ничего не сказать! Вишневская живет в музыке, а музыка жи-
вет в ней. Даже немузыкальные сцены мы снимали под му-
зыку, конечно же под прекрасную музыку, которая ведет за
собой актрису, подсказывает каждое движение ее души.
За долгие годы работы в театре и кино с лучшими отече-
ственными актерами я не много могу найти таких подлин-
ных соавторов в трудном деле создания фильма, как актри-
са Вишневская. Я хочу привести письмо, написанное мне
после первого просмотра материала будущей картины. Пись-
мо писалось впопыхах, карандашом, но я храню его как эта-
лон творческого отношения к нашему непростому делу.
«Дорогой Шура!
Решила писать Вам, т. к. знаю, что Вы меня поймете, а
также, что не люблю недомолвок, невысказанных неудоволь-
ствий и т. д., что так мешает творческому общению и в ре-
зультате приводит к непоправимым актерским просчетам,
особенно в фильмах. Не буду говорить о всех достоинствах
Вашей работы, они налицо и видны всем, скажу лишь о том,
что мучает меня с моей ролью. Первое — отсутствие куль-
минации, то есть того, во имя чего строится весь фильм, —
сцена с сыном. Гениально найденное решение с медальоном
не нашло своей высшей точки. «Ты ее сын, ты убил ее!» Реп-
лика Гурмыжского, а что дальше??!! Если нет другой идеи, то
здесь, как мне кажется, можно было бы сделать монтаж из
лиц Отрадиной, Кручининой, ребенка и т. д., используя при-
емы кино, чтобы вызвать высшую точку напряжения у пуб-
223
Александр Белинский
лики — встречи матери и сына. Сегодня я этой кульминации
не ощутила. Но Вы, конечно, лучше меня знаете, что делать,
мои впечатления скорее зрительские, чем киношно-профес-
сиональные, но тем не менее фильм-то делается для зрите-
лей...»
Так писала мне автор книги «Галина». Стоит ли говорить,
что я полностью использовал совет актрисы, и могу с уверен-
ностью сказать, что это во многом решило картину «Провин-
циальный бенефис».
У меня хорошие воспоминания о съемках «Провинциаль-
ного бенефиса». Редкая для кино атмосфера. Дружелюбная,
без склок, достаточно спокойная. Чудесные костюмы и деко-
рации. Красиво снятая Розовским Волга. И хорошо играю-
щие актеры и старые мои друзья Стржельчик и Кузнецов и
совсем молодые — Неволина и Лазарев.
Итак, из всех видов нелюбимого мною искусства кино я
больше всего люблю кино актерское, если из нелюбимого
можно выбирать любимое. Я не люблю ни Эйзенштейна, ни
Довженко, ни... даже страшно писать, но старый сплетник
обещал писать только правду, — ни позднего Феллини. Да,
любя «Дорогу» и особенно «Ночи Кабирии», я не понимал ни
«Сладкую жизнь», ни «Джульетту и духи», ни даже «Восемь с
половиной». Это говорит о моей старомодности, но и об
определенной искренности. Верность чаплинскому учению,
любовь к балету, известная фантазия в умении найти сюжет
принесли мне успех, который я никогда не имел. Я стал вхож
в круги, где никогда не бывал прежде. Позже общение с та-
кого рода людьми получило название «тусовки». Толковое на-
звание. Люди общаются на фестивалях, на презентациях, на
просмотрах. Насколько мне это глубоко противно, я понял
довольно быстро. Первая «тусовка» произошла в Минске на
Всесоюзном телефестивале, где я был заместителем председа-
теля жюри.
Членов жюри телевизионного конкурса было одиннадцать.
Мы сидели в комнате, где было три больших телевизора. На
экранах шли фильмы. Скучные, одинаковые, длинные...
Когда надоедало смотреть в один телевизор, можно было по-
вернуться и смотреть в другой. Там, естественно, было то же
самое, но все-таки менялся угол зрения. Еще можно было
224
Записки с тарого сплетника
смотреть сразу в два телевизора, видеть одновременно два
совершенно одинаковых изображения. Но все равно было
невыносимо скучно. Во всех фильмах было много облаков.
Они стояли, плыли, неслись под разнообразную музыку. По-
являлись облака, когда у героя картины начинались непри-
ятности или, наоборот, когда в жизни героя происходили ра-
достные события, большей частью связанные с объятиями и
поцелуями. Жюри скучало... Посреди комнаты стоял боль-
шой стол, накрытый белой скатертью. На столе пустые фу-
жеры и бутылки с лимонадом. На маленьком столике время
от времени закипал электрический самовар. Это был самый
напряженный момент в работе жюри. Дело в том, что бутер-
броды были хорошие — с дорогой колбасой и бастурмой, ос-
трым копченым мясом с чесноком. И колбасы и бастурмы
было на булке много! Не так, как на обычных буфетных бу-
тербродах. Но самое главное — были бутерброды с черной
икрой. Икра на булке была намазана густо, в два слоя, ик-
ринка к икринке, так что поверхности самой булки не было
видно. Членов жюри было одиннадцать. Бутербродов с ик-
рой приносили пять, иногда шесть. Все члены жюри были
хорошо одеты. Минимальный оклад — вполне приличный.
И каждый, конечно, зарабатывал еще. И вот одиннадцать че-
ловек и... шесть бутербродов с икрой. Никто даже не пово-
рачивался в сторону официантки. Нас, мол, это мало инте-
ресует. Официантка уходила. Наступала пауза. Все
пристально смотрели на экраны. Седой красивый председа-
тель лениво вставал со своего места и, даже не взглянув на
бутерброды, шел к самовару наливать себе чай. И вот в этот
момент я, одетый, кстати сказать, менее модно, чем осталь-
ные члены жюри, в коричневый с заметным блеском кос-
тюм, не спуская напряженного взгляда с экрана, хватал пер-
вый бутерброд с икрой. Я делал это как бы машинально, без
всякого интереса. Второй бутерброд брал председатель на об-
ратном пути к своему месту со стаканом чая в руках. Он, на-
оборот, подчеркнуто долго рассматривал бутерброды и безо-
шибочно выбирал тот, на котором икры было больше всего.
Остальные четыре расхватывались моментально под злые
взгляды пятерых неудачников. Ели икру медленно, сосредо-
точенно. Неудачники принимались за колбасу и бастурму. На
трех экранах телевизоров стояли, плыли, бежали облака...
225
Александр Белинский
Потом я был на телефестивалях в Баку, Москве, Саратове,
Праге, Монте-Карло, Каннах, Пескарре. И всюду воспоми-
нания главным образом гастрономические. Ну и конечно
встречи. Кого же из подлинных кинематографистов могу я от-
метить со знаком плюс? Увы, очень немногих. Конечно, Мар-
лена Хуциева. Он образован, умен, глубок, талантлив, не крив-
ляется, но бесконечно ленив и больше всего на свете любит
долгое застолье.
Из всех деятелей кино, с которыми свела меня судьба, я хо-
чу рассказать только о Григории Михайловиче Козинцеве.
Я встречался с ним трижды. Третья встреча самая значи-
тельная, она длится по сей день. Но сначала о первых двух.
Я даже могу точно назвать дату первой беседы — 13 января
пятьдесят первого года. Встреча старого Нового года в поме-
щении бывшего Дома актера на углу Невского и Садовой. Ве-
чер этот памятен для меня. Первый раз мы играли капуст-
ник. Я хорошо помню, что Григорий Михайлович не очень
смеялся. Улыбался чуть-чуть. А потом зашел за кулисы и
очень, очень хвалил. Особенно Лиду Штыкан и Колю Тро-
фимова. Помню его формулировку: «У вас изящный юмор».
Я всю жизнь стараюсь следовать именно этому определению
смешного. Еще помню, что Козинцев был грустен. Я потом
спросил замечательного артиста Владимира Ивановича Чест-
нокова, в чем дело (Григория Михайловича привел за кули-
сы именно Честноков), и он рассказал мне все мытарства с
фильмом «Белинский». Козинцев посещал все наши капуст-
ные премьеры, но за кулисы больше не заходил ни разу, хо-
тя капустники ему по-прежнему нравились. Узнал я об этом
от него самого при нашей второй встрече. Вот как она про-
изошла.
Первым моим фильмом были, как я уже говорил, «Запис-
ки сумасшедшего» по Гоголю. Упоминал я и то, что фильм
получил на фестивале в Монте-Карло специальный приз за
режиссуру, но от этого (говорю совершенно искренне) он не
стал лучше. Я знал, что картина не понравилась Козинцеву.
И вот мы встретились на Кировском, ныне опять Троицком
мосту. Я пошел рядом, не задавая никаких вопросов. Козин-
цев ни слова не сказал о моем фильме. Он просто начал вслух
рассуждать о Гоголе и о разнице в языке театра и кино. Это
было поразительно по простоте, точности и емкости форму-
226
ктиски старого сплетника
лировок. И ни одного слова о «Записках сумасшедшего», и
вместе с тем все об этом фильме. А на прощанье на углу Ки-
ровского проспекта и улицы братьев Васильевых он, так и не
сказав ничего о резко не понравившейся ему картине, про-
тянул мне руку, прощаясь такой фразой: «Вы на меня не оби-
делись?» Так теперь говорить не умеют!
И вот третья встреча. Козинцевский пятитомник. Литера-
турное произведение, с моей точки зрения, не имеющее ана-
логий. И это после томов Эйзенштейна, Довженко, Ромма!..
В чем особенность? В энциклопедических знаниях автора?
Но Эйзенштейн тоже обладал громадным запасом знаний.
В литературном даре? Но Довженко тоже своеобразный пи-
сатель. В блестящем умном анализе? Но Михаилу Ильичу
Ромму нельзя в этом отказать. В козинцевском пятитомни-
ке есть и то, и другое, и третье, но есть и особенности, при-
сущие только его книгам. Что я имею в виду? Прежде все-
го, подкупающая искренность в каждой главе, каждой
статье, каждой строке. Строки дневника по доверительнос-
ти интонации ничем не отличаются от широко известных
«Глубокого экрана» и «Нашего современника Шекспира».
Во-вторых, трудно найти в мемуарной литературе книгу, рав-
ную по скромности. Нигде, ни разу Козинцев не цитирует
рецензии и отзывы на собственные фильмы. В подавляю-
щем большинстве режиссерских записок, изданных за по-
следнее время, отрывки из восхвалений собственных творе-
ний занимают едва ли не половину книги. Козинцев
непрерывно восхищается творениями других, давая авторам
(Эйзенштейну, Довженко, Феллини, Марджанову, Мейер-
хольду и др.) точнейшие характеристики, способные заме-
нить большие монографии. В-третьих, и это самое важное
для меня, в конце книги вырастает личность — фигура са-
мого автора. Большого человека, влюбленного в свою про-
фессию, знающего о ней все, что только можно знать. Мод-
ное слово «хобби» никак не подходит к Козинцеву.
Подозреваю, что у него не было хобби и не могло быть —
так погружен был этот художник в творчество.
Пятый том Козинцева поражает конкретностью, зримос-
тью, умением литературно изложить то, что называется ре-
жиссерским замыслом. Самое интересное, что Григорий Ми-
хайлович не пытается формулировать. Он размышляет,
227
Александр Белинский
мечтает, что по-рабочему называется «бредит», но знание
предмета настолько велико и глубоко, что мысли автора от-
ливаются в чеканную литературную форму, иногда становя-
щуюся афористичной. У Козинцева в книгах много подлин-
ных афоризмов, которые хорошо бы держать в памяти
каждому человеку, всерьез занимающемуся кино. Пора при-
вести примеры.
«...Борьба реального с условным в искусстве происходит в
каждое время по-особому, и то, что вчера являлось жизнен-
ным в искусстве, завтра может показаться условным...»
«...Правда сказочной формы суждения о жизни неоспори-
ма и безусловна: это правда поэзии, выявившей существо яв-
ления. И от этой правды уже никуда не деться...»
«...Есть такое понятие «здравый смысл». С его помощью не-
трудно дойти до полной бессмыслицы. Если так продолжать
жить, то обнаружится, что ходить на четвереньках удобнее,
потом люди порастут шерстью».
Удивительные по поэтической глубине: «...Стенограмма
предчувствий... Ее расшифровываешь много лет спустя...»
А как точно определяет Григорий Михайлович фантастиче-
ский реализм Гоголя. «Нарушена основа: смысл, жизненность,
правдоподобие, логичность, возможность подобного проис-
шествия, а все детали сохраняют полную реальность...»
Исчерпывающее определение величин Чаплина. «Малень-
кий Дон Кихот, заменивший шлем котелком, а копье трос-
точкой».
Гоголь и Чаплин, помимо Шекспира, — главные герои ко-
зинцевских книг. Поскольку это и мои кумиры, козинцевский
пятитомник для меня вдвойне дорог. Остается пожалеть, что
Мастер не написал книгу о Чаплине, не поставил «Гоголиа-
ну», не осуществил и малую долю задуманного. Но, наверно,
это судьба всех больших художников.
Для меня же третья встреча с Козинцевым на страницах его
книг (так бережно и талантливо составленных В.Г. Козинце-
вой и Я.Л. Бутовским) — встреча на всю оставшуюся жизнь.
Это мои настольные книги. Это, говоря словами одного из
любимых писателей Григория Михайловича, «праздник, ко-
торый всегда с тобой»!
Козинцевская «Гоголиана» существенно повлияла на сце-
нарий моего кинобалета «Невский проспект». Я хотел посвя-
228
Записки старого сплетника
тить фильм памяти Козинцева. Но в этот момент — в шесть-
десят лет! — я вдруг получил СВОЙ театр.
Горбачевская перестройка сильно отразилась и на моей
судьбе. Дыша на ладан, советская власть вдруг решила отдать
мне все долги. В один год я получил звание, государственную
премию, курс в Театральном институте, а главное — свой те-
атр, о котором мечтал всю жизнь. Правда, это был куколь-
ный театр, но в хорошем помещении, с хорошей труппой.
Мои мечты о создании синтетического зрелиша могли осу-
ществиться. За три года я выпустил двенадцать спектаклей.
Два-три — неплохих. Дальше надо было реформировать труп-
пу. Тут я вынужден был уйти. Сам. Без конфликтов «с верхом
и низом».
Я не хочу рассказывать эту историю. Душевный шрам так
и не зарубцевался. А рассказать надо. В назидание тем, кто
придет после. Но не хочу «изливать всю желчь и всю доса-
ду». Старый сплетник имеет право на сплетни веселые и гру-
стные, говорить о живых и мертвых серьезно и с юмором, но
не сводить личные счеты. Поэтому о куклах я расскажу ино-
сказательно, не пытаясь изобразить кого-то из Большого те-
атра кукол на улице Некрасова, 10. Поучительная история о
гибели театра называется... «Смерть Буратино».
Глава одиннадцатая
Смерть Буратино
(групповой портрет в интерьере)
И под каждой маленькой крышей,
Как она ни слаба,
Свое горе, свои мыши,
Своя судьба.
Иосиф Уткин
«Повесть о рыжем Мотеле»
Маленькому деревянному человечку Буратино должно бы-
ло завтра исполниться пятьдесят лет. И завтра он должен был
умереть, потому что кукольный театр, где Буратино родился
и прожил полвека, закрывался, а в его помещении после ре-
монта открывался эротический видеосалон «Лука Мудищев»,
где конечно же Буратино был никому не нужен. Вместе с Бу-
ратино в старом шкафу висели его ровесники: Мальвина —
девочка с голубыми волосами, Пьеро в белом балахоне, чер-
ный пудель Артемон, рыжая лиса Алиса, одноглазый кот Ба-
зилио, черепаха Тортила и другие персонажи популярнейшей
сказки Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик».
Знаменитый советский граф Алексей Толстой написал свою
сказку по мотивам романа Коллоди «Пиноккио». Близкий к
самым высоким правительственным кругам, Алексей Толстой
добился, чтобы знаменитейший на весь мир «Пиноккио» не
переиздавался, а его, Толстого, «Буратино» выходил огром-
нейшими тиражами, ставился во всех детских театрах, был
дважды экранизирован, превратился в оперу, балет, мю-
зикл, — словом, маленький деревянный человечек добросо-
вестно кормил графа при жизни, а после смерти — его вдо-
ву и многочисленных наследников.
Но вот писатель-воин Эммануил Казакевич, прошедший
всю войну сначала солдатом, потом офицером, написавший
умные, честные повести «Звезда», «Двое в степи», перевел за-
230
Записки старого сплетника
ново «Пиноккио». И дети времен застоя и перестройки, вре-
мен побед демократии и ее поражений, дети последних лет
СССР и первых лет новой России узнали мудрую, добрую
сказку итальянца Коллоди. И «Пиноккио» был тотчас же, как
это и положено в бывшем социалистическом государстве, ин-
сценирован драмоделом-гангстером и омузыкален лабухом-
композитором. И новое поколение уже подрастало на Пи-
ноккио вместо Буратино, Джепетто вместо папы Карло,
Манджефоко вместо Карабаса-Барабаса. От Буратино оста-
лись названия детских кафе, рок-шлягер Лисы и Кота в ис-
полнении Ролана Быкова с женой и спектакль старейшего
кукольного театра, который завтра должны были закрыть.
Кукол продавали с аукциона, а Буратино подлежал сдаче
в утиль или сожжению. Ручки и ножки деревянного человеч-
ка совсем рассохлись, нос сломался, рот не открывался. А
ведь пять десятков лет назад, в канун войны, его сделал за-
мечательный мастер — грузин Автандил, сорок лет прослу-
живший одному и тому же кукольному театру. Он менял кук-
лам головы, чинил их механические скелеты, и они, куклы,
всегда восхищали маленьких зрителей, заставляли их плакать
и смеяться.
А потом директор театра Агнесса Клипп уволила Автанди-
ла. Агнесса Валентиновна внимательно следила, чтобы ее фа-
милия обязательно писалась с двумя буквами «п». Прежде
чем стать мадам Клипп, товарищ Клипп была коммунист-
кой. Не по убеждению, конечно, а по необходимости. При
ущербности пятого пункта анкеты она просто не имела ни-
какого права возглавлять театр, даже такой маленький, как
«Буратино». Театр был назван по имени героя своего перво-
го спектакля. Режиссер спектакля, первый муж Клипп Со-
ломон, умер через год после премьеры. Он был далеко не мо-
лод, а если учесть, что год совместной жизни с Клипп можно
было считать за два, а то и за три, то смерть его была впол-
не естественна. Агнесса Клипп стала директрисой маленько-
го кукольного театра в девятнадцать лет, и очень этим гор-
дилась. Впрочем, Агнесса гордилась многими своими
достоинствами и ни от кого этой гордости не скрывала. Она
вообще осуждала скромность и застенчивость как признаки
человеческой слабости. В разговорах с людьми Клипп не при-
знавала акварельных красок или пастели. Ее способ обще-
231
Александр Белинский
ния, так напоминающий «нежный» стиль одесского привоза,
характеризовало яркое густое масло. Полярный контраст ди-
алогов с вышестоящими и подчиненными создал Агнессе
Клипп в городе определенную популярность. Ни один адми-
нистратор не задерживался в Театре «Буратино» больше се-
зона, а когда в годы борьбы с космополитизмом Клипп все-
таки перевели в заместители директора, она стала принимать
активнейшее участие в борьбе с последующими директорами
и худруками.
Эта неустанная борьба с каждым руководителем, незави-
симо от его творческих и деловых качеств, была главной осо-
бенностью коллектива кукольного театра. Умение снять
человека, а еще лучше — довести его до инфаркта — отли-
чительное свойство дарования ветеранов Театра «Буратино».
Немножко пофилософствуем.
Понятие театрального коллектива глубоко диалектично. С
одной стороны, хорошо сыгравшаяся труппа, ансамбль акте-
ров, понимавших друг друга с полуслова, — это прекрасно.
А когда еще за пультом стоит талантливый дирижер, то бишь
главный режиссер, — труппа звучит как прекрасный оркестр.
Сколько лет может существовать такой оркестр? История оте-
чественного театра знает несколько примеров долголетия:
МХАТ Станиславского и Немировича-Данченко, Большой
драматический театр Товстоногова. Все!
Смерть режиссера — смерть театра. Дальше — гальваниза-
ция трупа. Театр социалистической империи считал эту галь-
ванизацию великим творческим завоеванием, гордясь свои-
ми саркофагами под названием Малый, Александринский
театр и конечно же МХАТ.
Вот тут и начинается «с другой стороны». Тридцать, а то и
сорок лет работать вместе! Знать друг друга на взгляд и на
ощупь — в буквальном смысле слова. Любить, ненавидеть,
ссориться и мириться. Содрогаться от набивших оскомину
одинаковых жестов и интонаций. Весь этот комплекс теат-
ральных взаимоотношений, как в капле воды, можно было
исследовать, изучив полувековую историю маленького Теат-
ра «Буратино».
Куклы, конечно, были разные. Но только на первый взгляд.
Полвека работы двух художников, не допускавших проник-
новения за ширму кукольного театра ни одной свежей изоб-
232
Записки старого сплетника
разительной идеи, привели к тому, что Кот в сапогах был по-
хож на Серого волка, а поросенок Наф-Наф — на пионера
Петю Двоечкина.
А артисты? Они тоже были похожи. Ведь становятся по-
хожими друг на друга муж и жена, прожившие долгую
совместную жизнь. Похожи, но только на первый взгляд.
Поэтому наш «групповой портрет в интерьере» будет порт-
ретом индивидуальностей, ибо закончим наше философское
лирическое отступление стереотипной формулой, что каж-
дый человек все-таки индивидуален и по внешности и по
характеру.
Первый портрет, считая слева, — Виктория Вздорова.
Артистка Виктория Семеновна Вздорова была конечно же
мечена Богом. Она была не только лучшей за всю историю
маленького Театра «Буратино». Вздорова была никем не пре-
взойденной актрисой кукольных театров «всея Руси». «Ку-
кольной» она стала из-за превратностей судьбы. Рассказы-
вать о них долго и неинтересно.
В драматическом театре Вздорова могла играть Джульетту
и Мирандолину, леди Макбет и Элизу Дулитл, Марью Анто-
новну и Анну Андреевну в «Ревизоре», Верочку и Наталью
Петровну в «Месяце в деревне». Короче, играть все роли ве-
ликих артисток. Пленительная женщина с редким обаянием,
чуть хрипловатым голосом, полным очарования, улыбкой, от
которой замирало любое мужское сердце, и редчайшими ли-
цедейскими способностями. Но какими! Она смотрела на
куклу и сразу же начинала говорить ее голосом. Она одина-
ково легко превращалась в пятилетнюю девочку и древнюю
старуху, в кошку и волчонка, попугая и воробышка, бабочку
и божью коровку. Пока знаменитые кукловоды Мартын или
Вдовствующая королева орудовали тростями и другими ме-
ханическими приспособлениями, пытаясь найти кукле по-
ходку или жестикуляцию, Вздорова неумело поднимала кук-
лу над ширмой, и та от одного звука ее волшебного голоса
становилась живым человеком.
Вздорова полностью соответствовала своей фамилии. Она
обожала вздорные споры на репетициях, учила и попутно
обижала всех партнеров, особенно молодых, перечила режис-
серам во всем, но... начинала говорить словами роли, вол-
шебно перевоплощаясь в какую-нибудь птичку, рыбку, бу-
233
Александр Белинский
кашку, и режиссер и партнеры прощали ей все, восхищаясь
силой ее актерского таланта. И вот вместо Офелии она игра-
ла Дюймовочку. Но эта Дюймовочка обладала глубиной и
прелестью Офелии, а какой-нибудь волчонок — озорством
и задором юной Клеопатры. А когда появились ненадолго
спектакли для взрослых, Вздорова покорила зрителей всех
возрастов. Режиссер Вавила Чернявый за годы своей недол-
гой работы в «Буратино» вывел ее перед ширмой в главной
роли какой-то скверной пьесы. Виктория Семеновна пока-
зала такой актерский класс, который был по плечу разве толь-
ко Фаине Раневской.
И вот это невиданное дарование полвека верой и правдой
самозабвенно служило Театру «Буратино», отдавало ему весь
свой огромный темперамент, радовалось его маленькими ра-
достями, огорчалось его такими большими горестями. Она
никому не завидовала (да и кому она могла завидовать), ни-
кого не обижала, а ее обижали все, кто мог, главным обра-
зом Вдовствующая королева.
За время работы в театре Вздорова вырастила детей и вну-
ков, перелюбила мужчин много и неудачно, хотя могла бы
отлично устроить свою жизнь, если бы каждый раз безраз-
дельно не отдавалась чувству. Все неудачи и тяготы жизни
она, как эстафету, передала своему молодому другу, артистке
Настеньке Крюковой.
Артистка Настенька Крюкова играла попеременно то лису
Алису, то Мальвину, а иногда и ту и другую вместе в одном
спектакле. Куклы обожали, когда ими управляла и говорила
за них именно Настенька.
Настенька была чудо как хороша. Когда она надевала чер-
ный платок к приталенному черному пальто, люди останав-
ливались на улице и долго смотрели ей вслед. Ей удивитель-
но шли платки, хотя она предпочитала им уродливые
шляпки. Во всем остальном вкус ее был безукоризнен. Ро-
дившись в далеком сибирском селе в семье простых кресть-
ян, Настенька разговаривала как потомственная дворянка
или интеллигент в пятом поколении. Мало того. Несмотря
на беспрерывные стирки и готовки, ее руки были руками
принцессы. А глаза! Они не просто нравились, они опьяня-
ли! И вот эта прелестная Настенька никогда не была счаст-
лива. Она не сразу поступила в Театральный институт. В этом
234
Записки старого сплетника
патологическом учебном заведении в основном преподава-
ли некрасивые старые девы, не любившие красивых пред-
ставителей своего пола. Поэтому Настеньку приняли толь-
ко на кукольный факультет, чтобы скрыть ее красоту за
ширмой.
На пути Настеньки встретился популярный кинорежис-
сер, обещавший ей главные роли во всех своих будущих
фильмах — от Анны Карениной до космонавта Валентины
Терешковой, но вначале потащил ее в постель. По дороге он
был остановлен собственной женой, которой это почему-то
не понравилось. Режиссер спился и ничего больше не сни-
мал, а карьера Настеньки в кино завершилась, не начавшись.
В Театре «Буратино» Настенька сразу же стала первой ак-
трисой. Она, как и Вздорова, играла для детей и взрослых,
играла кукол-детей, кукол-бабушек, кукол-птиц, зверей и на-
секомых, и всех — хорошо. Она не участвовала ни в одной
склоке, не снимала ни одного худрука, не была любовницей
ни одного из них, предпочитая главным образом работников
монтировочного цеха. Впрочем, один худрук пострадал от
Настеньки очень сильно, хотя не по ее вине.
Худрука этого звали Вавила Чернявый. Он царствовал в
«Буратино» три с половиной года и ушел сам — до начала
очередной склоки. Почему такое странное сочетание имен?
Чернявый и вдруг Вавила? Дед Чернявого, отец его отца,
был убежденным антисемитом и не мог простить своему сы-
ну Степану женитьбы на еврейке, поэтому под страхом цер-
ковного проклятия настоял, чтобы внук имел исконно рус-
ское имя. Так бедный парень стал Вавилой. Лишь в
шестьдесят лет Чернявый пришел худруком в Кукольный те-
атр «Буратино», хотя и имел весьма приличную творческую
биографию. Позвала его на этот пост Вдовствующая коро-
лева, чтоб спустя три года организовать его уход. При весь-
ма холодном отношении к марионеткам и тростевым кук-
лам, Чернявый работал сносно, но... Он сразу же увлекся
Настенькой Крюковой. Если бы увлекся просто, то полбе-
ды. Увлечения, как известно, приходят и уходят. Вавила Чер-
нявый полюбил, и конечно же безнадежно. Чернявый был
плешив, толст, с плохо напыленными под золото коронка-
ми, — короче, крайне непривлекателен. Настенька испыты-
вала к нему чувство брезгливости, смешанное с жалостью.
235
Александр Белинский
Правда, ей нравился его юмор, нравилась образованность и
умение репетировать, но, когда он целовал ей руку, передер-
гивалась от отвращения. В жизни Настеньки в это время бы-
ла пересменка. Освободившись от очередного мужа-уголов-
ника, Настенька вышла замуж за инвалида, с которым
познакомилась в вагоне пригородного поезда. В ее жизни
наступил некоторый покой, но инвалид требовал постоян-
ного ухода, а Настенька была женщиной на редкость поря-
дочной и добросовестной. Но вот возник дамский закрой-
щик Жорж Ваучер. Он был высок и красив. Его усики, как
локаторы, на первой же примерке уловили все эрогенные зо-
ны прекрасного Настенькиного тела. Первый же поцелуй
прокуренного рта превратил Настенькины уста в пепельни-
цу с окурками, а вторая примерка двух костюмов, белого и
красного, завершили полную победу Ваучера. Настенька
только тихо стонала: «О Жорж!»
Простим милую Настеньку. Не будем к ней слишком стро-
ги. Кто знает женщин лучше, чем гинекологи и дамские порт-
ные? Ощутить молодой, красивой женщине мускулистое
мужское тело после долгого поста с беспомощным инвали-
дом конечно же прекрасно.
Жорж Ваучер был неисчерпаемо искусен не только в люб-
ви, но и в шитье. Он одевал Настеньку в костюмы из загра-
ничных материалов. Он дарил ей туфли австрийской колод-
ки, самые лучшие, и покупал французские духи, самые
дорогие. Комической фигурой в этой истории был худрук
Чернявый. Торжественно принося в гримуборную три гвоз-
дички, он видел охапки роз или тюльпанов. На сэкономлен-
ные суточные Вавила привозил из заграничной командиров-
ки какую-нибудь жалкую кофтенку и видел на актрисе
соболий палантин, приобретенный Жоржем Ваучером в ре-
зультате неизвестных махинаций. Жорж корчился от смеха
под одеялом, когда Настенька очень смешно изображала ему
жалкие ухаживания Чернявого.
Настенька сходила с ума, когда Жорж исчезал из города.
Она ждала его возвращения, как Ассоль алых парусов капи-
тана Грея. Она верила, что Ваучер в тайге отстреливает со-
болей ей на шубу. Она фантазировала, что за границей у Кар-
дена он рисует новые модели. А Жорж исчезал всерьез и
надолго. Куда? Неизвестно. Все свои горести Настенька сва-
236
Аниски старого сплетника
ливала в это время на нелепого худрука Чернявого. И всем-
то актерам он врет. И всем артисткам что-то обещает. И ра-
ботает плохо. Роль Марицы, ставшей одной из лучших ее ро-
лей, созданной больной фантазией Вавилы Чернявого, она
называла неприличным словом. И бедный старик ушел из те-
атра, тем более что Мартын и Вдовствующая королева зате-
вали склоку, а Гурген Засрян, как бывший большевик, в знак
протеста против руководства Чернявого собирался объявить
голодовку (врачи, нашедшие у него язву, настаивали на стро-
гой диете).
Ах, почему врачи не научатся определять с детства отсут-
ствие у ребенка каких бы то ни было актерских задатков!
Многолетний секретарь парткома Гурген Засрян был абсо-
лютно бездарен. Его появление на сцене оскорбляло малень-
ких зрителей. Ни одна ширма, за которой прятался Гурген,
не могла заглушить фальши его интонаций. Но славная пар-
тия большевиков любила и ценила Засрянов. Гурген, как се-
кретарь парткома, объездил с Театром «Буратино» полмира
и первым вышел из рядов коммунистической организации,
когда она перестала приносить дивиденды. Вдовствующая
королева театра умоляла Засряна переменить фамилию, но
Гурген был непоколебим. Мужественный большевик, он за-
являл: «Я родился Засряном и умру Засряном». Наверное, он
был прав.
Вдовствующая королева любила кукол, и куклы отвечали
ей взаимностью. Будучи вдовой лучшего в истории Театра
«Буратино» худрука Пьяночкина, она свято хранила его тра-
диции и была истинной патриоткой петрушек, марионеток,
планшетных и тростевых кукол, которых холила и лелеяла.
Беда Вдовствующей королевы была в неистребимой любви к
людоедству. Она должна была непрерывно насыщать свою
утробу человеческим мясом. Если замдиректора Агнесса
Клипп съедала с невероятной скоростью любого админист-
ратора, обгладывая каждую косточку и запивая еду крепким
чаем, настоянным в специальных стаканах с пластмассовы-
ми крышечками, то Вдовствующая королева пила кровь у
худруков, артистов и, главным образом, артисток маленьки-
ми глотками. Аппетит у нее приходил во время еды, а голод
наступал в тот момент, когда очередной худрук выходил из
повиновения или появлялась артистка поодареннее ее самой.
237
Александр Белинский
Если человек оказывался несъедобным, то Вдовствующая ко-
ролева быстро сколачивала стаю, где волчицами-загонщица-
ми всегда служили Катрин или Генриетта. Катрин и Генри-
етта были «шестерками». На уголовном языке так называют
мелких холуев. Катрин и Генриетта меняли хозяев постоян-
но. То они верой и правдой служили Вдовствующей короле-
ве, то Мартыну Муравью, то очередному худруку, кинувше-
му им рольку.
Катрин была карлицей. За ширмой она стояла на котурнах,
чтобы куклу было видно детям. Сыграв в юности Красную
Шапочку, она уверилась в своем огромном таланте перево-
площения, обвиняя несправедливую судьбу в невозможности
этому таланту проявиться. Выжитая из театра Вдовствующей
королевой и Генриеттой, Катрин стала педагогом факультета
марионеток в Институте культуры. Приобретенное в «Бура-
тино» умение устраивать склоку и врожденное хамство Кат-
рин перенесла на бедных студентов. Первокурсники, будущие
артисты кукольного театра, выгоняли Катрин уже к концу
первого семестра. В конце концов ей пришлось уйти в ПТУ
преподавать рукоделие.
Генриетта знала все. Она могла рассказать, как хорошо сы-
грать роль, как поставить хороший спектакль, как сделать
удобную куклу. Она засыпала режиссеров вопросами и давала
им мудрейшие советы. Зная все, она ничего не умела. По от-
сутствию дарования она была на уровне Гургена Засряна, но...
Генриетта считалась праправнучкой гениального балетмейсте-
ра Мариуса Петипа. Это недоказанное родство помогло ей по-
ступить в Институт культуры, а позже без конкурса устроить-
ся в Кукольный театр «Буратино». Генриетта не выступала на
собраниях. Она предпочитала оставаться в тени, поддерживая
всегда только того, кто затевал очередной скандал.
Макара Борисова называли хорошим парнем. Так оно бы-
ло на самом деле. Он и артистом был недурным, но мало ин-
тересовался своей профессией. Макар увлекался обществен-
ной деятельностью. В октябрятах он был звеньевым, в
пионерах — председателем совета отряда, потом комсоргом
вуза. Не сделав партийной карьеры, Макар выдвинул себя в
депутаты, затем хотел приватизировать театр и, разочаровав-
шись в профсоюзной деятельности, ринулся в бизнес, где то-
же потерпел фиаско.
238
lanucKu старого сплетника
Три поколения артистов сменилось за полвека в Куколь-
ном театре «Буратино».
Были хорошие и даже очень хорошие. Кроме Вздоровой
были не унывающий ни при каких обстоятельствах Виктор
Ласточкин и одноногий Лев Махарбеков с басом-профундо,
отлично изображавший львов, бегемотов, крокодилов и дру-
гих млекопитающих и рептилий. Были братья Овсовы, оба
талантливые и сильно пьющие. Вообще, эта глубоко нацио-
нальная болезнь русского актерства процветала в «Бурати-
но». Актеров увольняли, потом они подшивали себе антиал-
когольные ампулы, и их брали на договор. Два, три года они
хорошо работали, затем снова запивали, увольнялись и сно-
ва подшивались.
Нет, нет! Нельзя рисовать только черной краской членов
труппы маленького кукольного театра... Все они были люди,
все человеки, ничто человеческое было им не чуждо.
Та же Вдовствующая королева была все-таки королевой,
пусть кукольной, но королевой. Она любила свое малень-
кое владение — кукольный театр, своих двух милых сыно-
вей — братьев Пьяночкиных. И бездарный Гурген Засрян
холил и лелеял брошенную дочь и тосковал по своей мно-
гострадальной родине — Нагорному Карабаху. И артисты,
подшитые и неподшитые, артистки, выходившие замуж и
разводившиеся с подшитыми и неподшитыми артистами, —
все они были люди, в свое время оскорбленные Иосифом
Сталиным кличкой «винтики», а на самом деле каждый был
планетой, большой или совсем маленькой, называемой сло-
вом «человек». «Человек — это звучит гордо», — сказал как-
то основоположник несуществующего стиля, так называе-
мого социалистического реализма. Правда, замдиректора
Агнесса Клипп была все-таки не человеком, а персонажем.
О, Агнесса Клипп! Неправдоподобная Агнесса! Как всепо-
глощающе она любила только саму себя! Как ни от кого не
скрывала этой неистовой любви. Если большой рот Клипп
не был занят поглощением печенья или обгладыванием ко-
сточек очередного съеденного ею администратора, Агнесса
говорила по телефону. Она рассказывала своим подругам,
как она талантлива, как обаятельна и как ее не ценят ра-
ботники «Буратино», благополучие которого держится толь-
ко на ее, Агнессы, административном даровании. Если Аг-
239
Александр Белинский
нессу, когда она была понижена до должности замдиректо-
ра, заставляли взять себе в помощь администратора и если,
не дай Бог, этот администратор делал хорошие сборы, не-
нависть Клипп не знала предела. Она начинала планомер-
ную травлю бедняги, не гнушаясь никакими методами.
Клипп ненавидела попеременно всех работников «Бурати-
но», но, когда кто-нибудь заболевал, она звонила по телефо-
ну врачам и родственникам заболевшего, а потом подробно
рассказывала всем здоровым об ее, Клипп, участливости и
заботе о заболевшем. Если же кто-нибудь умирал, Клипп пер-
вой становилась у гроба и произносила последнее слово со
стихотворными вставками. Всем не присутствовавшим на
траурной церемонии Агнесса пересказывала свою речь по те-
лефону как образец ораторского искусства. Похороны вооб-
ще были ее звездными часами. Она искренне забывала при
этом, как ненавидела и травила покойного в годы его рабо-
ты в Театре «Буратино».
Больше всего страдали от Клипп фотографы. Когда, раз в
десять лет, обновляли в фойе галерею фотографий славного
коллектива, Клипп заставляла фотографа переснимать ее
портреты три, а то и четыре раза. Ей казалось, что фото не
передает в достаточной степени всю ее привлекательность и
обаяние. Но Агнесса была и персонажем, вызывающим доб-
рое чувство юмора, а не действующим лицом какой-нибудь
чернухи.
Так почему же, почему закрыли Кукольный театр «Бурати-
но»?
Лев Николаевич Толстой утверждал, что в каждом челове-
ке есть что-то божеское. Он отказался бы от этого утвержде-
ния, если бы знал Мартына Муравья.
Все мерзости в виде пьянства, наркомании, подлости, пре-
дательства, не говоря уже о чисто патологических отклоне-
ниях, сосредоточились в этом античеловеке. А имя-то ка-
кое! Мартын Муравей! Такого сейчас и не встретишь. Он
был черен внешне, как была черна его душа. Муравей не
был похож на своего тезку — трудолюбивого насекомого.
Мартын был из тех муравьев, которые заползают в ухо или
в ноздрю человека, и вытащить их оттуда нет никакой воз-
можности.
Мартын конечно же был законченный алкаш. Когда он
240
Записки старого сплетника
беспробудно пил до почернения фаланг пальцев, он был бе-
зопасен и даже не очень зол, но, когда по настоянию добро-
го месткома и его вождя Макара Борисова раз в три года
Мартына Муравья подшивали, он разворачивал бурную дея-
тельность. Физиологическая ненависть к одаренным людям,
лютая зависть к актерским удачам, неутолимая злоба к уме-
ющим делать то, чего он не умел, побуждали Муравья стро-
чить доносы, жаловаться в инстанции, организовывать скло-
ки и произносить пламенные демагогические речи на
бесконечных собраниях, созываемых по его, Мартына, ини-
циативе.
Он организовал снятие трех директоров и четырех худру-
ков. Вавила Чернявый оказался ему не по зубам, и он начал
травить студентов — учеников Чернявого, не дал их принять
в театр и вынудил старика худрука подать заявление об ухо-
де. Муравей попеременно заключал союз с Вдовствующей
королевой, с Макаром Борисовым, искусно ссоря их друг с
другом и заставляя отстаивать его, Мартына, интересы. Что
это были за интересы? Да их и вовсе не было. Ему важна бы-
ла склока ради склоки, ссора ради ссоры, скандал ради скан-
дала. Но вот на последней интриге он погорел.
Театр «Буратино» погибал окончательно. Был снят очеред-
ной худрук, и предместкома Макар Борисов потерпел пора-
жение в борьбе с очередным директором. Вдовствующая ко-
ролева пыталась спасти театр, возобновляя старые спектакли
Пьяночкина: «Красный галстук» и «Подвиг Павлика Моро-
зова», где Мартын водил свою любимую куклу — первого пи-
онера-стукача. Куклы были огромные и тяжелые, текст на-
поминал инсценированную телефонную книгу, ну а тема!..
Впрочем, ни Мартын Муравей, ни Вдовствующая королева
не читали газет, а Макар Борисов читал, но ничего не пони-
мал. Совсем ничего!
В городе открывались казино и видеосалоны, за бешеные
деньги скупались помещения под офисы и для квартир воз-
вращающихся эмигрантов. Для детей организовывались клу-
бы полового воспитания и группы по изучению Евангелия,
Корана и Талмуда. А маленький Кукольный театр «Бурати-
но» играл сказки, поставленные три, а то и четыре десятка
лет назад, сказки глупые, как мычание коровы, заставляв-
шие детей всех возрастов убегать из зрительного зала во вре-
241
11 Записки старого сплетника
Александр Белинский
мя короткого антракта. За ширмой кипели шекспировские
страсти, и нежное мяуканье пушистой кошечки над ширмой
и веселое чириканье серого воробьишки сопровождались не-
слышными для неискушенного детского зрителя зубовным
скрежетом и глухим рычанием исполнительниц этих обая-
тельных ролей.
Театр был закрыт не сразу. Он умирал медленно и мучитель-
но, как раковый больной. Больной был еще операбелен. Если
бы вовремя вырезали онкологическую опухоль по имени Мар-
тын Муравей и удалили его метастазы, театр бы еще возродил-
ся и стал жить, но... Не было смелых хирургов. Управление
культуры стало управлять только туризмом и не интересова-
лось каким-то «Буратино», а Союз театральных деятелей неу-
клонно превращался в организацию преуспевающего бизнеса.
Меценатов называли спонсорами, и они считали ниже своего
достоинства вкладывать деньги в марионеток.
Кукольный театр — самый древний, самый народный, са-
мый детский театр на земле. А стало быть, и самый-самый
добрый. В маленьком Театре «Буратино» за полвека скопи-
лось так много зла, что он не выдержал и рухнул изнутри,
как деревянное здание, подточенное беспощадным жучком.
И вот наступил последний день «Буратино». Накануне со-
стоялся аукцион по продаже кукол. Он шел под веселую пе-
сенку. Ее пел за две концертные ставки Женя Сергеев, тот
самый, который играл Буратино в живом плане, остроносый
молодой актер, хорошо поющий и прекрасно танцующий:
Аукцион, аукцион,
Веселый праздник распродажи,
Монет веселый перезвон,
Шуршанье денежных бумажек.
И хоть цена невысока,
Чем никогда — уж лучше сразу,
Здесь продаются с молотка
Герои старых детских сказок.
Кукол продавали быстро и дорого. Тех, которые не были
украдены накануне реквизиторами, монтировщиками, работ-
никами мастерских. Бородатый карлик Сашка Казанова вы-
вез два грузовика декораций и дерева для изготовления ма-
рионеток. Первым он собирался сделать нового Буратино.
242
Списки старого сплетника
А старого Буратино никто не купил. Никто. У него не бы-
ло ни рук, ни ног и обломан длинный острый нос. Но у кур-
носого Буратино осталась голова, а стало быть, и память, и
он так хорошо запомнил последний день маленького куколь-
ного театра своего имени. Он помнил, что Вдовствующая ко-
ролева приехала с дачи с мешком картошки, предназначен-
ной на посадку, и поставила варить ее для предстоящих
пышных поминок по театру.
В своем закутке рыдала Агнесса Клипп. Она рыдала гром-
ко, чтобы все слышали, как дорог был ей Театр «Буратино».
Все браслеты и кольца на пальцах и запястьях Клипп зве-
нели. Звенели ложечки в стаканах крепкого чая. Клипп
безостановочно ела печенье, сухарики, вафли, пирожные. Го-
ре не испортило ее аппетита.
Мартын Муравей считал часы, когда кончится действие
подшитой три года назад ампулы. Он хотел начать долгий
унылый запой. Что ему еще оставалось?
Макар Борисов размышлял, в какую партию вступить. Их,
слава Богу, было в России предостаточно, и он искал наибо-
лее подходящую для выявления своего общественного тем-
перамента. Подумывал он и о духовной карьере. С помощью
своей рыжей бороды Макар надеялся стать священником и
получить приход.
Правнучка Виктории Вздоровой привезла бабушку на ма-
шине. Вздорова купила на аукционе кукол Мальвину и Вол-
чонка и, прижимая их к сердцу, поочередно повторяла текст
любимых ролей, сыгранных полвека назад.
А Настенька Крюкова? Она дала урок в институте, где ста-
ла недавно доцентом, забежала в Театр «Сказки», куда ее на-
кануне пригласили на первые роли, сварила кислые щи для
поминок, поручив Засряну отвезти кастрюлю в «Буратино».
Настенька накинула новое полупальто — последний ше-
девр Жоржа Ваучера — и спустилась в метро. Сосед читал
«Петербургские ведомости». Острый глаз Настеньки выхва-
тил на последней странице некролог, извещающий о кон-
чине после тяжелой болезни Вавилы Чернявого. Что-то ек-
нуло в сердце Крюковой, заполненном до отказа Жоржем
Ваучером. Она попросила на секунду газету. Отпевание Ва-
вилы в церкви было назначено на 11 утра! Настенька успе-
вала на оба мероприятия. Сначала в церковь, потом в театр.
243
Александр Белинский
Настенька купила три гвоздики, свечку и поднялась на па-
перть. Вдруг она услышала звук, который был ей дороже пе-
ния соловья, голоса Нани Брегвадзе и виолончели Ростро-
повича. Гудел неповторимый клаксон машины Ваучера.
Жорж, как всегда, появился в городе неожиданно, словно
счастливый подарок судьбы. Настенька бросила цветы и
свечку и помчалась через площадь к любимой «тойоте», чуть
не попав под автобус. Она впилась в прокуренные усы Вау-
чера так, что чуть не задохнулась. Жорж, ни о чем не спро-
сив, двинул машину к «Буратино», неторопливо излагая На-
стеньке план их совместной поездки на Аляску. Ваучеру
предоставили там ателье для пошива шуб из шкур белых мед-
ведей.
На углу «тойоте» пришлось уступить дорогу похоронному
автобусу с гробом Чернявого. Настенька хотела перекрестить-
ся, но, заметив настороженный взгляд Жоржа, отказалась от
этой попытки. Бедный Вавила Чернявый получил напосле-
док жестокий прощальный привет! Простим и это милой На-
стеньке! За последние годы она превратилась в абсолютную
марионетку Жоржа Ваучера. Она жила от телефонного звон-
ка до приезда, от ночных свиданий на конспиративной квар-
тире до проводов в аэропорту.
Ваучер подвел свою «тойоту» к театру в тот момент, когда
с вывески сняли головку в колпаке с острым носом. Вывес-
ка «Видеосалон «Лука Мудищев» уже висела, а под ней ра-
бочие укрепляли изображение огромного фаллоса как по-
следнее свидетельство нравственной гибели общества.
Вдовствующая королева, вытирая слезы, наклонилась и
увидела на земле полено. Она подняла его, заплакала еще
сильнее и отдала полено Настеньке. Но это было не полено.
Это было то, что осталось от бедного Буратино, от его полу-
вековой службы в маленьком театре кукол.
Ваучер критическим взором окинул полено и, не говоря
ни слова, спрятал его в портфель. Его зоркий глаз увидел в
полене нового Буратино в модном современном костюме,
который сошьют его умелые руки. Это будет чудный пода-
рок ко дню рождения дочери, которую Жорж боготворил.
Дочка Ваучера была в восторге от подарка, но... она назва-
ла куклу Пиноккио. Да, да, Пиноккио. Новое поколение уже
воспитывалось на этой чудесной сказке. Жорж Ваучер не воз-
244
ктиски старого сплетника
ражал. Он был умным человеком, читавшим философские
труды Соловьева и Бердяева. Он понимал, что Буратино был
дитя своего времени, а Пиноккио — вечен. Буратино умер,
Пиноккио — бессмертен.
Я ушел из Кукольного театра. Потом поставил ряд спек-
таклей в драматических театрах Ленинграда. У вахтанговцев
сделал «Стакан воды» с блистательной Юлией Борисовой!
Потом вернулся в кино. Это было уже кино другой, совсем
не похожей на бывший СССР старой России. Мне было с
чем сравнивать. Уже более десяти лет подряд я ездил на фе-
стивали за границу. Но всегда, всегда, клянусь всем самым
дорогим, мне оставался «сладок и приятен»... ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА.
Глава двенадцатая
Дым отечества
Я не буду описывать Прагу. Это тысячу раз делали до ме-
ня. Все-таки кратко. Прага очень красивый город. Очень чи-
стый. С красными черепичными крышами. От черепиц этих
становится теплее, уютнее, радостнее. Соборы огромны и бес-
конечно стары. Вот и все. А теперь попробуем зафиксировать
ощущение человека, впервые, на пятьдесят третьем году жиз-
ни, оказавшегося по ту сторону государственной границы сво-
ей многострадальной родины.
Первое чувство — подлый, не имеющий никакой подопле-
ки, врожденный, воспитанный годами страх. От общения с
таможенником, от подозрительного взгляда пограничника,
просматривающего паспорт в аэропорту, от отчужденного ли-
ца стюардессы, ведущей тебя на посадку.
Второе чувство — радость. Ты спускаешься по трапу само-
лета и ощущаешь всеми порами, что вот наконец-то и ты уви-
дишь и услышишь что-то, о чем тебе снисходительно расска-
зывали твои гораздо более молодые, гораздо менее
впечатлительные друзья и знакомые. Рассказывали снисходи-
тельно, потому что — что такое для них Прага, для них, ви-
девших Париж и Нью-Йорк, гулявших по Риму и Токио!.. Ви-
девших, но ничего не увидевших!
Сначала в Праге я не увидел, а услышал. Я услышал на ули-
це незнакомую речь. Люди те же, что у тебя дома. Так же оде-
ты. Так же спешат. Только говорят по-другому. Впечатление,
что тебя разыгрывают. Сейчас они заговорят по-русски. Они
попритворяются, а потом заговорят. Но нет. И когда я задаю
вопрос по-русски, как пройти туда-то, они улыбаются, разво-
дят руками, потом пытаются объясниться с помощью жестов,
каждый жестикулирует по-своему, и я окончательно запуты-
ваюсь, а из-за патологического отсутствия способности ори-
ентироваться мое положение становится опасным. Но вот по-
246
Записки старого сплетника
жилая женщина что-то начинает объяснять по-немецки. И я
понимаю, что она говорит. И я, сначала робея, задаю вопрос,
она отвечает, и, испытывая необъяснимое чувство восторга,
я разражаюсь целым монологом на немецком языке. Я сдер-
живаюсь, чтобы тут же не продекламировать: «Ich weiss nicht,
was soil es bedeuten...»
Ощущение непреходящей радости оттого, что я понимаю
по-немецки все или почти все и почти все могу сказать сам,
без мучительных поисков слов, не покидало меня в Праге ни
на минуту. Я благодарно вспоминал мою прекрасную старую
учительницу Александру Борисовну Ден. Сорок лет назад я
последний раз занимался немецким. Сорок лет! А ведь по-
мню! При основах, заложенных с детства, при элементарной
культуре и приличной памяти для языковой адаптации (на-
конец-то и я употребил это модное словечко!) нужен месяц.
Я, разумеется, говорю об одном из трех европейских языков
(немецком, французском, английском). Для немецкого мне
хватило дня. Для французского, вероятно, понадобилось бы
две недели. Для английского — месяц. Разумеется, при па-
раллельных занятиях с педагогом и, разумеется, для самых
элементарных объяснений.
Итак, первая проблема была решена, и я мог начать посе-
щение магазинов. Их в Праге много. Невероятно много. Я го-
ворю о продуктовых магазинах, в которых!..
О Боже мой! Ветчина, нарезанная на такие тонкие ломти,
сквозь которые видишь солнце. И ни одной не то что поло-
ски, ни одной капельки жира. Как, каким способом выводят
этих постных свиней! А рядом тончайшие ломти сала, — ви-
димо, от других свиней, живущих на особом рационе. А кол-
басы нарезанные и ненарезанные! А бутерброды с ветчиной
и помидором, с колбасой и огурцом, семгой и салатом, и еще
какие-то коричневые и с чем-то красным, и с чем-то зеле-
ным, и салаты и жареные сосиски с горчицей, а на улице, за-
зывая покупателей в магазин, натюрморты из молодой кар-
тошки, апельсинов, капусты, помидоров, бананов... И лежат
на лотке прямо на улице, где нет ни одного милиционера и
ни одного пьяного. За две недели в Праге я встретил только
одно пьяное лицо. Это было мое отражение в зеркале на бан-
кете по поводу закрытия фестиваля.
Еще о еде. Она жирная, вкусная и не очень разнообразная.
247
Александр Белинский
Почти везде и во всем свинина. Невероятные пирожные, кре-
мы, взбитые сливки. Острые салаты. Все это на каждом ша-
гу. Всюду чисто, и быстро обслуживают. Сравнительно недо-
рого. Все едят мороженое. Его выдавливают на маленькую
формочку из вафель. Мороженое вылезает из автомата и об-
разует на вафле красивый цветок. Пьют кофе, чай, вино, кок-
тейли, тоник и джуст (апельсиновый сок). Последний пьют
беспрерывно. Нету газированной воды. Нету коньяка и вод-
ки. В грилях — они тоже на каждом шагу — горячие сосис-
ки, мясо и куры. Без очередей. Правда, за парным мясом оче-
редь в количестве десяти человек максимум.
На площадях и улицах за столиками люди. Пьют кофе, сок,
реже — вино. Сидят долго. Разговаривают негромко. Боже
мой, сколько же об этом я читал! Сколько слышал! И вот пи-
шу сам, теми же словами. А не написать нельзя! Потому что
у нас этого нет и не будет. Никогда не будет. Никогда! Так я
думал... И вдруг!.. Я дожил до того, что живу в России, а не
в СССР. И все медленно, очень медленно становится похо-
жим на тот мир. Благодарю Бога, что я до этого дожил. И мои
первые заграничные впечатления стали только сплетнями о
самом себе.
Представитель чехословацкого комитета по телевидению и
радио Ян Зеленка в честь нашей делегации дал обед в гости-
нице. За столом были: сам Ян Зеленка, его заместитель, Ид-
ка — работница международного отдела, прикрепленная к нам
и испанцам (по-русски она говорит хуже, чем я по-немецки,
по-испански — не знаю), мы, то есть члены жюри и я, нако-
нец, два представителя посольства. Было просто, было инте-
ресно, было очень славно.
Наиболее эксцентричным за столом был, вероятно, я. Моя
поистине трагическая бездарность в области одежды дала о
себе знать в первый же день. Приехав в одной рубашке, при-
везенной из Франции женой три года назад, я в первый же
день купил в пражском универмаге две безрукавки (по-ленин-
градски «бобочки» самого светлого цвета и простого покроя.
Даже в Кинешме не существует дефицита на такого рода ма-
нуфактуру. В Праге была жара, и я чувствовал себя в этих «бо-
бочках» весьма и весьма уютно. Идка недвусмысленно дала
мне понять, что на обеде надо быть в белой рубашке, при гал-
стуке и в пиджаке.
248
Записки старого сплетника
Белая рубашка стоила сто пятьдесят крон. Туфли (я при-
ехал в десятирублевых скороходовских чоботах) — двести со-
рок крон. Костюм я перед отъездом выкупил на «Ленфиль-
ме», где играл в нем эпизод в кинофильме «Мой папа —
идеалист». За столом больше всего я боялся его закапать. Эта
способность развита во мне так же сильно, как и неумение
хорошо одеться. Я дал сам себе следующие обещания:
1. Не набрасываться на хлеб, дабы не объесться и не чи-
хать. Я чихаю сразу после того, как наедаюсь.
2. Не вытирать пот со лба полотняной салфеткой.
3. Не сморкаться в салфетки бумажные.
Первое обещание я выполнил блестяще, ибо хлеба на сто-
ле не было. Возле каждой тарелки лежали два рогалика (у нас
в булочных они продавались когда-то по три копейки) и тю-
бик масла. Салфетку я положил на колени, правда, позже всех
и смахнул ею предварительно со лба капли пота. Было очень
жарко, но никто не снял пиджака. Потом, глядя на старших
товарищей, я вытирался бумажными салфетками. Трое пред-
ставителей посольства сидели по углам стола. В четвертом уг-
лу сидела Идка. Будем считать это чистой случайностью.
Я обещал себе не задавать за столом трех вопросов, кото-
рые мучительно хотелось задать:
1. Был ли Клемент Готвальд антисемитом?
2. Где Дубчек?
3. Какое влияние на жизнь республики оказали события
1968 года?
Итак, я молчал. Было трудно. Официант предложил заку-
ски. Их было три. Нечто розовое с белым — видимо, ветчи-
на, майонез и что-то мне неизвестное, зеленое — наверно,
перец, фаршированный чем-то невероятным, и коричневое,
от которого несло свининой и чесноком. Сидевшие за сто-
лом мимоходом указывали пальцем на одну из закусок, де-
лая вид, что вообще-то их это мало интересует. Главное —
беседа о далеких перспективах развития массовых коммуни-
каций.
Боже, как я хотел попробовать все эти закуски! Но, неор-
ганично изобразив заинтересованность в занудливом расска-
зе советского музыковеда о значении показа оперы «Сила
судьбы» в сближении советского и итальянского народов, я
указал мизинцем на коричневую закуску.
249
Александр Белинский
К моменту появления супа я уже знал, что мне делать. Я
видел, что никого не интересуют ни «Сила судьбы», ни цита-
ты из Швейка, ни знание чехословацкой архитектуры, био-
графии Чапека, опер Сметаны и симфоний Дворжака, о ко-
торых наперебой болтали представители нашего посольства и
женщина-музыковед (о ней — отдельно). Тогда я, вылизывая
мякотью от рогалика тарелку с коричневой закуской, негром-
ко спросил, жив ли великий — слово «великий» я интонаци-
онно выделил курсивом — великий чешский вратарь Фран-
тишек Планичка. Ян Зеленка поперхнулся супом.
Представители советского посольства расплылись в улыбке.
«Да, а что? Вы видели Планичку?» — посыпались со всех сто-
рон вопросы. Без излишнего темперамента я рассказал о мно-
гочисленных матчах с участием Планички на ленинградском
Стадионе имени Ленина до войны. Вспомнив аналогичные
эпизоды из романа Льва Кассиля «Вратарь республики», я по-
ведал о ситуациях, когда голкипер брал «мертвые» мячи. Ес-
тественно, вместо Антона Кандидова, героя романа Кассиля,
в моих устных футбольных эссе фигурировал Франтишек Пла-
ничка.
Официант, без всякого намека с моей стороны, положил
мне на тарелку розовую закуску. Председатель госкомитета
лично налил мне бокал вина. Представитель посольства на-
звал имена Федотова и Боброва, но был моментально поса-
жен мною на место полным перечислением составов команд
послевоенного «Динамо», ИДКА и «Торпедо». Официанты,
подавая следующие блюда, в нарушение всякого этикета на-
чинали с меня. А я!.. Я был на уровне Михаила Чехова в бес-
смертной сцене хлестаковского вранья. На вопрос, является
ли нападающий сборной Испании Замора родственником зна-
менитого вратаря Рикардо Заморы, я, без малейшего сомне-
ния, ответил: «Внук». (На следующий день Чехословакия ве-
чером играла с Испанией, и во всех газетах было
опубликовано, что Замора только однофамилец.) За десертом
я перешел к новеллам из жизни других чешских спортсменов,
а именно: вратаря Тихого и бегуна Эмиля Затопека. Вот тут-
то я походя и упомянул фамилию Дубчека. Полный восторг
хозяев стола! И представителей посольства тоже. Подробный
рассказ, громкий, веселый, о том, что Дубчек работает бух-
галтером в Братиславе, — и уже по собственной инициативе
250
Записки старого сплетника
Зеленка выдал хичкоковские по ужасу подробности правле-
ния Новотного и со швейковским юмором рассказал об ан-
тисемитизме Готвальда, ужасах шестьдесят вросьмого года и
нынешнем катастрофическом повышении цен.
Я слушал. Это был превосходный и совершенно неожидан-
ный для меня вечер. Мне думается, он стал таким благодаря
моим лжевоспоминаниям о великом чешском вратаре Фран-
тишеке Планичке.
На загородном приеме было еще лучше. Вместо Хлестако-
ва я сыграл барона Мюнхгаузена. Нет, не романтического
фантазера из телефильма Горина — Захарова, а бессовестно-
го вруна из книжки Распе.
Загородный дворец, принадлежащий чехословацкому теле-
видению, находится в двухстах километрах от Праги. Он ска-
зочно красив. Чем, сколько и как кормили с шести вечера и
до двенадцати ночи, я не буду рассказывать. Это отдельная
повесть. Ее надо написать пером Шарля Де Костера или Алек-
сея Константиновича Толстого в главе «Пир Грозного» из ро-
мана «Князь Серебряный». Но полная непринужденность на
приеме наступила, когда я, грустно вздохнув, сказал, что «ни-
когда не охотился на серну».
Дело, конечно, в интонации, в ее тончайшей нюансиров-
ке. Во-первых, я сказал абсолютную, чистейшую правду. Я
действительно никогда не охотился на серну. Я вообще ни-
когда ни на кого не охотился. Я никогда не держал в руках
ружье, так же, впрочем, как спиннинг, сеть и удочку. Но ин-
тонация! «Я никогда не охотился на серну». Видимо, это про-
звучало так, что всем стало ясно: коридор моей квартиры уве-
шан рогами лося и клыками вепря. В кабинете валяются
волчьи и рысьи шкуры. Но вот шкуры серны нет!
Ян Зеленка не мог этого допустить. Правда, его три лицен-
зии на отстрел серны уже израсходованы. Но рядом замок ми-
нистерства внутренних дел. Там этих лицензий!.. Я не поки-
ну Чехословакию без шкуры серны. К счастью, представители
посольства остановили это безумие. Но лед опять-таки был
взломан. Пошли охотничьи байки. Я был на высоте, посколь-
ку только что прочел с необыкновенным удовольствием «За-
писки ружейного охотника» Сергея Тимофеевича Аксакова.
Удручала мысль о том, что я должен купить. Как потратить
меньше и купить больше. Выгоднее, толковее! Омерзитель-
251
аександр Белинский
ные слова! Стыдно, но я думал об этом. Впервые в жизни по-
пав за границу. Как это скверно! И еще ужасны встречи с со-
отечественниками.
В табачном магазине толстый хохол покупал зажигалку. Он
орал на продавщицу, не понимающую его русский язык. Я то-
же понимал его плохо. Это была невероятная смесь из рус-
ских и украинских слов. Он требовал от продавщицы гаран-
тии, что газовые баллончики в Киеве подойдут для чешской
зажигалки. Он возмущался, что кто-то смеет его не понимать.
Я перевел по-немецки. Вместо благодарности, он обхамил ме-
ня за знание немецкого языка, которого он не знает и знать
не хочет.
А на трамвайной остановке я встретил молодого паренька
с девушкой. Он спросил меня по-русски, как куда-то про-
ехать. Я обрадовался и заговорил с ним. Он оказался из Ки-
ева. На вопрос, давно ли он здесь и что делает, я получил от-
вет: «Это не имеет значения». Мило, не правда ли?
Но главную отрицательную эмоцию создавала музыковед
из Москвы. «Большой и глубокий», главное «глубокий» зна-
ток оперы, она была в жюри Интервидения. О степени ее
кривляния я имел представление по выступлениям на экра-
не. Она сотрудник Центрального телевидения. Но подлинный
масштаб ее личности я. как и сотрудники посольства, как
представители других делегаций, как несчастные продавцы
пражских магазинов, ощутил за эти десять дней в столице Че-
хословакии. Она кривлялась беспрерывно, назойливо, долго,
глубоко убежденная, что доставляет своим собеседникам
огромное удовольствие, осчастливливает их одним своим при-
сутствием.
Маска ее была довольно стереотипна для женщин, враща-
ющихся в сфере около искусства. В глазах полная беззащит-
ность. В голосе с протяжными ноющими гласными — востор-
женность и повышенная чувствительность. Усложненный
словарь благодаря «энциклопедическим» знаниям в области
музыки. И все замедленно — речь, движение, осознание то-
го, что происходит. О, какой изысканно официальный стиль
поведения, какая неповторимая индивидуальность! Цитирую
(дословно) ее непрерывную характеристику самой себя: «Я не
ношу часов. Дома их у меня тоже нет. Я не люблю время».
«Сколько у меня осталось крон? Не знаю. Я не в ладах с ци-
252
Списки старого сплетника
фрами». «Я работаю запоем. Но перед началом мне нужно,
чтобы в доме были цветы и чистые яркие скатерти и салфет-
ки». А лексика! С чехами, плохо знающими русский язык: «Я
не хочу быть императивной», «Что вы думаете о визуальной
концепции этого фильма?». И тому подобное, и так далее —
без конца!
Что она выделывала в магазинах! Оскорбительно тихим го-
лосом, со сложнейшими, непостижимыми даже для русского
фразами, она изводила несчастных симпатичнейших праж-
ских продавщиц. Она ощупывала и обнюхивала каждый пред-
мет. О, как отлично помнила она, сколько крон у нее в кар-
мане, и как неохотно с ними расставалась! И все это как в
съемке рапидом, которая вдруг превращалась в убыстренную,
если что-то в витрине привлекало ее внимание или кто-то за-
интересовывался вещью, замеченной до этого ею.
Но венцом пошлости было первое посещение Градчан с со-
борами и уходящими вверх улицами. Она стонала якобы от
восторга, свойственного только ей. Смеялась особенно музы-
кальным смехом. Вертелась в вальсе. И вдруг все это резко
обрывалось при появлении витрины с кожаными сумками или
трикотажными кофточками.
А метафоры, гиперболы, сравнения! Цитирую: «Какие рит-
мы! Ритмы кирпича и теней от листвы. Стойте и молчите!»
Стою и молчу. Крик: «Смотрите! Это он!» Я в ужасе: «Где?
Кто?» — «Неужели вы не видите — это же он!» — «Кто? Здесь
никого нет!» — «Как вы примитивны! Это же Тулуз-Лотрек!
Он, и только он!» (Это — о каком-то очередном местечке ста-
рой Праги.) А вот наиболее могучие ее выражения. Первое:
«На это место Бог пролил свою сперму!» — по поводу одной
из площадей в Градчанах. Второе: «Когда я вижу что-то, на-
поминающее французских импрессионистов, я испытываю
беспрерывный оргазм».
Как хорошо ее мужу! Он может исполнять супружеские обя-
занности с помощью показа репродукций картины Сезанна
или Писсарро! Впрочем, выяснилось: мужа нет. Она содер-
жит одного молодого альфонса.
Ну, Бог с ней! Через два дня я избавился от ее общества,
от отрицательных эмоций, которых так много дома, на рабо-
те, в общении с бурлящей московской театрально-телевизи-
онной ярмаркой.
253
Александр Белинский
И вот я впервые попал в капитализм, в самый «загниваю-
щий». В город денег и рулетки. В город, похожий на роскош-
ную декорацию. Монте-Карло, Монако. Князь, женатый на
красавице Грейс Келли, американской киноактрисе. Огром-
ный отель «Леве». У нас с Ларисой Мироновой, работником
Гостелерадио, офис, где мы показываем кассеты с советски-
ми телефильмами, подлежащими продаже на зарубежные го-
лубые экраны.
Но по дороге в Монако, между двумя рейсами самолета, я
увидел... Париж!!! Три восклицательных знака. Меньше поста-
вить не могу. Боже, как он прекрасен! А я ведь успел только
пройти пешком по Елисейским полям, Риволи и осмотреть
Пляс де ля Конкорд (площадь Согласия). Здесь я не выдер-
жал и заплакал. Заплакал от радости, что дожил до свидания
с Парижем. Но свидание длилось всего три часа.
В Монте-Карло я должен был бы появиться значительно
раньше, когда присудили «Золотую Нику» за «Записки сумас-
шедшего» в 1967 году. После Парижа ничто не может воспри-
ниматься восторженно, и я спокойно брожу по Монте-Кар-
ло, спокойно поглощаю утром «пти дежене» (завтрак), днем
обед в маленьком ресторанчике «Карл Третий», спокойно хо-
жу смотреть, как играют в рулетку.
Следующий мой зарубежный вояж — Швейцария. Страна,
не знающая войн. Очень богатая, очень счастливая.
Монтрё. Сто километров от Женевы. Совсем близко Ло-
занна и просто рядом Веве, где похоронен Чарлз Спенсер
Чаплин.
Потом снова Франция.
Ах, какую непоправимую ошибку делают советские клерки
из Гостелерадио, посылая меня на фестивали в лучших ку-
рортных городах Европы! Монте-Карло, Монтрё и вот сейчас
Канны. Я живу в отеле «Карлтон» на набережной Круазет. Да-
же по сравнению с набережными Монте-Карло это... ну, как
Тверской бульвар рядом с закоулками Кинешмы. Причем
Тверской бульвар — эта самая Круазет. Супербогатство, су-
перкрасота и супер-, супер-, суперчистота. Ранним утром на
пляжах просеивают весь песок. Вот так! Я в отеле. Ах, поче-
му этого не видит Чаплин! Нажимаю кнопки, все не те, что
нужно. О том, чтобы включить телевизор, не может быть и
речи. Как открыть шторы, включить горячую воду, заказать
254
Записки старого сплетника
«пти дежене»! Обо всем консультируюсь с нашими бывшими
стукачами, ставшими просто переводчиками. Самое страш-
ное — количество махровых полотенец и халатов в ванной.
Что? Куда? Зачем!!! Я впервые на фестивале гость, не рабо-
таю и не знаю, при моей ненависти к многозначительному
смотрению кинофильмов, как убить время. Нудное открытие
фестиваля! Невкусный ужин «а-ля фуршет». Из знакомых
только Беата Тышкевич и Джеральдина Чаплин. Первая с на-
слаждением ругает Ленина и его последователей в Польше и
России, вторая невероятно похожа на своего отца во всем,
кроме таланта.
Аргентина. Буэнос-Айрес
Апрель 1992 года
После мучительного двадцатидвухчасового перелета Моск-
ва — Буэнос-Айрес с остановками в Алжире, островах Зеле-
ного Мыса, Сальвадоре, беспрерывной вкусной аэрофлотов-
ской жратвой, тяжелого, урывками, сна первое и навсегда
ощущение от семнадцатимиллионной столицы Аргентины:
НА ЗЕМЛЕ СЛИШКОМ МНОГО ЛЮДЕЙ. Нельзя сущест-
вовать в этом кишащем муравейнике с узкими улочками, ав-
томобильными пробками, повальным СПИДом и невероят-
ным разноцветьем реклам и вывесок.
Второе. В отличие от Европы — плохое знание английско-
го языка и невероятная похожесть улиц и памятников делает
возможность заблудиться более чем вероятной.
Третье. Роскошный театр «Колон». Достойное выступление
Мариинского балета. Превосходная выставка художников
XX века из частных коллекций Санкт-Петербурга: Бенуа, Бо-
рис Григорьев, Бакст и другие.
Четвертое. Особо вкусная говядина и огромные порции са-
латов из помидоров.
Главное впечатление и повод для размышлений — наша
партократия в новых условиях. Коммунисты приспособились.
Большевики занялись бизнесом. Все ключевые точки внеш-
ней торговли в их руках.
Бывший секретарь обкома комсомола, бывший секретарь
райкома партии, стукачка и антисемитка, бывший ответст-
венный секретарь Ленинградского отделения Всероссийско-
255
/ександр Белинский
го театрального общества, бывшая директор ленинградской
филармонии, уволенная Мравинским, бывшая директор Ма-
лого Оперного театра, изгнанная труппой и возвращенная с
пенсии в Петербургский фонд культуры, она — этот непотоп-
ляемый корабль — возглавляет гастроли Петербурга в Арген-
тине, получает самые большие деньги и покупает самые до-
рогие дубленки. И как после этого можно верить в победу
демократии в России! Пушкин сказал: «Черт догадал меня ро-
диться в России с умом и талантом!» Я говорю во время каж-
дой поездки: если уж «черт догадал», то Бог дай умереть толь-
ко в бедной, измученной, трагически прекрасной, страшной
стране, потому что нет для нас жизни ИНОЙ. Я это повто-
ряю, побывав в Италии и Испании, Африке и Америке, Ан-
глии и Франции. Да, да, во Франции с лучшим в мире горо-
дом — Парижем, если бы... если бы не было Петербурга,
бывшего Ленинграда, где я безвыездно прожил три четверти
века. Века двадцатого, ныне ставшего двадцать первым.
Всегда, всегда, после любой поездки:
...Когда постранствуешь, воротишься домой,
И дым отечества нам сладок и приятен!..
Глава тринадцатая
Лирическое отступление
Я брожу по царскосельскому парку. Шуршу желтыми лис-
тьями.
Долго стою возле памятника Баха гениальному смуглому
отроку. Памятник возле Лицея.
Лицейское братство неповторимо. История не знает подоб-
ного. Осененное сверхъестественным гением Пушкина, оно
явило миру пример великой бескорыстной дружбы прекрас-
ных талантов, пронесших это чувство через всю, часто очень
короткую жизнь.
Встречал ли я подлинную дружбу среди людей искусства
моего поколения? Да, встречал. Андрей Миронов — артист,
Григорий Горин — драматург, Марк Захаров — режиссер,
Александр Ширвиндт и Игорь Кваша — артисты. Они все та-
лантливы, и никто никогда не завидовал друг другу. Первым
ушел из жизни самый молодой из них — Андрей Миронов.
Потом Григорий Горин. Он был немного старше. Если бы я
жил в Москве, может быть, оказался бы в этом содружестве.
Хотя, наверно, нет. Во-первых, я постарше. Во-вторых, анти-
богемен. А они все любили и любят богему во всех ее, прав-
да только хороших, проявлениях.
Сейчас я одинок. Очень одинок. Это не жалоба. Это кон-
статация факта. Я не жалуюсь, потому что сам виноват в этом.
«Язык мой — враг мой». И еще: «ради красного словца не по-
жалеет и отца». Эти пословицы имеют ко мне отношение са-
мое прямое. Я согласен с ними во всем, кроме того, что
язык — враг. Нет, это мой друг. Все хорошее, что я сделал, я
сделал благодаря ему, только ему. «И говорит, как пишет». Нет,
я пишу, как говорю. Вот так.
В Москве и в Питере у меня есть друзья. Не буду их назы-
вать. Боюсь сглазить. Я еще надеюсь успеть прочесть им то,
что сейчас пишу. Их осталось так немного.
257
Александр Белинский
Десять часов вечера. Я ложусь в постель. Иногда в полови-
не одиннадцатого. Это уже нехорошо. Меньше останется вре-
мени для задушевной беседы с моими многочисленными не-
разлучными друзьями. Телевизор в соседней комнате.
Впрочем, он включается не больше чем на полчаса в день,
чтобы посмотреть «Время», или «Вести», или «Сегодня», или
«Новости». Что — не имеет значения. Все одно и то же.
Я живу один. Уже давно. Семь лет. Нет, сказал неправду, я
окружен друзьями, и сейчас начнется наша ежевечерняя
встреча. Но сначала выключается телефон, звонок может пре-
рвать беседу в самом интересном месте.
Итак, я лежу на диване и внимательно смотрю на своих
друзей. Их много. Больше тысячи. Опять неправда. Настоя-
щих друзей не больше сотни, а самых близких несколько де-
сятков, не больше. Остальные просто знакомые. Близкие, да-
лекие. С братьями Карамазовыми я встретился всего однажды,
как и с Жюльеном Сорелем, и с Нехлюдовым, и с Консуэло,
и даже с Анной Карениной. Я запомнил их хорошо на всю
жизнь, но больше видеться не хочу. У них есть другие друзья
и знакомые.
Последние месяцы меня потянуло к друзьям детства. Они
все аккуратно стоят рядом на верхней полке. Так что, если хо-
чется повидаться с кем-то из них, придется встать на стул. И я
встаю, потому что сегодня мне необходимо встретиться с То-
мом Сойером. Почему? Руководителя РАО ЕЭС кто-то про-
звал Томом Сойером. Говорят, потому, что Том Сойер был ры-
жим. Неправда. Ни я, ни Марк Твен этого не заметили. А уж
юмор, а фантазия! Как Том придумал выдать себя за младшего
брата Сида. Как спасал негра Джима. Недаром Хемингуэй ут-
верждал, что из Твена вышла вся американская литература.
Каждая фантазия Тома, простите, Марка Твена, была доброй и
веселой, в отличие от ваучеров и отключения электричества на
Дальнем Востоке — изобретения Анатолия Чубайса,
Как же я люблю друзей своего безоблачного довоенного
детства! Как люблю перечитывать! Именно перечитывать, а
не читать. Я знаю наизусть каждую строчку «Детей капитана
Гранта», но читаю роман снова и снова. Мой самый близкий
друг — рассеянный географ Паганель, сыгранный в кино Ни-
колаем Черкасовым так, что другого Паганеля представить се-
бе нельзя. А это ведь так редко — совпадение образа литера-
258
Записки старого сплетника
турного героя с его сценическим или кинематографическим
двойником. Я до сих пор не видел своего Остапа Бендера,
своего д'Артаньяна. Мой самый любимый, самый верный,
смелый, бесконечно остроумный д'Артаньян (я встречаюсь с
ним ежегодно, не расстаюсь несколько вечеров подряд) не
имеет ничего общего с Михаилом Боярским.
Александр Дюма-отец глубоким стариком жил у своего зна-
менитого сына, автора «Дамы с камелиями», Дюма-сына, и
тот однажды его застал плачущим. «В чем дело, папа?» —
спросил младший Дюма старшего. «Я плачу над Портосом.
Скала оказалась слишком тяжела», — ответил автор «Десяти
лет спустя».
Я тоже плачу каждый раз, перечитывая гибель Портоса.
Смеюсь над его верным слугой Мушкетоном. Равнодушен к
страданиям Рауля Бражелона, потому конечно же, что и «Де-
сять лет спустя», и «Двадцать лет спустя» уступают «Трем муш-
кетерам», одному из увлекательнейших романов во всей ми-
ровой литературе.
С кем же еше я не расстаюсь всю свою жизнь — из так на-
зываемых героев юношеской литературы? Конечно, прежде
всего с Дэвидом Копперфильдом. Я очень люблю Диккенса.
Я люблю англичан и чту эту великую нацию. Мне нравится
консерватизм Лондона, культ семейного очага, особое уваже-
ние к традициям. Я представляю Лондон Чаплина, Бернарда
Шоу, Шерлока Холмса — Пикадилли, Бейкер-стрит, набереж-
ную Темзы, Букингемский дворец... Этот удивительный го-
род оказался таким, каким я увидел его на страницах прочи-
танных в детстве книг. И если любимейший мой Париж —
это только «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя, а
романы Дюма и новеллы Мопассана сами по себе, то каждая
улочка Лондона напоминает Филдинга и Смоллетта, Текке-
рея и Диккенса. Прежде всего, Чарлза Диккенса. Я читал и
перечитывал его всю жизнь, а с Копперфильдом (прошу не
путать с американским иллюзионистом, взявшим себе подоб-
ный псевдоним) не расстаюсь по сей день. Я знаю наизусть
каждую главу этого полубиографического романа. Я не знаю
персонажа более отвратительного, чем Уриа Гипп, более бла-
городного, чем мистер Пеготти, более наивного, чем Дора,
более смешного, чем Уилкинс Микобер — этот английский
двойник нашего Стивы Облонского. А главное — нет для ме-
259
Александр Белинский
ня романа, равного по сочетанию доброты, юмора, трогатель-
ности и жизнеутверждению.
Увы! Мне не удалось поставить Диккенса ни в театре, ни в
кино, ни на телевидении, для которого он создан, хотя анг-
лийские сериалы"разочаровали. Неужели нельзя было хотя бы
одеть и загримировать героев так, как они изображены на точ-
нейших по духу писателя иллюстрациях Физа?
Но, повторяю, друзья моей юности приходят ко мне вече-
ром прямо с книжных полок. И по-прежнему каждый вечер
я раздумываю, с кем побеседовать сегодня: с волком Акелой,
питоном Каа, пантерой Багирой из «Книги джунглей» Кип-
линга или с Кожаным Чулком. Следопытом, Зверобоем, Со-
колиным Глазом, Длинным Карабином — это пять имен од-
ного и того же человека из пяти романов Фенимора Купера.
Вот его последняя фраза, цитирую наизусть: «...А теперь, на
склоне моих дней, дожил до того, что я видел смерть послед-
него воина из мудрого племени могикан». Все говорят «по-
следний из могикан» — о Шаляпине, Бунине, Владимире Ва-
сильеве, не зная происхождения этой почти пословицы, как
и «все за одного — один за всех» из «Трех мушкетеров» или
«бороться и искать, найти и не сдаваться» из любимого ро-
мана довоенного поколения «Два капитана» Каверина.
Но друзья приходят и уходят. И вот уже не перечитываю я
некогда любимого «Овода». Не перелистываю страниц «Всад-
ника без головы» и Шерлока Холмса. Начиная заново рома-
ны Агаты Кристи, Эрла Стенли Гарднера, Джеймса Чейза и
очаровательного по юмору Рекса Стаута с его толстым гени-
ем-обжорой сыщиком Ниро Вулфом, я обнаруживаю, что уже
читал эту книгу и знаю, чем все кончится. И я закрываю тол-
стый том из полного собрания сочинений авторов детективов
и беру с особой полки друзей моей зрелости, точнее, старо-
сти. Кстати, Дэвид Копперфильд и д'Артаньян по-прежнему
стоят с ними рядом, как и «Таинственный остров» Жюля Вер-
на — этот гимн человеческому разуму и мужеству.
Должен сказать, что мой день, не важно, где я нахожусь, —
дома, на работе, на отдыхе, — четко делится на две полови-
ны. В первую я ищу ключи, во вторую — очки. Попытки чет-
ко установить место в своей прихожей, служебном кабинете,
номере гостиницы или дома отдыха не приводят ни к чему.
Когда же по ходу дня меняются пиджаки, куртки, пальто, ха-
260
Записки старого сплетника
рактер поисков усложняется. А вот перед тем, как лечь в по-
стель, я беру книги с заветной полки, не прибегая к помощи
очков. Я слишком хорошо знаю, где что стоит. Один ряд по-
лок — русская классика, два ряда — западная, и еще два —
мемуары.
Я уже упомянул о своих напряженных отношениях с геро-
ями Достоевского. Я рад, что стою по отношению к безуслов-
но гениальному Федору Михайловичу на той же позиции, что
и мой любимый Иван Алексеевич Бунин. Я не позволяю се-
бе, естественно, называть Достоевского «бездарью», как это
делает последний русский классик (так говорил о Бунине
Твардовский), но ни один герой Достоевского не вызывает у
меня симпатии. А вот персонажи Бунина посещают меня ча-
сто, и к женщинам, созданным его пером, я питаю непрехо-
дящую нежность. И к Русе, и к Натали, и к Антигоне, и к
Митиной любви, и ко всем героиням сборника рассказов
«Темные аллеи», к неназванной женщине из «Чистого поне-
дельника». Я почти выучил этот рассказ наизусть. Сам Бунин
сказал: «Благодарю тебя, Господи, что ты дал мне счастья на-
писать «Чистый понедельник». Это поразительный рассказ.
Подобного нет ни у Мопассана, ни даже у Чехова. А финал!
Когда автор (рассказ написан от первого лица) видит свою
возлюбленную среди шествия монахинь.
«Темные аллеи»... Я снял несколько рассказов на телеви-
дении. Плохо. Наверно, хорошо это мог бы сделать только
покойный Андрей Тарковский. Кстати, я слышал от него са-
мого, что он думает о «Жизни Арсеньева» Бунина. А надо
ли? — подумал я. Пластика этого романа непередаваема. Он
имеет запах ваксы, описанный в первой главе. И вкус холод-
ной окрошки. И отвратительные штампы оперного театра —
не знаю еще такого равного по юмору описания театральной
вампуки. А уж героиня романа Лика! Встречаясь с ней по ве-
черам, я вижу ее потом во сне, и ни одна актриса не сможет
показать мне Лику такой, как она мне снится. Ни одна На-
таша Ростова на экране не оправдала моих ожиданий. Ни
один д'Артаньян. И даже любимая моя актриса Вивьен Ли не
сыграла Скарлетт о'Хара такой, как она написана в романе
«Унесенные ветром». Не случайно Эрнест Хемингуэй, про-
сматривая экранизацию «Прощай, оружие», через десять ми-
нут встал, сказав: «Вот и птички запели», — и вышел из за-
261
Александр Белинский
ла. Нет уж, оставьте моих любимых друзей в покое. Оставь-
те их наедине со мной такими, какими их создал автор и мое
воображение. Недаром Габриэль Гарсиа Маркес — великий
писатель Южной Америки — ни за какие деньги не разре-
шал экранизацию «Ста лет одиночества». Он говорил: «Я не
хочу видеть живого полковника Аурелиано Буэндиа». Мар-
кес не представляет, что кто-то может изобразить его таким,
каким он создан на бумаге невероятной авторской фантази-
ей. Ах, как опасна инсценировка и экранизация литератур-
ных шедевров. Японец Акира Куросава сделал «Идиота» и
«Кровавый трон» по «Макбету», сохранив только сюжет этих
произведений. Восточная версия этого могучего режиссера
крайне убедительна и вместе с тем передает дух европейско-
го первоисточника.
Итак, ко мне является Паганель Жюля Верна, созданный
Николаем Черкасовым. И князь Мышкин, если бы я пригла-
сил его на вечернее свидание, конечно же пришел таким, как
его изобразил Иннокентий Смоктуновский. Но я не пригла-
шаю ни Мышкина Достоевского, ни Гамлета Шекспира, хо-
тя и на сцене первого и на экране второго великий актер со-
здал совершенно соответствующими авторской фантазии. Ни
Достоевский, ни Шекспир не стали моими друзьями. Впро-
чем, они от этого ничего не потеряли, а я, видимо, потерял
много.
Зато с героями Гоголя мне повезло. Я не берусь объяснять,
почему, когда я простужаюсь, а простужаюсь я достаточно ча-
сто, мне хочется перечитывать Гоголя, и только Гоголя. И де-
ло даже не в том, что Гоголь мой наилюбимейший русский
писатель, как Диккенс — иностранный, — Гоголь действует
на меня всегда умиротворяюще. Я уж не говорю о старосвет-
ских помещиках Пульхерии Ивановне и Афанасии Иванови-
че. Как у них уютно, как вкусно! Какая доброта, какое ува-
жение друг к другу. Но мне симпатичны и Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем, несмотря на всю вздорность их ссо-
ры. И финальная фраза Гоголя в этой повести «Скучно жить
на этом свете, господа!» для меня не убедительна. Мне не бы-
вает скучно ни в Миргороде, ни вечерами на хуторе близ Ди-
каньки. Они все сидят, эти вымышленные герои, возле моей
постели. Я вижу их выразительные лица, слышу негромкие
голоса, и это действует на меня больше, чем таблетки аспи-
262
Записки старого сплетника
рина, парацетамола, ремантадина и других бесчисленных ле-
карств, которых становится с каждым годом все больше, а це-
ны растут быстрее, чем на мертвые души, закупаемые оптом
Павлом Ивановичем Чичиковым.
«Мертвые души» — моя неизлечимая болезнь. Герои бес-
смертной поэмы всегда со мной, как бесконечно длинные
лирические отступления автора. Вот в чем чудо. Я дал сло-
во ничего не говорить о своих сценических и экранных со-
чинениях, но герои моего телеспектакля «Мертвые души»:
Чичиков — Горбачев, Манилов — Басилашвили и, в первую
очередь, Ноздрев — Луспекаев, — именно эта тройка потес-
нила первые мои, давние ощущения от героев поэмы. Вер-
нее, соединилась с ними. И поскольку я принял в этом по-
сильное участие как режиссер, то благодарю за это судьбу,
хотя с ней, судьбой, у меня вообще-то весьма и весьма на-
пряженные отношения.
С Обломовым так не получилось, хотя Илья Ильич мой
ближайший любимый друг. В детстве у нас были отвратитель-
ные отношения благодаря школьной программе с обязатель-
ным сном Обломова, да и еще характеристикой Обломова —
умнейшего, добрейшего, первого русского интеллигента, как
какого-то ленивого монстра, данной то ли Лениным, то ли
Сталиным с подачи озлобленного Добролюбова. Потом я
прочитал весь роман. Перечитал. Поставил спектакль с Ба-
силашвили в главной роли. Он был еще молод для этой ро-
ли, но играл чудесно. Потом вышел фильм Никиты Михал-
кова с Табаковым. Первая серия этой картины — шедевр. Но
все-таки я встречаюсь вечерами с каким-то другим Ильей
Ильичем. А когда он почему-то надевает очки, то становит-
ся Пьером Безуховым.
Герои «Войны и мира» пришли ко мне очень поздно. Мне
уже перевалило за пятьдесят. Никто из экранных героев даже
не приближался к образам Толстого, кроме Трофимова — ка-
питана Тушина и конечно же Анатолия Петровича Кторова —
князя Болконского. Я не привязан ни к одному из героев
«Войны и мира», кроме Наташи до ее замужества. Я перечи-
тываю без конца сцены, не имеющие себе равных по своей
эмоциональной, пластической, какой-то музыкальной силе.
Вспомните: «О, как задрожала эта терция и как тронулось
что-то лучшее, что было в душе Ростова». Цитирую наизусть,
263
Александр Белинский
честное слово. Это когда Николай Ростов, проиграв Долохо-
ву огромную сумму, мучается, а за стеной Наташа берет уро-
ки пения. А «тити-пити» смертельно раненного Андрея Бол-
конского перед появлением Наташи. А «вжиг, вжиг»
натачиваемой сабли в последнюю ночь жизни юного Пети
Ростова. Какой же был музыкант Лев Николаевич!
Алла Соколова — талантливый драматург — как-то на от-
дыхе в Комарове предложила интересную игру. Вы попадаете
на необитаемый остров. Можно взять все только по одному
экземпляру. Из посуды сковородку или кастрюлю, ложку, вил-
ку или ножик, из овощей картошку, морковь или свеклу, из
мебели стол или шкаф. Повторяю — только один предмет. Все
шло благополучно. Из кинофильмов выиграл Феллини «Во-
семь с половиной». Я остался в одиночестве, так как не до-
рос еще до понимания этого, безусловно, значительного про-
изведения. Но вот с чем все запутались — это какую взять с
собой книгу. Одну! Когда открыли записки, выяснилось, что
голоса поровну поделили булгаковский роман «Мастер и Мар-
гарита» и «Иосиф и его братья» Томаса Манна.
Булгаков гениально трактует главы Нового Завета, но ро-
ман многолик, много людей. Манн берет всего одну главку
Завета Ветхого и расшивает по ней два тома узоров своей уди-
вительной фантазии. Меня восхищает, что машинистка, впер-
вые перепечатывавшая роман «Иосиф и его братья», сказала
автору: «Так вот, оказывается, как это было». Действительно,
история Иешуа и Понтия Пилата у Булгакова не вызывает ни
малейшего сомнения в ее правдоподобии. Так же, как при-
ключения Иакова, Иосифа, его братьев, его друзей и врагов
в бесконечно древнем Египте, в Хевроне, еще до возвраще-
ния туда евреев во главе с Моисеем. А какие бытовые подроб-
ности! На какой редчайшей базе знаний покоится безудерж-
ный полет фантазии авторов. Булгаков не читал роман Томаса
Манна, Манн — роман Булгакова. А может быть, это послед-
ние гениальные романы с острым сюжетом, великолепным
юмором, высокой поэзией, полнокровными образами? Зна-
менитые Джойс и Марсель Пруст — это совсем другое дело.
Я их прочел, но не собираюсь перечитывать. Я как бы под-
вел черту Булгаковым и Томасом Манном под перечитывае-
мой беллетристикой. Я никогда не расстанусь ни с Коппер-
фильдом, ни с Томом Сойером, Наташей Ростовой и Пьером
264
Записки старого сплетника
Безуховым. И д'Артаньян с тремя мушкетерами будут до кон-
ца дней нести караул возле моей постели, но отныне я читаю
и перечитываю мемуары и воспоминания о тех, кого люблю
и уважаю. Рассуждения о Ленине, Сталине, мемуары Ельци-
на и даже обаятельного Горбачева не представляют для меня
интереса.
Зато я читаю и перечитываю «Записки Бенуа», письма Ван-
Гога, книгу «Константин Коровин вспоминает», воспомина-
ния Сомова, дневники Корнея Чуковского и тьму любимых
моих театральных мемуаров, записей репетиций, воспомина-
ний, вершиной которых остается «Моя жизнь в искусстве»
Константина Сергеевича Станиславского.
«Мою жизнь в искусстве» я прочел вслух своему сыну в
1966 году, когда ему исполнилось десять лет. Павлик ро-
дился в 1956 году, и, стало быть, примерно с 1960 года по
1966-й я перечел вслух все, начиная с Корнея Чуковского, че-
рез Марка Твена и Диккенса к Гоголю и Станиславскому, на-
вязывая своему сыну свои литературные пристрастия.
Почти семьдесят лет назад я прочел две книги Эрнеста Се-
тон-Томпсона «Животные-герои» и «Домино». Я перечиты-
вал эти книги каждый год, пока не началась война. В блока-
ду Ленинграда на растапливание буржуйки в последнюю
очередь пошли эти два чудесных сборника рассказов о жи-
вотных. Когда после войны я стал заново собирать библио-
теку, сочинений Сетон-Томпсона я нигде не нашел. Нет их у
меня и сейчас. Но и сегодня я могу подробно вспомнить рас-
сказы: о волке — «Лобо», о медведе-гризли — «Жизнь серо-
го медведя», о дикой лошади — «Мустанг-иноходец».
Сорок лет назад я пересказал их маленькому сыну. Все рас-
сказы с грустным концом. Павлик назвал их «беды» и требо-
вал продолжения. Как законопослушный отец, я каждый ве-
чер сочинял ему новую «беду», постигшую того или иного
зверя.
Через сорок лет, ставши из Павлика Павлом Александро-
вичем, сын попросил меня записать «беды», обещав их из-
дать. Увы, я не смог вспомнить ни одной. Новые же сюжеты
сочинялись по-новому. Одно дело рассказывать своему пяти-
летнему сыну, другое — писать для неведомого читателя. Да
и в тридцать пять лет или в семьдесят фантазия работает по-
разному.
265
Александр Белинский
Но, оставаясь законопослушным отцом, я написал расска-
зы, не заглядывая в бесценную книгу — трехтомник о живот-
ных Брэма, единственную, сохранившуюся у меня с «до вой-
ны».
Есть несколько вариантов книг о животных. Сетон-Томп-
сон пишет так, как это могло быть на самом деле. «Белый
клык» Джека Лондона и сочинения наших гигантов — «Хол-
стомер» Льва Толстого и «Сны Чанга» Ивана Бунина — ху-
дожественные произведения, полные философской мудрос-
ти. Четырехтомный новейший роман Владимира Кунина
«Кыся» — занимательная полубульварная беллетристика. На-
конец, существуют еще сказки о животных. На первом мес-
те для меня стоят «Сказки дядюшки Римуса» о Братце Кро-
лике.
То, что сочинил я, не похоже ни на то, ни на другое, ни на
третье, ни на четвертое, но написано под влиянием и того, и
другого, и третьего, и четвертого. И как недостижимый маяк,
как вершина всех вершин, стоит великая «Книга джунглей»
гениального Редьярда Киплинга.
Вот один из рассказов. Это конечно же тоже сплетня, и по-
этому я включил его в свои «Записки». Называется рассказ
«Однофамильцы».
Предуведомление, или Сложности русской грамматики
На моем веку то ли дважды, то ли трижды пытались менять
правила русской грамматики. Но даже у корифея языкозна-
ния Сталина это, к счастью, не получилось. Я лично с тру-
дом научился делать новые переносы слов со строки на стро-
ку в любом месте, а не четко по слогам, как учили меня
раньше.
С национальной самокритичностью должен признать, что
слова ЩИПЦЫ, НОЖНИЦЫ, ДЕНЬГИ не имеют единст-
венного числа, то бишь ЩИПЦА, НОЖНИЦА, ДЕНЬГА, а
КИНО, ПАЛЬТО, СОЛНЦЕ не имеют множественного —
КИНЫ, ПОЛЬТЫ, СОЛНЦЫ. Все это представляет некото-
рое неудобство, во всяком случае в стихосложении.
Но совсем плохо с родами — мужским и женским. Обидно
за членистоногих, в смысле насекомых. Есть муха, но нет сло-
ва МУХ. Есть БАБОЧКА, но нет БАБОЧИК. Наконец, СТРЕ-
266
Записки старого сплетника
КОЗА не имеет своего СТРЕКОЗЛА, в отличие от КОЗЫ и
ее законного мужа КОЗЛА.
Еще хуже обстоят дела с птицами и рыбами. Есть ЛЕБЕДЬ,
но нет ЛЕБЕДИХИ, ЩУКА не может сказать, что ее икрин-
ки обрызгал молоками некий ЩУК, ЛАСТОЧКА не спарива-
ется с ЛАСТОЧКОМ...
Как же быть? Найти ЛЕБЕДЮ имя — «царевна-лебедь» мог
только гений Александра Сергеевича. А когда пишешь прозу,
герои которой ЛЕБЕДЬ и ЩУКА, а потом еще появится ФО-
РЕЛЬ, какие местоимения должны им соответствовать: «он»
или «она», «его» или «ее», «ему» или «ей»?
Крайне растерянный, но не ожидая предстоящих измене-
ний отечественной грамматики, о которой опять пошли жар-
кие дискуссии, я сажусь за это сочинение, заранее принося
извинения за частые ошибки в правилах склонения и спря-
жения, хотя и знаю их вроде довольно четко.
Главка первая
ТАИНСТВЕННЫЙ ПРУД
Пруд, затянутый ряской, да еще с островками белых ли-
лий, с редкой зыбью на поверхности, всегда вызывает чувст-
во невероятного волнения.
Пруд, о котором пойдет речь, был совершенно круглый,
как будто очерченный гигантским циркулем. В центре его
красовался букет белых лилий с листьями идеально правиль-
ной формы. Видимо, основание циркуля упиралось в чашеч-
ку большой лилии в центре пруда. Нет, пруд не был создан
человеком. Его нарисовала великая природа с ее неистощи-
мой фантазией. Вокруг были пруды поменьше, но непра-
вильной формы, как кляксы на промокашке. Дальше начи-
налось озеро, не имеющее конца. К озеру со всех сторон
стекались ручьи и слетались к весне водоплавающие птицы.
Озеро замерзало зимой, но не всегда и не полностью. На
круглом пруду был каток. Деревенские мальчишки приходи-
ли сюда зимой не часто, деревня стояла далеко. Летом маль-
чишки ловили рыбу в маленьких прудах, взрослые — форе-
лей в ручьях, а настоящие рыбаки — лещей и судаков с лодок
в озере. В круглом пруду рыбу никто не ловил. Ее там не
было.
267
Александр Белинскии
Белоснежная красавица лебедь (подчеркиваем — красавица,
а не красавец) прилетела ранней весной с большой стаей. Ле-
беди прилетели парами, а она, самая красивая, одна. Ее муж,
черный лебедь по имени Педро, задержался в Испании. Он
хотел посмотреть корриду, где должен был выступать его друг
бык Антонио, обещавший посадить на рога любого тореадо-
ра. Педро должен был прилететь со следующей стаей, и он до-
говорился встретиться с Еленой у круглого пруда. Так звали
белого лебедя. Педро называл ее Элен, она его Петенькой.
Гуси, прилетевшие раньше лебедей, рассказали, что новый
хозяин этого сибирского приволья генерал по фамилии Ле-
бедь. В субботу он приехал на рыбалку и очень обрадовался
появлению белых лебедей. Генерал Лебедь мощным басом за-
претил трогать своих однофамильцев под страхом жесточай-
шего наказания. Потом, заев сваренной для него тройной ухой
из отборной рыбы бутылку водки, укатил в город бороться с
коррупцией, а лебеди уселись высиживать снесенные в пер-
вый же день яйца.
Знакомая гусыня не советовала Етене высиживать яйца воз-
ле круглого пруда, у которого была плохая репутация, но ле-
бедь утверждала, что у пруда с такими волшебными очерта-
ниями, с такими белоснежными лилиями вылупятся птенцы
невиданной красоты.
Между тем прилетевшая из Испании новая стая гусей при-
несла дурные новости. Хвастливого быка Антонио на провин-
циальной корриде юный тореадор убил с первого же удара. И
тут же на корриде отловили среди зрителей черного лебедя
Педро, отправив его в сельву, зоопарк под открытым небом,
но отгороженный от этого самого неба прозрачной сеткой, за
которую не могла вылететь ни одна птица. Живет Педро в
сельве недурно, но очень беспокоится, как появятся его пер-
вые в жизни родные дети.
И дети проклюнулись из пяти больших яиц. Четыре одно-
временно, а один лебеденок чуть позднее. Это была девочка.
Двое лебедят были черными, как звенья черных африканских
четок. Девочку Елена назвала Одиллия, мальчика Ротбарт. Со-
ответственно белые получили имена Одетта и Зигфрид. Здесь
все было ясно. До этого аналогичные имена получили герои
балета Чайковского «Лебединое озеро». А вот беленького ле-
беденка Елена назвала Машенька. Ей очень нравилось это ми-
268
Записки старого сплетника
лое русское имя. Лебедь Елена сама появилась на свет в рос-
сийской глубинке, правда, нс в Сибири, а на просторах Вол-
ги-матушки, в низовьях возле Астрахани, среди цветущего
только там лотоса.
Машенька стала всеобщей любимицей. Нежнейший пух по-
крывал ее маленькое тельце. Голубого цвета глазки сияли до-
бротой и предвкушением счастья. Сам мрачный генерал Ле-
бедь восхитился маленькой однофамилицей и велел старому
егерю беречь весь лебединый выводок, «а то!..». Что будет «а
то!..» — генерал не сказал, но все утки бросились врассыпную.
Наступил торжественный день. Елена повела своих детей к
воде. Пруд был окружен со всех сторон любопытствующими
лебедями со своими выводками. Первый выход в пруд напо-
минает торжественный спуск корабля со стапеля. Одетта,
Одиллия, Зигфрид, Ротбарт смело нырнули с берега, а Ма-
шенька... Машенька ни за что не хотела входить в воду. Она
жалобно пишала, и Елене пришлось столкнуть лебеденка с
берега взмахом крыла. И вот они поплыли. Впереди лебедь-
мать, гордо задрав голову, за ней парами белая Одетта с чер-
ным Ротбартом и черная Одиллия с белоснежным Зигфри-
дом. Замыкала первый заплыв маленькая Машенька.
Уверенная в своих детях, Елена плыла, не оглядываясь на-
зад... Не оглядываясь! Короткий жалобный писк сзади, исте-
рические крики птиц на берегу. Лебедь повернула голову. Ма-
шеньки не было. С диким визгом ее сестры и братья
выскочили на берег. Несчастная мать нырнула так глубоко,
как не ныряют люди даже с аквалангом. Под водой она ус-
пела заметить только огромную тень, быстро исчезнувшую
среди водорослей.
Когда Елена вынырнула, на берегу не было ни лебедей, ни
гусей, ни уток. Только старший сын Зигфрид поджидал свою
мать. Он первый заметил на зеркальной глади пруда белые
пятнышки. Это был лебединый пух, все, что осталось от бед-
ного птенца с чудесным русским именем Машенька.
Всю ночь несчастная мать просидела на берегу пруда, со-
зданного природой с помощью какого-то волшебного цирку-
ля. Когда рассвело, ее пробудило от короткой дремоты чье-
то громкое кваканье. Лебедь увидела у самого клюва огромную
старую жабу, бесстрашно смотревшую ей прямо в глаза. Жа-
бий рот раскрылся и не закрывался в течение целого часа.
I
269
Александр Белинский
Главка вторая
РАССКАЗ СТАРОЙ ЖАБЫ
Под бочагой в пруду жила огромная щука. Ее звали Прас-
ковья Степановна. Сколько ей лет — не знал никто, да и она
сама не помнила. Она приплывала из озера. Знала все подзем-
ные ходы между прудами. Щука была прожорливой и злоб-
ной. Она не имела детей. В молодости, меча икру, она не ста-
ла ждать прихода щуки-самца, который обязан был
оплодотворить икру, а сожрала ее всю до последней икринки.
На следующий год молодой щука-самец обрызгал икру моло-
ками. И опять ни из одной икринки не появился щуренок.
Прасковья Степановна съела оплодотворенную икру. Ей это
понравилось. Она стала гурманом. Все последующие годы она
пожирала свою оплодотворенную икру, а заматерев, лакоми-
лась и молодым самцом. Окончательно озверела Прасковья
Степановна, когда однажды в озере попалась на блесну. Она
перекусила леску уже почти у самого берега, а затем выдерну-
ла блесну, зажав ее на дне между двух камней. Пока заживала
нижняя челюсть, она голодала и копила злобу, а поправив-
шись, бросилась поедать все живое. Она утаскивала на дно са-
дящихся на воду птиц. Щука выплевывала несъедобных чаек,
пожирая с костями уток и гусей. Предпочитала птенцов, неж-
ное мясо которых удовлетворяло больше всего ее прихотли-
вый вкус. Она точно угадывала, когда птицы вылупятся из яиц
и войдут первый раз в воду. Лебединое мясо она попробовала
впервые, и, по словам жабы, оно ей понравилось. Старая жа-
ба увидела щуку в первый раз, когда сама была еще головас-
тиком. Щука пожрала лягушиное потомство во всех прилега-
ющих к озеру прудах и устремилась к ручьям, где плескалась
форель, идущая на нерест. Пристрастие щуки к истреблению
потомства форелей было не только чисто гастрономическим.
Старая жаба была философом. В каждой ее бородавке бы-
ло не меньше мыслей, чем в мозгу любого из млекопитаю-
щих. Елена слушала ее с превеликим вниманием. Кстати,
именно бородавки спасли жабу от острых зубок Прасковьи
Степановны. Жаба распустила слух, что бородавки ядовиты,
и глупая щука поверила. Но почему же из всех рыб щука боль-
ше всего ненавидела форель?
Во всех странах мира живут евреи. Не только в Европе. Есть
евреи-японцы, евреи-китайцы, евреи-негры. Недаром Герш-
270
Записки старого сплетника
вин писал негритянские спиричуэле, похожие на древнеев-
рейские песнопения. Евреи есть среди обезьян, и много птиц
с крючковатыми носами, конечно же семитского происхож-
дения. Жаба додумалась, что форель является рыбой-еврей-
кой. Во-первых, абсолютно еврейское звучание имени. Во-
вторых, представители Богом избранной нации всегда
фаршируют щуку или леща и никогда — форель. Жуткая ан-
тисемитка Прасковья Степановна сожрала всю форелью ик-
ру. Осталась в ручье только одинокая красавица Эсфирь. Фи-
ра, как фамильярно называла ее жаба, поклялась жестоко
отомстить за гибель своих неродившихся потомков. Покля-
лась и Елена-лебедь — несчастная мать бедной погибшей Ма-
шеньки. На следующей неделе должен был приехать в отпуск
из Красноярска в эти благословенные Богом места генерал
Лебедь. Именно с его приездом связывала жаба свой хитро-
умный план мести.
Во вторник начиналась осенняя охота, и все ждали приез-
да губернатора. Лебедь приехал вовремя и прежде всего осве-
домился, как растет его однофамилица Машенька. Он все ле-
то баюкал своего внука рассказом о малышке-лебеде и теперь
хотел показать ее воочию. Услышав сбивчивый рассказ егеря
о случившемся, генерал рассвирепел. Это было на руку заго-
ворщикам. Накануне лебедь Елена встретилась с форелью Эс-
фирью. Жаба сообщила, что Прасковья Степановна дремлет
в своем подводном логове. Теперь интрига зависела от того,
с какого оружия начнет генерал свой отпуск. О, счастье! Ле-
бедь взял острогу. В ту же секунду форель одной ей извест-
ным подземным ручьем направилась к пруду. Это было очень
опасно, но вся скорбь, вся боль за страдания нации форелей
несли Эсфирь к зловещей бочаге. И Прасковья Степановна
увидела ненавистную рыбу. Форель неслась по ручью прямо
к озеру. Щука за ней. Она почти настигла ее, когда увидела
на водной глади недалеко от берега юного лебедя Зигфрида.
Именно ему, любимому сыну, поручила Елена самую ответ-
ственную часть операции. Отведав лебединого мяса, щука
мечтала повторить трапезу. Она сразу же догнала Зигфрида,
но лебедь взлетел, потом снова поплыл и опять взлетел. Это
была, конечно, игра со смертью, но перед глазами Зигфрида
все время мелькал нежный образ погибшей сестренки. Лебедь
держал курс прямо к лодке, где за его действиями с удоволь-
271
Александр Белинский
ствием наблюдал Лебедь-генерал. Зигфрид нырнул у самой
лодки, проскользнул под ее днищем и взлетел, касаясь лап-
ками поверхности воды. Щука, уверенная в успехе, высоко
выпрыгнула из воды и схватила Зигфрида, но бравый генерал
ее увидел. Острога сверкнула в его руке. Лебедь был солдат,
десантник, меткий стрелок, бравый воин. Он нанес всего один
удар. Но этого оказалось достаточно.
Ставка третья
ПОЛЕТ
Во всех отечественных и зарубежных газетах появились фо-
тографии славного генерала с невиданной по величине щу-
кой в руке. Лебедь был доволен. В последние годы он, один
из популярнейших людей, был обделен вниманием. Губерна-
тор собрал лучших ветеринаров города, но бедного лебедя Зиг-
фрида спасти не удалось.
Елена-лебедь с утра до вечера занималась с тремя оставши-
мися птенцами. Надо было поставить их на крыло. Пора ле-
теть на зиму в жаркие страны. Можно, конечно, перезимо-
вать в зоопарке. Однофамилец Лебедь создал там
незамерзающий пруд для водоплавающей птицы, но лебедь
Елена была мерзлячкой, и ей так хотелось повидать черного
Педро. Из пяти его детей в живых осталось только трое.
Среди лебедей, готовящихся к полету, возникли разногла-
сия. Одни собирались в Турцию, кое-кто в Израиль, и толь-
ко десять лебедей готовились провести зиму на Коста-дель-
Соль, роскошном побережье Испании. Именно там
находилась сельва, зоопарк, где томился лебедь Педро, отец
покойных Зигфрида и Машеньки. Между тем черные его де-
ти Одиллия и Ротбарт уже отлично умели летать, и вожак стаи,
испанец Дон Жуан, был ими вполне доволен. Беленькая же
Одетта была слабенькой и внушала вожаку справедливые опа-
сения. Он рекомендовал Елене оставить ее здесь под крылом,
вернее, под опекой генерала-однофамильца, но Елена и слы-
шать об этом не хотела. Во что бы то ни стало показать отцу
хоть одного белого отпрыска. Ведь двое других остались ле-
жать на родине.
Вылет был назначен на вторник. Понедельник — плохой
день, заявил суеверный, как все католики, Дон Жуан. Нака-
272
Записки старого сплетника
нуне Елена сердечно попрощалась со старой жабой. Форель
Эсфирь резвилась в циркульном озере со стаей мальков. Их,
по распоряжению Лебедя-губернатора, запустили в тот самый
водоем, где столько лет царствовала зловещая щука Праско-
вья Степановна.
Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в дальние страны...
Лебеди спели эту песню, прежде чем взмыть в осеннее се-
рое небо. Накрапывал мелкий дождь, но это не остановило
Дон Жуана. Смелый испанец вел стаю через азиатскую и ев-
ропейскую части России, через всю Западную Европу, туда, в
родную Севилью, где родился его бессмертный тезка.
Нонной зефир
Струит эфир,
Шумит, бежит
Гвадалквивир.
Дон Жуан насвистывал испанскую песню, даже не догады-
ваясь, что ее написал русский поэт, никогда не бывавший в
Испании. Что этот же поэт сочинил великое произведение о
Дон Жуане — «Каменный гость». Всего этого лебедь Дон Жу-
ан не знал и уверенно вел стаю через всю необъятную страну
Россию. Они пролетели уральский хребет, и здесь вожак стал
делать остановки возле неведомых людям озер. Он стал осто-
рожным. Россия, учил он стаю, непредсказуемая страна, и,
хотя здесь запрещена законом охота и даже издан роман «Не
стреляйте в белых лебедей», только здесь их и стреляют, а все
мрачные и печальные события глушат музыкой балета «Лебе-
диное озеро». Но полет и через Азию, и через восточную
часть Европы прошел на редкость благополучно.
Опытнейший гид Дон Жуан не отвечал ни на один вопрос
молодых лебедей, впервые летевших на Запад. С самого на-
чала мудрый лебедь заявил:
Jjwojw Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать —
В Россию надо только верить.
273
12 Записки старого сплетника
Александр Белинский
Именно «верить» в Россию не надо ни в коем случае, имен-
но в ней бесконечные катаклизмы, от которых трясет всю Ев-
ропу почти сто лет, — говорил Дон Жуан. Дон Жуан помнил
свое имя и на каждой стоянке легко и безответственно зани-
мался любовью с каждой из лебедей (женщин, конечно, о эта
русская грамматика!). Он пока не трогал только Елену, видя,
как она волнуется по поводу белой дочери. Одетта совсем при-
томилась. Дон Жуан предлагал оставить ее в Гамбурге, луч-
шем вольном зоопарке мира, созданном знаменитыми Гаген-
беками, но упрямая Елена обязательно хотела показать отцу
именно белую дочь.
Летели через Францию. Внизу текла Луара. Дон Жуан ве-
лел стае лететь плотным треугольником. Именно в русле этой
реки со времен Людовика XIV процветала соколиная охота.
И сокол появился. Конечно, он никогда не рискнул бы бро-
ситься на стаю. Лебеди умели постоять за себя. Но Одетта от-
стала. Елена не заметила. Она гордо летела, беседуя с Дон Жу-
аном. Она мечтала на ближайшей стоянке стать его подругой.
Сокол с лета ударил Одетту острым клювом и впился намерт-
во когтями в ее спину. Стая ринулась на сокола, забила его
клювами, но гордый охотник погиб, не выпуская жертву из
могучих когтей.
Всю ночь Дон Жуан утешал на островке посреди Луары не-
счастную мать. В Испанию Елена вернулась только с двумя
черными отпрысками — Ротбартом и Одиллией. Одиллию Дон
Жуан почему-то упорно звал Карменситой.
Главка четвертая
КАРМЕН
...Ночной зефир
Струит эфир,
Шумит, бежит
Гвадалквивир.
Дон Жуан пел во весь голос. Одиллия, ставшая Карменси-
той, послушно вторила предводителю стаи. Елена молчала.
Сердце матери разрывалось от горя. Она понимала, что про-
исходит. Дон Жуан остался верен своему прославленному
имени. Нет, не понравился Елене памятник севильскому обо-
274
Записки старого сплетника
льстителю в центре города. Он почему-то напоминал чугун-
ные изображения молодого Ленина, все еще стоявшие в Рос-
сии в больших городах и районных центрах буквально на всех
перекрестках. Возле памятника Дон Жуану произошла окон-
чательная размолвка матери с единственной оставшейся в
живых дочерью. Предводитель звал стаю на Канарские ост-
рова. Елена настаивала на сельве, созданной испанским мил-
лионером возле Малаги. «Нет, нет и нет! — кричал Дон Жу-
ан. — Все равно это клетка. Конечно, из нее можно вылететь,
но ощущение неволи, даже временное, претит моей свобо-
долюбивой натуре. Я не могу находиться в плену, даже в пле-
ну любви, долгое время». При этом он победоносно посмо-
трел сначала на Елену, потом на Одиллию, переименованную
в Кармен. Мать горестно вздохнула. «Ты не хочешь познако-
миться даже с собственным отцом?» — спросила она дочь.
«А ты уверена, что он мой отец, и никто другой?» — резко
возразила дочь. Ближайшей ночью она надеялась стать по-
дружкой Дон Жуана. Елена ничего не ответила. Она попро-
сила предводителя стаи указать ей кратчайший путь в сель-
ву. Тот отрядил в провожатые старого лебедя Ромаро,
названного так в честь знаменитейшего тореадора Испании
позапрошлого века.
Ночью Елена с единственным сыном Ротбартом оказались
под сеткой в огромной испанской сельве-зоопарке с редчай-
шей коллекцией птиц.
Черный лебедь Педро встретил свою супругу Елену и сы-
на Ротбарта, похожего на него, как отражение в зеркале,
почему-то более чем равнодушно. Все население сельвы шу-
мело и гудело от нескончаемых споров. О чем спорят и го-
ворят в Испании? Конечно же прежде всего о бое быков.
Накануне недалеко от сельвы, в городке Торре-Малина, бы-
ла коррида. Несколько птиц, в том числе и черный Педро,
давно проделавший в сетке дыру, летали на бой быков и на-
блюдали все церемонию от начала до конца с высоты пти-
чьего полета.
Олени, косули, бизоны, буйволы, никогда не видевшие
корриды, боготворили героев-быков. Пастись пять, шесть лет
на лучших пастбищах, а потом на радость испанского народа
погибнуть от одного удара шпаги — это ли не герои! Гибель в
бою, а не жалкая смерть на мясобойне от электрического раз-
275
Александр Белинский
ряда или, того хуже, от удара топора неумелого мясника. Все
хищники от африканских львов до сибирских волков обожа-
ли корриду. В эти дни они получали на обед свежайшую го-
вядину. Так что в бесконечных дискуссиях по всей Испа-
нии — запрещать или не запрещать корриду, — безмолвный
глас жителей сельвы был целиком на стороне боя быков.
Педро в первый же день знакомства с единственным сы-
ном слетал с ним в Гранаду на бой быков. Юный Ротбарт
пришел в полный восторг, а когда в той же Гранаде на от-
крытой площадке он посмотрел «Лебединое озеро» в испол-
нении балета петербургского театра, то воспринял это зре-
лище как пародию на собственное племя пернатых. А
испанское фламенко восхитило черного лебедя. Короче,
Ротбарт стал подлинным испанцем и сторонился своей бе-
лоснежной матери.
Почти то же самое произошло с Карменситой на Канар-
ских островах. Она постаралась быстро забыть свое имя
Одиллия, данное ей от рождения. Еще быстрее забыла она
Дон Жуана. Знаменитый сердцеед впервые узнал неведомое
ему чувство — ревность. Кармен была по характеру непосе-
дой. Ощущение высоты, талант планирования, когда без еди-
ного взмаха крыльев она неподвижно зависала под облака-
ми, делали ее жизнь счастливой. Определение Станиславским
полета птицы целиком относилось к черному лебедю. Вели-
кий реформатор театра говорил: «Птица набирает дыхание,
становится гордой и только тогда взлетает». Ощущение гор-
дости не покидало Кармен ни на минуту. За несколько меся-
цев она облетала всю Испанию. Она мчалась на каждую кор-
риду — из Мадрида в Барселону, из Валенсии в Памплону.
Она полюбила фиесту и сарсуэлу, эту испанскую оперетту, ко-
торую иногда исполняли на открытом воздухе. Она танцева-
ла фанданго и цыганочку со своими бесчисленными поклон-
никами и выбирала лучшего из них для своих коротких,
безответственных связей. Любовные утехи быстро наскучи-
вали ей, во-первых, в силу ее легкомыслия, хотя она не бы-
ла развратной, а во-вторых... во-вторых, в любом месте ее на-
ходил потерявший всякий покой Дон Жуан.
...Моя любовь — дремучий темный лес,
Где проходимцем ревность залегла,
276
Записки старого сплетника
И безнадежность, как головорез,
С кинжалом караулит у ствола...
Ревность терзала сердце уже немолодого лебедя. Он ведь
был намного старше годовалой Кармен. Дон Жуан мчался из
Андалусии в Басконию, с побережья Коста-Браво на Коста-
дель-Соль и отыскивал Карменситу, любующуюся корридой
или купающуюся в пруду возле кочующего цыганского табо-
ра. Дон Жуан сражался с очередным любовником Кармен.
Молодые лебеди щадили его из уважения к знаменитому име-
ни, а черноперая красавица даже не поворачивала свою гор-
дую голову на роскошной шее в сторону несчастного поклон-
ника. Увы! Близилась трагическая развязка.
На корриде в Бадельмадене Кармен увидела черного лебе-
дя невиданной красоты. Он поразил ее в самое сердце, как
матадор, всадивший в холку быка острую шпагу по самую ру-
коятку. После второго убитого быка лебедь медленно полетел
куда-то, мирно беседуя с пожилым черным лебедем, летев-
шим рядом. Потеряв чувство собственного достоинства, гор-
дая Карменсита бросилась за ними. Она ничего не видела,
кроме роскошных крыльев своего избранника, и не замети-
ла, как оказалась под сеткой сельвы. Не узнала она в черном
красавце родного брата Ротбарта, а в старом лебеде — никог-
да не виданного ею отца Педро. Но Елена-то узнала и род-
ную дочь, и опустившегося на поверхность пруда несчастно-
го Дон Жуана.
Трагедии любви разнообразны и бесконечны. То, что про-
изошло на пруду испанской сельвы недалеко от города Ма-
лаги, не имеет подобного во всей истории жизни пернатых
на планете Земля.
Черный лебедь Дон Жуан рос в Гранаде возле дворцов Аль-
гамбры, великого творения мавров, а самый ревнивый че-
ловек в истории человечества был именно мавр по имени
Отелло. Но Отелло, по утверждению Александра Сергееви-
ча Пушкина, был доверчив. Черный лебедь Дон Жуан до-
верчив не был, да и как он мог доверять коварной Кармен-
сите, влюбленной до безумия в своего родного брата
Ротбарта. А Ротбарт? Увы, и еще раз увы! Его отец Педро
уже год как стал полностью соответствовать своему имени.
Да, да! Среди млекопитающих и особенно пернатых суше-
277
Александр Белинский
ствуют физиологические отклонения. Число сексуальных
меньшинств (будем надеяться, что и в XXI веке оно останет-
ся все-таки меньшинством!) растет среди птиц год от года.
Педро испортил своего сына Ротбарта в первую же ночь пре-
бывания юного лебедя в испанской сельве. Гомосексуалис-
ты невероятно ревнивы. Количество преступлений на лю-
бовной почве среди них давно переступило границы
допустимого. Итак, Дон Жуан ревновал Карменситу к ее бра-
ту Ротбарту, не догадываясь, что ревность не имеет под со-
бой никакой реальной почвы. В свою очередь, Педро него-
довал из-за домогательств Кармен к его сыну, ставшему
одновременно его любовником. Елена сходила с ума из-за
романа Дон Жуана с ее дочерью Кармен, которую она по-
прежнему упорно звала Одиллией. Короче, невероятность
сексуальной ситуации превосходила все, что дала литерату-
ра XX века в своих самых пошлых произведениях. На тре-
тью ночь произошел взрыв.
Карменсита подплыла к Ротбарту. Она не понимала, что это
ее родной брат, и трепетала от страсти. Дремавший рядом отец
обоих черных лебедей Педро кинулся на Кармен, а Дон Жу-
ан набросился на Ротбарта. Черные перья летели по всему
пруду, а среди них, как светлый луч в темном царстве, мета-
лась белый лебедь Елена. Напомню, что Кармен и Ротбарт
были ее родными детьми, сестрой и братом покойных Ма-
шеньки и Одетты. Сама она об этом забыла. Спасти, спасти
возлюбленного Дон Жуана! Первым пал инфантильный Пед-
ро. Опытный дуэлист Дон Жуан забил его несколькими уда-
рами острого клюва на могучей длинной шее. Это фактичес-
ки был молот на длинной рукоятке, и Ротбарт тоже бы не
уцелел, но радом с ним как разъяренная львица сражалась
Кармен. Безусловно, Дон Жуан справился бы с обоими, но
он был все-таки Дон Жуан и мог защищаться только крыль-
ями от нападения Кармен. Острым клювом Дон Жуан смер-
тельно ранил Ротбарта в тот самый момент, когда Карменси-
та вонзила свой клюв в шею севильского обольстителя. Затем
она подплыла к брату, которого полюбила совсем не сестрин-
ской любовью. Ротбарт глубоко вздохнул последний раз. Он
пытался то ли сказать что-то, то ли спеть, но не смог. Три чер-
ных лебединых трупа, распластав крылья, неподвижно лежа-
ли в пруду, как гигантский испанский веер. Влюбленные жен-
278
Записки старого сплетника
шины тщетно пытались оживить возлюбленных: Елена — Дон
Жуана, Кармен — Ротбарта. Убедившись в гибели своей пер-
вой, наверное, единственной любви, Кармен взмыла в под-
небесье. Она поднималась все выше. На фоне белоснежных
облаков обитатели сельвы вдруг увидели, как она сложила
крылья, и услышали первую строку знаменитой хабанеры Би-
зе, давшего бессмертие имени Карменситы:
У любви, как у пташки, крылья...
Черный лебедь камнем летела на скалы, построенные в
сельве для орлов, и последними словами лебединой песни,
когда она ударилась об острую каменную вершину, были «Лю-
бовь, любовь, любовь, любовь!..».
Главка пятая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Благородные орлы не дотронулись до тела лебедя-само-
убийцы. Белый круг лебедей, такой же четкий, как циркуль-
ный пруд в Сибири, долго сидел возле Карменситы. Бело-
снежный круг... Черных лебедей больше не стало в испанской
сельве.
А в России наступила весна. Бедная, бедная Елена! Она бы-
ла окружена в испанской сельве таким вниманием. Все со-
чувствовали бедной матери, неутешной вдове, отвергнутой
любовнице. Особенно подружилась лебедь с африканским но-
сорогом по имени Быдло. Наверное, русское имя привлекло
Елену к черному уроженцу Кении. А может быть, его цвет,
напоминавший погибшего сына Ротбарта, дочь-самоубийцу
Кармен, мужа-гомосексуалиста Педро и любовника-одно-
дневку Дон Жуана. Быдло наблюдал весь кровавый бой лебе-
дей и сожалел, что не мог принять в нем участие. Неосуще-
ствленной мечтой носорога оставалась коррида. Он слышал
о ней только рассказы. Быдло утверждал, что в каждом бою
сажал бы на свой острый рог и пикадоров, и бандерильеро, а
матадоров давил бы своими железобетонными ногами. А Еле-
на рассказывала Быдлу о его тезках, населяющих бесконеч-
ные просторы России, нет, не носорогах, а именно быдле, ко-
торого, к сожалению, еще много оставалось на любимой
родине белого лебедя.
279
Александр Белинский
Ночами Елене снилась только дочка Машенька, ее убий-
ца — щука Прасковья Степановна — и мститель, мужествен-
ный однофамилец — генерал Лебедь.
А губернатору Лебедю ночами снились белые лебеди. Алек-
сандр Иванович невероятно устал за эту зиму от борьбы с не-
победимой коррупцией, от происков неистребимой мафии, от
непроходимой тупости последних могикан партийного быд-
ла. Лебедь Елена прошалась с Быдлом — черным носорогом.
Она обешала вернуться следующей осенью с новыми моло-
дыми лебедями. Они все должны были быть белыми, потому
что в Сибирь летели уроженцы снежных гор Андалусии Лау-
ренсия, Наумансия и красавец Санчо.
Елена вела белую стаю тем же путем, каким летел год на-
зад Дон Жуан. Она избегала дневных перелетов через боль-
шие города. Задержались на целый день на берегу Луары, где
погибла от когтей сокола белая Одетта. Здесь она рассказала
испанским лебедям, куда они летят, вкратце обозначив основ-
ные вехи жизни их славного однофамильца губернатора Ле-
бедя. Еще прошлым летом все знавшая старая жаба переска-
зала Елене содержание книги славного генерала «За державу
обидно».
«За державу обидно», — повторяла Елена, пролетая над опу-
стевшими деревнями и остановленными заводами. «За держа-
ву обидно» — хотелось кричать белому лебедю при взгляде на
незасеянные поля и сгоревшие леса. «За державу обидно», —
шептала она, стараясь не разбудить измученных солдат, вою-
ющих в Чечне.
«Какой простор, какая ширь», — восхищались испанские
лебеди, впервые попавшие в загадочную страну. «Какая кра-
сота, сколько рыбы в реках, сколько свободного зверья в ле-
сах!» — восторгались Лауренсия и Наумансия. «Какие новые
дома, какие могучие люди», — кричал Санчо.
...Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить...
Со слезами на глазах читал Тютчева губернатор Лебедь на
берегу циркульного озера своему маленькому внуку. «Дед,
смотри, летят! Кто это?» — закричал внук. Генерал Лебедь
вскочил. Стая лебедей во главе с Еленой опустилась прямо на
гладь циркульного пруда.
280
Записки старого сплетника
Наверно, нигде никогда белые лебеди не высиживали
яйца в таких идеальных условиях. Губернатор создал им по-
кой, создал условия не хуже, чем в лучших госпиталях и
больницах огромного сибирского края, равного по величи-
не двум Испаниям. За все время, пока не проклюнулись
птенцы, прогремели всего два выстрела. Первым егерь под-
стрелил кружащегося над прудом ястреба, вторым — про-
гнал рыжую лису.
Форель вернулась в пруд после нереста. Почему необхо-
димо рыбе, борясь с быстрым течением, плыть именно вверх
по стремнине, чтобы метать икру и обрызгать молоками ее
именно у истока, а не в устье ручьев и рек? «Тайна сия ве-
лика есть», и ни один ихтиолог никогда не сможет ее разга-
дать. И может быть, слава Богу! Форель вернулась и непо-
движно находилась у самой поверхности воды, несмотря на
быстрое течение. Ее никто не ловил по приказу строгого ге-
нерала Лебедя. А лебедь Елена любовалась Эсфирью и ее
многочисленным потомством, пока не услыхала первый
писк проклюнувшегося птенца. Это была девочка, и конеч-
но же Елена назвала ее Машенькой.
Губернатор Лебедь опоздал к рождению птенцов. Совет
Федерации утверждал очередные законы, и многие из них
порадовали строптивого и вечно недовольного генерала. Но
разве можно сравнить это с радостью, когда, приехав с вну-
ком к циркульному пруду, Лебедь увидел, что вся водная
гладь усеяна белыми пузырьками. Это плавали маленькие
лебедята, дети Лауренсии, Наумансии и Елены. Санчо летал
над прудом. Размах его крыльев был огромен. Лебедят бы-
ло много, очень много, и генерал тут же решил создать за-
поведник, помчался в Москву, получил разрешение, но, ког-
да вернулся к циркульному пруду после столичных мытарств,
лебеди уже стали на крыло и проводили первые тренировоч-
ные полеты. Осень наступила сразу и очень холодная. Но
Елена запретила старт. Она хотела проститься с генералом.
Когда Лебедь появился возле пруда, вся стая взмыла вверх,
но, не долетев до облаков, замерла в воздухе. И вдруг из под-
небесья зазвучала мелодия. Генерал в ужасе смотрел вверх.
Он услышал лебединую песню, а люди уверены, что свою
песню лебедь поет только один раз, прощаясь с жизнью. В
неточности этой легенды генерал убедился сразу. Да, мело-
281
Александр Белинский
дия была печальной, но это не была предсмертная тоска, это
была светлая печаль...
Мне грустно и легко,
Печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою...
Именно эти слова слышал генерал Лебедь в бессловесной
песне белых лебедей. А какое многоголосие! Лебедь Елена
вела русскую мелодию. Санчо, Лауренсия и Наумансия сту-
чали клювами, как испанскими кастаньетами, а их дети пе-
ли в три голоса знаменитую «Арагонскую хоту» Михаила
Глинки. Они пели ее с цыганскими распевами, видимо, па-
мятуя, как влюблен был великий русский композитор в ис-
панскую цыганку.
Лебединая песня стихала, и белые лебеди растворялись в
облаках. Генерал неподвижно сидел у опустевшего циркуль-
ного пруда и думал свою грустную думу. О чем может думать
генерал, спустившийся на землю с поднебесных высот вла-
сти. Герой, видевший кровь и смерть в Афганистане, не до-
пустивший войны на Днестре и остановивший (увы, нена-
долго) чеченское побоище. Автор благороднейшей книги «За
державу обидно», человек, переживший историческое пре-
дательство вышестоящих. Спасший Россию от коммунисти-
ческой чумы. Его думы прервал внук, показавший деду на
небо. Из-за облаков вынырнула Машенька. Она помахала
крыльями, спела генералу каденцию лебединой песни и рас-
творилась в синеве. Лебедь заплакал. Слезы его сглотнула
старая жаба, сидевшая у ног генерала на берегу циркульно-
го пруда.
Глава четырнадцатая
«Пора, мой друг, пора!...»
Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.
Гениальная строфа! Пушкин написал ее дважды. В поэме
«Езерский» и в стихах импровизатора из «Египетских ночей».
Как хорошо писать «без условий»! Без заданий, без ог-
раничений, поставленных самому себе. Без стиля и поис-
ков этого стиля! Пишется как говорится, вернее — как ду-
мается.
Великий из великих Николай Васильевич Гоголь писал:
«Человек, пишущий, так же не должен оставлять пера, как
живописец кисти. Пусть что-нибудь пишет каждый день.
Надобно, чтоб рука приучилась совершенно повиноваться
мысли».
Вот так я писал эти «Записки». Я написал их потому, что
не мог не написать это, «как труд, завешанный от Бога». Я
надеюсь, что вспомнил то, что мало кто помнит, мало кто
знает. Я работал всю жизнь и сейчас только и делаю, что ра-
ботаю.
283
Александр Белинский
Я живу совсем в другой стране, не в той, где я прожил боль-
ше семидесяти лет. В последних главах я попытался показать,
что такое Россия, в отличие от СССР. Имею ли право про-
анализировать эту самую великую «сплетню»? Нет, конечно.
Я не историк, не философ, не социолог, не политик, не эко-
номист. Я практик театра и кино, но еще я — сплетник. В
прошлом веселый, с годами стал грустным. Я рад, что дожил
до того, что произошло в моей стране.
Никто не мог предположить, что это произойдет так быс-
тро, как никто не предполагает сейчас, что доживет до луч-
ших дней. Я предполагаю, хотя все как будто бы очень пло-
хо. Денег на культуру не хватает. Совсем не хватает.
В театре невозможно сшить красивые костюмы. Постанов-
ка оперы или балета, особенно на историческую тему, бас-
нословно дорога. Постановка оперетты или мюзикла — тем
более. В кино нет денег для постройки павильона. Нет леса,
из которого этот павильон строится. Нет, наконец, мастеров,
которые этот павильон могут построить. Они, мастера, пред-
почитают за наличные деньги строить дачи, может быть, тем
же начальникам театрального и кинопроизводства. Не важ-
но, каким начальникам. Из министерства или Союза теат-
ральных деятелей, из Союза кинематографистов или худо-
жественных редакций телевидения. Из бывшего парламента
или нынешней Думы. Объединяет всех этих начальников —
скажем скромнее, большинство из них — неучастие в про-
изводстве духовных ценностей. Нет, аппарат нашего искус-
ства не сокращается, он растет, причем не в арифметичес-
кой прогрессии, а в геометрической. Подсчитайте годовую
зарплату референтов Союза театральных деятелей, и вы уви-
дите, что на эти деньги можно оформить и одеть не один
спектакль. Узнайте, сколько получают в год чиновники Гос-
комитета кинематографии, редакторы киностудий и все те
же референты союзов, и выясните, сколько кинокомедий, не
обязательно сатирических, можно снять на эти деньги. Со-
кратить число этих нахлебников нужно минимум втрое, а то
и вчетверо.
Но вот сократить-то их, как доказала практика последне-
го времени, оказалось невозможным. Нет, на местах, где они
процветали, их сокращают, но они тут же возникают на дру-
гих, причем часто с увеличивающимися должностными ок-
284
Записки старого сплетника
ладами. Что же это за места? Главным образом институты.
Среди них научно-исследовательские. Исследуют они про-
блемы, подчас от искусства и его насущных нужд весьма да-
лекие. Наверно, имеет смысл кому-нибудь уточнить, что это
за проблемы, а главное — имеют ли право сокращенные из
аппарата чиновники ими заниматься, и за зарплату совсем
не малую.
А редакторы кинообъединений? «Ах, какой у меня тяже-
лый день! — говорит обаятельная немолодая женщина с го-
лубыми глазами, когда-то пользовавшаяся большим успехом
у мужчин. — Я должна посмотреть кинопробы одной карти-
ны, материал другой и обсудить второй вариант одного сце-
нария!» Действительно, тяжелый день. А нужно ли, чтобы
она смотрела, обсуждала, высказывалась? Может быть, ре-
жиссер и директор, оператор и художник сами посмотрят,
посоветуются, поспорят и решат, что делать дальше? Ведьде-
лать-то все равно им. И разберутся они лучше, что и как де-
лать. В конце концов, позовут кого-нибудь из коллег или
друзей, если таковые имеются. И те посоветуют, причем без-
возмездно, и советы дадут грамотные, потому что они люди
той же профессии. Редакторы же делают замечания порой
только потому, что надо же что-то сказать. Ведь деньги им
платят за то, что они говорят. Только за это, ни за что дру-
гое! А люди они порядочные. Значит, что-то сказать нужно.
Редакторы из театральных отделов министерств и управле-
ний культуры читают новые пьесы, которые театры не име-
ют права купить без их одобрительной резолюции. Не реша-
ясь подчас высказать собственное мнение, а может быть,
попросту его (мнения собственного) не имея, они посылают
пьесы на рецензии своим друзьям-критикам, выплачивая тем
за эти рецензии определенные суммы. А драматурги ждут го-
норара. А театр не может открыть ассигнования на новую
постановку.
С редакторами на телевидении дело обстоит сложнее. Здесь
были и остаются подлинно творческие люди, придумываю-
щие и создающие сценарии для художественного вешания.
Их надо поддерживать и поощрять и найти наконец возмож-
ность оплаты свежей мысли, оригинальной идеи, как это де-
лают во всем цивилизованном мире, а не платить за руко-
пись сценария в зависимости от числа его страниц, а то еще
285
Александр Белинский
лучше — от веса рукописи. А вот людей, не способных ни-
чего придумать, а являющихся только добровольными худо-
жественными цензорами (о, сколько их!), надо гнать и не тра-
тить на них деньги и, что не менее важно, нервные клетки
художников, тем более что этих нервных клеток остается еще
меньше, чем денег.
Но существует два финансовых резерва нашей культуры. И
сумма этих резервов великая, если не сказать — гигантская.
Первая из них — командировки. Вторая — семинары, смот-
ры, фестивали.
Командировки. Главным образом они в Москву. Больше
половины их бессмысленны. Во всяком случае, не обязатель-
ны. На пленум Союза театральных деятелей или кинемато-
графистов ездят непрерывно. О ценах на железнодорожные
билеты я не хочу говорить. А ведь едет весь (!) президиум
правления СТД! А ну-ка сосчитайте, сколько это стоит? Ведь
билеты на поезд в основном СВ. Ведь едут-то главным обра-
зом народные артисты! А гостиницы! А суточные! И т. д. и т.
п. А тема пленума, скажем, «Драматургия и театр на совре-
менном этапе». К дальнейшему подъему отечественного теа-
тра этот пленум не приводит, а на затраченные на него день-
ги можно было бы поставить спектакль. Да, да! И возможно,
даже не один!
Семинары! Пожалуй, это наиболее постыдная трата денег
Союзом кинематографистов. Болшево, Репино — места дей-
ствия этой дорогостоящей бессмысленной болтовни с весе-
лыми возлияниями! Семинары звукорежиссеров, сценарис-
тов, художников, экономистов! Последним должно быть
особенно стыдно. Ведь они-то догадываются, сколько это
стоит, и помнят, как накануне этого семинара им не хватало
денег на постройку декорации. Может, именно столько,
сколько стоил этот бессмысленный семинар.
И еще одна статья расходов, с моей точки зрения почти
преступная. Валюта на заграничные путешествия. Попробуй-
те осмыслить, сколько раз в год и зачем (!!!) ездят за грани-
цу представители племени театральных нахлебников! И это
при том, что в провинциальных театрах, а вскоре, вероятно,
и в столичных нечем будет платить зарплату!
Щедрость — не синоним расточительности. Широта — не
есть транжирство. А именно расточительностью и транжир-
286
Записки старого сплетника
ством я называю деятельность нынешних творческих сою-
зов, причем даже больше, чем доживающих свой век главков
и министерств.
И вот еще что. Вчера я отстоял огромную очередь, чтобы
уплатить за квартиру. Потом очередь на почте, чтобы дать те-
леграмму. Потом... Продолжать можно бесконечно! И всюду
объявления: требуются инкассаторы, требуются почтальоны,
требуются операторы... Требуются, требуются... Нет, безрабо-
тица нам, видимо, не грозит!
Если только человек способен на общественно-полезный
труд, а не на выполнение престижных и бесполезных обя-
занностей. Вот так. Повторяю, что, если на меня кто-то оби-
дится, я буду искренне рад, как человек, полвека честно ра-
ботающий на довольно-таки бесплодной ниве
отечественного искусства.
Это, наверно, самая важная, самая злая из моих «сплетен».
Но она проходит через всю жизнь, и нет ей конца...
Как же много я вспомнил! Сколько имен прошло в моих
«Записках»! Хороших и талантливых было больше, чем пло-
хих и бездарных. И сплетен веселых больше, чем грустных.
Были, наверно, и скучные, но что делать! «Скучно жить на
свете, господа!» — заключил одну из своих самых веселых
повестей все тот же великий Гоголь.
Наверно, в заключение имеет смысл рассказать какую-ни-
будь сплетню о самом себе. Я был женат всего однажды. У
нас с женой всего один сын. Сплетни о моей беспутной жиз-
ни не имеют никаких оснований. Впрочем, эти сплетни шли
от меня самого. Я был их веселым автором. Все-таки в кон-
це записок маленькая грустная сплетня о самом себе.
Когда пожилой человек понял, что он стал пожилым че-
ловеком? Когда перестал торопиться. Всю жизнь он отмечал
себе сроки. Он мог всегда точно сказать, сколько дней оста-
лось до выходного и сколько до начала отпуска, а потом не
менее точно — сколько до конца отпуска или до начала ра-
бочей недели. Он очень много читал, этот пожилой человек,
и тогда, когда еще не был пожилым, и еще больше, когда по-
жилым стал... И тогда и потом он, прежде чем начать книгу,
смотрел, сколько в ней страниц, и, прочитав очередную гла-
ву, знал, сколько страниц осталось, и назначал срок, когда
закончит чтение и примется за следующую. И так же и в ра-
287
Александр Белинский
боте — еще не закончив одну, он уже думал о другой. Он ча-
сто смотрел на часы и в кино, и в театре, нетерпеливо ожи-
дая окончания зрелища. Если уж забывал о часах, значит, ему
что-то очень нравилось. Это случалось все реже и реже. «И
жить торопится, и чувствовать спешит». Он знал эти слова и
с грустью сознавал, что они про него.
Нет, он не почувствовал себя пожилым человеком, когда
впервые измерил кровяное давление. И когда заказал первые
очки, причем сразу плюс полтора. И даже зубной протез не
поверг его в смущение, ведь передние зубы были еще свои.
Не обижали его и молодые девушки, уступающие ему место
в метро. К чему-то он относился с юмором, а некоторые но-
вые положения даже доставляли ему удовольствие. Два каче-
ства обнаружились исподволь, но он понял, что это грозные
предупреждения о надвигающемся закате. Первое: идиосин-
кразия к шуму. Каждый человек, идущий навстречу с тран-
зистором в руках или на боку, становился его личным вра-
гом, причем степень вражды определялась громкостью
звучания. Второе качество было опаснее. Пожилой человек
стал обидчив. Он переставал звонить по телефону многолет-
ним знакомым, которые не интересовались, как он пожива-
ет. Более того, он стал считаться звонками и не разрешал се-
бе звонить первым. Количество знакомых сокращалось.
Количество друзей свелось к минимуму.
Воспоминания хороши, когда ими можно с кем-нибудь по-
делиться. Нет, не на бумаге. На бумаге это уже литература,
плохая — что чаще, хорошая — что реже, и совсем редки ше-
девры, но они уже перестают быть воспоминаниями, а ста-
новятся Книгами с большой буквы. А воспоминаниями все-
гда хочется поделиться, лучше всего — бродя по местам этих
самых воспоминаний. Но при этом надо, чтобы бродящему
с тобой было так же интересно, как самому рассказывающе-
му, и чтобы слушающий не притворялся, что ему действи-
тельно интересно. А такой собеседник никогда не встречал-
ся, почти никогда. Почти!.. Пожилой человек встретил!
Ах, если бы это произошло раньше, намного раньше!.. Но
встреча произошла поздно, совсем поздно, и все-таки как хо-
рошо, что она произошла! Нужно оговориться, что и до
встречи, и особенно на всем ее протяжении — два с лишним
года, — пожилой человек и думать не думал, что он пожи-
288
Записки старого сплетника
лой. Она конечно же была Единственной в его жизни. Един-
ственной собеседницей. Она была хороша собой, обаятель-
на, не глупа, но не это сделало ее Единственной. У нее бы-
ла поразительная, ни с кем не сравнимая радость жизни. Нет,
она конечно же могла быть в плохом настроении, и даже
очень, но это ни на миг не останавливало ее непрерывной,
энергичной деятельности. Ее неутомимость была загадочной.
Наверно, двадцать лет службы в классическом кордебалете
лучшей труппы страны, ежедневные спектакли с переодева-
ниями в антрактах из дриад в крестьянки и обратно в дриа-
ды выработали эту загадочную неутомимость. Ей было до-
статочно четырех-пяти часов сна. Она, в отличие от
большинства своих коллег, почти не употребляла спиртного
и мало ела, будучи первоклассной кулинаркой. Она единст-
венная, кто мог за один вечер посмотреть по одному акту
спектаклей в трех разных театрах и после этого на полночи
отправиться в гости. Ранним утром ее машина уже неслась,
превышая скорость, на центральный рынок. Превышение
скорости не вызывало никакого беспокойства, ибо милиция
не обладала оружием защиты от ее обаяния. Успеть сгото-
вить обед, пропылесосить огромную квартиру, построенную,
кстати, по ее индивидуальному проекту, дать урок хореогра-
фии в драматическом театре, примерить очередное новое
платье, а то и самой его сшить, нанести два-три энергичных
визита — все это было для нее в порядке вещей. Рядом, в
этом же невероятном ритме, обязаны были жить все, кто ее
окружал. На два с лишним года пожилого человека засосал
этот водоворот. На два с лишним года он отсрочил для себя
само понятие «пожилой человек». Как это произошло, не
имеет никакого значения. А вот что происходило эти два с
лишним года, небезынтересно, потому что мало похоже на
все, что было раньше и в его жизни, а может быть, и в жиз-
ни Единственной.
Главным местом действия их бесед стал Петербург. Не Ле-
нинград, а именно Петербург. Гостиницы, где она жила, на-
ходились в районе старого Петербурга, и там же были теа-
тры, рестораны, сады и скверы. В новые районы они не
забирались. Незачем было. Конечно же пожилой человек за
полсотни прожитых лет и половины того не прошел по Пе-
тербургу, что за два (не забудем сказать «с лишним») года
289
Александр Белинский
прогулок с Единственной. Топографический прямоугольник
детства расширился, но сохранил свои симметричные ли-
нии, такие прекрасные именно в Петербурге. И он водил ее
по лучшим набережным от Дворцового моста до Кировско-
го и от Кировского до Литейного. И она, исколесившая, вер-
нее излетавшая половину земного шара, она, для которой
Париж, Рим или Нью-Йорк были тем же, что для
пожилого человека Павловск, Луга или Сиверская, она вос-
хищалась видом на Ростральные колонны так непосредст-
венно, так искренне, что пожилой человек чувствовал себя
Растрелли или Монферраном, во всяком случае — хозяином
своего прекрасного города. И когда Единственная в Моск-
ве свезла его на места своего детства (в Москве они езди-
ли, в Ленинграде ходили пешком, что было так непривыч-
но для бывшей артистки балета), пожилой человек еще
больше полюбил свой город и еще больше разочаровался в
городе Единственной.
Больше всего он любил сады и скверы, где была, пусть не-
большая, водная гладь. Пруды были и в Летнем саду, и в Та-
врическом, и в Михайловском, и в сквере Дзержинского на
Петроградской. Пожилой человек любил, когда пруды были
затянуты ряской. Они обретали для него тайну и будили фан-
тазию. И Единственная не только слушала эти фантазии, но
и сама фантазировала, часто лучше своего собеседника.
Собственно, все прогулки пожилого человека с Единствен-
ной проходили как бы в двух измерениях. Вот, например, го-
род Пушкин. Это были расстояния от Лицея до Екатеринин-
ского парка и Александровского. Это были Чесменская ко-
лонна, и Девушка с разбитым кувшином, и ворота с надписью
«Любезным моим сослуживцам», и ресторанчик в двухэтаж-
ной башенке возле пруда. Но это была и прогулка в Детское
Село — детство пожилого человека — и в Царское Село — от-
рочество самого великого из великих поэтов, чей памятник
Баха, лучший из лучших, изображает гениального отрока на
скамье, положившим на руку кучерявую голову.
И наконец, может быть, самая главная прогулка — На Ка-
занское кладбище, где покоились родители пожилого чело-
века, его дед и бабка и где, это уже прогулка в будущее, пред-
стояло закончить жизненный путь самому пожилому
человеку. А пока Единственная посадила на могиле анюти-
290
Записки старого сплетника
ны глазки — цветы, которые пожилой человек любил боль-
ше всех других.
После длинных упоительных прогулок, когда пожилой че-
ловек оставался, что называется, без задних ног, Единствен-
ная принимала душ, переодевалась (последнее она делала в
течение дня так же часто, как королева Анна Австрийская в
романе «Три мушкетера») и мчалась в ночную богему гаст-
ролирующего в городе московского театра. Она конечно же
ничего не читала. Зачем? Услышав содержание, несколько
фраз, имена действующих лиц, она могла говорить о произ-
ведении в целом легче и свободнее, чем проштудировавший
книгу несколько раз от корки до корки. И так же — о спек-
такле по нескольким сценам, о фильме по нескольким кад-
рам, виденным по кассетному видео, этому главному рассад-
нику культурного дилетантизма. Легкий, изящный
дилетантизм был свойствен ей во всем. Она не сделала в жиз-
ни ничего благодаря неукоснительному следованию поступ-
кам Стрекозы — героини бессмертной басни Ивана Андрее-
вича Крылова. Вот так! А пожилой человек? Он понимал все!
Но восхищение Единственной было настолько велико, друж-
ба с ней настолько заполняла все его существо и бесконеч-
но обогащала, что он смирился со всеми неожиданностями,
всеми непредсказуемыми последствиями этой двухлетней (не
забудем прибавить «с лишним!») дружбы. У Единственной и
не могло быть другого срока. Любой деятельностью — а друж-
ба входила у нее в род деятельности — она могла занимать-
ся определенное время, длительность которого измерялась ее
заинтересованностью — духовной, творческой, практичес-
кой. А затем появлялся другой интерес, другая привязан-
ность. Так менялись друзья, закадычные подруги, театры, го-
рода, страны и материки. К своим привязанностям
Единственная не возвращалась никогда. Вспоминала ли о
них? Бог ведает! Наверно, все-таки нет. Что прошло, то уш-
ло и быльем поросло... Кажется, есть такая присказка. Или
похожая, во всяком случае. Как исчезла Единственная из
жизни пожилого человека? Сразу. Просто. Причина? О! Она
великолепно придумывала убедительнейшие мотивировки!
Виноваты были все, а она права. Всегда. Во всем.
Что же стало с пожилым человеком? Он понял, что он по-
жилой человек со всеми хорошими и плохими последствия-
291
пександр Белинский
ми этого факта. Хороших, на первый взгляд, было больше.
Пожилой — ведь это еще не старый! Что же он сделал, по-
жилой человек, покинутый Единственной?..
Здравствуй, чистый белый лист бумаги! Как я соскучился по
тебе! Я начну тебя с красивейшей цитаты. Из Юрия Олеши.
«...Она прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и
листьев!..» И еще...
«С ярмарки» — выражение, все чаше встречающееся в на-
шей литературе, без указания первоисточника. Это неспра-
ведливо.
Длинная цитата из Шолом-Алейхема: «...Когда говорят «с
ярмарки», подразумевают возвращение или итог большой яр-
марки. Человек, направляясь на ярмарку, полон надежд, он
еще не знает, какие его ждут удачи, чего он добьется. Поэто-
му он летит стрелой сломя голову — не задерживайте его, ему
некогда! Когда же он возвращается с ярмарки, он уже знает,
что приобрел, чего добился, и уже не мчится во весь дух —
торопиться некуда. Он может отдать себе отчет во всем, ему
точно известно, что дала ему ярмарка, и у него есть возмож-
ность ознакомить мир с ее результатами, рассказать спокой-
но, не спеша, с кем он встретился там, что видел и что слы-
шал...»
Какую же «ярмарку» я имею в виду? Ярмарка моей жизни
прошла в театрально-литературной и кинематографически-
телевизионной среде. Этой среде много десятков, даже сотен
лет. Она появилась задолго до Пушкина: литературная и од-
новременно — в тот самый день, когда Федор Волков орга-
низовал первый профессиональный русский театр, — теат-
ральная. Потом, как полноводные ручьи, в эту бурлящую реку
влились кино и телевидение.
«Ярмарка тщеславия» — прекрасный роман Теккерея. Ка-
кая же это милая, славная, незлобивая, в чем-то трогатель-
ная английская ярмарка по сравнению с нынешней литера-
турно-театрально-кинематографической ярмаркой столицы
нашей родины! Московская ярмарка работает круглый год.
Летом, правда, она открывает свои многочисленные филиа-
лы на пляжах Крыма и Кавказа, в домах творчества писате-
лей и кинематографистов в Коктебеле и Пицунде, в домах
отдыха СТД в Сочи, Мисхоре, Щелыкове, Рузе. На топчанах,
под ярким южным солнцем, под тентами, в прогулочных ал-
292
Записки старого сплетника
леях и лесах решаются судьбы и создаются репутации. Ко-
нечно, на материале прошедшего сезона. Кто-то «кончился»,
и говорить о нем не следует. Имеется в виду режиссер или
актер, драматург или директор. Появился новый молодой
Мессия. Он поставил один спектакль. Его надо опекать, он
наше будущее, его нельзя давать в обиду. (При этом следует
заметить, что его никто не обижает и не собирается обижать,
но на ярмарке кумирами становятся только «униженные и
оскорбленные».)
На ярмарке все играют. Плохие актеры играют в хороших,
но непризнанных. Хорошие изображают полное равнодушие
к творчеству в связи с усталостью. Усталость действительно
наличествует, но в нее еще и играют. Артистки с хорошей
сценической возбудимостью, умеющие быстро, иногда не по
существу, заплакать на сцене или на экране, нервничают, раз-
дражаются и плачут в жизни. Не дай Бог, окружающие забу-
дут, как они нервны, какой у них прекрасный темперамент.
При этом они сами перестают различать, где они нервнича-
ют по делу, а где наигрывают, где в роли, где в жизни. Нерв-
ные клетки, как известно, плохо восстанавливаются или не
восстанавливаются вообще, и, растратив себя на ярмарке,
артистки эти быстро сходят с экрана и тускнеют на сцене.
На ярмарке рекомендуется сдержанность в проявлении
чувств. Не принято хохотать во весь голос и растягивать рот
в улыбке до ушей. А вдруг то, что сказали, не следует счи-
тать остроумным в ярмарочной палате мер и весов... Лучше
на всякий случай улыбнуться краешком нижней губы, в край-
нем случае бросить через плечо «Смешно».
На ярмарке в моде актрисы без косметики, без прически,
еще лучше с плохо вымытыми волосами. При этом беспре-
рывно курящие и не испытывающие отвращения к алкого-
лю. Они считаются самыми непосредственными, с добрым
сердцем, настоящими бессребреницами. Им разрешается
громко материться в любом обществе. Это признано абсо-
лютно хорошим тоном и является вернейшим признаком
крупного актерского дарования. Еще моден сюсюкающий
сентиментализм с уменьшительными суффиксами на каждом
слове и трогательной улыбкой на губах.
Оценки на ярмарке безапелляционны, абсолютно катего-
ричны. Все служители Аполлона и его девяти муз разделены
293
Александр Белинский
на четкие лагери. Лагери ведут между собой открытую или
скрытую борьбу. Каждый лагерь имеет своего фаворита. Этим
кумиром может быть балетмейстер, композитор, режиссер и
даже целый театральный коллектив. Задача околотеатраль-
ных, окололитературных прихвостней, так называемых кри-
тиков и критикесс, истеричных балетоманов и меломанов вы-
ступать обязательно против всего, к чему не имеет отношения
их кумир. Кумира надо предупредить об опасности. Кумир
должен знать, кто его враг. Кумир должен никому не верить,
ни с кем не общаться, кроме них, его почитателей.
На ярмарке знают все раньше всех, лучше всех, точнее всех.
О, эти слухи на ярмарке. Не скрою, я сам не раз передавал
их, убеждал в полной достоверности, верил в слухи сам и за-
ставлял верить других. В этом в свое время заключалось мое
главное участие в ярмарочной жизни. Не примыкая никогда
ни к одной партии, имея одинаковое количество приятелей
и приятельниц среди враждующих балетных дивизий и ли-
тературных батальонов, я, как лазутчик, передавал противо-
положные (часто мною самим сочиненные) сведения в раз-
ные непримиримые лагери. Слухи мои были беззлобны и не
имели дурных последствий. Я просто гулял на ярмарке. Сей-
час, видя ее затухающие огни и прислушиваясь к отдаленно-
му гулу голосов, я думаю о ярмарке не только со снисходи-
тельной грустью, но порой и с искренним ужасом.
На ярмарке любят дни рождения и обожают похороны.
Перед днем рождения хозяева мучаются неразрешимой про-
блемой, кого пригласить и как уговорить приглашенных
не сообщать неприглашенным о предстоящем торжестве. Не-
приглашенные узнают о том, что их не пригласили. Ссоры
и обиды по этому поводу длятся потом целый год, до следу-
ющего дня рождения.
Похороны — любимейший спектакль на ярмарке. Выступ-
ления скорбящих у гроба обсуждаются долго. Удачно высту-
пившим звонят по телефону и поздравляют. Неудачников
осуждают и вспоминают различные перипетии их взаимо-
отношений с покойным. Меньше всего вспоминают покой-
ного.
А болезни! Особенно инфаркты. Какой переполох на
ярмарке! Все звонят друг другу и подробно консультируют-
ся по поводу диагноза и течения болезни. Подключается вся
294
Записки старого сплетника
околотеатральная медицина. Она вообще составляет огром-
ную массу ярмарочных гуляк. Устанавливается четкая оче-
редь посещения больного. В последующих телефонных пе-
реговорах уточняется, кто свез в больницу наиболее
дефицитные продукты, кто добирался до нее особенно слож-
ным маршрутом, — одним словом, кто был наиболее чуток,
наиболее внимателен, наиболее трогателен по отношению к
больному товарищу. Само состояние больного в этом спор-
тивном соревновании дружеских чувств как-то отодвигает-
ся на задний план.
Балаганы на ярмарке расположены во многих географиче-
ских точках столицы. Дом искусств. Дом кино, был Дом ак-
тера (увы, был!), Дом литераторов с ресторанами и салона-
ми. Салон актрисы, имеющей мужа — бизнесмена или
политика. Салон жены популярного драматурга. Салон фрон-
дирующей критикессы, отличающейся точным и определен-
ным мнением обо всем. Не разделять это мнение опасно.
Могут выкинуть с ярмарки и не пустить ни в один балаган.
Но главный источник информации, главный плацдарм всех
столкновений, повод для всех недоразумений — телефон.
Телефоны, беспрерывно звонящие, номера, которые всегда
заняты, разговоры, длящиеся часами, бессмысленные, пус-
тые, нелепые, фальшивые, преувеличенно громкие, вздор-
ные, опровергающие друг друга и приводящие порой к ссо-
рам, раздорам, а то и к более грустным последствиям.
Я прошел через это. Я был одним из самых активных по-
сетителей ярмарки. Я возглавлял — говорю без ложной
скромности — ее крупный филиал в городе трех революций.
На ярмарке молодые режиссеры и актеры, получая пьесу
или роль, задают прежде всего два вопроса: «Зачем мне это
надо?» и «Что я с этого буду иметь?». Звание или орден, ла-
уреатство или только прибавление зарплаты. И потом!.. «Этот
имеет, а я нет. Он обогнал меня, мой ровесник (ровесница)!
Как ему (ей) это удалось! Он знаком с тем, но я знаком (зна-
кома) с этим!» Телефонный звонок. Визит. Случайная (зара-
нее тонко организованная) встреча на дне рождения, банке-
те, приеме, похоронах. Скоро юбилей! Будут давать! Надо
успеть, не пропустить, ухватить, оторвать, взять, получить!
Сколько страсти, энергии, сил, умения, таланта, если хоти-
те, надо тратить на ярмарке, чтобы жить ее ритмом и тем-
295
?ксандр Белинский
пом, не боясь быть раздавленным, избитым, уничтоженным
духовно и физически!
А я еду с ярмарки!
Хочется ехать медленно, не торопиться. Осторожно объез-
жая ухабы и рытвины, ведь на пути с ярмарки ушибы при
падении воспринимаются куда больнее, чем когда, молодой,
полный надежд, ты ехал на ярмарку: скорей, скорей, урвать,
показать себя, все увидеть, все услышать.
Я еду с ярмарки.
Моя телега отнюдь не полна товаром, но не так чтобы очень
пуста. В ней лежат кое-какие звания и регалии, но нет дачи,
машины, драгоценностей и старинной мебели.
В моей телеге приличный запас ограниченных знаний в об-
ласти литературы и театра, довольно крепкое владение сво-
ей профессией, называемой режиссурой, солидные остатки
чувства юмора, определенный запас трудолюбия и любозна-
тельности. Что ж, не так уж мало!
Я еду с ярмарки! Там, на ярмарке, начинает гулять мой сын.
Пусть гуляет подольше и повеселее. Он совсем на меня не
похож. Умнее, сдержаннее, практичнее. И гуляет совсем по-
другому, чем гулял я. По дороге с ярмарки остались могилы
моего славного неумелого отца и незаурядной эгоистичной
матери. Эти люди меня любили. По дороге потерялись дру-
зья. Одни стали неинтересны мне, другим — неинтересен я.
Впрочем, кое-кто остался. Их телеги тарахтят рядом.
Хочу ли я обратно на ярмарку? Нет! Мне нравится этот
неторопливый путь, когда гул большого торжища затихает
вдали. Только мучительно хочется, чтобы он не затих сов-
сем, чтобы путь с ярмарки был бесконечно долог, чтобы ко-
нец пути настал не скоро, но оборвался бы сразу, незаметно
для меня.
Попробуем во время остановки на тихом постоялом дво-
ре, когда никто не шумит и ничто не отвлекает, когда мысль
не занята поисками выхода из очередного тяжелого положе-
ния (творческого, финансового, производственного), разо-
браться в том, что сделано и сделано ли что-нибудь вообще.
На второй вопрос отвечаю утвердительно. Я кое-что сде-
лал. Я поставил более полутораста спектаклей, фильмов, про-
грамм. Среди них несколько десятков хороших. Я сочинил
«Галатею», «Кюхлю», написал пьесу и эту книжку, наконец,
296
Записки старого сплетника
создал капустники, о которых помнят, рассказывают, кото-
рые стали одной из красивейших театральных легенд. Был
ли я хорошим режиссером?
Как на духу! Нет! Никогда не был! Ни одного спектакля я
не поставил по-настоящему, во всем хорошо. Ни один теле-
фильм не был задуман мною подробно и выполнен тщатель-
но. Мне никогда не хватало терпения, глубины, силы воли
ни подробно задумать, ни скрупулезно воплотить. Я умел и
умею организовать, создать атмосферу, найти название, рас-
пределить роли. Это много, но это и бесконечно мало для
создания большого художественного произведения. Наверно,
лучше всего я ставил миниатюры. На них хватало моего не-
сильного, короткого дыхания.
Мог бы я стать писателем? Не знаю. Наверно, все-таки нет.
Умение сидеть за столом, зачеркивать, писать заново и сно-
ва зачеркивать... Хочу попробовать, если на пути с ярмарки
сумею подольше задержаться на одной из остановок, и будет
достаточно кормовых, и выпишут официальные прогонные
«в связи с отсутствием почтовых лошадей».
А пока я по призванию сочинитель. Нет, не в том смыс-
ле, в котором раньше в России называли писателей, а в пря-
мом значении этого слова. Сочинить, то есть придумать.
Придумать сюжет или пьесу в репертуар театра, или роль для
артиста, или эксцентрический ход для балета, эстрадного но-
мера, либретто мюзикла.
Я — сочинитель. Я сочинил «Барышню и хулигана» по Ма-
яковскому на музыку Шостаковича. «Три карты» на музыку
Прокофьева. «Галатею» по «Пигмалиону» Шоу на музыку Лоу.
«Накануне» по Тургеневу для Улановой. Это балеты.
Я написал для Алисы Фрейндлих пьесу «Пятый десяток»,
дал Володину сюжеты «Идеалистки» и «Дульсинеи Тобос-
ской», сочинил для Сергея Юрского в капустниках роли Чац-
кого и Бендера (потом он сыграл их в театре и в кино), на-
шел Луспекаеву — Ноздрева, Фрейндлих — рассказ Бунина
«Мадрид», Юрскому — Кюхлю, Поповой — «Смуглую леди
сонетов» Шоу и Комиссаржевскую, Гундаревой — Мирандо-
лину, Смоктуновскому — Цезаря, Симонову — «В старой
Москве» Пановой, Аркадию Райкину я нашел авторов Гин-
дина, Рябкина, Рыжова, нафантазировав номера «Жизнь че-
ловека», «Белые ночи», «Умелец», «Номер в гостинице».
297
Александр Белинский
Я все это сочинил и ничего не довел до конца, как следо-
вало бы.
Ах, если бы! Что-нибудь хорошее вышло бы из-под пера!
Что-нибудь совсем свое! Для театра, для кино, для чтения!
Простое, нежное, смешное, трогательное.
Ведь оставшийся путь с ярмарки должен быть посвящен
этому, и только этому. Не получится! Суета захватывает со
всех сторон. И трусость! Позорная трусость! Боязнь нигде
не числиться, не брать заказов на режиссерскую работу,
которая, право же, так мучительна, так болезненна своими
взаимоотношениями с исполнителями, с сотрудниками, с
начальством! Своими бесконечными просмотрами-экзаме-
нами, когда на восьмом десятке ты чувствуешь, как по по-
звоночнику стекают струйки пота от волнения, когда твой
тон в разговоре с начальством становится до подлости по-
добострастным при внешней фамильярности, а глаза испу-
ганными — при самоуверенной улыбке.
И по-настоящему хорошо бывает только тогда, когда уса-
дишь себя за стол (это тоже нелегко) и напишешь несколь-
ко страниц, где не врешь никому, даже самому себе!
Если бы заставить себя не торопиться! Ну совершенно. Не
считать, сколько дней осталось до отпуска и сколько до его
конца, не строить планов на неделю вперед, не смотреть бес-
прерывно на часы и не думать о завтрашнем дне больше, чем
о вчерашнем. Если попробовать жить не в ритме времени, а
вопреки ему.
Тогда строчки станут весомее, мысли чище, слова искрен-
нее. Не получается. Наверно, и не получится!..
Я многое еще мечтаю поставить на сцене, эстраде, снять
для экрана. Я еще о многом хочу написать. Но в первую оче-
редь я хотел написать это. То, что написано здесь. Я не мог
этого не написать. Кто-нибудь спросит: «Для чего вы потра-
тили время? Для некоей посмертной славы?»
Разберемся с вопросом посмертной славы. Цитата из Габ-
риэля Маркеса, автора удивительного романа «Сто лет оди-
ночества»: «Слава — скаковая лошадь. То ли она тебя поне-
сет и сделает модным, то ли ты ее обуздаешь. Если она тебя
сделает модным, а она делала модными многих, тогда твое
дело плохо. Став модным, ты неизбежно рано или поздно
должен будешь из моды выйти».
298
Записки старого сплетника
Значит, думать о славе, когда едешь с ярмарки, можно толь-
ко о посмертной. Большие люди так и делали всю жизнь.
Они мечтали только о славе посмертной, не заботясь о сего-
дняшней.
Любое сочинение, написанное без утилитарной цели, яв-
ляется, как там ни вертись, подсознательной надеждой на
посмертную если не славу, то память, и, независимо от того,
талантлив ты или нет, ничего постыдного в этом нет.
И пусть теплится надежда, что...
...И сотворенная судьбой,
Быть может, в Лету не потонет
Строфа, слагаемая мной...
СОДЕРЖАНИЕ
Вступление 6
Глава первая
До войн ы 2
Глава вторая
Кола Брюньон 19
Глава третья
В Москве 41
Глава четвертая
1946 год и последующие 65
Глава пятая
Капустники 1 Ю
Глава шестая
«Души моей царицы»138
Глава седьмая
Комики XX века 153
Глава восьмая
Великие мира сего 160
Глава девятая
На голубом экране 181
Глава десятая
Кино 201
Глава одиннадцатая
Смерть Буратино 230
Глава двенадцатая
Дым отечества 246
Глава тринадцатая
Лирическое отступление 257
Глава четырнадцатая
«Пора, мой друг, пора!..»283
300
Серия «Выдающиеся мастера»
Александр Аркадьевич Белинский
Записки старого сплетника
Мемуары
Изд. 3-е, дополненное и исправленное
Ответственный редактор серии
Т. М. Деревянко
Редактор
А. М. Никитина
Дизайнер
А В. Копалин
Художественный редактор
М. Г. Егиазарова
Корректор
О. А. Левина
Записки старого сплетника / Под редакцией Б. М. Поюров-
Б 11 ского. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. - 304 с.: ил. -
(Выдающиеся мастера).
ISBN 5-7805-0953-0
«Записки старого сплетника» — мемуары известного петербур-
гского режиссера, в которых повествуется о многочисленных
встречах автора с актерами, режиссерами, драматургами, о соб-
ственном опыте работы в театре, кино и на телевидении, о капу-
стниках, которые в течение четверти века доставляли радость зри-
телям.
Книга адресована самому широкому кругу читателей.
УДК 8
ББК 63.3(2)6—8
ИД №04467 от 09.04.2001.
Подписано в печать 04.02.2002.
Формат 60x90/16.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Бумага офсетная. Печ. л. 19+2 п. л. вклейка.
Тираж 5000 экз.
Зак. №278. С-102.
ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА».
107078, Москва, Рязанский пер., д. 3, а/я 5.
При участии ООО «АСТ-ПРЕСС СКД»
и ООО «Издательский Дом «АСТ-ПРЕСС».
Отпечатано с готовых диапозитивов иа
ФГУП Тверской ордсиа Трудового Красного Знамени
полиграфкомбииат детской литературы им. 50-летия СССР
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.
ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА»
предлагает вниманию читателей
в серии «Выдающиеся мастера»
новую книгу
ЗВЕЗДЫ
МАЛОГО
ТЕАТРА
Малый театр, старейший театр России, дал отечествен-
ной сцене множество великих имен: Щепкин, Мочалов,
семейство Садовских, Ленский, Федотова, Ермолова, Ос-
тужев, Рыжова, Турчанинова, Яблочкина...
В 20—40-х годах здесь блистали Гоголева, Пашенная,
Зеркалова, Ильинский, Жаров, Зубов, Царев, Бабочкин,
Межинский. А в военные и послевоенные годы сюда
пришли Роек, Ликсо, Солодова, Панкова, Доронин,
Юдина... Нынешний Малый театр — это Быстрицкая,
Глушенко, Корниенко, Бочкарев, отец и сын Коршуно-
вы, братья Соломины, Баринов и недавний дебютант
П од городи нс кий.
Очерки написаны людьми, влюбленными в своих
героев, — легко, просто и увлекательно. Они рассчита-
ны прежде всего на тех, кто любит Малый театр и хотел
бы узнать как можно больше о жизни своих кумиров, об
их увлечениях и привязанностях, о работах в кино и на
эстраде.
ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА»
предлагает вниманию читателей
в серии «Выдающиеся мастера»
новую книгу
ЗВЕЗДЫ
ТЕАТРА
РОССИЙСКОЙ
АРМИИ
ЦАТРА давно уже вступил в пору зрелости, хотя еще
живы те, кто помнит довоенные спектакли, кто видел
работы режиссеров Юрия Завадского и Алексея Попо-
ва, а позже Владимира Канцеля, Давида Тункеля, Бори-
са Львова-Анохина, Александра Шадрина, Марии Кне-
бель, Бориса Эрина... Кто рукоплескал Дарье Зеркало-
вой, Фаине Раневской, Любови Добржанской, Петру
Константинову, Андрею Попову, Людмиле Фетисовой...
Сегодня их имена принадлежат славной истории рос-
сийского театра.
Книга, которую вы держите в руках, посвящена жизни и
творчеству тех, кто сегодня несет на своих плечах основ-
ной репертуар. К сожалению, не всех: возможности любо-
го издания имеют границы.
Перед вами портреты, которые не нуждаются ни в под-
писях, ни в комментариях.
ЗАО «КОМПАНИЯ «АСТ-ПРЕСС»:
Россия, 107078, Москва, Рязанский пер., д. 3
(ст. м. «Комсомольская», «Красные ворота»)
Тел./факс: 261-31-60, тел.: 265-86-30, 265-83-59
E-mail: ast_press @ col.ru
По вопросам покупки книг «АСТ-ПРЕСС» обращайтесь:
Фирменный магазин «36.6-Книжный Двор»: Доставка по магазинам Мос г. Москва, Рязанский переулок, д.З Тел.: (095) 265-86-56 квы:
КОРФ «У Сытина» 125183, г. Москва, проезд Черепановых, д. 56 Тел.: (095) 156-86-70, факс: (095) 154-30-40 E-mail: shop@kvest.com Интернет: http://www.kvest.com
Оптовая торговля:
в Москве: Офис: тел./факс: (095) 265-13-05,
ООО «ИКТФ Книжный Клуб 36.6 » 267-29-69, 267-28-33, 261-24-90 Склад: тел.: (095) 523-1 1-10, 523-25-56 Мелкий опт.: тел: (095) 265-81-1 4 E-mail: club366@aha.ru Интернет: www.club36.6.ru Переписка: 107078, г. Москва, а/я 245, ООО «ИКТФ Книжный Клуб 36.6»
«АСТ-ПРЕСС. Образование» Офис: Москва, Рязанский пер., д. 3 Тел./факс: (095) 265-84-97, 265-83-29 E-mail: ast-press-edu@mtu-net.ru Склад: г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 4 Тел.: (095) 521-78-37, 521-03-72
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регион) «Невская книга» в Киеве: в: Тел.: (812) 567-47-55, 567-53-30 Тел.: (044) 228-01-88,
«АСТ-ПРЕСС-Дикси» 464-08-74
Фирменные магазины в pel г. Владимир ионах: Большая Московская, 44, магазин «Былина» Тел.: (0922) 32-31-59
г. Липецк проспект Победы, 8. Тел.: (0742) 48-79-32, 77-40-64
г. Липецк г. Орел г. Ростов-на-Дону ул. Заводская, 3. Тел.: (0742) 71-23-13 ул. Матвеева, 29. Тел.: (0862) 41-49-10 ул. Большая Садовая, 84, магазин «Глобус» Тел.: (8632) 40-63-87